ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ЛУЧШЕ ПЛОХОЙ ПОГОДЫ
ТАЙФУНЫ С ЛАСКОВЫМИ ИМЕНАМИ
Аннотация
В романах, вошедших в настоящий сборник, рассказывается о не-
легкой, полной опасности жизни болгарского разведчика во времена
«железного занавеса»...
ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ЛУЧШЕ ПЛОХОЙ ПОГОДЫ
1
Всякая запутанная история может иметь сто начал. Эта начинается с ожидания. Люди нередко говорят: «радостное ожидание», однако я не припоминаю случая, чтобы кто-нибудь из моих знакомых любил ждать. А если после бессонной ночи встречаешь новый день с адской головной болью, ожидание становится тягостным даже для таких, как я. Растравляешь себя всевозможными предположениями и воображаешь бог знает что. Тебе, например, кажется, что тот, кого ты ждешь, не придет вовсе. Или придет слишком поздно, а это в данном случае уже почти то же самое.
На первый взгляд ожидание – дело нехитрое: сидишь себе и ждешь. Словом, это искусство ничего не делать, попусту не трепать себе нервы и не повторять, как испорченная пластинка, одно и то же; сегодня, мол, понедельник, стоит пропустить этот день, и всему конец. Искусство ждать… Дело это действительно нехитрое, но если им не владеешь, можешь полететь ко всем чертям. Как случилось в свое время со Стариком из-за того, что ему не хватило выдержки, не смог он сидеть вот так, ничего не делая. Сидеть и ждать.
Подобные мысли лениво копошатся в моей голове, пока я сижу под синим зонтом кафе за чашкой остывшего кофе –
третьей по счету – и, барабаня пальцами по столу, окидываю взглядом площадь.
На полусгнившей террасе кафе всего пять столиков.
Одной стороной терраса опирается на тротуар, другая устрашающе висит под водой. Однако то обстоятельство, что эта развалюха в любой момент может рухнуть в зеленоватую муть канала, меня мало беспокоит; гораздо хуже, что я нахожусь на одном уровне с улицей и никаких преимуществ для наблюдения у меня нет.
Небольшая площадь заставлена лотками с бананами и апельсинами, завалена пустыми ящиками, среди пестрой толпы раздаются выкрики лоточников. Действие происходит в Венеции, близится полдень, и, хотя еще только конец мая, жара при здешней влажности невыносима.
Я укрылся под синим зонтом кафе, и меня угнетает не столько жара, сколько нескончаемая вереница прохожих, движущихся по образуемому лотками лабиринту. Не тем, что они действуют мне на нервы, а тем, что довольно часто скрывают от моих глаз вход в дом напротив: там должен появиться нужный мне человек. Это старое двухэтажное здание с пожелтевшим от дождей мраморным фасадом.
Зато парадная дверь кажется совсем новенькой. Ее только что покрыли темно-зеленым лаком, и на ней блестит внушительная табличка с именем владельца дома. С места, где я сижу, этого имени не прочесть даже в том случае, если табличку не закрывают головы и шляпы прохожих. Но мне оно и без того хорошо известно. Да и забыть его я не рискую, так как частенько повторяю в уме и всякий раз не могу не выругаться.
Я приехал сегодня в Венецию утром рано, с тем чтобы
Антонио Тоцци застать дома. Когда договаривались о встрече, он сказал, что уйдет из дому не раньше девяти часов, а я нажал кнопку звонка в восемь.
– Мне бы хотелось видеть… – начал я фразу, заранее сколоченную из своего скудного запаса итальянских слов.
– Господина Тоцци нет дома, – прервал меня слуга, скользнув по мне оценивающим взглядом.
А вид у меня, признаться, был неблестящий. Не то чтоб уж совсем неприличный, но костюм довольно мятый, а воротник рубашки не отличался белизной. Господин Тоцци, как значится на табличке, адвокат, и слуга, очевидно, принял меня за мошенника, явившегося к хозяину с каким-нибудь делом, не стоящим выеденного яйца.
– Господин Тоцци просил меня зайти, – настаивал я.
– Этого не может быть, – сухо ответил слуга. – Господин Тоцци сегодня занят в суде.
Хозяйская самоуверенность слуги прямо-таки бесила меня, но я умею быть терпеливым, если надо. Поэтому я спросил:
– Когда он должен вернуться?
– Не могу знать, – все так же сухо отрезал слуга и закрыл перед моим носом свежевыкрашенную дверь.
Мне не оставалось ничего другого, кроме как удалиться в кафе напротив, устроиться на террасе, заказать какой-нибудь напиток и, запасшись терпением, ждать. Если господин Тоцци в самом деле пошел в суд, то придет время и он вернется. А если, вопреки утверждениям слуги, он еще дома, то когда-нибудь он все-таки выйдет.
На всякий случай я решил около десяти часов повторить операцию. На сей раз слуга едва высунулся и, не дождавшись моего вопроса, выпалил:
– Господин Тоцци пока не вернулся.
И снова захлопнул дверь у меня перед носом. Итак, я сижу и жду. У меня даже нет возможности подробнее изучить план города, купленный еще на вокзале. Я должен постоянно держать под наблюдением зеленую дверь.
Время от времени за соседние столики садятся люди, выпивают по чашке кофе и уходят. Потом приходят другие.
Мой кофе совсем остыл. Поэтому я заказываю рюмку мартини, не теряя из виду в мелькании прохожих темный прямоугольник парадной двери. Весь вопрос в том, когда.
Да, когда же наконец? Вот в чем вопрос.
Широкий гриб зонта, его синеватый сумрак защищают меня от палящего солнца. Однако зной струится не только с неба; им пышут и стены соседних зданий, и каменный настил небольшой площади, и даже эта грязно-зеленая вода.
Удушающий зной пронизан запахом влажной плесени.
Изредка мимо кафе, устало пыхтя, проплывает моторка, и тогда по водной глади канала катятся тяжелые волны, а полусгнившая деревянная терраса скрипит и угрожающе раскачивается.
Лишь к часу дня замечаю у зеленой двери мужчину средних лет, в темном клетчатом костюме, с тростью под мышкой. Как только он поднял руку к кнопке звонка, я кладу на столик заранее приготовленный блокнот и быстро шагаю по площади. Быстро, насколько это возможно. Вокруг лотков толпится столько народу, что, пока я протиснулся на другую сторону площади, мужчина скрылся за дверью. Я нажимаю на кнопку. Слуга появляется лишь после второго звонка и тут же пытается уйти.
– Слушайте, вы… – рычу я на него, успев сунуть в приоткрытую дверь ботинок.
Слуга с нескрываемым презрением бросает взгляд на нахальный ботинок, помешавший ему выполнить свой хозяйский долг. На ботинок, который нуждается в чистке.
– Слушайте, вы, – повторяю я. – Немедленно сообщите хозяину, что его желает видеть господин Анри из Бордо.
– Сперва я закрою дверь, – сухо отвечает слуга.
Ничего не поделаешь, убираю ногу, хотя у меня возникает подозрение, что этот тип не станет торопиться и, прежде чем доложить, промаринует меня тут хотя бы четверть часа. Хорошо, что у меня под рукою звонок.
Однако звонить не приходится. Минуту спустя все с той же неприязнью, но и с каким-то примирением слуга вводит меня в прохладный мраморный вестибюль старинного особняка.
Господин Тоцци встречает меня в кабинете с необыкновенным радушием, тепло пожимает обеими руками мою руку и вообще проявляет непомерный энтузиазм, если принять во внимание, что еще минуту назад он едва ли подозревал о моем существовании. Когда слуга наконец удаляется, полное смуглое лицо хозяина обретает серьезное, даже слегка кислое выражение. Он останавливает на мне свои сонные, похожие на маслины глаза в надежде что-то услышать от меня.
– Я к вам от Мартена. Он опять овдовел.
То, что какого-то там Мартена постигло горе, господина Тоцци не особенно удручает. Он кивает машинально, будто ничего другого и не ожидал.
– Хорошо, хорошо, что-нибудь придумаем для бедняги, – рассеянно говорит хозяин. Можно предположить, что он собирается подыскать горемыке Мартену новую жену либо намерен воскресить покойницу.
Господин Тоцци подходит к книжным полкам, вытаскивает какой-то толстенный том, сует руку в образовавшуюся дыру, и полки с книгами бесшумно раздвигаются в стороны, освобождая дверцу встроенной кассы. Хозяин отпирает ее, без труда находит там пухлый пакет, затем запирает кассу, повторяет манипуляцию и, едва полки заняли прежнее место, подает мне пакет. Вскрыв его, я обнаруживаю бельгийский паспорт. В паспорте наклеена моя фотография, под ней имя – Альбер Каре. Имя не мое, но это не столь важно. У меня никогда не было собственного имени. В пакете я нахожу еще несколько документов, уже менее значительных, принадлежащих тому же Альберу
Каре: водительское удостоверение, какую-то квитанцию и солидную сумму денег в итальянских и бельгийских знаках. Пока я наспех просматриваю все эти вещи, рассовываю их по карманам, господин Тоцци сообщает мне с равнодушным видом:
– Сейчас придет слуга и принесет вам чемодан. Можете сесть на пароходик и высадиться на площади Сан-Марко –
отсюда третья остановка. Вам лучше всего остановиться в отеле «Луна». Я закажу для вас номер по телефону. Надеюсь, это все.
Конечно, это далеко не все, но остальное уже зависит только от меня. Миссия господина Тоцци на этом заканчивается.
– Ну присядьте же… – спохватывается он.
Хозяин выходит, и за дверью слышится его разговор со слугой. Потом господин Тоцци возвращается с небольшим добротным чемоданом.
– Вот ваши вещи. Вам, пожалуй, пора.
Хозяин молча провожает меня до парадной двери. Перед тем как расстаться, он желает мне успехов, однако сказать нечто в смысле «до скорого свиданья» явно не решается. Я – тоже. У Тоцци слишком неприятный слуга.
Внешне отель «Луна», несмотря на его романтические очертания, не слишком привлекателен. Однако внешность порой бывает обманчива. За мрачным, источенным сыростью фасадом кроются изящные салоны с мозаикой и коврами, мраморные лестницы, светлые номера с голубыми обоями, дорогая мебель, ванные комнаты, отделанные голубой плиткой. Один из таких номеров с видом на соседние старинные дворцы предназначен для господина
Альбера Каре.
Быстро стащив с себя одежду, я встаю под душ, чтоб проверить, как действует на головную боль холодная вода.
Затем вынимаю из чемодана чистую рубашку, новый серый костюм и черные ботинки, одеваюсь, раскладываю по карманам документы, деньги и выскакиваю на улицу. Без двадцати три. Без пяти три я сажусь за столик кафе, на углу площади Сан-Марко, и заказываю кофе, хотя в данную минуту я все своим существом жажду не кофе, а сочного бифштекса со свежеподжаренным картофелем. Закурив, отпиваю глоток горячего кофе, второго глотка мне сделать не удается, потому что в Италии кофе подают один-единственный глоток. Внимательно осматриваю площадь и снова жду.
Другой на моем месте и при иных обстоятельствах, наверно, погрузился бы в изучение памятников архитектуры, которые, должно быть, и в самом деле весьма примечательны, раз они даже у меня рождают смутные ассоциации с давно знакомыми почтовыми открытками. Но сейчас к церквам, колокольням и дворцам я не испытываю ни малейшего любопытства. Все мое внимание сосредоточено на аркаде справа, где должен появиться человек в белой панаме, в темных очках и с висящим на плече «роллейфлексом».
Под аркадой почти темно. Площадь, вымощенная блестящими мраморными плитами, пустует под немилосердным солнцем. Жара не смущает лишь группу упрямых туристов. Они кормят булочками голубей, фотографируя при этом друг друга, чтобы увековечить свое близкое знакомство с птицами и Венецией. В кафе безлюдно, если не считать двух пожилых женщин в кружевных платьях, которые сидят, подобно мне, в тени аркады.
Ровно в три справа появляется человек в белой панаме.
Он неторопливо идет к кафе, рассеянно глядя на витрину, будто у него одна забота – убить время. Я узнаю его издали, не успев еще разглядеть висящий на плече «роллейфлекс».
Узнаю по характерной походке – он едва заметно приволакивает левую ногу – и по привычке держаться рукой за ремешок фотоаппарата.
Человек уже совсем рядом, и мне хочется воскликнуть:
«Любо!» Разумеется, я воздерживаюсь; только этого мне не хватает – поднять крик; однако именно сейчас так ясно доходит до моего сознания, сколько месяцев я прожил в полном одиночестве, даже не видя близкого человека.
Мужчина в панаме замечает меня издали, но проходит мимо, не обращая на меня никакого внимания, все так же неторопливо продолжает свой путь и исчезает под аркадой.
Я плачу за кофе, закуриваю новую сигарету и не спеша иду в том же направлении.
– Любо! – произношу я вполголоса, догнав на Кале
Ларга человека в панаме.
– Вы ошибаетесь, – бормочет он с едва заметной усмешкой. – Робер Леру. Бельгиец по происхождению, фотограф по профессии. А ты?
– Тоже бельгиец. Альбер Каре. Можешь меня звать «мон шер Каре».
– Почему бы и нет? Старые знакомые из Брюсселя. Ты, собственно, по какому делу?
– По тому же, что и ты.
– Я о другом спрашиваю.
Я прекрасно понимаю, о чем он спрашивает, только никак не могу смириться с этим официальным тоном, после того как мы целый год не виделись, к тому же в эту послеполуденную пору, когда на улице живой души не видать.
– Торговля. В частности, меня интересует венецианское стекло.
Любо кивает головой.
– А я готовлю альбом для одного бельгийского издательства.
Он замолкает, словно ему больше нечего мне сказать, и идет дальше; какое-то время мы шагаем молча в неширокой тени старых домов.
– Что-то ты мне не нравишься, – говорю я.
– Чем именно?
– Уж больно ты официален. Плохо переносишь жару?
– Не в жаре дело, брат, – улыбается Любо. – Работа. Не везет мне, и все тут.
– А как же с твоей приговоркой: «Давай за мной и не бойся»?
Любо едва заметно усмехается.
– Никак. Выветрилась из головы. Хорошая была приговорка, жаль только, что я ее забыл.
Я не возражаю, и мы продолжаем молча шагать в узкой тени потемневших от времени зданий. У меня свой принцип: если человек не в духе, дай ему вволю намолчаться –
может, пройдет.
– Какие инструкции? – вдруг обращается ко мне Любо.
– Я от тебя собираюсь их получить.
– Разве ты совсем не в курсе?
– Представь себе.
– Ладно. В сущности, все, что я знаю, можно передать в двух словах. История берет свое начало с некоего Ставрева, служащего Внешторга. Постоянное общение с представителями иностранных фирм. Завербован иностранной разведкой в первые годы после Девятого сентября1, но ни разу использован не был. И только шесть месяцев назад к нему является человек от западной фирмы «Зодиак», сообщает пароль – Ставрев уже едва ли надеялся когда-нибудь его услышать – и вручает рацию с инструкциями. Вот и все.
Любо вынимает из кармана измятую коробку «Кент» и протягивает мне.
– Как «все»? – спрашиваю я, машинально беря сигарету. Мой друг тоже берет сигарету и, замедлив ход, щелкает зажигалкой.
1 9 сентября 1944 года – день освобождения Софии советскими войсками под командованием маршала Ф. И. Толбухина.
– Все, – повторяет он, и мы снова шагаем в узкой тени. – Я хочу сказать: все, что мне известно.
– Когда был задержан Ставрев?
– Он не был задержан. Сам пришел к нам. Столько лет человек прожил как вполне добропорядочный гражданин, добился определенного положения, и на тебе, рация! Конечно, несколько дней дрожал, колебался, но потом все же явился и обо всем рассказал. Впрочем, по нашему указанию он до сих пор выполняет полученные от агента инструкции.
– Что же, мы можем делать ставку по крайней мере на двоих, – замечаю я. – На того, кто вербовал Ставрева, и на того, кто восстановил связь.
– На одного! – поправляет меня Любо. – Тот, первый, был военным, состоял при американской миссии, и следы его давно затерялись. Не исключено, что он умер. Мы можем делать ставку на одного: это Карло Моранди, чиновник венецианского отделения фирмы «Зодиак».
– Ну все-таки.
– Да, все-таки… Только на деле оказалось, что это «все-таки» не стоит выеденного яйца.
Приближаемся к каналу. В тени дома, близ воды, пустует мраморная скамейка.
– Посидим, – предлагает Любо и направляется к скамейке.
– Я бы предпочел другое место. Умираю от голода.
– А я от жажды, – бормочет мой приятель, опускаясь на скамейку. – Как назло, у нас нет времени.
Я сажусь рядом с ним, делаю последнюю затяжку и бросаю сигарету в неподвижную воду канала.
– Ты давно здесь? – спрашиваю я.
– Около трех месяцев. Три месяца, а толку никакого. В
моем положении следить за этим типом оказалось довольно трудно. И все же, мне думается, я выудил все, что только можно было.
Любо умолкает, и это наводит на мысль, что выуженное не стоит того, чтобы о нем говорить.
– Что он за птица, этот Моранди?
Порывшись в кармане, мой друг достает несколько снимков и один из них подает мне.
– Дворец дожей и Моранди в качестве приложения, –
поясняет он. – Хороший снимок, а?
Вглядываюсь в снимок, пожимаю плечами.
– Лучше бы я стал фотографом. В фотографии я куда более везуч.
На фоне дворца несколько прохожих.
– Кто же из них Моранди? – спрашиваю.
– Вот этот, с женщиной.
Этот, с женщиной, человек средних лет, низкорослый, с тонкими усиками, выступает важно, как петух; нелепая шляпа с узкими полями сдвинута на затылок.
– Женщина куда примечательнее, – говорю я.
– Да, но она не играет. В сущности, похоже, что и сам
Моранди уже вне игры. Чиновник средней руки. Вертопрах. Тратит, пожалуй, несколько больше, чем получает.
– Значит…
– Значит, делает долги, и только. Часто ездит по службе в Женеву, где находится отделение «Зодиака». Никаких связей, никаких действий, которые указывали бы, что он разведчик.
– А женщина?
– Не свободна, – отвечает Любо, выхватывая у меня снимок. – Его любовница.
– А ты не пробовал ее приручить?
– Тебя дожидался. Вконец испорчена. Опасно и бесполезно. Но я сделал другую попытку.
Он замолкает и смотрит на часы. Потом поднимает глаза и лукаво мне подмигивает, совсем как тот прежний
Любо Ангелов, шутник и плут, которого друзья величали
Дьяволом. Только сейчас в его подмигивании было что-то жалкое – он скорее храбрился, чем хвастал своими успехами.
– Вошел в контакт с одним типом по имени Артуро
Конти. Это очень длинная история, когда-нибудь расскажу со всеми подробностями. Конти работает в одной комнате с
Моранди, вместе пьют. И наверняка знает всю его подноготную.
– А что, если этот Конти…
Любо с досадой машет рукой.
– Оставь! Знаю, что к чему.
– Весь вопрос в том, уверен ли ты…
– Я ни в чем не уверен. Разве только в том, что никакой другой возможности нет. Тем более что Конти оказался сообразительным. Сразу смекнул, что я за покупатель и какой товар меня интересует. Поначалу делал вид, будто колеблется, – цену набивал. Потом сдался.
– Результат?
– Сегодня выяснится. Он услышит хруст банкнотов, а что получу я – неизвестно. Может, пошлет меня ко всем чертям, но иного выхода нет. И без того три месяца проторчал зря.
Мой друг смотрит на часы и встает.
– Я должен идти. С тобой мы встречаемся точно в шесть. К тому времени я буду иметь сведения. Место встречи – автобусная остановка у моста Свободы. Купи себе план города, чтоб не плутать. А сейчас, если хочешь поесть, иди по этой улице, пока не доберешься до Кампо
Морозини.
Любо слегка приподнял руку на прощанье и только теперь догадался спросить:
– Ты что, прямо из Франции?
– Из Франции.
– Значит, справился.
– Ты же мой учитель…
– Не морочь голову, – усмехается Любо. – Не будь меня, нашелся бы другой. Во всяком случае, я рад, что ты справился…
Потом добавил без всякой связи:
– А у меня, браток, есть сын. Ему уже пять месяцев!
Площадь Морозини не очень-то вяжется с общим обликом Венеции – ей недостает каналов. Зато кафе хоть отбавляй. Я устраиваюсь под тентом в белую и синюю полоску и сосредоточенно, стараясь не казаться слишком голодным, поглощаю миланскую котлету и гарнир – огромную порцию спагетти.
Несмотря на жару, в кафе сидят еще несколько человек и две-три группы туристов. На меня они не обращают внимания. Зато кельнер увивается возле меня в надежде, что котлетой я не ограничусь. Чтобы доставить ему удовольствие, я прошу дать что-нибудь на десерт и вынимаю из кармана план города. Оказывается, маршрут до Понте делла Либерта довольно прост. Надо сесть у моста Академии на какое-нибудь суденышко и сойти на конечной остановке. Весь путь займет не больше получаса. Сейчас без малого четыре. Значит, впереди целых полтора часа, а мне остается только съесть какой-то жалкий десерт. И конечно, ждать.
«Ты что, прямо из Франции?» – спросил у меня мой приятель.
«Из Франции».
Что скрывалось за этим коротким ответом, одному мне было известно. И во сколько вольт напряжение все еще сохранилось во мне, это тоже я один знал. Чтобы поостыл мотор после операции, вроде моей французской, не мешало бы иметь паузу. Я уже почти зримо представлял эту паузу, ее спокойные очертания в виде непродолжительного отдыха на Золотых песках… Прекрасного отдыха в начале лета, когда еще нет наплыва курортников и море довольно прохладное. Страсть как хочется побывать там, когда холодное море, потому что при этом я могу с чистой совестью нежиться до обеда в постели, а после обеда скитаться, не рискуя, что иностранцы будут наступать на мои новые ботинки. Что может быть лучше отдыха на море, особенно если купаться только в ванне?
Да, я видел ее, эту июньскую паузу, когда мы с Лидой ступили на палубу «Родины». Пароход был уже вне французских территориальных вод, и посланный нам вдогонку сторожевой катер даже не стал приближаться к борту, а подался куда-то в сторону, будто вышел в море совсем по другому поводу.
Капитан оказался человеком деловым, сообразительным и тут же обеспечил мне радиосвязь. До поздней ночи я во всех подробностях докладывал о выполнении задачи.
Меня до того одолевал сон, что не помню, как добрался до каюты, – кажется, я уснул на ногах.
– Ну, наконец-то, – воскликнула Лида, когда я на другой день появился на палубе. – Значит, вас не арестовали?
– А почему меня должны были арестовать? – спросил я, еще не стряхнув с себя сон.
– Ведь вы же эмигрант?
– А, верно! – спохватился я. – Раскаялся вот, и ко мне проявили снисхождение. Словом, кое-как уладилось.
Она задержала на мне пристальный взгляд. Потом насупилась:
– Вы надо мной издеваетесь.
Я не успел ей возразить, потому что ко мне подбежал матрос: надо было срочно явиться в радиорубку. Я полагал, что Центру потребовались дополнительные сведения относительно закончившейся операции. Однако радиограмма оказалась совсем иного характера. Словом, оборвались мои мечты о том, чтобы понежиться на берегу синего моря.
Назрела новая операция со многими неизвестными, вернее, построенная сплошь на неизвестных. Один-единственный адрес, пароль и встреча с каким-то субъектом, которая где-то и как-то должна состояться в понедельник, именно в понедельник, точно в три часа.
В полдень я высадился в Неаполитанском порту, так и не успев объяснить Лиде, что у меня не было намерений издеваться над ней.
И вот оно, начало новой операции. Неизвестные утратили всякое значение, поскольку выяснилось, что дело совершенно безнадежное. В сущности, то, что дело предстоит трудное, я понял из радиограммы. Не потому, что в ней это было сказано, а потому, что меня включили в операцию, даже не дав остыть мотору, не проинструктировав на месте.
Я рассматриваю этикетку на пустой пластмассовой чашке, стоящей передо мной, и до меня только сейчас доходит, что десерт, который я рассеянно проглотил, не что иное, как знаменитый «Джелати Мота». Подходит официант и с прежней настойчивостью предлагает:
– Эспрессо?
Чтоб не огорчать его, я киваю.
– Маленький, большой?
– Большой, – отвечаю я все с той же целью.
Он молниеносно подает мне кофе и торопится предложить свои услуги соседнему столу, где пожилые англичанки запаслись конвертами, цветными открытками и погрузились в писание писем.
«Джелати Мота», «Джелати Мота», машинально повторяю я, размышляя о том, что я уже почти пенсионер.
Ничего, что мне нет и сорока. Профессия у нас совсем как у пилотов, летающих на сверхзвуковых самолетах. Перегрузки. Преждевременный износ. Потом можно стать лектором при домоуправлении. Или читать газеты в городском саду. Или вообще убираться ко всем чертям. Еще не так давно, приступая к выполнению новой операции, я испытывал трепет шахматиста перед встречей с опасным партнером. Глупости. Трепет был куда сильнее и совсем иного порядка. Мало похожий на переживания шахматиста во время игры, а скорее напоминающий трезвую решимость, упорную, основанную на точном расчете человека, готового на все. Эта решимость вырабатывалась во мне еще в ту пору, когда я вместе со Стариком и с Любо Дьяволом бродил по холмам близ границы. «Давай за мной и не бойся!» – говорил Любо. И я шел, хотя и боялся, мало-помалу овладевая искусством подавлять страх.
Но с тех пор много воды утекло, а самого Любо хоть на пенсию провожай. «Лучше бы я стал фотографом. В фотографии я куда более везуч». Три месяца оказалось достаточно, чтоб у него иссякло терпение. Связался с вымогателем, и тот, сообщив какие-нибудь пустяковые или попросту ложные сведения, нагреет на нем руки. «Другого выхода нет». Сегодня нет, а завтра, может быть, будет. А
вдруг всплывет более весомая и верная улика из сведений этого случайного информатора, хотя не исключено, что он подослан, дабы отбуксировать тебя куда следует.
Постепенно все мои мысли сосредоточиваются на деле, и мое настроение в какой-то мере улучшается. Значит, пока у меня все в норме. Даже головная боль поутихла. Однако, чем больше я думаю о деле, тем яснее начинаю сознавать: задаче недостает элементарных условий. Мне ничего не решить, пока Любо не даст хоть какие-то, пусть незначительные сведения, пока я не ознакомлюсь с результатами его трехмесячных наблюдений.
Та малость, которая известна, способна только сбить меня с толку. Но ничто так не сбивает с толку, как противоречие между директивой Центра и поведением Любо.
Директива – и притом единственная – предлагала ему быть предельно осторожным. А Любо вошел в сделку с каким-то сомнительным типом, мотивируя это тем, что иного выхода нет. Быть может, Любо располагает более точными директивами. Быть может, этот тип не такой уж сомнительный. Возможно, возможно… Не остается ничего другого, как ждать встречи, назначенной на шесть часов.
На стоянку Понте делла Либерта я прихожу почти в шесть. Я нарочно стараюсь подойти в последнюю минуту, чтобы не торчать слишком долго и не привлекать внимания, хотя торчать на остановке автобуса не так уж подозрительно.
Слева от меня мост плавно поднимается над шоссе, чтоб вдруг взлететь над железнодорожными линиями и дальше, над морем, этакой белой лентой, длинной и прямой, натянутой поверх сине-зеленой водной шири. Устало рычит автобус, резко тормозит. Все, кроме меня, входят в него. Шофер посматривает на меня, словно говоря: «Ну чего дремлешь?», но я продолжаю с рассеянным видом глядеть в сторону, и он, внезапно дав газ, едет к Местре.
Несколько минут и смотрю вслед тяжелой машине, потом отвожу глаза и вижу Любо. Мой друг еще далеко, но я узнаю его по белой панаме и характерной походке – он едва заметно приволакивает левую ногу. В свое время, когда мы преследовали в горах банды диверсантов, его ранило в ногу, но железная воля и длительные упражнения позволили ему почти полностью устранить хромоту.
Держась рукой за ремешок висящего на плече «роллейфлекса», Любо идет по тротуару моста медленно, словно бы без всякой цели – так, подышать свежим воздухом. И все же я знаю его достаточно хорошо, чтоб не заметить по внешне беспечному виду: он начеку, ему явно не терпится оглянуться, но он не смеет. То, чего не смеет сделать он, делаю я. На мосту, сколько хватает глаз, пусто, если не считать шумной компании молодых людей, идущих по противоположному тротуару.
Любо уже в двадцати метрах от меня, когда я замечаю позади него машину. Может, я видел ее раньше, но лишь теперь она привлекла мое внимание. Это тяжелый черный «бьюик», ничем не примечательный. Он движется с нормальной скоростью и привлекает внимание лишь в тот момент, когда резко сворачивает с середины проезжей части к тротуару. Любо оборачивается, отступает на шаг, но тяжелая машина бампером сбивает его с ног и отбрасывает к перилам моста, затем проносится мимо меня и устремляется к Местре. На какую-то долю секунды передо мной мелькает вытянутое бледное лицо мужчины, сидящего за рулем, прикрытое большими зеркальными очками, и физиономия его соседа – жирная и припухшая, бородка с проседью, клинышком. Я пытаюсь прочесть номер стремительно удаляющейся машины, но он слишком забрызган грязью, к тому же какой в этом смысл – машину, вероятно, бросят где-нибудь близ Местре, и едва ли кто-нибудь возьмет на себя труд разыскивать убийцу никому не известного человека.
Неизвестный лежит на тротуаре, в ногах у молодых людей. Подхожу и я, движимый вроде бы любопытством.
– Готов… – говорит кто-то из парней.
– Нет, еще шевелится, – замечает другой.
Ноги пострадавшего и в самом деле конвульсивно вздрагивают. Но это спазмы мускулов, которые еще не подозревают, что принадлежат мертвецу. Кто-то бежит звонить по телефону, а остальные тем временем ведут спор о том, мафия это или не мафия. Несколько минут спустя вдали раздается резкий вой полицейской сирены.
Я поворачиваю обратно, не показывая виду, что тороплюсь. Молодые люди тоже удаляются. Обогнав меня, они исчезают, прежде чем появляется полицейский фургончик.
Кому охота терять время на свидетельские показания.
Мост у меня под ногами качается, когда мимо проносится карета «Скорой помощи» и полицейская машина.
Остановившись, я оборачиваюсь, чтобы увидеть эпилог.
Покрытые белой простыней носилки.
Мне нужен телефонный справочник, но, пока я обнаруживаю в этом квартале кафе, уходит уйма времени. Вопреки моим ожиданиям, имя Артуро Конти в справочнике не фигурирует. Однако я нахожу телефон «Зодиака». Звонить в «Зодиак» опасно. Но что делать – это единственная возможность.
– Пожалуйста, господина Конти!
– Господин Конти ушел. Вы что, не знаете, звонить надо в рабочее время! – слышится недовольный голос портье.
– Извините, но я должен срочно передать ему кое-какие вещи. Я только что приехал из Женевы. Будьте добры, адрес.
– Адрес, адрес… – Голос недовольный. Тем не менее пальцы, наверно, уже перелистывают список служащих, потому что через непродолжительное время в трубке звучат слова: – Страда Нуова, девятнадцать.
Мне бы не мешало выпить кружку пива, чтобы сосредоточиться, только лучше не здесь. И вообще после той неосмотрительности, какую я только что допустил, я решаю впредь быть предельно осторожным. А вдруг портье придет в голову проверить, откуда звонили. Либо сам станет кому-нибудь звонить, что Конти разыскивали по срочному делу. Не стоит сегодня обременять местную полицию еще одним наездом. Тем более что тут привыкли иметь дело главным образом с утопленниками.
Покидая кафе, бросаю взгляд на план города. Оказывается, до Страда Нуова можно добраться и пешком, нечто невероятное в условиях этого города. Седьмой час. Улицы полны народу. Миновав мост Скалци, попадаю на привокзальную площадь и, следуя в людском потоке, поворачиваю направо.
Номер 19 по Страда Нуова – ничем не примечательный дом с облупившимся фасадом и убогой парадной. Не проявляя к нему никакого интереса, иду дальше, пока передо мной не открывается какая-то площадь, на ней памятник и, что еще важнее, кафе. Сажусь снаружи за столик и заказываю кружку пива.
Спускаются сумерки. Вокруг площади смутно различаются фасады домов, но посредине ее еще светло, и в центре светлого пятна высится грозная фигура бронзового всадника. Судя по тому, с каким гордым видом он восседает на своем бронзовом коне, это или полководец, или иное историческое величество. Сжатые челюсти и насупленные брови прославленного мужа внушают почтительное уважение, и это наводит меня на мысль заказать еще кружку пива – в его честь.
Я гляжу на тонущую в сумраке площадь и стараюсь все лишние мысли прогнать из головы, чтобы можно было спокойно и трезво обдумать предстоящее. Но мысли, которые я пытаюсь прогнать из головы, засели там основательно: перед глазами скорчившееся тело с раздавленными, конвульсивно вздрагивающими ногами, разбитая о каменный парапет голова с едва наметившейся лысиной и скомканная белая панама, пропитанная кровью.
«Чем ты не пенсионер? – говорю я себе. – Раз до такой степени впечатлительный, значит, ты уже законченный пенсионер». Но эта мысль меня не убеждает, и я снова перевожу взгляд на памятник. Мрак поглотил фигуру почти целиком, кроме плеч и головы со сжатыми челюстями и нахмуренным лбом. «Будь здоров! – бормочу я. – И нечего тебе хорохориться. Счастье твое, что в ваше время не было разведывательного управления. Иначе, пока ты так вот хорохорился бы, сидя на коне, тебе бы пулю пустили в спину. Так что держись-ка лучше поскромней!»
Однако это глупости тоже меня не убеждают, потому что именно в этот момент мне слышится шепот Любо: «А у меня, браток, есть сын. Ему уже пять месяцев!» – «У тебя есть сын, – говорю. – Только у твоего сына нет отца». И
все-таки лучше оставить после себя сына без отца, чем ничего не оставить. Как, например, в моем случае, я ведь тоже мог бы иметь сына, и притом не пятимесячного, а пятилетнего. Но это уже другой вопрос.
И здесь в моем мозгу пробуждается кое-что связанное с этим другим вопросом, потому что в ушах снова звучит:
«Ты слышишь, брат, у меня пятимесячный сын». – «Отстань ты, наконец, со своим сыном, – говорю. – Надо было раньше об этом думать. Не захотел постичь эту премудрость – сидеть и ждать. А у тебя вот не хватило духу. И
отправили тебя ко всем чертям. Так же, как и Старика».
Мне, разумеется, известно, что Любо хорошо постиг эту премудрость, и я говорю это только для того, чтобы он не зудел над ухом и дал сосредоточиться. Может, задача оказалась ему не по силам. Или нервы у него поизносились.
Люди вроде нас частенько изнашиваются раньше, чем появится лысина. Что же касается своего ремесла, то он им владел неплохо. По крайней мере в свое время. Да, в сущности, и меня обучил этому ремеслу не кто иной, как он.
Снова гляжу на площадь. Теперь бронзового всадника целиком обволакивают смутные тени. А в голове моей смутные мысли. И чтоб заняться чем-то более реальным, я сдвигаю рукав и бросаю взгляд на часы. Восемь двадцать.
Подожду до десяти. Нет, до полуночи. Почему до полуночи? Может быть, не точно, а примерно до полуночи. До той поры, когда станет меньше посетителей. И когда человек вернется домой. И даже перестанет думать, что кто-нибудь может к нему прийти.
Дело рискованное. Почти в той же мере, как и поступок
Любо. С той лишь разницей, что Любо не должен был рисковать, а я обязан идти на риск. У Любо была возможность ждать, а я не располагаю такой возможностью. У
Любо не было никакой уверенности, что этому Конти что-либо известно, я же в этом уверен. У меня есть конкретный вопрос, а у Конти – точный ответ. До настоящего времени на горизонте мелькал один только Моранди. Но
Моранди в машине не было – я бы его узнал по снимку.
Значит, кроме Моранди, всплывают еще два лица. Кто они?
Это станет ясно после того, как выяснится, кто уведомил
Конти о своих встречах с Любо. Но это возможно лишь в том случае, если Конти заставят заговорить. Это должен сделать я.
Торопиться некуда. Успеется. Главное, не забегать вперед. Как это случилось с Любо. Или со Стариком. История со Стариком случилась очень давно, когда мы преследовали банды диверсантов в пограничных районах. Мы застукали одну такую банду на заброшенной мельнице.
Дело было на рассвете, и сколько человек там затаилось, мы понятия не имели. Нас было всего четверо, к тому же
Любо послал молодого Савова за подкреплением. Любо, Старик и я залегли за деревьями. Вдруг один из бандитов появился в дверях, и Старик, вопреки указанию, выстрелил, попал в него, но растревожил весь улей. Как начали они чесать сквозь окна и щели! Мы же старались беречь патроны, и те, сообразив, что имеют дело с мелкой рыбешкой, решили идти напролом. Тогда по приказу Любо я подполз поближе и швырнул лимонку в тех, что столпились у двери, сам Любо бросил лимонку в окно. После взрывов наступила мертвая тишина. Гранат у нас больше не было, да и патроны были на счету. Надо было лежать и дожидаться подкрепления. Тишину ничто не нарушало, а
Старик то и дело повторял: «Чего тут ждать! Разве не видите, никто не уцелел» – и, прежде чем Любо успел крикнуть, вскочил, подбежал к двери и только попытался заглянуть в нее, как изнутри стрекотнул автомат; у Старика подкосились ноги, он склонился, будто собираясь что-то поднять, простонал и рухнул, скорчившись, на порог.
Вскоре пришло подкрепление.
А теперь вот Любо повторил ошибку. Двадцать лет спустя. За двадцать лет человек в нашем деле может основательно поизноситься. Приходишь в ветхость, прежде чем у тебя выпадают волосы.
Официантка забирает деньги с соседнего стола. Там сидели двое пожилых людей. Я даже не заметил, когда они ушли. Одним словом, чем не пенсионер.
– Собираетесь закрывать? – спрашиваю.
– О нет, – спешит успокоить меня девушка. – Мы работаем до полуночи.
– Чего бы я мог поесть?
– Хотите миланскую котлету?
Я киваю в знак согласия, хотя даже миланская котлета опротивеет, если ее есть два раза в день.
– Еще пива?
Снова кивок.
Значит, «работаем до полуночи». Ну что ж, а мы будем работать после полуночи. Важно, чтобы дело двигалось.
Чтобы дело двигалось, вот что важно, господин Конти. Так что смотри, не наводи тень на плетень.
– Вам не нравится котлета? – неожиданно подает голос официант.
– Напротив, – отвечаю я, только сейчас замечая, что к котлете я так и не притронулся. – Но эта жара всякий аппетит убивает.
– Да, сегодня было довольно тепло, – соглашается девушка. – Еще пива?
– Я бы предпочел кофе. Нет ли у вас чашек побольше?
– Есть, конечно. Двойной эспрессо?
Пока большая стрелка моих часов настигла малую на двенадцати, я успеваю выпить три двойных эспрессо.
Расплатившись, без лишней торопливости покидаю кафе.
Слабо освещенные улицы почти пустынны. На Страда
Нуова света больше и движение оживленнее. Вот и № 19.
Не оглядываясь и без особых колебаний вхожу в убогую парадную, поднимаюсь по лестнице, читая по пути таблички на дверях. Артуро Конти обнаруживаю лишь на четвертом этаже слева. Звоню спокойно, то есть не робко и не слишком настойчиво. Никакого отзвука. Выждав десяток секунд, звоню снова. Полнейшая тишина. Квартира кажется необитаемой. На всякий случай нажимаю на ручку. Дверь открывается.
Вхожу и бесшумно закрываю ее за собой. Нащупываю задвижку и все так же бесшумно перемещаю ее. Прихожая тонет во мраке. Чиркнув спичкой, обнаруживаю прямо перед собой распахнутую дверь. Подхожу ближе, заглядываю… Совсем как в свое время Старик.
Спичка обжигает мне пальцы и гаснет. И здесь полнейший мрак. Видимо, окна тщательно зашторены. Поворачиваю выключатель. С потолка десятками стекляшек сверкает старинная хрустальная люстра. Но сейчас мне не до люстры. В пяти шагах от меня на ковре человек. Лежит ничком, руки раскинуты, будто в тот момент, когда смерть уносила его, он хотел ухватиться за что-нибудь. Ковер пропитался кровью.
Подхожу и осторожно приподнимаю голову мертвеца.
Толстяк из «бьюика», бородка с проседью.
2
Уже несколько дней я живу, как богатый бездельник.
Допоздна валяюсь в постели. Потом велю принести мне завтрак и газеты. Неторопливо принимаю ванну. Неторопливо одеваюсь. Спешить некуда. Еще день предстоит шляться без всякой цели.
Поскольку зашла речь о газетах, необходимо отметить, что местная пресса отреагировала на два убийства так, как и следовало ожидать. Сообщение о наезде на Понте делла
Либерта вместилось в десять строк. Кроме информации о несчастном случае в нем сказано, что где-то в окрестностях
Местре обнаружена брошенная машина и что ведется следствие. Чего стоит это следствие, всем хорошо известно. Год спустя за давностью оно будет прекращено, хотя его никто не начинал. А вот покойному Конти посвящен весьма трескучий репортаж. Зловещий вид дома в раннее утро, труп в луже запекшейся крови, комоды и ящики стола выпотрошены, гипотеза врача-криминалиста, беседа с комиссаром, предположения, что главный мотив чудовищного убийства – ограбление; все это подано так, что могло бы служить образцом провинциального красноречия. Хотя шум поднят большой, эту историю ждет то же самое –
забвение.
Так или иначе, предчувствие, что мне предстоит отдых, меня не обмануло. Больше того, я обречен на полнейший отдых, хотя и не в живописных окрестностях Варны, этой жемчужины нашего Причерноморья. Перед тем как случиться двум убийствам, у меня создалось впечатление, что задача, которую на меня возложили, на редкость трудна.
Теперь я убежден, что она и очень важна, хотя мне еще не ясно почему.
В иных романах при описании схваток между разведчиками трупы падают на каждом шагу, словно груши.
Глупости. Тут, как и везде, убийство – крайняя мера, и прибегают к ней лишь в исключительных случаях. Убийство Любо означает, что организаторы его стремятся любой ценой предотвратить какое-то крайне нежелательное для них раскрытие. Иначе они бы ограничились тем, что пустили по следу Любо одного-двух прилипал, чтоб ознакомиться с его биографией. Они до такой степени боятся раскрытия, что и Конти, которому, видно, не слишком доверяли, ликвидировали без всяких колебаний. Сперва они усадили его в «бьюик», чтобы он опознал Любо, а потом сопроводили домой, чтобы пристукнуть в домашней обстановке. Разделались сразу и с продавцом, и с покупателем. Если и Моранди уготована такая же участь, тогда, считай, конец.
Разумеется, гипотеза составлена в самых общих чертах и вызывает массу дополнительных вопросов. Если бы сейчас я сидел в кабинете генерала, легко представить, какими репликами меня обстреливали бы полковник и мой непосредственный начальник, пока генерал, подняв руку, не остановил бы их: «Простите! К чему этот перекрестный допрос?»
Им, конечно, нет смысла сбивать меня с толку, однако полковник прямо-таки беспощаден со своей логикой и педантичной страстью устанавливать все до мельчайших подробностей, а мой шеф не преминет сказать, что, если бы я поменьше фантазировал, из меня бы вышел отличный разведчик. Вероятно, меня перво-наперво спросили бы:
«Раз они решились на крайние меры, почему же они не ликвидировали и Моранди?»
И это был бы удар в самую точку. Потом шеф рассеянно поглядит в окно с таким видом, словно все это его не касается, и вообще он попал сюда в момент начавшейся беседы по чистой случайности.
Полковник же будет истязать мелочами. Я вижу прищур его серых глаз, пристальный и чуть недоверчивый взгляд, вижу, как вонзается в пространство его желтый от курева плащ.
– Когда Конти сообщил о сделке, предложенной ему
Любо? До или после своей встречи с Любо?
– Если до встречи, зачем же понадобилось брать его с собой, чтоб он опознавал Любо, когда они сами могли проследить за встречей?
– А если он сообщил после встречи? Каким образом он мог снова найти Любо и направить «бьюик» по его следу?
– И потом. Если Конти информировал кого-то о своей встрече, как, по твоему разумению, в столь короткий промежуток времени можно было задумать и осуществить убийство?
И так далее и так далее, что ни вопрос, то крепкий орешек, и каждый такой орешек раскусывать мне самому своими собственными зубами, раз уж я сунулся к ним с подобной гипотезой.
Так как в последние дни у меня был избыток свободного времени, то на каждую загадку у меня уже готов ответ.
Но что сделаешь, если дюжины две подобных вопросов сыплется на тебя неожиданно, в ходе совещания, а ты не имел ни малейшей возможности обдумать их заранее? Тут уж генерал разведет руками и скажет с видимым сочувствием: «Довольно. Пускай человек соберется с мыслями». С
сочувствием, от которого – ты это ощущаешь – у тебя по спине скатываются струйки пота; и, пока ты выходишь в коридор, с одной стороны слышится голос полковника:
«Вообрази себя на их месте: ты действуешь их методами, и ты так же умен, как и они, – не менее, но и не более». А с другой стороны голос шефа: «Поменьше воображай, побольше анализируй бесспорно данное. Фантазии, дорогой мой…»
Бесспорно данное… Я верчу это «бесспорно данное» и так и сяк, рассматриваю со всех сторон, фиксирую как набор деталей и как целое, пока бреду следом за толпами туристов по городу и, так же как они, проявляю откровенное любопытство. Проявлять-то я его проявляю, только и на этот раз не к Венерам Тициана, несмотря на врожденное уважение к натуре.
Честно говоря, я не люблю туристов. Но для таких, как я, очень удобно потонуть в толпе людей, которые мечутся с разноязыким говором, бросаются в гондолы, носятся по мраморным лестницам дворцов, хищно нацеливаются кинокамерами и фотоаппаратами в памятники, атакуют магазины сувениров и в конце дня, обессиленные, агонизируют под тентами кафе.
Исключительно удобно. Полнейшая анонимность. Но за удобство всегда приходится платить. Ведь тут все живет за счет иностранцев – городская власть, банки, отели, всевозможные развлекательные заведения, музеи, торговцы, лодочники, священнослужители, нищие, даже большая часть случайных прохожих, которые за скромное вознаграждение делятся своим запасом сведений об этом чудесном городе. На каждом шагу кто-то тебя подстерегает, на каждом углу кто-то выжидает, дерут с тебя «куверты», проценты на проценты, суют тебе входные билеты и почтовые открытки, вынуждая покупать вещи, которые тебе ни к чему, и ловкими неожиданными маневрами заставляют спрыгивать с набережной в коварно подставленные моторки, предназначенные для прогулок в Лидо.
Покорно прохожу через все испытания. Болтаюсь в лодках под палящим солнцем, плутаю по бесконечным дворцовым залам, забираюсь в сумрачные подземелья, торчу перед картинами и фресками, выглядываю с колоколен, слушаю залповые пояснения чичероне, у которого для любой достопримечательности есть несколько готовых фраз. Стоически выношу все, быть может, благодаря тому, что постоянно думаю о своем.
«Раз они решились прибегнуть к крайним мерам, почему же они не ликвидировали Моранди?»
Моя туристская одиссея длится две недели. Я воздерживаюсь от действий, которые в иных условиях предпринял бы незамедлительно. Самое главное – не пытаться следить за Моранди.
Почему не ликвидировали Моранди?
Его оставили в качестве приманки.
Возможен и такой ответ на вопрос. Пусть не самый верный, но достаточно вероятный, чтобы мне какое-то время держаться подальше от этой единственной исходной позиции. Есть, правда, еще одна – человек в зеркальных очках. Но в настоящий момент его поглотила неизвестность.
Я не до такой степени заражен туристическим легкомыслием, чтоб не заниматься и кое-какими полезными делами. Во-первых, я устанавливаю контакт с фирмой
«Мурано», производящей венецианское стекло. Деловой разговор, ворох ценников, торг относительно комиссионных – вся эта комедия разыгрывается с одной целью: что-нибудь прояснить. Во-вторых, вооружившись адресами, взятыми из телефонного справочника, получаю необходимые сведения о предприятии «Зодиак» и о местожительстве Моранди. В-третьих, с учетом обстановки уточняю план действий.
И вот опять понедельник. Как и предыдущие дни, он проходит в суматошной беготне по мраморным лестницам и арочным мостам. И длится она до конца рабочего дня. А
«Зодиак» кончает работу в шесть часов, так что в четверть седьмого я уже на террасе «Сирены», где можно выпить рюмку мартини. К счастью, через два дома от этого кафе находится квартира Моранди.
На небольшой площади перед кафе царит оживление, на террасе тоже довольно людно, так что, если понаблюдать с близкого расстояния, ничего не случится. Потягивая второй мартини, я вдруг обнаруживаю идущего в толпе
Моранди. Все так же хорохорится, все в той же смешной серо-голубой шляпчонке с узкими полями. Моранди проходит неподалеку от моего столика, не обращая внимания на посетителей. На этом сегодня, пожалуй, можно поставить точку.
Оказывается нет. Полчаса спустя Моранди снова шествует по улице, на сей раз в обратном направлении. Поравнявшись с террасой, он круто поворачивает в мою сторону, однако проходит мимо и, небрежно пнув свободный стул, садится за соседний столик ко мне спиной.
Он, как видно, свой человек в этом кафе. Обменявшись с кельнером несколькими словами относительно того, как было жарко сегодня, Моранди заказывает двойной чинзано со льдом. У меня рюмка уже пустая, и, как известно, посетитель, сидящий за пустым столом, всегда вызывает подозрение. Поэтому я делаю знак кельнеру и заказываю ужин. Заказываю придирчиво, оговаривая все до последней мелочи, обращаю внимание официанта на то, какими должны быть мясо и гарнир. И вообще даю понять, что я пришел сюда не ради карих глаз хозяйки заведения, кстати сказать уже не молодой и больше чем просто располневшей особы.
Я заметил, чем невзыскательный клиент, тем пренебрежительней относятся к нему официанты. Нося в себе какие-то черты мазохизма, они испытывают блаженный трепет перед теми клиентами, чьи капризы не знают границ. Именно таким оказался мой кельнер. Пока я делал заказ, он чуть не пританцовывал, повторяя с упоением «да, синьор», «ясно, синьор», и под конец едва не козырнул мне, и тем не менее надо соблюдать меру; стоит переборщить –
и получается обратный результат.
Я приступаю к салату, а Моранди выпивает второй чинзано. Когда мне подают мясо – заказывает третий. Не успел я покончить с основным блюдом, как появляется приятельница Моранди, та самая, которую я видел на снимке. Они машинально здороваются, после чего кавалер выговаривает своей даме за опоздание.
– От этого ты только выиграл, – невозмутимо отвечает она. – Выпил лишний бокал вина.
Следует новая реплика, сказанная вполголоса.
– Ничего подобного! – возражает дама. – Закажи для меня мартини.
Разговор между ними продолжается, достаточно банальный, чтобы его мог понять даже такой иностранец, как я, и слишком безинтересный, чтобы его воспроизводить. С
одной стороны – жара, портниха, маникюрша, а с другой –
не выраженные, но вполне уяснимые сомнения Моранди относительно того, как дама провела время.
Желая переменить тему разговора, женщина вдруг спрашивает:
– Ты когда уезжаешь?
К моему огорчению, Моранди что-то невнятно бормочет, отвечая весьма уклончиво. Потом в свою очередь задает вопрос:
– Ужинать будем?
– Только не здесь! Сегодня я бы не прочь съездить в
«Эксельсиор».
– В Лидо? У меня нет никакого желания ехать в такую даль, – кисло возражает кавалер.
В конце концов они отправляются в «Эксельсиор». Они проходят мимо моего столика, и я пристально разглядываю их. Неторопливо доедаю котлету с живописным гарниром.
– Синьор доволен? – угодливо спрашивает кельнер.
Чтоб не слишком его баловать, я снисходительно киваю. Затем выпиваю кофе, рассчитываюсь и встаю. Теперь надо ждать на набережной, у Палаццо Дукале – отсюда едут в Лидо.
…Сведения, почерпнутые из разговора в «Сирене», скудны и неопределенны, но все же таят в себе какую-то информацию: Моранди предстоит поездка. Эта деталь – тут невольно приходит на память замечание Любо, что Моранди частенько наведывается в Женеву, – побуждает меня поутру съездить на вокзал и внимательно изучить расписание поездов. Единственный скорый поезд Венеция-Лозанна-Женева отправляется после обеда. Можно ехать иначе – с пересадкой в Милане. Вполне логично предположить, что деловой человек, которому часто приходится ездить по делам службы, чтоб не губить зря время, предпочтет прямой поезд. Хотя не будет удивительно, если деловой человек по пути заедет в Милан…
Но так как я не в состоянии день и ночь торчать на вокзале, то мне имеет смысл опереться на логику. И здесь меня ждет неизящное и на редкость досадное занятие, раз невозможно держать под наблюдением человека, придется следить за поездами.
Дежурство начинается в тот же день. За двадцать минут до отправления я прихожу на перрон, где уже появились группки встречающих миланский поезд. Среди пассажиров, разместившихся в вагонах, Моранди не видно. Не видно его и среди тех, кто с чемоданами и сумками в руках торопливо проходит по перрону. Поезд, прибывший из
Милана, закрывает мне поле зрения – приходится менять перрон. Но Моранди все нет, и поезд отбывает без него.
На другой день все повторяется. С той лишь разницей, что мой наблюдательный пункт переносится к книжному киоску в зал ожидания. Не появляется Моранди и последующие дни, и я с трудом удерживаюсь от того, чтоб не наведаться к проходной «Зодиака» или не заглянуть на террасу «Сирены». Однако искусство ожидания имеет свои законы. Если Моранди уехал каким-то другим поездом, проверкой не установишь, не установишь даже того, что он вообще уехал. Если же он не уехал, можно попасть в глупейшую историю.
Часы и дни, свободные от дежурств на вокзале, тянутся без конца, похожие в своей невыразительности один на другой, а мне приходится слоняться по городу среди туристов. Не понимаю, что влечет сюда эти толпы зевак.
Когда я гляжу, как они текут непрерывным потоком, у меня возникает такое чувство, будто они провожают покойника.
Венеция разрушается. Разрушается вся, медленно и неумолимо, годами – от воды, от этой неубывающей влаги, которой пропитано здесь решительно все.
Может, это от моей серости, но когда я двигаюсь среди этих достопримечательностей, я ощущаю не столько величие прошлого, сколько то, что оно преходяще. Изъеденные сыростью позеленевшие фасады, рассыпающиеся камеи, все в трещинах, готовые вот-вот обрушиться стены, искореженные плиты мраморных полов, качающиеся у тебя под ногами. Разрушение и тлен под умопомрачительно красивой оболочкой, смерть угнездилась в этом прекрасном теле и гложет его изнутри, чтоб оставить один скелет. Словом, меня не покидают «веселые» мысли, вполне отвечающие моему «бодрому» настроению.
На восьмой день моего дежурства на вокзале за проявленное терпение я удостаиваюсь наконец скромного вознаграждения: за пять минут до отхода поезда на перроне появляется Моранди – легкий элегантный чемодан, гордый вид. В своей дурацкой шляпе он вышагивает вдоль состава, словно обходит почетный караул.
Наблюдение на этот раз ведется из буфета. Дождавшись отправления поезда, ухожу, лишь окончательно уверившись, что мой подопечный не спрыгнул в последний момент на платформу. Моранди – ревнивец. А ревнивцы подчас способны на самые подлые выходки.
Дневная жара спала, со стороны Лидо набегает прохладный морской ветер, и, спускаясь по широкой лестнице к Канале Гранде, я вдруг ощущаю радость жизни. У меня легкая походка, ясная голова, а нараставшее в эти дни напряжение постепенно снижается до нормального. У меня теперь нет желания выходить на пенсию, я даже готов ухватить за руки ребятишек, скачущих вокруг продавца мороженого, и, чтоб удержаться от этого, назидательно внушаю себе, что мне уже без малого сорок.
Главное, я снова обрел способность сосредоточиваться, уходить от навязчивых мыслей, приводящих меня в болезненное состояние, отпугивать смутные тени воспоминаний и страхов, которые наступают именно тогда, когда я в них меньше всего нуждаюсь. Иными словами, я готов к предстоящему.
А предстоит мне установить связь с приятельницей
Моранди. Ход мыслей таков: если Моранди оставлен в качестве приманки, то прошедшие без видимых последствий три недели, может быть, убедили кое-кого, что приманка не действует или что действовать ей не на кого.
Уже одно то, что Моранди уехал, подтверждает подобную точку зрения. Что касается женщины, то едва ли она постоянно находится под надзором, и потом, флирт с женщиной любому покажется занятием более невинным, чем неотступное следование за мужчиной.
Большой флирт не мое амплуа, но в силу своей принадлежности к мужскому полу я ориентируюсь и в этом вопросе. Итак, отправляясь по соответствующему адресу, я повторяю про себя намеченный план операции. Адрес этот
– моя находка, приз, полученный за то, что я битых три часа проторчал на набережной Палаццо Дукале в тот вечер, когда Моранди со своей приятельницей отправились в
Лидо. Дама – зовут ее Анна Феррари, как мне походя удалось установить, – живет на Мерчериа, самой оживленной торговой улице города.
До Мерчериа я добираюсь к концу рабочего дня. На узкой длинной улице полным-полно прохожих и зевак.
Здесь нет кафе, и я тоже сперва выступаю в роли прохожего, потом перехожу в категорию зевак. Беглые проверки убеждают меня, что я не являюсь объектом чьего-либо внимания. Вначале я прилежно изучаю ассортимент товаров магазина мужской одежды, потом двух магазинов женской, потом витрины с драгоценностями, парфюмерией и бельем. Время от времени бросаю взгляд на одно из окон дома, старого и потемневшего, впрочем как и все остальные. Это полуоткрытое окно находится на втором этаже, ветер колышет белую занавеску. Можно предположить, что в настоящий момент дама у себя. И что, когда ей осточертеет сидеть дома, она выйдет на улицу.
Второй раз изучаю творения парфюмерии «Жак Фат» и
«Кристиан Диор», пока не замечаю, что окно закрылось.
Немного погодя из дома выходит Анна Феррари в льняном бледно-голубом платье, достаточно коротком и достаточно узком, чтобы не скрывать того, что достойно внимания.
Покачивая бедрами, женщина проходит мимо и, не взглянув в мою сторону, замедляет шаг возле витрин. Эти витрины она наверняка видит не менее двух раз в день, что, однако, не мешает ей с неподдельным интересом задержаться снова то у одной, то у другой. «Совсем испорчена», – говорил Любо. Это не так страшно, если у этой испорченной особы такая соблазнительная внешность. Не высокая и не низкая, не полная и не худая, эта женщина привлекает внимание не только гармонией своих пропорций, но и дисгармонией, в частности размерами своего бюста. Ей, вероятно, все время кажется, что окружающие глаз не в силах оторвать от нее. Даже рассматривая витрины, она не упускает возможности стать так, чтобы подчеркнуть достоинства своей фигуры.
Проследовав мимо магазинов готовой одежды, Феррари останавливается перед витриной с драгоценностями.
Я подхожу к ней. На меня женщина не смотрит. Взгляд ее прикован к лежащему в центре витрины кольцу с большущим топазом.
– Вон тот аметист весьма недурен, – говорю я вполголоса, как бы про себя.
– Топаз куда лучше, – почти машинально возражает женщина и лишь тогда обращает на меня внимание.
Я собираюсь ответить, но в это время у меня за спиной слышится полный радушия мужской голос:
– Анна!
Дама отвечает с тем же радушием:
– Марио!
Марио делает шаг и по-свойски обхватывает ее талию, но она отстраняет его руку, они проходят чуть вперед и, оживленно разговаривая, останавливаются на углу.
Я вхожу в магазин, указываю на кольцо с топазом и деловито спрашиваю:
– Сколько?
Продавец неторопливо достает драгоценность и начинает пространно объяснять ее достоинства.
– Сколько? – повторяю я. – Боюсь опоздать на поезд.
Уезжаю.
Торговец подносит кольцо к свету, чтоб я мог лучше видеть блеск камня, и называет астрономическую цифру.
– Сожалею, – говорю я и собираюсь уходить.
Спустя две минуты я покидаю магазин, заплатив лишь половину названной суммы. Дамы с кавалером на углу не видно. Ускорив шаг, иду в сторону Сан-Марко и обнаруживаю далеко впереди фигуру в бледно-голубом. Женщина одна. Я настигаю ее на самой площади, когда она садится за столик в кафе.
– Разрешите?..
Она поднимает глаза и бросает на меня взгляд лишенный всякой симпатии:
– Опять вы?
– Да. Позвольте…
Женщина с досадой вздыхает:
– Спасения нет от нахалов. Не успела избавиться от одного, а тут уже другой.
Я собираюсь объяснить ей, что она не совсем права, но за спиной у меня слышится новое радушное восклицание:
– Привет, Анна!
– Наконец-то! – отвечает женщина.
Нетрудно догадаться, что это тот, кого она ждала. Молодой широкоплечий смуглолицый красавец. Он ограничивается тем, что окидывает меня пренебрежительным взглядом, после чего садится на свободный стул. Я пересаживаюсь за соседний столик позади кавалера, так чтобы можно было видеть Анну и чтобы Аполлон не видел меня.
Заказав мартини, я созерцаю даму.
Увлеченно беседуя с красавцем, дама делает вид, что я для нее не существую, хотя держит меня в поле зрения, –
наличие лишнего поклонника, несмотря на выказываемую ею досаду, ее не тяготит.
Выпив мартини, я достаю бархатную коробочку с покоящимся в ней кольцом и начинаю небрежно вертеть его в руках. Топаз необычных размеров, он в самом деле очень красив, а сейчас, при дневном свете, кажется особенно привлекательным. Привлекательным для дамы за соседним столиком, разумеется. С того момента, как в моих руках появилось кольцо, Анна обнаруживает все возрастающее беспокойство. Сперва украдкой, потом открыто она бросает через плечо кавалера любопытные взгляды на драгоценную вещицу. Разговор у них явно не клеится. Точнее, он никак не в пользу Аполлона.
– Сегодня не могу, – заявляет Анна.
– Ты же обещала.
– Непредвиденное обстоятельство…
– Разыгрываешь меня…
Наконец кавалер раздраженно бросает на стол скомканный банкнот и уходит.
– Разрешите?.. – повторяю я вопрос, усаживаясь на освободившийся стул.
– Дайте взглянуть, – без лишних слов говорит Анна.
Я подаю ей бархатную коробочку, после чего киваю официанту.
– Вы что пьете?
– То же, что и вы, – отвечает дама, вперив хищный взгляд в камень цвета крепкого чая.
Ответ вселяет надежду на взаимопонимание. Заказываю два мартини.
– Чудный камень, – признает дама.
– На вашей руке он станет еще лучше.
Анна только этого и ждала. Она надевает кольцо на безымянный палец и отдаляет руку, любуясь им.
– Камень действительно прекрасный.
– Как и мои чувства к вам.
– Я не верю во внезапные чувства, – возражает Анна.
Кольцо уже на руке, так что теперь можно и о собственном достоинстве позаботиться. Женщина, пусть даже «совсем испорченная», всегда предпочитает, чтоб ей давали цену выше реальной.
– А мои чувства не внезапные, – возражаю я, подождав, пока официант поставит на стол напитки.
– Знаю, – кивает Анна. – Им уже больше получаса…
– Им уже около месяца.
– О, это что-то новое!
Она выражает удивление совсем как танцовщица из дешевого кабаре; лениво приоткрыв полные губы, показывает два ряда красивых белых зубов.
– Я вас видел в «Сирене». К сожалению, вы были не одни.
– Разве можно побыть одной, когда кругом столько нахалов!
«Скоро месяц, как я брожу по городу в надежде встретиться с вами снова…»
Фраза осталась невысказанной. Излишнее усердие, как я уже говорил, обычно ни к чему хорошему не приводит.
Не стоит без меры гладить ее по головке. Иначе кто знает, в какую сумму может обойтись операция. Поэтому я лишь добавляю:
– А сегодня я вас снова обнаружил…
– Мир тесен, – философски прерывает меня Анна. –
Куда вы намерены меня повести?
– Куда желаете. В «Гранд-отель» или «Эксельсиор»…
Дама одобрительно выслушивает наименования фешенебельных ресторанов и задерживает на мне пристальный взгляд:
– Вы влюбчивы?
Мои колебания длятся какую-то долю секунды.
– Скорее щедр.
Опять улыбка одобрения.
– Мне осточертели влюбчивые глупцы. Стоит уделить чуть больше внимания, и уже становятся навязчивыми.
Совсем как этот шалопай.
– Парень хоть куда, – великодушно говорю я. – Наверно, неплохой любовник.
– Только голова пустая. Как, впрочем, и карманы.
– Так оно и бывает. У хороших любовников обычно нет денег, а те, у кого они есть, плохие любовники.
– Хм, верно, – вздыхает Анна.
Потом останавливает на мне пристальный взгляд.
– Вы имеете в виду себя?
– Это оцените вы, – скромно отвечаю я.
Она бесстыже усмехается и говорит:
– Пожалуй, мы можем идти.
Ужин на террасе «Гранд-отеля» проходит в атмосфере сближающей интимности. Я приятно удивлен, что женщина гораздо лучше владеет французским, чем я – итальянским. Для сентиментальной увертюры обстановка вполне подходяща: серебро и хрусталь, кельнеры в белых смокингах, романтическое отражение огней в темных водах канала, гондолы и нежные песни, от которых гондольеров уже тошнит, но что поделаешь – надо же как-то добывать хлеб.
Анна оказалась гораздо проще, чем я ожидал. Ее прямота граничит с простодушием, кокетство не выходит за рамки терпимого, и если она порой принимает ту или иную позу, показывая, что стоят ее прелести, то делает это ровно в той мере, чтобы не заскучал собеседник.
– Я спросила, не слишком ли вы влюбчивы, потому что у меня есть приятель, – неожиданно поверяет мне Анна свою тайну к концу ужина.
Я даю понять, что в этом нет ничего удивительного, не проявляя интереса к затронутой теме.
– Может, они и забавны, эти мальчики, только женщине приходится думать и о будущем, – продолжает Анна.
– Постараюсь не вносить осложнений в нашу жизнь, –
отвечаю я, поскольку, очевидно, это от меня хотели услышать.
– Мерси.
– Я могу обещать вам только приятные сюрпризы.
Она мило улыбается и выпячивает грудь, давая понять, что в этом отношении и с ее стороны в сюрпризах не будет недостатка.
– И вообще все будет так, как вы пожелаете. Я буду счастлив, если время от времени смогу любоваться вами, когда вы позволите.
– Я сразу поняла, что вы настоящий кавалер, – отвечает
Анна, глядя на меня с задумчивым видом.
Должно быть, в данную минуту под пышной прической в этой изящной головке уже зреет идея тайной связи, которая может оказаться в меру надежной и в меру доходной.
Поздно вечером меня принимают на Марчериа, в уютной квартирке. Полуобнаженная хозяйка обнимает меня красивыми руками и ласкает мой слух нежным щебетом:
– Я хочу, чтобы ты был со мной очень мил. Чтобы ты часто делал мне подарки…
Подарки? Почему бы и нет. Только в разумных пределах. Любая операция требует расходов. Важно, чтобы затраты потом окупились. Анна считает, что вполне окупятся, имея в виду свою женскую стать. У меня по данному вопросу есть свои соображения.
Нельзя не обратить внимания на тот отрадный признак, что мы оба проявляем умеренность в наших отношениях.
Анну, вопреки ее утверждению, что ей всего двадцать, тридцатилетний жизненный опыт, видимо, научил не требовать больше того, на что можно рассчитывать. Что касается моего дела, то у меня тоже есть некоторый опыт.
Поэтому только дня через три я осторожно касаюсь нужной темы.
Эти дни были заполнены до предела. Кроме того, что интересует эротоманов, мы совершали прогулки в Лидо, валялись на пляжах, обедали в роскошных ресторанах,
танцевали под созвездиями парковой иллюминации, дважды ходили в кино и, что обошлось значительно дороже, несколько раз в магазины дамского белья и готовой одежды. Именно дамское белье нас приблизило к теме. Мы сделали покупки, возвращаясь после обеда из ресторана, и, так как жара в это время достигла своего предела, укрылись на квартире у Анны.
Анна, совершенно раздетая, стоит среди множества раскрытых коробок и, примеряя одну вещицу за другой, вертится перед зеркалом, а я курю, вытянувшись на диване, и наблюдаю, как ветерок качает белую занавеску. Я стараюсь не смотреть в сторону зеркала.
– Ты даже не скажешь, что мне больше идет! – капризно замечает Анна, огорченная моим невниманием.
– Тебе все идет. Тебе идет решительно все. Мне только кажется, что твой приятель мало заботится о твоем гардеробе.
– Что и говорить! Так оно и есть.
– В таком случае не понимаю, как ты его терпишь. Наверно, настолько влюблена, что…
Тут я умолкаю, как бы задохнувшись в приступе ревности.
– Влюблена?.. – Анна воркующе хохочет.
– Тогда и вовсе не понятно. Может, я глуп, но мне этого не понять.
– Ох, все вы, мужчины, одинаковы, – вздыхает Анна, расстегивая кружевной бюстгальтер, чтобы заменить его следующим. – Вечно вас гложет ревность. Когда два года назад я познакомилась с Моранди, у него было много денег. А теперь у него их мало. Неужели это так сложно?
– Он переменил профессию?..
– Ничего он не переменил. Но тогда он ездил за границу и ему платили больше. А теперь не ездит – и получает гроши.
Не скрывая досады, она умолкает, затем опять принимается за белье. Я снова разглядываю занавеску. На сегодня достаточно.
Двумя днями позже, после второй разорительной прогулки по Мерчериа, Анна опять стоит перед зеркалом в только что купленном сером платье из кружев.
– Идет оно мне? – спрашивает она, приняв позу из модного журнала.
– Естественно. Тебе особенно идут дорогие вещи.
– Вот, а Моранди этого не хочет понять, – лепечет женщина, принимая другую картинную позу.
– Быть может, и ты этого не понимаешь. Иначе не стала бы так цепко держаться за своего Моранди.
– Он, бедняжка, делает для меня все, что может, – терпеливо заступается за него Анна.
– В том смысле, что бессовестно обманывает тебя.
Раньше получал много, а теперь – мало. И ты ему веришь.
Женщина оборачивается и смотрит на меня с досадой.
Я курю с невозмутимым видом, лежа на диване.
– Не верю, я знаю. Тогда он получал массу денег за командировки, а теперь их нет, командировок.
– Хорошо, хорошо! Дело твое, – примирительно говорю я. – Только не забывай, я тоже имею отношение к торговле. Ни одно предприятие не выдает денег больше, чем это необходимо для поездки. Если у Моранди прежде были деньги, они и сейчас у него есть. Но по мере того как угасают чувства, уменьшается и щедрость.
– Глупости! – топает ногой Анна. – Моранди от меня без ума. Без ума, понимаешь! Порой он приводит меня в бешенство своей ревностью. Если бы его щедрость зависела от чувств, он бы озолотил меня. Только не может он…
– Ясно: больше не посылают в командировки, – насмешливо замечаю я, пустив к потолку струю дыма.
– Вот именно, – бросает женщина, раздраженная моим упорством. – Потому что его командировки были необычные. Он все больше туда, за «железный занавес», ездил… Понял?
Я, разумеется, понял, однако продолжаю поддразнивать ее в надежде услышать все, что она знает.
– Возможно, так оно и есть, – заключаю я с ноткой недоверия. – Но в таком случае не могу понять, какой тебе прок от этого человека.
– Проку никакого. Просто я ему обязана. Два года назад, когда Моранди нашел меня, я работала манекенщицей в третьеразрядном доме моделей и моего заработка хватало только на чулки и бутерброды.
– Хорошо, хорошо.
– И потом, он мне обеспечивает какой-то минимум. Не говоря уже о том, что в любой момент его могут снова послать…
– Хорошо, хорошо.
– Тогда как ты – иностранец. Таить не стану, ты для меня большая роскошь, но сегодня ты здесь, а завтра возьмешь да исчезнешь…
– Я говорю тебе, что буду наезжать сюда – сделки.
– Значит, мы сможем часто видеться. Только Моранди…
– Хорошо, хорошо, – твержу я. – Не думай, что я стану требовать невозможного. Я ведь обещал…
– Тогда прекрати эти сцены ревности. С меня достаточно пыток Моранди.
После этих слов наступает успокоение, и Анна подзывает меня, чтоб я расстегнул ей платье.
Все это не так плохо, однако не выходит за рамки того, что я уже знаю. Временно либо навсегда Моранди изъят из обращения. Какие задачи он выполнял, сколько раз и, самое главное, кто отправлял его – эти вопросы остаются открытыми. Что Анне известно, она сама сказала. Дополнительные, как бы случайные и совсем невинные вопросы, подкинутые в ходе разговора – с кем Моранди поддерживает связи, чем он занимается в Женеве, – ничего, в сущности, не дали. Несколько малозначительных подробностей, в целом отвечающих характеристике, которую дал
Любо, – кутила, вертопрах, старый волокита, воспылавший чувством к довольно нещепетильной и весьма суетной приятельнице, к тому же не отличающейся верностью.
И все-таки успех налицо. Все это может очень пригодиться. Только бы не случилось какого подвоха и не оборвалась установленная связь.
На седьмой день нашей любовной эпопеи, когда мы вечером возвращаемся в квартиру на Марчериа, Анна предупреждает меня, что на горизонте может появиться
Моранди.
– В Женеве он обычно задерживается не больше недели и по возвращении сразу же идет сюда.
К вашему, мол, сведению. Однако то, что сама она никак не обеспокоена грозящей опасностью, представляется мне весьма странным.
– А что, если Моранди нас накроет?
– Ты воспользуешься черным ходом.
– Значит, придется всю ночь быть настороже?
– Глупости. Если до десяти его не будет, то он вообще не придет.
На всякий случай Анна показывает мне коридорчик, ведущий к запасной лестнице, чтобы в случае чего мне было легче ускользнуть. Женщине не пришлось бы брать на себя такой труд, если бы она знала, что несколькими днями раньше, когда она уходила за покупками для наших поздних завтраков, я уже успел обследовать эти места.
Анна снимает платье, то самое, кружевное, и надевает халат. Затем направляется в ванную. В этот момент трижды, притом весьма настойчиво, звонят.
– Моранди, – спокойно говорит Анна. – Ступай.
– Ты не открывай, не убедившись, что я ушел.
– Знаю, – кивает она. – Иди.
Что я и делаю. Но, очутившись на лестнице, я не спускаюсь вниз, я задерживаюсь у двери, чтоб выполнить пустяковую операцию со звонком. Видимо, этот звонок висит здесь без дела с давних пор, потому что пришел в негодность, и вот настало время, когда он снова сможет сослужить службу, хотя и в другом качестве. Корпус звонка укреплен в коридорчике, у самой двери в спальню. В свое время в его металлическое полушарие я вставил крохотный, но довольно чувствительный микрофончик, подсоединив его к проводку. Остается только соединить наружный конец провода с мембраной, чтобы можно было участвовать в предстоящем разговоре, по крайней мере в качестве слушателя. Именно этой операцией я и занялся.
– Тут кто-то был… – слышу тихий, но достаточно ясный голос Моранди.
– Тут и сейчас кое-кто есть… – отвечает голос Анны.
– Я хочу сказать, кто-то посторонний. Это запах не твоих сигарет.
– Верно. Я перешла на «Кент».
– У тебя на все готов ответ, – снова звучит недовольный мужской голос.
– Так же как ты по всякому поводу готов затеять скандал. У тебя, наверно, опять неприятность…
– Неприятностей хоть отбавляй.
Наступает пауза.
– Ну рассказывай же, чего ждешь! – слышится голос
Анны. – Я ведь знаю, пока ты не выскажешься, настроение у тебя не улучшится.
– Полная неопределенность. У меня такое чувство, что надо мной сгущаются тучи… Что меня подозревают… Что за мной следят…
– Что у тебя нервы не в порядке и тебе мерещатся призраки… – дополняет женщина.
– Вовсе не призраки. У меня большой опыт в этих делах. Я только никак не пойму, откуда все это исходит.
– От тебя самого, и больше ниоткуда. Если ты с кем-нибудь не делился…
– Я – нет. Но, может, ты?
– Глупости, – отвечает Анна.
Однако голос ее звучит не вполне уверенно.
– Ты так много болтаешь со своими приятельницами и парикмахерами, что, пожалуй, сама не в состоянии припомнить, что говорила и чего не говорила.
Анна молчит.
– Отвечай же! Если проговорилась, лучше сознайся.
Имей в виду, те шутить не станут.
– Кто «те»?
Я весь обращаюсь в слух, но Моранди сердито бормочет:
– Неважно кто. Важно, что шутить не станут. Да будет тебе известно, Конти пристрелили не ради ограбления, а за то, что болтал.
– Почему ты мне раньше не сказал?
– Об этом я узнал только в Женеве. И не воображай, что, если то, что случилось с Конти, случится со мной, тебя пощадят.
Снова наступает пауза. Потом слышится голос Анны, тихий, изменившийся:
– Карло, я боюсь…
– Чего ты боишься? Говори, что ты натворила?
– Ничего не натворила. Но тут последние дни около меня увивался какой-то тип… Я, конечно, отшила его, но он увивался…
– Что за тип?
– Какой-то бельгиец… выдавал себя за торговца… и все о тебе выспрашивал… Я, конечно…
– Как его зовут, твоего торговца? Где он живет? – грубо прерывает ее Моранди.
Я не дожидаюсь ответа. Пора уже посмотреть, куда ведет эта запасная лестница.
Если пессимисты всегда видят впереди самое плохое, я от них не далек. Несмотря на то, что мои отношения с
Анной складывались весьма идиллично, я еще позавчера рассчитался с гостиницей и отправил свои вещи на вокзал, в камеру хранения. Таким образом, единственное, что мне остается сделать, – самому отправиться на вокзал, чтобы сесть на первый же поезд, отбывающий в западном направлении.
Час спустя я дремлю в пустом купе, покачиваясь под мерный, убаюкивающий перестук колес. Дремлю, просыпаюсь и снова дремлю, то пытаясь собраться с мыслями, то стараясь их рассеять, ведь теперь все равно ничего не поправишь. Неприятно лишиться взлетной дорожки. Но если она единственная, то это уже не просто неприятность, а катастрофа.
Мне необходимо обсудить все с самого начала. Не сейчас. Завтра или позже, но необходимо. И найти выход.
Сменить местожительство. Сменить паспорт. Или, быть может, сменить голову.
3
Напротив меня в черном кожаном кресле сидит генерал.
Справа и слева от него разместились полковник и мой начальник. Все трое смотрят мне в лицо. Их взгляды и затянувшееся молчание угнетают меня.
– Хорошо, – произносит наконец генерал, как бы прерывая какую-то свой мысль. – А сам-то ты как оцениваешь свою работу?
– Оценка ясна, – отвечаю. – Оценка совсем плохая.
Однако я включился в действие в тот момент, когда операции грозил провал, и я мог сделать только то, что сделал.
– Ты хочешь сказать, начни ты сначала, ты бы действовал точно так же? – спрашивает генерал.
Я молчу. Генерал посматривает на моего начальника.
Тот усаживается поудобнее на стуле, потом изрекает:
– Ты поступил точно так же, как Ангелов. Повторил его ошибку.
– А как я должен был поступить?
– Ждать. Ждать еще.
«Ждать? Чего? Второго пришествия?» – в сердцах возражаю я про себя, но вслух ничего не говорю.
Генерал бросает взгляд на полковника, который, склонив голову, барабанит прокуренными пальцами по обитому красным сукном столику.
– Если учесть ситуацию, создавшуюся после провала, я лично одобряю попытку Боева установить связь с Анной
Феррари, – подает голос полковник.
Вступление вселяет надежду. Но только в того, кто не знает полковника. Теперь он поднимает свой желтый указательный палец и направляет его мне в грудь.
– Но зачем тебе понадобилась пускаться в расспросы относительно Моранди?
– Как это «зачем»? – не в силах сдержаться я.
– Очень просто, зачем? Чтобы услышать то, что ты и без того знаешь? Или чтобы связи лишиться?
Я молчу.
– Второе. К чему эта самодеятельность со звонком?
– Даже при наличии самой совершенной аппаратуры я бы не сумел услышать больше того, что услышал, воспользовавшись звонком, – бормочу в ответ.
– Верно. Но ведь это годится только на один раз.
Он замолкает, как бы для того, чтобы я мог сообразить, куда он метит, потом продолжает:
– Тебе следовало установить эту связь спокойно, без всякой спешки, не вызывая подозрения. Чтобы этой связью можно было пользоваться длительное время. Окопаться как следует. Обеспечить для себя безопасное и вполне надежное устройство для подслушивания. Таких устройств сколько угодно даже в магазинах. И – ждать!
Все мне твердят: «Надо уметь ждать!» Как будто я не знаю этого лучше, чем любой другой. А может, все-таки знаю недостаточно?
– Ну а теперь? – генерал смотрит на меня в упор.
– Теперь мне потребуется новое имя. Словом, легенда три.
– Ты знаешь, Боев, чего стоит создать легенду, – мягко говорит генерал.
И в этой реплике собрано все: и оценка моей прежней работы, и горечь неудачи, и предупреждение относительно моих дальнейших действий.
Он на минуту замолкает, словно задумавшись над чем-то, не имеющим отношения к разговору, потом встает.
– Ладно. Легенда три.
Резким движением я отбрасываю одеяло и соскакиваю с кровати. Чтобы размяться, делаю несколько упражнений.
Минутная гимнастика. Потом бегу в ванную и становлюсь под душ. А дальше это муторное дело – бритье.
Сцена в генеральском кабинете целиком составлена из моих воспоминаний и представлений. Не сомневаюсь, если бы она состоялась на самом деле, то произвела бы на меня еще более тягостное впечатление. Неудобных вопросов было бы куда больше. Да и резких характеристик. Что ж, видимо, я того стою.
Я недооценил Анну. Не в смысле ее интеллекта. Ее привязанность к Моранди и инстинкт самосохранения –
вот чему я не придал должного значения. Не ожидал, что
Моранди возьмет ее на испуг. Да еще так быстро. С его стороны было глупо и неосторожно посвящать ее в тайну убийства Конти. Но эта глупость пошла ему на пользу. По крайней мере сейчас.
Заказав по телефону завтрак, я начинаю одеваться. В
приоткрытую балконную дверь задувает свежий утренний ветерок. Небо по-весеннему голубое, хотя уже конец июня.
И внизу, за зелеными шарами подстриженных деревьев, тоже проступает голубизна. Только это уже не небо, а
Женевское озеро. Приехал я рано утром, два часа назад, но вздремнуть мне не удалось. Поэтому недосып компенсирую солидным завтраком. Затем запираю дверь на ключ, спускаюсь вниз и с деловым видом прохожу по залу, но человек в окошке замечает меня.
– Будьте любезны, оставьте ваш паспорт…
– Я иду снимать деньги со счета, – говорю. – Когда вернусь, оставлю.
Человек уступчиво кивает головой. Снимать со счета деньги – это всегда внушает уважение.
В первой же табачной лавчонке приобретаю план города, наспех просматриваю его и направляюсь по ближайшему мосту на противоположный берег. Гранд-рю, вопреки своему названию, оказалось узкой, темной улочкой, круто поднимающейся в старую часть города. Вход в интересующий меня дом тоже узкий и темный. По стершимся каменным ступеням иду на второй этаж, нахожу в полумраке табличку «Георг Росс» и дважды нажимаю на кнопку звонка. Мне открывает пожилой приземистый человек в халате. У него большая голова на тонкой птичьей шее.
– Что вам угодно?
– Господин Георг Росс?
Человек кивает утвердительно.
– Мне бы хотелось узнать, здесь находится детская больница?
При иных обстоятельствах Георг Росс после такого вопроса послал бы меня к чертовой бабушке. Но человек опять кивает головой и, ничуть не смущаясь, поясняет.
– Да. Уже три месяца. Проходите.
Я перескакиваю мрачную прихожую и попадаю в гостиную былых времен – мебель неведомо какого стиля со стертой позолотой, огромное зеркало на камине, темное и позеленевшее, как стоячая вода.
– Вам повезло. Я только что сварил кофе, – добродушно заявляет хозяин, указывая мне на кресло.
– Не беспокойтесь ради бога…
Но господин Росс направляется к двери, чтоб через несколько минут появиться снова, с подносом в руках.
– Моя служанка приходит только к десяти, так что позвольте мне за вами поухаживать…
Позволяю. Но, желая напомнить, что я пришел сюда не затем, чтобы за чашечкой кофе поговорить о погоде, добавляю:
– Вы, наверное, догадываетесь, что я к вам от Мерсье.
Он прислал меня за диагнозом.
– Знаю, знаю, – кивает человек. – Пейте кофе, а то остынет.
Любезность дело хорошее, только она отнимает подчас массу времени. Я покорно выпиваю кофе, а несколько позже и коньяку, аромат и вкус которого вполне отвечает внушительному созвездию на этикетке. Затем хозяин снова исчезает и после продолжительного отсутствия приносит мне пакет.
Вскрываю. В нем чековая книжка, несколько документов, деньги, перстень с монограммой и паспорт на имя
Мориса Роллана родом из Швейцарии, по профессии торговец, а внешне очень похож на меня. Легенда три.
– Чем еще могу быть вам полезен? – услужливо спрашивает человек, глядя на меня своими маленькими светло-голубыми глазами.
– Пустой конверт, пожалуйста.
В конверт я кладу паспорт Альбера Каре вместе с прочими документами на то же имя, запечатываю с помощью услужливо предложенного мне сургуча и прикладываю сверху перстень с монограммой.
– Это для Мерсье, – предупреждаю я, протягивая пакет.
Кивнув, хозяин уносит пакет и снова долго не появляется. Тайник его, должно быть, такой же старомодный, как он сам.
– Чем еще могу служить? – спрашивает он, усаживаясь в кресло.
– Вы, кажется, нотариус?
– Бывший! – поправляет меня господин Росс. – Теперь я всего лишь рантье.
– Вы могли бы дать мне один совет? Это, конечно, не входит в ваши обязанности…
– Ничего. Говорите.
Говорю. Хозяин внимательно выслушивает меня.
– Чудесно! – восклицает он, когда я умолкаю. – У меня кое-что есть на примете, это именно для вас. Такое не каждый день случается. Вам придется зайти к моему приятелю. Его зовут Клод Ришар. Замечательный человек, но неудачник. Я дам вам письмо для него и возьму на себя все формальности…
– Ни в коем случае! – останавливаю я его. – Вы только вкратце скажите мне, что к чему.
Господин Росс несколько разочарован тем, что ему не удастся хотя бы на несколько дней вернуться к своей профессии, однако он не настаивает и терпеливо излагает мне суть дела. Потом все так же любезно провожает меня.
– Скажите, – останавливает он меня в прихожей, – будет война?
Хозяин вообразил, что, поскольку я занимаюсь секретной работой, все тайны мира у меня в кармане.
– Война уже идет, – усмехаюсь я.
– Я имею в виду горячую.
Господин Росс смотрит на меня своими бледно-голубыми глазами так доверчиво, что мне хочется сказать ему что-нибудь утешительное. К сожалению, никакими утешительными сведениями я не располагаю, поэтому бормочу:
– Насчет горячей не знаю. Я, как вы можете догадываться, больше по части холодной. – И чтобы поскорее выскользнуть на улицу, добавляю: – Вы живете в стране, которой эти проблемы довольно чужды.
– Я жил в стране, где вся моя семья погибла, – отвечает старик.
И открывает мне дверь.
Предприятие «Хронос» ближе к Лозанне, чем к Женеве, и, поскольку встреча, назначенная мне владельцем предприятия, состоится только под вечер, у меня есть возможность окинуть беглым взглядом родные места. Потому что
Морис Роллан, сиречь я, родом из Лозанны.
В городе с крутыми, раскаленными солнцем улицами, густо движущимися автомобилями и многолюдьем шумно, однако я приехал сюда не ради удовольствия и не ради того, чтобы вспомнить свое детство. Коль уж пожаловал в эти места под чужой личиной, то не лишне иметь зрительные представления о той обстановке, в которой эта личина могла передвигаться, потому что мало ли какой вопрос могут тебе задать. Так что я терпеливо и добросовестно обозреваю «родные места», одновременно освежая в памяти многочисленные детали легенды.
В пять часов сажусь в обратный поезд, на второй остановке выхожу и без особого труда отыскиваю предприятие. Это современное фабричное здание с большими окнами, еще два здания поменьше, в альпийском стиле, и гараж – всюду чистота, словно перед вами какой-нибудь дом отдыха, затерявшийся в сосновом лесу. Человек, к которому меня вводят, немного старше меня, сухой и отличается явно повышенной подвижностью. Он прекращает свою прогулку между окном и дверью, длившуюся неизвестно сколько времени, хватает меня за руку, сжимает ее крепче, чем следует, предлагает мне кресло и садится сам, однако ему, как видно, нелегко пребывать в этом состоянии относительного покоя.
– С чего начнем?
– Может быть, с конца, – говорю в ответ. – Я уже достаточно осведомлен о вашем предприятии. Единственное, чего я не знаю, – это цена.
– Цена, цена! – ерзает в своем кресле господин Ришар. –
Цена – последнее дело! Все, что вы тут видите, дорогой господин, – это целый мир, у него своя жизнь, своя логика… мир, созданный мною, плод многих идей и долгих поисков, не говоря уже о том, что он стоил немалых жертв.
– Не сомневаюсь…
Он встает, делает несколько шагов в сторону двери, потом резко оборачивается ко мне.
– Цена! Цена – это функция реальности, денежный эквивалент данного…
– Хорошо, – говорю. – Покажите мне это данное. У
меня достаточно времени…
– Сколько? Полчаса, час?
– Сколько пожелаете, – успокаиваю я его.
Однако господин Ришар не успокаивается. Наоборот, с этого момента начинает бить ключом вся его энергия. Он устремляется к несгораемому шкафу, выхватывает из него какие-то бумаги, тут же звонит секретарше, чтобы нашла ему другие, раскладывает передо мной планы и счета, размашисто описывает эллипсы своей костлявой рукой, бегает вокруг моего кресла, низвергая на меня водопад слов. Потом хватает меня под руку, тащит во двор и, приказав зажечь свет на уже опустевшем предприятии, начинает показывать мне один цех за другим, станок за станком, вдаваясь при этом в такие детали, что у меня в полной мере восстанавливается головная боль, изводившая меня в Венеции. А под конец, когда весь производственный цикл уже показан мне до последних мелочей, мы снова возвращаемся в кабинет и снова у меня перед глазами мелькают планы, счета, накладные.
Словесный поток, которым меня обдает Клод Ришар, не лишен интереса и здравого смысла. Скверно другое: когда человек считает себя гением, а своего собеседника –
идиотом, он становится нестерпимо обстоятельным. А вся история «Хроноса» вкратце сводится к следующему.
Исходная позиция господина Ришара покоится на наблюдении, что хорошие часы очень дороги, а дешевые –
плохи. В результате длительных и, надо признать, умелых вычислений он приходит к выводу, что с помощью ультрасовременной техники, перейдя на совершенно новые методы организации труда, можно наладить производство часов, которые по своему качеству смогут конкурировать с наиболее известными марками, а по цене будут лишь немного дороже дешевой продукции массового потребления.
Никакой особой философии в этом нет. Но самое примечательное то, что Ришар действительно сумел реализовать свой план и наладить производство. На заводском складе уже лежит в отличной упаковке солидная партия точных и изящных хронометров – притом нескольких моделей, – готовая для отправки. Только вот отправка пока откладывается и едва ли скоро состоится.
Как это нередко случается с гениями, господин Ришар предусмотрел все до последней мелочи, кроме одного: конкуренцию могущественных фирм. Редкий специалист в области техники, он оказался полным дилетантом в области торговли. Акулы-промышленники стакнулись с акулами сбыта и, нисколько не интересуясь качеством часов фирмы «Хронос», опустили перед ним барьер. Клод
Ришар оказался на грани банкротства.
И в тот самый момент, когда Клод Ришар осознал, что ему грозит банкротство, акулы неожиданно сказались золотыми рыбками; они заявили новичку, что готовы купить у него предприятие по себестоимости. Чтоб он мог спасти свою шкуру. Однако новичок и в этом случае оказался несговорчивым. Господин Ришар относится к той категории людей, у которых ожесточение, достигнув определенного градуса, способно заглушить здравый рассудок. Он не прочь продать предприятие, ибо видит в этом единственный выход из создавшегося положения, но продать его своим убийцам наотрез отказался. Решил дожидаться других клиентов. Но другие не объявлялись, потому что любой другой, окажись он на месте Клода Ришара, разделит его участь. Но вот наконец к нему приходит какой-то глупец, невежда и спрашивает о цене.
– Цена?! – восклицает хозяин где-то около девяти часов вечера. – Вы теперь сами можете иметь представление о цене. По самым скромным подсчетам, цена должна быть никак не ниже…
И он называет совсем нескромную, с моей точки зрения, сумму.
– Документы не дают вам основания называть подобную цифру, – коротко возражаю я. – Все расходы, включая зарплату…
– А расход времени? – негодует господин Ришар. – А во что обошлись идеи, находки, бессонные ночи, расшатанные нервы? Не станете же вы определять стоимость предприятия по количеству израсходованного цемента, как не станете оценивать себя по количеству килограммов мяса, из которого вы состоите. Все, что вас тут окружает, дорогой господин, – это живой организм, это пусть небольшой, но целый мир, который, да простит меня господь бог, куда совершеннее большого…
У этого человека незаурядные позиции в области ультрасовременной техники; что же касается красноречия, то он остановил свое развитие где-то на уроке о Цицероне.
Кроме того, он не подозревает, что о его затруднениях мне известно гораздо больше, чем можно ожидать.
– Они вас съедят, – спокойно говорю я. – Подождут еще месяц-два, а потом натравят на вас банки. Пока вас лишили только кредита. Завтра последует новый нажим – от вас потребуют возврата средств. Объявят вас банкротом и разграбят ваш маленький мирок до основания, не заплатив даже за кирпичи, из которых он построен.
– А вы желаете меня спасти! – нервно ощеривается
Ришар. – Ради того, чтобы спасти меня от их зубов, готовы сами меня проглотить! Ах, как трогательно!..
– Послушайте. Я не филантроп и пришел сюда, разумеется, не затем, чтобы кого-то спасать. Но обстановка такова, что если вы будете поуступчивей, то действительно можете спастись…
– А вы тем временем принесете себя в жертву…
– В каком-то смысле – да, – киваю я. – Во всяком случае, это не исключено. Вы свое определенно получите, я свое – возможно, ведь я иду на риск.
– Как только вы решаетесь?
– Решаюсь, потому что мой капитал куда солидней вашего. Если не интеллектуальный, то финансовый, во всяком случае. Капитал, который позволит выдержать бойкот год, два, а то и больше.
– Тогда давайте приличную цену. Дайте цену, какую я прошу. Она разумна и вполне умеренна для обеих сторон.
– Она станет умеренной после того, как вы сбросите процентов тридцать. Эта уступка на тот риск, которому я себя подвергаю.
– Этому не бывать!
– Я говорю не ради того, чтоб поторговаться, нет – на другое я не соглашусь.
– Этому не бывать!
Пожав плечами, я встаю. У меня болят колени, голова –
тоже.
– Дело ваше. Подумайте хорошенько. Если я вам понадоблюсь, у вас есть мой телефон.
– Да вы что, глухой! – взрывается Ришар. – Вам сказано: этому не бывать!
То, что он так горячится, неплохой признак.
– Я ведь тоже сказал вам: это предел моих возможностей. И еще одно: не слишком тяните с ответом. Я веду переговоры по поводу другой сделки, не столь соблазнительной, зато более надежной.
Хозяин раскрывает рот, чтобы ответить на этот раз, вероятно, бранью, но я жестом останавливаю его.
– Я больше не намерен ни приходить, ни настаивать.
Помните, однако, вам представляется единственная возможность не только восстановить свой капитал, но и показать язык шантажистам от крупных фирм.
После этих слов я ухожу, чтобы он мог спокойно взвесить последний мой довод. Впрочем, для такого человека, как господин Ришар, понятие «спокойно» весьма относительное.
В свете моих будущих планов покупка предприятия
«Хронос» представляется мне делом весьма удобным.
Между прочим, и в том отношении, что, если операция не увенчается успехом, внушительную сумму, израсходованную на эту сделку, всегда можно восстановить. «Хронос» – дело стоящее. Однако господин Ришар не дает о себе знать ни на другой день, ни на третий. Может быть, «этому не бывать» – действительно последнее его слово. Или он ждет, чтоб я к нему пришел. Что ж, пускай себе ждет. Я
возьмусь и за другую сделку. Важно войти в роль.
Поскольку я еще не вошел в роль, то использую свободное время для изучения города, а заодно присматриваюсь к фирме «Зодиак». Расположенное на одном из центральных бульваров здание фирмы внушает уважение уже своим массивным фасадом. Моя задача состоит в том, чтобы каким-то образом проникнуть за этот фасад. Тогда я снова смогу делать ставку на Моранди.
Быть может, некоторым это покажется глупым – ради какого-то Моранди покупать целое предприятие. Однако все выглядит в ином свете, если учесть, что ради этого
Моранди было организовано сразу два убийства.
Сведения, полученные от Анны, кроме фактов известных, а также не имеющих особого значения, обнаруживают весьма важное обстоятельство: шпионские функции Моранди связаны с его служебными функциями. Деловые командировки плюс шпионаж. Для меня это звучит несколько иначе: «Зодиак» плюс ЦРУ, и если тут замешана не сама фирма, то какая-то важная персона из ее руководящего состава.
«Ночь – добрая советчица», – гласит поговорка. Поэтому я не особенно удивляюсь, когда господин Ришар спустя три дня звонит мне рано утром, чтобы спросить, не смог бы я зайти к нему в «Хронос». В тот день, к обеду, после трех часов словесных фейерверков, чрезмерной жестикуляции и лихорадочной беготни по кабинету владелец предприятия сдает позиции. Отпраздновать капитуляцию решает в ресторане «У трех бочонков», однако побежденному пиршество не доставляет удовольствия, и потому он, вместо того чтоб поглощать изысканные, блюда, жует свои бесчисленные фразы о явных и скрытых преимуществах бесподобной фирмы «Хронос».
Я слушаю его терпеливо, можно даже сказать, внимательно – ведь как-никак, с этого момента знать тонкости ремесла мне прямо-таки необходимо. Лишь когда подали кофе, я, улучив момент, прерываю оратора:
– Запомните вашу мысль… Мне бы хотелось сделать вам одно предложение, только что пришедшее мне в голову: вы бы не согласились взять на себя руководство
«Хроносом» в качестве директора? Я хочу сказать, на то время, пока вам не подвернется новое дело.
– Меня больше никогда не привлечет никакое новое дело, – возражает господин Ришар; при этом он делает такой категорический жест, что опрокидывает чашку. – Я
не желаю состязаться с этими гангстерами…
Гангстеры – одна из любимых его тем, поэтому я спешу предупредить тирады против преступного мира:
– В таком случае?
– Я согласен, – резко отвечает господин Ришар. – После покупки «Хроноса» эта ваша вторая разумная идея. Потому что, простите меня, дорогой, если предприятием начнете заправлять вы, то мне уже виден его конец. Не думайте, что, если вы с детства носите ручные часы, этого достаточно, чтобы вы могли причислить себя к асам часового производства.
Неверно, что я с детства ношу ручные часы. Появление у меня часов связано с моей первой зарплатой. Это был огромный будильник с картонным циферблатом и приглушенным звонком, напоминающим шум дрели. А в остальном суждение Ришара не лишено оснований.
В момент расставания новоиспеченный директор доверительно сообщает мне недружелюбным тоном:
– Нанося мне удар, вы воспользовались самым грязным приемом – соблазнили меня тем, что я смогу показать акулам язык. Именно ради того, чтоб показать им язык, я и остаюсь в «Хроносе». И покажу, поверьте мне.
Я бы не прочь в это поверить, но не решаюсь… В этом мире акул сардина обычно выступает в роли закуски. Но подобных вещей вслух не говорят. Особенно в присутствии сардины.
Раз у меня теперь есть директор, надо бы подыскать и секретаршу. Владельцу предприятия не пристало самому звонить кому бы то ни было и назначать встречи. Не говоря уже о том, что, возникни необходимость настрочить на пишущей машинке деловое письмо на французском, я бы оказался в тупике. А пока что меня интересует одна-единственная встреча – с директором предприятия
«Зодиак», и в роли моей секретарши выступает гостиничная телефонистка за скромное вознаграждение чистоганом.
– Господин коммерческий директор сможет вас принять завтра, между двенадцатью и часом, – сообщает мне телефонистка.
Как ни велико мое невежество в этих делах, слова «между двенадцатью и часом» достаточно ясны, чтобы омрачить мою радость. Вероятно, в этот приемный час директор пускает в свой храм всех подряд. Иными словами, владельцу «Хроноса», этой будущей славе пяти континентов, ноль внимания.
Выходит, меня уже знают. На другой день я появляюсь в установленное время в приемной директора, там полным-полно народу. Вполголоса сообщаю секретарше свое имя, поскольку заказанные третьего дня визитные карточки еще не готовы. Та кивает мне на свободный стул.
Закуриваю и окидываю взглядом присутствующих. Ничего достойного внимания, если не считать соседку слева. Слева
– это не плохо. Ближе к сердцу.
Женщина заметила, что на нее обратили внимание –
такие вещи женщины всегда замечают, – но демонстративно уткнула нос в «Кинообозрение». Меня это не особенно огорчает.
Стол секретарши находится между двумя дверями; за одной, если верить табличкам, директор, за другой – его помощник. Время от времени из той или другой двери кто-нибудь выходит, после чего на столе звонит телефон, секретарша выслушивает распоряжения, машинально произносит слово «да, ясно» и называет имя счастливца.
Прием идет в приличном темпе, так что к часу дня здесь остается только нас двое – я и моя соседка слева.
Женщина она заметная, без излишней эффектности, роста почти моего, крупных форм, что, на мой плебейский вкус, не такой уж большой недостаток; она по-прежнему не обращает внимания на мои взгляды, лишь время от времени меняет положение красивых ног.
Женщина поглощена «Кинообозрением». Но вот пробило час. Она закрывает журнал и обращается к секретарше:
– Вы не могли бы напомнить обо мне?
– И обо мне, – говорю я.
Девушка за столом сочувственно смотрит на нас, колеблется какое-то время, потом стучится в дверь помощника, входит и через минуту возвращается.
– Ждать не имеет смысла. Место уже занято, – сообщает она.
– Как же так, вчера мне сообщили, чтобы я сегодня пришла…
Девушка пожимает плечами и заглядывает в комнату шефа.
Второй сюрприз для меня:
– Господин директор очень извиняется, но у него посетитель, а через пять минут он должен присутствовать на важном обеде. Поэтому он предлагает вам прийти завтра в половине одиннадцатого.
Это все же лучше, чем приходить в приемный час. Нет худа без добра.
– Не могу ли я зайти на минутку к господину помощнику? – спрашивает красавица соседка.
Я ухожу, не дождавшись ответа, тем более что он известен. Медленно спускаюсь по лестнице – торопиться некуда. Меня нагоняет моя бывшая соседка.
– Вы рассчитывали на секретарское место? – сочувственно спрашиваю я.
Кивнув головой, она продолжает спускаться, намереваясь обогнать меня. Этого, однако, не происходит, так как я успел уловить ритм ее шагов.
– Вы огорчены? Место секретаря могу вам предложить я.
– Слишком затасканный прием, – сухо отвечает женщина.
– Тогда позвольте предложить вам вместе пообедать.
– Тоже не оригинально, хотя более реально.
– Пожалуй.
Она окидывает меня взглядом, словно колеблется.
– Только предупреждаю, я не в настроении. Так что не удивляйтесь, если и ваше настроение окажется испорченным.
– Об этом не беспокойтесь, – отвечаю я, и мы направляемся к отелю.
Не помню, говорил я, нет ли, но отель «Регина», где я остановился, вполне соответствует моему положению, то есть не слишком роскошный и довольно хороший. То же можно сказать и о ресторане. Умеренная изысканность обстановки – небольшой зал, обои бледных тонов, зеркала и ослепительная белизна скатертей – действует умиротворяюще. Однако обед действительно начинается скучновато. И все же я не спешу делать на руках стойку с целью оживить свою партнершу. Если у человека хандра, дай ему намолчаться вволю – таков мой девиз.
То, что я не ухаживаю за красоткой, отчасти успокаивает ее, отчасти разочаровывает. Она даже украдкой бросает на меня вопросительные взгляды, надеясь услышать хоть что-нибудь. Нарушаю молчание лишь между рыбой и жарким.
– И все-таки мое предложение не пустые слова.
– А что вас побудило ни с того ни с сего обратиться именно ко мне? – спрашивает женщина, точно в соответствии с этикетом положив на тарелку вилку и нож.
– Случай.
– Случай может оказаться плохим советчиком, – предупреждает она.
– Не беспокойтесь, у меня безошибочная интуиция, –
нахально отвечаю я, потому что, насколько мне известно, мужчина, у которого была бы безошибочная интуиция в отношении женщин, еще не родился.
Кельнер приносит красное вино и открывает наполненную до половины бутылку с белым. Это тоже этикет.
Потом освобождает на столе место и подает мясо.
Заканчиваем обед молча. После мороженого я возвращаюсь к основной теме:
– Вы мне не ответили…
– Так же, как и вы. Не могу понять, почему вы обратились именно ко мне.
– Из-за вашей фигуры.
Она едва заметно улыбается.
– Насколько я вас поняла, вы ищете секретаршу…
– Именно. И я не люблю, чтобы секретарши садились мне на колени, как иной раз можно видеть на карикатурах.
Полагаю, что при вашей комплекции риск исключается.
– Почему? – смеется она. – Напротив, риск увеличивается, вашим коленям несдобровать.
Она продолжает смеяться, картина, которую она, вероятно, себе представила, развеселила ее, а смех преобразил. Только что у нее было красивое, но усталое лицо зрелой женщины, сейчас передо мною добрая шаловливая девушка.
Смех внезапно обрывается, и иллюзия исчезает. Я снова вижу даму с пристальным взглядом и недоверчиво поджатыми губами.
– А что у вас за предприятие? – спрашивает она.
– «Хронос», часовой завод.
– Не слышала о такой фирме.
– Есть люди, которые и про «Омегу» не слышали. Но от этого часы фирмы не страдают.
– Почему вы обижаетесь? Ничего плохого я не сказала.
– Я вовсе не обижаюсь. Кофе будем пить?
Она кивает.
– С коньяком?
– Почему бы и нет?
Наступает пауза.
– Вы регулярно заключаете сделки с «Зодиаком»? –
спрашивает женщина, отпив глоток кофе.
– Надеюсь, что регулярно… – следует мой уклончивый ответ.
– Солидная фирма.
– Верно. Только солидные фирмы довольно тяжеловесны как партнеры.
– Как и секретарши той же весовой категории. Кстати, на какое жалованье я смогла бы рассчитывать у вас?
– Такое же, какое вам платили бы в «Зодиаке».
– Вы слишком щедры…
Я пожимаю плечами.
– Характер.
– Вы даже не знаете, на что я способна.
– Раз вы годитесь для «Зодиака», то, полагаю, и для меня подойдете. Впрочем, как могло случиться, что вчера вам обещали, а сегодня последовал отказ?
– Об этом вам лучше спросить помощника директора, если вы с ним знакомы. Вчера он принял меня довольно холодно, равнодушно взглянул на мою рекомендацию, когда узнал, что кроме машинописи и стенографии я в совершенстве владею тремя языками, заявил, что, скорее всего, меня возьмут, но на всякий случай посоветовал зайти сегодня.
– Разгадка простая: нашел более подходящую.
– В отношении фигуры?
– Вероятно. Как бы то ни было, всему свое место. Ваше место у меня.
– Выходит, так. – Женщина улыбается своим мыслям.
– В таком случае могу ли я кое-что узнать о вас дополнительно?
– Например?
– Прежде всего, как вас зовут?
– Эдит Рихтер, двадцать шесть лет, незамужняя, не судилась, последнее место работы – фирма «Фишер и Ко», о чем имеется справка, – залпом выдает женщина.
– Вы немка?
– Швейцарка. Родом из Цюриха.
Здесь она вспоминает о чем-то и смотрит на часы.
– Надеюсь, я вас не задержал… – замечаю я.
– Нет… то есть… в три часа я должна встретиться с приятельницей.
У меня возражений нет. Приятельницы для того и существует, чтоб на них можно было сослаться в нужный момент. Делаю знак официанту, и он тотчас приносит счет.
В вестибюле Эдит протягивает мне руку.
– Все же разрешите мне сегодня подумать. Завтра утром я вам позвоню.
– Разумеется. Впрочем, я тоже ухожу.
На тротуаре перед отелем Эдит вторично протягивает мне руку, даже не полюбопытствовав, в каком направлении я иду. Навязываться я не намерен. Женщина спокойно удаляется в сторону улицы Мон-Блан. Не знаю, какая она секретарша, но смотрится не плохо. Тонкая талия и крутые бедра при высоком росте несколько компенсируют ее крупные формы. У самого отеля я сворачиваю в пассаж и через проходной двор попадаю на улицу Мон-Блан. Впереди, метрах в пятидесяти, обнаруживаю серый костюм
Эдит. Теперь она торопливо шагает в направлении вокзала.
Притягательная сила ее стройной фигуры заставляет меня идти за нею следом не приближаясь. Достигнув привокзальной площади, женщина заходит в кафе. Из-за столика на террасе встает худой седоволосый мужчина средних лет, здоровается с Эдит за руку и предлагает ей место рядом с собой. Вот он, недостаток красивых женщин. Вокруг них вечно толпится народ.
На следующий день, точно в десять тридцать, вхожу в приемную директора «Зодиака». Сейчас здесь пусто, и секретарша тут же вводит меня в кабинет коммерческого директора. Кабинет огромный, внушительный. Директор –
тоже. Типичный капиталист со старых карикатур – двухэтажный затылок, отвислые щеки, только сигары недостает. Однако выражение лица любезное, насколько это возможно.
Человек делает вид, будто приподнимается со стула, но только делает вид и протягивает свою полную расслабленную руку, затем, пробормотав «прошу», указывает мне на кресло, стоящее у письменного стола. Я сажусь, закуриваю предложенную сигарету и, улыбнувшись в свою очередь, деловито и кратко излагаю предложение, с которым пришел. Директор выслушивает меня не прерывая.
Моя краткость явно производит на него впечатление. Это не мешает ему заметить:
– Не знаю, известно ли вам, что мы располагаем почти всей гаммой, от «Филиппа Патека» и «Зенита» до весьма посредственных изделий «Эркера».
– Верно. Однако именно того, что я вам предлагаю, вашей гамме недостает; по качеству это «Зенит», а по цене
– «Эркер».
– Понимаю, – кивает директор. – Но это еще надо проверить.
– Проверяйте.
– Что касается нас, то мы это сделаем быстро. А вот проверка на рынке требует времени. Покупатель в наши дни недоверчив. Предлагаешь ему дорогую вещь – он воздерживается: дорого. Если предлагаешь что-то подешевле, опять воздерживается, считая, что ему суют низкопробный товар. Нужно, чтоб прошло время, притом много времени, пока он поймет, что ваши часы не только дешевы, но и неплохие.
Я пытаюсь возразить, но человек за письменным столом меня останавливает:
– В общем, ваша выгода от предложенной сделки очевидна. А мы на что можем рассчитывать?
– На обычную прибыль.
– Обычную прибыль нам дают известные марки. Прибыль не так уж велика, зато никакого риска.
– Я бы мог несколько увеличить вам процент… – нерешительно вставляю я. – Но очень немного, потому что мои цены и без того, как говорится, на пределе.
Директор качает своей большой головой.
– Если речь пойдет о каких-нибудь пяти-шести процентах, то я не верю, что это изменит положение.
– На большее не рассчитывайте.
Он кивает.
– Ладно. Шлите нам предложение. Я доложу о нем главной дирекции. Но вы особенно не обольщайтесь…
На простом языке это означает: «вовсе не рассчитывайте». Но я и не надеялся на большее. Куда важнее то, что я вошел с ним в контакт в качестве представителя делового мира и что у меня есть повод заглянуть в «Зодиак» повторно, если возникнет необходимость. Весьма возможно, что в один прекрасный день мое предложение будет извлечено из архива, куда его, несомненно, отправят. В том и состоит положительная сторона пессимизма, что даже маленькие успехи доставляют тебе радость.
Когда я заканчиваю обед, меня приглашают к телефону.
– Здравствуйте, – слышится в трубке голос Эдит. –
Простите, что беспокою вас в неурочное время, но это не моя вина – утром вас не было. Если ваше предложение все еще остается в силе, я с удовольствием принимаю его.
– Отлично. Когда вы можете приступить к работе?
– Хоть сейчас, если нужно.
– К чему такая спешка?. Но, может, вы смогли бы заглянуть в магазин и снабдить себя портативной машинкой и другими нужными для работы мелочами. Счет пускай пришлют в отель на мое имя.
Она обещает сегодня же купить что надо. Затем мы договариваемся относительно работы на завтра. Разговор кончается добрыми пожеланиями.
Вот и секретарша у меня есть. Но, не довольствуясь этим, я сажусь за стол и строчу на листке бумаги объявление: «Владелец предприятия ищет личного секретаря.
Английский, немецкий, стенография, машинопись. Телефон такой-то, с такого-то часа по такой-то». И отправляю его с рассыльным отеля в «Журналь де Женев» для однократной публикации.
Если Эдит полагала, что я беру ее к себе главным образом из-за ее фигуры и что наши служебные взаимоотношения будут сводиться к флирту, то уже на следующее утро она имеет возможность убедиться, что ошиблась. Я
принимаю ее у себя в номере и после коротких приветствий предлагаю сесть за небольшой письменный стол, где уже разложены бланки и конверты, только что доставленные из типографии. Затем без лишних слов начинаю диктовать:
«Господин директор, настоящим письменно подтверждаю условия, изложенные в нашем разговоре относительно…»
Составление письма отнимает около получаса. Эдит пишет быстро и грамотно. Так что, если у меня возникали сомнения по части ее квалификации, я тоже имею возможность убедиться в ее достаточном профессионализме.
Когда письмо подписано и аккуратно вложено в конверт, я заказываю кофе. И мы начинаем оформлять назначение.
Женщина подает мне свою трудовую книжку, и я, как работодатель, в соответствующем месте ставлю подпись.
– В сущности, у «Фишер и Ко» вы работали только шесть месяцев, – замечаю я, бегло просмотрев книжку. – А
до того где вы служили?
– Нигде. Изучала французскую литературу, а когда закончила, поняла, что французской литературой мне не прожить, и пришлось поступить на курсы секретарей-машинисток, так как родителей у меня нет, а мои близкие не выказывали желания содержать меня дальше.
– Понимаю. У Фишера, как я вижу, вас сократили. И вы решили покинуть родной город?
Она кивает головой.
– Цюрих – город красивый, – продолжаю я. – Там тоже есть дивное озеро. И вообще виды изумительные.
– Да, но одними видами сыт не будешь.
– А разве у людей вашей специальности наблюдается кризис?
– И еще какой.
Она тянется к сумочке, но я угадываю ее намерение и услужливо предлагаю ей пачку «Кента». Женщина закуривает, пускает густую струю дыма и смотрит на меня, как бы ожидая, о чем я еще спрошу. Взгляд у нее спокойный, открытый, хотя несколько выдает ее напряженное состояние.
– Где вы испытывали свою судьбу, прежде чем идти в
«Зодиак»?
– Нигде. Первое, о чем я узнала по приезде сюда, было вакантное место в «Зодиаке».
– Должно быть, от вашей приятельницы…
Она кивает, глазом не моргнув.
– Значит, вы здесь недавно?
– Дней десять.
Хотя разговор ведется в духе дружеской беседы, оттенок допроса в нем неизбежен. Имеет же право работодатель кое-что знать о своем служащем.
В это время раздается телефонный звонок. Знакомый голос телефонистки сообщает, что меня спрашивала какая-то женщина по моему объявлению в газете.
– Я действительно дал объявление, но место уже занято. Так что, будьте добры, говорите об этом всем, кто станет меня спрашивать.
На другом конце провода слышится отчаянный вздох:
«Но ведь они будут теперь звонить целую неделю!»
– Не беспокойтесь. Я распоряжусь, чтоб объявление больше не помещали.
– Вы давали объявление насчет секретарши? – вскидывает брови Эдит, когда я кладу трубку.
– В сущности, я его дал три дня назад, только непонятно, почему они медлили с ним. Плохой из меня ясновидец, не подозревал, что встречу вас. Но почему вы так на меня смотрите?
– Просто так. До сих пор мне казалось, что мое назначение не что иное, как случайный каприз.
– Это заблуждение. По крайней мере что касается каприза. А случайность пошла мне на пользу. Вы просто чудесная. Как машинистка, я хочу сказать.
Она едва заметно улыбается, без тени теплоты.
– Надеюсь, и мне будет польза от этой случайности.
– Не надейтесь, а будьте уверены. Первое преимущество службы у меня состоит в том, что от работы вы преждевременно не состаритесь. Сейчас, к примеру, вы можете быть свободны. Оставьте только номер вашего телефона. Если вы будете мне нужны, я позвоню вам завтра до десяти утра.
Поняв, что ее рабочий день окончился, она встает, а я, не провожая ее, на прощанье лишь поднимаю руку. Не хватало еще провожать свою секретаршу.
Последующие дни проходят в разнородных занятиях: изредка наведываюсь в «Хронос» к этому сумасшедшему, моему директору; дважды захожу затем к нотариусу, чтобы окончательно оформить сделку; полдня просиживаю в библиотеке с целью самообразования; затем скитания по городу и размышления. Женева в целом красивый город, но есть у него своя особенность, которую с одинаковым успехом можно считать и преимуществом, и недостатком: и тут, как в Венеции, многовато воды, но, в отличие от итальянского города, здесь она собрана в одно место –
Женевское озеро. Это вынуждает по десять раз в день переходить с одного берега на другой по бесконечно длинным мостам, которые наводят меня на мысль о пользе автомобильного транспорта. Весь вопрос в том, что сейчас у меня нет времени возиться с машиной. Хватит с меня забот о секретарше. Верно, пока что мои дела не требуют ее присутствия, и я стараюсь ее не беспокоить. А вот она меня беспокоит, притом основательно.
Помимо того, что ее роскошные формы вызвали у меня смущающие видения, мысли об Эдит не оставляют меня и по ряду других причин. Например, из-за ее манеры смотреть тебе в лицо и беззастенчиво лгать, глазом не моргнув.
Сомнения насчет этой женщины возникли у меня в первые же часы нашего знакомства и с тех пор все углубляются.
Кроме невинной, казалось бы, лжи по поводу своей встречи с «приятельницей» Эдит лихо лгала мне и в более важных случаях. Впрочем, это нетрудно объяснить, если принять во внимание определенную гипотезу о роли и характере моей секретарши. Но поскольку, как говорит мой шеф, в нашем деле надо не фантазировать, а опираться на глубокий анализ фактов, я сторонюсь гипотез, хотя это ничуть не мешает мне принимать их в расчет.
Второе, что я не выпускаю из виду, – это расписание поездов. Хотя в последнее время я весьма стремительно поднимался по иерархической лестнице, мне снова приходится заниматься черновой работой, состоящей в том, что я подолгу торчу на перронах и слежу за движением поездов. Правда, от полуденного зноя на сей раз я не страдаю, так как объект моего наблюдения – ночной поезд
Венеция – Лозанна – Женева. Ночные дежурства имеют и другое преимущество – позволяют мне заполнить некоторые пробелы в моем эстетическом воспитании, главным образом по части киноискусства. Вечерние сеансы кончаются за полночь до прибытия поезда и служат удобной, не бросающейся в глаза формой времяпровождения. Так что в течение трех недель я успеваю посмотреть две дюжины шедевров, в том числе целую серию «шпионских». Впрочем, должен сознаться, что именно шпионские фильмы больше всего повергают меня в недоумение, потому что, хотя в глазах моего шефа я фантазер, фантазия должна во всем присутствовать в разумных пределах.
Просмотром двух дюжин шедевров мое кинообразование в основном завершается. Однажды вечером, после фильма «Опасная встреча», я почти сталкиваюсь на вокзале с Моранди. Со спесивым видом он бойко вышагивает все в той же своей смешной шляпе, сдвинутой на затылок. Этот человек, должно быть, очень плешив, раз никогда не снимает шляпу, а если не плешив, то неизбежно оплешивеет в скором времени, день и ночь таская ее на затылке.
Преследование длится три минуты. Моранди пересекает привокзальную площадь, сворачивает на Рю дез Альп и заходит в отель «Терминос».
Стучусь, жду, как приличествует, приглашения «Войдите!» и резко распахиваю дверь. Я не ошибся, человек этот в самом деле плешив, дальше некуда.
Вначале Моранди глядит на меня с недоумением, полагая, что я попал не в тот номер. Но когда я закрываю дверь и даже поворачиваю ключ, недоумение сменяется страхом, смешанным с яростью.
– Кто вы такой, зачем запираете дверь? – непроизвольно спрашивает он на своем родном языке.
– Терпение, – отвечаю я по-французски, чтоб напомнить ему, что мы не в Италии. – И потише. Это в ваших интересах.
Положив ключ в карман и пододвинув телефон, чтоб был у меня под рукой, я располагаюсь в кресле.
– Но как вы смеете! – кричит человек, теперь уже по-французски.
– Тихо! – останавливаю я его. – Я буду краток. Речь пойдет о вашей работе. Имеется в виду разведывательная работа.
Моранди понимает, что здесь аффектация не поможет, и опускается на стул. Тонкие усики над полуоткрытым ртом оглупляют его. Некоторые суетные плешивцы, желая показать, что они не лишены такого природного дара, как волосатость, отращивают усы.
– Вы неоднократно совершали поездки в социалистические страны, где под видом торговых операций устанавливали связи с местными агентами иностранной разведки. Во время последней поездки в Болгарию вами восстановлена связь с агентом по имени Ставрев, при этом вы снабдили его рацией и соответствующими инструкциями.
Ваша шпионская деятельность в социалистических странах доказана, и я уполномочен сообщить вам об этом.
– Мерси, – с иронией говорит Моранди, видимо успокоенный таким развитием событий.
– Но эта одна сторона вопроса, а человек вроде вас обязан не выпускать из виду обе стороны: где он шпионит и кто послал шпионить.
Лицо усатенького напряглось.
– С целью выяснения кое-каких деталей соответствующей организацией в Венецию был направлен человек по имени Альбер Каре: он вошел в контакт с вашей приятельницей Анной Феррари и получил от нее исчерпывающие сведения, касающиеся ваших, с позволения сказать, коммерческих командировок…
– Это ложь! – кричит Моранди.
– Это подтверждает магнитофонная запись. Документированы и ваши разговоры с упомянутой Феррари. Разговоры, в ходе которых вы доверяли ей сведения секретного порядка, не предназначавшиеся для нее. В одном из таких разговоров, недели три назад, она вам сообщила, как познакомилась с Каре, а вы в свою очередь уведомили ее, что убийство вашего приятеля Артуро Конти было совершено не с целью ограбления, а за его болтливость.
– Приоткройте окно, – просит Моранди.
В комнате в самом деле душно. На лице усатого появились капельки пота.
– Открою, успеется! – отвечаю я, закуривая сигарету. –
Продолжим. Вы прекрасно понимаете, если документация об упомянутых разговорах вместе со сведениями о провале вашей миссии в Болгарии попадет в руки тех, кто вам платил, вас постигнет участь Артуро Конти.
– Что вы от меня хотите? – спрашивает Моранди, вытирая носовым платком пот на голом темени.
– Чтобы вы рассказали все: сжато, конкретно и правдиво. С указанием имен и дат.
– Чтобы вы потом отправили меня ко всем чертям?
– Те, кого я в данный момент представляю, не имеют ни малейшего намерения отправлять вас ко всем чертям.
– Что может служить мне гарантией?
– Здравый рассудок. Ваше убийство явилось бы лишним осложнением. Вы раскрыты, следовательно, безопасны. А что касается вашей дальнейшей участи, то это уже ваше дело.
– Где гарантия, что и этот разговор не записывается?
– Такой гарантии нет.
– И что упомянутые записи будут мне возвращены?
– Таких обещаний я не давал. И потом, записи вам ни к чему. Мне ничего не стоит послать их вам, чтобы вы утешились, но, сами понимаете, вы получите копии.
– Вот именно. Тогда какую же выгоду я буду иметь?
Любая сделка основывается на взаимной выгоде.
– В торговле. Но только не в вашей профессии.
– Это не моя профессия.
– Кто же вы? Любитель?
– И не любитель. Но когда мне, с одной стороны, суют деньги, а с другой – угрожают увольнением, я, за неимением иного выбора, хватаю деньги.
– Верно. Сейчас вы в таком же положении. С той разницей, что угрожают вам не увольнением, а пистолетом.
– Но поймите же, ради бога, что я вне игры. Я уже вне игры. Давным-давно никто никаких заданий мне не дает.
Мало того, меня подозревают. Особенно после истории с
Конти. Они меня оставили в покое. Оставьте же и вы. Я вне игры, понимаете?
Моранди разгоняет рукой табачный дым, от которого он задыхается, и снова вытирает пот.
– Видите ли, Моранди, в таком деле, раз уж человек в него включился, он никогда не может оказаться вне игры.
Шпионил, шпионил и отошел в сторону – это невозможно.
Не позволят. Совсем как в покере. Не участвуешь в игре только тогда, когда тебе досталось четыре туза. Но, играя в покер, ты хранишь некоторую надежду на выигрыш, тогда как здесь это исключено – ты связан. И вот сейчас я предлагаю вам откупиться. В отношении ваших шефов я вам гарантий дать не могу. Сами выкручивайтесь. Что касается людей, которые меня послали к вам, то они оставят вас в покое. Раз и навсегда. При единственном условии: вы расскажете все.
– Но скажите, где гарантия, что завтра вы снова не припрете меня к стенке и не станете требовать еще каких-то сведений? Или не используете рассказанное мною мне во вред? – снова принимается он за свое.
– Я уже сказал: здравый рассудок. Новых сведений никто от вас требовать не станет, потому что вы больше никогда не будете располагать интересными сведениями. А
выдавать вас не имеет смысла. Это может случиться лишь в одном-единственном случае: если проговоритесь вы. Будете хранить молчание вы, и мы будем молчать. Сболтнете
– подпишете себе смертный приговор.
Я смотрю на часы: без пяти час.
– Ну говорите, время не ждет.
Моранди пыхтит и бросает на кровать мокрый платок.
– Странный вы человек! Другие хоть деньги предлагали…
– Будут и деньги, – успокаиваю я его. – В этом отношении мы без труда договоримся. А теперь начинайте: сжато и конкретно.
– Нельзя ли начать с вопросов?
– Вопросы – потом. Рассказывайте.
Рассказ не очень богат фактами, но длится он около часа. Всплывает ряд существенных моментов: становится известным имя того, кто давал задания, имена людей на местах; проясняется характер заданий – всего их было шесть, выполнявшихся в различных странах социализма во время командировок.
Затем идут вопросы. Они касаются пробелов, даже самых ничтожных, в рассказе Моранди; с учетом смысловой связи ставятся новые вопросы, обрываются ответы, возникают вопросы, подсказанные услышанным.
– Откройте окно, ради бога! – умоляет Моранди упавшим голосом.
Лицо его залито потом, веки отяжелели. Куда девалась его спесь? Ни колебаний, ни страха – весь его вид говорит только о смертельной усталости.
Вопросы заканчиваются к половине пятого. В комнате покачиваются пласты табачного дыма – не продохнешь. У
меня адски болит голова – совсем как в Венеции. Я подхожу к окну и распахиваю его. Моранди, откинувшись на спинку стула, какое-то время жадно вздыхает льющуюся в комнату прохладу, шевеля, как рыба, толстыми губами.
– А теперь по части финансов, – говорю я после небольшой паузы, когда окно снова закрыто. – Должен вам сказать, что дело, которым мы только что занимались, является для меня совершенно случайным. Гораздо более случайным, чем для вас. Я мирный гражданин и если дал согласие оказать кое-кому услугу, то лишь в силу того, что меня примерно так же зажали в тиски, как и вас. По профессии я фабрикант.
Моранди поднимает свои сонные глаза и смотрит на меня с некоторым удивлением.
– Фабрикант?
– Именно. Часы «Хронос». В настоящее время моя продукция не находит сбыта. Моя судьба целиком зависит от рынка. Предложил сделку «Зодиаку», но мне ответили весьма уклончиво. А вы там работаете.
– Я в «Зодиаке» мелкая сошка.
– Но поддерживаете связи с теми, что покрупней.
– Чисто служебные. И вам не мешает знать, что «Зодиак» – тяжелая машина. Пока раскрутится…
– Мы могли бы предложить комиссионные лично директору.
Моранди скептически усмехается:
– Не настолько вы богаты. А мне что вы предлагаете?
– В зависимости от вашей услуги.
Он слегка морщит лоб и смотрит на меня задумчиво, как бы соображая что-то.
– Давайте мне пять тысяч, и ваша сделка обеспечена. С
«Зодиаком», но без участия его людей.
– Пять тысяч франков?
– Пять тысяч долларов.
– Это выше моих возможностей. Но если согласитесь на три тысячи…
– Вы злоупотребляете тем, что я в ваших руках, – бормочет Моранди. – Так и быть, четыре тысячи.
– А где гарантия, что сделка состоится?
– Странный человек! – устало вздыхает усатый. – Вы мне жизнь не гарантируете, а хотите, чтобы я гарантировал вам сделку.
– Ладно, – уступаю я и достаю бумажник. – Кто он?
– Рудольф
Бауэр, экспортно-импортная контора,
Мюнхен. Сейчас я напишу вам письмо.
– Только не вздумайте писать, что и ему перепадет четыре тысячи.
Моранди снова страдальчески вздыхает, затем встает, вынимает из ящика стола бумагу, конверты со штампом отеля и принимается за письмо, исторгая время от времени мучительные вздохи. Неврастеник.
4
– Последний раз, помнится, у вас были каштановые волосы…
– Да, а теперь я брюнетка. Вам нравится?
– Наоборот. Так вы кажетесь экзотичней… и более зрелой.
Разговор ведется между мною и моей секретаршей, происходит он на вокзале, где мы только что встретились.
В этот вечер Эдит, судя по всему, не в лучшем настроении, и замечание по поводу зрелости едва ли нравится ей.
– Да и вы не кажитесь юношей, – отвечает женщина, не считаясь с тем, что имеет дело со своим шефом.
Очевидно, она права. После того как ты провел бессонную ночь и целый день на ногах, не так-то просто казаться молодым, особенно в моем возрасте. Зато самочувствие у меня превосходное.
– Что ж, будем садиться. Для приятных бесед у нас времени хватит, в нашем распоряжении целая ночь.
И, желая умилостивить экзотическую брюнетку своей галантностью, я беру у нее чемоданчик.
Наши купе рядом. Притом сообщаются дверью. Это обстоятельство, вероятно, рождает в голове Эдит кое-какие предложения, но она молчит. Мы стоим в коридоре, возле окна, давая возможность проводнику приготовить постели.
На перроне оживление – через три минуты поезд трогается.
– Вы бывали в Мюнхене?
– Никогда.
– Жалко.
Однако она не спрашивает почему и рассеянно глядит в окно.
– Вы не в настроении.
Эдит бросает на меня острый взгляд.
– Заметно?
– Не очень, но догадаться можно.
– Я редко бываю в настроении. Хорошее настроение у человека, как мне кажется, бывает не без причин.
– Так могут рассуждать только алкоголики, – возражаю я. – Женщине вашего возраста нужна причина лишь для того, чтобы быть не в настроении.
– Я могу быть не в настроении и без особых причин. С
меня хватает постоянных. Впрочем, оставим это.
Помолчав, она снова бросает на меня взгляд и добавляет:
– Завидую людям вроде вас.
– Почему? Потому что я владелец «Хроноса» или…
– Потому что вы не унываете даже в тех случаях, когда дела ваши далеко не радуют вас.
– Мои дела идут отлично.
– Вы имеет в виду переговоры с фирмой «Зодиак»?
Ирония ясна и без шестого чувства.
– Да, и это, – спокойно отвечаю я.
Женщина смотрит на меня недоверчиво, но возражать не намерена.
– Дорогая Эдит, – миролюбиво говорю я. – Поскольку нам с вами вместе работать, мне хочется, чтобы вы уже сейчас уяснили для себя некоторые вещи: обычно чем выгоднее сделка для тебя, тем она менее выгодна для другого.
Следовательно, тем больше усилий нужно потратить для того, чтобы эту сделку заключить. С фирмой «Зодиак» я могу начать работать с завтрашнего дня. Имеется в виду работа, рассчитанная на продолжительное время. Но такая поспешность чувствительно отразится на моих прибылях и отнюдь не в мою пользу. Поэтому я предпочел потерять еще несколько недель и получить больше денег. Я понимаю, что время тоже деньги, а вот время или деньги – это уже вопрос вкуса.
С перрона доносится приглушенный свист локомотива.
Две девушки, стоящие под окном, машут руками, только не нам. Лично меня никто никогда не провожал. Поезд мягко трогается, и лента перрона уползает назад, чтобы уступить место цепочке товарных вагонов, семафорам и ночным призракам.
– Спасибо за урок, – благодарит Эдит. – Тем более что я вас о нем не просила. У меня не было намерения вмешиваться в ваши дела.
– Почему же? Это куда лучше, чем если бы вы заботились только о своем жалованье. Ваше участие послужит мне доказательством, что я могу на вас рассчитывать.
Она смотрит на меня испытующим взглядом, потом говорит:
– В таком случае наградите меня сигаретой.
Проводник закончил возиться с постелями в наших купе и ушел. Эдит курит и смотрит в окно, хотя за окном непроглядная темнота: ночь и массивы Альп закрывают все небо. Выкурив сигарету до половины, женщина бросает ее в пепельницу.
– У меня ужасно болит голова. Можно, я лягу?
– Разумеется. Покойной ночи.
Я тоже ухожу в купе. Закрывая за собой дверь, слышу, как в двери, соединяющей купе, осторожно перемещается задвижка. Такое недоверие, да еще со стороны личного секретаря… Хотя я могу и не обидеться – сейчас у меня другие заботы.
Сняв пиджак, надеваю пижаму, закуриваю предпоследнюю в этот день сигарету и вытягиваюсь на постели.
Меня занимают вопросы, которые преследовали меня весь день, пока длилась суета, связанная со сборами в дорогу.
Их два, и оба они жизненно важные. Первый: правдивы ли показания Моранди? Второй: станет ли Моранди молчать?
Ответ на второй вопрос с практической точки зрения для меня особенно важен; кажется, я сделал все необходимое, чтобы он был положительным. Заставить человека заговорить в иных случаях очень нелегко, но куда трудней заставить его продолжительное время хранить молчание.
Хитрость не в том, чтобы, размахивая у человека перед носом пистолетом или пачкой банкнотов, вырвать у него какие-то сведения и чтобы на следующий же день поставили крест и на тебе, и на всей операции. Важно создать вокруг этого человека такую обстановку, чтобы он не мог делать ничего другого, кроме того, что ты пожелаешь, – в данный момент и в дальнейшем. Моранди будет молчать, потому что отныне его безопасность находится в прямой зависимости от моей. Он понимает, если уберут меня, решительно ничего не изменится, однако это явится прелюдией к тому, что уберут его самого. Ведь компрометирующий материал существует и будет пущен в ход.
Компрометирующий материал в данном случае был, разумеется, чистейшим блефом. У меня не было записи разговора между Моранди и Анной Феррари, теперь же я располагаю записью разговора куда более важного – между
Моранди и мной. И запись эта уже находится в надежном месте, так что моя возможная смерть бремени с плеч Моранди не снимет, если не считать бременем его собственную голову.
Моранди должен осознать и другую истину: он больше не может рассчитывать на своих хозяев. Ничего хорошего ждать ему от них не приходится. Об этом красноречиво говорит не только убийство Конти, но и то, что за ним самим была установлена слежка, и если его пощадили, то не столько из особого доверия к нему, сколько из желания использовать его как приманку. Теперь шефы убедились, что приманка не сработала, и махнули на Моранди рукой.
Но если кто-то снова проявит к нему интерес, как тут же исчезнет и этот кто-то, и сам Моранди, и пусть грубо, зато надежно следы будут заметены.
Следы, ведущие куда? Эта мысль снова возвращает меня к вопросу, самому важному для дальнейшего развития операции: правду ли рассказал Моранди или он преподнес мне некое рукоделие, связанное из полуправды и чистейшей лжи? Пока что у меня не было времени тщательно обдумать данные, полученные от него. Однако периодические раздумья и прежде всего прояснившиеся в ходе самого допроса факты дают основание полагать, что
Моранди рассказал правду, и, вероятно, всю правду, какую знает. К сожалению, он знает лишь незначительную часть из того, что меня интересует. И все же впервые с момента моего вступления в игру, за два месяца выжидания, топтания на месте, неизбежного риска я добрался до чего-то существенного, до чего-то, что стоит за Моранди и позволяет проникнуть глубже в эту усложненную систему.
Мне известно, кто давал Моранди инструкции и материалы. Так же как Конти и усатый, человек этот работает в
«Зодиаке». Эта крупная, пользующаяся хорошей репутацией фирма слишком уж пронизана пользующимися не столь хорошей репутацией шпионскими системами, что подтверждает мою изначальную гипотезу: «Зодиак» плюс разведывательное управление, хотя я в свое время твердо решил избегать поспешных гипотез.
Так или иначе, налаживание деловых связей с фирмой
«Зодиак» становится сейчас моей первоочередной задачей; Моранди – карта битая. Надо искать подходы к очередному трамплину.
Одним из неизвестных в задаче по-прежнему остается человек в зеркальных очках. Бледное продолговатое лицо, нагоняющее страх своим спокойствием, преследует меня, словно навязчивая идея. Моранди, по его словам, понятия не имеет, кто это может быть, хотя я дал ему подробнейшее описание. Вообще о Конти Моранди знает немного: шеф познакомил его с этим делом, явно шантажируя.
«Нашего Конти, – сказал шеф, – безнадежно испортили карты. Он все связывал с карточной игрой, даже самые серьезные вещи. О предложении фотографа он мне, конечно, сообщил, но всего лишь за час до решающей встречи. Он, как видно, струсил в последний момент и подумал укрепить свой тыл. Даже из этой информации пытался извлечь выгоду – просил вознаграждения. И, как ты знаешь, мы ему не отказали. Сработали мы, конечно, грубовато, обычно это делается чище, но виноват в этом опять-таки сам Конти. Согласно инструкции, он должен был привести фотографа к себе домой и там передать ему сведения. Они сами уничтожили бы друг друга и разделили бы между собой ответственность за двойное убийство. Но
Конти оказался подлецом. Он, видимо, так повел разговор, что собеседник усомнился и сказал „до свидания“. Благо, поблизости оказались наши люди. Вообще-то нам порой приходится менять план действия. Но только не решения.
Потому, что отказ от решения означал бы отказ от принципа. А принцип установлен раз и навсегда, и тебе он хорошо известен: за честную работу – деньги, за нечестную –
пуля».
Для дальнейшего хода операции это уже не имеет значения. Но мысли человека нельзя втиснуть только в операцию, как бы ни велики были ее масштабы. Что-то неизбежно останется вне ее – какие-нибудь частности, утратившие всякое значение, воспоминания, картины, которые давно следовало бы выбросить из головы, вроде той, на мосту: скорчившееся возле парапета тело с раздавленными, подрагивающими ногами и с разбитой головой, скомканная белая панама, пропитанная кровью.
«Довольно, пора спать!» – бормочу я, надеясь трезвым приказом прогнать видение, отвлекающее от реальности.
Однако чем больше я устаю, тем труднее мне уснуть; чем больше меня одолевает усталость, тем упорнее продолжает работать моя голова, правда на холостом ходу, затуманенная смутными видениями прошлого, неприятными картинами настоящего и всякого рода предчувствиями.
«День был весьма напряженным, но прошел не без пользы», – подвожу я итог. Кроме беготни, связанной с оформлением визы, надо было отобрать образцы товара, подготовить ценники, пришлось позаботиться о собственном гардеробе – должен же я хоть немного походить на бизнесмена, черкнуть несколько строк на родину близким и еще раз навестить господина Георга Росса, хотя подобные визиты в принципе запрещены и допускаются лишь в исключительных случаях.
Случай оказался исключительным. Приобретенный в свое время миниатюрный магнитофон убедил меня, что он стоит больших денег. Вообще-то я не люблю иметь дело с такого рода техникой: носить микрофон вместо галстучной булавки, устраивать проводку под рубашкой, продырявливать карман, чтоб просунуть в него тонюсенький кабель, а потом шарить по карманам, как бы в поисках чего-то, включая и выключая аппарат. Но подчас без подобных ухищрений не обойтись. Крохотная катушка, сунутая в конверт и предназначенная для дорогого Мерсье, в состоянии сделать мою возможную безвременную кончину не столь пагубной для дела, а то и вовсе отложить эту кончину до более подходящего возраста.
– Извините, ради бога, что я снова беспокою, господин
Росс. Я понимаю, это не совсем по правилам.
– О, что вы, что вы, – улыбается хозяин. – Я человек старый. Мне бояться нечего.
«И тебе тоже, – говорю я себе. – Так что уймись и спи.
И вообще следуй примеру своей секретарши». Удивительно, как эти видения другого порядка до сих пор не подчинили меня к себе и не заставили сломить хрупкую преграду, противоестественно отделяющую мужчину от женщины.
Напряженные размышления и попытка вызвать более приятные образы незаметно сменяются сновидениями, и я очень смутно слышу словно издалека стук в дверь.
– Подъезжаем! – оповещает проводник.
Спустя четверть часа, гладко выбритый и благоухающий, я выхожу в коридор. У окна стоит Эдит – волосы ее цвета воронова крыла безупречно уложены – и рассеянно наблюдает, как пролетают мимо унылые серые здания, склады и пустыри, предвещающие скорое прибытие в
Мюнхен.
– Как спалось? – спрашиваю я в соответствии с правилами хорошего тона.
– Прекрасно, мерси, – отвечает она.
Однако лицо, несмотря на свежий грим, говорит о другом. Оно усталое и бледное.
– Вы и тайны косметики успели постичь. До сих пор, если не ошибаюсь, вы не пользовались косметикой.
– Вы хотите мне запретить?
– Почему же? Только позвольте дать вам совет: не слишком злоупотребляйте зеленью и синевой под глазами.
Художники считают, что эти краски больше годятся для пейзажа, чем для портрета.
– Вы и в искусстве разбираетесь?
– Да. Я читал книгу «Ван Гог – художник солнца и безумства». Читал тоже вот так, в пути – кто-то забыл ее в купе. К сожалению, за всю дорогу я едва добрался до пятой страницы. Подобные книги весьма поучительны, только трудновато читаются.
Явно пропуская эти глупости мимо ушей, женщина продолжает смотреть в окно. Замедлив ход, поезд въезжает на станцию, о чем свидетельствуют вереницы вагонов.
– Ну, какие же планы на сегодня? – обращается ко мне
Эдит, когда поезд подходит к перрону.
– Сейчас скажу. Первым долгом надо найти отель.
– Я была бы вам очень признательна, если бы мы остановились где-нибудь поближе к вокзалу. Я и в самом деле неважно себя чувствую.
Отель, в котором мы остановились, вполне современный, приветливый и совсем близко от вокзала.
– Один номер? – спрашивает человек в окошке.
– Два, – торопится ответить Эдит.
– Два отдельных номера, – подтверждаю я. – Дама –
мой секретарь.
Чуть позже, в лифте, она говорит мне:
– Вы никогда не упустите случая подчеркнуть, что вы мой шеф.
– Я это делаю лишь в тех случаях, когда хочу дать вам понять, чтобы вы не забегали вперед.
Мы разместились в соседних номерах. Выждав для приличия полчаса, я вежливо стучусь в дверь Эдит.
– Зайдите ко мне, если вы отдохнули. Нас ждет небольшая работа.
Работа состоит в том, что мы звоним Рудольфу Бауэру в экспортно-импортную контору. Эдит набирает соответствующий номер и от имени своего шефа церемонно обращается к секретарше на другом конце провода; та, соответственно, докладывает своему шефу, и в итоге этого ритуала я непосредственно связываюсь с нужным мне человеком.
– Доброе утро! Я обращаюсь к вам от имени вашего друга. Мне необходимо кое-что передать вам от него.
– Очень приятно, – отвечает энергичный молодой голос. – Когда вы могли бы зайти?
– Когда вам будет угодно.
– В двенадцать вас устроит?
– Отлично.
Эта оперативность и удачно закончившийся разговор вызывают у моей секретарши некоторое удивление. Чтобы это ее чувство не иссякло, я достаю из чемоданов тщательно упакованные образцы, деловые бумаги и кладу все это в элегантный кожаный портфель; смотрю на свои ручные часы – естественно, «Хронос» – и говорю:
– Время позволяет нам совершить прогулку по городу.
– Если это не в порядке служебной обязанности, я бы попросила отложить прогулку до следующего раза.
– Как вам угодно, – холодно бросаю я и, взяв портфель, ухожу.
Мюнхен, быть может, чудесный город, но только не в летний зной. Поэтому, вместо того чтобы знакомиться с городом, я после некоторого колебания принимаю решение познакомиться с его пивом. Пиво отличное. Особенно в жару.
В двенадцать без одной минуты я предстаю перед секретаршей Бауэра, а минутой позже – перед самим Бауэром.
Пусть знает, не только немцам свойственна точность, но и другим народностям, таким, скажем, как швейцарцы.
Как ни молодо звучит его голос, Бауэр далеко не молод, во всяком случае ему не меньше пятидесяти. Но в лице его и в стройной фигуре есть что-то, что ассоциируется с военными парадами, студенческими поединками и казарменным плацем. Прочитав за полминуты письмо Моранди, он приступает к делу:
– В чем состоит ваше предложение?
Говорит он твердо и чеканно, так же как ходит.
Сжато, в общих чертах излагаю свое предложение, совсем как я это делал перед директором «Зодиака». Для большей убедительности выкладываю на стол образцы вместе с подробнейшими описаниями.
Внимательно выслушав меня, Бауэр бросает беглый взгляд на образцы и кивает головой.
– Думаю, я смогу кое-что сделать для вас. Что именно и как, об этом вы узнаете не раньше чем через два дня. Вы сколько пробудете здесь?
– Сколько потребуется.
– Отлично. В таком случае давайте договоримся…
Он перелистывает настольный календарь и назначает день и час следующей встречи, затем подает мне твердую, как дерево, руку и провожает меня до двери.
Преимущество пессимиста не только в том, что он предвидит самое плохое. Ведь когда самое плохое не случается, это для него сюрприз, доставляющий ему удовольствие. Только пессимисту свойственно радоваться, когда ожидания обманывают его.
Именно такой сюрприз преподносит мне Бауэр при нашей второй встрече. Конечно, не сразу, а после довольно томительных маневров.
– Часы у вас качественные, – без лишних слов говорит представитель местной экспортно-импортной конторы. –
Но у них есть слабое место: их трудно продавать.
Подобные замечания мне уже знакомы по встрече в
«Зодиаке», и я спешу возразить. Бауэр терпеливо выслушивает меня, потом продолжает:
– Мы не поняли друг друга. Трудно продавать не в силу недоверия покупателей, а из-за противодействия продавцов. Вашему товару повсеместно объявлен бойкот, и вам бы не мешало об этом знать.
– О, бойкот! – Я пренебрежительно машу рукой. – Эти интриги некоторых швейцарских фирм. Никто не властен распространять бойкот на весь мировой рынок.
– Вы слишком самоуверенны, – качает головой Бауэр.
Потом, как бы между прочим, спрашивает: – Вы, должно быть, не так давно владеете фирмой «Хронос»?
– Совершенно верно.
– А до этого чем занимались?
– Все тем же. Только не как производитель, а как коммерсант.
– У вас был свой магазин?
– Да.
– Где?
– В Лозанне.
– Торговля, видимо, шла неплохо, раз вам удалось накопить на целое предприятие.
– Деньги накопил мой отец. Мои сделки тут ни при чем.
Отец был человек старомодный и остерегался рискованных операций. Большую часть средств он хранил в наличных деньгах, а в оборот пускал лишь незначительные суммы, чтобы хватило на повседневные нужды.
– Вы, значит, нарушили это золотое правило?
– Если правило не приносит золото, значит, оно не золотое. Приходится делать крупные ставки, иначе какой смысл играть.
– А вам не кажется, что вы слишком рискуете? –
спрашивает Бауэр и настороженно смотрит мне в лицо.
Я выдерживаю его взгляд спокойно, без вызова.
– Риск учтен, – говорю в ответ. – На худой конец, продам все и внакладе не останусь; напротив…
– Если найдется покупатель… – возражает Бауэр. – И
если конкуренты не прибегнут к более жестким мерам.
Существуют и жестокие меры, господин Роллан!
– Никакие меры меня не пугают, – отвечаю я. – Риск с трезвым расчетом все равно риск, но кто нынче не рискует?
Бауэр опять пристально смотрит на меня, потом спрашивает:
– А что вас заставило обратиться именно к фирме
«Зодиак»? Часы не ее профиль.
– У «Зодиака» нет определенного профиля. Зато это солидная фирма. Чтобы парировать бойкот, мне нужна солидная фирма.
– Солидных фирм много.
– Но такие, как «Зодиак», можно перечесть по пальцам.
«Зодиак» заключает множество сделок по ту сторону «железного занавеса». А это такой рынок, где бойкоты не помеха.
– А вы сами не можете наладить связи там, за «железным занавесом»?
Вопрос подброшен как бы между прочим.
– Каким образом?
– Не знаю. Я просто спрашиваю.
Он продолжает все так же «просто» задавать вопросы еще часа два. Надо признать, допрос он ведет умело, хотя и не слишком гибко. При этом заботится, чтоб у меня не пересохло во рту: секретарша приносит бутылку шотландского виски и дважды пополняет запасы льда и содовой.
– Надеюсь, я вас не слишком утомил, – говорит он наконец, глядя на часы.
– Нет, но вы меня озадачили, – отвечаю я, добродушно улыбаясь.
Хозяин тоже улыбается, хотя и не столь добродушно.
– Вы сами понимаете, прежде чем о чем-то договариваться, надо знать, с кем имеешь дело. А моя фирма, господин Роллан, несмотря на неблагоприятные обстоятельства, не отказывается от намерения с вами поработать.
Вот он, приятный сюрприз.
– Нам, конечно, трудно прорвать блокаду, созданную вокруг вашей продукции. Но у нас есть кое-какие рынки сбыта в Африке, и мы склонны для начала заключить сделку на десять тысяч пар часов, чтобы посмотреть, как пойдет дело.
Если исходить из чисто корыстных интересов, тирада эта звучит довольно приятно, однако меня волнует другое.
Поэтому я с трудом удерживаюсь, чтоб не спросить: «А
„Зодиак“?»
– Что касается «Зодиака», то здесь все обстоит сложней. Как вы могли слышать от Моранди, я в какой-то мере связан с руководством фирмы, однако я не всемогущ.
Впрочем, вам придется подождать еще несколько дней, пока станет известно, что покажет мой зондаж. Надеюсь, вы сможете подождать.
«Подождать? Так ведь я же мастер этого дела!» – можно бы сказать в ответ, но я говорю:
– Разумеется. Оставить вам мой телефон?
– Будьте так добры. В следующий раз оформим документацию.
Я делаю вид, что эта проволочка не очень мне по вкусу, однако молчу, как того требует приличие. Вскоре мы расстаемся.
Узнав о том, что нам придется задержаться в Мюнхене еще на несколько дней, Эдит не пытается скрыть огорчения. До сих пор она не покидала своей комнаты, если не считать того, что спускалась в ресторан поесть, – все ссылаясь на простуду, на головную боль, на усталость и прочее. Мне она пока совершенно не нужна, и я предоставляю ей возможность оставаться наедине со своей хандрой. Сам же сосредоточиваю все свое внимание на достопримечательностях Мюнхена, и прежде всего на той из них, которая пребывает во втором агрегатном состоянии, то есть в жидком, и покрыта обильной пеной.
В ожидании проходит целая неделя. Наконец в одно прекрасное утро звонит секретарша Бауэра и приглашает на долгожданную встречу.
– Весьма сожалею, что отнял у вас столько времени, –
вместо приветствия говорит Бауэр. – Но, надеюсь, не напрасно. Насколько мне известно, ваша сделка с «Зодиаком»
состоится. Наш маленький контракт также готов.
Он передает мне экземпляры контракта, и я, как приличествует трезвому, недоверчивому дельцу, внимательно перечитываю его. Все в порядке.
Бауэр берет у меня документ, но, вместо того чтобы приступить к церемонии подписания, кладет на листы бумаги свою деревянную руку, и его неподвижный взгляд задерживается на моем лице.
– Тут есть одна деталь…
«Только бы не та, из-за которой все рухнет», – мелькает у меня в голове.
– Контракт, равно как и сделка с «Зодиаком», могут быть реализованы, принести вам солидные прибыли и могут оказаться лишь прекрасной иллюзией. Все зависит от вас.
– А именно?
– Как вы понимаете, обе сделки сулят выгоду главным образом вам, а не фирме. Эта услуга, которую мы вам оказываем. Вы же, разумный человек, не можете не знать, что существует правило: услуга за услугу.
– Конкретно?
– Моей фирме вы не можете быть особенно полезным.
Однако в силу ряда обстоятельств, кроме своей фирмы, я представляю еще один институт. И вот этому институту вы могли бы оказать услугу. Вероятно, вы догадываетесь: речь идет о разведке.
Он умолкает, не отрывая пристального взгляда от моего лица.
Удивление, которое я изображаю на своем лице, не слишком сильное, но и не слабое. Оно именно такое, каким должно быть удивление несведущего и не такого уж дотошного человека.
– Да, как будто понимаю, – говорю я, выдержав взгляд
Бауэра. – Только, вы ведь знаете, у меня совсем другая специальность, и мне не совсем ясно, чем бы я мог быть полезен вашему… институту.
– Вам станет ясно, когда мы договоримся о главном. А
что касается специальности, то об этом тревожиться не стоит. Разведчики не какая-то особая каста. Ими могут быть и коммерсанты вроде вас, и врачи, и адвокаты, и ученые – словом, обыкновенные граждане.
– Послушайте, господин Бауэр, – обращаюсь я к нему, ерзая на стуле. – А нельзя ли, чтоб услуга, о которой вы говорите, была несколько проще: ну, скажем, комиссионные или какой-то процент в вашу пользу, и вообще, вы понимаете, мне не хочется впутываться во что-то такое, что не связано с моей работой, да еще в такой момент, когда мои собственные дела не так уж блестящи.
– Ваши дела могут быть блестящи лишь в том случае, если вы займетесь другими. Притом должен вас предупредить, никаких особых подвигов требовать от вас не станут, и вообще, вы ничем не рискуете, разве только тем, что можете набить себе карман…
– Благодарю, – бросаю в ответ. – Только я не ребенок и понимаю, что никто не станет набивать тебе карман за какие-то пустяки.
– Речь идет не о пустяках, но о вещах, которые ни в коей мере не нарушат вашего спокойствия и ничем вам не грозят, – уточняет Бауэр. – Сделки, прибыли – все это дело весьма приятное, но не забывайте, если верх возьмет коммунизм, ничего не останется не только от наших прибылей, но и от нас самих. У людей свободной Европы есть гражданский долг, господин Роллан!
Наш торг продолжается еще какое-то время, при этом
Бауэр живописует мне то туго набитый деньгами карман, то коммунистическую опасность, пока я в конце концов не капитулирую, и не столько оттого, что напуган призраком коммунизма, сколько от страха перед лицом финансовой катастрофы.
– Так и быть, – уступаю я. – Выкладывайте, что вы от меня хотите.
– Вы это узнаете самым подробным образом. Но первое, что вы должны сделать, – это продать «Хронос».
– Как?! – восклицаю я на этот раз без притворства. –
Продать мою жемчужину техники?
– Именно, – спокойно кивает Бауэр. – Продать свою жемчужину. Незамедлительно и без колебаний.
И вот мы снова в поезде – я и моя секретарша. Если в
Мюнхене ей на глазах с каждым днем становилось все хуже, то сейчас я с удивлением замечаю, что лицо женщины посвежело, хотя к румянам она на этот раз не прибегала. Я не говорю о каком-то опьяняющем воодушевлении. Эдит едва ли способна на это – просто у нее исчезли признаки мигрени и меланхолии. И это так сказывается на ней, что она даже не против погостить в моем купе и выкурить сигарету.
Эдит садится у окна и закидывает ногу на ногу, отчего ее бедра обрисовываются под юбкой в обтяжку предельно выразительно.
– Все еще не могу понять, зачем вам понадобилось до последнего момента скрывать от меня, что из Мюнхена мы едем не в Женеву, а в Амстердам.
– Но причина, заставившая нас ехать в Амстердам, появилась в последний момент, – с ходу возражаю.
Не люблю прибегать к мелкой лжи, но подчас в этом находишь единственный способ избежать долгих и бесполезных пререканий.
– И вы храните эту причину в тайне?
– Отнюдь. Имеются в виду переговоры с главной дирекцией фирмы «Зодиак». Вообще имеется в виду именно то, в чем вы так глубоко сомневались.
Она смотрит на меня испытующе, но не отвечает на мои слова.
– В Мюнхене вас изводила мучительная боль! – сочувственно, хотя и без всякой связи, говорю я.
– Вы не можете себе представить, как это было ужасно! – подтвердила она.
– Другой бы на вашем месте, пожалуй, отдал бы концы.
Неделю не выходить из комнаты – да от одного этого не то что голова разболится, до самоубийства дойти можно.
При этих словах я протягиваю руку и закрываю дверь.
– Оставьте ваши пресные шутки, и не надо запирать дверь, – бросает Эдит, не теряя, однако, самообладания.
– Ужасный сквозняк. Головная боль может вернуться так же просто, как исчезла. И потом, нам надо поговорить.
Карие глаза Эдит не в состоянии скрыть тревогу.
– О чем?
– О многом. Можно, к примеру, начать с того пустяка: кого вы боялись в Мюнхене?
– Боялась?
Она звонко смеется, даже слишком звонко, как смеется женщина в надежде уйти от ответа на неудобный вопрос.
– Ладно, в таком случае начнем с другого конца: чем вас привлекает «Зодиак»?
Она обрывает смех и смотрит на меня холодно, почти с неприязнью.
– А третий вопрос будет?
– Будет и третий, и четвертый, и пятый. Не считая того, что вам придется дать объяснение по поводу лжи, которую вы мне столько раз преподносили.
– Что именно вы имеете в виду?
– Многое. Должен вам заметить, что ваша ложь ни разу не достигла цели. Возможно, я не специалист в живописи, но и не такой уж профан, кроме того, я не из тех сладострастных патронов, выбирающих себе секретаршу по принципу, у кого пышные формы…
Она молчит и по-прежнему смотрит на меня с неприязнью.
– Я отнесся к вам вполне доброжелательно; когда вы нуждались в работе, предложил вам место при сказочно высокой зарплате, если учесть степень вашей занятости по службе, а вы отвечаете мне ложью и неискренностью.
– Никак не могу понять, о чем вы толкуете, – говорит женщина, как бы только что пробудившись ото сна. – Я
делала все, что вы мне поручали. Что касается остального, то я не подряжалась раскрывать перед вами душу, хотя мне непонятно, какая воображаемая ложь до такой степени вас расстроила.
– Видите ли, Эдит, в вашем распоряжении целая ночь,
но у меня нет ни малейшего желания тратить ее на то, чтоб упражняться в красноречии. Раз вы и сейчас уклоняетесь от прямого ответа на прямой вопрос, закончим на этом наш разговор. Завтра я выплачиваю вам все, что предусмотрено соглашением, и вы свободны.
Неустойка сулит ей кругленькую сумму, так что мои слова должны были прозвучать не как угроза, а скорее как приятное обещание. Однако Эдит волнует совсем другое.
– И все-таки в чем, собственно, вы меня обвиняете?
Когда я вам лгала? Что я от вас скрывала?
– Я вам уже задал два вопроса.
– Ну хорошо. Я отвечу. С Мюнхеном вы действительно не ошиблись. В этом городе живет человек, с которым мне не хотелось встречаться. Ни с ним, ни с его близкими. Человек, который в свое время обошелся со мной некрасиво, а потом вдруг вздумал меня преследовать. Но это сугубо личная история, и мне непонятно, почему я должна была делиться с вами этим. А вот насчет «Зодиака» вы не правы.
Никакого особого интереса к этой фирме я не проявляла; единственное, на что я рассчитывала, – это устроиться там на постоянную работу и время от времени иметь возможность поехать куда-нибудь за счет фирмы – вот и все.
Подобным же образом Эдит могла ответить и на все прочие вопросы. Поэтому, памятуя о правиле «берегите наше время», я вынужден взять инициативу в свои руки.
Я закуриваю и закрываю на мгновенье глаза, чтобы собраться с мыслями и дать женщине возможность преодолеть страх, затем говорю:
– Вы закончили изучать французскую литературу четыре года назад. Установить этот факт было нетрудно. Из четырех лет год прошел на курсах машинописи и полгода –
у «Фишера и Ко». Остальные два с половиной года как в воду канули; трудно представить себе, чтоб вы провели их в безделье, принимая во внимание вашу энергичную натуру и ваши слова о том, что у вас не было близких людей, готовых содержать вас.
Она пытается что-то возразить, но я останавливаю ее:
– Погодите, это только начало. Второй момент: оставшись без работы и будучи не в состоянии найти подходящее место, вы покидаете Цюрих. Но самый беглый просмотр местной периодики, в особенности тех колонок, где даются мелкие объявления, убеждает нас в том, что в
Цюрихе в это время ежедневно искали по пять-шесть секретарей и машинисток. Третье: вы приезжаете в Женеву, чтобы попытать счастья, и первое, что вы узнаете от одной своей приятельницы, – новость относительно вакантного места в «Зодиаке». А ведь, в сущности, там вакантное место появилось лишь за два дня до нашей с вами встречи, что так же легко установить по объявлениям в газете. Вы же приехали за десять дней до этого и просидели все эти десять дней сложа руки, хотя упомянутые колонки ежедневно пестрели объявлениями о вакантных местах на других предприятиях.
Эдит молча глядит перед собой, словно то, что я говорю, ее не касается. Я же все время гляжу на нее, по опыту зная, что взгляд оказывает свое действие даже в тех случаях, если на тебя не смотрят в упор.
– А о вашей лжи относительно воображаемой приятельницы вообще говорить не приходится; впрочем, может, вы так называли мужчину, с которым встречались в
Женеве.
– Это вас тоже злит?
– Перестаньте ловчить. Это меня не злит в том смысле, какой вы хотите вложить, но приводит к определенным выводам. Однако давайте вернемся к «Зодиаку». Вы имели несчастье упустить столь желанное место. Но вам чертовски повезло – в тот же самый момент вам было предложено другое, к тому же равноценное. Вместо того чтоб радоваться такой удаче, вы проявляете необъяснимое колебание, тянете с ответом до следующего дня…
– Жизнь меня приучила не доверяться каждому встречному…
– Минуточку! И даже вопреки договоренности вы звоните лишь под вечер…
– Я уже объяснила вам, что искала вас с утра…
– И говорили неправду. Потому что с утра меня не было в отеле лишь то время, пока я ездил в «Зодиак», а вы слышали об этой встрече еще накануне, и было бы глупо искать меня, когда вам заведомо известно, что я отсутствую.
Она молчит. Я протягиваю руку над ее плечом. Разумеется, не для того, чтобы ее обнять, а чтобы выбросить в окно окурок.
– Потребовалось больше суток, чтобы ваша необъяснимая нерешительность сменилась столь же необъяснимым энтузиазмом, с которым вы выражали свое согласие…
– Может, и мне понадобилось навести кое-какие справки, как это делали вы.
– Спору нет. Но вам понадобились справки не только для того, чтоб убедиться, что я действительно владелец
«Хроноса», и узнать, что это за предприятие, – для вас было важно установить, какие у меня связи с «Зодиаком».
Вопросы, которые вы мне задаете время от времени, тоже говорят об этом. Иными словами, ваша настоящая работа интересна для вас постольку, поскольку вы это связываете с фирмой «Зодиак».
Чтоб предоставить женщине возможность ответить, я неторопливо затягиваюсь сигаретой, однако она предпочитает молчать, глядя перед собой. Мне не следует спешить. Может быть, Эдит обдумывает свою очередную ложь и, как только обдумает, любезно предложит ее моему вниманию.
– В ваших обвинениях кроме изрядной дозы мнительности есть некоторые верные моменты, – признает она наконец. – Разгадка всех моих поступков – интерес к «Зодиаку», и вы это поняли. В сущности, не столько к самой фирме, сколько к человеку, работающему там. Но это чисто личная история.
– Послушайте, Эдит. Вы уже тонете в личных историях.
Одна в Мюнхене, другая в «Зодиаке»… Только я не намерен тонуть в вашей лжи. Ваши поступки говорят о том, что в данном случае ни о какой личной истории речи быть не может. Ваши поступки продиктованы вам другими лицами, и всякий раз, прежде чем приступить к действию, вы дожидаетесь инструкций. Когда я предложил вам место, ваше колебание длилось ровно столько времени, сколько вам потребовалось для получения нужных указаний. Ваша встреча с «приятельницей» была вызвана той же необходимостью. Я не могу заставить вас доверять мне больше, чем вы считаете нужным, но я также не желаю, чтоб вы досаждали мне своей глупой ложью. Вы уже слышали мое решение: завтра получите расчет, и мы с вами распрощаемся.
– Но я не хочу с вами расставаться… вы мне нужны… –
протестует вполголоса Эдит, обернувшись в мою сторону.
– И вы мне нужны… – бормочу я.
В тот момент, когда женщина обернулась ко мне, ее лицо оказалось в одной пяди от моего. Я чувствую ее взволнованное дыхание, вижу вздымающуюся грудь – на мой взгляд, ей нет нужды прибегать к такому средству, грудь у нее и без того впечатляющая.
– Я охотно рассказала бы вам все, но не смею… –
шепчет она, ловя меня за руку.
– Почему? Вы косноязычием не страдаете.
– Потому, что здесь тайна… как вы сами догадались…
эта тайна не только моя… она вообще не моя…
– Ладно. Не стану вас неволить. Однако согласитесь, я не могу быть связан с человеком, у которого есть тайные намерения в той области, которая меня кормит.
В неясном для меня порыве Эдит жмет мне руку и говорит с мольбой в голосе:
– Обещайте хотя бы, что вы никому не расскажете…
Обещайте, что будете молчать.
– В этом отношении можете быть спокойны. Лишь бы, разумеется, ваши интересы не противоречили моим.
– Морис… – взволнованно говорит женщина, неожиданно называя меня по имени. – Я шпионка…
– Ах, шпионка… – Я тоже перехожу на шепот… –
Только этого мне недоставало.
Не выпуская моей руки, она с тревогой заглядывает мне в глаза, словно ужасаясь собственного признания.
– И какой же разведке ты служишь?
– Никакой… Служу «Фишер и Ко»…
– Но что же это за шпионаж?
– Экономический.
– Есть и такой?
– В некоторых областях «Зодиак» очень ущемляет интересы «Фишер и Ко». Кроме того, «Зодиак» разрабатывает кое-какие проекты, рассчитанные на поглощение отдельных предприятий и создание чего-то вроде монополии.
«Фишер и Ко» хочет быть в курсе этих проектов, вообще хочет знать все, что происходит в «Зодиаке».
Она излагает это голосом автомата и с лицом самоубийцы.
– Я никому не должна была об этом говорить, никому, понимаешь?
«Это все равно что ты никому не говорила. Одна моя приятельница так и называла меня: господин Никто», –
мелькает у меня в голове.
– Ясно. Успокойся. Я не из болтливых. К тому же твоя секретная миссия меня не затрагивает. При одном-единственном условии: что ты не натворишь глупостей и тем самым не напортишь мне.
Мы незаметно перешли на «ты», да иначе и быть не могло, раз уж завязался такой интимный разговор, полный шпионских признаний.
– Я не стану ничего делать без твоего ведома, – обещает
Эдит, – только с твоего согласия. Хорошо?
– Хорошо. – Но чтоб было еще лучше, мне следует довести процесс успокоения до конца. Это побуждает меня чуть подвинуться вправо и обнять Эдит за талию.
– О Морис, если бы ты знал, как я тебя ненавидела всего несколько минут назад!
Я не спешу со взаимным признанием, к тому же от близости этой роскошной женщины у меня дух захватывает. Да и дальнейшие разговоры излишни. Эдит в моих руках в прямом и переносном смысле слова.
5
Похоже, должности в «Зодиаке» раздаются в зависимости от живого веса. Если в Женеве директор толст, то главный коммерческий директор в Амстердаме в дверь не проходит. У этого исполина с остатками рыжих волос на голове добродушное багровое лицо и огромное брюхо – не иначе как от обильного потребления пива. Его фамилию –
ее я узнал еще от Бауэра – выплюнуть не так-то просто: ван
Вермескеркен.
Великан лениво опустился в кресло за дубовым письменным столом. Казалось, этого человека только что вынули из раскаленной печи – того и гляди, где-нибудь на темени вспыхнет пламя.
– Очень интересно, – рокочет ван Вермескеркен, когда я заканчиваю свой рассказ. – Очень интересно.
Он созерцает меня какое-то время и вполне благодушно добавляет:
– Только ваш вариант для нас совершенно неприемлем.
Исполин нажимает кнопку и отдает распоряжение появившейся секретарше:
– Принесите, пожалуйста, что-нибудь попить.
«Раз найдется что попить, значит, еще не все потеряно», – решаю я и достаю из кармана сигареты.
– Прошу вас! – спохватывается ван Вермескеркен и,
пыхтя, протягивает мне внушительную коробку с сигарами. Я беру сигару, и, пока освобождаю ее от упаковки и откусываю щипцами конец, секретарша приносит и ставит на край столика бутылки. Как и следовало ожидать, это пиво. Исполин ленивым жестом приглашает меня к столику, и мы устраиваемся в массивных, но удобных креслах.
Ван Вермескеркен привычными движениями откупоривает две бутылки «Тюборг» и наполняет кружки. Выпив свою кружку до дна, причмокивает и со вздохом откидывается на спинку кресла.
– Интересно, но неприемлемо, – резюмирует он уже сказанное. – Вы спросите: почему? Потому, дорогой мой, что, согласившись на ваше предложение, мы тем самым порываем с некоторыми солидными швейцарскими фирмами, с которыми работаем уже длительное время. Не знаю, чем вы навлекли на себя такую беду, но ваше предприятие бойкотируется.
– Этих бойкотов хватает не больше чем на три дня.
Достаточно, чтоб такая фирма, как «Зодиак», заключила с нами сделку, и всякому бойкоту конец.
– Ваше мнение о «Зодиаке» мне приятно, – рокочет директор. – Боюсь, что вы переоцениваете наши возможности. И в то же время недооцениваете своего противника.
Исполин выговаривает французские слова с английским акцентом, что для голландца не так уж плохо. Он умолкает, поглядывает на еще не откупоренные бутылки и с видимым усилием удерживает себя. «И поменьше жидкости», – наверно, говорил ему домашний врач во время последнего визита. Однако ван Вермескеркен такой красный, что лично я предписал бы ему побольше жидкости, если он не хочет, чтобы в один прекрасный момент его голова воспламенилась.
– Когда я давал вашему Бауэру положительный ответ, то имел в виду другой вариант, – возвращается к прерванной теме директор. – Мы готовы купить. Только не отдельные партии товара, а все предприятие целиком.
– Вы мне предлагаете продать «Хронос»? – изумленно спрашиваю я, чуть не вскочив на ноги.
– Именно, – невозмутимо кивает рыжий великан. – И
полагаем, что наше предложение вас очень обрадует!
– Обрадует? Меня? Вы меня толкаете на самоубийство и еще хотите, чтоб я этому радовался.
– Спокойно, спокойно, – поднимает руку директор. –
Ничего ужасного в нашем предложении нет…
Поднятая рука повисает в воздухе, потом как бы ненароком опускается на одну из бутылок. Вскоре крышечка мягко падает на ковер. Ну конечно, если во всех случаях следовать советам врачей…
– Мы предлагаем вам не самоубийство, а спасение, –
поясняет исполин после того, как осушил и вторую кружку одним духом. – Самоубийство вы сами себе уготовили. У
нас есть сведения, что бойкот окончится вашим банкротством…
И он излагает все те аргументы, которые мне хорошо известны, поскольку не так давно с их помощью я сам ставил в тупик несчастного основателя «Хроноса». Очевидно, люди «Зодиака» уже навели справки, потому что директор располагает довольно полными сведениями относительно моего предприятия.
– У вас один-единственный выход: продать. И редкая возможность: продать не какому-нибудь вымогателю, а весьма почтенным, я бы даже сказал щедрым, покупателям, вроде нас.
Все это время я нахожусь в естественном для подобных случаев подавленном состоянии духа, забыв даже выпить налитую исполином вторую кружку пива, хотя, между нами будь сказано, право утолять жажду дано не одному
Вермескеркену. Наконец устрашающие аргументы директора исчерпались, и я, желая растрогать собеседника, говорю, что «Хронос» для меня не просто источник прибылей, что это моя первая и, может быть, последняя любовь, что часы для меня что родовой герб, они у меня в крови и так далее, походя вставляя в свою душещипательную исповедь куски, позаимствованные из тирад Клода Ришара.
– Чудесно, – произносит директор, когда я замолкаю. –
Если эта сделка состоится, мы откроем у себя отдел по производству и сбыту часов и нам потребуется начальник отдела.
– А мой директор? А секретарша? А все те люди, которые так заботливо подбирались, чтобы создать живой работоспособный организм?..
– Но послушайте, – рокочет Вермескеркен. – Вовсе не в наших интересах разрушать этот организм. Напротив, мы его расширим, чтобы получилось мощное конкурентноспособное предприятие. Ваши люди не ощутят никаких перемен. Так же как и вы… разве только с ваших плеч свалятся бесчисленные заботы. – Для большей убедительности его рука делает решительный жест и хватает последнюю бутылку.
Я продолжаю какое-то время метаться в буре глубоких душевных переживаний. Потом как бы между прочим справляюсь о цене. На этот вопрос исполин отвечает вопросом:
– Сколько вы дали бывшему владельцу?
– Я вам скажу, хотя это тайна, касающаяся только меня и Ришара.
И называю точную цифру.
Люди «Зодиака» и без того уже докопались до этой цифры, в чем я тут же убеждаюсь по довольному виду исполина.
– Чудесно, – кивает он. – Следовательно, такую цену вам полагалось бы дать, чтоб вы не оказались внакладе. –
Но… – Я вспыхиваю от возмущения.
Директор снова поднимает свою пухлую руку.
– Погодите! Я сказал: полагалось бы дать, но это не означает, что так и будет. Вам удалось купить «Хронос»
очень дешево, а мы проявим к вам большую уступчивость, чем проявили вы по отношению к прежнему владельцу. Вы получите пять процентов сверх общей суммы сделки.
– Скажите десять, – говорю, – чтоб было над чем подумать.
Ван Вермескеркен тихо смеется, издавая при этом булькающие звуки, совсем как при полоскании горла.
– Не предавайтесь мечтаниям, господин Роллан. Мы с вами деловые люди. Пять процентов – это окончательное условие. И позвольте вам заметить, вполне приемлемое, если принять во внимание, в какой сумме это выразится.
Я, конечно, настаиваю на своих десяти процентах, потом снижаюсь до восьми, однако добродушная акула не собирается уступать.
– Пять процентов, – повторяет он до тех пор, пока не приходит время прощаться. – И не особенно тяните с ответом. Мы редко решаемся на подобные сделки, но, если уж решились, медлить не любим.
На улице идет дождь. В этом городе часто идет дождь и уж обязательно, если ты забыл взять зонт. Главная дирекция «Зодиака» находится на тихой улице, недалеко от центра. В сущности, это не улица, а набережная – с одной ее стороны мерно текут воды глубокого канала, чья темная поверхность изрешечена сейчас каплями дождя. Вообще, мне везет – нигде не испытываю недостатка в воде. Сперва
Венеция, потом Женева, теперь Амстердам.
Кутаюсь в плащ и шагаю по набережной, занятый своими мыслями. Пять, восемь ли процентов – это меня меньше всего волнует. Прибыли – вещь неплохая, но я не состою на службе во Внешторге и очутился тут не в погоне за прибылями. Меня беспокоит то, чему, казалось бы, следовало радоваться: операция развертывается чересчур стремительно, сделка может состояться тотчас же, стоит только дать согласие. Конечно, «Зодиак» не прочь присвоить такое предприятие, как «Хронос». Однако то, что директор изъявил готовность взять меня в придачу, вызывает у меня недоумение. Если бы подобное предложение исходило от какой-нибудь заурядной фирмы, преследующей лишь коммерческие интересы, это выглядело бы вполне естественно, но в данном случае, когда фирма представляет собой закамуфлированный шпионский центр, такая готовность трудно объяснима. Получается, что моя гипотеза «Зодиак» плюс разведывательное управление слишком поспешная. Быть может, в «Зодиаке» служит кто-нибудь из сотрудников этого управления?
Так или иначе, придется доделывать то, что уже начал.
Другого пути нет.
Эдит я застаю на том самом месте в кафе на Рембрандт-плейн, где я ее оставил. На столе чашка из-под кофе и несколько иллюстрированных журналов, уже освоенных, если судить по скучающему виду женщины.
Она смотрит на меня испытующе, стараясь понять, с чем я пришел, но, ничего не разгадав, нетерпеливо спрашивает:
– Все хорошо?
– Это с какой стороны посмотреть, – уклончиво отвечаю я. – Для меня не совсем хорошо, а вот тебе, видимо, есть чему радоваться.
Она так и дрожит от нетерпения.
– Сведения твоих шефов подтверждаются, – сообщаю я наконец, закуривая сигарету. – «Зодиак» и в самом деле намерен поглотить некоторые предприятия. И первым в списке, вероятно, окажется «Хронос».
Через два дня – срок не слишком велик, но и не так уж мал – меня снова ввели к рыжему исполину, чтобы я мог известить его, что принял условия.
– Отлично, – кивает головой довольный директор. – Я
так и предполагал. Вы с самого начала произвели на меня впечатление разумного человека. Формальности будут выполнены без проволочек. А тем временем вас не мешало бы представить нашему председателю, господину Эвансу.
Я уже говорил ему о вас.
Секретарша Вермескеркена ведет меня по пустынному коридору со множеством дверей, затем мы попадаем в маленькую приемную, где она передает меня в руки другой секретарши, охраняющей вход в святилище самого председателя. Она предлагает мне сесть и услужливо подносит утренние газеты. Я успеваю не только просмотреть прессу, но и рассмотреть эту хорошенькую женщину с приветливым лицом. Звонит телефон, и секретарша после нескольких односложных слов в трубку указывает мне на двери святилища.
Стоило мне окинуть беглым взглядом кабинет, как в моей голове родилось подозрение, что, пока я ждал за дверью, председатель тоже читал газеты. Они в беспорядке лежали на его письменном столе. Господин Эванс счел нужным встать с кресла и, встречая меня, снисходительно протянуть мне отяжелевшую длинную руку.
Председателя солидных фирм, как английские короли, – царствуют, но не управляют. Поэтому я ожидал увидеть музейную развалину, некоего отпрыска знатной семьи, который вместо богатства унаследовал только имя, обеспечивающее ему почетную должность и хорошее жалованье. Но встречающий меня человек, хотя ему уже за пятьдесят, в расцвете сил. Худой и очень высокий, он слегка сутулится, что характерно для высоких людей –
передвигаясь, они словно боятся стукнуться обо что-то головой.
– По-французски я говорю скверно, – отвечает он на мое приветствие. – Хотя все понимаю.
– Почти то же я могу сказать о своем английском.
Так что мы объяснимся на двух языках. Это, оказывается, не столь уж трудно, потому что разговора, в сущности, нет. Если не считать коротких реплик, время уходит на длинные монологи. Мой – о том, какие возможности открываются перед проектируемым новым отделом, если иметь в виду бесценные качества часов «Хронос». И его – о характере предприятия «Зодиак», о маленьких колесиках секторов, образующих большую машину, о преимуществах этой машины, на которую почти не влияют эпизодические кризисы отдельных секторов, и так далее, и так далее. У
меня создается впечатление, что он повторяет истины, заготовленные специально для таких случаев, но я на большее не претендую, потому что мой собственный монолог тоже не блещет оригинальностью.
Эванс говорит монотонно, не проявляя особого интереса к тому, как я на это реагирую, лишний раз подчеркивая, что исполняет скучный и неизбежный ритуал. Его красивое, мужественное лицо говорит о сильном, волевом характере и напоминает физиономию знаменитого голливудского актера, который благодаря этой своей физиономии стал миллионером. Только у актера взгляд был полон сердечности, а под наплывом возвышенных чувств становился даже нежным. А серые холодные глаза Эванса смотрят на тебя отсутствующим взглядом, как у человека, думающего совсем о другом, и кажется, будто за этими глазами вовсе нет человека.
Я наблюдаю за своим собеседником без видимого любопытства, так же как без видимого любопытства рассматриваю комнату. Огромный кабинет скорее похож на морской музей. Передо мной макеты старинных кораблей, хранящиеся под стеклянными колпаками, мореходные карты, рулевое колесо парохода, компасы и барометры, морские раковины всевозможных видов и размеров. В
глубине комнаты две двери. Одна чуть приоткрыта, ровно настолько, чтоб было видно, что, кроме умывальника, ничего другого за нею нет. Сверкающие чистотой окна глядят на высокие деревья набережной.
– Нет ли у вас каких-либо пожеланий? – закончив свой монолог, спрашивает Эванс, немного помолчав.
Это означает: «Не пора ли тебе уходить?», но я решаю воспользоваться случаем.
– Мне бы хотелось сохранить свою секретаршу.
– Она настолько красива? – поднимает брови Эванс.
Вот и все, к чему он проявил интерес, его единственная шутка, если эта банальность может сойти за шутку.
– Дело вкуса. Но она отличный работник, я к ней привык и…
– Хорошо, хорошо, – соглашается Эванс. – Обратитесь от моего имени к Уорнеру, пускай он уладит вопрос о ее назначении. Впрочем, вам следует зайти к Уорнеру и по поводу своего назначения.
И он встает с явным намерением дать мне понять, что на приеме у председателя не принято засиживаться.
Мною перебрасываются, как футбольным мячом, – ван
Вермескеркен – Эвансу, Эванс – Уорнеру. «Зайдите к
Уорнеру» – звучит невинно и просто, вроде «закурите сигарету». Однако на деле все выглядит совсем иначе.
Адам Уорнер, администратор, ведающий персоналом, –
человек моего возраста и, вероятно, не более доверчивый, чем я. Равноценного противника всегда быстро узнаешь, потому что без труда улавливаешь нечто общее, существующее и в мыслях, и в поступках. На Уорнере безупречный, но не броский серый костюм. И лицо у него серое,
невыразительное, лишенное каких-либо отличительных черт. То же можно сказать и о глазах, этих окошках души, если бы не их необыкновенная подвижность и глубоко затаенная подозрительность.
Он предлагает мне сесть возле письменного стола и, не глядя, вытаскивает из ящика какие-то формуляры. Комната у него маленькая, я бы даже сказал убогая, в сравнении с шикарными кабинетами коммерческого директора и председателя.
– По-французски я говорю довольно скверно, – предупреждает меня Уорнер.
– В таком случае наберитесь терпения слушать плохой английский…
– Это отнюдь не затронет моих национальных чувств, –
отвечает шеф. – Я американец.
Американцы, заметим попутно, воображают, что, испортив английский, сделали из него новый язык.
– Вы из Лозанны, не так ли?
Я киваю.
– Швейцарец по происхождению?
Снова киваю.
– Впрочем… – тут он делает вид, что заглядывает в лежащие перед ним документы, – мать у вас, кажется, болгарка.
– Армянка, – поправляю я его.
– Но родом из Болгарии?
– Да. Из Пловдива. В сущности, она покинула эту страну еще в молодости.
– Понимаю. И больше туда не возвращалась?
– Единственный раз, насколько мне известно.
– А вы когда бывали в Болгарии?
– Специально туда я не ездил. Побывал однажды, проездом в Турцию.
– Когда именно?
И завертелась карусель. Карусель из вопросов и ответов, вопросов на вопросы, отклонений то в одну сторону, то в другую, случайные реплики как бы для красного словца, и снова неожиданные повороты – совсем так же, как если бы я был на месте Уорнера, а Уорнер на моем. Потому что это форменный допрос, настойчивый и обстоятельный, и человек за столом особенно не старается придать ему вид дружеской беседы. Это проверка, имеющая для меня решающее значение, проверка легенды, всех ее швов и стежков, проверка, которая не только держит меня в напряжении, но и пробуждает во мне скрытую радость от того, что наши люди все обмозговали, каждый из вопросов, которым Уорнер рассчитывает прижать меня к стенке, предусмотрен заранее, и когда я слышу эти вопросы, то мне чудится, что я слышу голос полковника там, далеко, за тысячи километров отсюда, в генеральском кабинете, и в эти минуты мне особенно приятно, что на свете есть педанты вроде него, которые не успокоятся до тех пор, пока не проверят все до последних мелочей.
Сходство между мною и Уорнером, которое, как мне кажется, я уловил в самом начале, облегчает в какой-то мере мое положение. Своей тактикой он не в состоянии застать меня врасплох, и самые неожиданные и самые провокационные его вопросы я слышу именно тогда, когда я уверен, что они последуют. Но от этого мое положение не перестает быть критическим. Опыт и проницательность человека, сидящего за письменным столом, служат гарантией тому, что ни один каверзный вопрос мне даром не пройдет. В такие минуты я благословляю свою готовность вести разговор по-английски. Недостаточное владение языком всегда может служить оправданием того, что ты медлишь, замолкаешь, останавливаешься на середине фразы, подыскивая нужное тебе слово.
Это игра. А в игре существует риск. Мои ответы при всей их неуязвимости могут звучать так, что сидящий напротив человек придет к мысли: «У тебя приятель, непоколебимая легенда, однако это все-таки легенда. Так что убирайся-ка ты со своим враньем подальше». И потому игра должна вестись в двух планах – убедительность фактов и убедительность психологии. Иными словами, ни на мгновение не вылезать из шкуры изображаемого искреннего человека, каким ты не являешься, но каким должен казаться. В одних случаях тебе следует остерегаться излишней медлительности, в других – чрезмерной торопливости. На одни вопросы следует отвечать тотчас же, другие обязывают тебя поразмыслить, хотя ответ заранее заготовлен. Все должно быть естественно, спонтанно; каждому ответу должен соответствовать свой жест, взгляд, выражение лица. Как на сцене и в то же время не совсем так.
Потому что едва ли хоть один артист играл в пьесе, где любой неуместный или фальшивый жест стоил бы ему жизни.
– Ваш интерес к моему прошлому начинает меня беспокоить, – вставляю я с улыбкой на лице. – Невольно начинаешь думать, уж не подложил ли мне свинью кто-нибудь из моих конкурентов…
– О, не беспокойтесь, – в свою очередь усмехается
Уорнер. – Мы не дети, чтобы слушать всякий вздор. И
вообще то, что я вас расспрашиваю, в порядке вещей. Мы все тут, в «Зодиаке», одна большая семья. Дорожим своими людьми, заботимся о них, а потому нам представляется, что мы обязаны знать о них решительно все.
Он бросает на меня свой короткий взгляд, безучастный, но смущающий своей неожиданностью, и спрашивает:
– Когда вы закрыли в Лозанне магазин?
– В мае прошлого года. Сразу после смерти отца.
– Почему?
– Видите ли, это довольно сложный вопрос. Отец мой в сделках был очень робок и принимался за что-нибудь, лишь бы не сидеть без дела; предприятие влачило жалкое существование. Я просто не видел смысла держать его…
– Но ведь кончина вашего отца явилась как раз счастливой возможностью – извините за такие слова – оживить дело.
– Сомневаюсь. У меня, во всяком случае, не было такого убеждения. Магазины, знаете, они как люди. Если уж испорчена репутация, трудно что-нибудь изменить. Наша фирма в течение десятилетий считалась мелким заурядным предприятием, товар предлагала посредственный…
– Может быть, вы правы, – уступает Уорнер. – Итак, вы опустили железные шторы в мае прошлого года?
– Да.
– А вошли во владение «Хроносом» в июле этого года?
Подтверждаю кивком, напряженно ожидая, что последует за этим.
– А что вы сделали в промежутке между этими двумя событиями?
Это вопрос, которого я жду давно. Магазины, они как люди, добавим, и как легенды. Самая разработанная легенда не может быть совершенной. Как бы легенда ни была хороша, у нее найдутся слабые места.
– Путешествовал.
– Где именно?
Бывают вопросы, на которые можно запросто ответить чем-нибудь вроде «не помню». Увы, этот не из таких.
– Почти все время провел в Индии: Бомбей, Хайдарабад, Мадрас, Калькутта…
– В Индии? Зачем так далеко?
– Именно затем, что далеко. Мой отец был не только посредственным торговцем, он отличался тираническими наклонностями. Не считался ни с моими взглядами на торговлю, ни с личными желаниями. Сколько я ни говорил ему, что мне хочется поездить по свету – а я всегда мечтал о путешествиях, – он отделывался одной и той же фразой:
«Товары ездят. Людям лучше сидеть на месте».
На минуту замолкаю, будто слышу голос покойного родителя. Потом снисходительно добавляю:
– Что вы хотите – человек старого пошиба. Горе горем, но, как только я остался один, я почувствовал себя школьником, отпущенным на каникулы.
– И отправились в Индию… Понимаю. Вы даже упомянули тут некоторые города. А не могли бы несколько подробнее осветить свою поездку: гостиницы и прочее…
И я начинаю детально описывать места и достопримечательности, которых никогда в жизни не видел и знаю разве что по снимкам.
Адам Уорнер слушает меня внимательно, но пометок никаких не делает, хотя ручка у него в руке и формуляры лежат перед ним. Вероятно, все фиксирует магнитофон…
Проходит час, и директор решает наконец представить мне отдых. Я говорю «отдых», потому что данные будут проверены и последует новая серия вопросов. Тут все предельно просто: предварительный зондаж, затем обстоятельный допрос, потом прощупывание наиболее уязвимых мест, дополнительные расспросы – пока тебя совсем не выпотрошат или не оставят в покое.
– Надеюсь, я вас не слишком утомил.
Говорить такие вещи после трехчасового допроса по меньшей мере бессовестно, однако я лишь устало усмехаюсь.
– Не слишком, но основательно.
– Что касается вашей секретарши, то вопрос будет улажен немедленно. Пришлите ее ко мне.
Несколько позже я сижу с Эдит в одном из уютных ресторанов на Дамраке. Уорнер до такой степени выжал из меня жизненные соки, что пришлось выпить три кружки пива, чтобы восстановить нормальное орошение организма.
– Ты еще долго намерен наливаться? – любопытствует
Эдит.
– Кончаю. И уже готов сообщить тебе первую новость: тебя зачисляют в штат «Зодиака».
– Ты чудесный!.
– Второе тоже заслуживает твоего внимания: ты остаешься моим личным секретарем. Так что веди себя поучтивей.
– Я буду твоей рабыней.
– Пока не вижу в этом необходимости. Куда важнее не делать чего-нибудь очертя голову. Короче, ничем не заниматься, кроме исполнения прямых служебных обязанностей. У меня такое чувство, что у этих людей болезненная мнительность и солидный запас магнитофонов.
– Ты меня пугаешь.
– У меня нет подобного желания. Просто хочу напомнить тебе о первом и единственном условии нашего с тобой уговора.
Я замолкаю – подошел кельнер и раскладывает по тарелкам еду. Бифштекс с жареным картофелем и зеленым салатом. Скромное, но обильное блюдо в рабочий день. В
интересах внутреннего орошения заказываю еще две бутылки пива и, отослав официанта, заканчиваю мысль:
– Потому что для тебя, дорогая Эдит, служба в «Зодиаке», быть может, всего лишь эпизод, а для меня – мое будущее…
– Ладно, – останавливает она меня, принимаясь за сочный бифштекс. – Можешь приберечь свои тирады. Заранее знаю, что ты хочешь сказать.
– Сомневаюсь. Я хочу сказать, что по поводу твоего назначения тебе придется зайти к господину Адаму Уорнеру, директору-администратору фирмы.
– Зайду.
– Имей в виду, хотя его зовут Адамом, вопросы, которые он задает, совсем не те, какие можно было бы услышать от нашего прародителя.
Она перестает есть и смотрит на меня.
– Я бы даже сказал, что и задает он их необычайно ловко. А любопытен сверх всякой меры. Если ты подашь ему свою легенду в таком виде, в каком поначалу подала мне, то я тебе не завидую.
– Спасибо, что предупредил. Но я приготовилась.
– А если речь зайдет о твоем устройстве в «Зодиаке»?
Уорнер не пройдет мимо факта, что после неудачной попытки поступить в их женевский филиал ты пожаловала в главную дирекцию в качестве моего секретаря.
– Он не может знать о моей первой попытке. Я ни документов не оставляла, ни заявления не подавала.
– Но ты назвала себя.
– И не называла. Когда я пришла впервые, претендентов набралось много, а помощник директора принимал наспех, лишь бы окинуть взглядом каждую из нас. Этот тип
– известный бабник.
– Странно, как это он тебя не взял.
– Увы, Морис, не всем присущ твой здоровый плебейский вкус. В сущности, вопрос уже был почти решен в мою пользу, но после меня к нему вошла претендентка; увидев ее, я сразу почувствовала, что она меня вытеснит.
– Должно быть, она была настоящей богиней.
– Ничего подобного. Длинноногое тощее существо с огромными искусственными ресницами и толстыми бесцветными губами, какими славится сословие манекенщиц.
– Дело вкуса, – говорю я. – А «Фишер и Ко»?
– Что «Фишер и Ко»?
– Если «Фишер и Ко» проявляет к «Зодиаку» особый интерес, Уорнер не может не знать об этом. И как только ты сообщишь, где работала…
– Понимаю, – останавливает она меня.
Словно собравшись с мыслями, говорит нерешительно, глядя мне в лицо:
– Морис, мне не хотелось доверять тебе свою последнюю тайну, но я это сделаю, раз это необходимо, и тебе я верю. «Фишер и Ко» – промежуточное звено. Проектами
«Зодиака» интересуется совсем другая фирма.
К столу приближается кельнер с живительной влагой, и
Эдит принимается за свой бифштекс.
Эдит возвращается в отель лишь вечером, вид у нее измученный. Она раскрывает рот, желая что-то сказать, но я опережаю ее:
– Пойдем ужинать? Я умираю от голода…
Понимая, что я имею в виду, она только кивает головой и уходит в ванную.
– Ты думаешь, нас подслушивают? – спрашивает женщина, когда мы выходим на Кальверстрат.
– Я в этом уверен. Могу даже сказать, кто именно этим занимается.
– Тот старик, что третьего дня поселился в соседней комнате, – догадывается Эдит.
– Точно. У тебя довольно зоркий глаз.
– Да по его виду нетрудно догадаться, что он филер. Но, Морис, подслушивать в отеле, тебе не кажется, что это уж слишком?
– Какое это имеет значение?
– Как «какое значение»? Мы в торговую фирму поступает или в центр атомных исследований?
– Не знаю, – говорю я задумчиво, делая вид, что именно это меня беспокоит. – Во всяком случае, голландцы известны на весь мир своей шпиономанией. И потом, эти торговые фирмы, даже самые порядочные, подчас торгуют не совсем порядочным товаром, например оружием.
– Наверное, так и есть. Иначе объяснить нельзя.
– А как тебя принимал Уорнер?
– Ужасно! – вздыхает она. – Единственное, о чем он забыл спросить, – это о номере моего бюстгальтера.
– Ну и?..
– Думаю, что справилась, – скромно отвечает женщина.
– Об этом ты узнаешь при втором допросе.
Она бросает на меня испуганный взгляд.
– Ты хочешь сказать?..
Мой второй допрос состоялся десятью днями позже и прошел значительно легче первого. Вообще у меня создалось впечатление, что проверка пошла мне на пользу. Как ни странно, документы о продаже, до сих пор неизвестно почему лежавшие без движения, после моего повторного визита к Уорнеру сразу были переданы на подпись и сделка оформлена одновременно с моим назначением.
Таким образом, я теперь член большого семейства, имя которому «Зодиак», и пользуюсь отдельным уютным кабинетом – светлым и благоухающим чистотой. Подведомственный мне персонал хотя и не столь многочисленный, но не плохой. Он состоит из мадемуазель Эдит Рихтер, которая устроилась напротив меня за небольшим столом и, закидывая ногу на ногу, не упускает случая продемонстрировать несравненные качества своих чулок.
Когда мой блуждающий взгляд падает куда не следует, я бросаю как бы невзначай:
– Не отвлекай меня от работы.
– А что я должна делать, если у меня такая короткая и узкая юбка? Не могу же я все время сидеть, как школьница в классе?
– Купи себе другую, пошире и подлинней! – возражаю я. – Хочешь, подарю тебе шотландскую, плиссированную, в синюю и зеленую клетку? Такие сейчас модны.
– Не люблю плиссированных юбок. Они меня полнят.
– Тогда я куплю тебе рабочий халат. Непременно куплю халат, если ты не прекратишь эти свои фокусы.
И в свободные минуты наши разговоры носят примерно такой же характер, поскольку нам стало ясно, что ни в отеле, ни здесь о серьезных вещах говорить не приходится.
Хотя мы поступили на работу недавно, свободных минут у нас немного. Ежедневно приходится писать по нескольку писем в адрес возможных клиентов, поэтому предложения излагаются подробно и формулируются всякий раз применительно к случаю. Для популяризации всякой новой продукции необходимо подумать, что может сделать реклама. Предприятие расширяется, надо поднимать его производительность, и я часто связываюсь по телефону с
Клодом Ришаром, чтобы обратить его внимание на то или иное важное обстоятельство.
К моему счастью, вернее, к счастью «Зодиака», Ришар со свойственным ему стремлением к усовершенствованиям уже в самом начале предусмотрел возможность подобной перестройки, поэтому расширение можно было осуществить легко, хотя и не без затрат. Кстати сказать, новость о переходе «Хроноса» к «Зодиаку» вызвала у Ришара порыв активности. Только теперь мне стало ясно, что во мне он видел могильщика его детища, хотя и не говорил мне об этом. Неожиданный поворот в судьбе его фирмы вселил в него веру: торжествовать победу над акулами, пусть даже без особой выгоды для себя, будет он. В своей одержимости бедняга даже не дает себе отчета в том, что именно теперь он целиком и полностью покорился этим самым акулам.
Мое появление в большом семействе «Зодиака» ничуть не похоже на семейный праздник. Кабинет мой почти изолирован в конце коридора, противоположном тому, которые ведет к святилищу председателя. Ко мне никто не заходит, да и сам я лишен поводов ходить к кому бы то ни было, поскольку для служебных справок существует телефон. Люди, которым меня представили как начальника нового отдела, встречаясь со мной в коридоре, ограничиваются репликами холодной любезности. Вообще говоря, стиль «Зодиака», судя по всему, стиль деловой замкнутости: всяк знай свое дело. Холодность в обращении так же характерна для этого учреждения, как легкий запах паркетина, пропитавший комнаты. Верно, некоторые чиновники ходят в обеденное время в кафе на углу, чтоб там поболтать за чашкой кофе или кружкой пива, но болтают они о пустяках, а внимание их ко мне ограничивается вежливыми кивками. Я в свою очередь не кидаюсь на поиски знакомств, а усваиваю стиль предприятия, «здравствуйте» и «до свидания». Рудольф Бауэр, человек неглупый, предупреждал меня при нашем последнем разговоре:
– Главное: никакой горячки и предельная осторожность. Это весьма неподатливая и труднопроницаемая среда, иначе не было бы нужды посылать вас туда. Пусть люди к вам привыкнут, почувствуют вас своим человеком.
А до тех пор смотрите и слушайте, но чтобы это не бросалось в глаза.
– И все же я должен располагать хоть какими-то данными. Надо же знать, на чем сосредоточить особое внимание…
– Данные? Мы ими тоже не располагаем, если не считать того, о чем я с вами говорил: подозрительно тесные связи с Востоком, подозрительно сильное стремление расширить их, хотя особых выгод это и не сулит. Впрочем, никаких дополнительных данных вам и не потребуется.
Поймите, мы вас посылаем не для того, чтобы вы предпринимали какие-то действия, по крайней мере в настоящий момент, а просто ради того, чтобы иметь там свои глаза и уши.
Потом он объяснил мне, как установить связь в случае необходимости. Способ не особенно оригинальный, зато учтены меры крайней предосторожности. И вообще весь наш разговор можно было назвать уроком о мерах предосторожности, и у меня не было намерения забывать этот урок, тем более что он каким-то странным образом совпал с единственным указанием, полученным мною от нашего
Центра.
В главной дирекции «Зодиака» работает несколько десятков служащих, и должен же найтись среди этих людей хоть один общительный человек. Я, чтобы его обнаружить, никаких специальных усилий не прилагаю, будучи уверен, что, если такой человек действительно существует, он сам отыщет ко мне дорогу. Так и случилось. Этим общительным человеком оказался руководитель отдела рекламы
Конрад Райман.
Эдит до того быстро вошла в курс дела, что уже нет надобности диктовать ей письма. Достаточно сказать, о чем речь, и она сама составит их, притом значительно лучше меня.
Последнее письмо, отстуканное на машинке под мою диктовку, было адресовано, если мне память не изменяет, одной экспортно-импортной фирме в Болгарии. В нем в иносказательной форме я наложил все, что требовалось, или по крайней мере самое главное. Остальное – по установлении постоянной связи или в случае необходимости.
Так как теперь я лишь подписываю корреспонденцию, у меня появилась возможность заняться вопросами рекламы.
Одним из своих проектов я делюсь с Вермескеркеном.
– Нечего вам ломать голову над этим, – говорит он в ответ. – Посоветуйтесь с Райманом, он настоящий магистр по части рекламы.
С магистром по части рекламы мы уже познакомились, и все же всякий раз, заходя к нему, я не упускаю случая сказать, что пришел по поручению коммерческого директора, – пусть не воображает, что мне так дорого его общество. Человек средних лет, с виду довольно тщедушный, бледное конопатое лицо, очки в золотой оправе, Райман своим обликом напоминает рассеянного профессора или чудака. Меня он встречает весьма любезно, терпеливо выслушивает мои проекты, затем отмечает, что идеи мои интересны, однако дело, мол, это очень сложное, над ним еще придется как следует подумать, и что он, Райман, возможно, тоже предложит кое-какие идеи и вообще заглянет ко мне при первом удобном случае. Все это звучит для меня примерно так: «Ты, милый мой, ни черта в этом деле не смыслишь, но я достаточно хорошо воспитан, чтоб тебе это прямо сказать». Мне ничего не стоит на любезность ответить любезностью, потому что фальшь в отношениях между людьми не бог весть какое искусство.
Признаться, я приятно удивлен, когда на следующий день Райман приглашает меня на дружеский разговор, притом не к себе в кабинет, а в один из ресторанов на
Рембрандт-плейн. Он обстоятельно обсуждает меню, советуясь то с услужливо склонившимся официантом в голубом смокинге, то со мной. Я рассеянно разглядываю пустую площадь с мокрыми от дождя тротуарами, темную, взъерошенную порывами ветра листву деревьев и блестящий от влаги памятник. Прославленный Рембрандт чем-то напоминает мне парижского бакалейщика, у которого я одно время покупал продукты.
За обедом Райман, как подобает благовоспитанному человеку, ведет разговор только на общие темы, интересуется, удобная ли у меня квартира, не испытываю ли я чувства одиночества и прочее. Лишь после коронных блюд
– их названий я уже не помню – и после того, как нам подали кофе, конопатый подходит к вопросу, ради которого мы встретились.
– Я много думал над проектами, которые вы мне вчера изложили. Их одухотворяет достойное симпатии стремление прославить ваши часы. Это вдвойне мило, если принять во внимание, что часы эти уже не ваши в прямом смысле слова. И все же… вы позволите быть искренним?.
Тут мой собеседник замолкает и с минуту выжидающе смотрит на меня поверх очков, так что я вынужден кивнуть; мол, разумеется, почему бы и нет, будьте искренни, насколько вам угодно.
– Ваш план мне кажется трудноосуществимым, преждевременным и, что особенно важно, малополезным.
Райман снова смотрит на меня поверх очков, желая прочесть на моем лице выражение протеста или разочарования. Но поскольку ничего подобного прочесть ему не удается, он продолжает:
– Быть может, моя прямота покажется вам грубостью.
Однако прямота – это мой стиль, и, хотя она доставляет мне массу неприятностей, я не собираюсь с нею расставаться.
Вообще мне представляется гораздо воспитаннее говорить правду в глаза, нежели беззастенчиво лгать собеседнику только ради того, чтобы создать о себе впечатление как о воспитанном человеке.
– Совершенно верно, – киваю в третий раз, потому что взгляд конопатого в третий раз перепрыгивает через золотую оправу очков. – Тем более что я вообще не вижу причин уклоняться от прямого разговора, поскольку вопрос этот не затрагивает ни моего кармана, ни вашего.
– Вот именно. Главный порок вашего проекта состоит в несколько устаревшей концепции рекламы. В наши дни дело идет к тому, дорогой господин Роллан, что рекламу скоро уничтожит реклама. Чтобы вобрать все поступающие объявления, газеты начали выходить на восьми, на шестнадцати, а потом и на тридцати двух страницах. Однако на прочтение газеты в тридцать две страницы люди тратят столько же времени, сколько тратили, когда газета выходила на восьми страницах. По мере увеличения количества полос возрастает объем непрочитанного материала. Поэтому перед вашими глазами все чаще мелькают страницы, на которых красуется одна-единственная фраза, набранная крупным шрифтом: «ОПТИМА – прогресс столетия», или что-нибудь в этом роде. Такова ныне ситуация.
И согласитесь, при подобной ситуации ваши длинные рассуждения о преимуществах изделий фирмы «Хронос», несмотря на железную аргументацию, останутся набором ничего не значащих слов.
– Но позвольте! Если реклама не читается, то лишь потому, что уже заведомо имеет вид рекламы. А моя информация может быть воспринята как сообщение о технической новинке.
– Ни одна редакция не согласится помещать это как некое сообщение. Подобная информация всегда носит обозначение «реклама».
– В таком случае можно подумать над тем, как синтезировать все самое существенное в четырех-пяти фразах, –
уступаю я.
– В одной фразе! – поправляет меня Райман.
– Но, простите, одной фразой ничего не скажешь. Ваши рекламы, состоящие из одной фразы, – пустые слова.
«Чтобы не испытывать разочарований, возьмите ТРИ-
УМФ» или «О МИНЕРВЕ говорить нечего, она сама о себе говорит!» Эти перлы до такой степени бессодержательны, что, если бы не рисунок, никто бы даже не догадался, о чем идет речь – о холодильнике или одеколоне.
Мой монолог Райман слушает с легкой усмешкой. Потом замечает:
– Мне очень приятно, что вы познакомились с нашей скромной рекламной продукцией, хотя оценка ваша не в меру строга. Как вы могли понять, в нашем разговоре сталкиваются два враждующих взгляда на рекламу, таких же старых, как сама реклама. Не взять ли нам еще по коньяку?
Я машинально киваю, удивленный тем, что незаметно для себя стал представителем нового идейного направления в области рекламы. Официант с почти религиозным послушанием принимает заказ Раймана и через минуту приносит рюмочки коньяку, такие миниатюрные, что, по-моему, из-за этих двух капель не стоило огород городить. Мое пренебрежение к подобной утонченности настолько очевидно, что мой собеседник говорит с улыбкой официанту:
– Чудесно… Не могли бы вы подать нам бутылку?
Новое пожелание официант принимает с таким энтузиазмом, словно он только того и ждал, хотя зал заметно опустел. После того как на столе червонным золотом засверкала откупоренная бутылка «Энси», а на месте наперстков появились более приличные рюмки, Райман возвращается к теме нашего разговора.
– Содержательная реклама, которую вы отстаиваете, все еще имеет много сторонников, однако это не мешает ей оставаться устаревшей. Ныне никто не читает рекламу ради того, чтоб узнать о преимуществах тех или иных товаров.
Почему? Потому что каждому известно, реклама только тем и занимается, что подчеркивает эти преимущества, воображаемые или преувеличенные, следовательно, никто в них не верит. И напротив: одна-единственная фраза, если она эффектна, производит впечатление. И запоминается…
Разговор продолжается, и я по мере сил поддерживаю его уже как признанный представитель одной из враждующих школ. Тема, по существу, исчерпана, коньяк на исходе, но тут Райман дает новый толчок нашей беседе, заявляя доверительно:
– Главное не в том, дорогой мой Роллан, какой вид рекламы избрать. А в том, что изделия вашего «Хроноса», по крайней мере сейчас, вообще не следует рекламировать!
– Ваш эпилог, дорогой маэстро, меня прямо-таки удивляет, – отмечаю я, изображая легкое опьянение.
– И все же то, что я говорю, чистейшая правда! –
твердит Райман, заметно возбужденный коньяком. – Рекламная тактика, дорогой друг, неотделима от коммерческой стратегии. А правильная стратегия, если хотите знать, исключает в данный момент всякий пропагандистский шум вокруг ваших «хроносов».
Он тянется к бутылке, желая дать мне запить горькую пилюлю, но в бутылке остались лишь капельки, не заслуживающие внимания.
– Что вы скажете, если мы переменим обстановку? –
предлагает конопатый. – Тут уже становится слишком однообразно.
– Вы меня искушаете… хотя, признаться, у меня есть маленькое обязательство…
– Наверно, перед женщиной?
– Обещал секретарше сходить с ней в кино… Она, понимаете, еще как-то не прижилась в этом городе…
– Кино?.. Презираю заведения, где ничего не подают…
– Подают фильмы.
– А, фильмы! Я сам их произвожу и знаю, какова им цена. Давайте-ка возьмем вашу секретаршу и поищем заведение повеселей. Так и обещание сдержите, и беседу сможем продолжить.
– Отличная идея, – соглашаюсь я. – Только при условии, что по дороге вы мне объясните вашу концепцию рекламной стратегии.
Райман оплачивает счет, прибавляя к сумме чаевые, от которых раболепная физиономия официанта до ушей расплывается в сияющей улыбке. Мы выходим на улицу и поворачиваем к центру, но дождь усилился и, поскольку при подобной погоде серьезный разговор невозможен, мы вынуждены нырнуть в ближайшее кафе и вернуться к французскому коньяку.
– Ваши конкуренты – крупные и солидные предприятия, – разъясняет мне Райман после того, как нам подают по двойной порции солнечного напитка. – Они, конечно, в состоянии стереть в порошок «Хронос», что с удовольствием сделали бы и с вами. Но не делают этого. И потому у вас нет основания попусту их дразнить. Главное, они свыклись с мыслью, что «Хронос» существует и – пока они хотят этого – будет существовать, и особого значения этому факту уже не придают, так как на него никто не обращает внимания.
– А куда девать продукцию? И на кой черт сейчас расширять предприятие?
– Рынок, дорогой мой, найдется для любого товара.
Важно знать, где рынок выгодней. И направлять товар именно туда, а не в другое место. Ну и уметь его подать.
Конопатый несколько побледнел от выпитого, хотя заметить это не так просто при его естественной бледности, и голос его стал чуть громче. Мысли же моего собеседника текут вполне логично, как, впрочем, и мои, но я больше не вижу смысла выражать их вслух.
– Ваш товар, хотя он и не пользуется популярностью, добротный и недорогой. Следовательно, мы будем размещать его там, где интересуются не столько маркой, сколько качеством. Прежде всего в странах по ту сторону «железного занавеса».
Вопрос достаточно серьезный, и, чтобы его обстоятельно проанализировать, приходится заказать еще коньяку. Уходя, мы уже называем друг друга по имени, и ноги у нас слегка пружинят.
Эдит встречает нас без особой радости, а на меня бросает такой взгляд, что другой на моем месте с более чувствительными нервами так бы и рухнул на пол. Я действительно обещал секретарше прогуляться с нею после обеда, а «после обеда», как ни растяжимо это понятие во времени, давно прошло, в окнах уже горит свет.
Эдит, проявив такт, какого я в ней и не подозревал, старается не портить нам настроение своими капризами и быстро включается в общую атмосферу предпраздничного веселья. Ей не неприятны изысканно-банальные комплименты Раймана, зато она слегка озадачена тем обстоятельством, что конопатый запросто называет меня Морис.
– И вы до сих пор не нашли себе хорошую квартиру? –
удивляется Райман, небрежно осматривая гостиничную обстановку, кстати сказать вполне современную и уютную.
– Чтобы найти хорошую квартиру, нужно иметь хорошие знакомства, – замечает Эдит, поправляя прическу перед зеркалом.
– Но ведь «Зодиак» – неисчерпаемый кладезь хороших знакомств! – восклицает Райман с подчеркнутым радушием.
– Неужели? – выражает сомнение секретарша. – А у меня создалось впечатление, что «Зодиак» – холодильная камера, да еще похолодней других.
– Холодильная камера? Ха-ха, неплохо сказано. Хотя это не отвечает истине. Во всяком случае, исключения есть.
– Да, – вставляю я. – Есть исключения. Конрад к холодильной камере не имеет никакого отношения.
– Верно! Никакого отношения, – подтверждает Райман. – И я это докажу. Что касается квартиры, можете рассчитывать на меня.
Эдит уже собралась, в сущности, она собралась уже несколько часов назад, так что мы без лишних проволочек уходим на поиски ночных развлечений. Развлечения начинаются с ресторана, где каждое блюдо и каждая новая бутылка вина подаются на стол после долгих и углубленных дискуссий между метрдотелем и Райманом. Затем конопатый предлагает новую программу «Евы», и мы перебираемся в «Еву» как раз в тот момент, когда полуголая мулатка посредством сложного ритуального танца, в котором участвуют главным образом руки и тазовая часть, сбрасывает с себя остатки одежды. Прочие номера отличаются от этого только сменой исполнительниц.
– Надеюсь, стриптиз вас не шокирует, – говорит Райман после второй бутылки шампанского, заметив, что Эдит отвернулась от зрелища.
– Нет, но вызывает чувство досады.
– И
неудивительно, – соглашается конопатый. –
Стриптиз имел бы смысл только в том случае, если бы перед вами раскрывалось нечто такое, что увидеть не так-то легко. А телеса этих вот дам…
– Не настолько они плохи, – снисходительно замечаю я.
– Особенно для тех, кто не отличается вкусом, –
вставляет Эдит, все еще не забывшая, как я перед нею провинился.
– Если это намек, то я не нахожу, что он слишком уместный, – добродушно похохатывает Райман. – После того как наш друг выбрал себе такую секретаршу…
– Не надо столько комплиментов. Меня шампанское достаточно пьянит.
– Комплиментов? Да вы не знаете себе цены. Как тебе удалось напасть на такой бриллиант, Морис?
– О, бриллиант! К чему громкие слова, – спешу я возразить. – Во всяком случае, она страшно привязана ко мне.
Эдит бросает на меня убийственный взгляд, но я делаю вид, что поглощен спектаклем, в процедуре раздевания намечаются некоторые отклонения.
– Вы недооцениваете себя, и он тоже недооценивает вас, – говорит Райман заплетающимся языком. – Мне бы следовало вызвать у тебя ревность, дорогой Морис. К сожалению, я по своим калибрам не гожусь для этого.
– Вам его не запугать. Он ведь уже сказал, что не сомневается в моей верности, – отвечает Эдит вместо меня.
Характер беседы почти не меняется и в двух других заведениях, куда приводит нас Райман, чтобы показать нам нечто менее вульгарное. Зрелища и тут сводятся к раздеваниям, индивидуальным или коллективным, и если между этими и предыдущими в самом деле есть какой-то нюанс, то я лично уловить его не в состоянии.
Шеф рекламного отдела героически поддерживает разговор, не считаясь с тем, что теперь составление слов и фраз дается ему нелегко. Он обращается то ко мне, то к
Эдит, но чаще к ней. Секретарша держится хорошо, в душе я ее одобряю – без рисовки, без излишнего кокетства, ее прямота подчас граничит с грубостью, и это создает впечатление искренности.
Мы расстаемся с Райманом поздно ночью у входа в отель. Я провожаю Эдит и, ощутив внезапную слабость, вытягиваюсь на ее постели.
– Твой стриптиз милее всякого другого! – негромко говорю я, наблюдая за тем, как моя секретарша меняет свой вечерний туалет на ночной.
– На большее ты не рассчитывай, – бросает она. – Я
извелась сегодня в ожидании.
– Да, но зато обрела друга. Дружба – нечто священное, дорогая Эдит. Особенно в условиях холодильной камеры.
Женщина не возражает. Это дает мне смелость встать и попытаться улучшить наши несколько омрачившиеся отношения. Эдит не особенно противится моим братским объятьям. Это и хорошо и плохо, потому что всякий раз в момент близости я не испытываю чувства обладания ею –
она коварно ускользает.
Случайная попойка не всегда служит увертюрой к такому священному союзу, как дружба. Нередко бывает так, что тот, кого вы в порыве задушевных чувств хлопали по плечу, встретившись с вами на другой день, ограничится холодным «привет». Поэтому я вижу приятную неожиданность в том, что два дня спустя Конрад Райман заходит ко мне в кабинет, отпускает комплимент Эдит, по-свойски жмет мне руку и сообщает, что нашел для нас квартиру.
– Мне только что звонили… я сам ее не видел, но меня уверяют, что квартира чудесная. Если желаете, под вечер наведаемся туда вместе.
– С удовольствием, – отвечаю я, – но при одном условии: в этот раз вы будете нашим гостем.
Райман, разумеется, заявляет, что это вовсе не обязательно, что это мы должны пользоваться правом гостей и прочее в этом роде, но в конце концов соглашается, и мы договариваемся о встрече.
– Ты с ума сошел, – говорит мне Эдит, когда мы идем обедать. – Этот твой приятель – артист, притом второразрядный. Он подослан следить за тобой, и его чудесная квартира наверняка полна микрофонов.
– Очень может быть… – соглашаюсь я. – Но какое это имеет значение? Где бы и как бы мы ни сняли квартиру, все равно из предосторожности надо вести себя так, как будто они есть. А отказаться от хорошей квартиры, не имея никакой, – вот это действительно может вызвать подозрение.
Квартира и в самом деле чудесная, если не думать о возможных микрофонах. Это почти отдельный дом – довольно высокий, изящный, эдакий сказочный домик – из красного кирпича, окна и двери белые, а главное, всего в двух кварталах от «Зодиака», у самого мостика, перекинутого через канал с зелеными спящими водами. Нижний этаж занимает пожилая хозяйка – рантье доброго старого времени. Второй этаж состоит из спальни, холла, кухни и ванной, а самый верхний – из спальни, ванной и утопающей в цветах террасы. Много света, пастельные обои хорошо сочетаются с мебелью, тоже спокойных тонов. Помещения изолированы, если не считать общей лестницы, так что секретарша не станет надоедать своему шефу – и наоборот. Только спьяну можно отказаться от подобной квартиры, а я не могу постоянно выступать в роли пьяного.
– Ну, как вам нравится? – спрашивает Райман с ноткой торжества в голосе.
– Чудесно! – отвечает Эдит. – Впрочем, решать не мне.
– Чудесно! – подтверждаю я. – Дорогой Конрад, ты оказал нам неоценимую услугу.
– О, эта услуга мне ровно ничего не стоит, – отвечает конопатый скромно-торжественным тоном.
Затем мы отправляемся в ресторан, чтобы отпраздновать эту удачу.
Наша дружба с Райманом незаметно становится чем-то обыденным. Она сводится к тому, что перед обедом мы вместе выпиваем по чашечке кофе на углу, там же встречаемся после обеда. Но и это не так мало, если ты живешь в большом городе, заселенном сплошь незнакомыми людьми. Райман – человек в общем-то тихий и серьезный, склонный скорее отвечать на вопросы, чем задавать их. И
все-таки это единственный человек в «Зодиаке», кому я рискнул бы подкинуть кое-какой вопрос. Конрад Райман –
это то имя, которое мне удалось вырвать из уст Моранди.
Единственное звено, связующее Моранди с разведкой.
С тех пор как мы приехали в Амстердам, прошел целый месяц. Проверки и допросы остались позади, неудобства незнакомого города – тоже. Потянулись будни – раскрыв зонты, мы двигаемся вдоль каналов, ходим на работу, выезжаем за город, у нас есть свой дом, свои кафе и предостаточно времени для скуки.
Голландия – страна богатая. Особенно влагой. Тут все брызжет влагой – небо, и тучные луга, и густая зелень деревьев, и бесчисленные каналы, и озера, и камышовые заросли, и мокрый ветер, и подлый дождь, который то притворяется, что не идет, то вдруг польет как из ведра. Если бы здешние люди стали бегать от дождя, им бы пришлось бегать всю свою жизнь. Но они тут спокойные, не имеют обыкновения расстраиваться по мелочам. На тротуаре под дождем играют дети, у парадных под дождем сплетничают женщины, о чем-то спорят и весело смеются под дождем молодые люди, не говоря уже о влюбленных, которые и здесь, как на всем белом свете, целуются на улице независимо от погоды.
Влага и свинцовое небо делают все унылым и серым.
Может быть, именно поэтому голландцы питают страсть ко всему пестрому, яркому, сверкающему, будь то клумбы, горшки с цветами, начищенные до блеска латунные предметы, голубой дельфтский фарфор, красочные уличные шарманки, трубы духового оркестра, картины или витражи. Может быть, именно поэтому фасады домов облицованы красным и желтым кирпичом, а все деревянные части выкрашены в белый цвет; может быть, поэтому всюду ослепительно блестит бронза, а фарфоровые трубки стариков украшены веселыми цветными рисунками и даже шарообразный голландский сыр всегда ярко-красный, как помидор.
А вообще, если у кого есть время заняться географией, Голландия – это очень приятная страна с тихими благоустроенными селениями и дремлющими водами, по которым плывут белые перистые облака и белые утки, обаятельно старомодная страна, где не перевелись велосипеды, а люди сравнительно редко страдают от этого бича современности
– психических расстройств.
Со стороны может показаться, что, став чиновником
«Зодиака», я приблизился к разгадке туманной истории. Я
теперь лично знаком и часто соприкасаюсь по службе с большинством здешнего начальства. А такой человек, как
Райман, мало сказать, знаком мне – мы с ним на дружеской ноге. И все-таки реальная польза от этого пока что равна нулю. Не могу же я, сидя за столом кафе напротив конопатого, с теплой улыбкой спросить у него, к примеру:
– Дорогой Конрад, а что ты скажешь насчет разведки?
Как тут у вас поставлено дело?
Мне порой чудится, будто я стою перед герметически закрытым стальным сейфом, на котором значится: «Зодиак». Я абсолютно уверен, что в сейфе хранятся прелюбопытные вещи, однако я не то чтобы открыть его – прикоснуться к нему не могу, если не хочу разбудить сразу все бесчисленные звонки и поднять тревогу. Остается сидеть и ждать. Сидеть и ждать неизвестно чего, и неизвестно, до каких пор.
Пребывающие в тихой спячке каналы начинает покрывать сухая листва. По утрам становится все прохладнее, улицы заволакивает прозрачно-белый туман. Внезапные проливные дожди сменяются более устойчивым, моросящим; он идет еле заметно, зато по целым дням. Словом, наступает золотой сентябрь.
Как-то среди дня меня вызывают к исполину с трудной фамилией. Столик в углу загроможден пустыми бутылками
«Тюборг», из чего следует, что я здесь не первый посетитель. Ван Вермескеркен встречает меня с присущим ему радушием и указывает на кресло у письменного стола. Он весь в поту и, как всегда, красный – того и гляди, воспламенится.
– Райман знакомил вас с нашими проектами относительно «Хроноса»?
– Был какой-то разговор насчет восточных рынков.
– Именно. Выход на эти рынки будет вашей первой победой.
– Предложения мы уже разослали.
– Знаю. И это, конечно, очень хорошо. Но, если хотите, чтоб сделка состоялась, добивайтесь личных контактов.
Это самый верный путь.
И, добродушно глядя на меня своими светлыми влажными глазами, исполин переходит к делу.
– Что бы вы, к примеру, сказали, если бы мы вам предложили съездить в Болгарию?
– Почему бы и нет? – без промедления отвечаю я. –
Плохо только, что я не знаю как следует обстановки.
В светлых глазах, которые продолжают глядеть на меня, проскакивает веселая искорка.
– Не бойтесь. С вами поедет Райман. Ему обстановка знакома.
– Очень хорошо, – с готовностью соглашаюсь я. – Кому отдать паспорт для оформления визы?
– Никому, – отвечает исполин с той же искоркой веселости. – Сейчас в Болгарии безвизовый режим. – И чтобы окончательно огорошить меня, добавляет: – Уезжаете завтра утром.
«Чудесно», – думаю я, выходя из кабинета. «Чудесно», – повторяю, шагая по длинному коридору. Поистине всем проверкам проверка. Генеральная и окончательная. А
гора розового сала откровенно смеялась мне в лицо. Уезжаем завтра утром. В обед будем там. И конечно, уже на аэродроме я услышу чей-нибудь голос: «Смотри, Эмиль!
Где это ты пропадал, дружище?»
6
Мы летим на самолете компании «КЛМ» в безоблачную погоду и в безоблачном настроении. Райман, видимо, несколько шокирован моей беззаботностью, хотя он это скрывает. Он понятия не имеет, во что она мне обошлась, эта беззаботность.
Неделю назад я установил связь. Безотказную, какой прежде не пользовался. Но уже в обед, выходя из «Зодиака» в сопровождении своей верной секретарши, я вполне отдавал себе отчет, что с этой минуты за мной будут следовать по пятам, неотступно. И не ошибся. Конвой был в меру деликатен, но не настолько, чтоб его не заметила
Эдит.
– Мне кажется, за нами следят, – обеспокоенно шепнула она, когда мы вышли из ресторана и, как обычно, направились домой, чтобы отдохнуть полчаса.
– Ты случайно не пускалась в расспросы и вообще не совершила ли какую-нибудь глупость? – также шепотом спросил я.
– Перестань, ради бога. Я не ребенок.
– Тогда нечего волноваться. А главное, делай вид, будто ничего не замечаешь.
Она именно так и делала. Я все больше убеждался, что
Эдит принадлежит к тому типу женщин, у которых неврастения проявляется в сравнительно тихих, терпимых формах. Вытянувшись на кровати в просторной светло-голубой спальне, я разглядывал нависшее пасмурное небо за окном, пребывающее в нерешительности: выдать очередную порцию дождя или подождать. Время от времени я посматривал на циферблат, но большая стрелка настолько обленилась, глядя на маленькую, что, пока пробило два, прошли, казалось, не считанные минуты, а целые часы.
Подняв трубку, я набрал номер.
– Позовите, пожалуйста, Франка.
– Здесь нет таких.
– Это парикмахерская?
– Какая парикмахерская!
И на другом конце провода положили трубку.
«Ошибка, значит, – сказал я себе. – Хотя и сознательная». И снова набрал номер. На сей раз я попал именно в парикмахерскую, и мы договорились с Франком, что в пять он меня пострижет и сделает помоложе.
Когда мы с Эдит возвращались в «Зодиак», следом за нами опять плелся человек, но уже другой. И без двадцати пять, когда я зашагал в парикмахерскую, позади меня тоже кто-то шел.
Встреча должна была состояться в кафе, по пути в парикмахерскую. Мой человек был на месте, я его издали заметил, да и он меня, хотя и не показал виду. Я сунул в рот сигарету и, держа ее в правом углу, продолжал рассеянно шарить в карманах в поисках спичек. Когда я нашел их наконец, кафе осталось позади. Порой незажженная сигарета может означать многое. Моя в данный момент означала: «За мной следят. Через час встреча в условленном месте».
Пока Франк делал все, чтоб меня подмолодить, наблюдение велось сквозь витрину расположенной напротив кондитерской. Стоило мне выйти на улицу, как постовой тут же покинул кондитерскую и последовал за мной. Я
бросил взгляд на часы. Самое время отправиться не спеша к условленному месту.
Ровно через час, проследовав опять мимо знакомого кафе, я вошел в универсальный магазин на Кальверстрат.
Пока я пересекал густой поток выходивших из магазина, у меня в руке был маленький клочок бумаги. Когда я пробился к прилавку, где торговали принадлежностями мужского туалета, записки в руке не оказалось. Встреча состоялась. Мне осталось только купить в дорогу кое-какие вещи.
За тобой могут следовать не двое, а пятеро, и они могут приблизиться к тебе вплотную, окружить тебя со всех сторон, но, если ты достаточно ловок, они не помеха для подобной встречи. Потому что твои соглядатаи наверняка знают, где, с кем и когда состоится встреча, а в толпе, где ты неизбежно сталкиваешься со столькими людьми, невозможно различить, случайно ты столкнулся с тем или иным человеком или нарочно, чтобы в какое-то мгновенье что-то сунуть ему в руку. И вот теперь мне остается только слушать, откинувшись в кресле, приглушенный рев моторов и с легким злорадством наблюдать плохо скрываемое недоумение Раймана.
Когда самолет, описывая широкий круг, начинает снижаться, конопатый говорит мне на ухо:
– У тебя руки свободны, а у меня, кроме вот этого, – он показывает мне портфель, – два чемодана. Ты бы мог взять его, пока мы пройдем через таможню?
– Ну, разумеется, Конрад. Почему бы и нет.
И вот мы уже в аэропорту. В руке у меня портфель
Раймана, довольно-таки тяжелый, если учесть небольшие его размеры. Зал, где осуществляется таможенный досмотр, проходим без особых формальностей. Ожидая, пока доставят наши чемоданы, конопатый зорко следит за мной, но я по-прежнему сохраняю безоблачное настроение и если посматриваю по сторонам, то из чистого любопытства, присущего всякому попавшему в незнакомое место. Естественное любопытство позволяет мне убедиться, что нужные мне люди здесь. Правда, они виду не показывают, что знакомы со мной, а это достаточно красноречиво говорит о том, что мое сообщение получено.
В момент прибытия чемоданов в дверях появляются встречающие, среди них представители, знакомые Райману со времени его прежних приездов; они, вполне естественно, свое внимание посвящают ему, я для них мало что значу.
– В принципе, нас известили еще две недели назад о вашем приезде, – говорит главный из трех встречающих, –
но кто мог подумать, что вы нагрянете внезапно. Так что не обижайтесь, если окажется, что мы не приготовились должным образом.
– О, не беспокойтесь! – отвечает Райман. – Мы приехали не ради приемов и официальных церемоний, а по делу.
– Сколько вы намерены пробыть у нас?
– Я полагаю, дня три нам хватит, верно? – приличия ради обращается Райман ко мне.
Я киваю головой, тоже ради приличия, потому что эти вещи решает он, а не я.
– Вот и чудесно, – объявляет главный.
Шоферы берут наши чемоданы, один из них пытается взять из моих рук портфель, однако, поймав многозначительный взгляд Раймана, я оставляю портфель при себе.
Не знаю, как приготовились внешторговцы, но мои люди, очевидно, все уладили наилучшим образом. Из аэропорта нас в мгновение ока доставляют в отель «Рила», размещают на разных этажах и объявляют, что через полчаса нас будет ждать обед. Как только ушли встречающие, я спускаюсь к Райману и отдаю ему портфель. Он кладет его в один из своих чемоданов, снабженный слишком солидными и хитрыми для обычного дорожного чемодана замками.
– Что там в нем, золото в слитках? Руку мне оттянул.
– Золото не золото, но и валяться где попало он не должен, – отвечает шеф рекламы.
И чтобы не обидеть меня, добавляет:
– Потом я тебе все объясню.
Обед нам подают в небольшом зале, защищенном от взглядов любопытных дверями и шторами. Кроме нас двоих, за широким столом разместились четыре болгарских внешторговца. Ни с одним из них я не знаком, и это очень кстати, потому что нет ничего хуже сидеть перед знакомыми людьми и делать вид, что ты их не знаешь.
Двое болгар весьма сносно говорят по-французски, и это дает мне возможность, с благосклонного согласия
Раймана, сделать кое-какие предварительные замечания относительно достоинств часов фирмы «Хронос». Мои замечания явно заинтересовывают внешторговцев. А Райман тем временем беседует с двумя другими о возможных закупках некоторых болгарских товаров, но это, однако, не мешает ему пристально следить за тем, что говорю и делаю я. Мой разговор с незнакомыми соотечественниками ничего двусмысленного не содержит.
После обеда предусмотрен получасовой отдых, а затем должно состояться первое деловое совещание в министерстве. Райман пытается намекнуть, что мы немного устали в дороге, но это ничего не дает – совещание уже назначено. Мы поднимаемся в свои номера, и, хотя отдых длится всего полчаса, конопатый успевает за это время дважды позвонить мне по телефону по совсем глупым поводам и дважды подняться ко мне в номер – первый раз, чтобы попросить одеколон, и второй, чтобы условиться о совместной поездке в министерство. Все же я воспользовался паузой и вышел на балкон подышать свежим воздухом. На соседнем балконе, облокотившись о перила, стоит человек и рассеянно смотрит на бассейн перед отелем.
Оказывается, это мой сослуживец и друг.
– А твой слишком тебя прижимает.
– И не намерен оставить в покое.
– Ты должен в течение дня найти способ написать то, что хочешь сообщить, чтобы у нас было время все продумать. Послезавтра вечером тебя вызовут.
– Но он следит за мной неотступно.
– Пусть это тебя не беспокоит. Под вечер, когда приготовишь отчет, выйдешь сюда и передашь его мне. Может, еще есть что сказать?
– Любо убили.
– Мы так и думали. Уж не этот ли?
– Этот – организатор.
Мой собеседник снова переводит взгляд на бассейн.
Знаю, о чем он думает, потому что и я думаю о том же, но не все, о чем думаешь, имеет отношение к делу. В мою дверь стучат, и я возвращаюсь в комнату.
– Мы можем пойти пешком, – предлагает Райман, пока мы спускаемся по лестнице. – Министерство в двух шагах отсюда.
– Почему бы и нет! Нам не мешает немного поразмяться, – охотно соглашаюсь я, мысленно посылая его ко всем чертям.
Однако машина уже подана.
– Совещание будет не в министерстве. Мы выбрали для этого более уютное место, – объясняет приехавший за нами представитель.
Под вечер после совещания у нас появилось полчаса свободного времени, потому что программа без единой паузы могла бы показаться слишком подозрительной. Как и следовало ожидать, конопатый тут же предлагает мне прогуляться с ним по городу – ему не терпится узнать, есть ли у меня знакомые в Софии.
А они, к сожалению, есть. Когда мы проходили мимо кафе «Болгария», еще издали я заметил шедшего нам навстречу моего соседа, большого любителя потрепаться; мы с ним не настолько близки, чтоб он знал, где я работаю, но и не настолько чужие, чтоб ему не заговорить со мной. Я
достаточно хорошо знаю этого болтуна и уверен, что он, увидев меня, начнет с радостью махать рукой, непременно остановит и уж обязательно, хлопнув по плечу, спросит:
«Где ты пропадаешь, Боев?»; сам того не подозревая, он запросто провалит операцию, которая вынашивалась столько времени, столькими умами и с таким напряжением. Болтун еще довольно далеко от нас, но он так и шарит глазами по лицам прохожих, и едва ли мне удастся пройти незамеченным, хотя уже спускаются сумерки. Я внезапно останавливаюсь у витрины магазина иностранной литературы спиной к улице.
– Ты заметил что-то интересное? – подозрительно спрашивает Райман.
– Да, только не на витрине. Думаю, за нами следят, –
отвечаю я.
– У тебя галлюцинации, дорогой мой, – бросает мне конопатый, порываясь идти дальше.
– Не галлюцинации. Постой пару секунд и убедишься сам. «Ну постой, пускай пройдет этот болтун», – заклинаю я его; как раз в этот момент мой сосед медленно проходит за нашими спинами, и, вполне отчетливо видя в витрине его отражение, я благодарю бога, что этого человека интересует все что угодно, только не книги немецких авторов.
Впрочем, за нами действительно следят, и эта не столь важная мера предусмотрена на то время, пока я здесь, –
пусть Райман не воображает, что может пользоваться полной свободой. Человек, на которого возложена эта задача, ведет себя сообразно инструкции, то есть довольно неловко. Он останавливается позади нас, потом, видя, что мы задерживаемся, проходит вперед и принимается разглядывать витрину соседнего магазина.
– Ты прав, – соглашается Райман. – Вон тот тип в самом деле следит за нами. Однако, если ты заметил, дорогой
Морис, что за тобою следят, самое разумное делать вид, что ты ничего не замечаешь.
Этот мудрый совет свидетельствует о том, что конопатый готов причислить меня к разряду безобидных глупцов; признаться, в данный момент это меня нисколько не огорчает. Мы идем обратно, сопровождаемые все тем же спутником.
– Этот человек начинает действовать мне на нервы, –
бормочу я, когда мы пересекаем в полумраке городской сад. Райман бросает на меня снисходительный взгляд.
– Я полагал, что ты хладнокровнее.
– Хладнокровие годится в сделках. А когда за тобой тянется хвост…
– Может, это всего лишь проверка, – успокаивает меня конопатый. – Завтра станет яснее.
И все же наш ужин прошел в более или менее приподнятом настроении, чему способствовало обилие напитков и многократные порции коньяка после десерта. Райман пьет наравне с другими, но у меня уже есть представление о его выносливости, так что, вернувшись в гостиницу, я не сразу принимаюсь за перо. Лучше подождать. Минут через десять после того, как мы расстались, директор отдела рекламы вырастает на пороге моего номера – пришел спросить, нет ли у меня таблетки саридона; поскольку у меня не оказалось саридона, он решает заменить его продолжительной беседой на самые различные темы. Я охотно включаюсь в нее и вообще не подаю никаких признаков досады – пускай Райман сам дойдет до изнеможения и скажет, что пора ложиться спать, потому что завтра нас ждет работа.
Лично меня работа ждет сегодня. Я предельно кратко записываю все, что было со мной, начиная с Венеции и кончая Амстердамом. Затем выхожу на балкон и вручаю манускрипт своему сослуживцу, который стоит, облокотившись на перила, с таким видом, будто и не уходил оттуда в течение всего дня.
Остальная часть программы выполняется в весьма напряженном ритме: два заседания уходят на то, чтоб обсудить условия сделки и поторговаться вокруг продукции
«Хроноса», другие три совещания посвящены выяснению заинтересованности болгарских партнеров в экспорте, затем поездки на предприятия, осмотр машин, включенных в ассортимент, несколько визитов к начальникам средней руки с целью прощупать возможности дальнейших сделок, ну и, разумеется, неизбежные обеды и ужины.
Райман все-таки умудряется выкроить время даже при этом напряженном ритме. Около часа понадобилось ему для еще одной прогулки по городу. На сей раз это происходит среди бела дня, и, несмотря на относительное затишье, которое обычно наблюдается в послеобеденную пору, несмотря на то, что, по-видимому, приняты соответствующие меры, мне приходится мобилизовать весь свой артистический талант, чтоб сойти за беззаботного иностранца, порхающего, как птичка божия, по улицам незнакомого города.
Этот бессовестный Райман ведет меня, словно обезьяну, на самую оживленную артерию столицы – на улицу графа Игнатьева, потому вынуждает повернуть на улицу
Раковского, потом – на Русский бульвар, к парку. Инквизитор готов даже усадить меня на террасе перед «Берлином», но, к счастью, свободного стола не нашлось, и мы вынуждены идти дальше. Мы уже дошли до моста и собираемся повернуть обратно по дороге испытаний, как появляется еще один мой знакомый, на этот раз женщина.
Это моя бывшая пассия. Та самая, от которой я мог иметь сына лет пяти, а то и старше. Мы с нею не порывали окончательно наших отношений, дипломатических я имею в виду, так что при обычных обстоятельствах ей ничего не стоит меня остановить просто так, из женской суетности, чтоб лишний раз измерить температуру моих чувств. Но сейчас обстоятельства не совсем обычны, и я издали настойчиво сверлю ее мрачным взглядом, чтоб она это поняла. Она меня видит, перехватывает мой взгляд и странное дело – эта женщина, которая никогда ничего не способна была понять, оказывается удивительно догадливой –
она отводит свой взгляд. Ей отлично известно, где я работаю, и, вероятно, она сообразила, в чем дело, хотя, возможно, я переоцениваю ее способности, возможно, ничего она не сообразила, а лишь прочла в моем взгляде выражение неприятия.
На следующий, последний день нашего пребывания свободного времени нам не предложили. Его с трудом приходится отвоевывать Райману – с обеда до самого вечера он симулирует недомогание. Конопатый, очевидно, жаждет любой ценой уединиться, и попытки болгарских фирм протолкнуть побольше товаров «Зодиаку» начинают вызывать у него раздражение. Наконец хозяева оставляют нас в покое, чтобы мнимый больной мог полежать в постели.
Под вечер, как только сопровождающий нас представитель министерства покинул комнату, Райман поманил меня пальцем.
– Слушай, Морис, – шепчет он мне, – я хочу попросить тебя об одной услуге.
– Если это мне по силам.
– Вполне. Сущий пустяк, с которым я и сам бы справился, но ты ведь понимаешь, после того как я изображал больного, мне неудобно расхаживать по улицам. А ты новичок в этом городе и не вызовешь подозрений. Так что…
Он торопливо и все так же вполголоса излагает характер ожидаемой от меня услуги. Взять портфель и выйти на улицу. Найти бульвар Толбухина – после памятника первая улица направо, – такой-то дом, такой-то этаж. Три непродолжительных звонка. Спросить такого-то и сказать ему:
«Извините, вы не знаете французский?», на что тот должен ответить: «Я пойму, если вы будете говорить помедленней». Когда меня введут в дом, я должен сообщить, что прибыл от Бернара, а на вопрос, от которого Бернара, младшего или старшего, ответить: «От Бернара-отца». Затем оставить портфель и – обратно.
– Как видишь, все предельно просто.
– А если кто будет идти следом?
– Если кто увяжется за тобой, сделай небольшой круг и возвращайся обратно. Вчера за нами никто не ходил. Сегодня тем более не станут. Конечно, надо смотреть в оба, не показывая виду.
– А если меня схватят?
– Глупости. Я считал тебя смелей.
– Дело не в смелости. Все надо предвидеть. Как при обсуждении сделки.
– Ну, а если тебя схватят, чего, конечно, не случится, ты первым долгом расскажи такую небылицу: некий старый клиент, прослышав, что ты едешь в Болгарию, всучил тебе портфель, чтобы ты кому-то там передал его. Ты даже не знаешь, что в нем такое…
– Так оно и есть, – вставляю я с наивным видом.
– Вот именно. Придерживайся этой версии, и больше ничего. Я тебя освобожу, даю гарантию. Но чтобы я мог тебя освободить, ты не должен меня впутывать в это дело.
Иначе как же тогда мне тебя освобождать. Не забывай, что
«Зодиак» – это сила и дрожать тебе нет оснований.
Распоряжение выполняется точно по инструкции и в рекордно короткий срок – в течение получаса. Оказывается, выполнять шпионские задания в родной стране не составляет никакого труда, при условии, что соответствующие органы обо всем заранее предупреждены.
Я возвращаюсь в отель и вхожу в комнату конопатого, впопыхах забыв даже постучать в дверь. Стоящий у окна
Райман вздрагивает от неожиданности и оборачивается.
– А, это ты? Наконец-то!
– Почему «наконец-то»? Все получилось молниеносно.
– Да, но мне показалось, что прошла целая вечность. Не подумай, что я тебя недооцениваю, Морис, но у тебя все же нет достаточного опыта в этих делах. Стоит мне представить, как ты озираешься на перекрестках, как я заливаюсь холодным потом.
– Может, у меня и нет опыта, но я не озирался, хотя это не мешало мне установить, что никакого наблюдения нет.
– Чудесно. Ты оказал мне большую услугу.
– О, это мне ничего не стоило, – скромно отвечаю я. И
здесь я не далек от истины.
Последнюю часть своей миссии я выполняю тоже без особых усилий, и заслуга в этом принадлежит Райману, правда сам он этого даже не подозревает. Врач, посетивший конопатого, устанавливает, что его недомогание объясняется легкой простудой, и несколько таблеток оказывают положительное воздействие если не на организм, то на сон больного. Вскоре после визита врача Райман засыпает мертвым сном, а я отправляюсь в соответствующее учреждение.
И вот картина, я столько раз рисовал в своем воображении, но теперь она не воображаемая, а вполне реальная: в освещенном тяжелой люстрой кабинете – генерал, полковник и мой непосредственный начальник; все пристально смотрят на меня, тщательно взвешивают каждое мое слово, каждый шаг. В сущности, они уже в курсе дела и теперь интересуются лишь разного рода деталями, притом такими, объяснение которых заставляет меня время от времени доставать платок и вытирать лоб.
Полковник, разумеется, не может воздержаться от критических замечаний, касающихся, правда, частностей.
В качестве одной такой частности выступает моя секретарша. Не в нынешней своей роли, а в первоначальной. Ее назначение полковник называет «прыжок во мрак».
– А разве не прыжок во мрак расхаживать по улицам
Софии, рискуя в любой момент услышать что-нибудь вроде «Здорово, старина»? – отвечаю я, зная, что руководство операцией целиком лежало на полковнике.
– Зря ты волновался, – спокойно замечает он. – Все было так устроено, что ни у кого бы не нашлось времени с тобою поздороваться.
«Ты бы мог раньше сообщить мне об этом», – само собой напрашивается фраза, но я ее не произношу, потому что в этот момент раздается голос генерала:
– Давайте не отвлекаться…
Замечание адресуется полковнику, хотя поводом послужил я. Как оценить такую любезность, равно как и следующие слова:
– Я считаю, что до сих пор Боев справлялся с задачей неплохо.
На языке школьника это означает «отлично», «пять».
– Продолжим работу. Слово имеет Боев.
Иметь-то я его имею, только не знаю, как мне с ним быть. Потому что тщательно продуманного плана, которого от меня ждут, у меня попросту не существует. Я
пребываю в полной неподвижности, в положении человека, оказавшегося перед герметически закрытым сейфом, которого не то что открыть – к нему даже прикоснуться нельзя. Следовательно, мне не остается ничего, кроме как обрисовать перспективу со всеми ее трудностями, наметить продолжительные действия, если, если, если…
Как это ни странно, мои скептические суждения и прогнозы вызывают видимое одобрение. Даже мой начальник, который в иных случаях не упустит возможности напомнить мне о вреде фантазерства, в этот раз воздерживается от употребления ненавистного слова.
– Совершенно верно: терпение, умение выжидать, предельная осторожность, – соглашается он.
– Тебе следует сжиться с мыслью, что ты действительно переменил профессию, – посмеивается полковник.
Затем мы ведем подробный разбор обстановки со всеми вероятными и маловероятными изменениями, пока черное небо в широких окнах не обретает предрассветную синеву.
В Амстердам мы приезжаем как раз в обед, так что, когда я врываюсь в ресторан, Эдит есть от чего растеряться. Я застаю свою секретаршу на ее обычном месте, у окна, в ту самую минуту, когда она раскрывает меню.
– Здравствуй и заказывай, пожалуйста, на двоих, – говорю я, усаживаясь напротив.
На ее лице появляется слабая улыбка, а это не так мало, если учесть, что лицо ее редко выражает что-нибудь, кроме сдерживаемой досады.
– Я только что подумал о тебе, – признается Эдит, отослав официантку. – В сущности, я не переставала думать о тебе.
– И я о тебе думал. Все беспокоился, как бы ты не наделала глупостей.
– Что ты имеешь в виду? – с невинным видом спрашивает Эдит, хотя прекрасно понимает, что я имею в виду. – В
последнее время тут возле меня увивается кое-кто из мужчин.
– Меня не касается твоя личная жизнь. Только бы эти мужчины были не из «Зодиака».
– А откуда же они могут быть?
– Вот тебе и нет. Кто же особенно выделяется из твоего окружения?
– О, окружение – это слишком громко. Но тут фигурирует первый библейский человек Адам Уорнер и первый человек «Зодиака» мистер Эванс.
– Для начала не так плохо. Только…
Официантка приносит запотевшие кружки пива и тарелки с супом; как я и подозревал, это оказывается ненавистный мне томатный суп, хотя в меню он значится под другим названием.
– Что «только»? – напоминает Эдит, когда девушка удаляется.
– Я хотел сказать, что в любой карьере чем стремительнее взлет, тем скорее наступает падение – раньше возможности иссякают.
Эдит с удовольствием ест суп. Я только пробую и кладу ложку. Удивляют меня эти англо-саксонские расы, что они находят в этом жидком и распаренном томатном пюре.
– Ты случайно не ревнуешь? – любопытствует Эдит.
– Может быть. Только совсем немного. Если хочешь, чтоб я ревновал больше, тебе придется поделиться подробностями.
– С подробностями пока не густо. Мистер Эванс дважды встретил меня в коридоре, смотрел на меня очень мило, а во второй раз даже остановился и спросил, давно ли я тут работаю и где именно. Слушая мои ответы, он продолжал рассматривать меня со всех сторон и все повторял «прекрасно, прекрасно», так что я толком и не поняла, к какой части моей фигуры относится это «прекрасно».
– Только и всего?
– По-твоему, этого мало?
– А супруг Евы?
– Адам Уорнер? Тот зашел дальше: пригласил меня поужинать.
– И ты, конечно, согласилась!
– А как же иначе? Ты ведь сам внушал мне, если отказываешься от хороших вещей, это внушает подозрения.
– Я не делал обобщений. Имелся в виду конкретный случай с квартирой.
На этот раз официантка приносит филе из телятины, как обычно, с обильным гарниром в виде жареного картофеля.
Банальное блюдо, зато вкусно и питательно, что подтверждает многовековая практика. Какое-то время едим молча
– точнее, до тех пор, пока от филе почти не остается и вновь не подходит официантка, чтобы узнать, что мы возьмем на десерт.
– Так речь шла о подробностях, – напоминаю я.
– О, в сущности, это был второй допрос, правда сдобренный устрицами, белым вином и индейкой с апельсинами. У этого человека нет вкуса. Индейку, так же как устрицы, он запивает белым вином.
– Ты не могла бы комментарии гурмана оставить на потом?
– Я же тебе сказала: это был второй допрос, хотя и в форме дружеской беседы. Начал он с меня, чтобы закончить тобой. Главная тема: наши с тобой отношения.
– Для этих людей нет ничего святого, – тихо говорю я.
– Особенно их интересует момент нашего знакомства.
– Надеюсь, ты не прибегала к своим вариациям?
– Какие вариации? Изложила ему все так, как мы с тобой условились: прочла объявление и явилась. «А почему он остановился именно на вас?» – «Откуда я знаю, – говорю. – Возможно, потому, что остальные были менее привлекательными». Тут он, может быть, впервые внимательно осмотрел мой фасад. «Да, – говорит, – ответ представляется убедительным».
– А дальше?
– И дальше в том же духе. Хотя он раз пять повторил:
«Я не хочу вникать в ваши интимные отношения» и «Надеюсь, я вас не слишком задеваю». Спросил еще, не была ли я с тобой в Индии. В сущности, с этого вопроса он начал.
Я ему ответила, что ты ездил в Индию еще до нашего знакомства, о чем я очень жалею, поскольку мне, дескать, осточертело слушать твои рассказы об этой стране. В самом деле, Морис, ты был в Индии?
– Общение с Уорнером дурно сказывается на тебе, –
замечаю я. – Твоя врожденная мнительность приобретает маниакальные формы.
Официантка приносит кофе. Предлагаю Эдит сигарету, закуриваю сам.
– А как, по-твоему, почему Уорнер устроил допрос во время твоего отсутствия?
– Мой отъезд тут ни при чем. Он просто-напросто полагал, что со мною покончено, и решил присмотреться к тебе.
– Покончено?
– Ну да. У меня такое чувство, что эта поездка была уготована мне только ради проверки. Меня, по-видимому, считали болгарским шпионом или чем-то в этом роде.
Она неожиданно смеется, и смех этот настолько преображает ее лицо – на какое-то время я вижу перед собой просто лицо веселой девушки.
– Ты болгарский шпион?
Женщина снова заливается смехом.
– Не нахожу ничего смешного, – обиженно бормочу я. –
Ты, похоже, считаешь меня круглым идиотом.
– Вовсе нет, – возражает Эдит, сдерживая смех. – Но принять тебя за болгарского шпиона, ха-ха-ха…
Я жду, насупившись, пока пройдет приступ смеха.
– Ну, а как там живут люди? – спрашивает Эдит, успокоившись наконец. – Неужели вправду ужасно?
– Почему ужасно? Разве что свалится кто-нибудь с пятого этажа. Но это и здесь связано с неприятностями.
Поболтав еще немного о том о сем, мы уходим, и как раз вовремя – ненадолго прекращается дождь. Из учтивости провожаю Эдит до самых ее покоев на верхнем этаже и, тоже из учтивости, захожу к ней. Обои, мебель, ковер в спальне бледно-зеленых тонов, и эти нежные тона в сочетании с интерьером террасы, с ее декоративными кустарниками и цветами придают обстановке какую-то особую свежесть; кажется, что я попал в сад, и мне трудно удержаться от соблазна посидеть здесь хотя бы немного.
Эдит подходит к проигрывателю, ставит пластинку, и комнату наполняют раздирающие звуки. У этой женщины необъяснимая страсть к джазу, но не простому и приятному, а к «серьезному джазу», как она его называет. Если судить по ее любимым шедеврам, главная и единственная цель «серьезного джаза» состоит в том, чтобы показать, что вполне приличный мотив без особых усилий можно превратить в чудовищную какофонию.
– Ты не хочешь отдохнуть? – деликатно замечает Эдит, чувствуя, что пластинка меня не прогонит.
– О, всему свое время, – легкомысленно отвечаю я, вытягиваясь в кресле цвета резеды.
– Тогда разреши мне пойти искупаться.
– Чувствуй себя как дома.
Пока я рассеянно слушаю вой саксофона и плеск воды за стенкой, в моем воображении смутно вырисовываются не только упругие водяные струи, но и подставляемые под них тело, а глаза мои тем временем шарят по комнате.
Неожиданно мое внимание привлекает блестящий предмет, выглядывающий из-под брошенных на угол столика иллюстрированных журналов. Это всего лишь безобидный бинокль. Однако бинокль обычно ассоциируется с наблюдением.
Проклиная человеческий порок, именуемый любопытством, я нехотя поднимаюсь и беру бинокль. Он невелик, отделан перламутром – словом, из тех биноклей, которые женщины таскают с собой по театрам. Выхожу на террасу.
Вдали, точно напротив, между острыми крышами соседних домов виден фасад «Зодиака». Миниатюрное перламутровое орудие, к моему удивлению, оказывается настолько мощным, что я со всей отчетливостью вижу окна председательского кабинета.
На террасу выглядывает Эдит, порозовевшая и свежая, в снежно-белом купальном халате.
– Приятно, правда? Среди всех этих цветов…
– И с твоими глупостями… Зачем тебе понадобилась эта штука?
Женщина бросает взгляд на бинокль, и лицо ее обретает таинственное выражение. Она делает жест – молчи, дескать, – и говорит небрежным тоном:
– Театральный, конечно. Я купила его в магазине случайных вещей. Ты ведь знаешь, я близорука, а так как мне предстояло пойти в театр…
Ясно, к этому надо будет вернуться. Но не сидеть же нам сейчас сложа руки. Я подхожу к женщине и обнимаю ее за плечи, прикрытые мягкой тканью халата.
– Дорогая Эдит, ты совсем как Венера, выходящая из воды…
– Не говори глупостей…
– …Хронос и Венера, – продолжаю я. – Бог Времени и богиня Любви…
– Хронос не бог, а титан. Плаваешь ты, как я вижу, в мифологии.
Последние слова едва ли доходят до моего сознания, так как лицо женщины почти касается моего и не позволяет мне сосредоточиться. Эдит не противится, но ее поведение не выражает ничего другого, кроме терпеливой безучастности. Такого рода моменты в наших отношениях не больше чем игра, притом не такая уж интересная для партнеров. А ведь игры тем и отличаются, что все в них кажется настоящим, а на деле одна только видимость.
Несколькими днями позже мне звонит Уорнер и спрашивает, не мог бы я зайти к нему. Что делать, как не зайти, хотя Уорнера я уже стал видеть во сне.
Человек в сером костюме и с серым лицом встречает меня со своей холодной вежливостью, предлагает сесть и подносит сигареты. В последнем сказывается особая благосклонность, потому, что сам Уорнер не курит.
– В тот день, когда вы рассказывали мне о своей поездке, вы умолчали кое о чем, – говорит Уорнер после того, как я закуриваю.
– Если я и умолчал о чем, то лишь потому, что об этом вам должен был рассказать другой.
– Другой рассказал, – кивает библейский человек. – Но вы об этом умолчали. Вы мне не доверяете, Роллан?
– Почему же? Разве я не позволил вам выудить из моей биографии все до последней мелочи…
– Да, но это же я выудил, а не вы мне доверили.
– Знаете, доверять в нашем деле и в наше время…
– И все же, – прерывает меня Уорнер, – Райману-то вы доверили.
– Стоит ли об этом говорить? Оказал человеку большую услугу. Услугу, которая мне ровным счетом ничего не стоила.
Человек за столом окидывает меня испытующим взглядом.
– Полагаю, вы имеете представление о характере этой услуги?
– Естественно. В сущности, Райман мне сказал, что потом все объяснит, но так ничего не объяснил, да и я не расспрашивал его. Извините, но для меня это всего-навсего эпизод, который больше касается Раймана, чем меня.
– Этот эпизод в одинаковой мере касается вас обоих.
Райман поступил неправильно. Вы – тоже.
Я пожимаю плечами – пусть, мол, будет так – и разглядываю свою сигарету.
– У нашей фирмы широкие торговые связи со странами
Востока, и мы желаем, чтоб самоуправство того или иного нашего представителя фирмы ставило нас под удар. Райман действовал на свой страх и риск и, вероятно, ради собственной выгоды, а вы ему помогали, хотя разрешения на это никто вам не давал.
– Надо было меня предупредить, что я могу делать и чего – не могу.
– Как же я мог предупреждать вас о том, что мне и в голову не приходило. Но теперь считайте, что вы предупреждены. «Зодиак» – коммерческая фирма, и ваши действия как представителя этой фирмы не должны выходить за рамки торговых отношений.
Он опять смотрит на меня и добавляет уже более мягко:
– Конечно, человек вы новый, и мы прекрасно понимаем, что главная тяжесть вины ложится на Раймана. Допускаю даже, что вы подумали, будто Райман действует по нашим инструкциям.
– Я вообще над этим не задумывался, – признаюсь я с некоторым чувством досады. – Должен вам сказать, я уже почти забыл об этом.
– Вот и чудесно, – удовлетворенно кивает Уорнер. – А
теперь забудьте совсем.
«Дойдет и до этого, – говорю я себе, выходя в коридор. – Но только после того, как выведем вас на чистую воду». Поворот неожиданный, хотя и не совсем непредвиденный. Райман, сомневаться не приходится, руководствовался их инструкциями и, скорее всего, инструкциями этого святого Адама. Первой их целью было проверить меня. Второй – вовлечь в их тайную деятельность. Теперь становится очевидным, что задача номер два, если она вообще существовала, отменяется. Они умывают руки.
Райман, мол, действовал по неизвестно чьему наущению, но, во всяком случае, без ведома «Зодиака». Фирма опять встает во всем своем испорченном блеске. Чем все это объяснить? Тем, что мне все еще не доверяют? Или, убедившись, что я не являюсь коммунистическим агентом, полагают, что я агент иного рода? А может быть, вообще во мне нуждаются? Тут есть над чем поразмыслить.
Вечереет. Эдит стучится в дверь моего холостяцкого жилища, чтоб вытащить меня в кино. Нет ничего лучше жить рядом с любимой женщиной, но отдельно от нее.
Особенно если эта женщина похожа на Эдит и никогда не придет к тебе сама, разве что вы договорились пойти куда-нибудь вместе.
По правде говоря, мне неохота куда-либо идти, но я обещал ей и не вижу возможности отвертеться.
– Ты мне ничего не рассказала про бинокль… – подсказываю я, когда мы выходим на улицу и раскрываем зонты.
– Что тебе рассказывать, когда ты сам догадался. Рассматриваю «Зодиак».
– И на кой черт тебе его рассматривать?
– Позавчера вечером точно над кабинетом Эванса блеснул огонек. Если ты заметил, окно над кабинетом всегда закрыто ставнями. Но в тот вечер кто-то, видимо, открыл на мгновенье ставни и блеснул свет…
– Этот «кто-то» всего-навсего уборщица.
– Уборщица! В десять часов вечера? Да будет тебе известно, в семь часов «Зодиак» уже на замке. А уборщицы работают по утрам.
– Мне все же непонятно, почему тебя так волнует тот огонек и то помещение.
– Ты там бывал?
– Я даже не представляю, как туда попасть.
– А я знаю: туда можно попасть единственным способом – по лестнице, через кабинет Эванса.
– Это мне не интересует. И тебя тоже не должно интересовать.
– Но послушай, Морис: если в «Зодиаке» есть секретный архив, он должен храниться именно там. И занимается им ван Альтен.
Ван Альтен – второй секретарь Эванса. Этот замкнутый, мрачный тип появляется в коридорах очень редко.
– Ладно, – киваю я. – Авось с помощью бинокля тебе удастся прочитать секретные бумаги. Он показался мне достаточно мощным для такого дела.
Этим разговор кончается.
Фильм, к моему ужасу, оказался каким-то гибридом любовной истории со шпионажем; обоих партнеров убивают у берлинской стены. Кинотрагедия доходит до моего сознания весьма смутно, отрывочно, потому что все это время меня занимает трагедия иного порядка, то есть моя собственная. Трагедия человека перед наглухо закрытым сейфом. Я лишен даже возможности ознакомиться с обстановкой, поскольку постоянно нахожусь в изолированном кабинете и могу наблюдать только фигуру своей секретарши. Я не в состоянии что-либо уловить из случайных разговоров, поскольку они ничего не содержат. Я не могу сам вызывать кого-либо на разговор – запрещено, не могу следить за кем бы то ни было – запрещено, не могу делать попытки пробраться куда-либо – это тем более запрещено.
Не могу воспользоваться имеющейся аппаратурой. Не могу прибегнуть к услугам Эдит, потому что это слишком рискованно и, по-видимому, бесполезно. И поприжать никого не могу. Тогда что же я могу? Ходить в кино? Заниматься служебной перепиской? Развлекаться с женщиной, которая ничего интересного во мне не находит? Скучать? Трепать себе нервы? Ждать?
– Грустно, правда? – спрашивает Эдит, когда мы выходим из зала.
– Очень! – отвечаю я, думая о своем.
– Хотя довольно правдоподобно.
– Трудно сказать. Не разбираюсь в этих делах.
– Я тоже. Но кажется правдоподобным.
– О да! Поскольку кончается трагически. Трагический конец всегда похож на правду, потому что в жизни многое кончается трагически.
– Ты так думаешь?
– Что тут думать, когда это очевидно.
– Говорят, будто есть на свете и счастливые…
– Говорят… А ты спроси у того, кто так говорит, где эти счастливые.
Мы медленно идем по Кальверстрат, как всегда, особенно по вечерам, запруженной народом. Кальверстрат в
Амстердаме – царство пешеходов, в эти отвоеванные ими пределы не может сунуться ни одна машина. Каким-то чудом обходится без дождя, зато все заволакивает туман, и сквозь его полупрозрачные рваные завесы освещенный мир улицы являет собой странное видение. Неоновые огни реклам, светящиеся витрины, силуэты прохожих – все это проступает так смутно, неясно, как будто на размытом водой рисунке.
– Ты, Морис, вечно какой-то угрюмый, – нарушает молчание Эдит. – Странно, в тебе столько энергии, ты бы должен быть жизнерадостным.
– Зато ты само веселье.
– Ага, а откуда мне его брать?
– Возвращайся время от времени к воспоминаниям детства, – советую я.
– К воспоминаниям детства? Ничего более грустного в моей жизни не было.
«Совсем как в моей, – отмечаю про себя. – Только сейчас и мне не до воспоминаний».
– Твой отец был…
– Ужасно кислый и прижимистый, – беззастенчиво лгу я, поскольку мне даже не известно, кто был мой отец.
– А мать…
– Плаксивая, пропахшая валерьянкой, – продолжаю лгать, так как не знаю и матери.
– И все-таки они устраивали тебе елку, дарили подарки…
– Из этих «полезных» и дешевых, что продаются в картонных коробочках, – пытаюсь я импровизировать. – А
тебе так-таки ничего не дарили?
– Кто мне мог дарить? В рождество нас водили на елку, ту, что устраивало общинное управление, на ней, правда, висели кое-где игрушки, и каждый из нас надеялся получить подарок, но игрушки с елки никогда не раздавали, потому что нас было так много, что двух десятков игрушек было бы слишком мало.
– Ну вот, все же была елка, – примирительно вставляю я.
– Елка… Елка для детей бедняков… Может ли быть что-нибудь более грустное. Лучше бы их вовсе не устраивали, этих елок для бедных.
Мы выходим на берег канала. Над водой протянулись гирлянды электрических лампочек, сейчас все они горят, поскольку сегодня суббота, и это наводит меня на мысль, что спешить нам некуда и мы можем зайти куда-нибудь посидеть.
В частном, уютно помещении находим свободные места. Столиками здесь служат тщательно отполированные бочонки. На бочонок нам ставят бутылку красного вина и что-то из еды. Люди негромко беседуют, обстановка располагает к отдыху. Но вот перед стойкой появляется длинноногий и длинноволосый юноша с гитарой. «Ну все, – мелькает у меня в голове, – придется бежать!» Но счастье в этот вечер нам не изменяет – косматый оказался лиричной натурой; выдав несколько погребальных аккордов, он начинает петь, и его бархатный голос тотчас же овладевает вниманием всех:
Нет, не обещай мне безоблачных дней, безбрежной лазури и солнца.
Мне по сердцу дождь, этот серый туман, не надо, оставь мне плохую погоду.
Затем идут еще несколько куплетов, напоенных влагой и скорбью, за каждый следует рефрен:
Пускай меня хлещут и ветер, и дождь.
Что может быть лучше плохой погоды?
– Полезная мораль, – замечаю я, когда длинноволосый заканчиваю свою элегию. – Поскольку плохого в жизни куда больше, чем хорошего, не остается ничего другого, кроме как смириться с ним.
– Примиренческая позиция, – брезгливо морщит нос
Эдит. – Ненавижу я ее. – И добавляет: – А песня хорошая.
«Да и вино неплохое», – готов продолжить и я, чтобы не заниматься пустыми разговорами, заказываю вторую бутылку.
Наконец мы выходим на улицу. Ночь совсем как в той песне. Моросит дождь, на ветру мечутся тучи водяной пыли, раскачиваются гирлянды электрических лампочек, а в канале неслышно струится вода, унося желтые и лиловые отражения огней. Мы медленно идем по набережной, не обращая внимания на дождь, совсем как старожилы. Я уже намериваюсь повернуть в переулок, ведущий к дому, но
Эдит ловит меня за руку.
– Пройдемся еще по набережной.
– Ты хочешь сказать – до «Зодиака»?
– Только посмотрим.
– Послушай, Эдит…
– А что в этом особенного, господи! Прогуливаемся, как все люди.
– Тут никогда не бывает прохожих, особенно в такой час. И потом, нам совсем не по пути.
Все же долг кавалера побуждает меня уступить ей, и мы продолжаем медленно идти вдоль канала, подталкиваемые мокрым ветром.
– С чего ты взяла, что в помещение можно попасть лишь через кабинет Эванса? – спрашиваю я как бы ради того, чтобы поддержать разговор.
– Я это знаю.
– Я тоже знаю, но не в это дело. Как ты узнала? Видела сама или выпытала у кого-нибудь?
– Ох, опять ты за свое, – вздыхает Эдит. – Выпытывать я не собиралась, можешь быть спокоен. Достаточно заглянуть к секретарше Эванса да повнимательней приглядеться к фасаду, чтоб в этом убедиться.
– А почему ты думаешь, что там хранится архив, да еще секретный?
– Потому что, когда я однажды копалась в общем архиве, и кто-то пришел за каким-то документом, чиновник сказал: «Это не у нас. Это в архиве председателя». Значит, если в «Зодиаке» вообще хранятся какие-то бумаги по части особо секретных сделок, то искать их следует в архиве Эванса, а не в общем архиве.
– Глупости! Как ты не можешь понять, Эванс в этом учреждении только для парада.
– В торговых делах – да. Но я полагаю, что у этого человека есть и другая специальность…
– У каждого есть вторая специальность. Одни в свободное время ходит на рыбалку, другие собирают почтовые марки, третьи занимаются шпионажем. Экономическим, конечно.
– Ты просто невыносим.
– Но если у Эванса есть архив, – продолжаю я, стараясь укрыться под зонтом Эдит, – и если в этом архиве действительно хранятся серьезные вещи, он бы не стал доверять их местному человеку вроде ван Альтена.
– Ван Альтен вовсе не местный. Его привезли из Америки, куда он эмигрировал во время войны.
– Ты из пальца высосала?
– Случайно узнала, – отвечает женщина.
Мне не терпится возразить на это «случайно», но Эдит, шикнув, замирает у самого моста.
Прямо перед нами высится темный фасад «Зодиака». В
сущности, это четыре старых узких здания, прижавшихся друг к другу. Внутри их основательно переоборудовали и соединили коридорами. Здания трехэтажные, только одно, угловое, имеет четыре этажа. Весь третий этаж в нем занимает кабинет Эванса с приемной, в которой находится секретарша. Если в приемной никакой лестницы нет, очевидно, в помещении под кабинетом можно попасть только через кабинет самого Эванса.
Четвертый этаж, к которому сейчас прикованы наши взгляды, имеет два окна, и оба плотно закрыты железными ставнями.
– Смотри! – шепчет Эдит.
Сквозь узенькую щелочку под ставней пробивается желтоватый свет.
– Похоже, ван Альтен еще роется в архиве, если это вообще архив, – бормочу я.
– А может, ночное дежурство, – высказывает предположение Эдит.
– Пошли, – говорю я, – а то снова пустили душ.
Дождь и в самом деле усилился. Не успели мы тронуться с места, как хлопнула парадная дверь «Зодиака».
Прямо на нас шел человек. Эдит удалось разглядеть: это был ван Альтен. Но желтый свет продолжает цедиться сквозь щелку под ставней четвертого этажа.
Я быстро поворачиваюсь спиной к зданию, обхватываю обеими руками женщину и долго целую ее. И не знаю, ее ласковые губы тому причина, или эта дождливая ночь, или рассказ про елку для бедных, но объятия мои вдруг становятся сильными и страстными и продолжаются до тех пор, пока проследовавший мимо нас человек не повернул на мост.
– О Морис! Ты еще никогда меня так не целовал, –
произносит Эдит после паузы.
7
Итак, шел сентябрь. Остается только добавить, что речь идет уже о втором сентябре. Уже год, как меня приютил
Амстердам и я живу в большом семействе «Зодиака», а от цели я все так же далеко, настолько далеко, что у меня даже нет четкого представления, какова она, эта цель.
Я сижу в своем кабинете и просматриваю сегодняшнюю почту. Нависшие дождевые тучи лениво ползут к морю, и небо от них какое-то лилово-серое. Иногда между тяжелыми тучами образуется небольшой проем и сквозь него падает сноп солнечных лучей, ярко освещая какую-нибудь колокольню, окрашенную в зеленый цвет, или крутую черепичную крышу. Но тучи быстро смыкаются, и на улице снова делается уныло и сумрачно, как в погребе.
Моя секретарша на месте, то есть целиком в поле моего зрения, всякий раз как я отрываю взгляд от писем. Она погружена в чтение какой-то книги, вероятно по истории кино. После «серьезного джаза» это второе увлечение
Эдит, для меня столь же необъяснимое, как и первое.
Смотреть фильмы – это еще куда ни шло, по крайней мере можешь убить время. Но слепнуть над томищем, чтобы узнать, кто, как и с какой целью делал эти фильмы, такое уже не укладывается в моем воображении. Я бы легко мирился с этой причудой моей секретарши, не отвлекай она меня от раздумий своей манерой сидеть, небрежно закинув нога на ногу.
Было бы несправедливо утверждать, что я пухну от безделья. Напротив, со сделками все обстоит благополучно, и мы с Карлом Ришаром, как последние дурачки, радуемся тому, что «Хронос» прочно обосновался на некоторых рынках и уже прокладывает себе путь на Запад.
Среди лежащих передо мной писем есть довольно пространные. Это свежие заказы, и мне невольно приходит в голову мысль, если бы и в другом деле все складывалось так же удачно, можно было бы пуститься в пляс.
Однако с другим делом у меня что-то не клеится. Искусство ждать. И все-таки ожидание не всегда приближает нас к цели. Можно терпеливо, до самоотвержения ждать поезда там, где он не проходит. Порой мне начинает казаться, что я в аналогичном положении. Я обосновался в
«Зодиаке» и воображаю, что совершил бог весть какой подвиг, а, в сущности, у меня нет никаких доказательств, что «Зодиак» не просто коммерческое предприятие. Наоборот, наблюдения убеждают меня в том, что это обычная, хотя и весьма солидная, фирма, поддерживающая деловые отношения чуть ли не со всем миром и торгующая всевозможными товарами: стиральными машинами и холодильниками, пылесосами и электрическими плитами, электробритвами и фотоаппаратами, радиоприемниками и телевизорами и даже часами «Хронос». Короче, располагающая всем, кроме необходимой мне информации.
Ван Вермескеркен поглощен торговыми операциями.
Начальник отдела вроде меня может войти к исполину в любое время и ничего подозрительного не обнаружит.
Какой отдел ни возьми, шефы корпят над бумажками. Один
Адам Уорнер несколько менее доступен, но и его задачи едва ли выходят за рамки подбора кадров. Эванс, можно подумать, вообще ничем не занимается, разве что устраивает приемы, подписывает контракты да время от времени встречается с приятелями по случаю очередной попойки. А
для председателя такой фирмы, как «Зодиак», это вполне нормально – ничего не делать.
Когда я спросил однажды у Эдит, как ей удалось выведать, что у Эванса есть вторая специальность, женщина ответила:
– Я и не старалась выведывать. Просто у меня есть глаза.
– Я тоже не слепой.
– Да, но ты бегаешь по коридорам и не роешься в архиве, как я. У Эванса, который ничего не делает, слишком большой личный персонал.
– Персонал, состоящий из двух человек.
– И еще трех-четырех, что не находятся при нем неотлучно.
Позже я убедился в ее правоте. Только те трое-четверо, что не находятся при нем неотлучно, скорее всего, выполняют работу прислуги. Хозяин, пусть он даже дутая величина, не может обходиться без слуг, раз он владеет роскошным особняком и загородной виллой.
Райман. Во всей задаче пока что это единственное неизвестное, которое мне удалось найти. Но сколь велика от этого польза? Одно время мой контакт с Моранди казался мне пределом мечтаний. Сейчас я в контакте даже с его шефом, и в каком контакте – нас связывает почти дружба.
И все-таки мне кажется, что я осужден вечно дожидаться поезда, который либо вообще не существует, либо проходит где-то в сотнях километров отсюда.
Эдит вправе упрекать меня в самоуверенности. Иной раз я потрясаю этим для острастки, однако только мне ведомо, насколько присуща мне самоуверенность, особенно после года бесплодного ожидания.
Имей я в своем распоряжении людей и необходимую экипировку, Райман наверняка привел бы меня к следующему звену в цепи. Только это все пустые мечты, чтобы коротать время. Вся моя команда – это я сам, а согласно инструкциям, подслушивание и слежка – вне полученных мною правил игры. Не говоря уже о том, что в данных условиях это трудноосуществимо. Разумеется, у меня есть некоторая аппаратура – мои глаза и уши, – которая тоже могла бы выполнять определенную работу, если принять во внимание, что почти каждый день я встречаюсь с Райманом, чтобы распить бутылочку мартини. Но и в этих интимных беседах наши откровения ограничиваются общими темами о погоде, о новых фильмах, о женщинах как таковых, да о проблемах рекламы. Последний, более серьезный разговор состоялся после того, как меня вызывал к себе
Уорнер.
– Впутались мы в историю, – пробормотал тогда конопатый. – В сущности, я тебя впутал. Хорошо, что все обошлось благополучно. Прости и забудь!
Вот и все, если не считать того, что мы съели и выпили.
Не стал я ни прощать, ни забывать, и Райман по-прежнему остается у меня на примете, но толку от этого пока никакого. Конопатый постоянно разъезжает – то он в
Венеции, то в Женеве, он же устраивает встречи, обеды в честь того или другого лица, и вся эта суета вполне естественна для такого бога рекламы, как Райман, но для того, чтобы понять, где кончается то, что естественно, и начинается нечто другое, надо обладать целым взводом помощников, и притом не третьеразрядных.
Я уже заканчиваю просмотр корреспонденции, во время которого позволяю себе заниматься обдумыванием вещей вроде тех, о которых только что шла речь, как в коридоре раздается мелодичный и многообещающий звонок: сегодня пятница, конец рабочего дня, конец рабочей недели. Эдит отрывает глаза от книги и смотрит на меня, но, так как я все еще занимаюсь письмами, она снова погружается в чтение. Это мне нравится в ней: чиновничьи замашки ей не присущи.
Едва замолчал звонок в коридоре, зазвенел телефон.
Секретарша отлично знает, кто мне может звонить, поэтому нажимает на кнопку, и я поднимаю трубку.
– Морис, зайдем выпьем по стаканчику или ты торопишься домой, мой мальчик?
– Я не против, при условии, что угощаю я.
– Чудесно. Через пять минут в кафе.
Вручив папку с корреспонденцией Эдит, я встаю.
– Мы с Райманом заглянем в кафе на углу. Пойдем, если хочешь.
– Ну нет, мерси. Только смотри, чтоб он тебя не потащил по всяким там стриптизам. Мы приглашены на вечер к
Питеру.
Еще одна положительная черта в характере моей секретарши: она способна предоставлять свободу, не следует тенью, как ревнивая жена.
Раймана я застаю за столиком у самого окна. Столики здесь маленькие, потому что и само кафе невелико; кокетливое заведеньице, отделанное пластиком, с неоновым светом, с зеркалами, рассчитано на пять-шесть человек, хотя здесь находят приют добрых три десятка детей «Зодиака».
– Давай возьмем целую бутылку, а? – предлагает конопатый, когда я усаживаюсь напротив него. – Надо пожалеть официанта, смотри, какое столпотворение.
Целая бутылка мартини – многовато для скромного аперитива, однако опасность не столь велика, если учесть, что мой партнер опрокидывает рюмки как в прорву. Нам приносят ведерко со льдом, бутылку и газированную воду, и Райман с видом профессора, готовящегося к ответственной лекции, наполняет бокалы. У него всегда серьезный вид, особенно перед большой выпивкой. Пропускаем по глотку мартини, чтобы определить его температуру. Потом следует вступительный вопрос:
– Ну, что нового?
И мой неизменный ответ:
– Если не считать очередных сделок, ничего.
В трех шагах от нас, возле бара, пьет и ведет беседы низший персонал. До меня долетают обрывки фраз. Ничего существенного. Всегда ничего существенного. За окном размеренным шагом проходят ван Альтен с поникшей головой.
– Подобные типы – для меня загадка, – говорит Райман, завидев архивариуса.
– Для меня тоже. Особенно этот. Но об этом лучше помалкивать.
– Я ни разу не видел, чтобы он зашел в кафе…
– Вероятно, ему не хватает денег.
– И он не в состоянии расстаться со своей траурной маской.
– А может, страдает печенью.
– Возможно. А что касается денег, то я с этим не могу согласиться. Я и сам вынужден считать деньги, однако это не мешает мне жить по-человечески.
– На избыток денег никто никогда не жалуется, – философски замечаю я.
Райман задумчиво смотрит на меня, потом говорит почти шепотом:
– Если бы наш дорогой Адам не совал всюду свой нос, у нас их было бы куда больше, и у меня, и у тебя.
– Ты думаешь?
– Я в этом уверен.
– К сожалению, у этого Уорнера достаточно длинный нос.
– Не такой уж он и длинный. Тут, скорее, виновата моя наивность. Этот человек так умеет заморочить тебе голову своими вопросами, что, сам того не ведая, можешь обронить что-то, что можно было бы и не выкладывать. Но это послужит мне уроком. В конце концов, мы боремся за дело свободного мира, а не ради выгоды. Верно?
– По правде сказать, Конрад, дела свободного мира мало меня интересуют, если они не приносят мне выгоды.
Может, это покажется тебе меркантильным, но жизнь слишком коротка и дается нам один раз, так что…
– Совершенно верно! И все-таки, если хорошие доходы приносит твоя деятельность на благородном поприще, то удовлетворение больше…
– Тут ты прав, – соглашаюсь я в свою очередь. – Гарнир
– вещь полезная, и все же она остается гарниром.
Единомыслие в затронутом вопросе вдохновляет нас налить еще по рюмке и выпить, глядя друг на друга с чувством полной солидарности.
– Если ты готов хранить тайну, то, мне думается, мы могли бы состряпать кое-что полезное для нас обоих. –
Райман опять переходит на шепот.
– Конрад, я твой друг, и, надеюсь, я это доказал. Но мне бы не хотелось рисковать своим местом…
– Такой опасности не существует, – успокаивает меня конопатый. – Все будет идти своим чередом. Несколько поездок на Восток с целью расширения рынков. Ездить будешь ты один, так что никаких свидетелей. Ван Вермескеркен тебе не откажет – это в интересах дела.
– А риск?
– Минимальный. Выгода куда больше. Впрочем, ты в этом сам убедишься.
– Но я не располагаю данными.
По губам Раймана скользит едва заметная усмешка.
– Считай, у тебя в кармане пять тысяч за удар.
– Ты меня искушаешь, Конрад.
– Я оказываю тебе мелкую услугу, и только.
Помолчав, я говорю как бы в раздумье:
– Скверно то, что минимальный риск, когда он часто повторяется, перестает быть минимальным. Если тебя не сцапают в пятый раз, то уже в десятый это случится наверняка.
– До десятого дело не дойдет, – качает головой Райман. – Если ты занялся подсчетом барышей, то не стоит умножать цифру пять с тремя нулями больше чем на шесть.
По одной поездке в каждую социалистическую страну. Так что риск остается минимальным.
– Ты и в самом деле искушаешь меня, Конрад.
– Подумай! – усмехается конопатый, снова наполняя бокалы.
Потом неожиданно меняет тему разговора:
– Как себя чувствует наша дорогая Эдит?
Я что-то бормочу в ответ: неплохо, мол.
– Редкая женщина! Не будь она выше меня ростом, тебе, мой мальчик, пришлось бы ох как страдать от ревности.
Отпив мартини, я терпеливо готовлюсь к разговору на затронутую тему. Раз уж речь зашла о гарнирах, этот человек в момент выпивки не может не коснуться области секса.
Домой я возвращаюсь в несколько приподнятом настроении и, зайдя к Эдит, вслух недоумеваю и дивлюсь, как это иные люди в предпраздничный день способны валяться в постели.
– Ты бы мог постучать, – говорит секретарша, лежа на кровати в одной комбинации с книгой в руке, проигрыватель оглашает комнату саксофонной истерией.
– На лестнице я подумал, что надо бы обязательно постучать, но в последний момент забыл, – оправдываюсь я.
– Не удивительно, если учесть твое состояние, – отвечает секретарша и, поднявшись, начинает одеваться.
Было бы наивно полагать, что сосуществование с этой редкой женщиной не что иное, как сплошной медовый месяц. Замечу для ясности, что Эдит чем-то напоминает здешний климат – бесконечная череда туч, потом немножко солнца, потом снова пять часов подряд пасмурно, какой-то минорный сумрак.
В поисках минутного уединения выхожу на террасу, в этот райский оазис с вечнозелеными кустарниками, с которых скатываются капли только что выпавшего дождя.
Наконец-то после целого года истязания медленным огнем я получил открытое предложение. Выходит, Райман действует самостоятельно, то есть по своей линии, вне «Зодиака», и люди «Зодиака» используются не потому, что они относятся к этой фирме, а потому, что они с Райманом на короткой ноге.
Проще простого, и все же я не могу в это поверить.
Пристальный интерес Бауэра к «Зодиаку» – не зря же он обеспечил мое проникновение сюда, – предельная осторожность, и мнительность Уорнера, настойчивая слежка в первые месяцы, посылка в Болгарию с целью проверки – не закрывать же на все это глаза.
Более вероятно другое; Райман действует в соответствии с инструкциями «Зодиака», точнее – по инструкциям самого Уорнера, однако смысл инструкций в том именно и состоит, что Райману подлежит действовать от своего имени и даже вроде бы против воли администрации. Год назад я истолковал бы это мизансцену как признак непрочного доверия. Теперь доверие ко мне заметно упрочилось, однако мизансцена сохраняет свое значение как мера предосторожности или как характерная особенность стиля работы. В случае, если я или кто другой провалится,
«Зодиак» остается непричастным, все внимание сосредоточится на Раймане и его воображаемом вдохновителе.
– Закрой, ради бога! Холодно… – слышится голос
Эдит.
«Холодно? – мысленно переспрашиваю я, прикрывая дверь. – Потрогай мой лоб, тогда узнаешь, холодно или жарко». У меня жар не столько от выпитого мартини,
сколько от всех этих нерешенных вопросов, которые играют в чехарду у меня в голове, образуя там хаотические нагромождения.
Райман, по всей очевидности, доверяет мне. Полагалось бы радоваться: меня включают в систему. А что получается на деле? В системе мне отводится роль шестеренки, которая ничего не должна знать, кроме двух соседних шестеренок; с одной стороны, конопатый, с другой – местный предатель, с кем мне придется иметь дело единственный раз. Пять тысяч за удар. Но каждый удар и даже все шесть, взятые вместе, не принесут больше того, что мне уже известно.
Метод работы – по крайней мере с внештатными сотрудниками – уже ясен: по одной поездке в каждую социалистическую страну, после чего ты выходишь из игры или навсегда, или на долгие годы, как случилось с Моранди. При таком положении вещей риск для внештатников действительно невелик, что же касается штатных, то они и вовсе ничем не рискуют. Правда, из этих штатных мне знаком только один, и у меня нет никаких шансов расширить круг подобных знакомств.
Я смотрю – в который уже раз в течение года! – на фасад «Зодиака», смутно вырисовывающийся в вечернем сумраке, там, между крышами домов. Все этажи трех прижавшихся друг к другу зданий не представляют никакого интереса: внизу – канцелярия с окошками для посетителей, повыше – службы отдельных департаментов, еще выше – руководители отделов, среди них шеф «Хроноса».
А вот четвертый этаж углового здания с единственной комнатой над кабинетом Эванса заслуживает самого пристального внимания. Он едва виднеется в сумраке, тот четвертый этаж с двумя наглухо закрытыми окнами, однако я его вижу достаточно хорошо, или мне только кажется, что я его вижу, поскольку мне уже осточертело на него глядеть. И, как это не раз бывает, у меня в голове начинают копошиться всякие шальные идеи, войти в кабинет, швырнуть в лицо Эванса что-нибудь усыпляющее и взобраться по лестнице наверх. Глупость. Чистейшая глупость. Либо карабкаться с крыши на крышу, пока не доберусь до углового здания. Крыши крутые, но разве это крутизна для альпиниста? Глупость? Чистейшая глупость.
При помощи веревки с крючком можно забраться на крышу четвертого этажа. Там есть слуховое оконце, правда заколоченное. Но его можно и открыть. А потом? Потом залезть на чердак. Есть чердак, должен быть и лаз. Если его нет, можно проделать. Таким образом, я добираюсь до комнаты. И до сейфа. На этом, ясное дело, все кончается.
Несусветная чушь.
– Пожалуй, мы можем идти, – оповещает Эдит, выглядывая из-за двери. – Конечно, если ты проветрился.
– Мне показалось, что я проветрился, но теперь, когда я вижу тебя, у меня снова голова идет кругом.
– Ты просто глупеешь от пьянства, – сухо замечает она. – А воображаешь, будто становишься ужасно остроумным.
– От пьянства и от любви, – поправляю я ее. – У тебя такой вызывающий вид в этом платье, что человеку трудно удержаться от искушения потрогать тебя.
Эдит и в самом деле очень хороша в нарядном, хотя и без особых претензий, платье приглушенно-розового цвета из брюссельских кружев. Еще одно немаловажное достоинство этой женщины: чувство меры. К сожалению, это платье слишком заужено в талии и, на мой взгляд, слишком подчеркивает ее прелести.
Не обращая внимания на мою болтовню, Эдит надевает плащ, берет неизбежный в условиях этого города зонт, и мы отправляемся к Питеру Гроту.
Мой приятель Питер Грот – художник и по чистой случайности живет на этой же набережной, где находится
«Зодиак». Свое ателье он устроил в мансарде углового здания, в нижнем этаже которого располагается наше любимое кафе. Поэтому, когда я в мыслях принимаюсь грабить тайный архив «Зодиака», я всякий раз начинаю с того, что наношу моему другу удар в зубы, ошеломляю его, затем с помощью какой-нибудь стремянки забираюсь на крышу и отправляюсь в рискованное путешествие.
Правда, у этого Питера такая хилая фигура, что если дать ему разок по зубам, то после этого он едва ли станет на ноги, чтобы продолжить свой жизненный путь. Хилый и худой, как вешалка, он обретает некоторую устойчивость вопреки всем законам природы только в том случае, когда пропустить в свою утробу изрядное количество спиртного.
После этого его расслабленные конечности обретают жесткость, позвоночный столб деревенеет, как бы превращается в собственно столб, слова звучат воинственно, хотя и несколько неясно, как будто доносятся из морских глубин.
К моменту нашего прихода художник пребывает в начальной стадии одеревенения, оцепенеть успели только нижние конечности, и потому он весьма напоминает вышагивающий циркуль. Питер открывает нам дверь, в доказательство своего радушия издает какой-то возглас, помогает Эдит снять плащ и вводит нас в свое ателье. В помещении до такой степени накурено, что в первый момент мужские физиономии, женские бюсты и абстрактные картины воспринимаются словно растворенные в сизом табачном дыму. Кроме нас присутствуют официальная приятельница Питера Мери и два художника с женами – этих я смутно помню после какой-то попойки, куда они пожаловали уже под конец. Женщины одеты так, что платье Эдит кажется мне скромным до целомудрия. Жены художников пришли в юбках, едва прикрывающих манжеты их чулок, а у Мэри, чьи гигантские формы исключают подобную фривольность, такое декольте, что бюст ее, того и гляди, освободится от корсажа. К слову сказать, эта рубенсовская
Венера раза в два выше Питера и в три раза шире его, так что он вполне мог бы устраиваться на ночлег между двух ее симметричных холмов, если бы не угроза задохнуться.
– Что бы вам предложить закусить? – спрашивает хозяин, шаря костлявыми руками среди множества бутылок –
тарелок с едой и бутербродов на столе куда меньше.
После короткого колебания Питер выхватывает бутылку мартини – он уже знает мой вкус – и церемонным жестом подносит нам налитые доверху бокалы. Притихшие было гости вдруг загалдели с такой силой, что Эдит от неожиданности чуть не уронила бокал.
– Твой Матио мошенник! – кричит один из художников.
– Зато остряк! А вот Поляков скучен – дальше некуда! –
перебивает его второй.
– О божественный Поляков! – раздается восхищенный женский голос, от которого звенит в ушах.
– Поп-арт всех вас забил! – надрывается другая дама.
– Поп-арт сродни грязному унитазу, – гундосит хозяин, покачиваясь, словно циркуль.
И дальше в том же духе. Словом, идет непринужденная беседа.
Поскольку характер разговора более или менее ясен, а упоминаемые имена мне ничего не говорят, я разваливаюсь в кресле, придвинув поближе мартини и тарелку с бутербродами, и предаюсь бездумному созерцанию. Эдит, чья умеренная натура не позволяет ей участвовать в этом состязании крикунов, садится возле меня и дымит сигаретой, терпеливо ожидая, пока силы беседующих иссякнут.
Развешанные по стенам картины – дело рук хозяина. Из всех современных мастеров он признает только себя. Это, должно быть, весьма ценные произведения, если принять во внимание количество израсходованной на них краски.
Творческая манера Питера характерна тем, что он наносит на фанеру целые килограммы краски, после чего вступает в действие мастерок каменщика.
Познакомились мы с ним случайно, в один из унылых зимних дней, в кафе. Началось, как это обычно бывает, с проклятий по адресу непогоды, затем мы угощаем друг друга, а под конец, когда я по своей бесхарактерности сболтнул, что мне по душе абстрактное искусство, Питер поволок меня в свое ателье, в одной руке – я, в другой –
сетка с бутылками.
Возможно, это знакомство осталось бы мимолетным эпизодом в нашей жизни, если бы под действием спиртного мне не пришло в голову на любезность ответить взаимностью. Мой жест выразился в том, что я купил одно из самых монументальных его полотен весом примерно двадцать килограммов. На следующий день Питер с помощью трех грузчиков лично доставил мне приобретенную картину, а когда ее вешали – руководил этой сложной операцией.
Сперва он настаивал, чтобы его шедевр был повешен над моей кроватью, но я деликатно воспротивился этому, потому что оказаться раздавленным – это, по-моему, самая ужасная смерть. В конце концов художник уступил и повесил картину в холле, над моим письменным столом, так что с того самого дня я перестал работать дома.
Погрузившись в воспоминания о нашем знакомстве, я, кажется, задремал. Когда меня окружает такой вот неутихающий галдеж, меня обязательно клонит ко сну.
– Если ты шел сюда спать, надо было прихватить одеяло, – ласково шепчет мне на ухо Эдит.
– Прости, дорогая, но я только прикрыл глаза, ибо то, что я вижу, возмущает мое целомудрие: все эти обнаженные груди, бедра…
– Мог бы смотреть на меня. Я не обнажена.
– Верно. Не совсем.
– И было бы неплохо, если бы и ты выжал из себя два-три словечка, а то мы с тобой сидим, как глухонемые.
Пока я ломаю голову, как включиться в светскую беседу, на помощь мне приходит Питер.
– Милая Эдит, у меня есть для вас сюрприз. Удивительный сюрприз! Тише! – с трудом останавливает он присутствующих и идет в угол, где находится стереофонический проигрыватель.
Мне уже ясно, о какой сюрпризе идет речь. Питер тоже, как Эдит, помешан на джазе. Пуская проигрыватель, художник попадает иголкой на середину пластинки, повторяет попытку еще и еще раз, пока наконец иголка не приблизилась к началу, затем царственным жестом указал на проигрыватель; вот, мол!
От динамиков исходит довольно унылое и нестройное бренчание гитары.
– В этом нет никакого ритма, – осторожно бормочу я.
– Молчи, – осаживает меня Эдит. – Это тебе не твист, а серьезный джаз.
– Не понимаю, почему серьезный непременно должен быть скучным…
С упоением слушая нестройное бренчание, она зажимает мне рот.
– Джанго Райнгард! – объявляет Питер, совсем как возвещают во дворце: «Его величество король». – Запись совершенно неизвестных импровизаций. Чудом обнаруженная несколько месяцев назад.
– Он поистине фантастичен! – вздыхает Эдит. – Такую пластинку я подарю Доре.
Эта фраза обронена мимоходом и вроде бы не имеет никакого значения. Но я ловлю ее и стараюсь сохранить в памяти. Дора… Что за Дора?.. Вероятно, Дора Босх.
– Они бывают в магазинах? – обращается моя секретарша к Питеру.
Однако вопрос ее тонет в общем шуме, который внезапно усиливается.
– Обожаю Джанго!
– Чепуха! Из пяти старых мотивов он делает один новый…
– Ты бы послушал джаз «Месенджер»!
– А Джерри Малиган…
– Сидней Бекет…
И прочая петрушка.
Вскоре серьезный джаз сменяется несерьезным.
В динамике теперь звучит банальный рок, который воспринимается спорщиками как гимн примирения, все как один, в том числе и толстая Мери, вскакивают со своих мест и начинают кривляться кто во что горазд. Эдит тоже вовлечена против своей воли в танцевальные страсти. Однако мне удается выйти сухим из воды – я делаю вид, будто давным-давно уснул.
– Дорогая Эдит, – говорю отеческим тоном, когда мы уже ночью возвращаемся домой, – у меня создается впечатление, что один мой совет, который я когда-то дал тебе, ты не принимаешь во внимание.
– Какой именно? Ты мне даешь столько советов!
– Все тот же: чтобы ты избегала случайных знакомств.
Скажи, что у тебя общего с этой Дорой Босх?
– Как это что общего?! Мы обе секретарши.
– Конкретнее!
– Однажды мы с нею встретились в магазине грампластинок на Кальверстрат. Обменялись несколькими словами. Выяснилось, что обе мы помешаны на джазе. Два-три раза дарили друг другу пластинки. Больше ничего.
– Ты бывала у нее дома?
– Еще нет.
– И не придется. Вообще впредь никаких взаимных услуг, никаких интимностей.
– Знаешь, Морис, я не забываю, что ты мой начальник, но твое опекунство уже становится невмоготу.
– Оставь эту свою сцену для другого раза. Дора Босх –
секретарь Эванса.
– Ну и что из этого?
– А Эванс терпеть не может, когда кто-то вертится вокруг его людей. Счастье, что он не пронюхал о ваших встречах в магазине.
– Тебя преследуют призраки.
– Эванс не призрак. И, должен тебе сказать, твои попытки добиться чего-нибудь через Дору Босх – детская затея. Дора не ступала и не ступит ногой в комнату на четвертом этаже. Так же как и ты. А твоя хитрость кончится тем, что тебя, а с тобой заодно и меня в один прекрасный день выставят из «Зодиака». Поэтому я настоятельно прошу тебя не забывать о нашей первоначальной договоренности.
– Хорошо, Морис! – устало отвечает женщина. – Пусть будет по-твоему. Только не надо так дрожать за свое место.
Выходные дни начинаются в атмосфере холодной войны. В субботу, ссылаясь на то, что она не голодна, Эдит отказывается идти в ресторан. Вечером тоже отказывается выходить из дому, потому что ей хочется спать. Я бы мог ей сказать, что дуется она напрасно, и настоять на своем, но, если человек начинает хандрить, лучше всего оставить его в покое, чтобы он сам избавился от хандры. Совершив небольшую прогулку, я устраиваю себе холостяцкий ужин с пивом и солидной дозой размышлений, затем снова иду гулять. Незаметно для себя оказываюсь на берегу канала.
Это один из соединительных каналов, давно не используемый. У его левого берега в тени деревьев стоит на вечной стоянке несколько барж. В Голландии часто беднота живет на таких баржах, превратив их в жилища. Мое внимание привлекает вторая баржа справа. Оконце одного из помещений светится, в нем хорошо виден склонившийся над столом мужчина. Он ест. Это ван Альтен.
«Ну и что из этого, что ван Альтен?» – говорю я себе, поворачивая обратно. Райман утверждает, что не может понять этого человека. Я тоже. Правда, мне удавалось несколько раз понаблюдать за ним издалека, чтоб лишний раз убедиться, что у этого мрачного человека укоренились автоматические и скучные привычки – от баржи до учреждения, от учреждения до баржи, с коротким заходом к булочнику, зеленщику и бакалейщику. Привезенный из
Америки, вероятно, Эвансом, он живет в родной стране как иностранец. Никаких друзей, никаких развлечений, никаких страстей. Он спокойно чувствует себя в своей комнате без всяких занавесок, поскольку скрывать ему нечего, поскольку у него вообще ничего нет своего личного.
Но отсутствие каких бы то ни было желаний – если это не заведомая глупость или проявление маниакального аскетизма – тоже подозрительно. Обычно человек подавляет свои желания во имя чего-то, тщательно скрываемого от окружающих. Какова же тайная страсть ван Альтена и есть ли у него вообще такая страсть?
Только к чему все это? Ван Альтен лишь маленькая деталь в сложном механизме, который необходимо постичь, чтобы проникнуть в стальной сейф «Зодиака». В
здании фирмы ван Альтен никогда не остается один, у входа всегда бдит портье; наверху, в комнате, где хранится архив, наверняка есть дежурный, если судить по узенькой полоске света. Ван Альтен не располагает ни малейшей возможностью что-либо вынести оттуда, так же как я не в состоянии заставить его это сделать.
Ван Альтен – это то же, что Дора Босх, – одна из системы букв, образующих в определенной комбинации нужное слово. Вот чего не способна уразуметь моя секретарша, отваживаясь на столь глупый риск. А может, она уразумела, только нервы у нее больше не выдерживают –
«Фишер и Ко», – и скрывающиеся за «Фишер и Ко» слишком ее торопят. Эдит, видимо, все же поддерживает с ними связь – письменную или встречаясь с кем-то – и, вероятно, снабжает какими-то скудными сведениями, по мере того как ей удается что-нибудь выведать во время посещений архива или разговоров в кафе. Ее задача куда проще – на экономические секреты никто серьезно не смотрит. А вот те, что стоят за спиной «Фишер и Ко», должно быть, ждут большего, они-то и давят на нее, и она запросто может сделать неверный шаг, если ее не придержать.
Чтоб она не натворила глупостей, самое верное средство – отправить ее в родные места, но позволить себе такую роскошь я не могу, поскольку это не соответствует ни желаниям моим, ни возможностям. В моем положении не мешает иметь лишние глаза и уши, не говоря уже о прочих положительных достоинствах моего секретаря.
Я снова на оживленных улицах, а мысли мои непрестанно копошатся вокруг загадочного ключа от проклятого сейфа. Верно, ван Альтен и Дора Босх лишь буквочки в сложном слове-ключе. Но эти буквы при случае могут сыграть свою роль. В конце концов, ведь слово состоит из букв. Потому все они должны быть налицо.
В воскресенье Эдит соблаговолила спуститься ко мне.
Обычно в этот день мы обедаем дома, она сама готовит что-нибудь нехитрое из того, что есть в холодильнике.
– Что тебе приготовить на обед? – спрашивает она чисто служебным тоном.
– Какой-нибудь суп – может, от него улучшится настроение.
– А что с твоим настроением?
– Ничего. Я имею в виду твое.
– Если бы ты действительно заботился о моем настроении, ты бы вел себя более прилично, – заявляет Эдит и удаляется на кухню.
Коль скоро она взялась философствовать, дело пошло на поправку. Будем надеяться, обязанности хозяйки ускорят процесс выздоровления.
Обед, приготовленный моей секретаршей, хорош тем, что не таит никаких неожиданностей: томатный суп и бифштекс с жареным картофелем. Разговор во время обеда
– тоже. Здесь дома, разговор у нас не клеится. Не знаю, кто придумал эту глупую фразу: «Чувствуй себя как дома».
Когда я дома, при каждом слове я вижу катушку с магнитофонной пленкой, которая неумолимо вращается где-то рядом. Внутреннее упрямство заставляет меня подолгу молчать. То, что катушка вертится впустую, доставляет мне удовольствие. Но поскольку молчание при известных обстоятельствах тоже говорит кое о чем, я не могу позвлить себе молчать и тогда приходится прибегать к пустой болтовне.
– Дорогая Эдит, – говорю я, прожевывая бифштекс и заглядывая в местный еженедельник, – тут пишут о том,
что великие державы ищут пути к взаимопониманию. Не пора ли и нам последовать их примеру?
– Я себя не причисляю к великим, – отвечает она. – В
отличие от тебя.
– Я – тоже. Правда, порой я напускаю на себя важность, начинаю куражиться. В общем, я кажусь лордом только тем, кто не знает, что у меня этот костюм единственный.
– Сегодня ты на удивление скромен, – сухо замечает секретарша. – Но это тоже поза. Нет, у тебя масса костюмов. Только все они карнавальные.
И все в подобном духе – фразы, слова, паузы, а машина, стоящая где-то рядом, глотает их, чтоб превратить в десятки метров пленки, в документ, не имеющий ровно никакого значения.
Досаднее всего, что эта невидимая машина подстерегает меня и вне дома. В ресторане и даже на улице, когда, почувствовав себя свободной, Эдит пускается в разговоры, совершенно невозможные дома, я не перестаю думать о скрытом микрофоне и вращающейся катушке, которая неутомимо отпечатывается и накручивает слово за словом, все, о чем бы мы ни говорили. Но человек ко всему привыкает. И всему плохому, существующему на свете, придумывает оправдания. Я, например, утешаю себя тем, что в наше время мысли пока что никому не удается записывать.
И спешу воспользоваться этим. Голова прямо раскалывается от дум. Хотя и без пользы.
Наступившая рабочая неделя обещает такую же скуку, какую я равными дозами принимаю столько недель подряд: подготовка предложений, переписка, просмотр почты, телефонные разговоры или пятиминутные доклады Вермескеркену. Но во вторник разыгрывается аттракцион, не укладывающийся в привычные рамки.
Пробило пять часов, мы с Эдит отправляемся домой, и уже на тротуаре перед нами вырастает Райман.
– Ах, какая удача! Меня послали за вами! Шеф приглашает вас на небольшой коктейль.
Он ведет нас к стоящей поблизости машине, и, поскольку это черный «роллс-ройс» Эванса, спрашивать, о каком шефе идет речь, нет надобности.
– Как это вдруг вспомнили о нас? – спрашивает Эдит с кислой миной, когда мы трое тонем на широком кожаном сиденье и бесшумная, словно катафалк, машина трогается с места.
– Сами понимаете, такого рода дела происходят или неожиданно, или вовсе не происходят.
Глядя на его бледное лицо и мутные глаза, можно предположить, что он прикладывается с самого утра.
– Мы начали вчера, – поправляет меня Райман, как бы угадав мою мысль. – Я должен тебе сказать, наш Эванс исключительный человек. Сам я, как тебе известно, довольно-таки стоек, но перед шефом готов снять шляпу.
Ничего с ним не делается, чемпион, да и только.
«Шеф у себя на вилле». На жаргоне «Зодиака» это означает, что у Эванса запой. Председатель пускается в разгул редко, и это все стараются держать в тайне, а как же иначе – сан. Но, поскольку, войдя в раж, Эванс веселости ради приглашает на виллу и случайных женщин, отзвуки таких пирушек слышны подчас очень далеко.
– Пожалуй, мы едем не вовремя, – бормочу я. – С опозданием на денек-полтора.
– Глупости! Ты не знаешь Эванса: для него веселье только начинается. Хотя началось оно, в сущности, вчера.
Сначала решили вспрыснуть сделку с «Калор». А когда стали пить по третьей, шеф мрачно поглядел на нас и говорит: «У меня дурное предчувствие!» Вот до чего хорошо соображает! Исключительный тип этот наш Эванс!
– У меня тоже дурное предчувствие, – все еще с раздражением заявляет Эдит. – Мы произведем на всех плохое впечатление. Трезвые всегда производят неприятное впечатление.
– Не бойтесь! – Райман делает небрежный жест рукой. – Уймите ваше сердце, мадам, и не бойтесь! Разве можете вы произвести плохое впечатление, даже если бы вы того хотели?.. А потом, вам нечего стесняться, можете производить такое впечатление, какое вам хочется. Наш председатель не придирчив… Исключительный человек!
Оставив позади городские улицы, машина катит по шоссе в сторону Гарлема. Спина шофера, сидящего перед нами за стеклом, могуча и невозмутима – в стиле «роллс-ройса». Мы сворачиваем на проселок, и за окнами начинают мелькать деревья, редкие и тоненькие, потом деревьев становится больше, теперь они уже более крупные, наконец мы въезжаем в настоящий лес. Здесь царит сумрак и влага. Замедлив ход, машина делает плановый поворот и останавливается перед широкими железными воротами. Шофер нажимает на клаксон, ворота бесшумно распахиваются, и «роллс-ройс» едет по длинной извилистой аллее, образуемой высокими каштанами. Минуту спустя сквозь листву каштанов проглядывают белые стены двухэтажной виллы в стиле модерн, и мы останавливаемся перед парадным входом.
Компания разместилась в огромном холле, и напоминает она не столько подгулявших, сколько чем-то ошеломленных людей. Мужчин здесь только двое – Эванс и начальник отдела радиоаппаратуры Пауль Франк, невысокий, плечистый, плотно сбитый субъект с вечно торчащим в углу рта мундштуком. Женщин вдвое больше, и вид у них такой, будто их доставили сюда прямиком с улицы.
Все сидят в креслах вокруг низенького столика, сплошь заставленного бутылками и бокалами. Из приемника, откуда-то из глубины комнаты, доносятся приглушенные звуки танго, но присутствующие глядят в пол и словно слушают не танцевальную мелодию, а колокольный звон на собственных похоронах.
Наше появление среди этого траурного уныния воспринимается как второе пришествие. Эванс торжественно, хотя и немного сутулясь, встает нам навстречу, целует руку
Эдит, благосклонно здоровается со мной и ведет нас к дивану.
– Разве я не говорил, что Конрад вернется, – самодовольно вещает Пауль Франк. – Конрад стоящий тип! Конрад не способен выкидывать номера, хотя и работает в рекламе.
– Кони, миленький! Иди сюда! – лепечет в пьяном умилении красивая смуглянка.
Райман подсаживается к ней, а мы с Эдит устраиваемся на диване по обе стороны от Эванса.
– Не стану вам досаждать представлениями, – добродушно говорит шеф. – Все мы здесь люди свои.
Он и в самом деле не настолько пьян, чтобы потерять самообладание, но усилие, с каким он контролирует свои движения, говорит о том, что выпил он изрядно.
– Правильно, ни к чему нас представлять, – подхватывает одна из женщин, тощая, с бледно подкрашенными губами. – Важнее другое – кто нам будет наливать.
Пауль Франк вскакивает и с готовностью перебирает бутылки на столе.
– Что тут наливать, когда все уже выпито… кроме джина. Кому налить джину?
– Ни в коем случае! – восклицает Эванс. – Употребление джина строго запрещено! Мы будем пить только легкие напитки.
Он поворачивается к открытой двери и горланит с неожиданной силой:
– Ровольт, дружище! Где же твои прохладительные?
– Все готово, – слышится хриплый голос из соседней комнаты.
В дверях показывается человек по имени Ровольт, он держит огромный поднос, заставленный бутылками виски, содовой, бокалами, льдом. Вся еда – маслины на крохотной розетке. Франк отечески обращается к женщинам:
– Уберите-ка со стола, родненькие!
Две рослые дамы с молодыми, но далеко не свежими лицами почти одновременно встают со своих кресел и не слишком ловко раздвигают посуду на столе, освобождая место для подноса. Ровольт с ужасающим звоном ставит свой груз, выпрямляется, и я узнаю его. Это тот самый мужчина с длинным бледным лицом и в зеркальных очках, что ехал тогда в «бьюике». Очки у него в этот раз не зеркальные, а с дымчатыми стеклами, но выражение лица все такое же – отсутствующее и оттого страшное своим безучастием.
– Наливай в чистые бокалы, дружище! – подает голос
Эванс.
– А я что делаю… – бормочет Ровольт тоном избалованного слуги, который не привык, чтоб его поучали.
Откупорив бутылку виски, он для удобства сдвинул чистые бокалы в одно место и стал разливать, не обращая внимания на струйку, стекающую на поднос. Потом, считая свою миссию законченной, садится в кресло и закуривает.
Во всей компании Ровольт, похоже, единственный непьющий.
Каждый берет по бокалу, очевидно со смутной надеждой, что, может быть, сейчас все переменится к лучшему.
Не будучи большим оптимистом, я тоже тянусь к подносу.
Эванс поднимает свой бокал:
– За наших новых гостей!
Я решил не оставаться в долгу:
– За хозяина!
А сухопарая красотка с белыми губами добавляет:
– И за всех остальных!
– Чудесно! – соглашается Эванс, отпив солидную порцию. – Все тосты чохом. Это и есть наш стиль: время –
деньги.
Покончив с официальной частью, хозяин обращается к моей секретарше и вполголоса выдает ей комплимент по поводу ее платья. Платье ничем не примечательное, так же как его банальный комплимент, и на эти пустяки не стоит обращать внимания, потому что взгляд Эванса, насколько меня не обманывает мое зрение, прикован к ее коленям, выступающим из-под платья.
Еще комплимент; хотя я и не расслышал, он, по всей вероятности, должен послужить мостом от мертвой материи платья к живой плоти его хозяйки.
– Вы заставляете меня краснеть, – смущенно говорит
Эдит, отклоняя любезность, чтобы вызвать очередную; отвратительная женская манера.
Конечно, теперь следует новая словесная ласка. Секретарша смеется, как будто ее пощекотали.
Эванс на время возвращается к своим обязанностям хозяина и, приветливо обращается ко мне, поднимает бокал:
– Еще по глоточку, а?
Глоточки у нас с ним на один аршин, потому что оба бокала осушены, как по команде.
– Вы начинаете мне нравиться, мой мальчик! – признается Эванс, с одобрением глядя на мой бокал. – Ровольт, открой еще бутылку, дорогой!
Ровольт отрывает взгляд от потолка, лениво встает и, обезглавив очередную «Королеву Анну», наполняет наши бокалы.
– В сущности, я давно питаю к вам симпатию, мой мальчик! – не унимается хозяин в приступе сентиментальности и берет свой бокал. – Люблю, когда люди умеют работать, не поднимая шума. Нет, вы действительно мне симпатичны. И ваша секретарша мне симпатична. Какое стечение обстоятельств, не правда ли? Вы оба мне ужасно симпатичны…
Тут он неожиданно хохочет, как будто изрек что-то весьма остроумное. Не понимаю, то ли отупел от выпитого, то ли это состояние вообще присуще ему. Я вовсе не хочу сказать, что он глуп. Напротив, в каких-то отношениях он достаточно умен и хитер. Но ведь нередко случается, что, обнаруживая в своем деле незаурядные познания и опыт, человек, выйдя за рамки своей профессии, оказывается посредственностью невероятной.
Эванс снова обращается к Эдит, и это вынуждает меня принять облик скучающего – я чуть заметно позевываю, рассеянно потягивая виски, и глазею вокруг.
Холл обставлен мебелью, которая сейчас способна ошеломить любого, хотя через год-два она уже будет казаться устаревшей. Темное дерево с инкрустацией из красной меди, яркая обивка – все нуждается в чистке, словно в давно необитаемом доме.
Гости развлекаются кто как может. Райман усадил смуглянку к себе на колени и, запустив пальцы в ее прическу, смотрит на нее мутным взглядом. Пауль Франк пытается рассмешить женщину с известковыми губами анекдотом, но таких анекдотов она, вероятно, знает больше, чем он, поэтому тихо говорит с притворной наивностью: «Очень забавно» и «Но какой, однако, вы бесстыдник». Одна из дородных красоток пробует прельстить Ровольта, перед самым носом у него высоко закидывает ногу на ногу, а другая тем временем не сводит с меня карих глаз, как бы призывая: «Ну-ка, милый, смелей!»
Легко сказать – смелей. Я чувствую, мне следовало бы удалиться и не мешать Эвансу секретничать с Эдит, в то же время меня удерживает опасение, что в мое отсутствие секретарша сделает какую-нибудь глупость. Смелей? Почему бы и нет. Встав, я направляюсь к подзывающей меня красотке и с небрежным видом сажусь на спинку ее кресла.
– Как поживаете? – спрашиваю, пробуя свой английский. – Давно мы с вами не виделись.
– Хватит заливать, – бросает она. – Мы с вами вообще не виделись. Но это не имеет значения.
– Верно. Абсолютно никакого значения. Вам налить?
– С удовольствием выпью. Только надо пересесть куда-нибудь.
Наполнив бокалы, я помогаю женщине подняться и провожаю ее к кушетке, в угол, где стоит проигрыватель.
Танго кончилось. Взяв первую попавшуюся пластинку, я ставлю на место прежней. По холлу разносится затасканная мелодия блюза «Сен-Луи». Мелодия меня захватывает, но не настолько, чтобы я не замечал, как Эдит издали следит за моими действиями, не оставаясь в то же время безучастной к ухаживаниям Эванса.
– Давайте-ка заставим их поревновать, – лениво предлагает мне моя партнерша, возлежа на кушетке.
– Каким образом?
– Обнимите меня этими вот руками, которые остаются у вас без дела, и попробуйте поцеловать.
– А не слишком ли это для начала? Она, знаете ли, опасна. Меня не удивит, если она выхватит из сумочки пистолет…
– Да будет вам! – презрительно лепечет женщина. –
Подайте-ка мне бокал.
Я повинуюсь. Женщина отпивает большой глоток, и у нее рождается новая идея.
– Раз вы не желаете, я подразню своего.
Моя дама, очевидно, полна не только виски, но и самоуверенности. Она неторопливо встает с кушетки, сладострастно извивается, вращая своими гигантскими бедрами под звуки очередного блюза, этого гарлемского ноктюрна, и приступает к исполнению номера, на какой только и способна эта пьяная гусыня.
Номер и в самом деле производит эффект, только не тот, на какой она рассчитывала. В то время как большая часть аудитории в алкогольном экстазе исторгает одобрительные возгласы, Эванс поднимается и уводит сконфуженную Эдит. Толстуха не замечает этого, потому что в данный момент обращена к ним спиной, зато вижу я. Без глупостей не обошлось. Сейчас моя хитрая секретарша попытается что-нибудь выудить у хозяина ценою своих прелестей. Ей даже в голову не придет, что люди, подобные
Эвансу, чем больше пьют, тем крепче замыкаются, у них срабатывает профессиональный рефлекс.
Дородная самка установила, что диван опустел, но делать нечего, и она продолжает стаскивать с себя одежды, подбадриваемая пьяными криками. Ровольт, словно загипнотизированный, таращит глаза на жирные телеса женщины. Пожалуй, пора заняться чем-нибудь полезным.
Я делаю несколько шагов по холлу. Присутствующие –
ноль внимания. Заглядываю в одну дверь: столовая, за ней кухня. Иду дальше. Мраморная лестница, покрытая бледно-розовой дорожкой, ведет на второй этаж. Пускай, думаю, ведет. Почему бы мне не побродить здесь – едва ли представится возможность побывать еще на этой вилле. И
уж наверняка я не буду располагать таким безупречным алиби: ревнивец отправился на поиски своей легкомысленной подруги.
Лестница приводит меня в холл, поменьше первого.
Одна из четырех дверей не представляет интереса, так как выходит на террасу. Пробую ближайшую: на замке. Может быть, за нею укрылись Эванс с Эдит? Взявшись за ручку следующей двери, приоткрываю ее.
Вот они где, прелюбодеи. Сидят себе на кушетке, комната нечто вроде рабочего кабинета или библиотеки –
полумрак. Председатель обнимает женщину, туалет ее не совсем в порядке – стриптиз в первой фазе. Дверь приоткрылась бесшумно, однако из холла пролился свет, и партнеры оборачиваются. Лицо Эдит выражает смущение, Эванса – без выражения.
Бывают моменты, когда в тебе может заговорить непрофессиональный голос. Или голос, рожденный дружбой, человеческой близостью, побуждающий тебя к действию: хватай-ка ее за руку и уводи от мерзавца. Это опасные моменты.
– Извините, – говорю я и тихо прикрываю дверь.
Спустившись вниз, иду через холл в прихожую, чтобы взять свой плащ. За мной следом бросается Райман.
– В чем дело? Что-нибудь случилось? – спрашивает он, сразу догадавшись, что к чему.
– Ничего особенного.
– Но послушай, Морис: ты культурный человек, надо смотреть на это проще.
– А я так и делаю. Только опасаюсь последствий.
– Последствий? Какие последствия? Наш Эванс ни слова не скажет. Кончит пить и на другой день уже ничего не помнит. Однажды мы вот тоже так собрались, и какой-то тип…
– Ясно, – говорю. – Ступай, тебя зовут.
– Но ты в самом деле хочешь уйти?
– Думаю, так будет лучше. Ступай, тебя зовут!
Из холла слышатся громкие голоса женщин, хотя непонятно, что они означают. Махнув рукой Райману, я ухожу. Выход справа, но, поскольку внизу ни души, я иду налево. Уже смеркается. Аллея утопает в тени высоких каштанов. Пройдя метров двести, останавливаюсь. Здесь аллея образует большой круг и тянется обратно. За поворотом простирается лужайка, а за нею встает каменная ограда, обросшая плющом. Пустяк.
Для того чтобы убедиться, что это действительно пустяк, я пересекаю лужайку и подхожу к самой ограде. В
зарослях плюща обнаруживаю небольшую калитку с железной решеткой. Смотрю сквозь решетку: посреди просторной поляны стоит старая двухэтажная постройка, вероятно жилище садовника. Присмотревшись к дому, я прихожу к мысли, что здешний садовник, должно быть, маньяк. Во всяком случае, в области радиотехники. Высоко над крышей торчат прутья дипольной антенны. Было бы проще простого закрепить эти прутья на двух противоположных трубах параллельно коньку крутой крыши. Куда там: этот горе-садовник установил антенну так, что она пересекает конек наискосок и ее невидимые объятья направлены на восток-юго-восток. Судя по устройству антенны, можно предположить, что она обслуживает радиостанцию типа американской AN/gRC. Не числясь в разряде сверхмощных, такие радиостанции способны работать на расстоянии до четырех-пяти тысяч километров.
Дольше глазеть ни к чему. Я иду обратно и скоро нахожу главный въезд. Большие железные ворота на запоре, но сбоку есть калитка, открывающаяся автоматически нажатием кнопки. Выбравшись на лесную дорогу, шагаю в направлении к городу. Передо мной в сумраке маячит фигура женщины.
– Эдит!
Женщина оборачивается. Я приближаюсь, и мы молча идем рядом. По асфальту отчетливо стучат ее высокие каблуки.
– Сегодня ты вел себя отвратительно, – говорит наконец секретарша.
– Вот как? Не заметил.
– Зато я все заметила. Ты нарочно увел ту бесстыжую бабу на кушетку и заставил ее раздеться, чтобы меня разозлить.
– Не фантазируй. И вообще пора тебе отказаться от этой дурацкой тактики упреками предупреждать упреки.
От меня ты даже намека не услышишь.
– Еще бы. Сегодня ты ясно дал понять, что я для тебя ничего не значу. «Извините»… Только подлец способен сказать в такой момент «извините» и тут же смыться.
– Давай не будем употреблять крепких слов, – спокойно предлагаю я. – Потому что и мне ничего не стоит употребить крепкое словцо, и ты знаешь какое.
– Говори!
– Не желаю. Но имей в виду, что сцену в библиотеке я воспринял как подлый удар. Из тех, запрещенных, в подложечную область.
– Перестань паясничать. Если уж говорить о каком-то ударе, так это ты нанес его мне этой комедией в холле.
– Ясно. А чтобы отомстить мне, ты бросилась в объятья
Эванса.
– Вздор. Просто у человека хватило такта избавить меня от этой постыдной сцены…
– И предложить тебе другую, на мой взгляд еще более постыдную, с твоим благосклонным участием.
– Нет. Он решил показать мне коллекцию старинных драгоценностей.
– Что-то я драгоценностей не заметил. Кроме одной-единственной, слегка распакованной.
– Надоели мне твои пресные остроты.
– Ладно. Только и ты больше не должна угощать меня своими побасенками. Любая женщина, даже не настолько опытная, как ты, отлично понимает, если ей предлагают пойти посмотреть коллекцию…
– Мне хотелось его охмурить…
– С какой целью?
– Думала, удастся что-нибудь узнать про сделку с
«Калор». У меня такое чувство, что эта сделка имеет какие-то секретные условия. В общем, я решила поводить его за нос, но он оказался слишком прытким… и принял мое сопротивление за кокетство, потому что разве мыслимо, чтоб какая-то секретарша стала вырываться из объятий самого председателя, грубить и…
– Хорошо, хорошо. И чем же кончился этот невинный флирт?
– Чем он мог кончиться? Раз человек, от которого ждешь помощи, ограничивается дурацким «извините», приходится самой выходить из положения. Вырвалась, бормоча что-то вроде «оставьте меня, я боюсь», – и бежать.
Словом, если это тебя интересует, пощечины я ему не дала.
Так что можешь не бесноваться за свое место.
Отвечать на ее выпад я не считаю нужным, и мы продолжаем брести в потемках по шоссе. Эдит, как всегда,
довольно точно определила практическую сторону моих опасений. Что касается второй, то о ней она и не подозревает. Иной раз человек – даже такой, как я, – незаметно для себя настолько срастается с другим человеком, что чувствует его как часть самого себя. Физическое влечение тут играет свою роль, или укоренившаяся привычка, или впечатления детства, сиротского и печального, как твое собственное, или бог знает что еще, но ты уже не можешь обходиться без этого человека и напрасно убеждаешь себя, что он тебе нужен лишь постольку поскольку, напрасно себе внушаешь, что это мимолетная встреча, каких мало в жизни.
– И долго мы будет так идти? – спрашивает Эдит. –
Из-за этих туфель я останусь без ног.
– А я тебя не заставлял выбирать обувь с такими каблуками. У тебя и без того рост дай боже.
– Мне хотелось сравняться с тобой.
– А может, с Эвансом решила сравняться?..
– Перестань… Ох, не могу больше!
– Нам бы добраться до шоссе. Там мы остановим какую-нибудь машину.
– До шоссе? А где оно? Когда ехали, мне казалось совсем близко…
– Недалеко, – утешаю я ее. – Еще два-три километра.
Выходим из лесу, и, как следовало ожидать, начинается дождь.
– Только этого не хватало… – вздыхает Эдит.
– Вот именно. Таким, как мы, только этого не хватает для полного удовольствия.
Пускай меня хлещут и ветер и дождь.
Что может быть лучше плохой погоды?
– Не ожидала, что у тебя такая память, – смеется Эдит, несмотря на боль в ногах. – Особенно на такие глупости, как ты скажешь.
Дождь начинает робко, будто пробует, что получится.
Потом усиливается и вовсю стегает нас по спинам бесчисленными плетьми. Вокруг простирается черная равнина. В каком-то смутном лиловом сиянии угадываются тучи.
Далеко впереди проносятся огоньки. Где-то там шоссе.
– Нет, мне придется снять эти туфли, – стонет Эдит. –
Без них будет лучше.
– Какая дикость. Ты что, будешь топать босиком в такой дождь? Тогда мне придется тащить тебя на спине.
Она опять смеется:
– Меня тащить на спине? Бедняжка! И сколько же метров ты сможешь меня протащить?
– Пока не выйдем на шоссе.
– Мы говорим об этом шоссе, словно о какой-то обетованной земле, – замечает Эдит. – И совсем забываем, что никакая машина нас там не ждет. Не представляю, как мы доберемся домой.
– Сперва стремись достигнуть близкой цели, а уж тогда более далекой.
– Ты весь соткан из узкого практицизма. Удивляюсь, как ты запомнил эту песню.
– И здесь сказался мой практицизм: чтоб не покупать пластинку.
Упоминание о пластинке вызывает у меня кое-какие ассоциации, и я уже готов погрузиться в свои мысли, но
Эдит отвлекает меня:
– Тогда был чудесный вечер. Ты не забыл?
Нет, не забыл. Потому что все началось с того проклятого поцелуя на мосту и с той ночи, когда я впервые ощутил в Эдит не просто женщину, а нечто большее. Потом эта история с елкой. К рождеству я притащил елку, ведь рождественский подарок принято класть под елку, а когда Эдит вечером вернулась домой, на зеленых ветках мягко мерцали разноцветные лампочки; женщина замерла перед деревцем и беззвучно глотает слезы. Я не поверил своим глазам – Эдит способна плакать. Плакала она, конечно, не из-за моей елки, а оттого, что вспомнила о чем-то сокровенном; впрочем, она даже на плакала, а сдерживала слезы, но это в конце концов одно и то же, и обнял я ее, чтобы утешить, а она вцепилась в меня и шепчет: «О Морис, зачем ты заставляешь меня плакать, это первая елка в моей жизни, первый теплячок» и тому подобные слова. А потом были и другие знаки внимания, не столь заметные среди мелочной повседневности, о которых не стоит и говорить.
– Славный был вечер, – согласно киваю я в ответ. –
Особенно если учесть, что до дома было рукой подать.
– Перестань, – говорит она. – Хватит того, что я от туфель страдаю.
Наконец мы вышли на шоссе. Но что толку? Редкие машины одна за другой проносятся мимо, обдавая нас фонтанами воды. Никто не обращает внимания на мою поднятую руку, если ее вообще и замечают. Дождь льет без малейших признаков усталости. Косые струи воды хлещут нас по спине и с мягким, ровным шумом стелются по асфальту.
– Никакого смысла торчать тут. Давай добираться до
Мюйдена.
Женщина бросает на меня сокрушенный взгляд, и мы молча бредем вдоль шоссе по песчаной тропке. Эдит как будто не теряет присутствия духа, но ноги переставляет она с великим трудом.
– Держись за меня, – предлагаю я ей.
– Не думаю, что от этого мне станет легче, – пытается шутить женщина, опираясь на мою руку.
В сотне метров от нас темнеет двухэтажное строение.
Одно из окон первого этажа бросает на улицу широкий светлый луч. Подходим к живой изгороди, и я не без интереса заглядываю во двор.
– Подожди здесь.
Тихо открыв низкую деревянную калитку, я направляюсь к навесу у дома. Немного погодя возвращаюсь на шоссе, ведя велосипед, правда довольно подержанный.
Благословенная страна, в которой на каждого гражданина приходится по велосипеду.
– Морис! Никогда бы не подумала, что ты опустишься до уровня вульгарного воришки.
– Ради тебя я готов совершить убийство. И потом, почему «вульгарного»? Я положил в почтовый ящик два банкнота.
– Выдержит ли он нас? Ведь он совсем дряхлый…
Однако велосипед оказывается выносливым. Именно потому, что он старый. Новые изделия, как известно, прочностью не отличаются.
И вот мы летим по краю шоссе с «молниеносной»
скоростью – двадцать километров в час, подхлестываемые дождем и подгоняемые ветром; после того как мы столько брели пешком, это беззаботное скольжение даже приятно.
Сидя на раме, Эдит прижимается спиной к моей груди, она вся в моих объятиях, и я вдыхаю запах ее волос с таким чувством, будто стремлюсь не к дому, что стоит где-то там, в чужом городе, а к чему-то гораздо более прекрасному, что находится по ту сторону темного туннеля ночи.
Эдит, вероятно, испытывает то же самое или нечто похожее, потому что то и дело прикасается щекой к моему лицу, но у нее есть то положительное свойство, что она не говорят, когда лучше помолчать, и мы все так же мчимся под легкий шелест шин и плеск дождя, пока не въезжаем на опустевшие улицы Амстердама и не останавливаемся у нашего дома.
С подобающей галантностью я провожаю Эдит до верхнего этажа и, оставаясь кавалером до конца, захожу на минутку к ней. Бывают, правда, минутки, которые длятся довольно долго.
Чудесная ночь может кончиться не так уж чудесно.
Утром моя секретарша поднялась с температурой.
– Простудилась. Ложись в постель.
Она пытается возражать, но, поскольку ноги ее явно не держат, послушно возвращается в постель. Вскипятив ей чай и сбегав в аптеку за лекарствами, я отправляюсь в
«Зодиак». Эванс, вероятно, еще в запое или приходит в себя, потому что его «роллс-ройса» не видно на обычном месте. Все намеченные на это утро дела откладываю в сторону, в обед навещаю Эдит и возвращаюсь на службу, потому что дел у меня сегодня невпроворот, но одно из них буквально не дает мне покоя.
Два открытия, сделанные на вилле Эванса – Ровольт и радиостанция, – конечно, чистая случайность, но случайность эту я ждал больше года. Счастливая случайность не в счастье, а в конце ожидания: она всегда придет, если ты умеешь ждать. Гипотеза «Зодиак» плюс Центральное разведывательное управление нашла сразу два подтверждения: убийца Любо – один из телохранителей Эванса. Радиосвязь с агентурами в наших странах осуществляется людьми Эванса. Занимаясь коммерческой деятельностью в
«Зодиаке» для отвода глаз, Эванс весь во власти другого ремесла – шпионажа. Солидная фирма, ее солидные сделки
– это всего лишь легальный фасад крупного разведывательного центра.
Тут напрашивается гипотеза: официальная деятельность главного шефа «Зодиака» протекает в учреждении, а неофициальная – на вилле, однако у меня уже достаточно фактов, опровергающих подобное предположение. Длительные, хотя и осторожные наблюдения убеждают меня в том, что Эванс редко ездит на виллу, а в своем служебном кабинете ежедневно проводит по восемь часов, хотя официальные обязанности отнимают у него не более часа, а то и полчаса в день. Вилла кажется слишком доступной, чтобы хранить там большие секреты, а домик садовника годится разве что для радиостанции. И легальную, и нелегальную деятельность фирмы Эванс, вероятно, направляет из своего служебного кабинета, и главные его помощники тоже, видимо, тут, в «Зодиаке», тогда как «домашняя прислуга» осуществляет его связь с радиостанцией.
Открытие, покоящееся на предположении, интересно лишь одним: никакой практической ценности для достижения конечной цели оно не имеет. Больше того, обстоятельства, при которых открытие было сделано, могут оказаться роковыми на пути к этой цели. Где гарантии, что председатель забудет или сделает вид, что забыл инцидент с Эдит. Небрежный взмах руки, и я вылетаю из «Зодиака»
либо один, либо в компании с любимой женщиной.
Конечно, тучи на горизонте еще не основание, чтоб совершать опрометчивый поступок, но то, что я собираюсь совершить, рискованно.
Как только в коридоре раздается мягкий бой часов, я оставляю свои бумаги, беру плащ и неторопливо выхожу на улицу. На улице я, против обыкновения, направляюсь не к кафе на углу, а в обратную сторону. Перед тем, как свернуть в переулок, незаметно оглядываюсь и, с удовольствием убедившись в своей правоте, все так же не торопясь иду дальше. Меня обгоняет кудрявая блондинка в темно-синем плаще.
– А, мадемуазель Босх! Хорошо, что я вас увидел: вы мне напомнили про одно почти забытое обстоятельство.
Девушка на мгновение останавливается, и я подхожу ближе.
– Я вас не понимаю. Какое обязательство?
– Видите ли, Эдит совершила великое открытие, но, так как она больна, мне приходится ее заменять. Речь идет о новых записях Джанго Райнгарда, которые я должен был купить и передать вам от ее имени.
– Очень мило со стороны Эдит и с вашей стороны, –
улыбается Дора Босх. – Но стоит ли брать на себя такой труд?
– Стоит. Иначе она подумает, что я забыл. А ведь так оно и случилось.
Дора говорит еще что-то о том, как она тронута, и мы продолжаем идти к Кальверстрат.
– Должен вам сказать, импровизации Джанго действительно нечто особенное. Это вещи совершенно новые и пока мало кому знакомы.
– Умираю от любопытства, – с детской непосредственностью восклицает девушка. – Джанго – мой кумир.
– Лично я предпочитаю Бекета, – возражаю я, рискуя запутаться в именах.
– О, Бекет, да! Но Бекет – это нечто иное. А Бени Гудман?
– Фантастичен! – бросаю я, снова рискуя попасть впросак.
Магазин достаточно далеко, чтоб израсходовать и остальные два имени, услышанные от Питера, и достаточно близко, чтоб обнаружить свое невежество. Купив две пластинки с записью Джанго – одну для Доры и одну для
Эдит, – я предлагаю выпить по чашке кофе, потому что сейчас самое время для этого.
– Даже не знаю, стоит ли мне соглашаться, – колеблется
Дора.
– Почему?
– Знаете, мистер Эванс очень ревниво смотрит на связи своего персонала.
– Какие связи! – протестую я. – Зайти на минутку в кафе – кому это может повредить? И потом, сегодня мистер
Эванс за городом.
Мысль о шоколадном торте заманчива, да и моя аргументация кажется довольно солидной, так что вскоре мы входим в кондитерскую и садимся в укромном уголке.
– Не подозревал, что мистер Эванс до такой степени ревнив, – небрежно бросаю я, пока Дора занимается куском торта.
– Дело не в ревности. Можно подумать, он и ван Альтена ревнует, – усмехается девушка.
– А в чем же?
– Ни в чем. Просто принцип.
– Обычно принцип имеет основание. Что плохого, например, в том, что мы с вами сели выпить по чашке кофе?
– По-моему, ничего плохого. Но если он увидит нас вместе, я могу вылететь с работы.
– Вы шутите.
– Нисколько. Ева, его прежняя секретарша, вылетела именно из-за такого пустяка. Мигом вылетела, хотя считалась даже его приятельницей.
– А, да, слышал: Ева Шмидт.
– Ева Ледерер, – поправляет меня Дора. – В «Зодиаке»
не было Евы Шмидт, по крайней мере при мне.
– Может, он просто искал повод. Наскучила ему как приятельница, вот и решил избавиться от нее.
– Вы этим склонны все объяснить, – улыбается Дора. –
Только он избавился и от ван Вели, а ван Вели не был его приятельницей…
– Ван Вели? Не слышал про такого.
– Не удивительно, ведь вы у нас сравнительно новый.
Ван Вели был вторым человеком в архиве и все же вылетел, хотя работник был неплохой. Да и Ева безупречная секретарша.
– Раз они такие безупречные, значит, без работы не остались.
– Нет, конечно. В сущности, ван Вели не пришлось искать работу, потому что два дня спустя он утонул.
– Самоубийство?
– Говорят, но, возможно, и несчастный случай. А Еву через неделю взяли в «Райскаф». Правда, Арнем это не
Амстердам.
– Верно. Однако важно не только то, где ты живешь, но и сколько получаешь. Потому что будь ты в самом Париже, а живи как какой-нибудь ван Альтен…
– Ну, здесь никто не виноват. Разве что собственная скупость, – возражает Дора. – Копить деньги, чтобы жить на том свете, не особенно весело.
Мы еще немного поболтали и поднялись.
– Я вас прошу, не провожайте меня, – говорит девушка у самого выхода. – Нас могут увидеть, пойдут сплетни. И
вообще в другой раз не останавливайте меня, пожалуйста.
– Ладно. Можете быть спокойны. Не собираюсь доставлять вам неприятности.
Она еще раз поблагодарила меня за пластинку, а я, в свою очередь, благодарю ее за информацию, хотя мысленно, после чего она уходит своей дорогой.
Эдит в постели, но утверждает, что ей уже лучше. А
пластинка Джанго совсем ободрила ее.
– Никогда бы не подумала, что ты догадаешься купить, – замечает секретарша, ставя пластинку на диск проигрывателя.
– Мне помогла твоя Дора, – признаюсь я. – Случайно встретил ее возле магазина, и у меня появилась идея подарить ей Джанго от твоего имени и тебе – от моего.
Эдит смотрит на меня своим подозрительным взглядом,
но ничего не говорит, и в этот момент раздаются звуки легендарной гитары. Фантастично!
8
У Эдит и на следующий день держится температура, и она не может выйти на работу. Неприятно, однако это упрощает мою задачу. Пользуясь тем, что начальству предоставлено право выходить в любое время, я покидаю свой кабинет за два часа до конца работы, отправляюсь на вокзал и сажусь в поезд, идущий в Арнем.
К моменту прибытия в Арнем рабочий день еще не кончился. Во время войны гитлеровцы разрушили город до основания, поэтому здание вокзала, как и весь городок, построено заново, в современном стиле, если не считать нескольких памятников старины, которые удалось реставрировать. Я узнаю адрес «Прайскаф» и вскоре попадаю в комплекс просторных светлых магазинов. Это и есть
«Прайскаф», однако мне не совсем ясно, где среди этой необъятности может таиться Ева Ледерер. Место образцовой секретарши, очевидно, должно быть где-то при главной дирекции, рассуждаю я, решая начать поиски оттуда.
– Подождите внизу, – отвечает на мой вопрос портье. –
Чиновники как раз заканчивают работу.
– С удовольствием, только я не знаю, как она выглядит.
Я пришел по поручению ее близких.
Спустя две минуты портье показывает мне торопливо спускающуюся по лестнице молодую хрупкую женщину с тонким динамичным лицом.
– Мадемуазель Ледерер?
Она останавливается на мгновение и кивает, вопросительно подняв брови.
– Я бы хотел, чтобы вы уделили мне несколько минут для серьезного разговора.
– Но я с вами не знакома.
– Меня зовут Гофман. Разговор будет иметь взаимный интерес и отнимет у нас всего несколько минут.
– Если так…
Мы идет рядом. До первого кафе.
– Вы ничего не имеете против, если мы присядем тут?
– Просто не знаю, – говорит смущенная женщина. – Я в самом деле спешу.
– Я тоже. Пока мы выпьем по чашке кофе, разговор будет окончен.
Она уступает из деликатности. Хорошо, что еще не перевелись деликатные люди.
– Я по поводу вашего бывшего шефа Эванса, – заявляю я без лишних слов, как только официант принял заказ.
– Не говорите мне об этом человеке, – отвечает Ева, едва не вскочив на ноги. – Он испортил мне жизнь.
– И мне тоже, – замечаю я. – Потому-то мне и надо с вами поговорить.
Женщина снова откидывается на спинку плетеного кресла.
– А вам что он сделал?
– Отнял у меня приятельницу. Пригласил нас на виллу, где, по сути, и отнял у меня приятельницу. Не говоря уже о процентах, которые он урвал при заключении сделки.
Для такого человека, как Ева Ледерер, которой характер
Эванса достаточно знаком, эти слова должны были прозвучать весьма убедительно.
– О, это вполне в его стиле, – пожимает она плечами. –
Не пойму только, чем я могу вам помочь.
Я жду, пока официант поставит на стол кофе и пирожные.
– Видите, в чем дело: как Эванс поступил со мной, он поступал и с другими людьми.
– Если иметь в виду его поведение в отношении женщин, то вы не далеки от истины. Хотя и здесь он очень осторожен.
– Я имею в виду проценты.
– И в этом вы не ошибаетесь. Но он интересуется только крупными сделками, на миллионы долларов.
– При вас таких сделок, наверно, было немало.
– Еще бы. Я пробыла у него три года. А за три года…
– И вы, очевидно, могли бы вспомнить некоторые из них.
– Как не вспомнить, когда я писала действительные договоры, а канцелярия – фиктивные. Были договоры и с
«Филипс», и с «Сименс», и с АЕГ…
Она называет еще несколько фирм.
– И как поступал Эванс?
– Так же, как с вами.
Ответ меня не вполне устраивает, однако я не могу ей об этом сказать.
– Со мной он договаривается о покупке за пятьсот тысяч, и я даю официальную расписку, что получил пятьсот тысяч, а на самом деле он дает мне только четыреста девяносто, – говорю я наугад.
Она кивает.
– Вот, вот.
– А чтобы я мог оправдаться перед казной, мы подписываем отдельный договор с указанием реальной суммы.
– Обычное дело. Только вы – исключение.
– В каком смысле?
– Во-первых, Эванс никогда не берет менее пяти процентов, и, во-вторых, он редко занимается мелкими сделками. Мелочь, как правило, идет ван Вермескеркену.
Женщина отказывается от предлагаемой сигареты и одним глотком допивает свой кофе. Похоже, она действительно торопится.
– И все-таки я не понимаю, зачем вам понадобилась я?
– Как зачем? Чтобы его изобличить.
Она смотрит на меня со снисходительным сочувствием.
– Мой вам совет: не пытайтесь. Навредите себе. Эванс человек очень сильный.
– Но ведь это же незаконные барыши, притом на миллионные суммы.
– Да, но вы же знаете, что этим занимаются многие. И
потом, вы не сможете представить никаких доказательств.
– Но должны же эти документы храниться в каком-нибудь архиве.
– Верно. Только вы никогда не получите туда доступа, потому что это его, Эванса, частный архив.
Она берет сумочку и собирается встать, но перед этим еще раз смотрит на меня своими кроткими карими глазами и тихо говорит:
– Я серьезно вас предупреждаю: откажитесь от идеи изобличения Эванса. И очень вас прошу: ни в коем случае не впутывайте меня в это дело.
– Можете не беспокоиться. Считайте, что мы с вами никогда не виделись.
Ева смотрит на меня так, словно хочет убедиться, в здравом ли я уме.
– Знаете, в свое время у Эванса работал один тип по имени ван Вели…
– Да, тот, что покончил с собой…
Она кивает.
– Вы, очевидно, уже многое знаете из того, что связано с Эвансом. Мне хочется предупредить вас, чтобы вы были поосторожней, а то как бы и у вас дело не дошло до самоубийства.
Она встает, награждает меня своей бледной улыбкой и уходит…
– Мы еще недостаточно используем возможности африканского рынка, – говорю я, беря предложенную мне сигару. – В связи с этим у меня возникла настоятельная необходимость лично встретиться с Бауэром.
– Ну разумеется, Роллан, разумеется! – рокочет за письменным столом рыжий великан. – В ближайшие же дни наведайтесь в Мюнхен.
«В ближайшие же дни» можно понять и как «завтра же». Меня такое толкование вполне устраивает, поскольку время для выжидания прошло и настала пора действовать.
– Так спешно? – недовольным тоном спрашивает Эдит, узнав, что на следующий день я уезжаю.
– А какой смысл откладывать? Ты со мной все равно не поедешь. Мюнхен не для тебя.
Она не отвечает, так как ответить ей нечего. Несколько месяцев назад, когда я последний раз ездил в Мюнхен, она категорически отказалась меня сопровождать. Это, однако, не мешает ей весь вечер недовольно коситься на меня. Я
склонен объяснить это ее состоянием – у нее порой подскакивает температура, и врач велел ей посидеть дома.
Когда я захожу утром проститься с ней, она уже одета.
– Уж не решила ли ты прогуляться в такую рань?
– Не могу же я без конца киснуть в этой комнате.
– Эдит, без глупостей! Делай то, что велит врач.
Она не говорит ни «да», ни «нет». Настроение у нее все еще неважное.
В Мюнхене вопреки тому, что уже осень, светит ясное солнце. На Карлплац стоит тяжелый запах выхлопных газов, машины ползут сплошной массой, от рева моторов сотрясается воздух – как не оценить прелесть тихих уголков Амстердама с его тенистыми набережными и спящими каналами!
Уверенный в себе и в будущем свободной Европы, Бауэр встречает меня в неизменно хорошем настроении и, чтобы вдохнуть и в меня свою бодрость, вручает мне свою твердую, как дерево, руку.
– Что нового?
– Новое впереди.
Рассказываю ему, что считаю нужным, о последних событиях, потом излагаю свой план.
– Очень интересно, – сухо, по-офицерски отчеканивает
Бауэр. – Но тут есть риск.
– А где его нет? – спрашиваю. – Если избегать риска всеми способами, я, может быть, и дотяну до пенсии, а вы –
не уверен.
– Неужели вас больше заботят общие интересы, чем свои собственные?
– Я не такой лицемер, чтобы доказывать нечто подобное. Однако считаю, что наши интересы во многом совпадают. Я задыхаюсь на этом чиновничьем месте, Бауэр.
Я не отношусь к числу людей, которых заботит только зарплата. Мне хочется нанести удар, получить вознаграждение наличными, с тем чтобы опять приняться за дело на свободных началах.
– Вы человек риска, Роллан. Я это заметил с первой же нашей встречи.
– Риска, покоящегося на точном расчете, – уточняю я.
– Ладно, сейчас не время спорить. Насколько ваш расчет точен, судить другим. Приходите завтра в обед.
На следующий день Бауэр встречает меня с тем же настроением и с таким же бесстрастным лицом. Сколько ни наблюдай за таким лицом, это не обогатит твои познания в области психологии. Вместо того чтобы прямо сказать, в какой мере мой риск основывается на точном расчете, он начинает задавать один вопрос за другим, чтобы проверить, насколько верна предстоящая операция, существующая пока что только у меня в голове.
– Ваш план не лишен логики, – замечает наконец Бауэр как бы против желания. – Но, повторяю, не лишен и риска.
Возражать не имеет смысла. Что следовало сказать по этому вопросу, я уже сказал. Человек за письменным столом задерживает на мне свой неподвижный взгляд, сухо усмехается и произносит ожидаемое слово:
– Действуйте!
Собираюсь задать какой-то вопрос, но Бауэр движением руки останавливает меня.
– Имейте в виду – об этом я и раньше вас предупреждал: весь риск вы берете на себя. Там, в «Зодиаке», вы представляете только самого себя, ваши поступки касаются вас одного, и не думайте, что, если вы угодите в западню, кто-нибудь кинется вас выручать. Ни на что и ни на кого вы не рассчитывайте.
– Даже на ван Вермескеркена?
Вопрос обронен как бы случайно, однако Бауэр не сразу его переварил.
– На ван Вермескеркена в особенности!
Он смотрит на меня в упор, и его безучастный взгляд на сей раз красноречиво говорит о многом.
– Ясно, – киваю я. – В таком случае назовите человека, который окажет мне техническую помощь.
– Обратитесь к фирме «Фурман и сын».
Бауэр замолкает, словно для того, чтобы внушение проникло в мой мозг как можно глубже. Потом добавляет:
– На всякий случай я вас снабжу кое-какими сведениями об этом человеке, чтоб вы могли поприжать его и чтобы он не поддался искушению. И еще одно.
Тут он вынимает из ящика стола новенький иссиня-черный маузер и протягивает мне.
– С пожеланием, чтоб он вам не понадобился.
Спустя полчаса я выхожу на освещенную полуденным солнцем улицу. Через какое-то мгновенье из парадной дома напротив выскальзывает тощий человек с коротко подстриженными волосами, тронутыми сединой, и идет по противоположному тротуару. Видимо, это случайное совпадение, потому что субъект не обращает на меня никакого внимания и сворачивает за угол. Совпадение, только двойное. Этот тип мне знаком, однако сейчас я не могу припомнить, с каких именно пор и где я с ним встречался, и мне потребовалось пройти по жаре сквозь людские толпы еще несколько сот метров, чтобы, покопавшись в тайниках своей памяти, извлечь запечатлевшийся там образ: оказалось, это «приятельница» моей Эдит, человек, с которым она встречалась на террасе кафе в Женеве.
Частное сыскное предприятие «Фурман и сын», как приличествует таинственному учреждению, скрывается в глубинах лабиринта, образуемого старыми зданиями со множеством флигелей, внутренними дворами и задворками, среди запущенных, позеленевших от времени каналов.
Учреждение занимает два помещения. Первое служит приемной, канцелярией и архивом: тут стоят шкафы с потонувшими в пыли папками и письменный стол, за которым сидит анемичная секретарша, достигшая расцвета своего критического возраста. Вторым помещением, куда меня вводят после короткого опроса, безраздельно владеет глава фирмы.
Встретивший меня человек с желтым морщинистым лицом, вероятно, давно отвык от посетителей, потому что его живые, беспокойные глаза выражают откровенное недоумение.
– Вы отец? – любезно спрашиваю я, протягивая руку.
– Нет я сын. Отец умер.
– Мои вам соболезнования…
– Он умер двадцать лет назад, – уточняет Фурман-младший.
– Жаль, – говорю я. – Но это неприятность, которой нам всем не миновать.
– Вот именно.
– А пока мы живы, приходится постоянно иметь дело с более мелкими неприятностями. Вот и меня привело к вам что-то в этом роде.
Убедившись, что я оказался здесь не по ошибке, шеф предприятия наконец указывает мне своей желтой морщинистой рукой на продавленное кресло, а сам устраивается в другом, еще более продавленном.
– Как представитель некой коммерческой фирмы, я бы хотел получить не подлежащие оглашению сведения относительно серии сделок… – начинаю я, не переставая думать о том, что, может быть, я действительно по ошибке попал в это царство пыли и запустения.
Фурман выслушивает меня внимательно, без тени удивления, а тем временем его живой острый взгляд прыгает по моему лицу, словно блоха. И только после того, как я заканчиваю, глаза его успокаиваются и смотрят на меня задумчиво и словно прикидывая мою платежеспособность.
– Раздобыть их можно, – говорит он наконец. – Хотя и очень трудно…
– Именно поэтому я обращаюсь к вам.
– А то, что дается трудно, обходится дорого, – добавляет Фурман-сын, пропустив мой комплимент мимо ушей.
– Дорого – понятие неопределенное.
Хозяин снова погружается в глубокие размышления, после чего называет цифру, которая, на мой взгляд, нуждается в уточнении. После оживленного торга поправка принимается. Однако, едва до Фурмана дошло, что справку я желаю получить через несколько дней, он тут же, что-то прикинув, заявил:
– Вы хотите от меня невозможного. А невозможное всегда стоит немножко дороже. Надо будет спешно отлучиться кое-куда, кое-что дать отдельным лицам, а что же в итоге будет иметь фирма, кроме усталости?
– Ладно, – уступаю я. – Но при соблюдении двух условий: никаких проволочек и полная секретность.
– Когда вы имеет дело с фирмой «Фурман и сын», подобные оговорки излишни.
– Превосходно. Вы мне окажете большую услугу. Поэтому я в свою очередь хотел бы оказать вам услугу, притом совершенно бесплатно: не впадите в искушение, дорогой Фурман, получить дважды гонорар за одну операцию…
– Вы меня обижаете.
– Напротив, предвосхищаю вашу житейскую мудрость.
И позволю себе высказать опасение, что в данном случае эта мудрость может вас подвести. Я уже дал вам понять, что защищаю не свои личные интересы. А те, чьи интересы я защищаю, располагают некоторыми документами относительно вашей активной работы в гестапо…
– На эти вещи уже давно стали смотреть сквозь пальцы, – с небрежным видом замечает шеф фирмы.
– Верно, но только не в Голландии и особенно если дело касается обстоятельств, подобных вашим. Стоит некоторым фактам из вашей биографии дать огласку, ваша деятельность в этой стране закончена, Фурман.
– О, моя деятельность и без того идет к концу. И потом, к чему ворошить прошлое?
– Будем мы его ворошить или нет, это целиком зависит от вас.
Когда я встаю с кресла, первое мое намерение –
стряхнуть пыль с плаща, но из деликатности я воздерживаюсь.
– И еще одно: смерть, как уже было сказано, неприятная неизбежность, но торопить ее ни к чему. Господин
Эванс…
– Ш-ш-ш! – Фурман предупредительно подносит палец к своим желтым губам. – О таких вещах не говорят. Вы лучше дайте мне аванс и освободите свою голову от излишних страхов. Все будет исполнено так, что сомневаться в надбавке мне не придется.
– Чтоб вы могли рассчитывать на надбавку, – вставляю я, – вам придется решить еще одну маленькую задачу.
– «Маленькая», выбросьте вы это слово из нашего словаря, – бормочет Фурман. – Вы, я вижу, не из тех, кто занимается мелочами.
– Вы правы. Сумма, которую я вам плачу, даже мне не кажется маленькой. Так вот, мне нужны сведения такого порядка…
Вернувшись из Мюнхена, я не сразу попал домой. А
придя домой, застаю Эдит в постели и с высокой температурой. Охваченная горячей волной лихорадки, женщина даже не замечает моего появления. Пара грязных туфель в прихожей раскрывает причину внезапного ухудшения ее здоровья.
– Существует опасность бронхопневмонии, – говорит врач, выписывая антибиотики.
Делаю все, что в моих силах, чтоб выполнить его предписание, затем иду ненадолго в «Зодиак», потом снова занимаюсь лекарствами и чаями, только под вечер выбираюсь позвонить парикмахеру, но, вконец завертевшись, набираю не тот номер.
Часов в пять выхожу подышать свежим воздухом и сажусь под навесом какого-то кафе. Похолодало, дует пронизывающий ветер, и народу за столиками немного.
Официант приносит мне кофе и удаляется. Я достаю сигареты, но не нахожу спичек.
– Позвольте воспользоваться вашей зажигалкой? – обращаюсь я к человеку, сидящему за соседним столиком и поглощенному чтением газет.
Человек с готовностью щелкает зажигалкой у меня под носом, а я, следуя этикету курильщиков, подношу ему коробку «Кента».
– Но ведь у вас только одна сигарета…
– Не беспокойтесь, у меня есть новая пачка.
Он берет сигарету, однако не закуривает, хотя мог бы это сделать, – в фильтре покоится свернутое в трубочку мое короткое послание.
Выпив кофе, оставляю на столе монетку и, так как ветер действительно очень холодный, иду домой. Возвращаюсь с наступлением темноты. Состояние Эдит очень тяжелое.
Она с трудом дышит и временами бормочет бессвязные слова. Бессвязные, непонятные и, в отличие от того, как это бывает в подобных случаях в кинофильмах, не раскрывающие никакой ужасной тайны. Вызываю по телефону врача, и вскоре он является в сопровождении сестры со шприцами.
Несмотря на уколы, Эдит всю ночь лежит без сознания, голова в огне. Дежуря в кресле возле кровати, я размышляю о своих делах и, между прочим, о том, не собирается ли моя секретарша положить конец всем моим подозрениям самым радикальным способом – исчезнув навсегда.
Жалко. Хотя, возможно, это был бы единственный безболезненный исход нашей абсурдной дружбы, безболезненный для нее, потому что она этого не ощутит, а также и для меня, поскольку причина будет не во мне. У
меня в эти дни такое чувство, что я уже утратил эту женщину, так что другая, физическая утрата явится всего лишь формальным моментом.
Я уже потерял ее, а раз потерял, значит, у меня ее никогда не было. В сущности, я бы не прочь иметь такую, как она, и не только для роли секретарши. Она хороша своей прямотой, не доходящей, однако, до грубости, она бывает нежна, и здесь ей тоже не изменяет чувство меры, она всегда собрана, привлекательна, досадная суетность ей не присуща, а ее верность не переходит в несносную навязчивость – словом, это достаточно выдержанный и совсем не обременительный спутник, который едва ли может надоесть, потому что и сам не навязчив, и твоей любовью злоупотреблять не станет. Эдит чем-то напоминает мне
Франсуаз, хотя та отличалась холодностью и большей дозой цинизма. Странно, но Эдит и в самом деле напоминает мне Франсуаз, а если принять во внимание, что Франсуаз работала в разведке, сходство это приобретает особый смысл.
На рассвете лихорадка как будто спадает, бред прекращается, на лбу больной проступают мелкие капельки пота. К обеду она открывает глаза и выпивает стакан чаю.
Под вечер снова ненадолго просыпается, после чего опять засыпает, и я еще одну ночь провожу в кресле в беспокойной дреме.
До сих пор все упирается в несколько десятков «если», и по поводу каждого такого «если» мне как будто слышится соответствующий вопрос; всякий раз я слышу голос полковника, и мне даже кажется, вижу, как при этом вонзается в пространство его прокуренный палец, а тем временем генерал и мой шеф пристально смотрят на меня. Но все эти вопросы мне хорошо известны, на каждый из них у меня есть ответ, и если я все же продолжаю ломать голову, то вовсе не ради того, чтобы любой ценой получить мозговую лихорадку, а потому, что боюсь, как бы ненароком не пропустить какое-нибудь «если», возникновение которого может все опрокинуть в тартарары.
На следующий день Эдит становится лучше, она реже забывается во сне, слушает свои джазовые мелодии, пока я занимаюсь ее таблетками да каплями и стараюсь почти насильно влить ей в рот бульон, так как к еде у нее отвращение. Подчас я ловлю на себе ее внимательный взгляд, но делаю вид, что не замечаю этого, занятый хозяйственными заботами или чтением.
– В самом деле, Морис, ты так заботишься обо мне, что это просто необъяснимо.
– Почему необъяснимо?
– Потому, что люди, подобные тебе, заботятся только о своих интересах.
– В таком случае ты входишь в круг моих интересов.
– Почему?
– Я тебе объясню, когда поправишься. А сейчас спи!
Она закрывает глаза, но тут же снова открывает их.
– Неужели в твоей голове среди множества полок, заставленных полезными вещами, нашлась маленькая полочка, отведенная для сентиментальностей?
– Потом я тебе все объясню подробнейшим образом. А
пока спи!
Приглушив проигрыватель, я оставляю зажженной лишь голубую настольную лампу в глубине комнаты и располагаюсь в кресле.
– Ты такой добрый, – слышится слабый голос Эдит, –
или же очень хорошо умеешь прикидываться добрым. Ах, как бы я хотела, чтоб ты и в самом деле был таким хорошим…
Эти слова я должен был бы сказать ей, но больных полагается щадить, по крайней мере пока не минует кризис.
Так что покойной ночи, дорогая, и приятного сна. Ничего от тебя не уйдет.
Работа у Фурмана, возможно, очень секретная, однако своего настроения этот человек явно не умеет скрывать. Не успев переступить порога его учреждения, я уже вижу, что он опьянен своей победой. А чтобы и у меня не оставалось никакого сомнения по части этого, шеф фирмы произносит почти со сладострастием:
– Надеюсь, полагающаяся сумма при вас?
– О сумме не беспокойтесь. Хотелось бы посмотреть, на что я ее расходую.
– На коллекцию драгоценностей.
Он вытаскивает из кармана две пластмассовые коробочки, но не подает их мне, а лишь поднимает вверх, чтобы я мог порадоваться им издалека.
– Вот они, ваши микрофильмы, в двух экземплярах, как условились. На них засняты все интересующие вас документы. В денежном выражении афера превышает десять миллионов.
Цифра не производит на меня ожидаемого впечатления, и я не преминул сказать об этом Фурману-младшему.
– Вы не поняли, – усмехается он. – Разница составляет десять миллионов, проценты от той кругленькой суммы, которую ваш Эванс положил себе в карман.
– А, это дело другое, – оживляюсь я. – Покажите же мне эти пленки.
– Так, значит, деньги при вас? – не унимается Фурман.
– Ладно. – Я со вздохом достаю заранее приготовленную пачку банкнотов. – Давайте пленки и забирайте ваши деньги.
Старик подает мне кассеты, берет деньги и с удивительной для его возраста сноровкой начинает их пересчитывать.
– Найдите же мне лупу!
Фурман предупреждающе поднимает руку, дескать, не прерывайте, и, закончив счет, достает из ящика стола допотопную лупу с позеленевшим бронзовым ободком.
Все как надо. Документы засняты тщательно, их легко сопоставлять – фиктивные и подлинные, и разница в пользу Эванса такова, что действительно стоило взять на себя труд документировать ее подобным образом.
– Чистая работа, – признаюсь я, пряча пленки в карман. – А другое?
Фурман отвечает вопросом на вопрос:
– А надбавка?
– Надбавка зависит от результата.
– Результат в пределах возможного. Большего не только Фурман-сын, но и Фурман-отец не смог бы вам дать. А вы учтите, старик был асом частного сыска.
– Не сомневаюсь, – говорю я, чтоб приостановить семейные воспоминания. – Но перейдем к фактам.
– Вот они, мои факты, – отвечает шеф фирмы, вытаскивая из кармана еще одну кассету, на этот раз картонную. – А ваши где?
Вместо ответа я прикладываю к груди руку в том месте, где от бумажника у меня слегка вздувается пиджак.
– Молодой человек, – говорит Фурман, – взгляд у меня действительно проницательный, но не настолько, чтобы видеть сквозь пиджак. Соблаговолите выложить наличные.
– А того, что в коробке, достаточно? – спрашиваю.
– Не вполне, – признает Фурман. Но, заметив разочарование на моем лице, добавляет: – Не хватает только одного, но больше того, что есть, даже Фурман-старший не смог бы раздобыть. Смею заметить, что за это дело я могу много-много лет просидеть в тюрьме.
По чисто техническим причинам много-много лет в тюрьме ему уже не просидеть, однако я достаточно воспитан, чтобы не напоминать ему об этом. Ну вот, на одно «если» рассчитывать уже не приходится. Не вполне ясно только, совсем или не совсем. Сую руку в карман и достаю бумажник.
– Итак, сколько?
После фирмы «Фурман и сын» я отправляюсь еще в одно учреждение, где мне предстоит пожать плоды сделки,
подготовленной вчера. Имеется в виду сделка между мной и фирмой «Мерседес», сводится она к простому размену: я им – чек на определенную сумму, они мне – автомобиль, так что вся операция отнимет у меня не более получаса и обойдется куда дешевле, нежели те жалкие микрофильмы, которые лежат у меня в кармане.
«Мерседес», в котором я устраиваюсь, черный, он ничем не отличается от тысяч своих собратьев, снующих по улицам. Но у меня всегда было желание потеряться в общей массе, а не выделяться из нее, поэтому я не желаю иметь красную или ядовито-зеленую машину размером со спальный вагон.
Оставшееся послеобеденное время провожу в «Зодиаке». Пока болела Эдит, у меня на столе скопилась гора корреспонденции. Разбираю более срочное и докладываю ван Вермескеркену о реальной возможности заключения двух-трех сделок. Выходя из его кабинета, встречаю председателя. Здороваюсь с ним с подобающей учтивостью, но он отвечает мне холодно, чуть заметным кивком.
Этот человек никогда не отличается особой теплотой, но сегодняшние его повадки говорят о том, что едва ли он забыл о случившемся на вилле. Одно «если», на которое я рассчитывал, отпало, а другое, внушавшее мне опасение, подтвердилось. Два уточнения, в корне меняющие ситуацию.
То, что ван Вермескеркен – человек Бауэра, мне стало ясно почти с самого начала. В противном случае меня бы ни за что не допустили на такое предприятие, как «Зодиак», даже по линии его официальной деятельности. Верно, исполин чуть ли не с ликованием отправлял меня на проверку в Болгарию. Но ведь это было сделано по внушению Уорнера и оказалось очень кстати для самого Бауэра, который тоже видел надобность в подобной проверке. Ван Вермескеркен – человек разведки, но из тех глубоко законспирированных, которые не должны рисковать по мелочам.
Его сан не позволяет ему бывать где попало. Изолированный в собственном кабинете, он проворачивает солидные сделки, а подслушивание и всякого рода встречи возложены на рыбешку вроде Мориса Роллана.
Рыжий великан – человек Бауэра, и, если завтра кому-нибудь придет в голову вышвырнуть меня из «Зодиака», Ван Вермескеркен даже пальцем не пошевельнет именно потому, что он человек Бауэра и ему велено оставаться в глубине конспирации. Следовательно, угроза со стороны Эванса ничего хорошего мне не сулит.
Но, как говорится, пришла беда – отворяй ворота: к этой угрозе скоро прибавляется еще одна, от которой первая становится более вероятной. Незадолго до того, как звонок возвестил о переходе служащих от деловой активности к вопросам быта, Райман просовывает голову в мой кабинет и предлагает пойти посмотреть, что делается в кафе на углу. Я не имею ничего против подобной инспекции, и вскоре мы располагаемся на своем месте у окна и просим украсить наш столик бутылкой мартини. Завязывается содержательный разговор – «Что новенького?»,
«Ничего особенного», затем, согретый напитком, конопатый наклоняется ко мне и сообщает:
– На будущей неделе тебе придется махнуть в Польшу.
– Обычным порядком или?. – прикидываюсь я наивным.
– Как мы говорили. На днях поставим вопрос перед ван
Вермескеркеном. Шеф подготовлен и не должен отказать.
Об остальном позабочусь я.
– Не получилось бы каких осложнений.
– Осложнений не будет, не бойся!
– Эванс, по-моему, сердитый…
– По поводу того? Глупости. Он на другой день уже ничего не помнит. У него известный принцип – что было, то прошло. Исключительная личность. Особенно по части выпивки.
– Хорошо, Конрад. Я тебе верю. Если уж мы с тобой не будем верить друг другу…
Я смотрю на него открытым взглядом. Он встречается со мною взглядом и отводит глаза. Бывают случаи, когда даже самый отъявленный лицемер испытывает неловкость.
Разговор не прекращается, пока не кончается бутылка, хотя уже не содержит ничего существенного, кроме некоторых мудрых обобщений Раймана по части взаимоотношений мужчины и женщины.
Возвращаюсь на квартиру. Эдит дома не застаю.
Странная женщина. Чуть было жизнью не поплатилась за то, что преждевременно встала с постели, и вот пожалуйста, тот же фокус. Не утруждая себя, вытягиваюсь на кровати, не включая света. Проходит, должно быть, минут десять, и я слышу на лестнице вкрадчивые шаги, почти неслышно открывается наружная дверь, затем дверь комнаты, вспыхивает яркий свет люстры, после чего раздается сдавленный возглас.
– Ты чего пугаешься? – спрашиваю.
– А ты чего притаился в темноте?
– Из экономии. Сегодня купил в кредит машину, и надо поразмыслить, как выплачивать долг.
Это сообщение словно подменило Эдит. Всплеснув руками от изумления, что у нее получилось довольно неуклюже, потому как она не из тех, кто много размахивает руками, Эдит принимается расспрашивать меня, какой марки машина, какая модель, какого она цвета, и предлагает тут же спуститься вниз, чтобы осмотреть мой «мерседес», – словом, готова взорваться от восторга. Я, в свою очередь, делаю вид, что мне приятно ее ликование, и не скрываю удовольствия, когда мне пускают пыль в глаза, короче, ни слова о том, где она была. Такое мое поведение почему-то начинает выводить ее из себя. Бывают женщины
– с ощутимым страхом ждут вопроса, вопрос последует, непременно начинают лгать, если не прибегаешь к расспросам, они сами не свои.
– Ты даже не поинтересуешься, где я была, – небрежно замечает она, меняя платье на пеньюар.
– А почему я должен интересоваться?
– Потому, что у тебя такая привычка.
– Дружба с тобой помогает мне избавиться от множества дурных привычек, – отвечаю я.
Женщина замирает на миг, не успев надеть на себя пеньюар, и, видимо, хочет что-то сказать, но, вовремя вспомнив о магнитофоне, лишь озадаченно смотрит в мою сторону. Я гляжу на нее глазами большого наивного ребенка.
Эдит поправляет пеньюар и подходит к буфету.
– Выпьешь чего-нибудь?
– Мерси, я уже выпил.
Эдит поворачивает обратно, поскольку сама она не из пьющих, садится в кресло, закуривает и снова пытается заглянуть мне в глаза.
– Что с тобой сегодня? Случилось что-нибудь?
– Ничего. А с тобой?
Эдит пожимает плечами, желая тем самым показать, что не намерена отвечать на подстрекательства, и молча продолжает курить. Я следую ее примеру. Мы сидим в тишине комнаты, внешне спокойные, почти как муж и жена, однако оба ощущаем незримое присутствие кого-то третьего, вставшего между нами и не проявляющего ни малейшего намерения уходить, – присутствие нашего общего знакомого, имя которому Недоверие.
Женщина гасит в пепельнице недокуренную сигарету и снова нарушает молчание, на этот раз одним только взглядом, который говорит:
«На какую разведку работаешь, милый?»
«Хочу надеяться, на ту же, что и ты, дорогая», – отвечает мой взгляд.
«Ты мне не веришь?»
«Почему? Напротив!»
И мы продолжаем сидеть вот так, почти как супруги, и обмениваемся мыслями на расстоянии; поскольку диалог между глухонемыми довольно утомителен и, кроме того, трудно быть уверенным в точном значении женского взгляда, я встаю, зеваю со скрытой досадой и – на сей раз вслух – желаю Эдит спокойной ночи и приятных сновидений.
Вернувшись в свои покои этажом ниже, я ложусь в постель и гашу свет, по опыту зная, что в темноте думать легче. Темнота изолирует тебя от мелочей, по которым блуждает взгляд, отвлекая от мыслей. Темнота оставляет тебя в одиночестве, если оно вообще возможно, когда человека окружает свора сомнений и ужасов.
Встреча с Эвансом поставила передо мной существенный вопрос. Встреча с Райманом дала на него ответ.
Степень вероятности, что в скором времени меня выставят из «Зодиака», велика. Райман поставил передо мной задачу. Я ее выполню. После чего в награду за успех Уорнер меня уволит. Что касается Эванса, то он лишь издалека воздействует на ход игры. Конечно, я мог бы уклониться от выполнения задания Раймана. Но это вынудит Эванса сделать другой ход – дать мне мат.
Возможно, я становлюсь жертвой собственной мнительности. Возможно, Эванс действительно забыл о случившимся, а если и не забыл, то подуется какое-то время и перестанет. Возможно, Райман действует в соответствии с нашей прежней договоренностью, не получая указаний от
Эванса. Возможно… но едва ли.
Теперь уже гадать не приходится, кто тут первая скрипка. Следовательно, трудно представить себе, чтобы
Райман действовал без инструкций Эванса. Притом характер поведения этой пары, хотя я и не профессор психологии, раскусить не так уж сложно. Человека моей профессии может иногда обмануть женщина, уверяя, что любит его, но он всегда распознает скрытую неприязнь и лицемерную дружбу противника. Все яснее ясного, а если даже не совсем ясно, то, раз нависает опасность, приходится принимать ее в расчет.
Ожидание ожиданием, но наступает время, когда надо действовать. Крайне важно не перепутать времена. В нашей грамматике это роковая ошибка. После того как ты потратил на ожидание более года, вдруг приходит такой момент, когда один упущенный день может провалить все.
Правда, и когда действуешь, гарантировать себя от провала тоже нельзя. У меня сердце замирает при мысли, что из-за какой-то нелепой случайности в одну секунду может рухнуть операция, готовившаяся столько времени. Кажется, ты все обследовал, учел, взвесил такое количество и такое разнообразие случайностей и вдруг нарываешься именно на ту случайность, которая отбрасывает тебя к черту на рога.
Сегодня мне впервые понадобился мой «мерседес» – я совершил на нем небольшую прогулку на природу в целях улучшения аппетита. Это натолкнуло меня на мысль оставить копию микрофильмов и мой зашифрованный отчет в укромном местечке, совершенно незаметном для непосвященных, в тайничке, известном мне и лицу, которое заберет эти материалы и перешлет их в Центр.
Опять мне видится совещание в кабинете генерала, на этот раз без меня, ибо я уже не имею физической возможности присутствовать на каких бы то ни было совещаниях.
Генерал молчит, погрузившись в свои мысли, но это очень напоминает ту минуту молчания, хотя соответствующей фразы никто не произносил.
– Да-а-а, – вздыхает наконец генерал, из чего следует: что бы там ни было, а работа не ждет, пора приниматься за дело.
– Дельный был парень, хотя и фантазер, – говорит как бы самому себе мой шеф.
– Отличный практик, – уточняет полковник, чтобы не говорить, как я порой недооценивал анализ и разбор операции. – Отличный практик, совсем как Ангелов, и так же как Ангелов…
Он не договаривает, однако конец фразы всем ясен.
– Случай с Боевым несколько иной, – замечает сухо генерал.
У меня всегда такое чувство, будто генерал в большинстве случаев принимает мою сторону, хотя и не говорит об этом. Он сам, прежде чем стать генералом, прошел огонь и воду и прекрасно понимает, что в жизни не все так просто и логически связано, как на совещаниях, и существует масса непредвиденных вещей и нелепых случайностей, возникающих в последний момент, критических ситуаций и нервотрепок, о которых говорить не принято, но каждому понятно, во что они обходятся, и четкий, до мельчайших деталей продуманный план может служить надежным фундаментом всякого серьезного дела, как бы ключом ко всему, однако этот фундамент и этот ключ не стоят ломаного гроша, если у тебя недостает мужества превратить это в систему хладнокровных и точных действий.
– Случай с Боевым несколько иной, – повторяет генерал. – Боев пал перед самым финалом. Финал мог быть неплохой, но Боев пал, и положение осложнилось: правда, данных теперь у нас достаточно, и мы можем без промедления продолжить операцию. В этом заслуга Боева – прежде чем идти на риск, он позаботился о наследстве.
Не уверен, что генерал скажет именно так, и вообще все это плод моего воображения, но то, что я позаботился о наследстве, факт, и тому, кто встанет мне на смену, не придется ломать голову над множеством загадок – он сразу займется проведением операции, но не так, как я, а уже по-своему, так, чтобы финиш был победным.
«Спи-ка ты! – говорю я себе. – Похоже, ты законченный пенсионер, раз имеешь дело с такими загробными видениями. Тьмой отгораживаешься от всего, чтобы легче думать, зато во тьме все представляется более мрачным.
Вот и спи!»
Я, должно быть, в самом деле забылся и не сразу понял, как долго спал, а тем временем за дверью слышатся тихие шаги. Наверно, мне это почудилось, потому что в коридор никто попасть не мог, входная дверь на этом этаже заперта, ключ в замке с внутренней стороны, да и цепочка на месте.
Однако все это не мешает мне слышать шаги за дверью, сперва смутно, как бы издалека, а потом совершенно отчетливо, настолько отчетливо, что я даже различаю неодинаковость звука – как будто одна нога ступает твердо, а другую человек подволакивает. «Это Любо», – говорю я себе.
Это в самом деле Любо. Открыв дверь, он останавливается на пороге, словно ждет, чтоб я пригласил его войти, но я ему говорю: хватит разыгрывать комедию, зачем ты сюда притащился, когда тебе и мне известно, что ты мертв, а он говорит, что настоящие друзья на такие пустяки не обращают внимания, и стоит и смотрит на меня, и я не могу понять, что он хочет этим сказать; не намекает ли он на то, что я тоже мертв, только это до меня еще не дошло. Я пытаюсь его вразумить, но Любо уже нет, хотя в дверях еще кто-то стоит, но уже кто-то другой, и это, оказывается,
Эдит: теперь я начинаю все понимать, выходит, я обознался в темноте, и она называет меня Эмилем. Я обрываю ее – какой еще Эмиль? Никакой я не Эмиль и лихорадочно думаю, неужто я когда-нибудь раскрылся перед нею, но не припоминаю такого случая, чтобы я проговорился, а она тем не менее продолжает меня называть, будто решила подразнить: Эмиль… Эмиль… Эмиль…
«Что с тобою творится, браток? – говорю я себе, открывая глаза и щелкая выключателем ночника. – Совсем рехнулся». – «Почему рехнулся?» – отвечаю и приподнимаюсь, чтобы достать сигареты. Это всего лишь нелепый сон, какой любому может присниться. И у меня нет ни малейшего намерения рехнуться.
Закуриваю «Кент», и от знакомого аромата и мягкого света лампы все становится на свои места, видения рассеялись. Сделав несколько глубоких затяжек по системе йогов, я окончательно убеждаюсь, что у меня все в порядке.
Может, нервы поослабли от длительного ожидания и бренчат несколько фальшиво, но они поднатянутся в ходе игры, им ведь ничего другого не остается, потому что все уже решено, да и особого риска для себя я не вижу.
Чем я рискую? Решительно ничем. Почти сорок лет я топчу нашу грешную землю на всех географических широтах, а ведь были такие, которые и двадцати лет не прошагали. Нет у меня ни пятимесячного сына, ни жены. Жена, последняя по счету, спит наверху, надо мной, и это действительно дорогое и близкое мне существо, к тому же и она, будучи в непосредственной близости от меня, уже довольно давно держит меня под надзором. А еще чем я рискую? Больше ничем. Место для постоянного жительства мне обеспечено, его давно забронировали для меня. В
братской могиле неизвестных. В компании всегда приятней. Ну-ка, друзья, потеснитесь, чтоб я мог подсесть вон к тому, что в окровавленной панаме.
9
Пришла беда – отворяй ворота. На следующий день, когда мы с Эдит уходим обедать, я чудом не сталкиваюсь с дамой моего сердца Анной Феррари. Она вырядилась по последней моде – ее платье скорее можно принять за ночную рубашку, не будь оно так коротко. Расхаживает по холлу со скучающим видом, бедра ее ни на минуту не остаются в покое, а взгляд рыщет по сторонам: Анне нужно видеть, какое она производит впечатление на окружающих.
И конечно, взгляд ее тут же меня засекает, на густо накрашенных губах застывает изумление, однако присутствие моей секретарши вовремя удерживает ее от восклицания: «О Альбер!»
По лестнице спускается Моранди: важный, как всегда, он семенит мимо нас и устремляется к Анне, что, однако, не мешает ему поймать мой предупреждающий взгляд:
«Смотри, мол, а то…» Они выходят на улицу раньше нас и сворачивают вправо, тогда как мы идем в обратном направлении, к ресторану.
– Откуда ты знаешь эту женщину? – небрежно спрашивает Эдит.
– Какую?
– Ту, что хотела тебе что-то сказать, но вовремя прикусила язык.
– Я не совсем тебя понимаю. Ты не могла бы говорить яснее?
– А, это не имеет значения! – отвечает Эдит. – Раз ты уклоняешься от прямого ответа, значит, готовишься соврать. А слушать вранье я не желаю.
– Ты, как видно, еще не совсем оправилась после болезни, – спокойно замечаю я.
– Никакая болезнь меня так не беспокоит, как ты: эти многозначительные умолчания, испытующие взгляды, подозрительность…
Я уже собираюсь сказать что-то в ответ, но она вдруг заговорила с подкупающей женской прямотой:
– Скажи, Морис, что могло так внезапно отравить нам жизнь? Все было так хорошо, а потом вдруг все испортилось…
– Потом? Когда потом?
– Я хочу сказать, после того как ты съездил в Мюнхен.
– После того как съездил в Мюнхен, я трое суток провел у твоей постели.
– Знаю и глубоко тебе признательна. И все-таки у меня такое чувство, что ты начал меня сторониться, что ты мне не веришь.
– Это плод твоего воображения.
– Вчера ты даже не стал спрашивать, где я была, – нашлась Эдит.
– Зачем мне спрашивать, если я знаю.
Женщина смотрит на меня быстрым взглядом.
– Что ты знаешь?
– Что ты ходила в парикмахерскую. Я же не слепой.
Ответ должен быть успокаивающим, однако я не уверен, что для Эдит он звучит именно так. По мосту мы пересекаем канал и выходим на противоположную набережную. Еще несколько шагов, и мы окажемся на самой оживленной улице, и тут до моего слуха долетают слова, окрашенные каким-то особенным, интимным звучанием, так и не произнесенные вчера:
– Скажи, Морис, на какую разведку ты работаешь?
На что у меня уже готов ответ:
– Надеюсь, на ту же, что и ты, милая.
– Ты ведь знаешь, я тебе все сказала.
– К сожалению, я не могу ответить тебе взаимной откровенностью: мне сказать нечего.
– То-то и оно. Ты мне не веришь. Иначе взял бы меня хотя бы в помощницы.
– Ты и без того оказываешь мне неоценимую помощь.
– Оставь, пожалуйста, – с досадой отвечает она. – Зря я затеяла этот разговор. Не собираюсь тебе навязываться.
Я не считаю нужным ей возражать, тем более что мы уже на людной улице и подходим к ресторану. Нет никакого сомнения, что у Эдит была встреча с седоволосым, а для прикрытия она заглянула к парикмахеру. И конечно, перекинулась словечком с Дорой Босх. Нельзя сказать, чтобы моя комбинация с Дорой Босх отличалась тонкостью замысла, и нечего удивляться, если Эдит что-либо пронюхала, но в тот момент подозрения меня не беспокоили, да и раздумывать не было времени. А сейчас мне некогда оправдываться в собственных глазах и укреплять в Эдит иллюзию, будто она тащит меня на буксире. Эдит тоже одна из ближайших опасностей, но, пока она вступит в действие, задача должна быть решена; если задача не будет решена, то ни Эдит, ни прочие частности уже не будут иметь для меня никакого значения.
Мы входим в ресторан, я галантно принимаю от нее плащ и вместе с моим передаю на вешалку. На нашем привычном месте у окна сидит какая-то парочка.
– Наши места заняты, – замечает Эдит.
– Слишком рано…
Она молча бросает на меня взгляд, и мы направляемся к другому столу.
Эдит сходила к своему парикмахеру, и я решаю после обеда сходить к своему. Ох уж эти парикмахеры!.. Часом позже захожу в кафе выпить чашечку кофе. Здесь хорошо натоплено, торчать же на улице в такую погоду, когда резкий ветер швыряет в лицо тучи водяной пыли и способен унести не только шляпу, но и тебя самого, просто глупо: повесив плащ, я усаживаюсь в удобное кресло.
Кофе на диво вкусный, да и погода располагает, так что я повторяю заказ и лишь после этого отправляюсь к парикмахеру. Однако по пути мне приходится смириться с мыслью, что со мной случилось небольшое приключение –
плащ, в котором я шагаю по улице, оказывается не мой. С
виду он ничем не отличается от моего, так что ошибиться было не мудрено, но в этом я обнаруживаю записочку.
Чисто личного характера. Нечто вроде маленькой справки, касающейся, как ни странно, близкого мне существа.
Если бы я сказал, что идет дождь, можно было бы с полным правом упрекнуть меня в том, что я слишком повторяюсь. Но в этот вечер он льет как из ведра, и «дворники» не справляются с потоками воды, падающими на ветровое стекло, а слепящие лучи фар уже в двух метрах от носа машины размываются, превращаясь в мутное свечение. Хорошо, что дорога мне знакома – я не раз ходил здесь пешком, – и тем не менее, когда двигаешься пешком, все имеет один вид, а когда ты в машине – совсем другой.
Чтоб не оказаться на обочине и не пропустить нужный мне поворот, я стараюсь ехать как можно тише. Наконец среди смутно проступающей массы деревьев я различаю узкую заброшенную дорогу. Съезжаю на нее задним ходом, чтоб было проще выехать, ставлю машину на обочине и иду пешком.
До баржи – второй справа – не более двухсот метров, и все же, пока я до нее добрался, я промок до нитки. Оказавшись на палубе, проделываю небольшую операцию в целях предосторожности, затем бесшумно спускаюсь по трем ступенькам и без стука нажимаю ручку двери.
Помещение освещает желтым светом слабая лампочка.
Ван Альтен за столиком, как будто он и не вставал с тех пор, как я его видел в последний раз. Но сейчас он не ест, а рассматривает какой-то каталог. Каталог стандартных вилл, если меня не обманывает зрение. Человек захлопывает проспект и так резко вскакивает с места, что мне кажется, сейчас я услышу страшный вопль.
– Я вас потревожил? – осведомляюсь я по-английски.
– Что вам угодно? – неприязненно спрашивает ван
Альтен, и рука его тянется к телефону на столике.
– Спокойно, сейчас я вам все объясню. Но должен предупредить вас: никаких криков о помощи и никаких попыток связаться с внешним миром. Телефонный провод оборван, а мой пистолет, как видите, снабжен глушителем.
При этих словах я показываю ему оружие, полагая, что кое-какие представления о баллистике он, должно быть, имеет. Затем подхожу к иллюминатору и для пущего уюта опускаю занавеску. Но рассчитывать на уют в этом плавучем амбаре бесполезно. Обстановка здесь самая убогая.
Просто диву даешься, как этот человек, который, как утверждают злые языки, получает крезовское жалованье, может жить в подобных условиях.
– Что вам от меня нужно? – все так же неприязненно спрашивает ван Альтен, хотя уже более сдержанно.
– Я хочу сделать вам одно предложение. Хотите –
принимайте его, хотите – нет, но выслушать меня вам придется.
Он молчит и продолжает стоять все в той же напряженной позе, почти упираясь головой в потолок.
– Может, сядем, а? – предлагаю я.
Ван Альтен садится и машинально отодвигает каталог.
Я устраиваюсь по другую сторону стола, держа пистолет в нужном направлении и так, чтобы он мог при необходимости сработать безотказно, и в то же время достаточно далеко от моего собеседника, чтобы оставаться вне пределов досягаемости его костлявых рук.
– Вы, вероятно, догадываетесь, что речь пойдет об архиве. Мне нужны кое-какие справки.
– О каком архиве? – спрашивает Ван Альтен.
– О том, который доверен вам. И главным образом о том, совершенно секретном.
– Понятия не имею о таком архиве.
– Неужели? Тогда чем же вы занимаетесь по десять часов ежедневно в кабинете Эванса?
– Спросите у Эванса.
– Это я сделаю потом. А сейчас я спрашиваю вас.
Человек не изволит отвечать. Он сидит неподвижно, упрямо сжав челюсти, только взгляд его настороженно шарит от дула пистолета до моего лица и обратно…
– Видите ли, ван Альтен, давайте не будем зря терять время, изворачиваться и прибегать ко лжи нам ни к чему.
Вы человек достаточно умный и понимаете, что если к вам пришел незнакомец с пистолетом в руке, то его не так-то просто спровадить с помощью пресной выдумки. Разрешите?
Разрешение касается сигареты, которую я собираюсь зажечь левой рукой, так как правая занята пистолетом. Ван
Альтен и на этот раз воздерживается от ответа, и я закуриваю на свой страх и риск; сделав две глубокие затяжки, я смотрю ему прямо в глаза, или, скорее, между глаз, точно в переносицу.
– Ну как? Деньги на виллу уже в наличии?
Ван Альтен молчит, но взгляд его становится еще более неприязненным.
– А средства для усадьбы? На приобретение земельного участка, обстановки и всего прочего?
Не сводя глаз с голландца, вдыхаю ему порцию дыма.
– Вы, ван Альтен, воображаете, что достигли вершин житейской мудрости. Но, если хотите знать, вы наивны, как ребенок.
– Я вас не спрашиваю.
Собеседник начинает раздражаться. Это уже лучше, чем ничего.
– Вы позволили вовлечь себя в игру, в которой вам с самого начала была уготована роль проигравшего. Вы бежали во время войны в Америку. Позже соблазнились хорошим жалованьем и поверили тому, что вам обеспечат будущее. Но ваше будущее, ван Альтен, здесь. Не на барже, а на дне канала.
Голландец продолжает молчать, но взгляд его больше не блуждает, а уперся в стол. Он слушает.
– Вы, вероятно, знаете не хуже меня, чем кончил ваш коллега ван Вели. Ваша участь будет не лучше. Разве что утонете вы в другом месте. Вы живете, как отшельник, копите каждый грош, чтобы осуществить свою заветную мечту. Но вам ее никогда не осуществить, потому что по роду работы вам слишком многое известно, чтоб вы могли когда-нибудь устраниться. Люди, знающие слишком много, редко доживают до глубокой старости, ван Альтен.
Человек медленно поднимает глаза.
– Все это касается только меня.
– Верно. Но это интересует и меня, поскольку дает мне возможность сторговаться. Я не младенец и отлично понимаю, как дела делаются: услуга за услугу. Вы уже слышали, что мне нужно от вас. Я, в свою очередь, понимаю, что нужно вам, чтобы вы смогли спасти свою шкуру и осуществить заветную мечту. Остается только произвести обмен.
– Вы разговариваете сам с собой, – презрительно бросает ван Альтен. – И торг затеяли с самим собой. Я вам ничего не предлагал и вас ни о чем не просил.
– Вопрос времени, ван Альтен. Стоит вам подумать хорошенько, и вы поймете, что сделка взаимовыгодная.
– Хорошо. Дайте мне время. Оставьте меня, чтоб я мог подумать.
– Разумеется. Если речь идет о нескольких минутах, пожалуйста.
– За несколько минут человек не в состоянии принять решение, касающееся его дальнейшей судьбы. Особенно под дулом пистолета.
– Весьма сожалею. Но если вы задумали пойти на самоубийство, то я не намерен составлять вам компанию.
Или вам пришло в голову, что я уйду домой и стану ждать, пока вы побежите докладывать Эвансу? Решение, каким бы оно ни оказалось, вы примете здесь, сейчас же. Могу вам дать разъяснение: относительно суммы торговаться не будем. Вы ее получите двумя частями – при заключении соглашения и по исполнении задачи.
– Вы делаете вид, что спасаете меня от возможной гибели, обрекая на другую, абсолютно неизбежную и немедленную, – замечаете с неприязнью голландец.
Эта фраза уже более конкретна. Вызванный упорством паралич мозга прошел, и в хаосе мыслей начались робкие поиски выхода.
– Наоборот, я указываю вам единственно возможный путь спасения, – возражаю я. – Мир широк, в нем хватает укромных уголков. А если прибавить к обещанной сумме и новый паспорт, спокойная старость вам обеспечена.
– А если я откажусь?
– Вы не станете этого делать, – тихо отвечаю я. – Вы любите жизнь, хотя и живете, словно аскет.
– Вас подослал Эванс, – неожиданно заявляет голландец. Это не слишком умно. Разве что нарочно он такое выдал.
– Нет, ван Альтен. Вы прекрасно понимаете, что не
Эванс меня прислал. Если бы Эванс в вас сомневался, у него есть более тонкие способы проверки. Хотя, по-моему, он едва ли стал бы тратить время на то, чтобы вас проверять.
Ван Альтен снова уставился в стол. Несколько минут проходят в полном молчании. Пускай у него устоятся мозги. Пускай он придет к заключению, что сам все открыл, без постороннего внушения.
Наконец человек отрывает взгляд от стола, смотрит на меня в упор и говорит:
– Сто тысяч!
– Гульденов?
– Сто тысяч долларов.
Дорого. Значительно дороже, чем сделка с Моранди. Но конец всегда оказывается дороже начала. И потом, если принять во внимание, что эта сумма – вожделенная мечта всей его жизни, сто тысяч не так уж много; в сущности, если что-то и заставляет меня задуматься, то не сумма, а его поспешное решение. Слишком уж быстро он перешел от решительного отказа к твердому согласию. Это не совсем в моем вкусе.
– Принимается. Я ведь обещал не торговаться. Но вы даже не спросили, что я хочу получить взамен.
– Вы как будто уже сказали.
– Лишь в общих чертах.
– Тогда объяснитесь.
– Благодарю. Но прежде всего позвольте вам дать совет: не прибегайте к тактике, к которой так легко прибегнуть человеку в подобной ситуации. «Сейчас я пообещаю этому типу золотые горы, тем самым спасу свою шкуру и положу в карман пятьдесят тысяч, завтра расскажу обо всем Эвансу, а там, гляди, и от него перепадет что-нибудь».
Единственное, что вы получите от Эванса, – это пулю в лоб, смею вас уверить.
– Не пугайте меня. Мне это хорошо известно.
– Тем лучше. Тогда вам, должно быть, известно и другое: если человек берется за выполнение задачи вроде моей, он не один. Попытаетесь устранить меня – сразу поставите себя под удар целой организации.
– И это мне известно, – отвечает с некоторой досадой голландец. – Вы из организации Гелена.
– Почему вы так думаете?
– Потому, что припоминаю, с каким подозрением отнеслись к вам в самом начале. Речь шла о каких-то наших сделках с немецкой фирмой. Вы от Гелена.
– От Гелена или от кого другого, это не имеет значения.
А пока разговор об услуге. Она предельно простая: вы мне дадите ключи от сейфа.
– Вы с ума сошли! – Тут ван Альтен неподдельно изумлен.
– Возможно. И все-таки вы ничего не теряете. Деньги, которые вы получите, печатались не в доме для умалишенных.
– Ключи-то не у меня.
– А где?
– Ключи хранятся в кабинете Эванса.
– Тогда вы мне их вынесете.
– Но послушайте, неужели вы действительно вообразили, что я могу выносить и вносить эти ключи, когда мне заблагорассудится?
– Ничего я не вообразил. Мне даже кое-что известно о заведенном порядке. Но сейчас я вас спрашиваю.
– Я остаюсь в архиве допоздна только в тех случаях, когда Эванс поручает мне экстренное дело…
– А именно?
Голландец молчит – вероятно, сочиняет ответ, и я кричу:
– Ван Альтен! Хватит играть в молчанку! Что за «экстренное дело»? Дешифрование?
Он кивает.
– Тогда почему же оно «экстренное»? У вас невпроворот таких дел, и притом каждый день.
– Отнюдь, – возражает он. – Я занимаюсь только спешными шифрограммами, интересующими лично
Эванса. Остальные так и пересылаются недешифрованными.
– Пересылаются куда?
– Об этом вы спросите у шефа. Я не в курсе.
– А ключи?
– Ключи я оставляю в кабинете Эванса, в секретном сейфе. Он обычно приоткрыт. Когда я кладу ключи и закрываю его, он автоматически запирается и, к вашему сведению, специальное устройство фиксирует время закрытия с точностью до минуты.
– Однако в данный момент эти ключи все же при вас.
– Да перестаньте вы со своими ключами! – с раздражением отвечает голландец. – Как вы не можете понять, что безопасность секретного архива, если он действительно секретный, зиждется не на одном-единственном элементе. Ключи только один из многих элементов.
– Это мне понятно, – говорю я. – Не учите меня. Кто дежурит внизу у входа?
– Во всяком случае, не портье.
– А кто?
– Кто-нибудь из людей Эванса.
– А наверху, в архиве?
– В архиве нет никого.
– Но там всегда горит свет.
– Свет горит, но нет никого. Свет горит из-за таких вот, как вы… чтоб не воображали, что помещение брошено на произвол…
– Как устроена сигнализация на этаже?
– Она общая для всего здания.
– И контролируется там, где сидит Дора Босх?
Голландец кивает утвердительно.
– А комбинация?
– Какая комбинация?
– Ван Альтен! – кричу я ему прямо в физиономию.
Он вздрагивает, отчасти от моего внезапного крика, отчасти направленного в лицо пистолета, и машинально роняет:
– Мотор.
– Врешь! – опять не выдерживаю я. – Все, что ты знаешь, известно и мне. И если я спрашиваю, то лишь для того, чтобы проверить тебя. Комбинацию образуют шесть букв и двенадцать интервалов.
– А вы меня тоже не учите, – сердито отвечает Ван
Альтен. – Комбинацию я знаю лучше вашего, по четыре раза в день ее набираю. Мотор берется во множественном числе с буквой «С» в конце.
– А интервалы?
– Три, два, один. Один, два, три. После каждой буквы.
– Хорошо. Мы это проверим вместе.
– Да вы спятили! Вы просто невменяемы! – теперь почти в отчаянии кричит голландец. – Ведь я же вам сказал, соваться туда немыслимо. Имеется единственная возможность: вы мне говорите, что конкретно вас интересует, я навожу необходимые справки и выношу нужные вам сведения.
– О нет! Так дело не пойдет. Вы знаете, что люди моей профессии ужасно недоверчивы. Документы, которые мне необходимы, я должен видеть собственными глазами, понимаете?
Ван Альтен что-то соображает. Надеюсь, не во вред мне.
– В таком случае есть еще одна возможность, и последняя, к тому же связанная с большим риском.
– Говорите какая. Посмотрим.
– Вы проникаете в секретную комнату, когда я буду там. На полчаса, не больше.
– Когда именно?
– Когда Эванс прикажет мне остаться после работы. В
таких случаях, прежде чем уйти, я вызываю дежурного из проходной, и он запирает весь этаж, где находится кабинет
Эванса. Вы придете пораньше, наведете свои проклятые справки и вернетесь к себе, а когда я вызову дежурного, незаметно выскользнете.
– Это мне более или менее подходит, – говорю я. – А
где же риск?
– Риск в Эвансе. Он может в любой момент вернуться.
Это бывает редко, но все же бывает.
– А если вернется?
– Вам видней. Не я заваривал эту кашу.
– Где бы вы могли меня спрятать?
– Негде.
– Как «негде»? А чердак?
– На чердак нет лестницы. Да и лаз заколочен наглухо.
– Неужто в этой секретной комнате нет какого-нибудь шкафа или укромного уголка?
– Коридорчик и туалет. Но он не может служить убежищем, потому что Эвансу ничего не стоит заглянуть туда в любой момент.
– Ну хорошо. Риск я беру на себя.
– Вы так считаете…
– Только на себя, – повторяю. – Пока я буду беседовать с Эвансом, если он вдруг придет, вы сумеете ускользнуть.
Губы ван Альтена расползаются в какой-то мрачной усмешке, однако он ничего не говорит. Что касается меня, то настоящий риск я склонен видеть скорее вне этой операции.
– Конечно, я не гарантирую, что все произойдет завтра же, – замечает голландец. – Надо улучить момент.
– Ладно, – соглашаюсь я. – Только имейте в виду, я не могу месяцами ждать, пока наступит этот момент.
– Я тоже. Положение, в которое вы меня поставили…
– Вы никогда не были в таком завидном положении: в одном шаге от счастья. Но только осторожнее, не сделайте шаг в обратном направлении. С того момента, как я покину ваше жилище до окончания операции, вы будете находиться под наблюдением.
– Только не пугайте меня, – рычит ван Альтен.
– Вы забыли сказать, как дадите мне знать.
– Точно в пять часов десять минут я позвоню вам по городскому телефону и скажу: «Извините, ошибка».
Впрочем, вы тоже забыли кое-что сделать. Деньги-то при вас?
– Нет, но у меня есть чековая книжка.
– Не желаю иметь дело с чеками. Это значит, я должен оставить в банке свою подпись.
– Какая разница? Если вы получите от меня сумму наличными, вы все равно дадите мне расписку.
– Никаких расписок и никаких чеков! – грубо обрывает меня ван Альтен. – Не собираюсь давать вам в руки документ.
– Но не могу же я тащиться по городу с карманами, которые по швам трещат от банкнотов…
– Раз идете за такой покупкой, не мешает деньги брать с собой.
– Откуда мне было знать, что вы запросите такую сумму? У меня есть двадцать тысяч.
– Давайте их!
Достав из боковых карманов две пачки по десять тысяч, я бросаю их на стол. Ван Альтен подбирает их с напускной небрежностью, но, прежде чем спрятать, ловко и быстро проводит большим пальцем по срезу каждой пачки, чтобы проверить их содержимое. Затем, осененный новой идеей, добавляет:
– А на остальные тридцать давайте чек.
– Не возражаю, – говорю. – Только отодвиньте свой стул, а то вы мне мешаете.
Он понимает, что я хочу сказать, и без слов отодвигается от стола. Переложив пистолет в левую руку, я заполняю чек.
– Предупреждаю, при втором взносе я потребую от вас расписку на всю сумму, – говорю я, подавая ему чек. –
Тогда вам уже нечего будет бояться.
– При условии, что вы отсчитаете мне восемьдесят тысяч наличными.
В финансовых операциях этот человек более упорный, чем Фурман-младший. Вопрос о том, хватит ли у него порядочности, как у того.
– Надеюсь, вы уже не собираетесь выходить сегодня…
– тихо говорю я, пряча пистолет.
– Куда мне, к черту, выходить?
– Дело ваше, но имейте в виду, на улице ужасный дождь. Вам надо беречься от простуды. И вообще в эти дни вы должны следить за своим здоровьем.
С этими словами я киваю ему на прощанье и ухожу.
А на улице в самом деле дождь льет не переставая.
Следующий день примечателен разве только тем, что в течение его не происходит ничего примечательного. И если я ждал, что какой-нибудь бледнолицый субъект в темных очках заглянет ко мне в комнату и, спросив «Как поживаете?», разрядит в меня пистолет, то мне приходится разочароваться. Никто ко мне не заглядывает, даже Райман. И время течет вполне в духе «Зодиака» – в молчаливом труде, в деловой обстановке пропахшей паркетином канцелярии.
Точно в пять, когда электрический звонок в коридоре напоминает нам, что, кроме канцелярской работы, на этом свете есть и другие радости, Эдит отрывает глаза от книги и спрашивает:
– Пошли?
– Ступай, я еще немного посижу, – говорю я в ответ, продолжая изучать бумаги, которыми обложился заблаговременно.
Женщина пожимает плечами: дескать, как хочешь, поправляет прическу, забирает всю свою движимость –
сумку, зонт, плащ – и уходит. То, что я задерживаюсь, несколько удивляет ее, однако она расценивает это как очередное проявление того холодка, который в последние дни неизменно проскальзывает между нами.
Через десять минут я складываю бумаги в ящик стола и жду еще немного, однако никто мне не звонит, чтобы сказать: «Извините, ошибка».
На другой день все повторяется с абсолютной точностью. На третий – тоже. Проходит еще несколько дней.
Эдит уже привыкла уходить домой одна и теперь даже не спрашивает: «Пошли?», а поднимается молча, как только в коридоре прозвенит звонок. Столь же тактична она бывает и в обед, полагая, что я демонстративно ее избегаю. Тем лучше – это освобождает меня от необходимости придумывать лживые объяснения, почему это меня внезапно обуяла страсть к канцелярской работе.
То, что в окружающей меня обстановке не наступило резких перемен, в одинаковой мере и беспокоит меня, и обнадеживает. Возможно, ван Альтен сдержал слово, не выболтал тайну о моем вечернем посещении его «яхты». В
таком случае голландец, вероятно, намерен выждать наиболее подходящий момент. Но очень может быть, что ван
Альтен проговорился. И то обстоятельство, что до сих пор никто не выстрелил мне в живот и не наехал на меня машиной, еще не гарантия моего счастливого будущего. У
Любо, конечно, положение было сложнее, но мне сейчас не легче. Любо убрали быстро, не церемонясь, потому, что попытка «разглядеть» его более детально не удалась, и потому, что им стало совершенно ясно: у него только догадки. Я же вижу все воочию. Больше года работаю в святая святых чужого Центра, и Эвансу надо быть настоящим идиотом, чтобы надеяться, что за это время я ничего не узнал и не сообщил тем, кто меня сюда направил. Следовательно, если мне суждено умереть насильственной смертью, то едва ли это произойдет без предварительных формальностей, способных пролить свет на то, что конкретно я сумел выведать, что и кому успел передать.
А пока у меня такое впечатление, что за мной не следят, и я мог бы оставаться спокоен, не будь это только впечатлением. Существуют формы наблюдения, о которых подчас и не подозреваешь, и люди Эванса прибегают к таким формам именно в тех случаях, когда важно не спугнуть дичь раньше времени. Стены, в которых ты живешь, имеют уши; окна, мимо которых ходишь, имеют глаза, и тот факт, что никто не тащится за тобою следом, еще ни о чем не говорит. И потом, какая, в конце концов, надобность за тобою следить, если заранее известно, когда и как тебя сцапают. Не исключено, что ван Альтен именно потому и не торопится, чтобы дать возможность своим шефам тщательно продумать и подготовить для меня западню.
Не исключено. И даже весьма возможно. Но риск, на который я иду, заранее обдуман со всех сторон и мною, он не отделим от уже принятого решения – нанести удар первым. Это правило – наносить удары первым, когда бой неизбежен, – весьма полезное, я его усвоил еще в пору ранней молодости, вместе с его хорошими и плохими сторонами.
Это случилось вскоре после моего ухода из приюта для подкидышей, где я обучался грамоте, и после моей первой трудовой деятельности в качестве домашней прислуги при одной дамочке, которая, вознаградив меня за мой труд затрещиной, изгнала меня из рая, пропитанного запахом французских духов и женского пота. Был конец лета, и волею случая я оказался на товарной станции, куда по утрам пригоняли десятки вагонов с арбузами. За то, что мы, подростки, в течение долгого дня перебрасывали из рук в руки арбузы, каждому из нас платили по двадцать левов, что было не так уж плохо, если учесть, что в обед нам разрешалось до отказа наедаться арбузами, а после работы мы могли уносить их с собой, столько, сколько хватало рук.
В первый же вечер, когда я с еще одним парнишкой направлялись домой, таща по паре прогретых солнцем арбузов, на площадь вышли из тени подворотни двое парней и лениво двинулись нам навстречу.
– Неплохо заработали? – спросил первый.
– Заработали!.. Спина уже не гнется от натуги, – отвечает мой приятель, явно чтобы умилостивить прощелыг.
– Что ж, так вот и зашибают деньгу… – замечает второй. – И по скольку же вами дали?
Мы молчали, с нарастающей тревогой следя за незнакомцами.
– Так по скольку же вам дали? – повысил голос первый верзила.
– По двадцатке… – ответил мой спутник.
Я не видел смысла вступать в разговор и только оглядывался по сторонам в надежде найти какой-нибудь выход.
Но выхода не было. На площади в эту сумеречную пору было безлюдно, если не считать еще одной группы оболтусов, встречающей на соседнем углу таких же бедолаг, как и мы.
– По двадцатке, говоришь? – воскликнул один из парней. – Стоило ли надрываться из-за такого пустяка! – И
внезапно заревел: – Чего рты разинули? Вытряхивайте карманы, пока ребра целы!
Я попытался было бежать, но кулак верзилы угодил мне прямо в лицо. Из носа хлынула кровь. Арбузы выскользнули из рук и, упав на булыжную мостовую, раскололись.
Пока я вытирал кровь, парни успели обшарить мой карманы, после чего второй удар кулаком, на сей раз в затылок, дал понять, что разговор окончен.
– Эх вы, вахлаки! – сказал нам на следующий день человек, у которого мы разгружали арбузы, выслушав рассказ о наших злоключениях.
– А что нам было делать? – спросил мой приятель.
– Что? Лупить их первыми!
– Да они же сильнее нас…
– Плевать. Коль уж драка неизбежна, бей первым!
Хрястни его внезапно по морде, расквась нос, огорошь его.
А ежели видишь, тебе его не одолеть, давая тягу, пока он держится за нос.
Совет звучал логично, однако мне казалось, что лучше не проверять его на практике, и потому мы с моим дружком пустились на хитрость – решили возвращаться домой не через площадь, а в обход ее, по железнодорожным путям.
Нам даже в голову не пришло, что эту наивную уловку банде оболтусов легко предусмотреть: не успели мы отойти от станции, как у нас на пути выросли два парня. На этот раз беседа была построена иначе, потому что все началось с вопроса:
– Кто вам разрешил тут ходить?
В сущности, больше им говорить не пришлось, потому что мой приятель тут же дал задний ход и бросился наутек через пути, но вскоре был настигнут одним из хулиганов, тогда как я, выпустив из рук арбуз, изо всех сил огрел парня кулаком по носу. Скорчившись от боли при виде крови, хлынувшей из носа, тот и в самом деле прижал руки к лицу, а я – ходу. Бежал по закоулкам, по городским свалкам до тех пор, пока у меня ноги не подкосились.
В ту пору я был длинный как жердь, тело мое тянулось вверх, не сообразуясь с тем, что мне нечем его кормить. Я
был очень хилый, и такому верзиле, как мой новый знакомый, ничего не стоило сделать из меня отбивную котлету. Поэтому моя победа опьянила меня. «Наноси удар первым! – твердил я себе. – Вот оно, оказывается, в чем секрет: не робей и наноси удар первым!»
Воодушевленный постигнутой тайной, в следующий вечер я пошел прямо через площадь, тем более что идти по путям было не менее опасно. Мы шагали по освещенному месту, однако именно тут нас поджидала нежеланная встреча.
– Неплохо заработали, братишки?
Спрашивал тот самый верзила, с которым мы имели дело в первый вечер, и это прибавило мне смелости, поскольку представлялась возможность расквитаться с ним, к тому же он был один.
– Помогите! – завопил мой приятель.
Верзила повернулся в его сторону, и это позволило мне, рассчитав удар, двинуть противника прямо в нос. Хлынула кровь, однако, вопреки моему ожиданию, верзила, не заботясь о своей физиономии, кинулся на меня, и, поскольку, нанося удар, я оказался незащищенным, его кулак глубоко провалился в мой живот, и я согнулся пополам; здесь он поддал мне башмаком в лицо, от чего в глазах стало темно, а все вокруг завертелось в багровом тумане; нестерпимая боль, которую я старался пересилить, разлилась по всему телу, и, так и не поборов ее, я впал в беспамятство.
На другой день, весь в отеках и синяках, я снова стоял среди громадных куч арбузов, ловя и перебрасывая с утра до вечера огромные тяжелые плоды. Вечером мы с приятелем забились в угол пустого вагона, поспали, а под утро, когда вагон прицепили к какому-то составу, выбрались из него. Так мы лишний раз убедились, что из всякого положения можно найти выход. Но и урок предыдущего дня стоил того, чтобы сохранить его в памяти. Наноси удар первым! Это неплохо, но лишь в том случае, если имеешь дело с трусом или если одного твоего удара окажется вполне достаточно. Иначе ты рискуешь. Порой приходится искать другой выход. Словом, умей не только наносить удар, но и избегать удара.
И все-таки, когда бой неизбежен, лучше нанести удар первым. Что я и делаю.
В тот самый момент, когда я бросаю взгляд на часы, звонит телефон. В трубке слышится долгожданная глупая фраза: «Извините, ошибка…»
Я выскальзываю из кабинета и бесшумно направляюсь на этаж Эванса. Лестница, ведущая к выходу, точно посредине коридора. Если мне кто попадется навстречу, прежде чем я достигну лестницы, операцию придется отложить. Однако передвижение по другой части коридора связано с еще большей опасностью, так как едва ли я смог бы убедительно объяснить свое присутствие в этой части здания, да еще в столь неурочное время. Только сейчас не время думать об опасностях. Период обдумывания остался позади.
Коридор кажется нескончаемым, да и дверей вроде бы прибавилось, но я иду без излишней торопливости, стараясь, чтобы ботинки мои не скрипели на линолеуме. Проследовав через пустую приемную, где стоит стол Доры
Босх, вхожу в кабинет председателя. Небольшая, чуть приоткрытая дверь слева позволяет видеть лестницу, ведущую наверх. По ней я поднимаюсь на четвертый этаж.
Комната с секретным архивом, в которую я так мечтал попасть, ничем не примечательна, она даже вызвала у меня разочарование. Два металлических шкафа темно-зеленого цвета, большой сейф такого же цвета, закрытые ставни окна, маленькая дверь, ведущая в туалет, и старый письменный стол, за которым сейчас сидит ван Альтен в несколько напряженной позе.
– Сейф открыт, – вполголоса говорит голландец. – Не теряйте времени.
– А шкафы? – спрашиваю я, открывая массивную дверь сейфа.
– Они тоже не заперты, но в них только деловые бумаги. Поторапливайтесь, ради бога!
Если Ван Альтен изображает нервозность не будучи нервным, то он, должно быть, большой актер. Но его беспокойства, пусть даже оно искреннее, еще недостаточно, чтобы я был спокоен, потому что причины боязни могут быть различны. Как бы то ни было, судьба этого человека в его собственных руках, чем я похвалиться не могу.
Интересующие меня досье действительно лежат в сейфе. Нельзя сказать, что это целая гора папок, но если учесть, что все хранящееся в них написано мелким шрифтом и на тонкой бумаге, то станет ясно, что тут есть над чем потрудиться. Я отношу их на стол и достаю свой миниатюрный фотоаппарат.
– Помогайте мне, чтоб нам поскорее закончить, – обращаюсь шепотом к ван Альтену.
Голландец начинает молча перелистывать страницы одну за другой, а я, облокотившись на стол, действую фотоаппаратом.
– Неужто вы собираетесь снимать все подряд? – спрашивает архивариус, едва скрывая свое нетерпение.
– Я это делаю только ради вас, – бормочу в ответ. –
Чтоб не пришлось беспокоить вас вторично.
Дело вроде бы пустяковое, но отнимает у нас около часа. Чем ближе к концу, тем нервознее становится голландец и тем чаще приходится покрикивать на него:
– Держите как следует!
– Не переворачивайте сразу по два листа!
– Готово! – говорю я наконец, пряча в карман катушку с последней использованной пленкой.
– А деньги? – спрашивает он.
– Если вас устраивает чек, вы его получите немедленно.
Надеюсь, у вас была возможность проверить мой счет в банке.
– Ваш счет меня не интересует, и я уже говорил, чеки мне ни к чему!
– Вечером я принесу вас остальные восемь пачек.
– До завтрашнего вечера вы без труда сумеете сбежать, – рычит архивариус.
– Я считал вас умным человеком, ван Альтен, а вы меня разочаровываете. Как вы не понимаете, если я сбегу, то тем самым наполовину провалю выполнение своей задачи, поскольку вызову подозрения и срочные контрмеры. Мне пришлось бы бежать, если бы вы меня предали, но это же не входит в ваши намерения, не правда ли?
– Нет, конечно! – отвечает, не задумываясь, голландец. – И все-таки вы можете сбежать.
– Я вам говорю, завтра вечером вы получите всю сумму наличными у себя дома. Чего вам еще?
– Я не желаю, чтоб вы приносили их ко мне домой.
Уложите все в чемоданчик и оставьте его на вокзале: шкаф
295. Вот вам дубликат ключа.
– Тем лучше. – И я прячу ключ в карман.
– А сейчас спускайтесь в приемную второго этажа.
Услышите, как дежурный поднимается наверх, – воспользуйтесь моментом, чтобы выскользнуть на улицу.
– А сигнальное устройство у входной двери?
– Об этом я позаботился, ступайте! Или вы хотите, чтобы у меня совсем разыгрались нервы?
Отступление проходит без видимых сложностей. Пять минут спустя я уже шагаю под освежающим дождиком вдоль спящих вод канала. Смеркается, но еще достаточно светло, чтобы, сворачивая в переулок, я мог обратить внимание на человека, идущего в сотне метров позади меня. Вполне может быть, что это случайный прохожий, но проверка никогда не повредит. И я направляюсь к Кальверстрат, где народу всегда тьма-тьмущая. Если я этому человеку нужен, он обязательно приблизится ко мне еще до того, как я выйду на оживленную улицу, чтобы не потерять меня в толпе.
Мое предположение подтверждается. Но мой таинственный спутник не из людей Эванса. Это опять седовласый приятель Эдит.
10
Убеждая ван Альтена в том, что у меня нет намерения бежать, я говорил чистую правду. Хотя во мне, как и во многих людях, таится существо, всегда готовое дать тягу.
«Задача выполнена, микрофильмы у тебя в кармане, большего ты не узнаешь, даже если будешь торчать тут вечность. Чего ждать? Чтоб тебя убрали?» – так примерно рассуждает упомянутое существо. Рассуждения довольно логичные на первый взгляд, что не мешает мне оставить их без внимания, потому что это логика труса.
Однако ван Альтен не верит мне. И человек, который сейчас идет за мною следом, тоже мне не верит. Он, похоже, воображает, что я готов на любую авантюру, и хочет любой ценой быть в курсе моих поступков. Он не сомневается, что я не подозреваю о его присутствии.
Передвигаясь по многолюдной Кальверстрат и поглядывая на освещенные витрины, я обдумываю одно предприятие, точнее, два и не знаю, которому из них отдать предпочтение: зайти ли в спэк-бар в конце улицы и поесть как следует или поиграть в прятки со своим преследователем. В конечном итоге спортивная страсть оказывается сильнее чревоугодия. Я внезапно сворачиваю в темную узкую улочку, связывающую Кальверстрат с Рокин, шмыгаю в какую-то парадную, поднимаюсь до первой лестничной площадки и выглядываю в оконце. Две минуты спустя я вижу седовласого, который, оглянувшись, устремляется в сторону Рокин.
Если седовласый не большой любитель беготни, он обшарит глазами бульвар, а затем направит свои стопы туда, где почти наверняка меня застукает, – к моему жилищу. А потому мне лучше опередить его и лишить удовольствия дождаться меня у входа.
Отказавшись, не без сожаления, от мысли хорошо поужинать, иду домой, бесшумно поднимаюсь в квартиру и так же бесшумно, чтобы не беспокоить Эдит, запираюсь изнутри, из педантизма повернув до отказа и задвижку. От уличных фонарей в комнате достаточно светло, чтобы можно было раздеться и принять горизонтальное положение, самое удобное для размышлений.
Светящиеся стрелки часов показывают без малого двенадцать, когда на лестнице слышатся вкрадчивые шаги.
Нет, это шаги не кошмарного привидения. Вскоре раздается стук в дверь, и я слышу голос Эдит:
– Морис!
«Зачем это я тебе понадобился?» – спрашиваю я мысленно.
Стук в дверь и призыв становится громче:
– Морис!
«Да слышу же!» – опять, тоже мысленно, отвечаю я.
– Морис, милый, открой на минутку!
«Попозже», – пытаюсь и я прибегнуть к телепатии.
Однако женщина, видимо, не сильна в телепатии.
– Морис, мне плохо, открой!
Но поскольку я не открываю и не подаю признаков жизни, женщина переходит на самообслуживание – нажимает на дверную ручку. Увы, вопреки моей привычке, дверь оказывается запертой.
Лишь теперь мне становится ясно, что Эдит не одна. В
коридоре слышится шушуканье, из которого я не в состоянии уловить ни слова, зато отчетливо улавливаю скрежет отмычки. Человек, видимо, прилично владеет своим ремеслом, потому что отмычка поворачивается и щелкает. Новое нажатие на дверную ручку. И новое разочарование. На сей раз шепот отчетливей: «Заперся на задвижку».
Пауза. Тихие, почти неслышные шаги. И все замирает.
Утром я встаю на час раньше обычного и ухожу из дому тоже часом раньше. Когда я после продолжительной прогулки являюсь на работу, Эдит уже на своем посту за маленьким столиком и сосредоточенно стучит на машинке.
Ни слова о вчерашнем недомогании и вообще ни слова, если не считать сухого «здравствуй» и деловых реплик.
Перед обедом ко мне заглядывает Райман, предлагает пройтись и проведать нашего общего друга господина
Мартини. Как и следовало ожидать, господин Мартини чувствует себя вполне прилично, только ни конопатый, ни я не намерен упиваться. Райману понадобилось предупредить меня о возможности командировки, правда не в
Польшу, а в Восточную Германию.
– Но это не имеет значения, – замечает магистр рекламы. – У тебя остается та же задача на прежних условиях.
– А почему бы мне не поехать?
– Превосходно! Сегодня же тебе оформят визу.
Мы допиваем свой коньяк и расстаемся, пожелав друг другу приятного аппетита, однако в наших отношениях чувствуется натянутость, неловкость, нечто выходящее за рамки нашей дружелюбной неискренности, нечто такое, чего не выразишь, но что чувствуется достаточно ясно.
В третьем часу одна из секретарш Уорнера приходит ко мне за паспортом.
– Вы получите его завтра, – спокойно говорю я. – Сегодня я должен сходить в банк за деньгами.
Девушку, вероятно, не проинструктировали, как ей поступить в подобном случае, потому что она согласно кивает и удаляется.
«Вот так: пожалуйте завтра, – уже про себя бросаю ей вслед. – Хотя я не гарантирую, что завтра ты меня здесь застанешь». Ночью мне предстоит посетить почтовый ящик Бауэра, и это последнее обязательство, которое удерживает меня в этом городе. Завтра меня тут не будет. А
чтобы я мог очутиться в другом месте, паспорт должен оставаться у меня в кармане. Райман либо воображает, что он хитрее всех, либо решил, что настало время действовать, не особенно прибегая к хитростям.
Незадолго до окончания рабочего дня ко мне вбегает милое создание по имени Дора Босх.
– Мистер Эванс просит вас, если вы располагаете временем, зайти к нему.
Просьба мистера Эванса – это всего лишь вежливая форма приказа, поэтому я тут же иду по вызову. Председателя я застаю за маленьким столиком, заставленным бутылками виски и бокалами. Бокалов гораздо больше, чем присутствующих, из чего можно сделать вывод, что тут только что состоялась деловая встреча.
– А вот и наш Роллан! – дружелюбно изрекает председатель. – Присядьте на минутку, дорогой, возьмите бокал.
Выполняя распоряжение, пригубливаю животворный напиток.
– Я говорю «на минутку», потому что у меня есть одна идея… – не унимается Эванс.
– Наш шеф только что поделился с нами своим скверным предчувствием, – уточняет Райман, сопровождая свои слова более или менее естественным смехом.
– Верно, верно, – кивает председатель. – Что вы скажете, если мы вам предложим небольшую прогулку на природу?
– Только то, что весьма польщен… Но боюсь оказаться лишним.
– Лишним? – вскидывает брови Эванс. – Как это лишним?
Его начинает сотрясать неудержимый хохот.
– Вы слышали, что он сказал?.. «Боюсь оказаться лишним». Ха-ха-ха, вам даже невдомек, что вы здесь самый нужный человек… центр торжества… ха-ха-ха… душа компании…
Уорнер и Райман с усилием изображают подобие улыбки, убежденные, видимо, что намеки шефа несколько преждевременны. Подобная мысль приходит, вероятно, и
Эвансу, потому что он вдруг становится серьезным и приветливым. Затем, длинный как жердь, он поднимается и восклицает:
– Поехали, господа! Рабочее время кончилось!
Внизу, возле машин, возникает небольшая заминка, Эванс с небывалой любезностью предлагает мне сесть в его «роллс-ройс», я же настаиваю на том, чтобы взять собственную машину, потому что на обратном пути мне надо будет кое-куда заехать.
– О, не беспокойтесь. Отныне все заботы о вас мы берем на себя, – заявляет Эванс, и все поддакивают.
В конце концов они проявляют уступчивость, и я еду в своей машине за блестящим черным экипажем Эванса.
Странное дело, все боятся, что я сбегу – и ван Альтен, и
Эдит, и седовласый, и эти трое, – и никто не хочет поверить в то, что бежать я не собираюсь и что, будь у меня такое желание, я бы не стал дожидаться, пока меня под конвоем повезут на загородную прогулку.
Говорю «под конвоем», потому что в зеркале вижу движущуюся позади машину и даже узнаю лицо сидящего за рулем человека, бледное, вытянутое, наполовину закрытое большими темными очками.
Через полчаса «роллс-ройс» замедляет ход и останавливается перед большими железными воротами виллы.
Торжественно распахнувшиеся ворота пропускают три машины, затем снова закрываются, и мы остаемся в поэтическом уединении влажного парка, на который спускаются ранние осенние сумерки.
В доме обстановка несколько более приветлива, здесь ярко светится большая люстра, круглый столик заставлен множеством бутылок, и все же для хорошего настроения компании чего-то недостает. Ровольт, как гостеприимный хозяин, принимается наполнять бокалы, но Эванс нетерпеливым жестом останавливает его:
– Оставь это! Потом.
И поскольку бледнолицый высказывает намерение исчезнуть, председатель добавляет, указав рукой на меня:
– Возьми у него оружие!
Не люблю, когда меня обшаривают, поэтому сам отдаю пистолет. Что не мешает этой скотине Ровольту все же ощупать меня ради порядка.
– Что ж, давайте садиться! – предлагает шеф.
– Мне тоже? – скромно спрашиваю я.
– Конечно, конечно! Ведь я же вам сказал, что вы у нас душа общества. Садитесь и начинайте рассказывать! – изрекает Эванс, на сей раз без тени веселости.
– Что именно?
– Все, что сочтете интересным для нас.
– Не представляю, что может быть для вас интересным.
– Уорнер, помогите ему сориентироваться.
– Видите ли, Роллан, с чего бы вы ни начали, вам придется выложить все. То, что вы утаите сейчас, вам придется выдать потом. Так что избавьте нас от необходимости задавать вам вопросы и говорите ясно и исчерпывающе: кто, когда и при каких обстоятельствах возложил на вас задачу, с чего вы начали, как пошло дело дальше, через кого и с помощью каких средств вы поддерживали связь, какие сведения передавали и так далее… Вы не ребенок и прекрасно понимаете, какие вопросы могут задавать люди вроде нас такому человеку, как вы. Так что задавайте их сами про себя, а отвечайте вслух.
– Вот именно: отвечайте строго по вопроснику, – кивает Эванс.
– Можно мне закурить? – спрашиваю я.
– Курите. Только не вздумайте нас разыгрывать, –
предупреждает шеф.
Закурив, я смотрю на председателя с вызовом.
– Если вам угодно, чтобы я был до конца искренним, вы должны дать мне возможность поговорить с вами с глазу на глаз. Некоторые детали я могу изложить только вам.
Эванс окидывает вопросительным взглядом своих помощников. Те безразлично пожимают плечами.
– Хорошо, – говорит председатель. – Уважу вашу просьбу. Только не воображайте, что это откроет вам какие-то возможности для побега.
Тут он отдает распоряжение Ровольту.
– Поставь по человеку у каждой двери и двоих на террасе. – И, как бы извиняясь, обращается ко мне: – Я и сам бы охотно разрядил пистолет вам в живот, только всему свое время.
Я оставляю без внимания эти его слова и дожидаюсь, пока Райман, Уорнер и Ровольт покинут комнату.
– Ну, итак? – торопит меня Эванс, закурив сигарету и усаживаясь в кресло.
– Если у вас возникло подозрение, что я представляю определенную разведку, то должен признать, вы не ошиблись. А какую именно, сейчас это уже не имеет значения…
– Напротив, это имеет первостепенное значение, –
прерывает меня шеф.
– Хорошо. Сперва выслушайте меня, а потом я отвечу на ваши вопросы. По вполне понятным для вас причинам, находясь в течение года в «Зодиаке», я не совершил ни одного шага, связанного с моей секретной миссией. Лишь совсем недавно я вошел в контакт со служащим вашего секретного архива ван Альтеном. Мы заключили с ним соглашение, о котором вам расскажет сам ван Альтен.
– Расспрашивать ван Альтена у меня нет никакой возможности, – возражает Эванс. – Покойники, как вам известно, скупы на слова.
– Это для меня ново.
– Что именно? Что покойники скупы на слова? – поднимает брови Эванс.
Но, поскольку я промолчал, шеф сам пояснил:
– У нас, как на любом другом солидном предприятии, существует порядок: за работу платим, за предательство отправляем на тот свет. Так что не рассчитывайте на помощь ван Альтена и постарайтесь все объяснить сами.
– Так и быть, – уступаю я. – В соответствии с упомянутым соглашением ван Альтен пропустил меня в помещение архива и дал мне возможность заснять хранящиеся в сейфе секретные досье. Вы удовлетворены?
– Когда и кому вы передали негативы?
– Никому я их не передавал.
– Лжете, – не повышая голоса, возражает Эванс. –
Вчера вечером вы оставили с носом наших людей, внезапно исчезнув с Кальверстрат. Я полагаю, этот трюк имел определенный смысл…
– Обычная шалость, и только, – замечаю. – А если вас интересуют негативы, то они здесь.
С этими словами я достаю из кармана несколько миниатюрных кассет, показываю их председателю и снова прячу в карман.
– Вы меня поражаете своей наглостью, Роллан. – Эванс явно озадачен. – И своей неосмотрительностью…
– Почему же! Напротив, я так же дорожу своей шкурой, как и вы.
– Раз уж мы об этом заговорили, должен вас предупредить: у вас единственный способ спасти свою шкуру –
это рассказать все, абсолютно все. Малейшая утайка или попытка что-то переиначить будет стоить вам жизни. Ван
Альтен, как вам известно, был наш человек, и все же от него не осталось и следа. Вы же не были нашим.
– Мне понятен ваш намек, – говорю я. – Но если я начну рассказывать все, что знаю, для этого потребуется уйма времени. Поэтому я начну с самого существенного, а уж тогда…
Эванс гасит в массивной хрустальной пепельнице сигарету, а я тем временем закуриваю новую.
– Мистер Эванс, если кому из нас и следует позаботиться о своем спасении, так это прежде всего вам.
Председатель мельком смотрит на меня своими пустыми глазами, но не говорит ничего. Невыразительный взгляд с едва уловимой искоркой снисходительного любопытства.
– Вы возглавляете Центр, который полностью раскрыт.
Попадут эти негативы в руки моих людей, нет ли – не так уж и важно. Важнее другое: о деятельности фирмы «Зодиак» отправлено столько донесений, что по линии шпионажа ей больше не работать.
Сидя в глубоком кресле, Эванс скрестил свои длинные ноги и смотрит на меня все тем же безразличным взглядом.
– Стоит ли вам объяснять, что провал «Зодиака» – это удар не только по Центру, но и по его шефу. Однако, – тут я сознательно понижаю голос, – удар этот сущий пустяк в сравнении с ударом, который вас ждет. Первый лишь дискредитирует вас, а второй уничтожит начисто.
– Любопытно… – бормочет председатель.
– Вы даже не представляете, до какой степени это любопытно. В течение последних лет вы как шеф «Зодиака»
заключили ряд крупных сделок в двух вариантах: один официальный, для отчета перед налоговыми властями и вашим начальством, и другой, неофициальный, по которому, в сущности, велись расчеты. Путем самой предварительной проверки установлено, что эта двойная бухгалтерия дала вам возможность положить в карман более десяти миллионов долларов…
– Неужели? – почти искренне удивляется Эванс.
– О нет, гораздо больше! Но я основываюсь только на тех документах, до которых нам в последнее время удалось докопаться.
– Какие же документы вы имеете в виду?
– Да хотя бы вот эти, – отвечаю я, вынимая из кармана и протягивая ему копии негативов, полученных от Фурмана-сына.
Председатель небрежно берет дубликаты негативов и, поднеся к свету люстры, рассматривает их.
– В самом деле, любопытно, – отвечает он, пряча пленку в карман.
– Совсем как в гангстерском фильме, – соглашаюсь я. –
Вы, конечно, не строите иллюзий, что то, что вы сунули себе в карман, – единственный отпечаток.
– Вероятно, – кивает Эванс. – Но какое это имеет значение? В торговле подобные явления, как вы знаете, дело обычное.
Он закуривает, пускает мне в лицо густую струю дыма и с интересом наблюдает, не закашляюсь ли я.
– Не знаю, как в торговле, однако торговля здесь ни при чем. «Зодиак» – разведывательный центр, подведомственный Разведывательному управлению, и бюджет «Зодиака» – это часть бюджета управления. Следовательно, вы присвоили крупную сумму казенных денег, настолько крупную, что, если бы ваша семья состояла сплошь из генералов и сенаторов, вам бы все равно не спасти свою шкуру.
– Это еще как сказать… – небрежно бормочет Эванс.
– Безусловно, – поправляю я его. – Притом вы до такой степени погрязли в коррупции, что в погоне за личными благами закрыли глаза на то, что в ваш центр проник вражеский агент.
– Вы имеете в виду себя?
– Нет. Я имею в виду ван Вермескеркена. Самые крупные барыши вы получаете от сделок с Федеративной
Республикой Германии, и это нетрудно объяснить, если принять во внимание, что коммерческим директором
«Зодиака» вы назначили ставленника Гелена…
– Спокойнее, – советует мне Эванс. – Без пафоса.
– И последнее, – говорю я, понижая голос. – Не надейтесь, что мои шефы ограничатся тем, что сообщат сведения о вашей деятельности вашим шефам. Эти сведения станут достоянием оппозиционной печати как Америки, так и
Западной Европы. Если вы не лишены воображения, то и без моей помощи сможете себе представить, какой разразится скандал.
– Хм, – мычит председатель, – вы начинаете меня стращать.
– Вовсе нет. Я пытаюсь разъяснить вам, что ваше положение ничуть не лучше моего.
– Весьма тронут, что вы поставили меня рядом с собой, – холодно замечает шеф.
– А домогаться того, чего достигли вы, не входит в мои намерения. И ваше материальное благополучие меня не прельщает. Что же касается дела, должен вам сказать, что у меня такой же чин, как и у вас, полковник Эванс, и мое начальство рассчитывает на меня не меньше, чем ваше на вас. Удар, о котором я говорю, будет таким стремительным, как выстрел заряженного пистолета, и только мое возвращение целым и невредимым способно предотвратить нажатие на спусковой крючок.
Потонувший в кресле председатель молчит, затем кончиками пальцев принимается потирать лоб, словно массируя собственные мысли, и тихо говорит:
– Предлагаемый вами обмен неравноценен: вы в моих руках, а не я в ваших.
– Это одна видимость. Я столько же в ваших руках, сколько и вы в моих…
– Не обольщайтесь, – спокойно возражает Эванс. –
Будьте реалистом. Ваш удар требует времени, и еще вопрос, в какой мере он меня заденет. Различие положения, в котором каждый из нас находится, состоит в том, что я пока что жив и еще останусь жив, что касается вас, то достаточно одного моего слова, чтобы вы очутились в обществе ван Альтена.
– Если вы так считаете, значит, разговор оказался впустую, – бросаю я с безучастным видом, разминая в пепельнице очередной окурок. – Ладно, слово за вами.
– Не спешите, с этим мы всегда успеем. – Председатель изображает улыбку. – Я хочу сказать, обмен должен быть равноценным и вам следует что-нибудь добавить со своей стороны.
– Что, например?
– Например, ответить на вопросы, которые перед вами поставил Уорнер.
Я отрицательно качаю головой, но шеф торопится пояснить:
– Я имею в виду не подробности, а необходимые уточнения.
– Видите ли, Эванс, надеюсь вы поняли, кто я такой, и, следовательно, вам должно быть ясно, что больше того, что я сам пожелаю сказать, от меня вы не узнаете.
– Да, но и вы должны войти в мое положение. Хотя я и шеф, но неограниченной властью я не пользуюсь. Неужели вы подумали, что я могу отпустить вас на глазах у своих помощников, даже не поинтересовавшись главным?
– Что касается главного, то вам достаточно знать: прибыл я сюда от Гелена, точнее, от Бауэра, хотя я не имею права говорить об этом. Полагаю, версия эта вполне вас устраивает, тем более что она в какой-то мере соответствует истине.
– Будем надеяться, что она нас устроит, – неохотно отвечает Эванс.
– Что касается моего освобождения, то для этого вы всегда найдете подходящие мотивы: либо это ваша уловка,
либо вы сочли нужным продлить слежку, впрочем, не мне вас учить.
Эванс молчит какое-то время, продолжая массировать свои мысли.
– Да, – соглашается он как бы про себя. – Пожалуй, можно что-нибудь придумать. – Потом останавливает на мне сосредоточенный взгляд и спрашивает: – А где гарантия, что, несмотря на мой жест, вы не пустите в ход ваш пистолет?
– Гарантия диктуется практическим соображениями: после того как мы узнали, что к чему, нам совсем не интересно, чтоб в «Зодиаке» производились какие-то трансформации и сменялось начальство.
– Но вы же начнете громить нашу агентуру. Вы тоже, надеюсь, не рассчитываете, что я приму вашу версию относительно Гелена за чистую монету?
– Как относиться к версиям – это ваше дело, – пытаюсь я уклониться. – А вашу агентуру на Востоке убирать не будут. По крайней мере первое время. Вы в этих вещах хорошо разбираетесь, и вам нет нужды объяснять, что агентуру, которую только что нащупали, лишь в редких случаях тут же начинают громить, ее обычно довольно долго держат под наблюдением, приглядываются.
– Долго? Сколько же это может длиться?
– Дольше, чем вам потребуется, чтобы умыть руки и перейти на другую работу. У вас большие связи, Эванс, и, надеюсь, по крайней мере о вас-то мне не придется беспокоиться.
Председатель снова задумывается, потом произносит:
– Ладно. Так тому и быть!
– Надеюсь, это «ладно» не сулит мне пулю в спину за воротами вашей виллы или чуть подальше?
– Вовсе нет. Но имейте в виду, я не страховое агентство, и если вы и впредь будете разгуливать по этому городу…
– Хватит. Ясно.
Эванс медленно поднимается и вдруг кричит:
– Ровольт!
Из столовой выскакивает человек в темных очках.
– Проводи господина Роллана до его машины. У него срочное дело, и он вынужден покинуть нас.
– Пистолет… – вспоминаю я.
– Да. Верни ему пистолет.
Ровольт покорно возвращает мне мой вороненый маузер.
– Проводи господина Роллана через террасу. И без инцидентов!
Эванс великодушно машет мне рукой на прощание, я отвечаю ему тем же и следую за Ровольтом.
Возле виллы темнеет мой «мерседес». Он, наверно, уже не надеялся увидеть меня. Пускаю мотор и жду, пока Ровольт пройдет вперед и распорядится, чтобы открыли ворота. Подъехав к воротам, прибавляю скорость и вылетаю за ограду. На какую-то долю секунды в световом потоке вырисовывается силуэт Ровольта, стоящего у ворот, и на какую-то долю секунды я ощущаю в своих руках неодолимое желание всего чуть-чуть повернуть руль и бампером смахнуть его с лица земли, но, овладев собой, качу по лесной дороге.
«Видали его! Да ты, оказывается, добрый христианин», – как будто слышится мне голос Любо.
«Глупости! – отвечаю я. – Наша профессия не позволяет поступать так, как взбредет в голову».
«Не удивительно, если ты в церковь зачастишь, брат мой», – снова раздается где-то во мне голос Любо.
«Глупости! – повторяю я. – Что такое Ровольт? Мелкое орудие организации. Не будь его, нашелся бы другой. Дело не в ровольтах».
«Только не прикидывайся», – тихо говорит Любо, и я замолкаю; чувствую, что и в самом деле оправдываюсь после того, как с трудом удержался и не сделал того, что следовало сделать справедливости ради. Профессия.
Чтобы избавиться от охватившей меня нервной дрожи, я нажимаю на газ, и «мерседес» стремительно мчится по дороге вдоль молчаливой равнины, по той самой дороге, по которой не так давно, в сущности совсем недавно, мы шагали с Эдит. Эдит жаловалась, что не может больше идти, и проклинала свои высокие каблуки.
Но сейчас мои мысли заняты не столько Эдит, сколько ван Альтеном. Я предоставил ему выбор: спасение или гибель. И он выбрал гибель. Почему? От угрызения, что совершил предательство? Но ведь для людей вроде ван
Альтена и даже Эванса это слово – пустой звук, кроме разве тех случаев, когда предательство затрагивает их собственные интересы. Ван Альтен просто струсил. А может, ему захотелось вопреки моему предубеждению совершить двойное предательство, чтобы получить вдвое больше. Он поступил, как Артуро Конти, и кончил, как Артуро Конти.
С той лишь разницей, что ван Альтен не будет прославлен даже в трескучем посмертном репортаже.
Вот уже и шоссе, но свернуть на него мне не удается,
потому что какой-то идиот своей допотопной колымагой загородил мне дорогу, дав задний ход на перекрестке. Остановившись, я уже собираюсь высунуться из окна, чтоб выразить этому олуху свои добрые пожелания, но в двух пядях от моего носа сверкает дуло пистолета, и я слышу нежный женский голос:
– Глуши мотор, милый!
У «мерседеса» стоит моя верная секретарша Эдит, и револьвер в ее руке очень похож на пугач.
– Какой сюрприз! И какая перемена! Ведь по этой самой дорожке…
– Да, да, воспоминания… – прерывает меня Эдит.
Из колымаги вылезает худой мужчина, и это, конечно же, седовласый, он тоже размахивает пистолетом. Не спрашивая разрешения, он устраивается на заднем сиденье «мерседеса» и упирается оружием в мою спину, а Эдит садится рядом, чтобы составить мне компанию.
– Включай зажигание! – приказывает секретарша.
– Куда поедем? – спрашиваю, пропустив приказ мимо ушей.
– К Роттердаму. Да поживей!
– Это исключается.
– Слушай, милый! Я бы сразу раскроила тебе голову, не будь у нас кое-каких общих воспоминаний, однако ты не больно рассчитывай на мои чувства.
– Тут не до чувств – элементарный разум не позволяет.
У меня неотложное дело в Амстердаме, я должен с ним покончить сегодня вечером, потому что завтра этот город станет для меня запретной зоной.
– Вот как? Почему?
– Потому что всего полчаса назад я был с шумом выдворен из виллы Эванса; при этом мне было торжественно заявлено, если я еще раз… И прочее. Сама можешь представить.
– А причина?
– Нелепые подозрения. Эти типы, как тебе известно, ужасно мнительны. Как ни старался вести себя прилично…
– Ты и передо мной старался вести себя прилично, да не вышло, – замечает Эдит.
– Знаю, ты тоже не лучше. Разреши мне все же отогнать машину. А то я не удивлюсь, если сюда в любую минуту пожалуют люди Эванса.
– Поезжай к Роттердаму!
– Эдит, перестань размахивать пистолетом и злить меня своим упрямством, – меняю я тон. – Должен тебе сказать, попасть в Амстердам сейчас столь же важно для меня, сколь и для тебя.
Эдит резко оборачивается назад, где сидит седовласый молчальник, упершись в мою спину пистолетом. Низкий голос с довольно сильным акцентом произносит:
– Пускай едет в Амстердам.
Включив зажигание, выбираюсь на шоссе и еду потихоньку, со скоростью порядка тридцати километров.
– Не ройся в кармане! – кричит секретарша.
– Сигареты…
– Сама достану.
Она извлекает из моего кармана пачку «Кента», бесцеремонно сует мне в рот полусмятую сигарету и щелкает зажигалкой.
– Еще что-нибудь нужно?
– Мерси.
– Джазовой музыки?
– У меня от нее голова болит.
– Тогда драматический диалог?
Эдит снова оглядывается назад, и вдруг в машине раздается мой собственный голос:
«Помогайте мне, чтоб нам поскорее закончить».
И голос ван Альтена:
«Неужто вы собираетесь снимать все подряд?»
И так далее, вплоть до прощального торга.
– Надеюсь, тебе ясно, о чем идет речь? – произносит
Эдит, давая молчальнику знак остановить магнитофон.
– О долларах и чеках, если не ослышался.
– Нет, о снимках секретной документации. Нам нужны эти снимки. После этого ты свободен.
– И зачем они вам понадобились, те снимки?
– Так. Для семейного альбома.
– А куда ты ухитрилась сунуть микрофончик?
– Зашила его в подкладку твоего пиджака, милый.
– Так вот почему твой приятель поджидал меня внизу.
– Ты догадался. Только не надо зубы заговаривать.
Слышал, я сказала: нам нужны снимки!
– Видишь ли, Эдит, те снимки, они вам ни к чему.
– Это мы сами посмотрим.
– Те снимки имеют одно-единственное предназначение: их следует передать Гелену.
– Наконец-то ты говоришь правду. Только мы не желаем, чтоб они попали к Гелену. Ясно?
– Но пойми, милая, в этом и заключается смысл игры: чтобы эти снимки попали именно Гелену.
– Каждый видит в игре свой интерес…
– Но в данном случае наши интересы, твои и мои, совпадают.
– Я не убеждена.
– Потому что ты не знаешь того, что знаю я, дорогая
Дорис Хольт.
Они обмениваются молниеносными взглядами. И снова ее вопрос:
– Что ты сказал?
– Именно то, что ты слышала, дорогая Дорис Хольт из братской ГДР.
Опять их взгляды встречаются. Паузу нарушаю я:
– При первой же возможности вам следует навести справки относительно меня; не исключено, что вы просто не успели получить последние материалы. Нам нечего играть в жмурки. Я здесь от болгарского Центра.
– Тогда почему же ты решил передать снимки Гелену?
– Потому что заснятые документы фальшивые. Насквозь фальшивые. Нам они ни к чему. Нам нужны подлинные.
Вот это ливень! Ветер выхлестывает мне в спину целые ведра воды, так что, пока я дохожу по темному переулку, где остался мой «мерседес», до кафе на углу, успеваю вымокнуть до последней нитки.
Полночь – и вокруг ни души. Незаметно вхожу в неосвещенную парадную, нащупываю почтовый ящик Питера
Грота. Утром я договорился с Питером, что он оставит здесь ключ от своего ателье, которым я смогу воспользоваться для интимной встречи – от всевидящей Эдит укрыться не так-то просто. Ключ на месте, и я бесшумно поднимаюсь по лестнице в мансарду.
Задуманная операция вопреки тому, что совершаться она должна, безусловно, над уровнем моря, не имеет ничего общего с прогулкой по горам под ласковыми лучами майского солнышка: проклятый дождь осложняет мою задачу, хотя без него она была бы вовсе неразрешима.
В тусклом свете, идущем от окна, я развязываю сверток, достаю тонкую крепкую веревку и опоясываюсь одним ее концом. К другому концу веревки привязан солидный крюк, тщательно обмотанный шпагатом, чтоб не издавал стука при падении. В карманы я кладу необходимый инструмент, ставлю на стол табурет, взбираюсь на это нехитрое сооружение и через слуховое окно вылезаю на крышу.
На меня обрушивается такой потоп, что я тороплюсь скорее закрыть стеклянную крышу, иначе ателье Питера может превратиться в аквариум. Передо мной две крутые крыши, прижавшиеся одна к другой. Мне предстоит преодолеть шесть таких склонов. Забрасываю крюк на конек ближайшей крыши, разумеется, неудачно. «Ничего. У меня впереди целая ночь, и вообще я владелец плохой погоды», – успокаиваю я себя. Две-три попытки, и цель достигнута. Собираю веревку и шаг за шагом взбираюсь по скользкой крыше. Крыша не только скользкая, но и ужасно крутая, а под ударами дождя и ветра, которые так и норовят сбросить меня на мостовую, она кажется мне еще круче.
Достигнув конька и преодолев искушение передохнуть, начинаю спуск. Спуск оказывается более неприятным, нежели подъем, потому что приходится пятиться назад.
Темно, как в могиле, хотя прочих ее преимуществ, как-то: безветрие и относительно сухости, не наблюдается. Постепенно я свыкаюсь с мраком и уже различаю под ногами черепицы. Первая крыша преодолена, но руки и ноги у меня дрожат от напряжения. Чтобы расслабить мускулы, я на минуту склоняюсь на крышу. Плащ только бы связывал мои движения, поэтому я оставил его в ателье, а без него до такой степени вымок, что дождь мне теперь нипочем.
Размахнувшись, лихо бросаю крюк на следующий конек. И
конечно же, опять неудачно. «Что может быть лучше плохой погоды, когда ты принялся за такое упражнение», –
утешаю я себя и снова бросаю крюк. Начинается восхождение на вторую крышу.
Проходит не менее часа, пока я добираюсь до последнего здания. От веревки у меня не ладони, а живое мясо, ноги подкашиваются. Дальнейшее продвижение отнимает у меня значительно больше времени. Наконец мне удается вскарабкаться до слухового окна. Оно заделано железным щитом и для пущей надежности забрано железной решеткой. Полагаю, что прикосновение к этим устройствам при нормальных условиях привело бы в действие сигнализацию и по всему зданию раздался бы адский звон. Но условия не совсем нормальны, после обеда я успел вынуть предохранитель на щитке под столом Доры Босх.
Пуская в ход скудный запас подручных средств, чтобы вскрыть окно, я впервые не в шутку, а всерьез готов поверить: «Что может быть лучше плохой погоды?» Не знаю, когда сооружался этот блиндаж, но хронические амстердамские дожди настолько разъели петли, что я отделяю их без особого труда.
На чердаке непроглядный мрак. Снова закрыв слуховое окно, зажигаю карманный фонарь. Чердачное помещение окутано копотью и паутиной, а потолок такой низкий, что встать во весь рост невозможно. Лаз, позволяющий спуститься вниз, не заколочен, вопреки утверждению ван Альтена, а только закрыт на засов, хотя, будь он заколочен, я бы тоже не стал с ним церемониться. Чтобы крышка не упала и чтобы потом можно было водворить ее на место, я сперва привинчиваю к ней приготовленную заранее ручку и только тогда осторожно открываю лаз. Осветив на мгновенье помещение подо мною, я убеждаюсь, что это нечто вроде коридорчика без окон. Зацепив крюк за край лаза, спускаюсь по веревке. Две двери. Эта, в туалет, меня не интересует. Вторая заперта, но мой инструмент заготовлен именно для подобных случаев. Мне даже не приходится выталкивать ключ, оставленный в замочной скважине, я отпираю дверь ключом, захватив конец его соответствующим приспособлением.
Вот и секретная комната, ярко освещенная и пустая, с темнеющим сейфом в глубине. Для вящей элегантности натягиваю тонкие резиновые перчатки… Принимаюсь за ключи. Снабдив меня этими ключами – не станем упоминать, за какую цену, – Фурман-сын доказал, что в области частного сыска он нисколько не уступает Фурману-отцу.
Он не только сумел отыскать фирму, изготовившую сейф, но и раздобыл дубликаты ключей. Можно не сомневаться, старик снабдил бы меня и комбинацией, если бы секрет ее не хранился у самого владельца фирмы. Только комбинация мне уже известна, и я берусь терпеливо набирать ее: три интервала – М – два интервала – О – один интервал и так далее, пока тихий, но отчетливый щелк не дает мне знать, что неприступный сейф, неумолимый сейф «Зодиака», готов открыться.
Вынув досье – настоящее, – приступаю к работе. Сведения об агентах имеют два индекса. Одна сеть постоянно действующая, другая – глубоко законсервированная, созданная для того, чтобы вступить в действие при исключительных обстоятельствах, в случае войны. Нити от них тянутся по всему социалистическому лагерю, насаждалась эта агентура долгие годы. Вот почему сейф «Зодиака» был таким неприступным. Вот почему пришлось столько времени терпеливо ждать, чтобы получить возможность бросить взгляд на эти досье.
Три часа. Съемочные работы закончены, но дел еще много. Необходимо убрать все видимые и невидимые следы, водворить на место крышки и совершить обратный путь по крышам, не говоря уже о том, что до наступления рассвета негативы должны оказаться в надежном месте.
В затуманенном от напряжения мозгу всплывают воспоминания: вот я собираю какой-то тряпкой воду, нахлынувшую в ателье Питера, а затем шарю израненными руками в кладовке – мой еще не притупившийся нюх подсказывает мне, что там должно быть виски…
Все это произошло в ту дождливую ночь, когда я посетил ван Альтена на его барже.
И эта – нынешняя – ночь уже на исходе, когда мы с
Эдит устраиваемся наконец в «мерседесе» и катим к
Айндгофену. Седовласый исчез. Этот человек с самого начала и до конца был так молчалив, что казался призрачным; не ощущай я прикосновения его пистолета к своей спине, можно было бы подумать, что это плод моего воображения.
Шоссе освещено неярким светом люминесцентных ламп. И от этого в силуэтах домов видится что-то бесконечно унылое, особенно если ты глаз не сомкнул в течение всей ночи. Негативы, предназначавшиеся Бауэру, переданы час назад. Мне в этом городе больше не на что рассчитывать, разве что пулю кто всадит в спину.
– Подумать только, взяли бы билеты на самолет – к обеду были бы дома… – вздыхает Эдит.
– Не стоит расстраиваться. Лучше внушай себе, что кратчайший путь не самый близкий. К тому же самолеты плохи тем, что предлагают тебе множество формальностей, столько раз указываешь фамилию, расписываешься.
– Но ехать поездом до того долго…
– Долго ехать – значит много спать. Страсть как хочется долго ехать.
В Айндгофене мы с Эдит должны сесть в поезд. Два незнакомых друг другу пассажира на незнакомой станции сядут каждый в свой поезд и уедут в разные стороны.
Одиноко и скучно, зато надежно. Потому что, хотя все ходы были тщательно продуманы, с того момента, как негативы перешли в другие руки, на сколько-нибудь верную защиту надеяться не приходится. Между прочим, Эванс отпустил меня и для того, чтобы я мог передать негативы.
Это отчасти оправдывает его поступок перед коллегами.
Раз уж неприятель так или иначе сумел заглянуть в святая святых «Зодиака», единственный способ защиты – направить этого неприятеля по ложному пути, подсунув ему фальшивое досье.
– Едва ли Эванс убежден, что негативы попадут к Гелену, – замечает Эдит.
В этом отрицательная сторона продолжительного знакомства с одним человеком – он начинает читать твои мысли. Такие, как мы, не должны поддерживать связь друг с другом длительное время.
– Нет, конечно, – соглашаюсь я. – Если бы дело касалось только Гелена, шеф вряд ли стал бы тратить столько времени на изготовление фальшивых досье. Готов биться об заклад, эти досье лишь отчасти фальшивы. В них фигурируют реальные лица, с которыми в свое время пробовали иметь дело, но безуспешно; теперь они видят смысл держать этих людей под наблюдением и подозрением – тем спокойнее будет работать настоящим агентам.
Пригороды остаются позади, люминесцентные лампы исчезли, и мрак вокруг нас сгущается еще больше. Энергичней нажимаю на газ, и «мерседес» стремительно бежит по желобку из света собственных фар.
– Значит, Эванс должен быть доволен, – как бы про себя говорит Эдит.
– Вся эта история сложилась так, что все остались довольны. Эванс доволен, что спас свое реноме и свое состояние, его хозяева – что подсунули сведения, которые доставят нам много хлопот и вызовут сплошные разочарования. Бауэр – что добрался до секретного архива и раскрыл тайну, которая не давала ему покоя. Удивительно то, что даже мы с тобой должны быть довольны.
– Лично я не вижу особых оснований для радости.
– Оставь. Ты прекрасно понимаешь свои заслуги. Так что не надо напрашиваться на комплименты. Презираю тот час, когда люди начинают делить заслуги…
– Дело не в заслугах, – прерывает меня Эдит. – Я не могу себе простить, что позволила тебе столько времени водить себя за нос.
– Напрасные угрызения. Удовольствие было взаимным.
Впереди появилась светлая полоска горизонта.
– День будет хороший, – замечаю я, чтобы переменить тему разговора.
– Вероятно. У меня такое чувство, что стоит нам уехать отсюда – и дождь сразу прекратится.
– Сомневаюсь. В этой стране до того паршивая погода, что наше отсутствие едва ли повлияет на нее.
– Я мечтаю о солнышке… о настоящем теплом солнце и настоящем голубом небе…
– Ты забыла песенку…
– О, песенка… Неужели тебе не хочется очутиться в светлом городе, в спокойном летнем городе, и пойти гулять по его улицам, не делать вид, что ты гуляешь, а гулять по-настоящему, чувствовать себя беззаботно и легко, не думать ни о микрофонах, ни о глазах, подстерегающих тебя, ни о вероятных засадах…
– Нет, – говорю, – подобная глупость никогда не приходила мне в голову.
– Значит, твоя профессия уже искалечила тебя.
– Возможно. Но в мире, где столько искалеченных людей, это не особенно бросается в глаза.
– Ты просто привык двигаться свободно, свободно говорить, настолько привык, что не испытываешь надобности в этом.
– Ошибаешься. Я говорю совершенно свободно, но только про себя. Говорю со своим начальством, спорю сам с собой, болтаю с мертвыми друзьями.
Она хочет что-то возразить, но воздерживается. Я тоже молчу. Что пользы пускаться в рассуждения, когда мы в действительности ничего не говорим друг другу, ничего не говорим из того, что сказали бы, если бы не привыкли молчать обо всем, касающемся лично нас. Странно, пока мы лгали друг другу, мы кое в чем были более искренними, потому что искренность была частью игры. А сейчас между нами встала какая-то неловкость, условности, противные и ненужные, как неестественное поведение в нашей работе.
Высоко над нами медленно светлеет небо, безоблачное и похожее на ярко-голубой дельфтский фарфор. День и в самом деле обещает быть хорошим. Ну и что?
«Мерседес» въезжает на пустынные улицы Айндгофена, когда уже совсем рассвело. Я оставляю машину в каком-то закоулке. Суждено ей было осиротеть. Правда, в отличие от людей, машины недолго остаются сиротами.
Открываю дверцу своей спутнице; мы берем по маленькому чемоданчику и идем на вокзал. Поезд Эдит отправляется через час. Мой – несколько позже. Вокзал представляет собой огромный стальной ангар, в котором страшно сквозит, и, купив билет, мы уходим в буфет согреться и позавтракать. Время течет медленно, и, чтобы его заполнить, мы выпиваем еще по чашке кофе и болтаем о всяких пустяках, о которых говорят только на вокзалах.
Наконец поезд Эдит прибывает. Я устраиваю ее в пустом купе и ломаю голову над тем, что мне делать в этом купе еще целых десять минут, но Эдит выручает меня –
выходит со мной на перрон. Я закуриваю и отдаю пачку с сигаретами женщине, но она отказывается, не хочется ей курить, и я убираю сигареты в карман. И опять мы молчим,
я переступаю с ноги на ногу, потому что мне холодно и потому что не знаю, что сказать. Молчание нарушает Эдит:
– Как только подумаю, Морис, что мы больше никогда не увидимся…
Она продолжает называть меня Морис, а я ее – Эдит, хотя знаем, что имена эти придуманы, но мы привыкли к этим именам, привыкли жить жизнью придуманных людей; в жизни много придуманного, а что – не придумано, это еще неясно.
– Не увидимся? Почему не увидимся?
Она не отвечает, потому что мысли ее заняты другим и потому что не видит смысла спорить с таким чурбаном, как я.
– Ты помнишь тот вечер… когда я ревела, глядя на твою елку?
Я что-то мычу невнятное.
– А тот, другой вечер, когда мы украли велосипед?
– Ну конечно.
– А тот вечер, когда ты под дождем поцеловал меня на мосту?
– Да, – отвечаю. – Жуткий был дождь.
– Ты невозможный.
– Не я, а вся наша история. Невозможная история.
Считай, что она придумана. Так будет лучше.
– Но ведь она не придумана. Я не хочу, чтоб она была придумана.
– Я хочу, ты хочешь…
Слышится свисток дежурного. Эдит пятится к вагону, не отрывая взгляда от моего лица. Она совсем расстроена, и я удивляюсь, что замечаю это только сейчас.
Не стой, как чурбан, говорю я себе, разве не видишь, в каком она состоянии. Ну и что, может, я тоже расстроен, но я здесь не затем, чтобы изливать свои чувства, и вообще все это ни к чему; надо потерпеть, как в кресле зубного врача, пока пройдут эти мучительные минуты.
Так будет лучше. И все же мне хочется сказать ей последнее «прощай, моя радость», но для этого необходимо сделать два шага вперед и хотя бы положить ей руку на плечо, потому что такие речи не должны быть достоянием многих. И вот мы неожиданно заключаем друг друга в объятья, сперва вполне прилично, а потом с полным безрассудством, и я запускаю пальцы в ее пышные каштановые волосы и ощущаю на своем лице ласку милых губ, и объятья наши становятся все более лихорадочными, это уже не объятья, а какое-то судорожное отчаяние, и мы оглупели до такой степени, что стали похожи на нормальных людей, и я целую ее совсем как в тот вечер на мосту – хотя и говорят, что хорошее не повторяется, – а поезд уже ползет по рельсам, и Эдит пропускает свой вагон и едва успевает ухватиться за поручень следующего; она стоит на ступеньках и глядит на меня, и я тоже стою и гляжу вслед поезду воспаленными от ветра и бессонницы глазами.
Долго еще стою и бессмысленно всматриваюсь в пустоту, словно жду невесть чего – никому не известный пассажир, на незнакомом вокзале, в чужой дождливой стране.
ТАЙФУНЫ С ЛАСКОВЫМИ ИМЕНАМИ
1
Вид поистине грандиозный: с четырех сторон долины крутыми диагоналями устремляются в небо снежные вершины, а между ними медленно течет и стелется серая мгла, словно неторопливые смутные мысли горного исполина. В самом низу, в этом хаосе скалистых круч, приютился город.
И будь у нас желание сделать тот единственный шаг, что отделяет великое от смешного, нам бы следовало добавить, что в центре этого небольшого города, на совсем маленькой улочке, в маленьком кафе приютился за маленьким столиком близ витрины некий человечек средних лет, пылинка средь необъятности этого альпийского пейзажа, – ваш покорный слуга Эмиль Боев.
Впрочем, в данный момент по соображениям гигиены я лучше буду именовать себя Пьером Лораном. Всего час назад под этим именем я перешел границу у Симплона. Под этим именем я намерен следовать дальше по этой живописной стране, которая не знает войн, зато отлично знает секреты международного туризма и издавна славится обилием горных цепей, часовых заводов и шпионов всевозможных национальностей.
Я заканчиваю обед, распределяя внимание между пирогом с абрикосами и стоящим у противоположного тротуара черным «вольво». В новом, весьма стандартном «вольво», которое, отметим для ясности, принадлежит мне, нет ничего примечательного. Тем не менее, лениво поглощая десерт, я то и дело поглядываю на него, потому что теоретически вовсе не исключено, что какой-нибудь прохожий, нагнувшись якобы для того, чтобы завязать шнурок ботинка, уже сейчас присобачит к днищу миниатюрное подслушивающее устройство, просто так, чтобы посмотреть, что получится. Сомнений быть не может: в ближайшие дни или недели это неизбежно, но нельзя же допустить, чтоб оно сопровождало меня с самого начала. К тому же сегодня мне предстоит серьезный разговор.
К моему столику приближается хозяйка заведения, уже немолодая дама, которая, судя по всему, неустанно заботится о своей внешности.
– Вам нравится обед?
После того как я оставил позади две тысячи километров и выкурил двести сигарет, мне трудно оценить здешнюю кухню, однако я говорю:
– Благодарю вас, все прекрасно.
Дама удаляется с довольным видом, а я дивлюсь этой аномалии – добрым старым, традициям, которые все еще бытуют в этой стране. Здесь пока не следуют новаторскому примеру Парижа, где никого не интересует, что тебе нравится, а что – нет, куда бы ни пришел, ты прождешь битых полчаса, пока закажешь бифштекс, и еще столько же, чтобы заплатить за него.
Неторопливо допив кофе, я отвожу глаза от «вольво», чтобы взглянуть на часы. Затем достаю из кармана географическую карту, и какое-то время меня в одинаковой мере занимает и сеть швейцарских шоссейных дорог, и стоящий на улице автомобиль. В сущности, моя зоркость –
чисто профессиональный педантизм. В этот послеобеденный час и в эту сырую ветреную погоду улочка почти пуста.
Большая и малая стрелки часов образовали между цифрами двенадцать и три прямой угол, когда я наконец расплачиваюсь и встаю. Сев за руль «вольво», трогаюсь не спеша и, выехав на окраину города, сворачиваю на Сион.
Два-три плавных изгиба дороги, и позади остается
Бриг. По одну сторону асфальта перемещаются громады пепельно-серых скал, а по другую зияет бездна широкого ущелья, на дне которого уже затаилась послеполуденная мгла. Машин на дороге немного: туристский сезон закончился. Всем, кто торопится, я охотно уступаю дорогу, так как мне самому торопиться нет нужды. Для меня сейчас главное – внимательно посматривать в зеркало заднего вида. Судя по всему, я пока что передвигаюсь без сопровождения.
Три часа пятьдесят минут. Вдали, справа от дороги, появляется большой бело-голубой указатель: СИОН, 5 км.
В нескольких шагах от указателя остановился серый «опель». Но человек, протирающий заднее стекло машины, курит сигарету. А Белев некурящий.
Оставляю в стороне курящего некурильщика, не увеличивая и не сбавляя скорости, и, въехав в Сион, останавливаюсь возле первого попавшегося придорожного заведения. Пока я, лениво разглядывая улицу, утоляю несуществующую жажду стаканом «синалко», мимо кафе проносится на пределе дозволенной скорости серый «опель». Однако Белев, чтобы щегольнуть передо мной своей роскошной спортивной рубашкой в клетку, снял пиджак. А в такой прохладный день – уже конец октября –
это по меньшей мере странно. Задержавшись еще на четверть часа, я тоже еду дальше. Стали спускаться сумерки, когда справа обозначился указатель:
МОНТРЕ, 5 км.
Под указателем стоит серый «опель». На сей раз Белев поднял капот и копается в двигателе – значит, без аварии не обошлось. Хотя мотор, возможно, тут ни при чем. Еду дальше, не меняя скорости, и вот я в Монтре. Ставлю машину перед бистро на главной улице, а сам устраиваюсь за столиком возле витрины. В этот час ярко освещенная люминесцентом улица весьма оживленна. Возвращаясь с работы, люди торопятся прикупить чего-нибудь, чтобы вовремя поспеть домой, поужинать и усесться перед телевизором, прежде чем начнется очередная часть многосерийного телефильма «Черное досье». Пока мы тут бессмысленно то съезжаемся, то разъезжаемся, люди следуют привычному ритму жизни.
Серый «опель» появляется в поле зрения и исчезает.
Белеву, как видно, опять стало жарко. Опять он в яркой клетчатой рубашке.
Я оставляю на столике монеты соответственно выпитому кофе и немного спустя снова сажусь за руль. Особенно не нажимая на газ, еду по шоссе, освещенному фонарями, – их нездоровый желтый свет навевает чувство мировой скорби. Устало гляжу на убегающую ленту асфальта и уже без всяких иллюзий жду появление указателя: ЛОЗАННА
Но, прежде чем появиться указателю, передо мной возникает нечто совсем другое: за одним из поворотов неожиданно образовался затор, а впереди стоящих машин под яркими лучами фар снуют люди, словно ночные насекомые.
Выскочив из «вольво», я тоже отправляюсь туда в роли невинного зеваки. Какой-то старый «ситроен», обгоняя «опель», хотел прижать его к бровке. Но «опель», видимо, не принял правил игры, и «ситроен», вместо того чтобы отстраниться, с ходу врезался в него. Как раз в тот момент, когда я подхожу к месту происшествия, санитары уносят к машине «скорой помощи» лежащего на носилках человека.
Человека в яркой клетчатой рубашке с залитым кровью лицом.
– Вы не видели водителя «ситроена»? – недоверчиво спрашивает полицейский, увенчанный белой каской мотоциклиста.
– Что вы, как я мог его видеть? – отвечает молодой человек с темными косматыми бакенбардами – по всей вероятности, непосредственный свидетель несчастного случая. – Когда я подъехал, в «ситроене» никого не было.
– Так нахально врезаться… – восклицает какая-то пожилая женщина. – Ведь это же преднамеренное убийство!
– Убийство или самоубийство, не твое дело! – одергивает ее супруг и торопливо уводит к выстроившимся на дороге машинам. – Для этого существует полиция.
Полиция в самом деле налицо, так что все идет своим чередом Место происшествия огораживается, поток скопившихся машин направлен в объезд, и я, уже сидя за рулем «вольво», проезжаю мимо разбившихся в лепешку автомашин и устремляюсь к Лозанне.
Сделав остановку перед вокзалом, я захожу в бар отеля
«Терминюс». Совершенно машинально заказываю бифштекс, даже не соображая, что сейчас вряд ли смогу есть. В
эту минуту Белев, наверно, корчится в агонии, если агония не осталась для него позади. И здесь замысел, с такой тщательностью выношенный, полностью и окончательно провалился.
Строго говоря, сейчас все мое внимание должно быть сосредоточено именно на этом. Но в отличие от моего приятеля Любо я так до сих пор и не привык смотреть на вещи сугубо профессионально. И как я ни стараюсь начать с главного и закончить тем, что в данный момент является для меня главным, моя мысль то и дело ускользает к человеку в клетчатой рубашке, распростертому на носилках, с залитым кровью лицом.
Плачу по счету. Бифштекс остается на столе почти нетронутым.
– Вам не понравился бифштекс? – сочувственно спрашивает кельнер. – Наверное, вы любите не такой кровавый?
– Наоборот, мне по вкусу еще более кровавый, – говорю в ответ. – Но у меня дьявольски болит зуб.
Еще более кровавый… Пересекаю улицу и вхожу в здание вокзала. Юркнув в одну из телефонных кабин, начинаю листать справочник. Пострадавший, должно быть, в городской больнице. Набираю номер, спрашиваю.
– Да, верно… Доставлен час назад, – сообщает после короткой паузы дежурный.
– Могу ли я его видеть?
– В такой поздний час? Это исключено, – слышится ответ, которого и следовало ожидать.
– Но вы хоть скажите, в каком он состоянии!
– Минуточку…
«Минуточка» длится так долго, что я уже начинаю сомневаться, стоит ли держать трубку. Наконец слышится голос дежурного:
– Можете не волноваться, его жизнь вне опасности.
– А нельзя ли более конкретно…
Однако в этот момент на другом конце провода трубка, очевидно, переходит к другому человеку, потому что меняется тембр голоса, а интонация слегка напоминает речь полицейского.
– Кто у телефона?
– Это его знакомый, мосье Робер. Скажите ему, что мосье Робер и Дора хотят его видеть. – И кладу трубку.
Часом позже я в Женеве. Останавливаюсь в отеле «Де ла пе». Под окном моего номера тянется ярко освещенная набережная с длинной шеренгой голых деревьев: их так безбожно обкорнали, что теперь они больше похожи на мертвые пни, не внушающие ни малейшей надежды на весеннее пробуждение. А за деревьями – черные воды озера. Воды, которые не видишь, а только угадываешь, ограждены вдали отражениями электрических огней противоположного берега. Глядя на пустую полосу асфальта, по которой лишь изредка с легким шуршанием проносятся машины, я внезапно сознаю, что вся эта картина мне хорошо знакома и даже привычна. И только теперь я вспоминаю, что всего несколько лет назад мне довелось жить в этом самом месте или совсем рядом – в соседнем отеле
«Регина». И видится что-то абсурдное в том, что я только сейчас вспоминаю подробности той истории (свою первую встречу с Эдит в двух шагах отсюда, как мы впервые с нею обедали в ресторане «Регина»), в том, что прошлое ожило перед моими глазами лишь сейчас, после того как я побывал внизу, в регистратуре, поселился в этом номере, надел пижаму, после того как столько времени глазел в окно.
Забыть незабываемое! Разве это не абсурд? Абсурд, конечно, но, быть может, это на пользу здоровью, потому что, если бы пережитое не сглаживалось в памяти, не исчезало хотя бы на время, голова наверняка давно бы уже треснула от избытка мыслей.
Эдит. И скверная погода. Эдит, ее давно уже нет, зато ненастье все еще налицо, что верно, то верно, и никаких признаков потепления. Сейчас не Эдит должна меня занимать, а Дора. Только Дора на нашем условном языке, моем и Белева, не Дора, а Центр. И мое послание, переданное по телефону, означает: «Смывайся при первой возможности – и домой».
– Ну так как же, по-вашему, могли бы мы распутать эту историю? – спрашивает генерал после того, как мы с Бориславом устраиваемся в темно-зеленых креслах под темно-зеленым фикусом.
– Пускай ее распутывает тот, кто запутал, – бормочет
Борислав, поглядывая на пачку сигарет, неизвестно как оказавшуюся у меня в руке.
– Ты так считаешь? – поднимает брови генерал, но в его голубых глазах, просто-таки неприлично голубых для генерала, таится не раздражение, а сдерживаемый смех. – А я хотел было послать тебя, чтоб распутывал ты. Тебя и Боева.
В это время он замечает пачку сигарет в моей руке, а затем и голодный взгляд Борислава.
– Курите, курите. И пока будете курить, поделитесь своими мыслями, как бы вы поступили, если бы мы действительно поставили перед вами эту задачу.
В сущности, эта история началась с того, с чего начиналось немало других подобных историй. На первый взгляд каждая из них не стоит выеденного яйца, однако если присмотреться поближе, то подчас даже самая пустяковая деталь заставляет серьезно призадуматься.
Гражданина Караджова, инженера одного из промышленных предприятий, посылают в командировку в Мюнхен. Это не первая его командировка, но, так как прежние поездки вызвали некоторые неприятные сигналы, за Караджовым в целях предосторожности было установлено наблюдение. Так вот, в Мюнхене спутник инженера слышит его телефонный разговор с неким Горановым – они договариваются о встрече. Чтобы не привлечь к себе внимания, спутник вынужден следить за Караджовым с солидного расстояния, и когда он достигает места встречи
(кафе, названия которого не помню, стоящего на площади, а на какой – тоже затрудняюсь сказать), то оказывается, что там уже никого нет. Зато потом спутник без всякого труда устанавливает, что после упомянутой встречи Караджов позволяет себе совершить ряд покупок, общая стоимость которых далеко превосходит скромные возможности человека, находящегося в командировке.
Неудивительно, что по возвращении Караджова на родину его вызывают для объяснений. Объяснения в общих чертах сводятся к следующему:
– Кто такой Горанов?
– Известный софийский коммерсант, промышлявший до Девятого сентября.
– Кем он вам приходится?
– Старый друг моего отца.
– Получали ли вы от Горанова деньги?
– Получил ничтожную сумму.
– За что?
– Просто так, он мне их дал по старой дружбе.
Однако проверка ставит под сомнение некоторые его утверждения, особенно одно из них. Если даже оставить в стороне модные тряпки, предназначенные для подарков, одни лишь золотые часы, купленные Караджовым, драгоценные украшения для его супруги и «лейка» для сына составляют по рыночным ценам около десяти тысяч марок.
Сумма, конечно, не фантастическая, но и не такая уж пустяковая, чтобы Горанов мог выбросить ее на ветер только из любви к покойным родителям инженера.
Так что Караджов снова попадает под беглый огонь перекрестных допросов и, убедившись, что сухим из воды ему не выбраться, приходит ко второй фазе своих признаний. Вот некоторые из них:
– Сколько раз вы встречались с Горановым?
– Три.
– Где?
– Два раза в Мюнхене и один в Кельне.
– Какие сведения требовал от вас Горанов?
– Самые разные. Главным образом экономического характера.
– Точнее?
– О мощности отдельных промышленных предприятий… о том, насколько они связаны с программами
СЭВ… о некоторых экономических трудностях.
– Ставил ли он перед вами конкретные задачи?
– Да.
– Какие суммы он вам выплачивал?
– Всего я получил от него тридцать пять тысяч марок.
– Как вы устанавливали связь с Горановым?
– Приехав в определенный город, я посылал ему письмо.
– По какому адресу?
– По адресу фирмы «Липс и Ко», Лозанна, до востребования.
– Как вы собирали нужные вам сведения?
– Тут меня выручали связи.
– Какие связи?
– Какие… Разве в наше время у человека мало знакомых?
И прочее, и прочее.
Разумеется, среди множества других вопросов особую важность приобретает то, с кем именно из наших граждан поддерживал подобные контакты Горанов, Но на это Караджов, естественно, не мог ответить. Ответ предстоит искать нам. Однако для этого нам нужно добраться до самого Горанова.
Караджову было предложено написать очередное письмо в адрес «Липс и Ко», в письме рекомендовать Горанову своего коллегу Цанева как вполне надежного и заслуживающего внимания человека, а также предложить место и время их встречи и назвать пароль. Цанев (который был, разумеется, коллегой не Караджова, а нашим) должен был поехать в Мюнхен, послать оттуда письмо и дожидаться встречи.
Встреча состоялась, не помню, в каком кафе, находящемся на площади – опять-таки затрудняюсь сказать, на какой именно, – но в ходе ее возникло два новых момента, которые в сильной мере усложняли ситуацию.
Прежде всего оказалось, что лицо человека, явившегося от имени «Липс и Ко», не имеет ничего общего с фотографией Горанова, которой мы располагали и с которой был ознакомлен Цанев. Верно, снимок был более чем тридцатилетней давности, а за тридцать с чем-то лет человек основательно меняется. Основательно, но не как угодно. Он может, к примеру, сделаться чуть более приземистым – но не может стать выше ростом; волосы его могут заметно поредеть – но пышной шевелюре на его плешивой голове уж никак не вырасти; наконец, у него может притупиться зрение – однако цвет глаз остается прежним. А тут вместо низкорослого, полного, кареглазого, изрядно оплешивевшего Горанова на встречу явился худой, высокий, сероглазый мужчина с довольно пышными, хотя и изрядно поседевшими волосами. И этот мужчина выдал себя за Андрея Горанова, некогда известного на всю Софию богача. А у Цанева не было ни подходящих причин, ни инструкции, чтобы подняться со своего места и решительно заявить: «Ступайте-ка лучше ко всем чертям, никакой вы не Горанов».
Другой новый момент выразился в том, что, хотя Горанов терпеливо выслушал нашего человека и до конца держался вежливо, он все же проявил недоверие к коллеге
Караджова, не стал задавать ему никаких вопросов, не предложил никаких услуг и всем своим поведением как бы говорил: «Ну, что же тебе от меня нужно?»
Так что, хотя встреча и состоялась, прошла она с нулевым результатом, если не со счетом один – ноль в пользу противника. Однако, желая сравнять счет, Цанев с решительностью человека, которому больше терять нечего, пустился выслеживать Горанова и, несмотря на все его предосторожности, добрался у него на хвосте до самого
Берна и даже до его дома, на двери которого, к своему удивлению, обнаружил табличку:
АНДРЕ ГОРАНОФ.
После чего сел в Цюрихе на самолет и явился к генералу с докладом.
Известно, ловкость необходима во всяком деле. Даже для того, чтобы расколоть орех. Если, желая расколоть, ты его раздавил, тебе приходится извлекать ядро крошку за крошкой. Так вышло и в нашем случае. Кто-то шибанул с размаху, и теперь приходится извлекать содержимое этой истории по крошке, чтобы восстановить все, как оно есть.
Только когда выбираешь крошки расколотого ореха, хорошо знаешь, как выглядело ядрышко, а вот как выглядела определенная история, прежде чем ее «раздавили», никто заранее не может знать, и восстанавливать ее – дело нелегкое и весьма кропотливое. Тем более что некоторые ее элементы могли быть раз и навсегда утеряны.
Одним из таких элементов мог быть и Андрей Горанов: по крайней мере в данный момент мы ничего не знали о нем. Разумеется, в целях проверки был проделан необходимый эксперимент с Караджовым. Цанев сумел, хотя и не совсем удачно, сфотографировать человека, с которым встречался в Мюнхене. Была переснята и фотография Горанова, которой мы располагали. Смешав эти снимки со множеством других, мы привели Караджова и предложили ему показать своего знакомого по загранкомандировкам.
– Вот он. – Караджов не колеблясь ткнул пальцем в снимок, сделанный Цаневым.
– А это кто? – спросил следователь, указывая на холеную физиономию настоящего Горанова.
– Понятия не имею.
– И этот самый человек знаком тебе с молодых лет как
Андрей Горанов, друг твоего отца? – настаивал следователь, держа в руке снимок, сделанный Цаневым.
– Он самый, конечно, – подтвердил Караджов. – Хотя он заметно состарился.
Показание прозвучало достаточно искренне. Но гораздо важнее было другое: инженер увяз в этом деле по уши, и не имело особого значения, Горанову давал он шпионские сведения или кому-нибудь другому. Разве что…
Да, разве что… Впрочем, тут начинается область самых смутных догадок, которые практически в данной ситуации ничего изменить не могут.
Караджов не смог дать вразумительного ответа и на другой вопрос – почему Горанов отнесся к Цаневу с такой осторожностью. Он уверял, что письмо было написано в совершенно определенном стиле, и это, вероятно, была правда, иначе представитель «Липс и Ко» едва ли явился бы на свидание. Видимо, была допущена какая-то промашка в ходе встречи: может, Цанев допустил ошибку, сам того не подозревая? Может, следовало произнести пароль или сделать условный знак при появлении незнакомца? Однако в этом вопросе Караджов был предельно категоричен: ни в одном случае пароль предусмотрен не был.
Так или иначе, результат был налицо. Один – ноль в пользу противника или ноль – ноль черту на потеху. Вместо того чтобы раскрыть историю, ее «раздавили», и теперь приходится все начинать сначала. Эх, в том-то и дело, что не сначала. Куда труднее вытащить репу, у которой по неловкости оторвали ботву.
Примерно в таком смысле повел свои рассуждения
Борислав, раскуривая в тени экзотического фикуса ароматную сигарету. Что же касается генерала, то ему сейчас не до общих рассуждений.
– Оставь это! Скажи лучше, где, по-твоему, коренится ошибка и как нам быть дальше.
– Ошибок могло быть десяток… – роняет Борислав.
– Ошибка была одна-единственная, – обрываю я его. –
Письмо.
– Что значит «письмо»? – поднимает брови генерал.
– Затея с письмом – чистейшая авантюра. Будь оно действительным, провоз его через границу также был бы авантюрой. Хитрая лиса – вроде этого так называемого
Горанова – ни за что бы не поверила, что Караджов поставит на карту собственную судьбу, отдав подобное письмо в чужие руки. Потому что прежние письма он писал за границей, на месте, без малейшего риска.
– Возможно, ты прав, – тихо замечает шеф. – Хотя в письме не было ничего такого, что дало бы сейчас повод сотрясать воздух громкими словами вроде «судьба»,
«авантюра». Ты прекрасно знаешь: в этом отношении были предельно внимательно взвешены все «за» и «против».
Помимо всего прочего, это была единственная возможность.
Верно, конечно. Ведь прежде, чем созрело решение послать Цанева, другой наш сотрудник был направлен в
Лозанну – изучить характер «Липс и Ко». Этот человек убил целых шесть месяцев на поистине жалкое открытие: что фирмы под названием «Липс и Ко» нет вообще, но под таким названием существует почтовое отделение, где должны вручаться письма до востребования, только никто и никогда им не пользуется.
Может, Караджов был для Горанова единственным
(хоть и весьма ненадежным) связующим звеном, и у него
Горанов черпал при случае кое-какие сведения, чтобы потом передавать кому-то другому? Будь это так, вся эта история подлежала бы отправке туда, где ей место, – в архив.
Но так ли оно на самом деле? Поскольку невозможно было иным способом выяснить этот вопрос, созрело решение послать в Мюнхен Цанева.
– Была все-таки другая возможность, – отозвался Борислав с присущим ему упорством. – Ждать. Вы сами говорили, что в иных случаях предпочтительней всего –
ждать.
– Ждать у моря погоды? – возражает шеф. – Ведь ожидание должно чем-то оправдываться! Что это за агент, который полгода не пользуется услугами своего почтового отделения? И разве это не дает оснований заподозрить, что у настоящего, действующего агента, пользующегося услугами различных информаторов, не один-единственный пункт связи? И что «Липс и Ко» больше никогда не будет использовано, раз Караджов в наших руках.
Какое-то время мы продолжаем спорить о характере ошибки, поскольку Борислав не может не возражать, а генерал любит, когда разгорается спор: он вообще убежден, что только в споре рождаются светлые идеи.
– Ну, братцы, вы совсем задымили комнату, – замечает шеф. – Разреши вам курить – и вы не остановитесь, пока не опустеет вся пачка.
Затем, слегка прищурив голубые глаза, словно бы изучая нас задумчивым взглядом, с хитринкой спрашивает:
– Ну, так кого мне послать из вас двоих? Тебя или Борислава?
Никто из нас не клюет на эту приманку. Мы-то знаем: это у генерала любимая фраза. За ней последуют и другие, произносимые обычно одним и тем же тоном:
«Нет, исключается. Вам еще предстоит подлечиться за канцелярскими столами. Что я могу поделать, коль вы меченые».
И вот мы «лечимся». От такого лечения волком завоешь. И если случается, что шеф спросит: «Кого из вас послать?» – мы делаем вид, что лично нас этот вопрос не касается. Пускай себе шутит человек.
Только сегодня он как будто утратил вкус к юмору, потому что я вдруг слышу:
– Предлагаю ехать Боеву.
Борислав с улыбкой посматривает на меня – с улыбкой несколько меланхоличной. Не только оттого, что он остается, но еще и потому, что остается один.
– Нечего шмыгать носом, – бросает ему шеф. – Боев первым возвратился, значит, и уезжать ему положено первым.
Первому уезжать и первому терпеть провал, думаю про себя следующим утром, пока струи холодного душа постепенно возвращают меня из царства сна, младшего брата смерти, в сияние нового дня. Очередное скромное воскресение – как редко мы в состоянии его оценить!
Во время завтрака в ресторане отеля я снова мысленно возвращаюсь к Белеву. Комбинацию с его участием сочли самой простой и удобной. Опытный в таком деле, он должен был следить за Горановым с близкого расстояния и информировать меня, тогда как мне по соображениям дальнего прицела следовало оставаться в тени. Таким образом, в первых эпизодах пьесы действие было связано в основном с риском для Белева. Что бы ни случилось с Белевым, я должен уцелеть, взять на себя риск последующих эпизодов и дойти до финала. Только Белев сгорел раньше, чем я включился в игру, и не успел передать мне эстафету.
В общем, невезение, с которого началась эта история, продолжается и, судя по всем признакам, будет продолжаться и дальше. Впрочем, разве это невезение? Это нечто более неприятное – коварство. Коварство Горанова или кого-то другого, стоящего за ним.
Эти размышления, не имеющие особого практического смысла, не мешают мне заниматься чисто практическими делами, которые человек в силу привычки делает машинально: выбираю ложечкой белок яйца и наблюдаю за обстановкой. В этот ранний час ресторан почти пуст, если не считать немцев – супружеской четы, быть может, пожелавшей отпраздновать здесь, среди осенней сырости Лемана, свою серебряную свадьбу, – да рыжеволосого англичанина, который, подобно мне, ест яйцо всмятку и, вероятно, из-за близорукости, так низко наклонился над столом, словно намеревается опорожнить яичную скорлупу не ложечкой, а крючковатым носом, торчащим у него на лице, словно птичий клюв.
В холле отеля, куда я попадаю несколько минут спустя, кроме дежурного администратора в окошке и женщины, оглашающей помещение сдавленным воем пылесоса, никого нет. На тротуаре безлюдно. Стоящие поблизости машины пустуют. Окинув беглым взглядом свою, прохожу со щемящей тоской мимо и направляюсь по набережной к рю Монблан. Мне навстречу дует ледяной ветер, насыщенный мелкими капельками дождя, однако бывают моменты, когда человеку приходится пренебрегать удобствами во имя гигиены, духовной и физической.
Пренебрежительно оставляю в стороне два моста и сворачиваю лишь на третий – Пон де ля Машин, имеющий то преимущество, что предназначен исключительно для пешеходов и достаточно длинный, так что совсем нетрудно заметить, тащится ли за тобой хвост или ты пока свободен от этого бремени. Хвоста нет, но, может, мне только так кажется, может, за мною следят издали. Поэтому, ступив на рю де Рон, решаю посвятить несколько минут витринам –
сворачиваю сперва в один пассаж, затем в другой, попадаю на небольшую площадь, ныряю в узенькую улочку и наконец выхожу на Гранд-рю, которая тоже довольно узка, несмотря на свое внушительное название. Тесная и крутая, этакий мрачный желоб, ведущий в верхнюю часть старого города.
Знакомый мне дом. Я посетил его несколько лет назад, тоже после провала. Того провала, который стоил жизни моему учителю и другу Любо. Поднимаюсь по темной лестнице на второй этаж, с трудом различаю в полумраке табличку на дверях: «Георг Росс» – и трижды нажимаю на кнопку звонка, один длинный и два коротких.
Внутри слышится топот, наконец дверь открывается, и на пороге замирает пожилой человек в халате, с большой головой, покоящейся на тонкой птичьей шее. Хозяин окидывает меня взглядом, и я убеждаюсь, что он меня узнал. Однако это не мешает ему спросить:
– Что вам угодно?
– Господин Георг Росс?
Старик кивает.
– Мне хотелось узнать, сюда ли переехала фирма
«Вулкан».
– Да. Уже два месяца… Заходите.
Пароль нынче другой, но человек тот же. Он словно законсервировался с годами и останется таким до конца дней своих. Я прохожу по знакомой прихожей и оказываюсь в столь же знакомой гостиной со старинной мебелью –
стиль ее так и остался для меня загадкой – и с огромным зеркалом над камином, сделавшимся от времени зеленым, как застоявшаяся вода.
– Мы можем выпить по чашке кофе, – любезно предлагает хозяин. – Моя прислуга приходит только к десяти.
– Надеюсь, все та же?
– Да, все та же, жива и здорова. Чему тут удивляться, если даже я еще жив.
– Так и должно быть.
– Верно, так и должно быть. Когда жизнь человека теряет всякий смысл, он обычно живет до глубокой старости.
– Зря вы на себя клевещете, – пробую я возразить. –
Разве беспокойство, причиняемое мной, не говорит о некой осмысленности?.
– А, пустяки.
Он небрежно машет рукой и уходит варить кофе, но я останавливаю его:
– Я хотел у вас спросить, не оставил ли господин Чезаре для меня…
– Оставил, – бормочет хозяин. – Только я оставил кофейник на плитке.
На душе у меня становится легче, и даже кажется, что мрачная гостиная делается какой-то светлой, словно в ее окно внезапно заглянуло осеннее солнце.
Кофе принесен, разлит в хрупкие фарфоровые чашки и выпит. Старик снова уходит. Продолжительное время передвигается какая-то мебель, хлопают дверки, и наконец письмо несуществующего Чезаре у меня в руках. Я распечатываю конверт, внимательно читаю послание, затем на всякий случай перечитываю его заново, после чего, чиркнув спичкой, поджигаю листок перед камином, чтобы превратить бумагу в пепел.
Из письма Белева я узнаю следующее:
«Лицо, проживающее под именем Андрея Горанова, то же самое, с каким Цанев встречался в Мюнхене. Я пока не успел установить, кто он в действительности. Но нет никаких следов самого Горанова. В том же доме живет эмигрант по имени Лазарь Пенев, подвизавшийся некоторое время на радиостанции „Свободная Европа“.
Человек, который выдает себя за Горанова, ни с кем не общается – по крайней мере с тех пор, как я за ним наблюдаю. Крайне осторожен, весьма подозрителен, почти не выходит из дому. Если поддерживает с кем-либо связь, то, вероятно, через Пенева, который часто бывает в городе.
Не исключено, что Пенев меня заметил, когда я в прошлый раз был в Мюнхене. Поэтому я все время старался следить за ним издали. Вчера, когда я шел за ним следом, он меня видел, но узнал, нет ли – сказать трудно.
На всякий случай я пока прекращаю за ним наблюдение и оставляю для сведения эту справку».
Пока послание Белева постепенно превращается в пепел, я слышу голос хозяина:
– Могу ли я еще чем-нибудь вам помочь?
– Да. Дайте мне, пожалуйста, листок бумаги и конверт.
Мое письмо еще короче:
«Попытка ликвидировать Б. Он находится в городской больнице в Лозанне. Предлагаю перейти к варианту
„Дельта“.
Запечатав конверт, передаю его господину Россу.
– Буду вам очень обязан, если вы сумеете еще до обеда связаться с братом Чезаре.
– Никак не сумею, – сокрушенно разводит руками старик. – Сегодня не тот день. Только завтра.
Хорошо, что «тот день» – завтра, а не через неделю. Но ничего не поделаешь. Хозяин не радист, а всего лишь скромный почтовый ящик. Скромный и слишком старый почтовый ящик, но все еще приносящий пользу вопреки утверждению, что его жизнь уже лишена всякого смысла.
– Надеюсь, ваши дела складываются не так скверно? –
сочувственно спрашивает хозяин.
Он понятия не имеет о том, что собой представляют «наши дела», не проявляет ни малейшего любопытства, и все же в его взгляде нетрудно уловить тень беспокойства.
Беспокойства не за себя, а за этого неизвестного человека,
за незваного гостя, который забрел в этот тихий дом, чтобы обменяться какими-то загадочными письмами.
– Ничего страшного, – говорю в ответ. – Наши дела редко идут как часы. Даже в этой стране часов.
Наконец я подаю ему руку и спешу избавить его от своего присутствия.
Я снова в этом узком желобе, именуемом Гранд-рю, но, к счастью, теперь я спускаюсь под гору, и пронзительный ветер дует в спину.
Итак, кое-что проясняется – по крайней мере то, что касается вчерашней катастрофы. У тебя не было уверенности, узнал ли он тебя… Теперь ты в этом убедился, хотя и слишком дорогой ценой. Дорогой для тебя, а для дела и подавно.
Двумя годами раньше Белев занимался в Мюнхене изучением некоторых людей, связанных со «Свободной
Европой». Его, разумеется, занимала не столько «Свободная Европа», сколько обратная сторона медали – ЦРУ.
Очевидно, тогда-то он и сталкивался с Пеневым. И, очевидно, Пенев его видел и запомнил.
Выслеживать кого-то, думая, что тебя никто не знает, и вдруг столкнуться с типом, которому ты хорошо известен, – конечно же, чистая случайность, и Белев здесь ни в чем не виноват. Вина его в том, что не держался от Пенева на почтительном расстоянии. Слишком полагался на свой профессиональный опыт и пошел за ним следом. И вот в пути натолкнулся еще на одну случайность, уже трагическую, и Пенев его заметил.
Ну заметил, так что из этого? Пенев, надо полагать, тоже не лыком шит, и было бы вполне логично, если бы он сделал вид, что его никто не интересует, если бы прикинулся дураком и попытался разобраться, кто именно и с какой целью за ним следит. А вместо этого он двумя днями позже совершает покушение на своего преследователя.
Нелепость какая-то. Но может быть, Пенев сам был под наблюдением? Может быть, как раз те, которые держали его под наблюдением, решили по собственному усмотрению убрать неизвестного прилипалу? И как только он попался им на глаза, они тотчас же осуществили свое намерение. Что совсем нетрудно в небольшом городе вроде
Берна, особенно когда речь идет о человеке, которого так и тянет в опасную зону, точнее, к вилле Горанова.
Последняя версия мне представляется крайне неприятной и, к счастью, маловероятной. Во всяком случае, инцидент на шоссе не в ее пользу. Окажись там опытные люди, исполненные решимости убрать Белева, его бы уже не было в живых. Несколько выстрелов или удар французским ключом по темени, и дело с концом. Мизансцена несчастного случая близ Лозанны подсказывает иную ситуацию. Человек в старом «ситроене», вероятно, весь день тащился за Белевым в надежде застукать его в удобном месте. Однако, увидев, что уже стемнело и надеяться больше не на что, незнакомец решил прижать моего друга к бровке и вынудить его к признанию. С этой целью он стал его подсекать. Только Белев не был склонен останавливаться. Словом, завязалась игра, в процессе которой каждый из партнеров полагает, что другой струхнет и обязательно уступит. Но так как ни тот, ни другой не стал уступать, столкновение оказалось неизбежным. И, вероятно, выскочившая из-за поворота машина обладателя косматых бакенбардов нагнала страху на Пенева, потому что он – или кто бы там ни был – предпочел покинуть «ситроен» и исчезнуть во мраке, чтобы не давать показания в участке.
Разумеется, я не могу знать, что именно произошло, и вовсе не воображаю, что мне удалось нащупать истину, прежде чем я попал на рю де Рон. У меня достаточно времени для того, чтобы анализировать случившееся и строить догадки – пока не вступит в действие вариант «Дельта».
Одно могу с уверенностью сказать: мы все же напали на логово зверя. В самом деле, если бы господин Лжегоранов или господин Пенев проводили время исключительно за раскладыванием пасьянса, Белев едва ли стал бы жертвой дорожного происшествия. К крайним мерам даже в мире шпионов прибегают лишь в крайнем случае.
Свернув с рю де Рон, я ныряю в первую попавшуюся телефонную кабину. Набираю номер городской больницы
Лозанны. Голос на другом конце провода мне незнаком.
Называю имя пациента, о здоровье которого я беспокоюсь, после чего слышу:
– Момент…
И через несколько секунд:
– Кто говорит?
Только это уже другой голос, знакомый мне своим полицейским колоритом.
– Это его друг, мосье Робер.
– Вы хотели его видеть? Пожалуйста.
– Благодарю вас. Только сейчас мне сложно. Поэтому…
– Если сейчас вам сложно, то боюсь, что потом вам вообще не удастся его повидать. Он очень плох…
Покинув кабину, я устремляюсь к Пон де ля Машин, на ходу пытаясь разгадать, что это – грубая уловка или мне действительно сообщили печальную весть. С профессиональной точки зрения, сказал бы Любо, это тебя совершенно не касается. С профессиональной точки зрения сейчас тебе, браток, полагается быть подальше от Лозанны и от городской больницы.
Оставив позади мост, иду по набережной, на этот раз в обратном направлении, подталкиваемый ветром. Нечего меня подталкивать, говорю я ему, без тебя обойдемся.
Оплатив гостиницу, сажусь за руль «вольво» и трогаюсь в путь.
Часом позже останавливаюсь на небольшой улочке
Лозанны, покупаю в киоске план города и совершаю по нему соответствующий поиск. Затем пускаюсь в путь пешком по улицам, которые в большинстве своем напоминают женевскую Гранд-рю – если не теснотой, то по крайней мере крутыми подъемами и спусками.
С видом скучающего туриста, томящегося от безделья, прохожу перед зданием городской больницы по противоположному тротуару. Мой взгляд лениво знакомится с двумя рядами окон. Ничего.
Если на эту затею взглянуть с профессиональной точки зрения, то ты, браток, делаешь глупости, размышляю я.
Затем решаю повторить уже содеянную глупость, только на этот раз с тыльной стороны здания. На улице пусто, если не принимать в расчет возвращающихся из школы детей.
Больничный двор обнесен железной решеткой и живой изгородью. Мой взгляд без труда преодолевает эти препятствия и устремляется к окнам. Но вот на втором этаже, в третьем окне слева, мое внимание привлекает забинтованная голова – бинты скрывают почти все лицо, видны только крупный нос и часто мигающие глаза под густыми бровями. Но и этого мне достаточно, чтобы узнать человека.
Бедняга торчит в этом окне бог знает с каких пор, чтобы дать знать, что он жив, на тот случай, если кто-либо испытывает необходимость увидеть его. Он непроизвольно вскидывает руку, давая понять, что тоже узнал меня, но тут же опускает ее. Я тоже вовремя спохватываюсь и шарю в кармане, будто ищу сигареты.
Наконец, опять же с видом скучающего туриста, иду дальше.
2
Если вам выпала судьба жить в Берне и если вы хотели бы успокоить свои нервы или же расстроить их еще больше, лучшего места, чем район по ту сторону Остринга, вам не сыскать.
Вдоль асфальтовых аллей здесь тянутся виллы, очень разные по своим размерам и внешнему виду, что зависит от материального положения их владельцев и от их вкуса: одноэтажные или двухэтажные, ультрамодерные или в стиле доброго старого времени, с обширными верандами или скромными крылечками, окруженные пышными, прекрасно ухоженными садами или только миниатюрными газонами, огражденные подстриженной декоративной зеленью или скромной металлической решеткой.
Маленький частный оазис личного благополучия возведен здесь в культ, и в этом ощущается порыв к изоляции от шума и неврастении современного быта, атавистическое стремление вернуться в лоно природы, но уже облагороженной и заботливо подстриженной ножницами садовника. Встретить на аллеях прохожего почти невозможно, а в какие-то часы дня весь этот район кажется совершенно мертвым, хотя в действительности жизнь его течет в определенном ритме, придерживаясь неписаного, но строгого расписания. Дети ходят в школу, родители спускаются на машинах в город, чтобы к определенному времени вернуться обратно, фургоны торговых фирм в строго определенные часы развозят продукты от дома к дому. Однако на обширной территории населения так немного, что это движение в тени вековых сосен и вечнозеленых кустарников почти незаметно.
Вилла, снятая для меня моим партнером Джованни
Бенато, может быть отнесена к средней категории и вполне подходит для коммерсанта средней руки. Холл с небольшой смежной комнатой, а на втором этаже библиотека и спальня – кухня со служебными помещениями не в счет –
таков мой маленький замок, стоящий в запущенном яблоневом саду, насчитывающем около дюжины деревьев.
По одну сторону со мной соседствует какой-то пожилой рантье с супругой. Сами хозяева ютятся в нижнем этаже, тогда как верхний, чтобы округлить доходы, сдают.
Вначале все шло к тому, что на этом этаже должен был поселиться я, но, пока думали-гадали, он был предоставлен какой-то немке. И тем лучше. Потому что теперь я оказываюсь в непосредственном соседстве с Горановым, проживающим по другую сторону от меня. Подобное соседство, естественно, таит определенные неудобства. Вольно или невольно ты привлекаешь к себе внимание, на тебя начинают смотреть недоверчиво, за тобой устанавливают наблюдение, наводят справки. Поэтому долгое время я вообще воздерживаюсь от всяких действий, способных вызывать малейшее подозрение. Веду такой образ жизни, чтобы окружающие свыклись со мной, пускай считают меня человеком скучным и видят во мне совершенно безобидного соседа.
Вопреки этим неудобствам близкое соседство с Горановым дает мне такие преимущества, каких не может обеспечить квартира рантье, хотя она и богаче. Между моим жилищем и виллой Горанова не более двадцати метров, а ограда, разделяющая нас, слишком низка, чтобы служить препятствием. Имей я соответствующую аппаратуру, я бы мог запросто следить за всем, что происходит напротив. Только в моем положении хранить такую аппаратуру было бы непростительной глупостью. Надо быть слишком большим оптимистом, чтобы полагать, что мой замок не будет посещаться и тщательно осматриваться в мое отсутствие.
Однако я вовсе не собираюсь утверждать, что действую исключительно голыми руками и не использую никакой техники. С нашей профессией и в нашу эпоху бурного прогресса это означало бы примерно то же, что отправиться на охоту на слонов с рогаткой в руках. То ли по наивности, то ли из лицемерия некоторое время назад тысячи людей подняли шум до небес по поводу какого-то там
Уотергейта, как будто они впервые узнали, что существует практика подслушивания. Мне не позволено проявлять наивность или чрезмерную щепетильность. Я не вправе обижаться, выражать свое возмущение, а главное – совершить провал.
Так что кое-какая техника у меня все же имеется. С
виду она, правда, весьма безобидна, и таскаю я ее в карманах: фотоаппарат в виде зажигалки, рация с небольшим радиусом действия покоится в авторучке, а моя подзорная труба вместилась в колпачок второй авторучки (ничего, что вид у нее такой неказистый, она сильнее любого бинокля), микроскопический прибор для исследования секретных замков, несколько крохотных ампулок разного назначения
– и только. Все это невесомо, не занимает места и при необходимости одним махом может быть незаметно выброшено.
Было бы ошибочно полагать, что здесь я только тем и занимаюсь, что караулю за шторами спальни, всматриваюсь в окна Горанова, хотя и такое занятие мне не чуждо.
Еще более неуместно думать, что я вечно дремлю в своем уютном холле или день и ночь сгребаю осеннюю листву в саду. Легенда, в которую я облечен, – это легенда о трудовом человеке, и она должна повседневно и ежечасно подтверждаться.
День начинается с того, что я забираю продукты, оставленные у дверей кухни моими поставщиками, совершаю туалет, готовлю завтрак. Домашние хлопоты мне ни к чему скрывать массивными шторами: ведь я выступаю в роли добропорядочного и скучного человека, у которого все на виду.
Ровно в десять утра я выгоняю на асфальтовую аллею «вольво», закрываю ворота и еду вниз, к центру. Как и полагается добропорядочному и скучному человеку, маршрут у меня всегда один и тот же: Остринг, затем длинная с пологим спуском Тунштрассе, потом Кирхенфельдбрюке, который меня переносит через реку, на Казиноплац, а уже оттуда через Когергассе я попадаю на Беренплац, где расположена моя контора.
В сущности, контора принадлежит Джованни Бенато, но с той поры, как мое предприятие, существующее лишь на бумаге, слилось с его фирмой, агонизировавшей под ударами банкротства, мы дружески сожительствуем в этом чистом и тихом помещении, изолированном двойными окнами от несмолкаемого шума улицы и украшенном для пущей важности картой мира и двумя иллюстрированными календарями – Сабены и САС.
Не из суетного желания самовосхваления, а справедливости ради я должен отметить, что если фирма Бенато –
импорт и экспорт продовольственных товаров – все еще существует, то этим в какой-то степени она обязана вашему покорному слуге, поскольку разными путями мне удается время от времени обеспечивать скромные сделки. Доходы фирмы невелики, так что мой партнер не видит смысла тратиться на секретаршу и сам ведет переписку, а так как этой переписки не так уж много, то наше рабочее время проходит в разговорах на свободные темы. Вернее, на тему о катастрофах. О катастрофах любых размеров, видов и оттенков.
Это тематическое своеобразие могло бы показаться странным лишь тому, кто недостаточно знаком с Джованни
Бенато. Этот человек принадлежит к категории людей, которых на каждом шагу постигают неудачи: если рядом стоит ваза, он непременно ее опрокинет, если ему подали суп, он ухитрится утопить в ней свой очки, если надо пересечь улицу, он обязательно пойдет на красный свет и нарушит движение.
Однако мой партнер относится с полным пренебрежением к опасностям, грозящим ему непосредственно, и все его мысли устремлены к глобальным катастрофам прошлого и будущего.
– Если вы вспомните, как была уничтожена Атлантида, – говорит он, постукивая по столу своими короткими толстыми пальцами, – вам станет ясно, что и наша цивилизация может запросто погибнуть.
Я вынужден признаться, что мои воспоминания не восходят к эпохе Атлантиды.
– Мои тоже, – кивает Бенато. – Но для науки этот вопрос уже ясен. Представьте себе огромный метеорит или, если угодно, маленькую планету километров шести в диаметре и весом до двух миллиардов тонн. Колоссально, не правда ли?
Джованни свойственна такая особенность: беседуя, он постоянно обращается к вам с подобными вопросами. Разумеется, ваше мнение его особенно не интересует, это, скорее, его ораторский прием, рассчитанный на то, чтобы держать вас в постоянном напряжении. Пока длится разговор, протекающий в форме монолога.
Итак, чтобы обеспечить зеленую улицу его монологу, мне ничего не остается, кроме как подтвердить, что двести миллиардов тонн – действительно колоссально.
– Ну, этот гигантский метеорит с фантастической скоростью устремляется к Земле и – шарах во Флоридский залив! Хорошо еще, что туда: ведь упади он здесь, сейчас в
Швейцарии на месте этих вот Альп зияла бы пропасть.
Какой ужас, а?
– А по-моему, ничего ужасного в этом нет, – пробую я возразить. – Швейцарцы – народ настолько ловкий, что и с помощью пропасти сумеют обирать туристов.
– Запросто, запросто, – кивает Бенато. – Но дело не в одной пропасти. Я имею в виду ужасающее сотрясение.
Впрочем, сотрясение – не то слово. Тысяча атомных взрывов!. Могут сместиться полюса, и целый континент окажется под водой. Вы представляете?
– Пытаюсь.
Чтобы дать дополнительную пищу моему воображению, Бенато снабжает меня еще несколькими подробностями гибели Атлантиды, сопроводив их обычными «каково?», «вы представляете?». Затем накликает на грешную
Землю новые беды. К примеру, зловещие изменения климата. По мнению известных ученых, скоро неизбежно скажутся их последствия: новый потоп, а затем – новый ледниковый период. Или демографический взрыв, сулящий нам еще более страшные испытания: поначалу пищей будут служить корни растений, потом мы начнем поедать себе подобных (воображаете?). Или демонические силы, дремлющие под земной корой: пока мы с вами сидим вот тут, на Беренплац, где-то внизу, у нас под ногами, клокочет огненная лава, от одной мысли об этом в жар бросает (а раз уж клокочет, того и гляди пойдет через край). Или новая вспышка кошмарных средневековых эпидемий, от которых миллионы людей мрут как мухи (вы только подумайте!).
Особый раздел в репертуаре Джованни Бенато составляют катаклизмы военно-политического характера: китайское нашествие, ядерная катастрофа, гибель человечества от бактериологического оружия, а то и от химического. Это его самые любимые темы – вероятно, потому, что о них у него самая обильная информация. Однако при всей любви Бенато к военной тематике она не в состоянии вытеснить из его программы третий, и последний раздел, наполняющий его душу почти лирическим чувством: сюжеты научной фантастики, которую мой собеседник, конечно, воспринимает как живую реальность. Тут преобладают такие мотивы, как нашествия с других планет, мифическое чудовище, обитающее в шотландском озере
Лох-Несс, исполинская белая акула, умопомрачительный снежный человек, летающие тарелки и не помню что еще.
Какого накала ни достигал бы разговор-монолог, Бенато не забывает посматривать время от времени на ручные часы и ни за что не упустит случая оповестить в нужный момент:
– Дорогой друг, уже двенадцать. Что вы скажете, если мы махнем куда-нибудь и маленько подкрепимся, пока несчастная вселенная не рухнула на наши бедные головы?
Первый раз я по неопытности принял его предложение с энтузиазмом, не подозревая, что эта авантюра связана с немалым риском. А теперь соглашаюсь поневоле, поскольку это уже стало традицией или просто вошло в привычку.
Говоря о риске, я не имею в виду вероятность того, что мне придется платить по счету (что толковать о риске, раз это железная неизбежность?). К тому же я не настолько мелочный, чтобы сетовать на недюжинный аппетит своего партнера. Дело в том, что, как уже упоминалось, Бенато всегда очень неловок, и передвигаться с ним по белу свету весьма непросто.
Итальянцу очень мешает близорукость, но в какой-то мере спасают очки в толстой роговой оправе. Однако от рассеянности очки еще не придумали, и он то и дело сталкивается с прохожими, натыкается на идущих впереди или берет под руку незнакомца, полагая, что это я, его компаньон. Шагая по улице, Бенато, вероятно, вызывал бы немало ругани, да и пощечину мог бы запросто схлопотать, если бы не его детское лицо, с которого не сходит виноватая улыбка, если бы он любезно не бросал налево и направо «извините», «виноват», что, конечно, обезоруживает потерпевших.
Как-то раз, когда он вдруг обнаружил, что у него нет сигарет, и метнулся к табачной лавчонке, я еле успел его остановить – он мог проникнуть в магазин прямо сквозь витрину. В другой раз, видимо толкаемый голодом, он чуть не повторил этот номер, только уже с ресторанной витриной, гораздо толще и больших размеров.
– Такой витрины мне еще не случалось вышибать, –
признался Бенато после того, как я вовремя его удержал. –
С другими, поменьше, имел дело, но с такой громадной –
никогда.
Как знать, может, он в душе даже упрекал меня за то, что я помешал ему поставить своеобразный рекорд в высаживании витрин лысой головой.
Не лучше вел себя Бенато и в ресторане, так что из предосторожности мы забирались в угол, где обслуживал
Феличе, безропотно переносивший странности своего соотечественника.
– Ну, дорогой, что ты нам сегодня предложишь? –
дружески спрашивал Джованни, раскрывая меню. При этом он непринужденно вытягивал под столом ноги, безошибочно точно попадая носками ботинок в мои штанины.
– У нас сегодня великолепная копченая семга, – охотно начал кельнер, готовый из служебного усердия предложить самое дорогое.
– Копченая семга… это действительно идея, – бормотал
Бенато, пробуя высвободить ноги, запутавшиеся в чем-то там, внизу. – Меня интересует, что ты нам предложишь после семги.
Наконец в ходе продолжительного собеседования блюда и полагающиеся к ним напитки избираются, и Феличе уходит в сторону кухни.
– Какие чудесные цветы! – восклицает Бенато, протягивая руку к хрустальной вазочке с крупными гвоздиками.
В подобных случаях я инстинктивно сжимаюсь, хотя вазочка и не всегда опрокидывается. Бывает так, что она остается на месте. Мой партнер вытаскивает из воды гвоздику, осторожно нюхает ее и добавляет:
– Но в этом мире, дорогой друг, даже красота нередко бывает обманчива. Вы, наверное, слышали о тех страшных орхидеях, чей аромат действует как смертоносный яд…
Отравляющие вещества, создаваемые природой и в лабораториях, также одна из любимых тем Бенато, и он какое-то время не расстается с нею, чтобы заглушить приступы голода. Наконец Феличе приносит рыбу, и
Джованни принимается за дело. Он аппетитно жует, пока его недреманное око не обнаруживает какой-то непорядок.
– Феличе, скажи на милость, откуда такая мода – подавать копченую рыбу с гвоздикой?
– Подозреваю, что вы сами положили гвоздику себе в тарелку, – попробовал возразить кельнер.
– Подозреваешь… Но ты в этом не уверен… Ну ладно, оставим этот вопрос открытым, – великодушно машет рукой Бенато и опрокидывает свой бокал.
С этого момента вплоть до окончания обеда он то роняет вилку или нож, то разбивает фужер, так что Феличе должен непрестанно караулить у нашего стола, готовый в любую минуту принести новый прибор. Особый риск для окружающих таит второе – обычно это бифштекс или отбивная котлета, требующие применения ножа. Мой компаньон действует им так решительно, что отрезанный кусочек плюхается либо на скатерть, либо прямо вам на костюм. Бывают моменты, когда из тарелки вылетает не отрезанный ломтик, а целая котлета, – однажды в подобном случае котлета шлепнулась на колено сидевшей за соседним столом дамы. Хорошо, что та заранее прикрылась салфеткой.
– Даже не подозревал, что я такой снайпер, – прошептал мне Бенато, когда инцидент был исчерпан. – Вы заметили? Прямо ей в салфетку угодила проклятая, на платье не попало ни капельки.
Случается, что страдают не только окружающие, но и сам Бенато: как-то, увлекшись разговором о неизбежном приближении какой-то кометы, он сокрушенно поставил локти в тарелку с миланским соусом.
Ну, а курьезы с сигаретой – дело привычное. Мой партнер кладет ее, где ему заблагорассудится, и вспоминает о ней обычно лишь тогда, когда начинает распространяться сильный запах гари.
– По-моему, что-то горит, – бормочет Бенато.
– Скатерть, прямо перед вами…
– А, ну леший с ней. Я уж было подумал, что прожег собственные штаны.
Однажды я нерешительно заметил ему:
– Когда-нибудь вы со своими сигаретами устроите пожар у себя дома.
– Дважды горел, – небрежно ответил Бенато. – Ерунда.
Если застрахован, бояться нечего. Я никогда не забываю застраховаться.
Отобедав и расплатившись, мы снова направляемся к конторе. Впрочем, Бенато сопровождает меня лишь до ближайшего угла, а затем сообщает, что у него назначена деловая встреча. Судя по его сонному виду, встреча будет с мягкой постелью, в которой ему не терпится потонуть, забыться и хоть ненадолго избавиться от гнетущих мыслей о мировой катастрофе.
Так что я возвращаюсь в контору один и два часа посвящаю прессе и международным событиям. Затем выхожу, чтобы пройтись по главной улице, благо она от нашей фирмы в двух шагах. Здесь все в двух шагах от главной улицы: парламент, музей, собор, банки, вокзал, казино, театр. Решительно все, в том числе и место, откуда я раз в неделю связываюсь со своим человеком – просто так, даю о себе знать, ничего, дескать, особенного. Потому что вариант «Дельта» уже приведен в действие, хотя и работает пока на холостом ходу.
Главная улица, которая зовется то ли Крамгассе, то ли
Марктгассе, то ли как-то иначе, изобилует многими историческими достопримечательностями, начиная с часовой башни Цитглюкке и кончая многочисленными старинными водяными колонками, украшенными скульптурой эпохи
Ренессанса. Однако мой взгляд, неизвестно почему, особенно не задерживается на этих памятниках старины, для меня гораздо важнее вещи более банального свойства –
пассажи, ведущие к прилегающим улицам, некоторые заведения, имеющие по два выхода, равно как и магазины –
«Леб», «Контис», «Глобус» и тому подобные, полезные не только изобилием товаров, но и рядом ценных удобств.
Исследование этих объектов, разумеется, чисто профессиональная привычка, и по мне – так лучше бы они никогда не пригодились. Насколько легко здесь ускользнуть от возможного преследователя, настолько же просто столкнуться с ним пять минут спустя где-то рядом. И все потому, что в этом городе все находится в двух шагах от главной улицы.
Впрочем, город не так уж мал. Он широко простирается по обе стороны реки Ааре, которую можно было бы сравнить с извивающейся змеей, если бы это сравнение не звучало несколько обидно для такой чистой сине-зеленой реки. Но дальние тихие кварталы с широкими улицами и жилыми домами, предприятия и парки меня не занимают. В
каком-то отношении они менее удобны, нежели теснота центра. А центр – это именно то место в излучине Ааре, где, как в подмышке, зажаты многочисленные магазины, где вечно толпится народ, где все находится в двух шагах от главной улицы.
Под вечер я возвращаюсь к своему «вольво», стоящему возле Беренплац, сажусь за руль и еду обратно на Остринг.
День кончился, но скука продолжается. Только вот добропорядочный гражданин вроде Пьера Лорана не имеет права скучать. Скука – достояние более утонченных натур, тех, кто вечно мечтает о чем-то ином, о чем-то таком, что…
словом, тех, кому снятся миражи и у кого ветер в голове. А
у такого положительного человека, как Пьер Лоран, нет решительно ничего общего с подобными субъектами. Он возвращается домой в один и тот же час, паркует в точно установленном месте свою машину и занимается строго предусмотренным делом – приготовлением ужина.
Готовка длится недолго, так как основным и почти единственным блюдом на ужин является яичница с ветчиной, затем я сажусь за кухонный стол и методично занимаюсь насущным действом – поглощением пищи, ничуть не заботясь о том, что мои занавески все еще открыты
– любой и каждый может убедиться, что добропорядочный человек Пьер Лоран уже вернулся домой и, как приличествует добропорядочному человеку, спешит поесть, прежде чем начнется многосерийный телебоевик «Черное досье».
Затем, как вы уже догадываетесь, мои занятия перемещаются в холл, где можно подремать какое-то время, вытянувшись в кресле перед голубым экраном. Владелец виллы постарался обставить холл довольно элегантно, здесь все выдержано в зеленых тонах: шелковые обои, бархатные кресла, большой ковер, даже абажуры настольных ламп и те зеленые. Зелень преобладает и на висящих по стенам гравюрах, которые представляют собой пасторальные или галантные сцены с малой толикой женской наготы и обилием растительности.
Иногда, после того как очередная серия «Черного досье» уступает место очередной беседе об экономическом кризисе, я покидаю холл и лениво поднимаюсь наверх, в библиотеку. Здесь шторы уже спущены, и это вполне естественно – не заниматься же чтением на виду у всех. Увы, я не испытываю ни малейшего желания читать, тем более что книги, расставленные на полках, имеют чисто декоративное назначение – их массивные кожаные переплеты должны придавать обстановке старинный и ученый вид.
Как мне удалось установить после беглого осмотра, это в основном сочинения на латыни, учебники да справочники прошлого века по садоводству. И поскольку у меня нет намерения погружаться в справочную литературу по садоводству, а шторы, как уже было сказано, спущены, я позволяю себе покинуть библиотеку, проникнуть в темный интерьер спальни и сквозь щелочку между занавесками устремить взгляд на соседнюю виллу.
Обычно в этот час освещены лишь два широких окна холла, подернутые молочной дымкой муслиновых штор; а то и с полной отчетливостью раскрывающие внутренность помещения. Обстановка старинная, роскошная, много массивной мебели и хрупкого фарфора. И среди этой роскоши худощавый пожилой мужчина, на которого направлена моя авторучка – подзорная труба.
Землистого цвета лицо, изрезанное мелкими морщинками, имеет болезненный вид. Вообще-то Горанов, как видно, относится к тому типу людей, которые в любой момент готовы отдать богу душу, однако, отмеченные такой готовностью, они способны прожить столько, что за это время успевают переселиться на тот свет все их близкие. Ему наверняка уже перевалило за шестьдесят, но,
несмотря на седину и потускневший взгляд, он едва ли достиг следующего десятка. Рубленые складки образуют на его лице гримасу недовольства или страдания, словно его изводит не очень сильная, но непрекращающаяся зубная боль.
Одетый в поношенный халат вишневого цвета, он обычно читает газету, лежа на диване, или медленно ходит взад-вперед, словно вымеряя длину холла. Когда длина холла его не интересует, он убивает время за картами. Его единственный партнер в этих случаях – Пенев.
Пенев тоже с виду анемичный и болезненный, но до старости ему еще далеко – по уже имеющимся у меня сведениям, вот-вот стукнет сорок. Что касается данных о его лице, длинном и бескровном, то они весьма смутные, так что вы легко могли бы несколькими годками ошибиться в ту или другую сторону. Во всем его облике сказывается что-то острое: в крутом изломе бровей, в носе, вытянутом, словно птичий клюв, в заостренном подбородке, в колючем взгляде маленьких черных глаз. В углу бледных, бескровных губ неизменно торчит сигарета. Незажженная сигарета. Иногда он ее вынимает изо рта и бросает в пепельницу, но вскоре на ее месте появляется новая, тоже незажженная. Видимо, Горанов не разрешает ему курить. А может, врачи не разрешают.
Иногда старик резко оборачивается и глядит в окно, а порой и Пенев следует его примеру, словно за темным окном таится нечто неведомое и нежеланное. Потом игра продолжается. Продолжается обычно до одиннадцати, когда оба бросают карты, а побежденный выкладывает какой-нибудь банкнот. Покидая холл, партнеры гасят свет.
Этим привычный спектакль кончается.
Пустой и досадный спектакль, вполне под стать этому тихому и сонному месту, где при необходимости вы могли бы несколько успокоить свои нервы или расстроить их еще больше. И вполне под стать милому старому Берну, где после восьми часов улицы пустеют, и где единственно возможное приключение состоит в том, что Бенато прольет на ваш костюм миланский соус или прожжет вам рукав своей сигаретой.
Прошло целых две недели, пока однажды утром случилось нечто необычное. У моей двери раздался звонок. Не у черного хода, куда мои поставщики приносят продукты, а у парадного. Открыв, я оказываюсь лицом к лицу с молодой дамой. Не подумайте, что речь идет о самке типа голливудских, чье появление лишает героя рассудка. Дама без особых примет – словом, из тех, кого вы на улице не провожаете взглядом. Средний рост, строгий серый костюм и как будто не слишком интересное лицо, отчасти скрытое за большими очками с дымчатыми стеклами.
– Я пришла по поводу квартиры, – прозаично сообщает посетительница.
– Какой квартиры?
– Той, что вы сдаете.
– Нет у меня такой, – говорю в ответ.
– А объявление?
– Ах да, объявление… Я просто забыл его снять, – оправдываюсь я, вспомнив о визитной карточке над входом в сад, которую давно надо было убрать.
– Может быть, вы все же знаете, где тут поблизости есть свободное жилье? – продолжает дама.
– Нет, к сожалению. Сдавали в соседнем доме, но теперь и там занято.
– Странно… А мне говорили, здесь сколько угодно свободных квартир.
– Понятия не имею… Весьма возможно, – с досадой бубню я, посматривая на часы.
Наконец она кивает мне и направляется к красному «фольксвагену», стоящему у калитки.
Следующее утро тоже начинается необычно. Опять звонок – не с черного хода, а с парадного. Передо мной снова вырастает дама, и я не сразу понимаю, что это вчерашняя посетительница. Пастельно-лилового цвета платье из дорогой шерстяной ткани плотно облегает ее фигуру, выгодно подчеркивая ее силуэт и щедрые формы бюста.
Лицо сегодня уже без дымчатых очков в виде ночной бабочки, сияет в обаятельной улыбке. Улыбаются сочные губы и карие глаза под тенистыми ресницами.
– Опять я по поводу квартиры, – сообщает дама.
– Но я же вам сказал, что у меня нет, – отвечаю, пытаясь выйти из шокового состояния. – Теперь, если вы заметили, и объявления уже нет.
– Верно, заметила, – кивает незнакомка, продолжая озарять меня своей улыбкой, – но, поверьте, я нигде вокруг так и не смогла найти ничего подходящего. Но так как мне стало известно, что вы один… И поскольку я готова довольствоваться одним этажом, а в крайнем случае и одной-единственной комнатой, мне пришло в голову, что…
Я тоже успел кое о чем подумать и даже готов на словах выразить свои мысли – послать нахалку ко всем чертям, но она опережает меня и с той же милой улыбкой добавляет:
– Неужели вы оставите без крова бездомную женщину, да еще в такую холодную и сырую погоду? Уверяю вас, я не пью, не созываю гостей, не пристаю к хозяину – словом, все равно что и вовсе не существую…
Пока длится ее небольшой монолог, мои рассуждения постепенно приобретают иное направление. В конце концов, эта женщина пришла сюда не просто так, а ради чего-то. Это что-то – едва ли я сам, и было бы недурно понять, что же это такое. И потом, подобное соседство может оказаться весьма полезным. Да и комната, смежная с холлом, мне совершенно ни к чему.
– У меня просто сердце разрывается, – тихо говорю я. –
Можно бы уступить вам комнату на нижнем этаже, при условии что холл будет общим. Ничего другого предложить вам не могу.
– В первый же миг я поняла, что вы человек великодушный, – щебечет дама, пока я ввожу ее в дом. – Ничего, что холл будет общим… Теперь у меня сердце разрывается…
– Если бы не телевизор, то можно было бы уступить вам весь этаж, – сухо добавляю я. – Как раз сейчас показывают многосерийный телефильм «Черное досье».
– Но тут просто великолепно! – восклицает незнакомка, проходя в просторный холл, на который я уже частично утратил права. – Вся обстановка зеленых тонов… Мой любимый цвет.
Смежная комната и соседствующая с ней ванная тоже вызывают одобрение. Однако внимание дамы вопреки женской логике привлекает не столько ванная, сколько вид из окна. А вид из окна охватывает в основном виллу Горанова.
– Мне кажется, нам лучше сразу договориться насчет оплаты, – предлагает незнакомка, когда мы возвращаемся в холл.
– Успеется, – возражаю я. – К тому же мне пора на работу. Вот вам ключ от парадной двери. Закажите себе дубликат, а оригинал бросьте в ящик для писем.
Я киваю и ухожу со спокойным видом – дескать, мне, человеку добропорядочному и скучному, ничего не стоит доверить свою квартиру первому встречному, так как скрывать мне нечего.
Под вечер, вынимая ключ из нашего тайника, я чуть не сталкиваюсь у входа с каким-то бесполым существом в шляпе с широкими полями, в толстом свитере крупной вязки и в синих потрепанных джинсах.
«Вот и визиты начались!» – мелькает у меня в голове, только вдруг хиппи кажется мне подозрительно знакомым.
– Вы на маскарад? – спрашиваю я, убедившись, что бесполое существо – не кто иной, как моя женственная квартирантка.
– На художественную дискуссию, – уточняет дама-хиппи.
– А, понимаю. Потому-то вы так художественно вырядились.
– Иначе меня сочтут чужаком. Самое неприятное, если в тебе заподозрят чужака.
Следуя этой истине, незнакомка устраивается в моем доме, как в своем собственном. Держится, правда, без тени нахальства, но до того непосредственно, что остается только удивляться.
Вечером, по возвращении с упомянутой дискуссии, она плюхается в кресло и непринужденно оповещает:
– Ох, умираю с голоду.
– Холодильник к вашим услугам, – говорю я.
– И вы составите мне компанию?
– Почему бы нет? «Черное досье» уже закончилось.
Мы идем на кухню.
Покопавшись в холодильнике, дама-хиппи выбирает именно то, что и я бы выбрал, самое прозаичное и самое существенное: яйца и ломоть ветчины.
– Вы никогда не закрываете занавески? – спрашивает дама, ставя сковороду с маслом на газовую плиту.
– А чего ради я их должен закрывать?
– Неужто вы не общаетесь с представительницами противоположного пола?
– Вы первая. А что касается пола… То вы в этом туалете…
– Чтобы сделаться монахом, мало надеть рясу, господин… Не знаю, как вас величать…
– Мое имя вы могли видеть на дверях.
– Видела, только не знаю, как мне вас звать. Вы как предпочли бы обращаться ко мне?
Вопрос ставит меня в затруднение, хотя, вернувшись с работы, я обнаружил в холле предусмотрительно оставленную на столе ее визитную карточку, на которой значится: «Розмари Дюмон, студентка. Берн». Карточка шикарная, гравированная, к тому же только что отпечатанная, даже краска размазалась, когда я с нажимом провел пальцем по буквам.
– В зависимости от обстоятельств, – отвечаю. – Если вы намерены остаться здесь на продолжительное время, я бы стал звать вас Розмари – думаю, рано или поздно мы все равно к этому придем. А если вы совсем ненадолго…
– В таком случае зовите меня Розмари, дорогой Пьер.
Она выключает газ, несет сковородку на стол и ставит на заранее приготовленную деревянную дощечку. Но, прежде чем сесть, она делает два шага в сторону окна и резким движением задергивает занавеску. Вы, наверно, обратили внимание на то, что в отличие от театра в жизни действие нередко начинается именно после того, как закрывается занавес.
Какое-то время дама-хиппи ест молча, по всей вероятности, она порядком проголодалась. Когда еды заметно поубавилось, она ни с того ни с сего спрашивает:
– Вам нравятся импрессионисты, Пьер?
– Признаться по правде, я их часто путаю, все эти школы: импрессионистов, экспрессионистов…
– Как вы можете путать импрессионизм с экспрессионизмом? – с укором смотрит она на меня.
– Очень просто. Без всякого затруднения.
– Но ведь различие заключено в самих словах!
– О, слова!.. Слова – этикетка, фасад…
Розмари бросает на меня беглый взгляд, затем снова сосредоточивает внимание на своей тарелке.
– В сущности, вы правы, – замечает она после двух-трех движений вилкой. – И в этом случае, как часто бывает, название не выражает явления. И все же вы не станете утверждать, что ничего не слышали о таких художниках, как Моне, Сислей, Ренуар…
– Последнее имя мне действительно что-то напоминает, – признаюсь я. – О каких-то голых женщинах. Рыжих до невозможности и ужасно толстых.
– Понимаю, – кивает Розмари. – Вы не относитесь к категории современных мужчин, для которых характерна широта культурных интересов. Вы принадлежите к другому типу – узких специалистов. А какая именно у вас специальность?
– Совершенно прозаическая: я пытаюсь делать деньги.
– Все пытаются, притом разными способами.
– Мой способ – торговля. Точнее, экспортно-импортные операции. Еще точнее – продукты питания.
Вероятно, в соответствии с вашей классификацией, типу мужчин, к которому вы причисляете меня, отведено место где-то в самом низу. Имеется в виду тип мужчин-эгоистов.
Она отодвигает тарелку, снова окидывает меня испытующим взглядом и говорит:
– «Тип мужчин-эгоистов»? Напрасно вы его так именуете, иного типа просто не бывает.
– Как так не бывает? А филантропы, правдоискатели, наконец, ваши импрессионисты?
– Не бывает, не бывает, – качает она головой, словно упрямый ребенок. – И вы это отлично знаете.
Потом она озирается и задерживает взгляд на пачке
«Кента». Я подаю ей сигареты и подношу зажигалку.
– Сама сущность жизни, – продолжает она, – состоит в присвоении и усвоении, в присвоении и переработке присвоенного: цветок с помощью своих корней грабит и опустошает почву, животное опустошает растительный мир и умерщвляет других животных, ну а человек… человек, еще будучи зародышем, высасывает жизненные соки материнского организма, чтобы потом сосать материнскую грудь, чтобы в дальнейшем присваивать все, что в его силах и возможностях. И если, к примеру, мы с вами еще живы и окружающие пока не растерзали нас на куски, то лишь потому, что силы и возможности, подавляющего большинства людей довольно жалки…
– Если я вас правильно понял, вы считаете, что все крадут?
– А вы только сейчас узнаете об этом? Все, к чему вы ни протянете руку, уже кому-то принадлежит. Следовательно, раз вы берете, вы кого-то грабите. Конечно, общество, то есть сильные, присвоившие право действовать от имени общества, создали сложную систему правил, чтобы предотвратить грабеж и обеспечить себе привилегию грабить других. Законы и мораль лишь регламентируют грабеж, но не отменяют его.
– Скверным вещам учат вас в школе, – роняю я меланхолически.
– Этим вещам учит не школа, а жизнь, – уточняет Розмари, устремляя на меня не только вызывающий взгляд, но и густую струю дыма.
– Какая жизнь? Бедных бездомных студентов?
– Благодаря вам я уже не бездомна. И, пусть это покажется нескромностью, должна добавить, что и на бедность не смею жаловаться. Мой отец накопил немало денег именно по вашему методу – торговлей.
– Чем он торговал?
– Не продовольствием, а часами. Но это деталь.
– Которая не мешает вам видеть в нем вора.
– Не понимаю, почему я должна щадить его, если не щажу остальных? Все воры…
– И вы в том числе?
– Естественно. Раз я живу на его ворованные деньги.
– Логично! – киваю я и смотрю на часы. – Вроде бы пора ложиться спать.
– В самом деле. Я что-то не в меру разболталась.
– Наверное, вы держите под подушкой красную книжечку Мао…
– Допустим. Ну и что? – снова бросает она на меня вызывающий взгляд.
– Ничего, конечно. Дело вкуса. Но раз уж мы заговорили о вкусах, то позвольте заметить: одежда хиппи вам никак не идет. Ваша фигура, Розмари, достойна лучшей участи.
Пожелав ей спокойной ночи, я удаляюсь на верхний этаж. И быть может, это чистая случайность, но больше мне никогда не приходилось видеть Розмари в драных джинсах и мешковатом свитере.
«Не пью, гостей не созываю – словом, все равно что я вовсе не существую…» Должен признать, что, поселившись у меня, Розмари соблюдает все пункты вышеприведенной декларации, кроме одного: она все-таки существует. И вполне отдает себе в этом отчет, да еще старается, чтобы и я не упускал этого из виду. Вернувшись со своих лекций, она так грациозно покачивается на высоких каблуках, очертания ее бедер и бюста так соблазнительны, а глаза – просто грешно прятать такие глаза за стеклами очков – смотрят на меня с такой многообещающей игривостью, что… Как тут усомнишься в ее существовании?
– Скучаете? – спрашивает она, бросив на диван сумочку и перчатки. И, прежде чем я решил, что сказать в ответ, добавляет: – В таком случае давайте поужинаем и поскучаем вместе.
В сущности, с моей квартиранткой особенно не соскучишься. Она постоянно меняет наряды, которые приволокла в трех объемистых чемоданах, и возвращается домой то светски элегантной, словно с дипломатического коктейля, то в спортивном платье с белым воротничком, напоминая балованную маменькину дочку, то в строгом темном костюме, будто персона из делового мира. Постоянно меняется не только ее внешность, но и ее манеры, настроение, характер суждений. Веселая или задумчивая, болтливая или молчаливая, романтически наивная или грубо практичная, сдержанная или агрессивная, притворная или искренняя, хотя заподозрить в ней искренность весьма затруднительно.
Как-то в разговоре я позволил себе заметить:
– Вы как хамелеон, за вами просто не уследишь.
– Надеюсь, вам известно, что такое хамелеон…
– Если не ошибаюсь, какое-то пресмыкающееся.
– Поражаюсь вашей грубости: сравнить меня с пресмыкающимся!
– Я имею в виду только вашу способность постоянно меняться.
– Тогда вы могли бы сравнить меня с каким-нибудь чарующе-переменчивым драгоценным камнем.
– С каким камнем? Я, как вам известно, камнями не торгую.
– Например, с александритом… Говорят, утро у этого камня зеленое, а вечер красный. Или с опалом, вобравшим в себя все цвета радуги. С лунным камнем или с солнечным.
– Уж больно сложно. Совсем как у импрессионистов.
Не лучше ли ограничиться более простым решением: выберите себе какой-нибудь определенный характер и не меняйте его при всех обстоятельствах.
– А какой вы советовали бы мне выбрать?
– Настоящий.
– Настоящий? – Она смотрит на меня задумчиво. – А вы не боитесь ошибиться?
У нее красивое лицо, но, чтобы увидеть, какое оно, это лицо, нужно, улучив момент, поймать его в миг углубленности и раздумья, однако именно тогда оно в чем-то теряет, потому что красота его в непрестанных изменениях
– в целой гамме взглядов, в улыбках, полуулыбках, в ослепительном смехе алых губ, обнажающих красивые белые зубы, в красноречивых изгибах этих губ, в движении бровей, в едва заметных волнах настроения, пробегающих по этому то наивному и непорочному, то иронически холодному или вызывающе чувственному лицу.
Быть может, ей двадцать три года, но, если окажется, что тридцать два, я особенно удивляться не стану. Вообще-то иногда кажется, что ей тридцать два, а иногда –
двадцать три, однако я склоняюсь к гипотезе в пользу третьего десятилетия или – ради галантности – в пользу конца второго. Внешность часто бывает обманчива, а вот манера рассуждать, даже если рассуждения не совсем искренние, говорит о многом.
– Скучаете?
Традиция этого вопроса, задаваемого моей квартиранткой всякий раз, когда она возвращается из города, восходит к первой неделе нашего мирного сосуществования. Но, говоря о нашем мирном сосуществовании, я не хочу, чтобы меня неправильно поняли. Потому что если дама следует правилу «не приставать к хозяину», то я со своей стороны соблюдаю принцип «не задевать квартирантку».
Итак:
– Скучаете?
Этот вопрос был мне задан еще в конце первой недели.
– Нисколько, по крайней мере сейчас, – говорю в ответ. – Только что смотрел «Черное досье».
– О Пьер! Перестаньте наконец паясничать с этим вашим досье. Я вас уже достаточно хорошо знаю, чтобы понять, что телевизор вам служит главным образом для освещения.
– Не надо было говорить, что я ничего не смыслю в импрессионизме, – замечаю я с унылым видом. – Непростительная ошибка. Вы раз и навсегда причислили меня к категории законченных тупиц.
– Вовсе нет. Законченные тупицы не способны скучать.
– Откуда вы взяли, что я скучаю?
– Невольно приходишь к такому заключению. По саду вы не гуляете, в кафе у остановки не ходите, гостей не принимаете, в карты не играете, поваренную книгу не изучаете, гимнастикой по утрам не занимаетесь… Словом, вы не способны окунуться в скучную жизнь этого квартала.
А раз не способны, значит, скучаете.
– Только не в вашем присутствии.
– Благодарю. Но это не ответ.
Потом добавляет, уже иным тоном – она имеет обыкновение неожиданно менять тон:
– А может, секрет именно в том и состоит, чтобы погрузиться в царящую вокруг летаргию? Раз уж плывешь по течению и обречена плыть до конца, разумнее всего расслабиться и не оказывать никакого сопротивления…
– Вот и расслабляйтесь, кто вам мешает, – примирительно соглашаюсь я.
– Кто? – восклицает она опять другим тоном. – Желания, стремления, мысль о том, что я могла бы столько увидеть и столько пережить, вместо того чтобы прозябать в этом глухом квартале среди холмистой бернской провинции.
– Не впадайте в хандру, – советую я. – Люди подыхают от тоски не только в бернской провинции.
– Да, и все из-за того, что свыклись со своим углом и не мыслят иной жизни. Одно и то же – пусть это будет даже индейка с апельсинами, – повтори его раз пять, станет в тягость. А секрет состоит в том, чтобы вовремя отказаться от того, что может стать в тягость, и избрать нечто иное.
Секрет – в переменах, в движении, а не в топтании на месте.
– Послушав вас, можно подумать, что самые счастливые люди на свете шоферы и коммивояжеры.
– Зачем так упрощать?
– А вы не усложняйте. Я полагаю, если стремиться во что бы то ни стало сделать свою жизнь интересней, можно добиться этого где угодно, даже в таком дремотном углу, как этот, – конечно, при условии, что ты не лишен воображения.
– Пожалуй, вы правы! – соглашается она, снова переменив тон. – Пусть наша жизнь будет не такой уж интересной, но хотя бы менее скучной!
Говоря между нами, у меня не создается впечатления, что мою квартирантку одолевает скука. Днем она без устали мечется между Острингом и центром, да и будучи здесь, в этом дачном месте, продолжает сновать от кондитерской на станцию, со станции в магазин или в Поселок
Робинзона – так именуют построенный с выдумкой ультрамодерный комплекс по ту сторону холма, где у Розмари завелись знакомые по университету.
Когда она возвращается домой раньше меня, я частенько застаю ее на аллее беседующей с кем-нибудь из соседей. Обаятельная внешность не единственное преимущество Розмари. Она человек на редкость общительный и приветливый, так что меня особенно не удивляет, когда однажды вечером она спрашивает меня:
– Пьер, вы не возражаете, если мы завтра составим здесь партию в бридж? Надеюсь, с игрой в бридж вы знакомы несколько лучше, нежели с импрессионистами.
– Кто же будет нашими партнерами?
– Наша соседка Флора Зайлер и американец, который живет чуть выше, по ту сторону аллеи, – Ральф Бэнтон.
– Я подозреваю, что вы их уже пригласили.
– Да… то есть… – Она сконфуженно замолкает.
– «Я не пью, гостей не созываю…» – цитирую я ее собственные слова.
– О Пьер!.. Не надо быть таким противным. Приглашая этих людей, я заботилась прежде всего о вас. Думаю, надо же как-то вырвать человека из цепких объятий этого
«Черного досье».
– «Плафон» или «контра»? – лаконично спрашиваю я, чтобы положить конец этим лицемерным излияниям.
– Что вы предпочтете, дорогой, – сговорчиво отвечает
Розмари.
Следующий день – суббота, так что мы оба дома, хотя это не совсем так, потому что с утра моя квартирантка катит на своей красной машине на Остринг и обратно, чтобы доставить деликатесы, необходимые для легкой закуски, а я тем временем забочусь о пополнении напитками нашего домашнего бара, до сих пор существовавшего лишь номинально, для чего мне приходится ехать в город, а едва вернувшись, я снова мчусь туда, чтобы прикупить миндаля и зеленых маслин, так как Розмари считает, что без миндаля и зеленых маслин не обойтись, однако, не успев отдышаться после возвращения, я слышу слова Розмари: «А
играть на чем будем, стола-то нет», на что я не могу не возразить: «Как это нет стола?», после чего следует разъяснение, что имеется в виду не обеденный, а специальный стол, крытый зеленым сукном, к тому же такой стол прекрасно впишется в наш зеленый холл, хотя, по-моему, вполне достаточно зеленых маслин, и в конце концов мне снова приходится мчаться в город, долго бродить по торговому центру, прежде чем удается найти соответствующее игральное сооружение, после чего я возвращаюсь домой как раз вовремя, по крайней мере так говорит Розмари
– она не может не высказать своего удовлетворения по этому поводу, потому что нужно помочь ей приготовить сандвичи.
Точно в шесть у парадной раздается звонок. Это, конечно же, упомянутый Ральф Бэнтон, потому что мужчины
– народ точный. Кроме того, Бэнтон, по данным Розмари, работает юрисконсультом в каком-то банке, а юрисконсульты отличаются исключительной точностью, особенно банковские.
Гость подносит моей квартирантке три орхидеи в целлофановой коробке – надеюсь, не из тех, ядовитых, которых панически боится Бенато, – а меня одаряет любезной, несколько сонной улыбкой, вполне в стиле сонного дачного поселка. Этот черноокий флегматичный красавец, вероятно, уже разменял четвертый десяток, но сорока еще явно не достиг. Разглядеть его более тщательно удается после того, как мы размещаемся в холле, где всю тяжесть разговора об этой несносной погоде и прочих вещах принимает на себя Розмари, а мне остается только глазеть, молча покуривая.
Не знай я об этом заранее, вряд ли бы я счел его янки.
Во всяком случае, у него очень мало общего с тем типом породистого американского самца, который вестерны возвели в образец. Хорошо сложенный, среднего роста, Бэнтон обнаруживает явно выраженную склонность к полноте, обуздывать которую ему, как видно, стоит немалых усилий. Черная грива Бэнтона подстрижена не столь коротко, чтобы противоречить современной моде, но и не столь длинно, чтобы роднить его с хиппи. У него черные брови с каким-то меланхоличным изгибом и черные, исполненные меланхолии глаза – их выражение неуловимо, скрытое где-то в полумраке ресниц. Слегка горбатый нос, нисходящая, чуть надломленная линия которого тоже имеет нечто меланхоличное. Полные губы очерчены на матовом лице весьма отчетливо. А небольшая родинка на округлом подбородке, видимо, создает ему некоторые неудобства во время бритья. Возможно, в его жилах есть одна-две капли мексиканской или пуэрториканской крови.
А может, он принадлежит не к «ковбойскому» типу янки, а к иному – изнеженному и мечтательному; такие в кинофильмах бренчат на гитаре, вместо того чтобы стрелять из кольта.
– Мистер Бэнтон, наш друг Пьер предпочитает играть в «плафон», – слышится голос Розмари, которая от погоды уже перешла к картам. – Вы не против?
– Предпочтение хозяина для меня закон, – с флегматичной улыбкой отвечает американец.
– Тут дело не в предпочтении, а в возможностях, –
спешу я пояснить. – Иначе я бы не стал предлагать вам играть в такую вздорную игру.
– В наше время человеку подчас трудно судить, что вздорно, а что нет, – замечает Бэнтон. – Посмотришь, как одевается нынешняя молодежь, послушаешь, какими она пользуется словами…
Розмари, похоже, готова что-то возразить, но у входа снова слышен звонок. Это, как и следовало ожидать, наша соседка Флора Зайлер, поселившаяся у моих соседей, рантье. При ее появлении Бэнтон слегка вздрагивает, что происходит и со мной, хотя я успел заметить ее издали.
Правда, одно дело увидеть ее издали, и совсем другое – в непосредственной близости.
Флора Зайлер и моя квартирантка примерно одного возраста – точность в этом вопросе вообще вещь относительная, – во всяком случае, моложе она не кажется. Зато ростом гораздо выше Розмари, что же касается объема, то она вполне могла бы вобрать две таких, как Розмари, и глазом не моргнув. Чтобы не впадать в злословие, я спешу пояснить, что фрау Зайлер вовсе не кажется толстухой, страдающей от нарушения обмена веществ, или дюжим мужиком, защищающим спортивную честь своей страны в метании молота. Все у нее пропорционально – если не принимать в расчет бюста и тазовых частей, изваянных природой с некоторой излишней щедростью, но тоже вполне пропорционально при внушительном росте метр восемьдесят. Словом, она принадлежит к разряду тех дородных самок, которые рождают чувство неполноценности у подавляющего большинства мужчин и возбуждают атавистические аппетиты у остальной части.
Немка по-свойски жмет мне руку, затем Бэнтону, и тот с трудом скрывает страдальческое выражение. Мне думается, его состояние объясняется не только богатырским рукопожатием дамы, но и присутствием на пальце американца массивного перстня. Не знаю, приходилось ли вам это замечать, но, когда на пальце у вас кольцо и вам крепко жмут руку, ощущение не из приятных.
Чтобы не чувствовать себя стесненной в кресле, Флора
Зайлер располагает свою импозантную фигуру на диване, а
Розмари подтаскивает поближе сервировочный столик с напитками, наш домашний бар. Несколько минут длится выбор напитков, расстановка бокалов и сложные манипуляции с кубиками льда, которые, как известно, все время норовят выскользнуть из щипцов. Розмари уже готовится произнести скромный вступительный тост, однако немка успевает заткнуть ей рот:
– Не лучше ли прямо приступить к делу? Я заметила, что этот светский ритуал, пустая болтовня, не столько сближает людей, сколько угнетает.
Остальные, кажется, разделяют ее мнение, потому что все мы как по команде берем в руки бокалы и рассаживаемся за зеленым столом, так удачно дополняющим интерьер холла. По жребию первую партию я должен играть с
Розмари против Флоры и Ральфа, чем я очень доволен, потому что если уж ссориться, то лучше с близким человеком.
Играть в бридж я научился из чисто профессиональных соображений и довольно давно, в пору моих многочисленных перевоплощений, когда я так же, как отец Розмари, занимался часовым промыслом. Правда, с той поры, поры моей молодости, уже много воды утекло, так что поначалу я воздерживаюсь от не в меру громких анонсов, давая возможность моей квартирантке держать инициативу в своих руках, что очень льстит ее деятельной и амбициозной натуре – хлебом не корми, только бы ей делать заходы.
– Пьер, вы на меня не сердитесь, за мою промашку?. –
мило спрашивает Розмари, после того как проваливает игру, которая явно сулила удачу.
– Нисколько, дорогая. Я даже подозреваю, что вы это сделали исключительно ради того, чтобы поднять мое настроение. Когда другой опростоволосится, начинаешь ходить петухом.
В сущности, она играет очень неплохо, правда, имеет склонность к авантюризму, который в бридже дорого обходится, особенно когда имеешь дело с такими беспощадными партнерами, как Флора и Ральф. Они с головой уходят в карты и, очевидно, понимают друг друга без слов
– я хочу сказать – в игре, потому что о другом пока рано судить, – а к словам прибегают лишь для того, чтобы сделать анонс.
Роббер, как и следовало ожидать, кончается для нас катастрофой, и Розмари снова спрашивает, не сержусь ли я на нее, а я снова горячо отвергаю ничем не оправданное подозрение. Мы меняемся местами, и на этот раз я оказываюсь напротив американца, а уж если двое мужчин ополчаются против двух женщин, добром это, естественно, не кончается, так что после второго роббера мой проигрыш удваивается, и Флора, моя очередная напарница, несмотря на свою молодость, по-матерински утешает меня:
– Вы должны рассчитывать только на свою партнершу, мой мальчик, иначе не сносить вам головы.
Я говорю, что рассчитываю исключительно на нее, и она, будучи в прекрасном расположении духа, воспринимает мои слова как нечто само собою разумеющееся.
Кстати сказать, немка нисколько не стесняется своих внушительных габаритов и держится так естественно, словно считает, что именно она являет собой олицетворение истинной самки и что не ее вина в том, что вокруг копошатся всякие пигалицы вроде Розмари. Она не выпячивает свои щедрые формы, но и прятать их тоже не намерена, тем более что это просто невозможно – не появляться же ей перед людьми в фанерной упаковке. Одета она без претензий, на ней юбка, блузка и кофта, небрежно накинутая на плечи, чтобы не стесняла пышную грудь. Эти вещички она приобретает только в самом модном ателье и, конечно же, по заказу. При таких размерах…
Рассчитывая на Флору, я зорко слежу за ее красноречивым взглядом и довольствуюсь лишь тем, что время от времени сдержанно анонсирую. Переговариваться взглядами не очень-то прилично для порядочных игроков, однако наши женщины сделали этот стиль нормой – Розмари тоже не упускает случая вперить взгляд своих карих глаз в глаза американца.
Флора достаточно разумно использует преимущества своих ног, а также авантюристические проделки моей квартирантки, от которых та не может отрешиться, так что под конец ей и в самом деле удается удержать меня над пропастью. Затем мы решаем немного подкрепиться.
К нашим услугам «холодный буфет», как выражается
Розмари. Каждый кладет себе на тарелку что-нибудь из деликатесов, грудой лежащих на краю стола, и устраивается в кресле рядом с передвижным баром.
Один только Бэнтон ест возле бара стоя. Я подозреваю, что он боится слишком измять свой костюм, а может, не желает стеснять немку, расположившуюся на диване. Одет он безупречно, может быть, даже чуть более безупречно, чем приличествует светскому человеку. Я хочу сказать, что ему недостает той едва заметной небрежности, которая отличает светского человека от витринного манекена.
Впрочем, для юрисконсульта светские манеры не так уж обязательны.
– На этот раз вы сплоховали, Ральф, – произносит
Розмари. – Вместо того чтоб меня поддержать, вы объявляете пас.
– Эта поддержка обошлась бы вам очень дорого, – отзывается Флора, обращая на меня заговорщический взгляд
– дескать, какая наивность.
– Да, но вы бы не выиграли всю партию. И если так случилось, то этим вы обязаны Ральфу.
– Очаровательная соседушка, – обращается к ней американец с нескрываемой апатией, из которой явствует, что он ни во что не ставит ее очарование. – Бывают минуты, когда щадишь противника, чтобы пощадить самого себя.
– Не понимаю вашей логики, – упорствует Розмари. –
Нельзя же в одно и то же время щадить и себя и своего противника, если интересы у вас разные.
– И все же в определенные моменты такая логика единственно приемлема, – невозмутимо настаивает Бэнтон.
– Так же, как элементарный расчет, – добавляет немка, снова заговорщически на меня поглядывая. – Две тысячи тоже кое-что значат.
Вероятно, без злого умысла она скрестила передо мною свои импозантные ноги, и я прихожу к мысли, что щедрая плоть этой женщины несколько не согласуется с ее лицом, если иметь в виду нашу привычку ассоциировать крупные формы с добродушным характером человека. Быть может, эта привычка связана с нашими ранними воспоминаниями о матери, которая в глазах ребенка всегда кажется очень большой, и лишь немногие из нас имеют возможность впоследствии убедиться, что не всякая рослая женщина переполнена материнской добротой. Так или иначе, лицо
Флоры подошло бы даме куда более грациозной, этакой кобре, бытующей в представлении иных людей как женщина-вамп. Высокие дуги бровей, миндалевидные переменчивые глаза, выступающие скулы и довольно крупный рот, все это в обрамлении роскошных темно-каштановых волос – с таким лицом можно при желании пробиться на большой экран или хотя бы сниматься в рекламных короткометражках косметических фирм. Только мне кажется,
что Флора вовсе не из тех женщин, которые склонны довольствоваться убогим доходом от подобных аттракционов. Особенно странные у нее глаза – неуловимые, изменчивые, то голубые, то сине-зеленые, то серые. Я думаю, тут сказывается свет настольных ламп, а также отражение зеленых обоев. Интересно, как обозначены эти глаза в ее паспорте.
А между тем разговор на картежную тему продолжается, хотя и без моего участия, присутствующие давно называют друг друга по имени, и это наводит меня на банальную мысль, что ничто так не сближает людей, как мелкие пороки, и что в иных случаях игра в карты или хорошая попойка могут сделать больше в этом отношении, чем два года знакомства.
– У вас, Ральф, вроде бы отсутствует жажда обогащения, – комментирует Розмари.
– Эта жажда в избытке присутствует у нас у всех, –
спокойно отвечает американец.
– Нет, не у всех, – возражает Флора. – У меня создается впечатление, что наш хозяин принимает участие в игре, лишь бы составить нам компанию.
– Вероятно, он мечтает о прибылях покрупней, – бросает Бэнтон.
– Разумеется, – киваю я. – Что вовсе не означает, будто более скромный доход мне ни к чему.
Еще несколько таких же пустых фраз, служащих гарниром к нашему «холодному буфету», и мы снова садимся вокруг зеленого стола, чтобы начать второй кон. Заканчивается игра довольно скверно для Розмари, а для меня и вовсе катастрофически, несмотря на самоотверженные попытки Флоры избавить своего партнера от поражения.
– Весьма сожалею, что вам так досталось, – бормочет немка после того, как с расчетами уже покончено. – Беда в том, что мне не всегда удается соразмерить свои удары.
– Не стоит извиняться. Я доволен, что вы испытали пусть небольшое, но удовольствие.
– Вы вправе рассчитывать на реванш, и я предлагаю дать его у меня, – заявляет на прощание Бэнтон.
– Мы не упустим возможности воспользоваться вашим приглашением, – грозится Розмари.
После этого мне приходится коснуться бархатной руки американца и стерпеть энергичное рукопожатие немки.
– Вы просто невозможны, Пьер! – заявляет моя квартирантка, когда мы остаемся одни.
– Скверно играл?
– Нет. Это я скверно играла. Но вы какой-то совершенно бесчувственный. С моими страстями я даже начинаю обнаруживать комплекс неполноценности.
– Вы такая пламенная натура?
– Я имею в виду игру.
– Ну, если дело только в игре…
Быть может, она чего-то ждет. Или, может, я сам чего-то жду. Или мы оба ждем. Но, как это порой случается, если оба чего-то ждут, ничего не происходит. Так что спустя некоторое время я слышу собственные слова:
– Ральф тоже не кажется чрезмерно экспансивным.
– В тихом омуте черти водятся, – говорит в ответ Розмари.
И удаляется в свою спальню.
Воскресный день проходит в молчании – каждый сидит у себя в комнате, и лишь к обеду мы собираемся вместе, чтобы покончить с обильными остатками «холодного буфета». Спустившись под вечер в холл, я застаю свою квартирантку возлежащей на диване с какой-то книгой, в которой много иллюстраций – если судить по крупным цветным пятнам, заменяющим изображения, это, должно быть, репродукции полотен импрессионистов.
– Кончилось «Черное досье», – предупреждает Розмари. – Последний эпизод прокрутили вчера вечером как раз в тот момент, когда Флора вытрясала из вас последние франки.
– Выходит, одно напряжение я заменил другим, – философски замечаю в ответ. И, вытянувшись по привычке в кресле перед выключенным телевизором, добавляю: – Но вы, похоже, привыкаете к здешней летаргии. Лежите весь день, разглядываете картинки…
– Не разглядываю картинки, а занимаюсь самообразованием, – поправляет меня Розмари. – Неужели вы не видите разницы между человеком, принимающим пищу, и другим, жующим жвачку? Здешние жители не едят, а жуют жвачку, не используют время, а убивают его.
Мысль о времени переносит ее взгляд к окну, за которым в сумраке кружат голубоватые хлопья первого снега.
– Какая погода! И как назло завтра утром мне ехать в
Женеву. И как назло у моей машины забарахлил мотор.
– А что за необходимость ехать в Женеву именно завтра?
– Вызывает отец.
– Поезжайте поездом…
– А я надеялась услышать: «Я вас отвезу».
– Дорогая Розмари, может быть, неосторожно с моей стороны подобным образом выказывать вам свою слабость, но для вас я готов даже на эту жертву.
– Браво, Пьер, вы делаете успехи! – взбодрилась она – Я
хочу сказать: в лицемерии.
– Какая неблагодарность!
– Держу пари, что и у вас какие-то дела в Женеве.
От этой женщины ничего не скроешь. Кроме характера дел. Который, честно говоря, пока не совсем ясен мне самому.
К утру от снега не осталось ничего, только не совсем просох асфальт. Так что мы отправились в дорогу в моем «вольво» и к одиннадцати уже были в Женеве.
– Где прикажете вас оставить? – спрашиваю, пока мы медленно спускаемся с рю Монблан к озеру.
– В «Ротонде», пожалуйста. Я должна там встретиться с одной приятельницей.
Выполняю приказание, затем сворачиваю вправо и паркуюсь в первом попавшемся переулке. Иду пешком обратно, вхожу во двор столь дорогого моему сердцу отеля
«Де ля пе», а оттуда проникаю в пассаж, ведущий на рю
Монблан. Теперь витрина «Ротонды» как раз в поле зрения.
В заведении достаточно светло, чтобы вполне отчетливо видеть Розмари, сидящую за столиком в углу. Приятельницы пока нет и в помине.
Пять минут спустя женщина расплачивается, надевает пальто, выходит на улицу и, торопливо озираясь, идет к набережной. Я тоже выхожу, только в обратную сторону, чтобы между мною и моей квартиранткой образовалась необходимая дистанция. Меня очень забавляет, когда я вижу, как она повторяет в общих чертах маневры, к которым я сам прибегал чуть больше месяца тому назад. Она оставляет в стороне два моста, чтобы пойти по третьему, предназначенному для пешеходов, и удостовериться, что за нею не тянется хвост. Но кого Розмари имеет в виду? Меня? Маловероятно. Если она так меня боится, зачем ей было со мной ехать? Впрочем, она могла поехать именно для того, чтобы показать, что бояться ей нечего.
В сущности, это и есть то самое дело, которым мне предстоит заняться в Женеве и которое мне самому пока не вполне ясно. И побудила меня заняться этим делом сама
Розмари. С первых же дней нашего сожительства – вроде уже говорилось, что не следует искать двух смыслов в этом слове, – я сумел установить, что эта дама трижды заботливо перерыла мои вещи. Заботливо в том смысле, что все было с предельной точностью положено на прежнее место, все до последней мелочи. Имей она дело со случайным человеком, может, от подобного педантизма был бы толк, но с профессионалом – никогда. Профессионал умеет использовать самые разнообразные и подчас совершенно невидимые приметы, чтобы доподлинно установить, прикасались к определенным вещам или нет.
Впоследствии эти своеобразные обыски действительно прекратились, и оставалось решить, почему: то ли моя квартирантка пришла к убеждению, что я заслуживаю большего доверия, то ли сделала вывод, что я достаточно хитер, чтобы предоставлять в ее распоряжение компрометирующий материал? Так или иначе, эти ее обыски и бесконечное шастанье по дачному поселку вынудили меня временно бросить на произвол судьбы несчастного Бенато и заняться Розмари.
Оказавшись на рю де Рон, она ныряет в универсальный магазин «Гран-пассаж», чем обрекает меня на суровые испытания. «Гран-пассаж» – громадный четырехэтажный лабиринт с четырьмя выходами, а так как я нахожусь на почтительном расстоянии от него, то можно не сомневаться, что, пока я войду, Розмари потонет в толпе покупателей. Мало того, она может оказаться на верхнем этаже и без труда засечь меня у входа. Словом, ничего удивительного, если в этой толпе и при таком обилии зеркал в магазине мы поменяемся ролями – вместо того чтобы следить, я сам окажусь объектом слежки.
Раз уж дело принимает такой оборот, я решаю довериться не ногам своим, а разуму. Разум подсказывает мне вести наблюдение с Пляс дю Лак, и не только потому, что один из выходов магазина ведет на эту площадь, но и потому, что в случае появления Розмари у одного из двух других выходов я отсюда смогу ее засечь Может, конечно, случиться, что она воспользуется четвертым выходом, но мои шансы не так уж малы – три к одному.
Появляется она на Пляс дю Лак только двадцать минут спустя, когда у меня нет почти никакого сомнения, что я ее упустил. Шмыгнув в обувной магазин на углу и выждав, пока она пройдет мимо витрины, я, пользуясь обычным в эту пору наплывом прохожих, иду за нею следом. Мне полагалось бы благодарить ее за то, что она не стала продолжать игру в прятки. Пройдя до угла, Розмари круто сворачивает в сторону и, быстро оглядевшись, покидает главную улицу. Ускорив шаг, я успеваю увидеть ее в тот момент, когда она входит в четвертый по порядку дом –
весьма современное строение в пять этажей.
Точка! – говорю себе, подавляя инстинктивный порыв кинуться к дому и по свету, зажигающемуся на лестничных площадках, установить хотя бы этаж, на который она поднимется. Если Розмари действительно опасается, что за нею тащится хвост, она в эту минуту затаилась на лестничной площадке и ждет, чтобы установить, появится кто-нибудь или нет.
Выждав несколько минут, я прохожу метров двадцать вперед и ныряю в кафе напротив; устраиваюсь в углу возле витрины, чтобы, оставаясь невидимым, можно было побольше видеть. Особого риска тут нет. Если даже Розмари придет в голову заглянуть в это заведение, я вовремя ее замечу и без труда смогу улизнуть через служебный вход.
Немногочисленные посетители беседуют, просматривают утренние газеты. Мигом снабдив меня чашкой кофе, официант обменивается со мной несколькими словами о погоде, в частности о вчерашнем снеге, который, по его мнению, определенно говорит о начале зимы, а зима, по всей видимости, должна быть в этом году очень холодной, и так далее. Я согласно киваю, дополняю его прогнозы кое-какими своими, заимствованными, впрочем, из телевизионных передач, потому что в телепередачах всего мира о погоде толкуют так много и так часто, будто от того, облачно будет завтра или нет, зависит судьба человечества.
Выпив кофе, я заказываю бутылку «эвиан», выкуриваю одну за другой три сигареты, обмениваюсь с официантом еще несколькими словами, на сей раз выручает другая дежурная тема – экономический кризис и рост цен. В тот момент, когда я тянусь за четвертой сигаретой, из дома напротив во всем своем блеске появляется Розмари. Забыл сказать, что у нее зимнее пальто маслиново-зеленого цвета, а зеленый цвет ей чертовски идет, в чем я успел убедиться, созерцая ее на фоне интерьера моего зеленого холла.
– Какая женщина! – тихо роняю я, когда Розмари направляется в обратный путь и мое опасение, что она может заглянуть в кафе, рассеивается.
– Мадемуазель Дюмон? – спрашивает официант, уловив мое восторженное восклицание.
– Вы ее знаете?
– Еще бы! Это же секретарша господина Грабера. – И, усмехнувшись с видом знатока, добавляет: – Какая женщина, не правда ли?
С этой женщиной мне предстоит встреча ровно через полчаса в ресторане «Бель эр», в пяти шагах отсюда, но в пяти шагах для нее, а не для меня. Взяв такси, я попадаю на противоположный берег. Захожу в телефонную кабину и раскрываю указатель телефонов. Когда известны имя и адрес, ничего не стоит навести кое-какие справки, так что я без особых усилий и без разорительных затрат получаю необходимую информацию:
ТЕО ГРАБЕР
ювелирные изделия и драгоценные камни.
Информация, которая пока что мне ничего не говорит; разве что объясняет, почему Розмари так хорошо разбирается в драгоценных камнях, в тех чарующе-переменчивых, а может быть, и в других. Но человек ведь никогда не знает заранее, когда и для чего ему может пригодиться та или иная информация. Так что, запомнив добытые сведения, сажусь в «вольво» и еду к «Бель эр».
– Надеюсь, вы сумели повидаться с отцом? – любезно говорю я, усадив свою даму за отведенный нам столик.
– Да. И самое главное, мне посчастливилось выудить у него некоторую сумму на покрытие вчерашнего проигрыша.
– Если вопрос заключался только в этом, вы могли сказать мне.
– Нет, Пьер. Я никогда не приму от вас такой услуги.
– Именно такой?
– Никакой… Впрочем, не знаю… Она, может быть, готова сказать еще что-то, но в этот момент появляется метрдотель.
– Я бы ни за что не подумала, что вы, не считаясь ни с чем, повезете меня в Женеву, потратив на это целый день, –
доверчиво говорит она к концу обеда.
– Неужто я вам кажусь таким эгоистом?
– Нет. Просто я считала вас человеком замкнутым.
– А вы действительно очень общительны или только так кажется?
– Что вы имеете в виду?
– Ничего сексуального.
– Если ничего сексуального, то должна вам сказать, что я действительно очень общительна.
Что правда, то правда. Мне удалось в этом убедиться. А
если меня продолжают мучить некоторые сомнения по части этого, то они скоро рассеются. Потому что уже на третий вечер, когда я вхожу в свою темную спальню и заглядываю в щелку, образуемую шторами, освещенный прямоугольник окна виллы Горанова предложил мне довольно интимную картинку: устроившись на своих обычных местах, Горанов и Пенев поглощены игрой в карты.
Только на сей раз к ним присоединился еще один партнер –
милая и очень общительная Розмари Дюмон.
3
Субботний полдень. Вытянувшись в кресле, я рассеянно думаю о том, как приятно контрастируют тепло электрического радиатора и весенние цвета зеленого холла с крупными хлопьями мокрого снега, падающими за окном.
К сожалению, уютная атмосфера слегка нарушена зимним пейзажем внушительных размеров, украсившим стену холла стараниями Розмари. Пейзаж тоже зеленоватых тонов, только при виде этой зелени тебя начинает бить озноб.
– От этого вашего пейзажа мне становится холодно.
– Это пейзаж Моне, а не мой, – уточняет Розмари, раскладывая пасьянс.
– Какая разница? Когда я гляжу на него, мне становится холодно.
– Но, как бы вам объяснить, Пьер, картина предназначена не для обогрева комнаты.
– Понимаю. И все-таки на этот пейзаж было бы более приятно смотреть в пору летнего зноя.
– Вы рассуждаете на редкость примитивно, требуете от искусства того, в чем вам отказывает жизнь, – произносит
Розмари, подняв глаза от карт.
– Лично я ничего не требую. Тем не менее мне кажется, что картина, раз уж вы вешаете ее у себя дома, должна чему-то соответствовать. Какому-то вашему настроению.
– Эта картина как раз соответствует. Соответствует вам, – говорит Розмари. И, заметив мое недоумение, добавляет: – В самом деле, посмотрите на себя, чем вы отличаетесь от этого пейзажа: холодный, хмурый, как пасмурный зимний день.
– Очень мило с вашей стороны, что вы догадались повесить мой портрет.
– А если бы вы решили украсить комнату каким либо пейзажем, который бы напоминал обо мне, что бы вы повесили? – спрашивает Розмари.
– Во всяком случае, ни пейзажа, ни какой-либо другой картины я бы вешать не стал. Все это слишком мертво для вас. Я бы положил на виду какой-нибудь камень, чье утро изумрудное, полдень золотистый, послеполуденное время голубое, а вечер цикламеновый.
– Такого камня не существует.
– Возможно. Вам лучше знать. Я полагаю, природа драгоценных камней вам знакома не меньше, чем импрессионисты.
– И неудивительно. Ведь и в том и в другом случае это природа переменчивой красоты, – отвечает она, глазом не моргнув.
– Неужто в университете вы и камни изучаете? – продолжаю я нахально.
– Камни я изучала у одного приятеля моего отца. Он владелец предприятия по шлифовке камней, – все так же непринужденно объясняет Розмари. – И совсем не с научной целью, а только потому, что от них просто глаз не оторвать.
– Но чем же они вас привлекают? Красотой или дороговизной?
– А чем вас привлекает жареный цыпленок? Тем, что у него приятный вкус, или своей питательностью?
– Конечно, что-то должно преобладать.
– Тогда о чем разговор? Разве не ясно, что преобладает?
Она задумывается на какое-то время, потом говорит уже иным тоном:
– Как-то раз, увидев у него – ну, у приятеля моего отца –
великолепный бесцветный камень, я сказала с присущей мне наивностью: «Наверно, этот брильянт стоит немалых денег». Он добродушно засмеялся: «Да, он действительно стоил бы немалых денег, будь это брильянт. Только это всего лишь белый сапфир». И можете себе представить, Пьер, не успел он произнести эти слова, как блеск восхищавшего меня камня вдруг померк.
– Неужели этот приятель и не попытался реабилитировать камень в ваших глазах?
– Каким образом?
– Подарив его вам.
Розмари скептически улыбается.
– А вы бы это сделали?
– Не раздумывая. Жаль только, что к камням я не имею никакого отношения.
Она смотрит на меня, потом задумчиво произносит:
– Интересно, к чему же вы имеете отношение. – И добавляет, уже совсем другим тоном: – Пожалуй, мне пора одеваться. Вы, конечно, не забыли, что мы сегодня вечером идем к Флоре?
Итак, мы у Флоры. Трудно сказать, в который уже раз, потому что наши сборища давно стали традиционными и довольно частыми, а по календарю уже март, хотя на улице все еще падают хлопья снега.
Немка принимает нас в просторной «студии», образовавшейся из двух комнат после того, как съемщица убрала разделявшую их стену. Обстановка здесь в отличие от нашего зеленого холла простая и удобная – ни лишней мебели, ни настольных ламп. И если обстановка квартиры позволяет судить об индивидуальных особенностях ее хозяина, то нетрудно прийти к заключению, что фрау Зайлер будуарному быту явно предпочитает здравый практицизм.
Никаких галантных сцен, никаких импрессионистов.
Единственное украшение – три-четыре фарфоровые статуэтки, расставленные на низком буфете, рекламные подарки завода фарфоровых изделий – Флора представляет фирмы, снабжающие человечество столовой и кухонной посудой.
В этот раз состязание начинается в мою пользу – явление очень редкое, потому что обычно я проигрываю.
Проигрываю по мелочам, не как первый раз.
– У вас недурно получается, – утешает меня в таких случаях Бэнтон. – Вам, должно быть, и в любви так везет.
– Охота вам говорить банальности, Ральф, – говорит
Розмари. – Если человек апатичен в игре, он и в любви такой.
Тут немка могла бы возразить, что американец при всем его равнодушии к флирту в игре малый не промах, но она не возражает. Насколько я могу судить по моим беглым наблюдениям, Флора несколько раз пыталась флиртовать с
Бэнтоном, но, увы, так и не сумела вывести его из летаргического состояния. Может быть, он не любитель крупных форм…
Итак, я определенно выигрываю, но мне особенно везет с момента, когда я сажусь напротив импозантной фрау
Зайлер, потому что весь этот затяжной кон лучшая карта почти всегда оказывается в моих руках, а Розмари с Бэнтоном отчаянно обороняются; их оборона продолжается даже тогда, когда они попадают в опасную зону, а удары возмездия со стороны беспощадной немки сыплются один за другим, и наш банк все больше обретает контуры небоскреба, так что, когда Флора наконец подводит черту и делает сбор – бухгалтерские операции всегда выполняет она, – Ральф вынужден признать, что он никогда в жизни так не прогорал.
– Как видите, ради вас стараюсь, мой мальчик, – тихо говорит Флора, и я не могу не заметить, что глаза ее под действием скрытого внутреннего ликования обрели лазурный цвет.
– Вполне естественно, – отвечаю я. – Не будь людей вроде меня, никто бы не стал покупать ваших тарелок, поскольку нечем было бы их наполнять.
– Боюсь, вы ошибаетесь, полагая, будто моя симпатия к вам связана с тем, что вы торгуете продовольствием, –
парирует немка, чем еще больше портит настроение моей квартирантки.
В результате длительного сожительства Розмари привыкла обращаться со мной, как со своей собственностью, хотя, в сущности, между нами не происходит ничего, кроме пустых разговоров. Но если в данном случае подначки
Флоры вызывают у нее раздражение, то только потому, что этому предшествовал скандальный проигрыш. Обычно она умеет скрывать свое состояние. И если сейчас теряет над собой контроль, то это признак того, что она только начинает беситься. Озлобленная до предела, Розмари обычно предпочитает молчать.
Теперь уже Розмари моя напарница, она сосредоточенно смотрит в карты, и я, имея возможность немного поднять ее настроение, объявляю три без козырей, вслед за этим Розмари с торжествующим видом провозглашает четыре пики, не считаясь с тем, что я закрыл игру, в результате чего две кругленькие «помахали мне ручкой». Но три без козырей или четыре пики в любом случае – большой шлем, и это в какой-то мере воодушевляет мою партнершу, которая даже благоволит сказать мне:
– Очень сожалею, Пьер, но мне в голову не пришло, что тузы способны принести вам две сотни.
– Не стоит сожалеть. Я с истинным наслаждением наблюдал, как лихо вы разыгрывали конечную партию, –
галантно отвечаю я, даже чересчур галантно, потому что никакой лихости в ее игре не было, да и при такой карте любой дурак мог выиграть.
– Ну, вы довольны? – спрашиваю, когда и второй манш заканчивается в нашу пользу.
– Чему тут радоваться, – отвечает Розмари. – С Флорой вы выиграли раза в три больше. Значит, вы любите Флору больше меня.
– А может, и я его люблю больше, чем вы, дорогая, –
невозмутимо вставляет немка.
Так или иначе, закуска сейчас важнее, чем любовь, и мы отправляемся к длинному буфету, где наряду с рекламными, фарфоровыми, расставлены тарелки и попроще, с виду совсем плоские, заваленные мясом и зеленью. Практицизм немки находит свое выражение и на поприще кулинарного искусства. Она предлагает нам не так много, зато все достаточно вкусное, хотя нет в этом ни расточительных импровизаций Розмари, ни дорогостоящего гурманства американца, который заказывает закуски для своих вечеров в ближайшем ресторане.
– Будьте великодушны, ешьте сколько влезет! Иначе мне придется самой целую неделю доедать все это добро, –
подбадривает нас немка, у которой вошло в привычку поддерживать светский разговор, пренебрегая светским тоном.
И мы едим, сколько в силах съесть, после чего снова принимаемся за карты, и в соответствии с правилом «повезет, так повезет» я продолжаю выигрывать, и первый мой выигрыш опять с Розмари, хотя, будь ты неладно, он и в этот раз намного меньше того, какой мне достался час спустя, когда моей напарницей стала немка.
– Теперь уже сомнений быть не может: вы и в самом деле больше любите Флору, чем меня, – констатирует моя квартирантка.
– В три раза больше, – уточняет хозяйка дома, чтобы подлить масла в огонь и подчеркнуть, как внушительна наша общая победа.
И ее миндалевидные лазурно-голубые глаза смотрят на меня так, словно она, после стольких встреч, впервые меня заметила. Этот взгляд мог бы пробудить во мне кое-какие мысли, будь я любитель столь большого формата и не знай я того, о чем, может быть, не подозревает Розмари: что эта самая Флора, кокетничающая своей холодностью и независимостью, уже завела себе приятеля.
– А немка изрядно действовала мне на нервы, – признается Розмари, когда мы возвращаемся домой.
– Я полагаю, дело тут не столько в ней, сколько в невезении.
– Да, верно. Но и в ней тоже.
После этого неожиданного признания собственной слабости она желает мне спокойной ночи и удаляется к себе.
О приятеле Флоры я узнал совсем случайно. Но если в течение месяцев ты общаешься с определенными людьми и жизнь протекает в таком тесном месте, как Берн, случайности становятся в какой-то степени закономерностью.
Это произошло во время одной из моих обычных прогулок по главной улице и прилегающим переулкам. Во время прогулок мне не раз случалось встретиться то с
Ральфом, то с Флорой, но, обменявшись на ходу несколькими словами, каждый шел по своим делам. Однако, стоит мне встретить Розмари – если она не торопится на какой-нибудь крайне интересный диспут, – все мои планы рушатся, потому что она тут же тащит меня в какое-нибудь кафе или в кино и делает это с такой же милой непринужденностью, с какой поселилась в моем доме.
В этот раз встреча происходит не с Розмари, а с Флорой, и не на главной улице, а в куда более пустынном месте, довольно необычном для встреч. Тут я должен пояснить, что часть старого Берна имеет как бы два этажа, притом верхний этаж находится на одном уровне с главной улицей, а нижний – значительно ниже уровня реки Ааре. Прогуливаясь в тот день, я ненароком забрел именно в этот, нижний этаж, образуемый множеством строений весьма мрачного вида, вдоль которых тянется столь же мрачная крытая галерея.
Медленно двигаясь по галерее, я вслушиваюсь в собственные шаги, отчетливо звенящие под сводами. Наконец галерея остается позади, но я иду дальше. Слева течет река, глубокая и бурная, однако ее воды в этот зимний день утратили свой сине-зеленый цвет и сделались холодно-серыми. Они такие же переменчивые, как глаза Флоры, говорю я себе и, как бывает в подобных случаях, с удивлением вижу впереди Флору.
К счастью, она довольно далеко, у входа в громоздкий обветшалый лифт, который при всей своей неуклюжести способен за две минуты доставить вас в верхний город, куда пешком, в обход, пришлось бы топать два километра.
Укрывшись за стоящим поблизости грузовиком, я осторожно посматриваю в сторону лифта.
Флора не одна. Возле нее торчит какой-то мужчина, ростом значительно ниже ее, зато плечи у него широкие, и всем своим видом он смахивает на профессионального борца. Случайный прохожий, если бы он вообще обратил на них внимание, наверняка принял бы их за незнакомых друг другу людей, ждущих лифта. Они, похоже, именно на это и рассчитывают, назначив здесь свидание, и – чтобы иллюзия была полной – стоят, почти отвернувшись друг от друга: Флора смотрит на реку, а борец – на свои ботинки.
Они стоят, будто совершенно незнакомые люди – мол, я тебя знать не знаю. Но вот что странно: они переговариваются между собой. Правда, с расстояния, которое нас разделяет, а также из-за того, что мне необходимо прятаться за грузовиком, я лишен возможности отчетливо слышать их слова. Зато мне легко вести за ними наблюдение, и я вижу, что разговор становится слишком затяжным для двух незнакомых людей, случайно столкнувшихся при входе в лифт.
Наконец Флора входит в кабину, которая, очевидно, давно уже ждет пассажиров, а борец предпочитает идти пешком и прямиком шагает в мою сторону. Я быстро обхожу грузовик, пересекаю асфальт и спускаюсь к реке, чтобы не маячить на горизонте. Несколько минут спустя я снова возвращаюсь на исходную позицию, к грузовику, и устанавливаю, что незнакомец уже удаляется по каменному полу галереи.
Пока тяжелый лифт медленно возносит меня к небольшой площади перед городским собором, я спешно провожу военный совет сам с собой. Подобные советы –
довольно обычное и весьма полезное для меня занятие, хотя какой-нибудь психиатр определенно усмотрел бы в этом симптом шизофрении. В сущности, это горячий спор между мной – осторожным скептиком и другим мной –
предприимчивым оптимистом. А как говорит генерал, спор нередко помогает найти лучшее решение.
Напасть на след борца не составляет особого труда.
Пешеходный путь в верхний город только один, и, выиграв достаточно времени с помощью лифта, мне остается лишь подождать моего незнакомца. Только все оказывается не так просто. Не исключено, что Флора тоже где-нибудь затаилась, чтобы проверить, не ведется ли наблюдение за ее дружком. Может, и у него самого есть соучастник. Наконец, не исключена возможность и того, что незнакомец просто-напросто шмыгнет в первый попавшийся проулок, где ждет его машина, и ускользнет от меня. Спрашивается, стоит ли уже сейчас идти на риск, не лучше ли выждать еще немного?
Конечно, мне порядком осточертело выжидать. Я четыре месяца кисну в этой стране – и все на исходной позиции, и все с тем же нулевым результатом. Однако именно тогда, когда ожидание уже сидит у тебя в печенках, нужно соблюдать предельную осторожность, нельзя от нетерпения и досады совать голову в петлю.
К моменту моего выхода на площадь кафедрального собора военный совет окончен и принимается решение идти на риск. Нырнув в маленькое кафе в конце главной улицы, я дожидаюсь, когда из-за угла появится борец, и иду следом, держась на некотором расстоянии. В конце концов, что особенного, что я шагаю себе в тридцати метрах позади какого-то там гражданина, чье существование меня нисколько не занимает, да еще в этом небольшом городе, где все находится в двух шагах от главной улицы.
Незнакомец идет в приличном темпе – сразу видно, знает, куда идет, и ценит каждую минуту. Как выясняется, цель его – городской вокзал, точнее, поезд Берн – Базель –
Мюнхен. До отхода поезда остается восемь минут – их хватает мне, чтобы сбегать к кассе и запастись билетом.
Билетом до Базеля. Хотя не исключено, что придется продолжить путь до Мюнхена.
Медленно шествуя по перрону, я вижу: борец садится в вагон второго класса. Вхожу в тот же вагон. Выбираю местечко подальше, чтобы не мозолить ему глаза, но и достаточно близко, чтобы вести за ним наблюдение. Вынув из кармана газету, я по примеру своих соседей погружаюсь в изучение обстановки на бирже.
Езда до Базеля длится около часа. За это время я всего лишь четыре раза бросил взгляд на борца, пользуясь тем,
что его тоже увлекли биржевые страсти. Человеку, видимо, и в голову не приходит, что за ним следят, а я, в свою очередь, не собираюсь убеждать его в обратном – нескольких беглых взглядов вполне достаточно, чтобы получить необходимую зрительную информацию, если, конечно, у тебя наметан глаз.
Незнакомцу лет пятьдесят – шестьдесят, но признаков дряхлости пока не видно. Сейчас, когда он снял серую шляпу с узкими полями, я могу видеть его большую голову, словно увенчанную лоснящимся куполом бритого темени. Похоже, он его выбривает столь же регулярно, как и свои толстые щеки. Встречаются мужчины, которые из боязни облысеть всю жизнь бреют голову.
Когда он отрывает глаза от газеты, я вижу их слегка прищуренными, словно он глядит на что-то ослепительное или весьма неприятное. Зато его чувственные ноздри кажутся не в меру открытыми, будто он воспринимает мир не столько зрением, сколько обонянием. В его массивной морде со свисающими сжатыми губами есть что-то бульдожье.
За полминуты до остановки поезда в Базеле незнакомец бросает газету на сиденье, встает, снимает с вешалки легкое пальто и шляпу и устремляется к выходу. Выждав минуту, я тоже выхожу на перрон.
Лишь в восьмом часу, после продолжительного томления в каком то кафе, человек приводит меня к своему обиталищу – к квартире на первом этаже нового жилого дома средней категории. На табличке значится: МАКС БРУННЕР
торговый посредник.
Теперь, когда я установил наконец имя борца и несколько раз заснял его с помощью своей зажигалки, можно было бы считать свою миссию оконченной. Но где гарантия, что незнакомец привел меня именно к себе домой и что именно он и есть Макс Бруннер? В нашем деле, как и во всяком другом, поспешные выводы порождают иной раз невообразимую путаницу.
Выхожу на улицу и останавливаюсь на углу квартала, раздумывая, возвращаться мне домой или пока подождать.
Перспектива снова ехать в Базель меня особенно не прельщает, а в сторону Берна, как мне удалось установить на вокзале, должны отправиться целых три поезда. Определенно есть смысл подождать, пусть даже перед пустыми яслями, как любит говорить генерал.
Мое терпение вознаграждается часом позже, когда борец снова появляется на улице. На сей раз он ведет меня в ближайший ресторан, и этого оказалось вполне достаточно, чтобы окончательно установить, с кем я имею дело, потому что кельнер, принимая от него заказ, не перестает болтать: «Естественно, герр Бруннер», «Сию минуту, герр
Бруннер», можно подумать, он понял мои сомнения и решил во что бы то ни стало убедить меня, что передо мной именно Макс Бруннер, торговый посредник, а не кто-либо другой.
Теперь, если взглянуть на вещи с профессиональной точки зрения, ужинать в этом захудалом ресторане мне вроде бы и ни к чему. Однако сам по себе ужин – дело стоящее, так что я выпиваю две кружки пива, съедаю две порции домашней колбасы с кислой капустой, делаю дополнительно несколько снимков борца и отправляюсь на вокзал.
Итак, одна парочка в общих чертах вырисовалась: Флора Зайлер и Макс Бруннер. Хотя рост у них разный, оба они существа массивные и чем-то напоминают тяжелые танки. Неприятная ассоциация. У таких лучше не стоять на пути. Но сейчас вопрос в том, куда и зачем они устремились. Быть может, эти двое должны остаться в стороне от твоего собственного пути? И не пошел ли ты по их следам из чисто профессиональной мнительности или просто от нечего делать?
Может, оно и так. Но чтобы удостовериться в этом, я при первой же возможности навожу справку – через человека, с которым встречаюсь каждую неделю в двух шагах от главной улицы.
– В сущности, что вас заставило покинуть Италию? –
спрашиваю я, воспользовавшись редким молчанием моего собеседника.
– А мафия? – отвечает он вопросом на вопрос.
– Верно, мафия.
– А инфляция? – продолжает Бенато.
– Да, действительно, инфляция.
– Чтобы дать тягу, довольно одной серьезной причины.
А у меня, как видите, их две.
Обед наш уже близится к концу, и муки Феличе, стоящего возле нас на страже, тоже вроде бы должны были кончиться после того, как он несколько раз менял оброненные приборы и собирал остатки разбитых фужеров.
Сейчас мы заняты десертом, так что в худшем случае Бенато прольет на скатерть кофе или наперсток французского коньяку, который ему по традиции необходим, как финальный аккорд, для лучшего пищеварения.
К счастью или несчастью, вместо того чтобы пролить кофе на скатерть, мой компаньон выпивает его, что всегда делает его особенно болтливым, и мне приходится какое-то время выслушивать его обстоятельную информацию о характере и повадках итальянских гангстеров. Бенато знакомы все приемы ограбления человека – дома, в машине или идущего пешком по улице, – но вместе с тем он знает, как защищаться от грабителей.
– Мне эти типы ничего не могут сделать. Но почему я должен вечно быть начеку, вечно смотреть в оба? Рано или поздно это начинает надоедать, не правда ли?
Он вопросительно смотрит на меня круглыми глазами сквозь толстенные очки в массивной оправе, предназначенные для того, чтобы вовремя обнаруживать подстерегающую повсюду опасность. Не получив ожидаемого ответа, он склоняет над столом свое младенческое лицо и растерянно произносит:
– О! Эта сигарета… не знаешь, куда ее положить, Опять прожег скатерть…
Бенато гасит сигарету, чтобы минуту спустя закурить новую, которая тоже наверняка прожжет скатерть или его собственные штаны. Затем переходит к инфляции.
– В свое время мой дед обанкротился, – слышится его голос, уже несколько сонный: действие кофе мало-помалу прекращается. – Отец, кое-как встав на ноги, постепенно разбогател, но и он обанкротился. А я так рассчитывал на его наследство. Унаследовал же только одни долги.
Обанкротились и мои дядюшки, сперва один, потом второй. Словом, банкротство в нашем роду вроде бы наследственная болезнь. А может, это болезнь века, как вы считаете? Может, эти банкротства не что иное, как предвестники бедствия, нависшего над всем человечеством?
– Трудный вопрос… – неуверенно отвечаю я, делая знак Феличе, чтобы нес счет.
Наступает момент, когда Бенато не без сожаления вынужден меня покинуть, так как его ждет важная встреча с каким-то греческим торговцем маслинами (я, конечно, понимаю, что встреча эта – с собственной постелью), так что я, как обычно, остаюсь в конторе один между календарями двух авиакомпаний и перед стопой утренних газет.
Однако в этот раз я задерживаюсь здесь дольше обычного.
По пятницам я всегда несколько засиживаюсь в конторе.
Вместо того чтобы бродить по улицам с риском нарваться на кого-нибудь вроде моей дорогой Розмари, я предпочитаю отправиться прямо к месту встречи.
Пятница. Суеверные люди считают ее несчастливым днем. Но чем-то она удобна: завтра уик-энд, все торопятся пораньше сделать покупки и вернуться домой. Улицы пустеют рано. Самое время для встреч.
Выхожу на Бундесплац, где возвышается потемневшее от времени здание парламента – цитадель демократии, надежно защищенная цитаделями капитала: слева – Кантональный банк, справа – Национальный банк, а спереди –
Креди Сюис и Шпаркассе. Обогнув парламент, спускаюсь вниз, к мосту, по которому я всегда возвращаюсь домой.
Только на сей раз мне необходимо задержаться на этом берегу. Я уже говорил, что Берн имеет как бы два этажа, и не лишне добавить, что в этом месте, между верхним и нижним этажами вычерчиваются одна над другой – или, если угодно, одна под другой – узкие террасы, соединяющиеся между собой небольшими лестницами.
В этот уже мертвый час апрельских сумерек и в эту сырую ветреную погоду вокруг ни души. Опершись на каменный парапет верхней террасы, я окидываю взглядом нижнюю. В полумраке маячит длинная худая фигура нашего паренька. И как всегда в таких случаях, мне кажется, что рядом со мной стоит мой покойный друг Любо Ангелов. Ведь паренек на нижней террасе – его сын, Боян.
Любо ничего не говорит, привыкнув еще при жизни смотреть на все с профессиональной точки зрения. Но привычка привычкой, а родительское чувство тоже что-нибудь да значит, не может он не наведаться сюда, в это место, где его сын делает первые шаги. Любо молчит, а в моей памяти всплывают те далекие годы, когда он меня учил делать первые шаги, точно так же как я сегодня помогаю его сыну встать на многотрудный и неприветливый путь разведчика. Пройдет, сколько ему суждено, и передаст пароль другому.
В сущности, я бы мог и не спускаться на эту террасу и не заглядывать на нижнюю: миниатюрная рация действует на расстоянии двухсот метров. Но когда вокруг никого нет, я обычно прихожу сюда и, как бы выполняя молчаливую просьбу Любо, стараюсь собственными глазами увидеть
Бояна.
Слегка повернув колпачок авторучки, я слышу еле уловимый шум, а затем знакомый тихий голос:
– «Вольво» пять.
Колпачок вращается в обратную сторону, и я сообщаю:
– «Вольво» шесть.
Принято. Разговор закончен. И при всей его лаконичности он содержит достаточно данных для той и другой стороны. Боян сообщает, что для меня оставлен материал, и что он хранится в нашем тайнике – в черном «вольво», похожем на мое, и что «вольво» оставлено в соответствующем месте на улице, пятой по нашему списку. А я информирую, что в тайнике будет оставлен мой материал и что машину я перегоню на шестую по списку улицу.
«Пятая» – длинный переулок, берущий начало от Бубенберга, достаточно далекий, чтобы по пути можно было убедиться, что за мной нет слежки, и достаточно близкий, чтобы не переутомляться от излишней ходьбы. Я без труда нахожу «вольво», неприметное среди множества других машин. Отпираю дверцу, сажусь за руль и трогаюсь. А во время стоянки перед красным светофором извлекаю из-под приемника оставленное для меня послание и кладу на его место свое. Операция длится ровно восемь секунд.
Однако, чтобы освободиться от машины, мне приходится потратить гораздо больше времени. И не только потому, что «шестая» находится довольно далеко от «пятой», но и в силу того, что мне так и не удается найти место для парковки. Это вынуждает меня в соответствии с договоренностью отогнать машину на «седьмую», где обычно бывает свободней. Прозаические, способные навеять тоску детали осуществляемой ныне операции, получившей условное наименование «Дельта».
Подчас простейшая комбинация предпочтительней любой другой. Но когда слишком упрощенная схема сулит провал, приходится прибегать к более сложной. Когда атака двух «Б» – Боева и Белева – потерпела неудачу, возникла необходимость подготовить атаку трех «Б» –
Боева, Бояна и Борислава. В сущности, эти три элемента и образуют треугольник, который в греческой азбуке получил наименование «Дельта». Мне предстоит поддерживать контакт с противником, Бориславу – с Центром, а Бояну –
между мною и Бориславом. В случае если одно из звеньев –
Боян или Борислав – сгорит, треугольник должен быть восстановлен за счет подключения нового действующего лица. Если же случится сгореть мне, то на операции
«Дельта» вполне можно будет поставить крест. По крайней мере до новых указаний.
Возвращаюсь на Беренплац, где стоит моя собственная машина. Довольно иметь дело с тайниками. Пора возвращаться на легальное положение скучного и ничем не примечательного гражданина Пьера Лорана.
Пока я шарю в кармане, чтобы найти ключи, открывается дверь, и на пороге показывается Розмари, лишний раз демонстрируя свою способность перевоплощаться – одетая строго, хотя и не без шику, она теперь кажется этакой наивной и миловидной маменькиной дочкой.
– Ах, вы уходите? И в канун уик-энда оставляете меня одного? – восклицаю я с легкой горечью, хотя, честно говоря, в данный момент мне ужасно хочется, чтобы она убралась куда-нибудь и не мозолила мне глаза.
– Мне очень жаль, Пьер, но наш сосед герр Гораноф пригласил меня на чашку чая. Постарайтесь умерить свою скорбь. Гораноф принадлежит к числу людей, которые после двух партий белота начинают зевать, так что едва ли вам придется долго скучать без меня.
Окрыленный этим обещанием, я вхожу в свое скромное жилище, ставлю на плиту чайник, а затем поднимаюсь в библиотеку и читаю послание. Это ответ на мой запрос относительно Макса Бруннера. Ответ весьма краткий, но, чтобы составить его, видимо, потребовалось провести целое исследование.
Теперь мне известно, что Бруннер закончил курс экономических наук, войну провел – вероятно, благодаря определенным связям – в интендантских частях, сравнительно безбедно, в звании обер-лейтенанта. После войны обосновался – опять же не без связей – на поприще торговли. В военных преступлениях не замешан, в каких-либо политических выступлениях активного участия не принимает.
Словом, весьма безынтересные сведения, кроме одного-единственного пункта: в 1943–1944 годах интендантская часть, в которой служил Макс Бруннер, находилась в
Болгарии. Пункт, над которым стоит поразмыслить. Особенно если предположить, что Флора, за которой скрывается Бруннер, оказалась соседкой болгарина Горанова не по чистой случайности, а по каким-то соображениям.
Бруннер – Флора – Горанов – это уже некие штрихи изначальной схемы. Как бы разновидность «Дельты», с той разницей, что здесь одно звено, возможно, охотится за другим через посредство третьего. Но при всей своей привлекательности эта наметившаяся схема пока лишена реального, конкретного смысла. Даже если такой смысл и существует, никто, кроме самой Флоры или самого Бруннера, раскрыть мне его не в состоянии. Но я не знаю, удобно ли, прилично ли будет явиться к кому-нибудь из них и спросить: «Скажите прямо, какого вам черта нужно от этого старика Горанова?»
Я иду в ванную, сжигаю над раковиной письмо и мою раковину намыленной щеткой – при такой любопытной квартирантке, как Розмари, лучше не оставлять следов.
Затем, в спальне, я сквозь щелку между шторами наблюдаю, как моя квартирантка режется в карты с этими подозрительными типами, Горановым и Пеневым, как они одаряют ее милыми улыбками и наперебой угощают чаем, конфетами и печеньем.
В конце концов мне надоело созерцать эту сердцещипательную идиллию, и я спохватываюсь – чайник на плите, должно быть, уже закипел. Спустившись в кухню, завариваю чай и достаю кое-что из холодильника. Довольно постный ужин в канун уик-энда и довольно убогая схема для построения определенной гипотезы: Бруннер – Флора –
Горанов.
Затем, в зеленом оазисе холла, я дремлю в мягком кресле, прислушиваясь к звонкому пению капели, оповещающей меня в этот голубой вечер, что наконец идет весна. Да, наконец-то идет весна, и Розмари наконец-то возвращается домой.
– Как мило с вашей стороны дождаться моего прихода! – щебечет она, едва переступив порог. – Эти жалкие люди совсем уморили меня.
– Ничего удивительного, – отвечаю я. – Можно только гадать, во имя чего вы подвергаете себя такой пытке. Мало сказать охотно – с восторгом.
– Какой вы скверный, – тихо роняет она, опускаясь на диван. – Еще немного, и вы уличите меня в мазохизме.
– Почему бы и нет? Извращения становятся сейчас чем-то вроде нормы.
– Но если я не в силах ответить отказом, когда пожилой человек приглашает меня на чашку чая?
По моим личным наблюдениям, чтобы удостоиться этой чашки чая, Розмари на протяжении долгих недель приставала к пожилому человеку: строила глазки и при каждом удобном случае останавливалась у его садовой ограды, чтобы поболтать о том о сем. Но стоит ли придавать значение таким пустякам?
Быть может, не стоит придавать значение и тому обстоятельству, что, вырядившись в коротенькую юбку, сейчас эта маменькина дочка так бесцеремонно закинула ногу на ногу, что моему взгляду представилась поистине живописная картинка – ее стройные бедра обнажились вплоть до того места, где природе было угодно их соединить. И вообще в последнее время Розмари ведет себя дома, мягко говоря, непринужденно выходит при мне в холл в одной комбинации, почти голая, чтобы сказать мне какую-нибудь ерунду. Словно я бездушный робот или некое бесполое существо. То ли она действительно считает меня до такой степени холодным, то ли надеется проверить, так ли это на самом деле, но ее бесцеремонность уже начинает меня раздражать.
– В свое время вы меня заверяли, что не будете звать гостей, – напоминаю я своей квартирантке.
– О Пьер! Ведь вы же сами…
– Вы заверяли, что вам несвойственно приставать к хозяину, а теперь вот убеждаете меня в обратном.
– О Пьер! Неужели вы считаете…
– Да, считаю. И эта ваша поза говорит о том, что, кроме мазохизма, вам не чужд и садизм…
– О Пьер! – восклицает Розмари в третий раз. – Зря вы пытаетесь выступить в несвойственной вам роли! Не станете же вы отрицать, что я для вас всего лишь собеседница, помогающая вам убить время? Хотя иной раз мне кажется, вы и в собеседнице-то не нуждаетесь.
Она произносит этот небольшой монолог и не подумав сменить позу, не придавая ни малейшего значения тому, куда направлен мой взгляд. Это бесит меня еще больше. Но ей вроде бы все равно, а может, наоборот – она отлично понимает, что к чему, и, словно для того, чтобы совсем уж довести меня, бесстыдно спрашивает:
– Чего вы на меня так смотрите?
– Вас это смущает?
– Во всяком случае, я не хочу, чтобы меня изучали, словно какую-то вещь. И потом, я не могу понять, то ли вы оцениваете качество моих чулок, то ли пытаетесь разобраться в сложностях моей натуры.
Будь я Эмиль Боев, я бы сказал ей такое, что она сразу бы заткнулась. Но так как я не Эмиль Боев, а Пьер Лоран, мне приходится проглотить эту пилюлю, и я спокойно произношу:
– Не воображайте, что ваша натура – непроходимые джунгли.
– Ага! Наконец-то вы ухватились за путеводную нить.
Не могу не радоваться – авось и мне она поможет.
– Запросто! Вы только трезво оцените всю сложность собственной натуры…
– Вы как-то не очень ясно выражаетесь.
– Боюсь, как бы вас не задеть.
– А вы не бойтесь. Шагайте прямо по цветнику.
– Зачем же топтать цветы? Вы сами в состоянии разобраться в себе. Вы ведь понимаете природу мимикрии?
– Это и детям ясно.
– Вот именно. Ваши уловки им так же были бы ясны.
Только у хамелеона срабатывает инстинкт, а вы действуете строго по расчету. «Сложность» вашей натуры покоится на чистом расчете. И потому вы так ее афишируете. Все эти маски, позы и перевоплощения диктует вам довольно нехитрое счетное устройство, заменяющее вам мозг и сердце.
Безучастное выражение, до последней минуты владевшее ее лицом, постепенно сменилось оживлением. Да таким, что я бы нисколько не удивился, если бы она протянула руку к столику и шарахнула хрустальной пепельницей меня по голове. Но как я уже говорил, когда Розмари приходит в бешенство, буйство для нее не характерно.
Какое-то время она сидит молча, вперив взгляд в свои обтянутые нейлоном колени, потом поднимает голову и произносит:
– Того, что вы мне сейчас наговорили, я вам никогда не прощу.
– Я всего лишь повторяю вашу собственную теорию об эгоистической природе человека.
– Нет, того, что вы сейчас наговорили, я вам никогда не прощу, – повторяет Розмари.
– Что именно вы не склонны мне простить?
– То, что вы сказали относительно сердца.
– О, если только это…
Чтобы живописная картина больше не маячила у меня перед глазами, я встаю и закуриваю сигарету. Затем делаю несколько шагов к окну и всматриваюсь в голубизну ночи,
а тем временем звонкая капель методично повторяет все ту же радиограмму о наступлении весны.
– Возможно, я выразилась слишком упрощенно, но, если я говорю, что люди эгоисты, это вовсе не означает, что все они на одно лицо, – слышу за спиной спокойный голос
Розмари. – И если у одного человека, вроде вас, грудь битком набита накладными да счетами, не исключено, что в груди другого бьется живое сердце.
– Вы тонете в противоречиях.
– Противоречия в природе человека, – все так же спокойно отвечает Розмари. – Пусть это покажется абсурдным, но есть люди, у которых эгоизм не вытеснил чувства.
И как это ни странно, я тоже принадлежу к числу таких людей, Пьер.
Она встает, тоже, видимо, решив поразмяться, и направляется в другой конец холла.
– Я верю вам, – говорю в ответ, чтобы немного успокоить ее. – Может, я хватил через край, когда коснулся последнего пункта.
– Нет, вам просто хотелось меня уязвить. И если у меня есть основание расстраиваться, то только из-за того, что вам это удалось.
– Вы мне льстите.
– Я действительно привязалась к вам, Пьер, – продолжает моя квартирантка и делает еще несколько шагов по комнате. – Привязалась просто так, против собственной воли и без всякого желания «приставать к хозяину», как вы выразились.
– Может быть, именно в этом и состоит ваша ошибка, –
тихо говорю я.
– В чем? – Розмари останавливается посреди холла. – В
том, что привязалась, или в том, что не приставала к вам?
– Прежде всего в последнем. Чтобы убедиться, что у человека есть сердце, нужны доказательства.
Она делает еще несколько шагов и, подойдя ко мне вплотную, говорит:
– В таком случае я уже опоздала. Мы до такой степени привыкли друг к другу, что…
Как я уже сказал, она подошла ко мне вплотную, я ей не удается закончить фразу по чисто техническим причинам.
– О Пьер, что это с вами… – шепчет Розмари, когда наш первый поцелуй, довольно продолжительный, приходит наконец к своему завершению.
– Понятия не имею. Наверно, весна этому причина.
Неужто не слышите: весна идет.
Я снова тянусь к ней, чтобы заключить ее в свои объятия. Но, прежде чем позволить мне это сделать, она резким движением опускает занавеску.
Потому что, как я, кажется, уже отмечал, в жизни в отличие от театра действие нередко начинается именно после того, как занавес опускается.
4
Весна наступает бурно и внезапно. Буквально на глазах раскрываются почки деревьев. За несколько дней все вокруг окрашивается зеленью – не той мрачной, словно обветшалой, которая зимует на соснах, а светлой и свежей зеленью нежных молодых листьев. Белые стены и красные крыши вилл, еще недавно так отчетливо вырисовывавшиеся на фоне темных безлистых зарослей, потонули в серебристом и золотистом сиянии плодовых деревьев.
Цвета окрест переменчивы и неустойчивы, как на любимых картинах Розмари или у камней со странными именами; переменчивы и неустойчивы, радующиеся и свету и тени, потому что в вышине, между солнцем и землей, теплый ветер юга гонит по синему небу белые стада.
Перемены, увы, носят главным образом метеорологический характер и лишь отчасти – бытовой. Как выразилась моя квартирантка, мы с нею давно до такой степени привыкли друг к другу, что перемена в области наших чувств всего лишь легкий штрих на привычном фоне обыденности, легкий штрих, который только мы одни способны заметить.
В остальном все идет как прежде, каждый следует своему будничному распорядку, и лишь иногда, в послеобеденную пору, поскольку дни стали длиннее, а соседний лес – приветливей, мы, вместо того чтобы валяться в зеленом интерьере нашего не столь обширного холла, скитаемся в просторном зеленом интерьере леса или сидим на скамейке у дорожки и всматриваемся в изумрудную равнину, за которой возвышаются лесистые холмы, над ними сияет цепь горных хребтов, а еще выше встают заснеженные альпийские вершины под огромным небесным куполом, в необъятности которого теплый южный ветер торопливо гонит стада облаков.
Однажды Розмари предложила мне сходить в Поселок
Робинзона, к ее знакомым. Молодые супруги из среды интеллигентов-экстремистов проживали в небольшой стандартной квартире, в этом супермодном микрорайоне,
состоящем из двухэтажных бетонных ящиков. С профессиональной точки зрения ее знакомые не представляют для меня ни малейшего интереса, и, будь в наших отношениях хоть немного искренности, я должен был бы признаться, что познакомиться с ее шефом Тео Грабером мне было бы куда приятнее. Только искренность с Розмари – непозволительная роскошь, и так как я не максималист, то на данном этапе мне лучше довольствоваться дружбой и любовью без излишней откровенности. Потому что, как говорят французы, даже самая красивая девушка может дать не больше того, что у нее есть.
Экстремисты устроились весьма удобно, если хаотическое нагромождение транзисторов, магнитофонов, книг, алкогольных напитков прямо на полу, на синем искусственном половике в просторном холле, можно считать удобным. Вообще эти супруги так и живут на половике: принимают гостей на половике, предлагая им подушки для удобства, пьют виски и слушают поп-музыку на половике, спят, по всей видимости, тоже на половике, как бы говоря тем самым, что плевать они хотели на иерархическую лестницу – им, дескать, больше по сердцу скромный быт социальных низов.
Однако никаких других примет, доказывающих связь наших хозяев с эксплуатируемыми классами, мне обнаружить не удается, о чем я позволяю себе сказать открыто, когда знакомый репертуар о перманентной революции и об аскетической бедности во имя абсолютного безличия и полного равенства мне изрядно надоел.
– А что вам мешает? – спрашиваю. – Выбросьте все из квартиры, вместе с этим синтетическим половиком, напяльте на себя три метра зеленой холстины и живите прямо на полу. Или еще лучше: выдворите сами себя из дому и шагайте по дорогам перманентной революции.
Я говорю это супруге, точнее, предполагаемой супруге, потому что у обоих этих субъектов длинные соломенные патлы, хилые плоские фигуры и оба они в джинсах с декоративными заплатами.
Супруга отвечает, что я слишком вульгарно понимаю их воззрения и что в социальном равенстве они видят прежде всего высший абстрактный принцип, а не вульгарную житейскую практику.
После этого супруг – или предполагаемый супруг –
снова подливает виски, доказывая этим, что идейная конфронтация его не трогает, и принимается развивать очередную теорию, оправдывающую террор как высшую форму революционного насилия.
– Я торгую преимущественно маслинами и брынзой, –
говорю я, улучив момент, – но у меня в коммерческом мире обширные связи, и мне ничего не стоит снабдить каждого из вас парой пистолетов любой марки и ящиком ручных гранат. Так что если будет нужда в экипировке, дайте мне знать.
Тут супруга опять торопится возразить в том духе, что теория революционного действия – это одно, а практика –
совсем другое и что разделение умственного и физического труда, которое произошло еще в рабовладельческом обществе, узаконило достойный уважения обычай: одни вырабатывают принципы, а другие применяют их на практике.
– Я никак не ожидала, Пьер, что вы способны вести себя так грубо, – тихо упрекает меня Розмари, когда мы по лесу возвращаемся домой.
– Что было делать, если интеллектуальный всплеск на уровне этого синего половика чуть не захлестнул меня.
– Однако это не основание все время называть хозяина госпожой…
– Вот оно что. Откуда я мог знать… У этого типа голос более тонкий.
– Чем же он виноват что у его жены такой низкий тембр? Нет, вы явно перестарались.
Спор о том, в какой мере я перестарался, продолжается.
Наконец мы дома. Съев неизбежную яичницу с ветчиной, мы проводим какое-то время в холле, я перед телевизором, а Розмари, конечно же, над своими альбомами, после чего, как всегда, ложимся спать, с той лишь разницей, что спим мы теперь в одной постели, в комнате моей квартирантки, и что к привычной программе добавился небольшой аттракцион, который тоже начинает становиться привычным.
– Перемена… – любит помечтать Розмари. Я тоже мечтаю о переменах, хотя и про себя, но какая от этого польза? Перемены выражаются лишь в календарных датах.
Время бежит, сменяются недели, а в ситуации ничего нового: топчемся на месте.
День заметно прибавился, и, когда в условленное время я подхожу к парапету террасы, мне отчетливо видна внизу фигура высокого худого парня. И как всегда, я чувствую присутствие рядом с собой еще одного человека – моего покойного друга Любо Ангелова. Потому что стоящий на нижней площадке парень – его сын, Боян.
Боян одет все по той же моде, какой следуют супруги-экстремисты, но что поделаешь: он студент – действительный и мнимый, как моя Розмари, – и приходится одеваться, сообразуясь с показной экстравагантностью своих товарищей. Эта пошлая экстравагантность делает его не столь заметным в толпе эмансипированной молодежи.
И мне чудится, будто я слышу голос Любо:
– Что это ты его так вырядил?
– Почему я? Они сами это делают. Но если не обращать внимания на длинные волосы и синие джинсы, то они ничем особенно не отличаются от нас.
– Больно они изнеженны, – замечает Любо.
– А может, мы были чересчур загрубевшими? Преследовать неделями бандитов в горах… Дело давнее…
– Неженки они, браток. Так что смотри, как бы мы его не упустили, нашего.
– Ты мог бы этого не говорить. Я понимаю, новичок всегда опасен. И прежде всего для самого себя.
Любо замолкает, руководствуясь сознанием, что всякое вмешательство с профессиональной точки зрения нежелательно, но вовсе не потому, что его опасения рассеялись.
Мне трудно представить, как сейчас выглядит Борислав, во всяком случае, он не станет ходить в прохудившихся джинсах: так же, как я, он скрывается за фасадом делового человека, с той лишь разницей, что делает деньги не на торговом поприще, а в какой-то авиакомпании. Живет он по другую сторону реки, в Кирхенфельде, и в силу чисто случайного совпадения одну из мансардных комнатушек того самого дома, где находится его уютная квартира, занимает Боян. Мне трудно представить, каким способом они поддерживают связь между собой, но я уверен,
что она у них достаточно надежна и в этом они не испытывают затруднений.
Авторучка во внутреннем кармане моего пиджака издает сухой треск, я слышу тихий голос парня:
– «Вольво» три.
– Четыре, – говорю в ответ.
Принято. В машине-тайнике меня ждет очередное послание, но я не собираюсь на него отвечать. О чем мне писать? Что у меня все в порядке? Или наоборот? Раз никаких перемен нет, одинаково уместно и то и Другое.
Справка, с которой я час спустя возвращаюсь к себе на виллу и тороплюсь уединиться в пустой библиотеке, касается Горанова. Наконец-то. Чтобы установить его личность, потребовалось провести целые изыскания, потревожить многолетние слои архивной пыли. Чтобы в конце концов стало ясно, что Горанов – это вовсе не Горанов.
Вероятно, чтобы прийти к окончательному выводу, Центру пришлось прибегнуть к методу элиминации. Сваливаешь в одну кучу сведения обо всех подозрительных личностях, сбежавших или исчезнувших, и начинаешь разбирать ее, следуя принципу исключения: не этот, и не этот, и, конечно же, не этот, и так далее, пока на месте огромной кипы не останется всего лишь несколько подонков.
Теперь надо выяснить, на котором из этих подонков следует остановиться.
Выбор пал на Бориса Ганева, рьяного служаку военной разведки предреволюционной поры. Хотя между военной разведкой и полицией существовала обычная вражда, справка свидетельствует, что Ганев принадлежал не столько военным, сколько Гешеву. А может быть, не столько Гешеву, сколько фашистской охранке. А вероятнее всего, не столько охранке, сколько гестапо. В общем, тип довольно сложный, опиравшийся на широкую агентурную сеть. Сложный и, должно быть, неглупый, раз ему удавалось служить стольким хозяевам.
Предположение, что Ганев был неглуп, подкрепляется еще одним обстоятельством: в отличие от своих шефов он своевременно приходит к мысли о неизбежности краха и не проявляет склонности на месте дожидаться развязки. Хотя точная дата не установлена, из справки следует, что Ганев втихую покинул страну еще за несколько дней до Девятого сентября.
Полученное послание не содержит никаких данных о периоде, который меня интересует больше всего: как жил и чем промышлял упомянутый Ганев за границей в течение последних тридцати лет. Сбежав, он как будто растаял в пространстве, чтобы воскреснуть лишь теперь и именно здесь. Впрочем, более чем тридцатилетний период, которого мне недостает, отнюдь нельзя расценивать как достояние архива, не заслуживающее внимания. Именно к этому периоду относятся опасные происки Ганева, которые необходимо пресечь. Но это уже забота не Центра, а лично моя. Я сжигаю послание, открываю кран и мою раковину.
Затем вхожу в темную спальню и заглядываю в щель между шторами. Знакомая картина: Розмари в обществе двух бледнолицых режется в карты. Сколько ни торчи здесь, за шторами, ничего другого, кроме этого зрелища, мне не увидеть.
Я спускаюсь в кухню, чтобы заняться готовкой, поглощением собственной стряпни и заодно поразмыслить над уравнением с двумя неизвестными – Горанов и Ганев.
Человек, выдающий себя за Андрея Горанова, и человек, который в действительности является Борисом Ганевым, –
одно и то же лицо. Слава богу, это уже не вызывает сомнений. Однако, чтобы решить у равнение до конца, мне предстоит пройти немалый путь.
Когда прощаешься с жизнью земной, принято оставлять на месте происшествия свои бренные останки, чтобы твои близкие получили возможность их оплакать, а врач – установить причину смерти. В обществе существует порядок, согласно которому даже факт переселения в мир иной регистрируется и скрепляется печатью. А вот Горанов в нарушение элементарных приличий исчез, не оставив никаких следов. Может быть, он все еще жив? В таком случае по какому адресу он прописан? А если его надо искать в числе усопших, где его свидетельство о смерти?
То обстоятельство, что вот уже более тридцати лет никто ничего не слышал о существовании Горанова – я имею в виду настоящего, а не этого, живущего по соседству, – уже само по себе наводит на размышления. В конце концов Горанов не Борман, и у него не было особых причин провалиться в тартарары, если не иметь в виду ту, что рано или поздно переселяет всех нас в мир иной. Он не единственный богач, бежавший в канун революционного переворота за границу, и мог бы, подобно другим, не имея возможности продавать родину оптом и в розницу, жить на проценты от прежних накоплений.
Начав когда-то с экспорта продовольствия в Германию и переключившись вскоре на экспорт секретных сведений гитлеровской разведке, Горанов стал представителем крупнейших немецких фирм, производивших всевозможную технику – начиная с легковых автомобилей и кончая боевыми самолетами. Проценты от военных поставок очень скоро превратили его в финансового магната первой величины. И легко понять, что, решив бежать под угрозой надвигающихся событий, он пустился во все тяжкие не с пустыми руками. Но сейчас важнее другое: куда он сбежал, в какую забился дыру? И если в ту, из которой нет возврата, то почему над ней не установлен крест с его именем? Напрашивается и другой вопрос: почему Борис Ганев скрывается под именем Андрея Горанова? Легко догадаться, что у Ганева куда больше серьезных оснований скрываться, чем у Горанова, хотя и Ганев не Борман. Но почему он скрывается именно под вывеской бывшего торговца? Не означает ли это, что Ганев лучше кого бы то ни было знает о бесследном и окончательном исчезновении ее настоящего хозяина?
Этот, как всякий тенденциозный вопрос, содержит в себе и ответ. Правда, полноценным ответом он станет лишь в том случае, если удастся подкрепить его необходимыми данными. И возможно, только тогда передо мной откроется путь, ведущий к окончательному решению уравнения.
– О, вы меня ждете, Пьер!. Как мило с вашей стороны! – щебечет позади меня Розмари. – До чего же нудные эти люди…
Что эти люди ужасно нудные – единственная информация, которую Розмари благоволит мне приносить всякий раз после встречи с Ганевым и Пеневым.
– У меня такое чувство, что они вас основательно обирают, – позволяю себе заметить.
В силу привычки мы с нею продолжаем обращаться друг к другу на «вы» – остаток былой официальности, которая едва ли вообще существовала между нами.
– Они просто пользуются моим великодушием, –
уточняет Розмари. – Такие скряги, такие мелочные – мне просто жаль их обыгрывать. Надо бы как-нибудь подослать к ним Флору, тогда они поймут, что значит настоящий противник.
– Давно следовало это сделать, раз они такие.
– Неужели вы способны так уж решительно избавляться от всего досадного? – спрашивает она, усаживаясь по своему обыкновению на диван и закидывая ногу за ногу.
– Нет, конечно. В противном случае вокруг меня не осталось бы абсолютно ничего… за исключением дорогой
Розмари.
– Мерси, – кивает она. – Получилось не слишком убедительно. Дайте мне сигарету.
Я даю ей сигарету.
– А как вы сами представляете жизнь без досадных ситуаций?
– О, есть достаточно много простых и верных способов: почаще путешествовать, заводить новые знакомства, менять место жительства, впечатления… Пользоваться обществом Лорана, только не Лорана-торговца, а такого Лорана, который в редкие минуты, как бы случайно, становится очень милым… Не зависеть от отцовского бумажника, удовлетворять собственные капризы, сознавать в моменты усталости, что где-то меня ждет мой собственный уголок…
– И потом? – спрашиваю, когда она замолкает.
– Потом ничего. Внезапно прекратить свое существование в момент какой-нибудь катастрофы, даже не опомнившись, – прежде чем пресытишься, познаешь хандру, прежде чем старость обезобразит тебя… Взять свое и исчезнуть… Чего еще желать?
– Банально, – качаю я головой. – К тому же чересчур расточительно. Такие траты – и только ради того, чтобы не испытывать досады.
– Понимаю. Зато помечтать нам решительно ничего не стоит. Нужно только иметь желание. Впрочем, у меня такое чувство, что вам, к примеру, и в голову никогда не придет помечтать немного.
– Мне и в самом деле ничего подобного не приходит в голову.
– Вы, вероятно, только проекты вынашиваете. И конечно же, только в рамках полезного и вполне осуществимого.
– Совершенно верно.
Я охотно соглашаюсь с нею, чтобы доставить ей удовольствие, но, похоже, это ее лишь раздражает. Розмари бросает в пепельницу недокуренную сигарету, смотрит на меня недовольно и неожиданно взрывается.
– Зачем вы дурака валяете? Какого черта вы меня обманываете? Какая вам от этого польза?
– Но почему вы пришли к мысли, что я вас обманываю? – спрашиваю предельно спокойным тоном.
– Потому что вы совсем не тот, за кого себя выдаете. Я
достаточно наблюдала, как вы проводите дни, как делаете покупки и как играете в бридж. У вас нет ничего общего с торговцами, которые поглощены заботой о том, как из одного франка сделать два, а из двух – четыре. Вы не умеете дорожить деньгами, вы их проигрываете так же небрежно, как стряхиваете пепел с сигареты!
– Я воспитанный человек, Розмари.
– Не особенно. Когда человек воспитан, это видно по его поведению. Особенно при затяжной игре.
– А почему вы не можете согласиться с тем, что у меня свое отношение к жизни?
– Какое именно?
– Совершенно непохожее на ваше. Вы гонитесь за ветром. Вполне естественный порыв, не отрицаю. Человек всегда склонен гнаться за тем, что ускользает от него.
– Ну хорошо, а вы? – спрашивает она, вытягиваясь на диване и бесцеремонно занося на столик ноги, обутые в туфли на толстенных каблуках, представляющие с некоторых пор крик моды.
– Я? Возможно, в определенном возрасте я тоже был неравнодушен к такому виду спорта. Но почему вы не хотите поверить, что я давно стал совсем другим и мы с вами смотрим на вещи совершенно по-разному? Вы бегаете, а я сижу смирно. Такой взгляд на вещи ведь тоже возможен: если желание недостижимо, не проще ли махнуть на него рукой? Раз непомерные претензии связаны с риском и приводят к банкротству, да пошли они ко всем чертям!
Зачем иметь собственную виллу, когда я могу снять ее? К
чему мне десять комнат, если меня устраивают две? Какой смысл стремиться к большим барышам, если необходимое я зарабатываю без особого труда?
Она слушает меня с отсутствующим видом, словно думает совсем о другом. Я уверен, ни о чем другом она не думает, но пока не могу понять, чем же она сейчас занята: то ли силится понять мое жизненное кредо, то ли старается разобраться, кто я есть на самом деле. Ведь человек, вынужденный выдавать себя за другого, – тот же актер.
Только актер скрывающий, что он актер, попадает в довольно затруднительное положение на виду у одного и того же зрителя.
– Может быть, вы правы, – произносит она наконец с усталым видом. – Но это ваша правда. Досадная правда этого досадного мира. Потому-то для меня все же привлекательней мираж.
Она медленно встает, подавляя зевок, и направляется к спальне, не забыв пожелать мне спокойной ночи. Я в свою очередь поднимаюсь по лестнице, говоря ей вслед, что и ее банальный мираж, и мои плебейские рецепты в конечном итоге друг друга стоят.
Разумеется, я разыгрываю роль. Однако стоит мне задуматься на минуту, что эта сонная апатия без всякой надежды на пробуждение – прискорбная реальность, как меня начинает мутить. Хорошо, если тут роль виновата, а не яичница. Мне показалось, яйца были не совсем свежие.
Моя миниатюрная подзорная труба направлена на худое морщинистое лицо человека, стоящего на террасе.
Свет, процеживающийся сквозь тканевые занавески в зеленую и белую полоску, делает это лицо зеленоватым, как будто перед моими глазами вампир Дракула отталкивающего вида, но не такой уж страшный Дракула, потому что вместо острых собачьих клыков у него искусственные челюсти. Это, разумеется, Горанов или, если угодно, Ганев.
Вместо обычного темно-красного халата на нем темно-синий, несколько вышедший из моды костюм – Горанов надевает его в тех редких случаях, когда отправляется в город. Пожилой человек прохаживается по террасе в тени занавесок, время от времени посматривает на часы, а его обычную гримасу, характерную для страдающих от зубной боли, несколько видоизменила нотка нетерпения – больной напрасно ждет зубного врача, который избавил бы его от страданий.
Если вы интересуетесь поведением субъекта, почти не выходящего из дому, и если вы заметили, что этот субъект собрался куда-то ехать и даже обнаруживает несвойственное ему нетерпение, легко объяснить ваше страстное желание последовать за ним. Такое желание я испытал еще в самом начале – через несколько дней после того, как поселился на этой вилле. Однажды утром Горанов отбыл на своем «шевроле» в неизвестном направлении и вернулся только вечером. Отбыл, а я остался дома.
Потому что я уже тогда достаточно твердо уяснил две вещи. Во-первых, все действия этого подозрительного человека, вероятно, в полной мере сообразуются с требованиями безопасности, следовательно, ничего, что заслуживало бы внимания, они мне не откроют. И во-вторых, также по соображениям безопасности, Горанов не побрезгует никакими средствами, лишь бы установить, следят ли за ним, и обнаружит меня. Потому-то я тогда остался дома.
С асфальтовой аллеи доносится шум мотора и возле соседней виллы замирает. Человек в темно-синем костюме спускается по ступеням террасы на садовую дорожку. Даже теперь, когда на него не ложится зеленая тень занавески, его лицо кажется совершенно бескровным и очень болезненным. Ганев приближается к калитке, когда с улицы в нее входит Пенев. Между ними происходит короткий и, видимо, неприятный разговор. Старик сердито жестикулирует. Молодой дает ему ключ от машины и, видимо, в чем-то оправдывается, но тот выходит из калитки, не дослушав.
Минуту спустя включается первая скорость, а моего страстного желания поохотиться уже нет и в помине. Меня разбирает досада. Шесть месяцев предостаточно убедили меня, что все житье-бытье Горанова-Ганева педантично сообразуется с требованиями безопасности. Я могу заглядывать в щелку между шторами еще шесть месяцев или даже шесть лет – и ничего интересного не обнаружу. Не обнаружу ничего интересного и в том случае, если, подвергая себя глупому риску, потащусь следом за его «шевроле». Потому что нечто интересное, если оно вообще существует, тщательно скрыто от любопытных вроде меня.
Выход один: надо нарушить размеренное течение этого педантично продуманного житья-бытья, вырвать этого человека с недоверчивым взглядом из привычного ему состояния. Надо его встряхнуть, ошарашить, напугать, вплоть до того, что вызвать внезапный пожар в его доме.
От пожара, конечно, пользы будет мало. Но есть множество других средств, и два дня назад я предложил одно в коротком послании, оставленном в тайнике «вольво», вниманию Центра. Теперь мне не остается ничего другого, кроме как ждать результата.
Да, от пожара проку мало. Пожар всегда привлекает зрителей. Сбегается толпа. В первый ряд протискиваются такие не в меру любопытные, как Флора и Розмари. Словом, вместо конспирации получается цирк.
Тем временем внизу отчетливо слышен стук дамских каблуков. Моя квартирантка закончила обход окрестных магазинов. Каблуки уже стучат по лестнице. Я успеваю плюхнуться в кровать, чтобы изобразить сценку, которую можно было бы назвать «Мирный сон».
– Пьер, вы спите?
– Должно быть, уснул… Перед тем как вы пришли, –
бормочу я недовольно.
– И намерены продолжать, когда уйду?
– Почему бы и нет.
– А то, что вечером у нас будут гости, вас нисколько не смущает…
– Опять? – страдальчески вопрошаю я.
– Неужели вас не радует предстоящая встреча с Флорой?
– Три женщины мне ни к чему. С меня достаточно одной.
– А их скоро станет три? Это что-то новое.
– Я потому так говорю, что Флора вполне сойдет за двух.
– Оставьте ваши гимназические шутки и спускайтесь вниз, помогите мне, пожалуйста.
– Неужто поедем покупать еще один зеленый стол?
– Вы же знаете, сандвичей за пять минут не наготовишь…
Страдальчески вздохнув, я встаю. Не зря говорится –
светским удовольствиям предшествуют кухонные муки.
В дверях раздается звонок. Это, конечно же, Ральф
Бэнтон, аккуратный и точный, как всегда Он подносит
Розмари букет огненно-красных тюльпанов, меня одаряет своей бледной сонной улыбкой и начинает расхаживать по холлу, чтобы не измять в кресле костюм раньше времени.
Костюм у него светло-серый, сорочка снежно-белая, и все вместе это хорошо сочетается с его матовым лицом и черными густыми волосами, в чем юрисконсульт, вероятно, не сомневается.
Американец любит франтить, в этом нет ничего странного, но человеку свойственно франтить перед другими, будь то мужчины или женщины, а Бэнтон, насколько я заметил, особой склонности к женщинам не обнаруживает. Это уже странно. Не исключено, впрочем, что он проявляет склонность к мужчинам, хотя такое предположение может показаться вульгарным.
Розмари ушла на кухню, так что Ральф в силу необходимости вынужден начать чисто мужской разговор. А к чему может свестись мужской разговор, кроме денег и сделок?
– Ну, Пьер, надеюсь, вы довольны. Цены на продовольствие растут…
– Верно, – киваю я. – Только чему тут радоваться?
– Вот как? Разве вас не радует то обстоятельство, что вы будете продавать дороже, чем было до сих пор?
– Нисколько. Покупать ведь тоже придется дороже.
– Но у вас, вероятно, есть запасы…
– Боюсь, вы путаете меня с кем-то другим, Ральф. Я из тех горемык-торговцев, которые покупают сегодня, а завтра продают. И если завтра продать не удастся, им не купить послезавтра.
Он, как видно, собирается сказать, что я скромничаю или что-то еще в этом роде, но в дверях снова звонят, и я вынужден пойти встретить Флору. Вот это женщина! На ней светлый костюм из шотландки и белая гипюровая блузка, едва удерживающая ее пышные формы.
– Вы сама весна, Флора…
– Стараюсь оправдывать свое имя, мой мальчик, –
скромно отвечает она. И, по-матерински пошлепав меня по щеке, добавляет: – Глядите на меня, глядите… Пока не появилась Розмари и не надрала вам уши.
В это время, как и следовало ожидать, на пороге расцветает Розмари и звучат ее взволнованные слова:
«Ах, наконец-то, дорогая!», затем ответное приветствие
Флоры: «Рада вас видеть, милая!», но щедрое сердце Розмари не может этим ограничиться, и она изрекает: «А
костюмчик ваш – просто чудо!» Это уменьшительное как бы подчеркивает, что костюмчик вполне способен вместить всех четырех партнеров по карточной игре. Но Флора тоже не остается в долгу:
«А вы в этом длинном платье и на самом деле кажетесь чуть выше!» Обмен змеиными любезностями продолжается, но этот репертуар слишком хорошо знаком, и я не стану воспроизводить его до конца.
Хорошо знаком и ход игры, к которой мы тут же приступаем: уже с самого начала я, как обычно, проигрываю.
Проигрываю по мелочам, но методично и неизменно, так что даже Флоре не удается предотвратить мой крах.
– Рассчитывайте на меня, мой мальчик, во что бы то ни стало я должна вас спасти, – предупреждает женщина-вамп с непроницаемым лицом, и передо мной воинственно воцаряется ее огромный бюст.
– Сомневаюсь, – скептически бормочу я.
– Только не надо сомневаться! Когда идете к врачу или к женщине, постарайтесь отбросить всякие сомнения, иначе я вам не завидую.
Мне и в самом деле не позавидуешь, мое устойчивое невезение начинает бить Флору по карману, и она выложила несколько франков.
– Не сокрушайтесь, зато в любви повезет, – утешает меня Ральф, не выходящий из кризисного состояния по части остроумия.
Немка незаметно бросает в мою сторону довольно красноречивый взгляд, и после того, как я так позорно прогорел, он представляется мне лазурно-голубым. Похоже, эта женщина действительно строит какие-то планы относительно моего будущего, если я не заблуждаюсь.
Быть может, этот уик-энд – последняя доза досады, предусмотренной сонной терапией, длящейся вот уже шесть месяцев.
Очередная неделя начинается с важного сообщения. В
Центре мой план одобрен с небольшими поправками, и мне предложено безотлагательно предпринять необходимые шаги. Наконец-то.
Уточнение данных между мной и Бориславом через посредство Бояна позволило окончательно скоординировать проект и закончить выработку часового графика. Наступило время всем нам перейти к активным действиям, не считаясь с опасностью. Самому большому риску подвержен Борислав.
Ему выпала высокая честь или, если хотите, неприятная задача войти в непосредственный контакт с Ганевым. С
этой целью в пятницу утром – в пятницу, в этот плохой день, – мой друг должен позвонить по телефону мнимому
Горанову и попросить встретиться с ним наедине. Если потребуется, заставить его согласиться на такую встречу неясными обещаниями и смутными угрозами, дав ему понять, что человек на другом конце провода знает о нем решительно все.
Рандеву должно состояться в тот же день – чтобы Ганев не смог подготовить засаду или выкинуть еще какой-нибудь номер. Моя задача состояла в том, чтобы следить за соседней виллой и предупредить Борислава, в случае если Ганев вздумает подличать. Предупредить через
Бояна.
Пятница. Утро. Я неторопливо принимаю душ, неторопливо вытираюсь, неторопливо завтракаю – словом, делаю все возможное, чтобы Розмари уехала в город раньше меня. Так оно и происходит.
Заняв обычное место на своем наблюдательном пункте, я выглядываю в окно. В пяти метрах от меня Пенев, закончив мойку «шевроле», тщательно вытирает его известной водителям автомобилей специальной тряпкой, придающей кузову такой ослепительный блеск, о каком могут только мечтать владельцы автомобилей. Надеюсь, он готовит машину для себя, а не для Горанова.
Смотрю на часы: девять. Наверно, Бенато будет неприятно удивлен моим отсутствием, и перспектива самому платить за обед в «Золотом ключе» не очень-то его обрадует.
Пенев открывает ворота, садится в «шевроле», выгоняет его со двора и, закрыв ворота, едет вниз, к центру города. Это неплохо.
Спустя некоторое время я снова смотрю на часы, потом снова: десять. В соответствии с планом в эту минуту Борислав набирает номер телефона. И не только в соответствии с планом. Сквозь распахнутое окно холла соседней виллы – сумрачного в это солнечное утро – я вижу, как появляется темно-красное пятно – изрядно поношенный халат соседа. Ганев движется медленно, словно призрак, подходит к стоящему на буфете телефону и поднимает трубку. Разговор затягивается, чего можно было ожидать, но в чем причина – сказать трудно. Наконец старик опускает трубку и продолжает неподвижно стоять, как бы соображая что-то. Надеюсь, не замышляет какую-нибудь глупость, которая дорого обойдется всем нам, включая и его самого. Старик делает несколько шагов к окну, упирается руками в подоконник и смотрит прямо на меня. Разумеется, видеть он меня не может – окно зашторено. Не исключено, что он вообще ничего не видит: у него совершенно отсутствующий взгляд, а на хмуром лице выражение глубокой задумчивости. Наконец он медленно оборачивается, как бы опасаясь повредить позвоночник, и постепенно тонет в глубине мрачного холла.
Ровно в половине одиннадцатого авторучка в моей руке предупредительно щелкает. Бояна я не вижу, да и незачем мне его видеть, так как я уверен, что в эту минуту он сидит в своем «вольво» у задней ограды сада, под яблонями, благоухающими свежей зеленью.
– Встреча в среду, в девять, – слышится голос парня.
В среду в девять означает на нашем языке завтра в шесть. Значит, Ганев отказался от рандеву сегодня и отложил его на завтра, а Борислав уступил. Пускаться в расспросы, как и почему, сейчас неуместно. Хотя мы разговариваем на одной волне, известной только нам двоим, приходится следовать железному правилу: в эфире будь предельно лаконичен.
– Пока ничего, – сообщаю в свою очередь. – Встреча в два. Это означает, что наша следующая встреча в эфире состоится сегодня в пять часов. Вот и все.
С этого момента мне надлежит неотступно следить за виллой и ее окрестностями. Хорошо по крайней мере, что выдалась прекрасная погода и Ганев оставил окно в холле широко распахнутым. Не успел я поблагодарить бога за это благоприятное обстоятельство, как из полумрака выплывает старик, захлопывает обеими руками створки окна и вдобавок опускает массивную штору. Отныне никакой видимости.
А какой бы был прок, если бы это случилось несколькими часами позже? Реши Ганев дать тревожный сигнал, он имеет полную возможность сделать это и ночью или использовать Пенева в качестве связного. Об одном трудно с уверенностью судить: не вздумает ли Ганев сам уйти из дому и не придет ли к нему на выручку кто-нибудь со стороны? Вся надежда на то, что старик, человек разумный, будет иметь достаточно времени, чтобы взвесить все «за» и «против» и решить, что назначенная встреча ничем особенно ему не грозит и что в его интересах лучше понять намерения другой стороны.
И все же риск налицо. Не только в том, что я, быть может, переоцениваю здравый смысл этого типа. Ведь не исключено, что он находится под наблюдением других людей и они не станут дожидаться специального приглашения вступить в игру. Прелестная Розмари и пышная
Флора, какими бы безобидными они ни казались, не оставляют сомнения, что не только треугольник «Дельта»
проявляет интерес к Ганеву.
Итак, пять часов. Возможно, это самое подходящее время: моя квартирантка обычно возвращается позже.
Только сегодня она, как назло, вернулась без десяти пять.
Общительная, как обычно, она спешит подняться ко мне в спальню, чтобы справиться, как я себя чувствую. Оказывается, я заболел, хотя еще не на смертном одре.
– У вас температура? – сочувственно спрашивает она и протягивает свою белую руку к моему лбу.
– Думаю, что нет, – спешу я ответить. – Только жутко болит голова. Я буду вам признателен, если вы скатаете на
Остринг и возьмете мне пачку пирамидона.
– Зачем вам этот ужасный пирамидон? – возражает квартирантка. – У меня есть аспирин.
– Я бы предпочел пирамидон, – настаиваю я, зная, что она пирамидоном не пользуется. – Аспирин скверно действует на мой желудок.
– Вы же знаете, для вас я готова на все, – уступает
Розмари и спускается вниз.
Однако минутой позже мне слышится ее ликующий голос:
– Ваше счастье, дорогой! Я нашла пирамидон здесь, в ящике стола.
С торжествующим видом она приносит мне пирамидон и стакан воды, а уже без трех минут пять, и единственное, что мне приходит в голову, – попросить Розмари вместо воды дать мне стакан горячего чая. На что она, к моему облегчению, отвечает:
– Ну разумеется, стакан горячего чая вам скорее поможет.
И снова спускается вниз.
Заварить стакан чая не такая уж сложная процедура, и все же она длится достаточно долго, чтобы выйти на связь, предупредить Бояна, чтобы установил слежку за Пеневым, и сказать, что следующая встреча завтра в восемь.
Пенев возвратился полчаса назад, но где он сейчас и чем занимается – сказать трудно: прикидываться больным и в то же время торчать у окна я не могу, тем более что
Розмари уже несет дымящийся чай и настойчиво требует, чтобы я его выпил, пока он не остыл, а вы знаете, как приятно в такую теплынь хлебать крутой кипяток, – если не знаете, то не мешает попробовать, только не забудьте перед этим проглотить пару таблеток пирамидона.
Наконец, когда я вытягиваюсь на кровати и страдальчески прикрываю глаза, Розмари оставляет меня одного, и это обстоятельство дает мне возможность снова занять наблюдательный пункт на стыке двух штор, впрочем, без особых результатов, потому что до самого вечера ничего не случается и никто из двух соседей не покидает виллу – по крайней мере насколько я могу видеть. Но вот напасть, без малого девять Розмари приносит новый стакан чая и опять заставляет меня наливаться кипятком и глотать пирамидон.
После ее горячей заботы я всю ночь исхожу потом, но от этого есть и польза: в таком состоянии я не могу пасть в манящие, но опасные объятия сна и, бодрствуя у окна, отчетливо вижу при свете уличного фонаря и сад, и парадный вход соседней виллы. Однако и в эти долгие часы ничего не происходит.
– Ничего, – слышу под утро в эфире голос Бояна.
– Ничего, – сообщаю в свою очередь. Последняя связь перед роковой встречей назначается на пять тридцать вечера. Чуть позже ко мне заглядывает Розмари – она справляется о моем здоровье. Я спешу успокоить ее, что мне значительно лучше, даже совсем хорошо, надеясь увидеть, как она уезжает в город на своем красном «фольксвагене», но сегодня суббота – отложив встречу, этот тип спутал все карты, – и Розмари шастает по дому до двух часов, а потом снова приходит, чтобы сообщить мне, что она собралась в кино, и торопится успокоить меня, что долго задерживаться не станет.
– Но чего ради вы должны портить из-за меня свой уик-энд, дорогая? – протестую я. – Ведь мне уже совсем хорошо.
Уверенная, что доставляет мне неземное удовольствие, она говорит, что долго не задержится, тогда как меня основательно заботит одно: часа через три, то есть в самое неподходящее время, она вернется. Возможно, даже в момент выхода на связь.
Наконец-то меня оставили в покое. Вздохнув с облегчением, я подхожу к окну. Ничего примечательного. Между прочим, еще и потому, что в доме напротив окна зашторены. Лишь к четырем часам на террасе появляется
Ганев и вытягивается в шезлонге под навесом. Распростертый, с закрытыми глазами, он сейчас похож на спящего, а может, на мертвого Дракулу – с той лишь разницей, что вместо длинных и острых клыков вампира у него безобидная искусственная челюсть.
К пяти часам на террасу выходит Пенев. Они обмениваются несколькими словами, после чего Пенев идет к «шевроле», повторяет знакомую операцию с воротами и катит к центру города, а Ганев возвращается в виллу. Все идет как полагается, точно по плану: Борислав предупредил старика, что во время встречи никого, кроме них, в доме не должно быть.
Однако четверть часа спустя происходит нечто такое, что планом не предусмотрено. Два человека в темных шляпах, с портфелями такого же темного цвета, ничем не примечательные (совершенно мне незнакомые), заходят во двор, звонят у двери и входят в дом. Верно, они задержались там каких-то десять минут. Быть может, это обычные торговые агенты или налоговые инспектора. Что особенного, если они заглянут к клиенту в свободное время уик-энда? Словом, не заслуживающая серьезного внимания, хотя и непредвиденная деталь. Только при определенной ситуации непредвиденная деталь способна оказаться роковым обстоятельством.
– Бориславу ждать новых указаний, – передаю я в эфир. – Постоянно поддерживай контакт со мной.
Точный расчет и надежность операции – все вмиг пошло прахом. Изменившаяся обстановка перечеркивает хорошо обдуманные ходы, и теперь мы должны действовать напропалую. Две машины – Бояна и Борислава – будут колесить вокруг этих мест, таиться под деревьями неизвестно сколько времени, пока не привлекут к себе внимания. «Бориславу ждать новых указаний». А когда они поступят, эти новые указания? Когда рак свистнет? Или после того, как Пенев вернется домой?
Пока я совещаюсь сам с собой и задаю себе эти неприятные вопросы, внизу, в холле, слышится шум. Отчетливый стук дамских каблуков. Это прелестная Розмари.
Я мысленно желал ей хорошо поразвлечься и вернуться как можно позже, но она не посчиталась с моими пожеланиями и оказала мне неоценимую услугу.
– Как себя чувствуете, Пьер? – спрашивает Розмари, заглядывая ко мне в спальню. – Сделать вам чай?
– Это совершенно ни к чему, милая. Мне уже хорошо.
– У вас все получается наоборот, друг мой, – замечает моя квартирантка. – Зимой, когда здесь повсюду свирепствовал грипп, вы даже не чихнули. А сейчас, в разгар весны, вдруг свалились.
Она спускается вниз по лестнице. И в этот миг, словно только теперь вспомнив о чем-то, я кричу:
– Чуть было не забыл: некоторое время назад герр Гораноф звонил по телефону. Просил передать, что он и тот, другой, будут ждать вас в пять…
– В пять? Но сейчас уже без пяти шесть… Хорошо по крайней мере, что вы об этом не сообщили после полуночи.
Она продолжает спускаться по лестнице, и уже через минуту я слышу стук калитки и вижу, как Розмари приближается к парадному входу в соседнюю виллу и нажимает на кнопку звонка. Судя по всему, сигнал остается без ответа, так как она пробует снова звонить, а затем нажимает на ручку двери и входит в дом.
Входит и тут же возвращается. Эти два действия разделяют считанные секунды, но перемена в поведении женщины столь очевидна, что и подзорная труба не нужна.
На ней лица нет, она в панике и вот-вот закричит, но, чтобы не закричать, закрывает рукою рот, и беспомощно вращает глазами – словно соображает, что ей делать, но тут ее взгляд инстинктивно устремляется на меня.
Облокотившись на подоконник, я в это мгновение радуюсь солнцу, как поступил бы всякий больной, чудом избежавший могилы. Встретив безумный взгляд женщины, я киваю ей, как бы спрашивая: «В чем дело?» Она кидается в мою сторону и в момент, когда издалека доносится тревожный вой полицейской сирены, кричит мне, задыхаясь:
– Убит!.. Ножом в спину…
– Чего же вы торчите там как идиотка! – кричу я ей. –
Прыгайте через ограду! Разве не слышите, что уже едут!
Мой грубый окрик, как видно, помог ей опомниться, потому что, приподняв подол, она сигает через низкую ограду и устремляется к заднему входу в нашу виллу, где ей удается скрыться как раз в тот момент, когда перед домом Горанова пронзительно визжат тормоза полицейской машины.
В моей руке щелкает авторучка.
– Исчезайте! Ганев убит, – сообщаю, прежде чем в комнату врывается Розмари и прижимается ко мне, истерично выкрикивая:
– Лежит на полу в холле… В спине торчит нож, и все в крови…
– Ладно, ладно, успокойтесь. – Я похлопываю ее по дрожащей спине. – Вас это не касается, вы ничего не знаете.
– Видели бы вы, сколько крови… – продолжает она.
– Ровно столько, сколько человеку положено, не более.
Успокойтесь. Наверно, скоро сюда придут расспрашивать.
И если не хотите, чтобы вас месяцами таскали… Или, не дай бог, обвинили в убийстве.
Последние слова, по-видимому, окончательно вернули ей разум.
– А вдруг кто-нибудь видел меня там?
– Не думаю, что видел еще кто-нибудь, кроме меня.
– О Пьер! Я буду вам обязана всю жизнь!
Пропускаю эту клятву мимо ушей, осматривая квартирантку, чтобы убедиться, не посадила ли она случайно где-нибудь кровавое пятно, как в старинных детективах.
– Ваше счастье, что вы в перчатках… – тихо говорю я, и у входа раздается звонок.
5
– Как я выгляжу? – спрашивает Розмари, выходя из своей комнаты.
– Нормально, – отвечаю.
Скоро семь, а в семь нам предстоит картежничать у
Бэнтона, и моей квартирантке хочется выглядеть естественной, иметь вид человека, которого не особенно печалит убийство почти незнакомого соседа. Лицо ее, сейчас спокойное, снова обрело вполне здоровый цвет, возможно не без помощи косметики.
Подбоченясь – поза выставленных в витринах манекенов, – она делает несколько шагов по комнате, как бы приучая себя держаться просто и непринужденно.
– Вы будете выглядеть еще лучше, – замечаю я, – если в своей непринужденности не перестараетесь.
– На что вы намекаете? – вздрагивает она и останавливает на мне взгляд.
– На то, как вы себя вели в присутствии полицейских.
Вначале вы совершенно одеревенели, а потом собрались с духом и до такой степени распустили язык, что неизбежно вызвали бы подозрение, если бы они так не торопились.
Вам бы неплохо быть сегодня сдержанней и не оглушать всех вашим не в меру звонким и ужасно фальшивым смехом. Она молчит, как бы подавленная моими словами.
– Вы меня разочаровываете, дорогая, – считаю я нужным добавить. – Вы, женщина столь сложная по натуре…
– Но у меня нет ничего общего с преступным миром, Пьер.
– Вот и прекрасно. В самом деле, не вы же его убили?
– Вы хотите снова довести меня до истерики, – бросает
Розмари дрожащим голосом. – Что из того, что не я его убила? Ведь я там была и все видела своими глазами: лежащий на полу труп и кровь… столько крови… Меня могли застать на месте преступления и спросить, что мне здесь нужно, возле этого трупа, в этой комнате, поинтересоваться, почему я так часто бывала в этой вилле, что у меня общего с этим стариком, и… еще минута, и я бы влипла по уши…
Она умолкает на время, затем, внезапно переменив тон, как это ей свойственно, спрашивает:
– А вы уверены, что сюда звонил именно Гораноф?
– Как же я могу быть уверен, если никогда в жизни не слышал его голоса?
– А какой у него был голос, у этого человека? Он говорил с акцентом?
– Низкий и хриплый. Акцента я не уловил.
– Значит, это был не Гораноф, – сокрушенно бормочет
Розмари и опускается в кресло.
– Какая разница, кто это был? Может, тот, другой.
– Вы имеете в виду Пенефа? Нет, тоже исключено, –
качает головой Розмари. – У них обоих ярко выраженный акцент. И голос у каждого из них не такой уж низкий и не хриплый. Это была ловушка, Пьер…
– Что за ловушка?
– Самая коварная ловушка. Вы только подумайте: звонят сюда, чтобы заманить меня на виллу именно в тот момент, когда там замышляется или уже совершено убийство…
– Но у каждого, кто пошел бы на такой шаг, должны быть серьезные основания, – соображаю я вслух. – У вас есть враги, способные на такую пакость?
– А почему вы думаете, что человек знает всех своих врагов? Я могу и не подозревать об их существовании, –
возражает она, и в ее словах есть некоторая логика.
– Но если они существуют, то не без причин…
– Причин я тоже могу не знать. Откуда мне известно?.
Может, они и заманили меня туда, полагая, что на меня скорее всего падет подозрение… Я часто, хотя и без всякого умысла, бывала у Горанофа…
– Все возможно, – прерываю я ее. – Но мне кажется, надо отложить эти рассуждения на потом. Иначе вы и в самом деле снова расстроитесь. – И чтобы направить ее мысли по другому руслу, добавляю как бы невзначай: –
Похоже, нынче вечером вы решили окончательно охмурить вашего Бэнтона.
Я имею в виду ее предельно короткую юбку, из тех,
какие теперь носят лишь девочки-подростки, поскольку
Розмари, видимо после долгих колебаний, снова решила выступить в роли балованной дочки.
– Мне все же кажется, – продолжаю я, – что искушение будет более сильным, если вы явитесь вовсе без юбки.
– Едва ли и это поможет, – отвечает Розмари, которая стала понемногу успокаиваться. – Мне думается, у вас несколько ошибочные представления о сексуальных вкусах этого господина.
В небольшой замок Бэнтона нас вводит его шофер. В
гостиной камердинер хлопочет у буфета, пока Ральф не указывает ему на дверь. Верные слуги Ральфа – оба смуглые метисы, их большие глаза и неторопливые грациозные движения таят в себе что-то женственное. Одного Бэнтон называет Тим, а другого – Том. Они, наверное, братья, если не близнецы; что касается меня, то я никак не могу различить, кто из них Тим, а кто Том.
Не успел Ральф родить свой банальный комплимент в адрес Розмари, как холл озаряет Флора своим неповторимым царственным видом. Ее энергичного рукопожатия никому избежать не удается, но я замечаю, что американец предусмотрительно переместил свой массивный золотой перстень с правой руки на левую. Ну вот, все в сборе, можно бы начинать игру, как всегда. Однако сегодня все не как всегда.
– Какая сенсация, а? – восклицает Флора, располагаясь на золотистом шелковом диване, а не за карточным столом.
– Мне бы не хотелось вас разочаровывать, но десятки подобных сенсаций во всех уголках земли стали обычным явлением, – уныло замечает Бэнтон.
– Простите меня, дорогой, но, должна вам заметить, здешние места – это вам не Чикаго, а зона отдыха, – отвечает Флора, явно задетая тем, что кто-то попытался свести на нет ее сенсацию.
– В Чикаго опасность намного меньше, – поясняет
Ральф все с той же апатией. – Там вас убивают лишь в крайнем случае и только при наличии серьезных мотивов.
– Мотив всегда один и тот же, – роняет Розмари. Она единственная сидит за столом и рассеянно тасует карты.
– Один и тот же? – вскидывает брови женщина-вамп. –
Говорят, что убийца пальцем не притронулся к деньгам, находившимся в бумажнике Горанофа.
– Вероятно, ему было недосуг заниматься такими пустяками, – пробую я вмешаться. – Он искал что-то более существенное.
– Тридцать тысяч франков тоже не пустяк, мой мальчик, – возражает Флора.
– Да, – киваю я. – Для вас и для меня. Но представьте себе, что убийца искал нечто такое, что не укладывается и в три миллиона…
– Не будьте наивны, Пьер, – корит меня американец. –
Такие дорогие вещи люди хранят в банке. Тем более если они живут в городе банков.
– Не спорю. Но ни для кого не секрет, что такие вещи прячут в сейфе, а сейф запирается на ключ. Так что стоит ли удивляться, если убийца проник в этот дом именно в расчете завладеть ключом?
– Вот именно! – восклицает Флора.
– Вот именно? – бросает на нее взгляд Бэнтон. – Вы не забывайте, что для того, чтобы залезть в сейф, одного ключа мало, необходимо еще и шифром владеть.
– Вот и прекрасно, – иду я на компромисс. – Мы сошлись на том, что убийца проник в дом нашего соседа, чтобы завладеть ключом и шифром.
Американец лениво посматривает в мою сторону, и его черные глаза вроде бы таят легкую насмешку.
– У вас есть шифр, неужели вы станете сообщать его первому попавшемуся нахалу?
– А если у этого нахала в руке нож?.
– Если у него нож, вам ничего не стоит околпачить его всучить ему фальшивый шифр, выиграть время и сообщить в полицию. Кому придет в голову вместе с ключом поднести ему и волшебную цифру?
– В таком случае?. – спрашивает озадаченная Флора.
– В таком случае? – пожимает плечами Бэнтон. – В таком случае спросите убийцу.
– Все же вы, как ревнитель законности, не можете не иметь собственной версии, – вызывающе произносит Розмари, продолжая бесцельно тасовать карты.
– Что касается законности, то мои интересы распространяются лишь на сферу банковских операций, – напоминает американец. – И вообще ни одна версия не может строиться на обывательских сплетнях. К тому же надо иметь хоть какое-то представление об убитом…
– Вы, дорогая моя, кажется, хорошо его знали, – обращается Флора к Розмари.
– Если вы считаете, что за три партии в белот можно узнать, что за тип… – пробует возразить моя квартирантка каким-то безжизненным голосом, но не договаривает.
– Три партии в белот? – снова вскидывает брови женщина-вамп. – А у меня создалось впечатление, что вы довольно частенько наведывались к нему…
– Не пользуетесь ли вы, милая, сведениями герра Пенефа, с которым у вас задушевная дружба? – спрашивает моя квартирантка, лучезарно улыбаясь.
– «Задушевная дружба»? Вы говорите на основании того, что однажды у вас на виду я обменялась с ним несколькими словами перед кафе, на Остринге…
– Я вас видела в другой раз, – уточняет Розмари. – И не перед кафе, а внутри него.
– А что вы станете делать, если какой-нибудь нахал плюхнется к вам за стол? Затевать скандал? – Она обводит всех нас взглядом, словно ищет сочувствия, затем добавляет: – Разве я виновата, что мужчины обалдевают при виде меня…
– Определенная категория мужчин… – вставляет Розмари.
– Женщина, способная производить впечатление на всех мужчин, еще не родилась на свет, моя дорогая, – философски заключает Флора.
Она встает с удивительной легкостью для ее внушительной фигуры и направляется к карточному столу. Мы с
Ральфом также занимаем свои места. Разговор вроде бы на этом закончился или мог бы закончиться, если бы Розмари устояла перед искушением и не добавила масла в огонь:
– Я тут слышала в бакалейной лавке, вашего Пенефа задержали. Интересно, где он находился в момент убийства…
– Если я не ошибаюсь, он находился в таком месте, которое обеспечило ему алиби, – отвечает Флора, усаживаясь напротив меня. – И, к вашему сведению, сразу же был освобожден. Кроме всего прочего, он вовсе не «мой Пенеф».
– Я сказала без всякой задней мысли… – бормочет
Розмари, желая убедить нас в обратном.
– Не сомневаюсь, – соглашается Флора с не меньшим лицемерием. – Но если говорить о вкусах и о мужчинах, то у меня такое чувство, что мои вкусы не слишком отличаются от ваших.
Разумеется, она так говорит лишь для того, чтобы привести в бешенство мою квартирантку, и с той же целью продолжительное время смотрит на меня с откровенной симпатией. Наконец начинается игра.
Холл Бэнтона намного больше нашего – как-никак хозяин занимает важный пост в солидном банке и является держателем акций этого банка. И все-таки замок принадлежит не ему, хотя и мягкой мебели здесь больше, и на стенах красуются английские гравюры на охотничьи сюжеты – у нас, как известно, их заменяют картинки, представляющие собой галантные сцены. Словом, если вы попробуете судить о характере хозяина по характеру интерьера, то непременно ошибетесь, потому что все здесь отвечает вкусу не хозяина, а владельца виллы. Ральф Бэнтон относится к числу людей, убежденных в том, что высокие доходы предоставляют им свободу устраивать личную жизнь по своей собственной воле, хотя им даже в голову не приходит, что вся их жизнь так или иначе зависит от воли других – хозяина, или портного, или парикмахера, или метрдотеля, обеспечивающего им в дни приема гостей «холодный буфет».
Впрочем, справедливости ради я должен признать, что «холодный буфет» превзошел все ожидания. Так по крайней мере считают Флора и Розмари, что же касается меня,
то я не могу назвать себя ценителем омаров и какой-то там рыбы с каким-то там майонезом – когда я голоден, я готов довольствоваться чем угодно, хотя бы яичницей с ветчиной. Настало время заняться «холодным буфетом», и после того, как наши дамы, не устояв перед искушением, отведали всего, что бог послал, разговор, естественно, возвращается к исходной теме, то есть к вопросу о возможном убийце, и Розмари по-прежнему выражает сомнение, что
Пенев освобожден – таких так просто не освобождают, а
Флора убежденно доказывает обратное – задержав, его тут же освободили, и что при желании можно в этом убедиться, у него и сейчас горит свет, в чем Розмари не находит ничего удивительного, потому что полиция не станет сидеть в темноте, и, чтобы прервать этот бесплодный спор, я обращаюсь к Бэнтону с предложением:
– Ральф, а не могли бы вы послать туда кого-нибудь из своих людей и проверить, как в действительности обстоят дела с Пенефом, чтобы можно было осведомить дам и продолжить игру?
Американец галантно подтверждает, что ради дам он готов на любые жертвы, однако дамы тут же заявляют, что этот Пенеф им до лампочки, и мы снова садимся за карточный стол.
Газетное сообщение об убийстве Горанова привлекает внимание лишь крупным заголовком. Сама информация не изобилует любопытными данными. Предположительно указывается, в какое время совершено преступление, и отмечается, что убийца, вероятно, действовал в перчатках.
Засим следует репортерский комментарий, в котором порицается неслыханное падение нравов, – дошло, дескать, до того, что даже в таком городе, как Берн, в городе с богатыми культурными традициями, совершаются кровопролитные покушения.
Убийство. Город забудет о нем в тот же день, а публика, проживающая в этом квартале, – через неделю или две.
Убийство, мотивы которого весьма неясны, а автор неизвестен, неизбежно потонет в архиве. Что же касается меня и моих коллег, то для нас эта история кое-что значит, и мы не склонны так скоро похоронить ее под слоем канцелярской пыли.
Человека, для установления личности которого потрачено столько сил и времени, больше нет в живых. С первого взгляда может показаться, что это ставит точку на всей операции и для нас вроде бы гора с плеч… Вечный ему покой, мертвый для нас не враг, и все в этом роде. Шпионы, действующие в загробном мире, не входят в круг интересов разведки.
Но если Ганев больше не фигурирует среди живых, то его убийца, вероятно, фигурирует. И это обстоятельство само по себе вносит в повестку дня определенные вопросы.
В случае если покойник располагал, как я склонен думать, картотекой своей агентуры, то где она теперь? А желание завладеть этой картотекой – не могло ли оно стать истинным мотивом убийства? И если картотека действительно сменила хозяина, не затем ли новый хозяин стремился ее заполучить, чтобы теперь найти ей применение? Кому она понадобилась, как и с какой целью ею можно воспользоваться? – это уже подтемы основных вопросов, ожидающих своего решения и указывающих на то, что операция вопреки внезапной кончине ее главного объекта вовсе не закончена.
Более или менее обстоятельный осмотр виллы, где проживал Горанов, возможно, пролил бы некоторый свет на проблемы, которые меня занимают. Только говорить об этом – все равно, что делиться своими мечтами. Обыск одного-единственного помещения (имеется в виду обыск в полном смысле слова, тщательный и педантичный) предполагает долгие часы напряженной работы. Я же не имею возможности провести там ни минуты, а уж о часах и речи быть не может. Вилла все еще оккупирована швейцарской полицией. Заметим, кстати, что со швейцарской полицией шутки плохи. Отлично вышколенный, хорошо оплачиваемый и опирающийся на суровые законы, здешний полицейский спуску не дает. Конечно, имеется в виду полицейский по призванию. И если преступность в Швейцарии пока что не до такой степени марает быт общества, как в некоторых соседних государствах, то объяснение этому следует искать не в целебном альпийском воздухе, а в дюжей руке, держащей полицейскую дубинку.
Итак, весь нижний этаж виллы, где проживал Горанов, в распоряжении властей. Что касается верхнего этажа, там, как и прежде, живет Пенев. Сразу после того, как преступление было обнаружено, Пенев действительно оказался в городе, где и был ненадолго задержан, но, по утверждению
Флоры, у него железное алиби. В момент покушения он находился в кафе, где был завсегдатаем и где все его знают как облупленного.
Как правило, железное алиби оказывается именно у того, кто больше всего в нем нуждается. Однако на руку
Пеневу и другое обстоятельство: он в отличие от других возможных убийц Горанова для достижения корыстных целей мог не прибегать к убийству. Доверенное лицо Горанова, он многократно оставался в доме один, еженощно пребывал в непосредственном соседстве с его владельцем и, следовательно, располагал неограниченными возможностями осуществить грабеж, не пачкая рук в крови.
Разумеется, в глазах полиции грабеж – не единственный из возможных мотивов убийства. Именно Пенев надоумил власти искать причину совсем в другом. Когда в полиции его спросили, как он склонен объяснить преступление, Пенев не упустил удобного случая, чтобы лишний раз полить грязью свою страну, и высказал предположение, что убийство – дело рук болгар и носит политический характер. Эту версию, в свою очередь, подхватила местная консервативная газетенка, тут же напечатавшая очередную заметку против политики разрядки.
Итак, Пенев. После окончательного заката Ганева вполне логичен восход Пенева. И нет ничего удивительного в том, что именно Пенев станет наследником если не имущества своего покровителя, то его шпионской деятельности. Кстати, пронесся слух, будто Пенев вовсе не прочь завладеть и имуществом и с этой целью пытается использовать перед властями свидетельство какого-то нотариуса, у которого Горанов якобы собирался оформить завещание в пользу своего квартиранта. Однако властям на словах ничего не докажешь, им подавай бумагу, подписанную и скрепленную печатью, так что, опять же если верить слухам, имущество покойника в ближайшее время будет продано с молотка в пользу государственной казны.
Итак, Пенев. Досье этого человека мне хорошо знакомо. В свое время он едет погостить к дядюшке, проживающему в Ганновере. Там объявляет себя невозвращенцем. Очередная микроскопическая сенсация, отраженная в микроскопическом сообщении местной печати под обычным заголовком «Выбрал свободу». В силу своей ограниченности свободу он мыслит не иначе как возможность оплевывать родину через посредство пресловутой «Свободной Европы». Как раз в это время в Мюнхене находится
Белев, занимающийся деятельностью некоторых людей, связанных с этим учреждением. В радиопередачах Пенев принимает довольно-таки мизерное участие, и это наводит на мысль, что свое жалованье он оправдывает на несколько ином поприще. Впрочем, это иное поприще тоже не тайна: он встречается с временно приезжающими на Запад болгарами, делает неудачные попытки выудить какую-либо информацию, а в отдельных случаях и завербовать. Потом
Пенев исчезает с горизонта, чтобы несколько лет спустя появиться в этом мирном городе, в этом сонном квартале в качестве адъютанта Горанова.
Поистине жалкая биография, в полной мере характеризующая этого подонка. И почти не способная пролить свет на его нынешнюю роль. Адъютант Горанова? В каком смысле? В том, что выступает его партнером, когда по вечерам они играют в карты? Старик и без помощи Пенева мог бы заварить себе чай, поладить с налоговыми властями.
Представить Пенева в роли телохранители тоже весьма трудно: нет у него для этого ни внешних данных, ни характера сторожевого пса. Остается одно: навязали его Горанову хозяева или тот сам его пригрел – Пенев стал его правой рукой в шпионской деятельности. У него есть необходимая квалификация. К тому же он еще достаточно молод и подвижен, чтобы быть счастливым дополнением к этому дряхлому старику.
Именно дополнением. Однако теперь, когда основа перестала существовать, дополнение в свою очередь сделалось основой. И если Горанов с Пеневым действительно возглавляли какую-то секцию шпионажа, вполне логично предположить, что сейчас она целиком в руках Пенева.
Мои небогатые личные наблюдения в совокупности с некоторыми отрывочными данными, полученными от
Бояна, позволяют обрисовать этого типа, у которого все острое – начиная с носа, похожего на птичий клюв, и кончая колючим взглядом маленьких глаз, – как довольно тупую человеческую разновидность. Одевался он с дешевым шиком, два раза в день менял костюмы, хотя единственно доступные ему места светских развлечений – кинотеатры и раз в неделю кабаре «Мокамбо», символизирующее в этом сонном городе разгул плотских страстей. В остальном его вечера – по крайней мере до недавнего времени – заполнялись игрой в карты, а ночи, скорее всего, эротическими видениями, вызванными программой упомянутого «Мокамбо» или же прелестями загадочной Флоры. Одна-единственная самобытная черта в его характере – манера постоянно держать во рту незажженную сигарету, которую он все время жует, прежде чем раздавить и заменить новой, тоже незажженной. Хотя какая это индивидуальная особенность? Насколько мне помнится, Борислав в мучительный период отказа от курения тоже прибегал к подобному способу самообмана. Только в целях экономии он обычно сосал пустой мундштук.
Розмари врывается в холл, встает передо мной подбоченясь, принимает позу манекена и сверлит меня взглядом.
– Это платье с большими лиловыми цветами и в самом деле вам очень идет, – говорю я, полагая, что боевая поза рассчитана на комплимент.
Однако она оставляет комплимент без внимания и спрашивает:
– Вы слышали новость? Виллу Горанофа собираются продать с торгов.
– Великолепно. Мне только непонятно, почему это событие должно меня волновать.
– Такая роскошная вилла! Не говоря уже о том, что это лучший способ вложения капитала: цены на недвижимость непрерывно растут.
– Меня недвижимость не интересует.
– А меня интересует.
– Тогда дело за малым – нужны деньги.
– Я уже говорила с отцом. Он готов отпустить мне некоторую сумму.
– А мне что остается? Поздравить вас?
– Вы должны мне помочь.
Коснувшись существа вопроса, Розмари поднимает подол – «эти летние платья ужасно мнутся», – плюхается на диван и закидывает нога на ногу. Я предлагаю ей сигарету, не дожидаясь, пока она сама попросит, и жду дополнительных разъяснений.
– Недавно в трудный момент вы протянули мне руку…
– начинает она несколько высокопарно и посылает мне благодарный взгляд, а заодно и густую струю дыма. – И
знаете, как я вам признательна. Надеюсь, вы меня поймете,
мне ужасно неудобно снова обращаться к вам за помощью… Но что я могу поделать, Пьер? Женщина, даже такая независимая, как я, иной раз испытывает неодолимую потребность на кого-нибудь опереться.
– Очень тронут, что свой выбор вы остановили на мне.
Хотя, надеюсь, не в качестве жениха.
– Будьте спокойны. И может быть, это сентиментальное вступление совсем не к месту, потому что речь пойдет о совершенно прозаических вещах. Как вы уже слышали, определенную сумму мне дал отец. Не исключено, что ее вполне хватит. Но представьте себе, что имеющихся денег, как назло, окажется мало.
– Представить нетрудно: в эти времена инфляции…
– Я хочу просить вас ссудить меня необходимой суммой, если моего собственного капитала не хватит.
– А когда и как вы собираетесь вернуть долг? – непринужденно спрашиваю я, по собственному опыту зная, что при заключении сделок рыцарская галантность не обязательна.
– Немедленно и наипростейшим способом: я тут же закладываю виллу и возвращаю вам деньги.
– В таком случае я, пожалуй, смогу для вас кое-что сделать.
– О Пьер! Я так тронута!
Рискуя измять свое платье, Розмари бросается мне на шею. Когда же душещипательная сцена кончается и все возвращается на свои места, Розмари – на диван, а я – в кресло, на свое обычное место перед темным телевизором, мне приходится открыть ей глаза:
– Похоже, вы несколько преувеличиваете свои шансы.
Я слышал, Пенеф тоже собирается купить виллу.
– Пускай себе собирается.
– Но у него есть некоторые преимущества… Впрочем, вы можете поделить эти преимущества, предварительно вступив в брак…
– Что за преимущества? – спрашивает Розмари, пренебрежительно обойдя тему брака.
– Он снимает эту виллу.
– В этом нет никакого преимущества. По крайней мере в Швейцарии.
– Чудесно! – киваю я. – В таком случае пошли.
– Торопиться некуда. Торги состоятся через два дня.
Только этого мне не хватало. Впутаешься в идиотскую историю, а потом поди узнай, чем это кончится.
Торги должны состояться в массивном старом здании близ Бубенберга, покрашенном охрой, как и другие казенные учреждения. Два дня спустя, точно в установленное время, то есть в два часа дня, мы с Розмари пробираемся в зал номер три, где уже толпится десяток гиен, промышляющих куплей-продажей недвижимого имущества.
На кафедру выходит комиссар-оценщик и называет первый по списку объект – какой-то скромный домишко в отдаленном квартале города. Комиссар, худой человек с лицом аскета, стоит в темном костюме рядом с кафедрой и под резким лучом света, падающим из высокого окна, очень напоминает священника, читающего проповедь, с той лишь разницей, что вызывает почтительность паствы не крестом божьим, а костяным молотком.
– Видали? – шепчет мне Розмари, когда отчетливый стук молотка оповещает конец состязания. – Его купили всего за пятьдесят тысяч.
– Но ведь это самый обычный барак, – пытаюсь я охладить ее азарт.
– Велика важность, вы увидите…
Ей не удается закончить фразу, потому что в этот же миг мы с нею действительно видим нечто такое, что достойно внимания: сквозь немногочисленную публику протискивается Пенев, останавливается недалеко от нас и дружески приветствует Розмари. Она отвечает ему с вполне объяснимым холодком, едва заметно кивнув головой. Всегда одетый в высшей степени безвкусно, эмигрант на сей раз превзошел самого себя – вероятно, в честь торжественного события: он в спортивном костюме оливково-зеленого цвета в лиловую полоску и в желтой клетчатой рубашке, а галстук, завязанный большим узлом, представляет глазам окружающих такое буйство красок, что и описать трудно.
Второе по списку строение почти столь же убого, как и первое, и после непродолжительного пререкания двух торгашей резкий стук молотка фиксирует покупку на шестидесяти тысячах.
– Видали? И эта тоже… – шепчет мне Розмари. Однако она и в этот раз не успевает закончить фразу и устремляет взгляд направо, где появились еще два конкурента, один из которых на целую голову выше окружающих. Это – Ральф и Флора.
– До чего же нахальна эта немка… – бормочет моя квартирантка.
Но уже через мгновение она освещает свое лицо весьма любезной улыбкой – они заметили нас. Змеиной улыбкой,
на которую Флора не может не ответить взаимностью. И
чтобы выиграть этот поединок на расстоянии хотя бы с минимальным счетом, Розмари хватает меня под руку, как бы говоря: «У меня есть союзник!» – ведь немка не может сделать то же самое, поскольку Бэнтон не создан для интимностей. Впрочем, я тоже не создан для интимностей, но кого это интересует?
Моя бедная квартирантка. Ей, похоже, невдомек, что и
Флора в свою очередь полагается на союзника. Или упускает из виду, что, сядь мы с американцем друг против друга считать наши деньги, мне своих лучше вообще не показывать.
После продажи двух других столь же скромных недвижимостей приходит, наконец, очередь нашей. Комиссар указывает на выставленные в углу снимки – здесь все объекты представлены фотоснимками, хотя никто не проявляет к ним интереса, так как до этого все строения можно было видеть в натуре. Затем он сухим, казенным голосом начинает перечислять достоинства виллы, ее квадратуру и кубатуру, размеры сада, указывает число деревьев и наконец объявляет, резко повысив голос:
– Первоначальная цена: сто тысяч!
– Сто десять тысяч! – тотчас же слышу рядом звонкий голос Розмари.
– Спокойнее! – тихо советую я. – Сперва надо выждать немного. И потом, когда называете свою сумму, рывком подавайтесь вперед, пускай это их деморализует.
Она кусает губы, поняв, что несколько поторопилась, а тем временем кротко звучит реплика немки:
– Сто двадцать тысяч!
Наступает пауза, и оценщик начинает расшевеливать присутствующих, косвенно давая понять, что такая вилла все равно не может быть продана по столь низкой цене.
Только присутствующие – я имею в виду «гиен» – уже поняли, что теперь страсти начнут разгораться по-настоящему, и терпеливо выжидают. Наконец какой-то дилетант, решив попытать счастья, подает голос из угла:
– Сто тридцать тысяч!.
– Сто сорок! – тут же затыкает ему рот немка. И снова пауза. Снова комиссар торопит, и не только торопит, но и угрожающе вскидывает молоток.
– Сто сорок тысяч! Раз… Два…
– Двести тысяч! – оповещает в тот же миг Розмари.
На что Флора реагирует со свойственной ей невозмутимостью:
– Двести десять!
После соответствующей паузы моя квартирантка поднимает цену до двухсот пятидесяти. Это, собственно, предел ее личных возможностей, однако она помнит мое гуманное обещание насчет пустяковой суммы тысяч этак в пятьдесят или чуть больше.
Флора снова добавляет свои десять тысяч. Она с самого начала взяла за правило всякий раз поднимать объявленную сумму на десять тысяч и делает это с беспощадной методичностью даже тогда, когда Розмари доводит торг до трехсот тысяч.
– Триста десять! – произносит немка. Теперь уже пауза длится значительно дольше. Коммерческая цена постепенно начинает превышать реальную стоимость объекта.
– Что там в этой вилле, золото спрятано, что ли? –
слышится позади нас голос какого-то зеваки.
«Да, в самом деле, что там в этой вилле? – спрашиваю я себя. – Есть ли там вообще что-нибудь, кроме воздуха?»
Присутствующие с видимым интересом следят за развитием событий. И неудивительно: когда соперники хватают друг друга за горло, есть на что посмотреть. Но это всего лишь зрители, все, кроме двух тщеславных дам, все, в том числе и Пенев, который вопреки нашим ожиданиям за все время не обмолвился ни единым словом.
Розмари вопросительно посматривает в мою сторону и, уловив мой едва заметный кивок, снова оповещает:
– Триста двадцать тысяч!
– Триста тридцать! – отзывается немка, только теперь в ее спокойном голосе ощущается легкий оттенок усталости.
Розмари снова ищет взглядом меня. Я легонько пожимаю плечами – дескать, поступайте как знаете. Тут уже дело касается не моих, а ваших денег, так как вилла Горанова вовсе не стоит такой суммы. Розмари колеблется несколько секунд, но, когда комиссар угрожающе вскидывает молоток, она не выдерживает и снова выкрикивает:
– Триста сорок тысяч!
На сей раз колебания справа. И они длятся так долго, что сомневаться больше не приходится – моя квартирантка все же обеспечила себе разорительную покупку.
Комиссар в последний раз поднимает молоток.
– Триста сорок тысяч, дама посередине зала… Раз…
Два…
– Триста семьдесят тысяч! – неожиданно звучит голос в публике.
Однако это уже не Флорин голос, а бас какого-то мужчины. Я гляжу в его сторону и вижу человека средних лет, среднего роста, с ничем не примечательной физиономией, в обычном сером костюме, человека, каких мы ежедневно встречаем на улице, даже не замечая их, а уж о том, чтобы как-то запомнить их, и говорить не приходится.
Розмари тоже смотрит в ту сторону, и по ее бесстрастному каменному лицу я вижу, что она в бешенстве.
– Он вас выручил из беды, – бросаю я, чтобы успокоить ее. – Перестаньте, это же безумие.
– Я, конечно, перестану, – отвечает она безучастным тоном. – Но не потому, что это безумие, а потому, что я не в состоянии позволить себе пойти на такое безумие.
– Триста семьдесят тысяч, господин в глубине зала… –
снова подает голос комиссар, но тут же умолкает, так как в этот момент к нему приближаются двое мужчин и молодая женщина.
Незнакомые мужчины и комиссар вполголоса говорят о чем-то, после чего обладатель молотка снова обращает к публике свое аскетическое лицо, чтобы сообщить усталым голосом:
– Торг отменяется.
По залу проносится глухой ропот недовольства.
– Мне кажется, я вправе знать, в чем причина! – доносится бас из глубины зала.
– Причина не процедурного характера, – сухо объясняет комиссар. – Вилла продаже не подлежит, поскольку у покойного есть законная наследница.
По залу снова прокатывается ропот, на сей раз ропот удивления.
– Это наилучший исход, – безразлично говорю я своей квартирантке. – По крайней мере не придется сожалеть, что кто-то вас перещеголял.
Она не отвечает, и я оборачиваюсь, чтобы понять, почему она молчит. Оказывается, ее нет рядом со мной.
– Ну вот, все в сборе, можно садиться за стол раздавать карты, – добродушно замечает Бэнтон, приближаясь вместе с Флорой.
– Почему бы и нет! – любезно отвечаю я. – Сейчас или завтра, мне решительно все равно, когда раскошеливаться.
– Раскошеливаться полагалось бы нашей милой Розмари, – подает голос немка. – Сегодня она побила все рекорды легкомыслия.
– А куда же она девалась? – спрашивает американец.
Меня тоже занимает этот вопрос, по крайней мере до тех пор, пока я не обнаруживаю Розмари в обществе молодой женщины и двух молодых мужчин, появившихся в зале незадолго до этого. Розмари и молодая женщина медленно направляются в нашу сторону, и мой слух улавливает беззаботный щебет моей квартирантки:
– Ах, дорогая, какой же чудесный человек был ваш отец! Настоящий джентльмен…
6
Широко бытует мнение, что в извечном противоборстве двух полов сильнейшим оружием женщины является ее красота. И лишь немногие задумываются над тем, как же в таком случае объяснить, что тысячи женщин, у которых, как говорится, ни рожи ни кожи, ухитряются сохранять власть над своими мужьями Очевидно, средства воздействия, которыми пользуются женщины, далеко не ограничиваются одной лишь красотой, и полный набор этих средств могла бы раскрыть только женщина.
Трудно предположить, что Виолета Горанова – наследница моего покойного соседа – владеет этим полным набором. Зато, впрочем совершенно несознательно, она достигает многого своим скромным умением вызывать к себе сочувствие.
Если Розмари своим видом напоминает полную изящества греческую вазу, а Флора – пышную амфору, то
Виолета весьма похожа на пробирку. Ровное как жердь тело, узкие плечи, жалкие бедра и худые ноги – словом, некое бесполое существо, увенчанное анемичным лицом.
Но у этого существа постоянно присутствует выражение беспомощности и какой-то едва уловимый признак боязни, а взгляд ее карих глаз так робок, в нем столько детскости, что вы невольно испытываете желание взять это хрупкое существо под свою защиту.
Вероятно, рано почувствовав, что ей никогда не обрести подлинно женских черт, она все еще продолжает одеваться, как девочка. И когда она вырядится в плиссированную юбочку, в тирольский жакетик, а на ногах у нее белые носки и туфли без каблуков, вы скорее примете ее за гимназистку старших классов, нежели за молодую даму, которой под тридцать. Не исключено, что тут немалую роль играет и плюшевый медвежонок, которого она обычно таскает с собой – возможно, не как игрушку, а как талисман.
– Тут, наверно, люди подумали: «Что еще за нахалка такая!» – виновато говорит она Розмари в первые минуты их знакомства в торговом зале.
– Глупости! Это же ваше право. Будь я на вашем месте, я бы сегодня же потребовала от герра Пенефа забрать свои вещи.
– А где он живет?
– Да он занимает почти весь верхний этаж.
– В таком случае этот господин мне нисколько не помешает. Я поселюсь внизу.
– Но, дорогая моя, если вы оставите его хотя бы на неделю, он и через год не уйдет! Такие дела делаются сразу, одним заходом!
– Нет, мне как-то неудобно, – говорит одними губами
Виолета. – Мне крайне неудобно. И потом, он мне совершенно не помешает…
Об этих подробностях я узнаю вечером, по возвращении Розмари. Бридж по ее вине не состоялся. Моя квартирантка взяла наследницу Горанова под свою опеку уже в торговом зале – это, непонятно почему, страшно раздражает всегда спокойную Флору. Она отвозит ее на виллу, помогает устроиться там – словом, проявляет материнскую заботу о бедной сиротке, которая, вероятно, годика на два старше ее самой.
– А почему вы так настаиваете, чтобы она прогнала этого Пенефа? – спрашиваю я, когда Розмари рассказала о своей беседе с Виолетой.
– Сама не знаю… Просто он мне несимпатичен.
– Просто вы говорите вздор, – говорю я. – Разумеется, я не требую, чтобы вы отчитывались передо мной, но зачем же нести заведомую чушь?
– А вы всегда искренни со мной, Пьер?
– Не вижу причины быть неискренним. Насколько я знаю, в поставках рыбных консервов вы мне не конкурент.
– А вы не допускаете, что я могу быть вашим конкурентом в чем-то другом?
– Это исключено.
Мои слова звучат с откровенной категоричностью. Не стану утверждать, что я всегда искренен с Розмари, но эта реплика в самом деле вполне откровенна, и моя собеседница это понимает.
– Я рада это слышать, – говорит она как бы сама себе.
– Чему тут особенно радоваться?
– Как чему? От Пенефа, к примеру, такого не дождешься.
– Где перекрещиваются интересы Пенефа и ваши?
– Откуда я знаю? Спросите у него. Во всяком случае, у меня такое чувство, что он меня ненавидит и вместе с
Флорой строит козни против меня.
– В связи с виллой?
– Очевидно.
– Что ж, теперь можете быть спокойны: этого повода больше не существует.
Она смотрит на меня задумчиво, как бы что-то соображая. Потом делает два шага в мою сторону, словно решив в чем-то мне открыться. Однако, похоже, отказывается от своего намерения, садится на диван, по обыкновению закинув ногу на ногу, и тяжело вздыхает:
– Ох, как я нуждаюсь в дружеской поддержке!.
– Скажите, кого я должен убить? – спрашиваю я с готовностью.
Но так как она продолжает сидеть, глубоко задумавшись, мне не хочется мешать ей, и я поднимаюсь к себе наверх.
Итак, оказавшись у себя в комнате, я по привычке заглядываю в щель между шторами. Внизу, в холле Виолеты,
горит свет, но шторы опущены. Вверху, у Пенева, тоже горит свет, но и там окна зашторены. С ума можно сойти от этих штор.
Я сажусь на кровать, не включая свет. Не знаю, как у других, но, когда вокруг мрак, у меня такое чувство, что голова моя светлеет. Розмари втемяшилось, что ей обязательно надо прогнать Пенева, и она сделает все возможное, чтобы добиться своего. Значит, ей необходимо помешать тем или иным способом. Не потому, что я испытываю особые симпатии к этому востроносому, но, если он вдруг исчезнет из поля зрения, это может спутать мне все карты.
Затем. Затем этот невзрачный тип с серым лицом и в сером костюме. Наконец-то противник высунул голову из окопа, дав мне возможность взглянуть на его физиономию.
Только взглянуть, потому что, едва успев показаться, он тут же испарился, но если показался один раз, то, наверно, покажется снова. Важно, что он объявился и подтвердил наши предположения. Триста семьдесят тысяч. Что там, золото спрятано в этой вилле? Человек в сером костюме отлично знает, что там спрятано. Это меня успокаивает: значит, то, что нас интересует, все еще там, на вилле. И все это время не давали мне покоя вовсе не скорбные чувства в связи со смертью соседа, а мысль о тех двоих с черными портфелями. И опасение, что, может быть, в их портфелях находился архив, ради которого мы расходуем столько сил и времени. Триста семьдесят тысяч! Восклицание, способное вернуть утраченную веру в жизнь.
И еще одно – последнее и самое главное. Необходимо опередить соперников, Флору и Пенева, которые, возможно, образуют опасную пару. Тем более опасную, что, в сущности, приходится иметь дело с треугольником, если приобщить к этой паре Бруннера. Розмари, которая мечется в поисках неизвестно чего, способна спутать своими действиями все карты, особенно если втравит в свои интриги эту наивную Виолету. И наконец, человека в сером костюме. Одиночку, за чьей спиной явно скрывается целая организация.
Пока я рассуждаю обо всем этом, пока веду спор с самим собой, моих ушей достигает шум мотоцикла. Шум, на который я едва ли обратил бы внимание, если бы он внезапно не оборвался напротив соседней виллы. Заглянув в щелку, я успеваю увидеть почтальона, который звонит в дверь, а минуту спустя вручает Виолете какое-то письмо или телеграмму.
Едва успел почтовый служащий сесть на своего моторизированного коня – «рено» белого цвета, как Виолета, уже одетая в светлый плащ, быстро запирает дверь, бежит по саду на улицу и тоже садится на моторизованного коня –
«рено» белого цвета. На белом «рено» в темную ночь.
Легко предположить, что выглядывать в окно свойственно не только мне, но если я в этом до сих пор сомневался, то теперь всякие сомнения отпадают. В самом деле, не успел на аллее рассеяться дымок белого «рено», как из дому выскакивает моя квартирантка, чтобы пуститься следом за ним на своем красном «фольксвагене». Стоит ли после этого сообщать, что немного спустя в том же направлении катит и «шевроле» Пенева.
Я смотрю на часы: восемь десять. Ложиться еще рано.
Но может, и действовать рано? Будь у меня эмоциональная натура, я мог бы с ума сойти от досады. В городе у меня два помощника, но именно сейчас, когда я так нуждаюсь в братской помощи, ни на одного из них я не могу рассчитывать. Как было бы здорово, если бы, к примеру, Боян находился где-нибудь по соседству. Ему бы ничего не стоило в любой момент предупредить меня об опасности.
И все-таки необходимо действовать. Такая удачная ситуация, наверно, больше никогда не повторится. Чем я особенно рискую, если все главные действующие лица этого спектакля куда-то исчезли, исчезли в одном направлении? Все, кроме человека в сером костюме. Но человек в сером костюме здесь не проживает и выглядывать из-за штор не может.
Думая об этих вещах, я уже спускаюсь по лестнице и через черный ход попадаю в сад. На то место, где я сейчас нахожусь, вилла, освещенная стоящими на аллее фонарями, бросает густую тень. Такая же тень простирается и вдоль соседнего дома. Однако две тени разделяет широкая полоса освещенного луга, посередине которого проходит низкая ограда. Таким образом, мне придется углубиться в сад и уже оттуда, под прикрытием яблонь, проникнуть в соседний двор.
Я подбегаю к черному ходу дома Горанова и быстро знакомлюсь с замком. Замок секретный, но обычного типа, то есть давно перестал быть секретным. Через пять минут я уже в коридоре, прохожу мимо кухни и попадаю в холл.
Моя первая забота – обеспечить запасный выход. Поэтому я пересекаю холл, выхожу в коридор, ведущий к парадной двери. Защелки двух замков, к счастью, приводятся в действие с внутренней стороны обычным поворотом ручки, так что ключи здесь не нужны.
Затем возвращаюсь в холл. Единственный источник света – мой миниатюрный карманный фонарик, дающий тонкий, но сильный луч. Светлый луч совершает беглую прогулку по стенам и мебели, после чего я пробираюсь в соседнюю спальню. Что я, в сущности, ищу? Иголку в стоге сена. Огромный стог и в нем крохотная иголка, а времени в обрез. Вся моя надежда на профессиональную интуицию. Если вы пустите в это помещение какого-нибудь невежу, он убьет два дня и ничего не найдет. Но человек с определенным опытом знает, какие места могут быть использованы в качестве тайников. Кроме того, к счастью или несчастью, до меня тут шуровала полиция, и даже беглый осмотр мне подсказывает, в каких именно местах она орудовала – здесь я не стану попусту тратить время.
В качестве примера может служить встроенный сейф в холле, над старинным комодом, замаскированный картиной, изображающей банальную мифологическую сцену.
Картина даже не возвращена на свое обычное место –
очертания рамы не совпадают с темными контурами, образовавшимися на стене от времени. Все же я снимаю картину и обнаруживаю замок сейфа; это довольно сложное устройство, и мои карманные инструменты тут не помогут. Так тому и быть: после полиции тут искать уже нечего.
Без всякой надежды, скорее ради того, чтобы совесть была чиста, молниеносно проверяю ящики письменного стола. А вдруг попадется какая-нибудь записка с обрывками фраз или с обозначенным на ней номером телефона, какой-нибудь отпечаток на пресс-папье, вообще следы чего-нибудь, на чем мог не задержаться взгляд полицейского. Однако ничего такого я не вижу. Ганев тоже был профессионал и тоже соблюдал элементарное правило: храни в надежном месте или сжигай. Как раз в тот момент, когда я перехожу к следующей точке – библиотечному шкафу, моего слуха касается подозрительный шум, доносящийся со стороны черного хода. Еще кто-то занимается замком. Мой первый порыв, древний, как сам человек, –
выскользнуть через парадную дверь. Однако счетная вычислительная машина в моем мозгу, за три секунды обработав имеющуюся информацию, предлагает иную программу. Шум мотора со стороны аллеи не был слышен, незнакомец действует предельно осторожно – следовательно, он здесь такой же гость, как и я, и для меня исключительно важно в данный момент установить его личность.
Придется прибегнуть к простейшему, но самому эффектному трюку. Я бросаюсь в спальню и оставляю там свой фонарик, с тем чтобы он светил в один угол. Затем возвращаюсь в темный холл, чтобы затаиться у двери. Две минуты спустя слышатся тихие, неуверенные шаги, после чего мои глаза выхватывают из тьмы смутный силуэт пришельца. Он делает еще один шаг вперед, но останавливается на какой-то миг и, очевидно, решает, как ему действовать дальше, потому что его внимание привлек светлый луч, прорезающий темень спальни. И снова идет вперед, его движения вкрадчивы, бесшумны. Впрочем, идет лишь до тех пор, пока минует меня. Оказавшись позади него, я спружиниваю на ногах, обхватываю одной рукой его шею, а другую крепко прижимаю к его рту и носу. О деталях говорить не стоит, но об одной, имеющей некоторое значение, я все же скажу. В руке у меня оказывается хрупкая ампулка, содержащая газ, от которого человек тотчас же обалдевает. Ампулка раздавливается о зубы пришельца.
Эффект мгновенный и, надеюсь, безболезненный. Тело человека внезапно тяжелеет, словно в моих объятиях мешок с картошкой, сползает вниз и валится на ковер. Я
приношу фонарик и делаю необходимый осмотр. Передо мной незнакомец из торгового зала, тот самый, с бесцветным лицом и в сером костюме. Но сейчас весь вопрос в том, что содержится в карманах этого костюма. В одном из них, спрятанном под мышкой, обнаруживаю маузер калибра семь шестьдесят пять. В бумажнике, кроме денег и паспорта на имя Кениг, есть еще и удостоверение, выданное ФБР. Ничего удивительного. Иные служащие ЦРУ в целях большей секретности разгуливают с удостоверениями ФБР.
Среди прочих мелочей, какие мы всегда носим в карманах и о которых не стоит говорить, я нахожу ключ немного необычной формы. Но поскольку речь идет не о чем-либо другом, а о ключе, вид этого предмета вызывает у меня в голове определенную ассоциацию. Придется снова убрать со стены мифологическую сцену и проверить правдивость собственных догадок». Ключ действует безотказно. А сейф, как и следовало ожидать, совершенно пуст.
И все же сейф, даже пустой, заслуживает того, чтобы его проинспектировать более тщательно. С помощью фонарика я обследую его внутренность сантиметр за сантиметром. Стены металлические, идеально гладкие и, очевидно, непроницаемые. Ни в одном из уголков ни малейших признаков существования секретных отделений. Но серый стальной интерьер делится пополам тоже стальной полкой толщиной около двух сантиметров. Несколько необычная толщина, если принять во внимание, что сейф не предназначен для хранения штанги. Увы, беглое ощупывание нижней плоскости полки указывает на то, что двойного дна у нее нет. И все-таки эта толщина… Я делаю попытку приподнять и вынуть полку, но это мне удается не сразу, так как полка основательно заклинена в сейфе. Но когда операция приходит к своему завершению, мои глаза не без удовольствия обнаруживают в глубине, на месте полки, широкий проем, достаточно широкий, чтобы в него можно было сунуть секретное досье.
Однако никакого досье тут нет. Вообще ничего нет. Я
достаю из ящика стола случайно увиденную там канцелярскую линейку и сую ее в отверстие, чтобы исследовать его до конца. Линейка натыкается на что-то твердое. Когда мне удается наконец вытолкнуть предмет наружу, в мои руки попадает плоская коробочка, отделанная черной кожей. Коробочка наподобие тех, в которых гимназисты хранят свой чертежный инструмент, хотя вид у нее намного шикарней. Я раскрываю ее, и перед моими глазами сверкают на темном фоне бархата два ряда драгоценных камней, великолепно отшлифованных и абсолютно бесцветных. Словом, брильянты или что-то в этом роде.
Сунув коробку в карман, я восстанавливаю в сейфе порядок, запираю его и возвращаю ключ владельцу. Мне пора.
Пора, потому что через минуту мой музыкальный слух улавливает новые звуки – и опять со стороны черного хода.
В этот дом, похоже, гости привыкли ходить только через черный ход.
Из-за недостатка времени я не могу придумать ничего оригинальнее, кроме как повторить уже знакомый номер.
Чтобы расчистить место, я волоку тяжелое тело незнакомца в другой конец холла, кладу в спальне зажженный фонарик и замираю возле двери. Фигура, которая чуть позже вырисовывается на фоне плотной, едва просвечивающей шторы, столь импозантна, что полностью загораживает этот скудный источник света. Чтобы заключить ее в свои мужественные объятия, мне приходится приподняться на цыпочки. Окажись Пенев на моем месте, он бы затрясся от возбуждения. Держать в объятиях это пышное тело… эту роскошную Флору…
Но Флоре тоже не чужды сильные и внезапные переживания, она тут же млеет в моих руках – не смею надеяться, что это происходит в любовном экстазе, – и тяжело сползает на ковер. Пол так сильно задрожал, что спящий по другую сторону стола обнаруживает признаки пробуждения. Прежде чем продолжать свои поиски, приходится раздавить у его рта еще одну ампулку. Через четверть часа и Флора проявляет желание опомниться, так что и ее приходится угостить добавочной порцией.
Напрасная трата материала. Все дальнейшие исследования, описывать которые было бы утомительно и бесполезно, оказываются тщетными. Разумеется, я не рискну сказать, что обследовал всю виллу до последнего сантиметра. При таком импровизированном обыске человек не может быть абсолютно уверен, что от него ничего не ускользнуло. Однако «нечто», ради чего я сюда пришел, может иметь вполне определенный вид, и мой опыт подсказывает, что здесь мне его не найти, если вообще имеет смысл продолжать поиски.
Незачем больше подвергать себя опасности и продолжать потчевать этих двоих одурманивающими веществами.
Довольно наркомании. Выскользнув из гостеприимного дома, я возвращаюсь в свои покои, не забыв попутно зайти на кухню и положить на место тонкие перчатки из пластика, которые я взял для временного пользования среди кухонной утвари Розмари.
Брильянты… Прозрачные, бесцветные и такие ослепительные… Только нас интересуют те, другие, – помутней, погрязней этих… Черные брильянты предательства.
«Рено» возвращается в восемь тридцать утра, как раз во время моего скромного завтрака. Я это вижу, глядя в окно из кухни. Но сейчас, в это светлое утро, белая машина вовсе не кажется такой эффектной, тем более что она основательно загрязнилась. Виолета едва успевает войти в дом, как позади «рено», метрах в двадцати от него, останавливается «шевроле» Пенева, и его владелец, оглядываясь, крадется к черному ходу. А несколько минут спустя распахивается кухонная дверь, и я слышу:
– А, вы уже завтракаете, Пьер…
– Могу и вам предложить чашку кофе.
– С удовольствием выпью, – тихо отвечает Розмари и опускается на стул.
Она и в самом деле нуждается в чем-нибудь бодрящем, потому что вид у нее довольно-таки усталый, и, что нетрудно заметить, это вовсе не та приятная усталость, которую человек испытывает после успешного завершения какого-то трудного дела.
– У вас весьма измученный вид, дорогая, – замечаю я, подавая ей кофе. – Надеюсь, не после пылких объятий господина Пенефа?
– Пенефа? – произносит она бессильным голосом. –
Неужто я, по-вашему, такая неразборчивая…
– …как Флора…
– Да и Флора едва ли согласилась бы лечь с таким.
Впрочем, это ее дело. Если хочет – пускай ложится.
Она замолкает, а я больше не проявляю любопытства, и мы какое-то время молча курим и пьем кофе.
– Мне пора катить к своему Бенато, – нарушаю наконец молчание и встаю.
Я должен подняться наверх и взять пиджак, но, странное дело, следом за мною идет по холлу Розмари.
– Вы даже не спрашиваете, где я была?
– Неужели вы до сих пор так и не уяснили, что я не любопытен? И что меня интересуют только рыночные цены, а всякие другие сведения мне безразличны.
– Даже те, которые касаются меня?
– Все, что касается вас… Вы сами об этом расскажете, если сочтете нужным…
И так как она продолжает стоять все с тем же жалким видом, я добавляю:
– Вы же понимаете, дорогая, что откровенность по просьбе не получается.
– У меня такое чувство, что вы вообще не дорожите моей откровенностью, Пьер.
– Напротив. Только у меня такое чувство, что это для вас – нечто совершенно недостижимое.
– Вы не первый раз упрекаете меня в неискренности.
– Просто констатирую. Я не слепой, но и упрекать вас не собираюсь. Полагаю, что у вас есть свои причины…
– Какие причины? Что вы имеете в виду? – спрашивает она, как бы просыпаясь ото сна.
– Прежде всего то, что вы все время лжете… И поскольку она пытается возразить, я успокаивающе поднимаю руку:
– Я же сказал, разве вы не слышали: я вас не упрекаю.
Но если вы испытываете потребность разыгрывать комедию перед другими, то меня исключите, чтобы не тратить напрасно силы. Вчера вы, кажется, усвоили, что я вам не конкурент, и это истинная правда. И связываться со мной вам не имеет никакого смысла.
При этих словах я смотрю на часы и собираюсь взойти на лестницу.
– Не конкурент в чем, Пьер? – спрашивает Розмари, и я вижу, как напряглось ее лицо.
– Из-за вас я пропущу встречу с моим славным Бенато… – бормочу я.
– К черту вашего Бенато! – восклицает она. – Скажите: не конкурент в чем?
– На ваш вопрос я мог бы дать точный и исчерпывающий ответ. Но имейте в виду, что в таком случае ваша искренность задним числом не будет стоить ломаного гроша.
И тогда уж не рассчитывайте на помощь или доверие с моей стороны.
Она вперяет в меня свои темные глаза.
– А если вы хотите взять меня на пушку? Если вы решительно ничего не знаете, а только пытаетесь что-нибудь выудить у меня?
– Фома неверующий… В юбке, – с досадой роняю я. –
Ну что ж, представлю вам вещественное доказательство, и вы убедитесь, что кое-что я знаю Но сперва я должен убедиться в вашей искренности… И после того, как повидаюсь с этим славным Бенато.
– К черту вашего Бенато! – снова восклицает она. Потом добавляет, уже другим тоном: – Сварить еще кофе?
Итак, мы сидим в холле на своих обычных местах: она –
на диване, закинув ногу на ногу, а я – потонув в стоящем напротив кресле, и перед нами чашки горячего кофе. Сидим, как два бездельника в начале рабочего дня, когда повсеместно вокруг нас вычислительные машины и автоматические кассы уже строчат с предельной скоростью.
– Во-первых, вы никакая не студентка, – говорю я, чтобы помочь ей сделать первый шаг.
– Я студентка, – возражает она. – Пускай только формально. Во всяком случае, я числюсь студенткой.
– Во-вторых, вы находитесь здесь по воле вашего шефа, – добавляю я, чтобы у нее не оставалось сомнений. – А
ваш шеф – Тео Грабер. – И, вытянувшись поудобней в кресле, бросаю ей: – Продолжайте.
– Но если вам все известно…
Она замолкает, напряженно глядя мне в лицо, но это напряжение уже не признак недоверия, а скорее изумление.
– Не думаю, что мне известно все, но некоторые важные детали я, пожалуй, знаю.
– Что ж, верно: я секретарша Тео Грабера или, если хотите, заместитель директора, поскольку эти две должности он в целях экономии объединил. Верно и то, что это он меня сюда послал… – Розмари замолкает и тянется за сигаретой.
– Я должна рассказать вам все с самого начала?
– Думаю, так будет лучше.
– Однажды утром, в первых числах ноября, на наше предприятие явился незнакомый господин и пожелал видеть шефа. Я хотела ему дать от ворот поворот, потому что наш шеф принимает только после предварительной договоренности, но незнакомец настаивал, говорил, что дело касается чего-то очень важного, и Грабер согласился принять его. Не знаю, о чем они говорили, но нетрудно было догадаться речь идет о сделке, притом о крупной, необычной сделке, потому что через какое-то время шеф вышел из кабинета, вручил мне чек на пятьсот тысяч и велел быстренько съездить в банк и взять деньги. Меня это, конечно, сильно озадачило, потому что, вы понимаете, никто в наши дни не берет в банке такие суммы наличными, чтобы таскать их с собой в карманах. Я исполнила указание, передала деньги Граберу, а немного спустя незнакомец ушел. Потом я узнала, что его зовут Андре Гораноф. – Розмари пускает в мою сторону густую струю дыма и спрашивает: – Не слишком подробно я рассказываю?
– Вовсе нет, – успокаиваю я ее. – Говорите все, что считаете нужным. Протокола мы не ведем.
– Только не напоминайте о протоколах, – хмурится она. – Протоколы, стенограммы, деловые письма – все это мне до такой степени осточертело…
– И вы, надо полагать, с удовольствием согласились взять на себя новую миссию.
– Вот именно. Правда, я не сразу сообразила, что к чему, я подумала, что меня ждут долгие каникулы. Хотя я прекрасно знала: Грабер не из тех, кто способен предложить своей секретарше дополнительный отпуск.
– Но если секретарша такая хорошенькая…
– Грабер слишком расчетлив, чтобы подбирать себе чиновниц по таким признакам. Можно подумать, он родился и вырос в холодильнике и вместо того, чтобы стать человеком, постепенно превратился во внушительную глыбу льда.
Она бросает в пепельницу недокуренную сигарету и возвращается к своему рассказу:
– Уже на другой день после визита незнакомца шеф позвал меня к себе, чтобы ввести в курс дела. Как выяснилось, Гораноф предложил Граберу большущий брильянт, о существовании которого мой шеф знал ранее – вам, вероятно, известно, что большие брильянты так же славятся, как кинозвезды. И разговор между этими двумя лисицами – я имею в виду Горанофа и моего шефа – шел примерно так.
Тут Розмари разыгрывает небольшую сценку, которая не так уж богата полезной информацией, зато весьма забавна по форме: моя квартирантка, блестяще владея мимикой, бесподобно имитирует обоих дельцов, мастерски передает недоверие, испуг, колебание, недовольство, старческую алчность. Исполнительница принимает соответствующую позу, рассматривает лежащую в руке воображаемую драгоценность и начинает:
ГРАБЕР. Мне кажется, я мог бы дать вам за эту вещь триста тысяч…
ГОРАНОФ. Мерси. Она стоит в пять раз дороже.
ГРАБЕР. Очень может быть. Я могу точно сказать, сколько стоит этот брильянт, потому что он мне хорошо знаком. Как и девять его собратьев. Вам, вероятно, они тоже знакомы…
ГОРАНОФ. Не понимаю, о чем вы говорите.
ГРАБЕР. При виде такого брильянта возникнет законный вопрос: где вы его взяли? Но меня это не интересует. Не интересует потому, в частности, что я знал его прежнего владельца. А вот вы не склонны ценить то, что я не задаю вам неудобных вопросов.
ГОРАНОФ. Предположим, я это ценю. Но выходит, из чувства признательности к вам я должен добровольно разориться.
ГРАБЕР. В таком случае можете предложить этот камень одному из моих коллег, и я буду рад вас видеть снова.
ГОРАНОФ. Это уж мое дело, кому предлагать. Но дарить его я не намерен. Он уже тридцать лет принадлежит мне. ГРАБЕР. Охотно верю. Коллекция, о которой идет речь, исчезла тридцать три года назад. Однако, кто бы ее ни присвоил, давность тут не имеет значения. К тому же наследники еще живы.
ГОРАНОФ. Не понимаю, о чем вы говорите…
ГРАБЕР. Быть может, вам понятно хотя бы то, что затронутый вопрос имеет прямое отношение к цене. Ворованные камни всегда ценятся ниже. Намного ниже. Хотя бы потому, что они нуждаются в новой огранке, а значит, и караты будут уже не те.
ГОРАНОФ. Не понимаю, о чем вы говорите.
ГРАБЕР. Триста тысяч – это большая сумма.
ГОРАНОФ. Ладно, давайте миллион, и дело с концом.
ГРАБЕР. Возможно, по трезвом размышлении я бы согласился на триста пятьдесят.
ГОРАНОФ. Ну хорошо, пускай не миллион. Я согласен на девятьсот тысяч.
– Если верить моему шефу, они сошлись на кругленькой сумме в полмиллиона, – произносит Розмари в качестве эпилога. – Таким образом, Граберу достался камень в три раза дешевле его реальной стоимости. Ничего не скажешь, редкая удача. Только Грабер не из тех, кто склонен довольствоваться единственной удачей, если представляются возможными девять других. Потому что купленный брильянт – действительно один в целой коллекции камней, хорошо знакомой шефу, поскольку сам он пополнял ее перед войной. Коллекция принадлежала какому-то греческому мультимиллионеру из числа крупных судовладельцев, которого потом ограбили нацисты. Впоследствии он умер, не исключено, что и наследников уже нет в живых, если они вообще существовали, но об этом Грабер не стал при мне распространяться.
Она меняет позу и откидывается в угол дивана.
– Я должна была по возможности изменить свою внешность, снять квартиру поближе к вилле Горанофа, которую шеф тотчас же обнаружил путем самой примитивной слежки. Мне было вменено в обязанность наблюдать за всеми действиями старика, чтобы жадность не толкнула его к другому ювелиру, которому он мог бы предложить остальные камни, значительно крупнее первого, по более высокой цене.
Розмари замолкает, как бы пытаясь что-то вспомнить, и рассматривает свои туфли, те самые, на толстых каблуках, – последний крик моды. Потом продолжает:
– В сущности, так выглядела моя задача лишь в первой редакции, впоследствии мне было предложено по возможности завести личное знакомство с Горанофом, втереться к нему в доверие, с тем чтобы по возможности склонить его к мысли расстаться с неудобными и обличительными драгоценностями, разумеется на самых выгодных условиях. Но до этого, как вы сами знаете, дело не дошло. Не только не дошло, но и сама задача усложнилась.
Вмешались другие силы и, очевидно, враждебные: Пенеф… Флора… А теперь еще этот нахал из торга.
– Он тоже вынюхал брильянты?
– А как по-вашему? Неужели вы допускаете, что нормальный человек станет покупать за двойную цену какую-то виллу, если у него нет уверенности, что вместе с виллой он приобретает и еще кое-что, спрятанное в ней?
– Но почему вы думаете, что это «кое-что» непременно ваши брильянты?
– А что же еще? Золото в слитках, да?
Она опять тянется к сигаретам, и я подношу ей зажигалку.
– Вдумайтесь хорошенько, Пьер: до сих пор никто ничего не нашел. Ни Флора, ни Пенеф, ни Виолета, ни даже полиция. Почему? Потому что сокровище совсем невелико по размерам: маленькая кожаная коробочка с девятью небольшими, но страшно дорогими и ужасно красивыми камнями. Маленькая коробочка, не мешки с луидорами и не золото в слитках.
– Не похожа та коробочка вот на эту? – небрежно спрашиваю я, вытаскивая из кармана вчерашнюю находку и кладя ее на стол.
В первое мгновение Розмари на грани обморока. Румянец совершенно исчезает с ее лица, но тут же возвращается, еще более густой, а ее темные глаза горят странным огнем. Она нерешительно протягивает к коробочке свою белую руку, словно боится спугнуть желанное видение. Наконец она нажимает кнопку, и крышка откидывается, внезапно открыв сияющие камни на темном фоне бархата.
– Десять… – произносит Розмари словно в полусне.
Потом осторожно берет двумя пальцами один из камней, внимательно разглядывает его, смотрит на свет и снова кладет в коробочку.
Сказке пришел конец. Видение рассеялось.
– О Пьер! – говорит квартирантка уже обычным для нее тоном. – Если бы я умерла от разрыва сердца, виноваты были бы только вы. – И, видя мое недоумение, добавляет: –
Это не брильянты.
– А что же?
– Это точная копия той коллекции. Шлифованный горный хрусталь.
Розмари резким движением захлопывает коробочку и отодвигает ко мне. Жест ее настолько красноречив, что я не могу не спросить:
– Вы уверены?
– Когда-то коллекцию должны были экспонировать на выставке. И чтобы не стать жертвой какой-нибудь банды, грек заказал у Грабера точную копию оригинальных камней. Грабер мне рассказал о существовании дубликатов.
Хотя обмануть они не могут никого, разве что какого-нибудь невежду…
– …вроде меня, – добавляю я. И уныло сую подделку обратно в карман. Розмари испытующе смотрит мне в лицо. Затем спрашивает с полуусмешкой:
– Вы, кажется, в самом деле поверили, что они настоящие?
– Угадали.
– Я просто потрясена… – говорит Розмари как бы сама себе.
– Что же вас так потрясло? – бросаю я недовольно. –
Брильянтами я не торгую. Имей я дело с брынзой, я бы сразу вам сказал, качественна она или нет. Ну, а камни…
– Меня изумил ваш жест, – уточняет Розмари. – Изумило то, что вы приняли их за настоящие.
Она машинально гасит сигарету, впустую дымившую на пепельнице, обращает ко мне свой темный взор и тихо произносит:
– Если только я не обманулась, вы меня до такой степени растрогали своими фальшивыми брильянтами, что…
– Приберегите ваши благодарности до лучших времен, – останавливаю я ее. – До того дня, кода я положу перед вами настоящие.
Тут я изображаю на своем лице внутреннюю борьбу и сомнение, словно в эту минуту меня захлестнуло чувство горечи.
– Нет, боюсь, я никогда не предложу настоящие. Зачем они вам? Чтобы вы тут же отнесли их Тео Граберу?
– О Пьер! Не надо бередить мне душу. Вы ужасный человек. Вы искуситель.
– Значит, идея оставить Грабера с носом вам уже приходила?
– Сколько раз! Но это очень рискованно. Ювелиры, они, знаете, как масонская ложа. Зачем мне брильянты, если я не смогу их продать? А если и продам, где гарантия, что Грабер тут же не пронюхает и не начнет меня преследовать?
– Пустяки, – успокаиваю я ее. – Всякое дело надо делать с умом. И потом, всему свое время. Постарайтесь сперва раздобыть брильянты, а тогда будете думать о продаже.
– А каким способом вы раздобыли эти, фальшивые? –
неожиданно спохватывается она.
Вопрос, которого я ждал давно, и потому отвечаю спокойно:
– Удивительно глупая история… Как-нибудь я вам ее расскажу.
– Так-то вы отвечаете на мою откровенность?
– Ужасно глупая история, уверяю вас. Кое-что в ней следовало бы уточнить. И я не могу вам ее рассказать, пока не проверю две-три вещи.
– Вы мне не доверяете, Пьер?
– Прежде чем вам доверить что-то, надо сперва самому удостовериться… Разве не достаточно, что я доверился вам и показал эти камни, пусть фальшивые? И как это ни смешно, я нашел их в глубине сада, в каменной вазе.
– В каменной вазе? – задумчиво повторяет Розмари.
Она мучительно что-то соображает, потом лицо ее внезапно светлеет.
– Тогда все ясно. Некто Икс послал Горанофу письмо с угрозой: если тот к такому-то часу не положит камни в такое-то место – имелась в виду, конечно, каменная ваза, –
то будет убит. Старик, чтобы выиграть время, оставил в вазе дубликаты. Икс сразу обнаружил обман и осуществил свою угрозу.
– А может, и настоящие камни унес?
– Не мог он их унести. Если бы ему удалось их нащупать, зачем бы он стал убивать Горанофа? Старик не рискнул бы жаловаться на то, что у него украли ранее украденное им самим. А потом, не надо забывать и другое…
– Что именно? – спрашиваю я, поскольку она замолкает.
– А то, что все продолжают вертеться на этом пятачке: Пенеф, Флора, тот, из торга, не считая Виолеты, которая, может быть, не так наивна, как кажется. Если бы брильянты исчезли, можете быть уверены, всех как ветром сдуло бы. Они все знают. Одна я ничего не знаю.
– Только без причитаний, – останавливаю я ее. – Иначе и в самом деле вынудите меня разыскать их, эти брильянты.
– Я не такая нахалка, чтобы требовать этого от вас.
Единственное, на что я смею рассчитывать, так это на дружескую помощь.
– В смысле?
– Флоре вы явно приглянулись, грубо говоря.
– И вы меня толкаете в объятия Флоры?
– Я этого не сказала. И полагаюсь на ваш вкус. Но было бы неплохо, если бы вы уделили ей немного внимания, пофлиртовали с ней, чтобы у нее развязался язык. Крупные женщины очень чувствительны к комплиментам, поскольку получают их редко, и размякнуть такой недолго…
– Надейтесь.
– Во всяком случае, вы могли бы вызвать ее на разговор. Порой одно-единственное слово открывает очень многое. Я так беспомощна и стольких вещей не знаю, хотя
Грабер твердит, что я запросто могу заменить Второе отделение и Скотланд-Ярд, вместе взятые…
– ЦРУ и ФБР, – поправляю ее. – Выражайтесь более современным языком.
– Флора с Пенефом, наверное, что-то замышляют, а что именно – я понятия не имею. Может быть, собираются как-то отвлечь Виолету и обшарить виллу или еще что-нибудь в этом роде.
– Но ведь вы уже подружились с Виолетой, что вам стоит их опередить?
– Вы так считаете? Она и в самом деле кажется мне беспомощной и наивной, но как раз такие обычно бывают чересчур мнительными и недоверчивыми – им все кажется, что они могут стать легкой добычей злоумышленников.
Нет, с этими беспомощными и наивными держи ухо востро…
– Особенно когда их хотят лишить обременительного наследства.
– У нее пожизненная рента и два дома. Так что не оплакивайте ее раньше времени. Сжальтесь лучше надо мной.
– А если у меня начнется флирт с нашей роскошной
Флорой, вас это не будет раздражать?
– Я стисну зубы и постараюсь сохранять спокойствие.
– И в этом будет ваша ошибка. Напротив, вы должны злиться, только смотрите не перестарайтесь.
– Это нетрудно, – заверяет она. – У меня, кажется, уже начинается приступ ревности. Вопреки тому, что я полагаюсь на ваш вкус.
Если поздним вечером – для Берна девять часов уже поздний вечер – вы бродите по переулкам близ главной улицы в надежде найти открытое кафе, то неизбежно наткнетесь на «Мокамбо» – ночное заведение города, который славится тем, что с наступлением ночи в нем вся жизнь замирает.
Неудивительно, что и мы наткнулись на «Мокамбо».
После очередной встречи у нас дома. И после очередной партии в бридж. И после того, как Розмари заявила Ральфу, что нечестно с его стороны так ограбить всех троих.
– Я охотно вернул бы вам ваши деньги, только боюсь вас обидеть, – отвечает американец. – Но если вы не возражаете, мы можем пропить их вместе…
Я лично считаю, что, раз так уж необходимо пить, мы могли бы заняться этим дома. Однако Розмари бросает на меня многозначительный взгляд, и я храню молчание. Мы погружаемся в огромный смарагдово-зеленый «бьюик»
Бэнтона и катим в «Мокамбо».
Наше первоначальное намерение довольно скромно: посидеть в уютном баре с окнами, открытыми на улицу. Но ядовитое замечание хитрющей Розмари о том, что Ральф, как истинный банкир, дрожит над каждой монеткой, делает свое дело, и мы спускаемся на несколько ступенек ниже и попадаем в кабаре.
В кабаре достаточно свободно, и можно выбрать удобный столик поближе к дансингу, и достаточно людно, чтобы не испытывать гнетущего чувства, будто мы самые испорченные люди в этом порядочном городе. Кельнер в черном смокинге церемонным жестом откупоривает бутылку шампанского, потому что дамы ничего, кроме шампанского, пить не желают – им не терпится вытрясти из американца как можно больше денег. Ради истины следовало бы уточнить, что их попытки омрачить настроение
Бэнтона оказываются тщетными: кривая настроения американца, по существу, всегда остается прямой, иными словами, он относится к тому типу людей, которые живут без иллюзий, зато не знают и разочарований.
Оркестр начинает играть какой-то допотопный рок, и я, чтобы маленько досадить Бэнтону, со своей стороны, спрашиваю, не пригласит ли он Флору потанцевать, однако мой номер не проходит, мало того, рикошетом возвращается ко мне, поскольку я тут же слышу голос Флоры:
– Не нарушайте его сон, мой мальчик. Лучше сами пригласите меня.
Ничего не поделаешь, я встаю, вывожу даму на середину дансинга, и мы сразу же привлекаем к себе всеобщее внимание. И я бы сказал, почтительное внимание – публика, очевидно, считает, что это начало программы. Не помню, говорил ли я, но могучая Флора на каких-нибудь пять-шесть сантиметров выше меня ростом. Конечно, пять-шесть сантиметров не бог весть какая разница; по преданию, разница между Давидом и Голиафом была куда больше. Но если к несоответствию роста добавить несоответствие в объеме, а также своеобразный стиль, в каком эта пышная женщина трясет своим огромным бюстом и вертит тяжелым задом, вам, должно быть, станет ясно, почему публика воспринимает наш танец как небольшой вступительный аттракцион комического характера.
Но комические аттракционы редко вызывают комический эффект, потому что зрители считают их чересчур преднамеренными. Так что сидящие вокруг скоро перестают обращать на нас внимание, сногсшибательный рок кое-как заканчивается, и я с облегчением собираюсь вернуться к спокойному быту за столиком, однако этот идиот дирижер неожиданно заводит новую, еще более допотопную мелодию – аргентинское танго, – и Флора ловит меня за руку, а другой рукой молча предлагает мне обвить ее стан, затем плотно прижимается и шепчет, ведя меня по кругу:
– Обнимите же меня покрепче, мой мальчик. Я не фарфоровая.
Я выполняю требование и даже, удобства ради, склоняюсь на ее грудь – довольно широкую и умиротворяющую подушку, а Флора с каждым движением вызывающе задевает меня своими массивными бедрами, и мне ничего не остается, кроме как плыть в волнах плоти, в этом океане плоти, пока моего слуха снова не касается мягкий, спокойный голос:
– Мне кажется, вы несколько увлеклись. Не боитесь, что этой ночью Розмари может надрать вам уши?
– Такой риск всегда существует. Но что поделаешь, если я не в силах скрывать свои симпатии, – отвечаю я, очнувшись от грез.
– Свои симпатии? – вскидывает брови женщина. –
Долгие месяцы пришлось ждать, чтобы услышать наконец от вас эти слова.
– А вы не заметили, Флора, что сильные чувства довольно медленно разгораются?
– Ничего такого я не замечала, – сознается она. – И
скорее всего потому, что сильные чувства мне вообще незнакомы.
– Не убеждайте меня, что вы бесчувственны, – возражаю я, еще крепче прижимаясь к ее величавой груди.
– Розмари определенно надерет вам уши, – предупреждает меня Флора, но поддается моим объятиям. – Что касается вашего намека, то должна вам признаться, что страсти во мне не умолкают. Только не какие-то бурные, а маленькие, приятные, не грозящие тяжкими последствиями.
– Никак не предполагал, что такая могучая женщина, как вы, способна испытывать страх…
– Это вовсе не страх, мой маленький Пьер, – воркует мне на ухо женщина. – Это склонность к удобству. Бурные страсти всегда порождают неудобства и хаос. Я же предпочитаю уют и порядок. – Свой лазурный взгляд она погружает в мои глаза со спокойной уверенностью гипнотизера и добавляет: – Я женщина скучная, мой мальчик. Капризы и причуды вашей очаровательно легкомысленной
Розмари мне чужды.
Это откровенное заявление спутало все мои планы по части молниеносной чувственной атаки, и я на протяжении нескольких упоительных тактов лихорадочно соображаю, как мне быть в создавшейся ситуации, но Флора сама приходит мне на выручку:
– Вы тоже далеки от испепеляющих эмоций, и если пытаетесь втемяшить мне обратное, то должна заранее сказать, что я вам не поверю. Вы человек уравновешенный, мой мальчик, вами руководит холодный рассудок, и нечего зря выпендриваться.
– Что поделаешь, – вздыхаю я. – Приходится жить по моде.
– Не вижу такой необходимости, – возражает Флора. –
Если считаться с модой, то мне впору облиться каким-нибудь горючим и зажечь спичку, но, поверьте, подобная мысль мне никогда в голову не приходила. Пускай пигмеи следуют своей моде, а люди вроде нас с вами не обязаны этому подчиняться.
Тут аргентинское танго наконец обрывается, и, несколько опьяненный сознанием, что эта могучая дама возвысила меня до своего уровня, не считаясь с разницей в пять сантиметров, я торжественно веду ее обратно к столику.
– Вы были неподражаемы, – поздравляет нас Розмари. – Особенно в роке. Эти быстрые танцы для таких, как вы, дорогая, с точки зрения гигиены очень полезны.
– У меня нет ни грамма лишнего веса, моя милая, –
информирует ее Флора, принимая царственную позу в своем кресле. – И на плохое здоровье я не жалуюсь. А вот вы последнее время какая-то бледная, как мне кажется. И
раз уж речь зашла о гигиене, то, смею вам напомнить, прогулки действительно могут принести пользу. Только не ночные.
– Я вижу, господин Пенеф исправно вас информирует.
Однако, заботясь о своевременности, он не считает нужным говорить вам правду. Мне действительно пришлось совершить прогулку – к моему больному отцу, моя дорогая.
Они продолжают беседовать в том же «дружеском»
тоне. В целях восстановления мира мы с Ральфом аккуратно пополняем их бокалы – кельнер ставит в ведерко со льдом уже третью бутылку, – но «дружеский» разговор все не прекращается, и, чтобы хоть на время развести чемпионов, мертвой хваткой вцепившихся друг в друга на ковре, Бэнтон приглашает Розмари.
– Если она и дома такая, вашим терпением можно восхищаться, – тихо говорит Флора, когда мы остаемся за столом одни.
– Просто она чуток понервничала, – небрежно отвечаю я. – Эта внезапная болезнь отца…
– Заболевание отца? – прерывает меня дама. – А может, папы римского?
– Или хроническое недоедание…
– Мне не кажется, что она себя морит голодом, – снова прерывает меня Флора. – Если женщина хилая, это не всегда признак недоедания.
– Еще бокал? – галантно предлагаю я, чтобы переменить тему.
– Налейте, если это доставит вам удовольствие. Только не воображайте, что вам удастся меня напоить. Да и ни к чему это. – Флора мерит меня всевидящим взглядом и после непродолжительного гипноза спрашивает: – А если даже сумеете напоить, что толку? Милая Розмари всегда начеку.
– Мне кажется, вы немного преувеличиваете, говоря о власти Розмари надо мной.
– Неужели? А что вы скажете, если я захочу проверить ваши слова? – Каким образом?
– Самым простым: возьму и похищу вас.
– Вы даже сны мои начинаете отгадывать.
– Нет, я вам не верю, – качает головой Флора. – И
проверять вас не собираюсь. Успокойтесь, я пока никого не похитила… да и меня никто не похищал…
Последнее утверждение близко к истине, но я не решаюсь об этом сказать, тем более что компания опять в полном составе. Компания в полном составе, однако веселья что-то не получается, хотя в ведерке охлаждается уже четвертая бутылка шампанского, и только Флора чувствует себя на гребне, насколько можно судить по ее теплым словам и теплому взгляду, обращенному на меня, что усугубляет хандру Розмари – во всяком случае, изображает она ее великолепно, – моя квартирантка признается, что у нее ужасно болит голова и что она с удовольствием ушла бы, и Ральф, естественно, предлагает отвезти ее домой, а я намекаю, что нам всем пора уходить, но Розмари возражает, зачем, мол, так рано, посидите еще, я бы не хотела портить вам вечер, а тем временем Флора сверлит меня многозначительным взглядом, и, подчинившись ему, я говорю уже другое – что нам и в самом деле не худо бы посидеть еще немного, что явилось вершиной бесшумного скандала, и моя Розмари венчает его тем, что демонстративно уходит в обществе Ральфа.
– Просто глазам своим не верю, – признается Флора. –
Оказывается, вы можете проявить характер, если захотите.
– Тут исключительно ваша заслуга, дорогая, – скромно отвечаю я. – В этот вечер я весь во власти вашего обаяния.
– Оставьте эти книжные фразы, мой мальчик. Розмари так любит щеголять пустыми словами, что и вас заразила. С
женщиной вроде меня надо говорить проще. И по существу.
Совет полезный, ничего не скажешь, и, следуя ему, я вывожу мою собеседницу из кабаре, беру такси, и через четверть часа мы с ней – в знакомом, удобно и практично обставленном салоне.
– Наливайте себе чего-нибудь, не бойтесь меня разорить, – предлагает Флора, указывая на заставленный бутылками столик. – А я тем временем приму душ.
Чтобы принять душ, ей, естественно, надо сперва раздеться, что она делает совершенно непринужденно, словно перед нею Макс Бруннер, а не Пьер Лоран, после чего исчезает в ванной. Я не испытываю желания снова приниматься за питье, особенно теперь, когда я в обществе этой опьяняющей женщины, и предпочитаю, вытянувшись на диване, очередной раз посовещаться с самим собой.
Итак, вопреки договоренности Розмари толкнула меня в объятия Флоры из чисто практических соображений, которые без всяких колебаний мне раскрыла. В силу какого-то совпадения, какими жизнь нередко нас поражает, наши цели не противоречат друг другу, хотя они далеко не равнозначны.
Пока я копаюсь в своих мыслях, из ванной выходит
Флора – такой же внезапный сюрприз, каким было появление Венеры из пены морской.
– Вы просто ослепительны, – бормочу я, не в состоянии владеть собой.
– Скажите лучше: у вас хорошая фигура. Я же вам говорила, громкие слова – не моя страсть.
Она набрасывает полупрозрачный розовый пеньюар и направляется ко мне.
– Кстати, – роняю я, когда она уже совсем близко и наше столкновение кажется почти неизбежным. – Эта ваша дружба с Пенефом…
Во взгляде Флоры внезапно блеснул металл.
– Я подозревала, хотя не была уверена: это Розмари вас послала ко мне, чтобы все выведать.
– Вот и не угадали, – возражаю я спокойно. – Скрывать не стану, моя симпатия к вам действительно сочетается с определенными интересами практического порядка. Но может ли подобное сочетание приятного с полезным удивить женщину с таким трезвым умом? И чтобы не было недомолвок, я должен вас заверить: Розмари к этому не имеет никакого отношения.
Она стоит передо мной, держа руки на бедрах, нисколько не стесняясь своей наготы или не подумав о ней, и взвешивает мои слова. Затем садится, но не в интимной близости со мной, а в соседнее кресло, закидывает ногу на ногу, демонстрируя свои массивные бедра, и сухо говорит:
– Ну хорошо, мой мальчик, я слушаю.
– Да, но прежде, чем мы перейдем к откровенному разговору, мне бы хотелось, чтобы вы ответили на мой первый вопрос: эта ваша дружба с Пенефом…
– Отвечаю! – прерывает меня Флора. – Этот кретин вне игры. Так же как эта ваша дурочка.
– В таком случае дело в следующем…
Я рассказываю ей без лишних слов – она ведь дала мне понять, что не любит пустых фраз, – все, что я знаю о ее жизни и планах, о ее связи с Бруннером, о ее интересе к покойному Горанову, а значит, и к Пеневу и, естественно, о том, что ее конечная цель – брильянты.
– Я верю, что откровенный тон нашей беседы не позволит вам оспаривать все эти бесспорные вещи, – заключаю я.
– Я не говорю ни «да», ни «нет», – отвечает она, – я вообще ничего не скажу, прежде чем не услышу главное: какую цель преследует сам господин Пьер Лоран?
– Пока что ответ будет негативный: брильянты его не интересуют.
– Все так говорят. В наше время альтруистов хоть пруд пруди.
– Хватит вам иронизировать, лучше рассудите логически. Если бы меня интересовали брильянты, разве стал бы я открываться перед вами, заведомо зная, что вы сами их ищете?
– Может, вы хотите втереться в доверие, чтобы поставить подножку в удобный момент. Или рассчитываете на то, что с вами поделятся. Только я, мой мальчик, делиться не люблю. – Она молчит какое-то время, потом поясняет: –
Я вам это высказываю просто так, в качестве гипотезы.
Гипотеза или нет, но звучит достаточно ясно. Как и следовало ожидать, эта команда тоже охотится за брильянтами. Будем надеяться, что ее интересуют только брильянты.
– Вот видите, дорогая, у меня нет никаких поползновений завладеть вашими камнями. Зато я бы вам пригодился в обнаружении их.
– Каким образом?
– Снабдил бы вас кое-какими сведениями.
– В обмен на что?
– В обмен на кое-какие сведения.
– «Кое-какие»… Это слишком туманно, – недовольно бормочет она.
– Когда вы создадите мне необходимые условия, я буду конкретней.
– Говорите яснее. Что вы имеете в виду?
– Я должен повидаться с Бруннером.
Она откидывается на спинку кресла и смеется не особенно веселым смехом.
– Это все?
– Это только начало.
– Странный вы человек, Лоран. Опасаетесь Флоры, а ищете встречи с Максом. Да Макс вас сотрет в порошок, если только усомнится в чем-нибудь.
– Такой опасности не существует.
– Вам видней. Что касается встречи с Бруннером, то этот маленький подарок вы от меня получите, мой мальчик. – Затем она поднимается с кресла, снова ставит руки на бедра и спрашивает деловым тоном: – Так мы будем ложиться?
– Мы же затем и пришли… – отвечаю я.
Я просыпаюсь с мыслью, что в такое теплое время давно пора убрать ватное одеяло. Одеяло мне заменяет
Флора – ее дородные белые руки заключили меня в крепкие объятия… Другая моя забота касается несчастного Бенато.
Похоже, что и сегодня ему суждено начать рабочий день, а может быть, и закончить обед без меня.
Я пытаюсь высвободиться из могучих объятий этой роскошной женщины, но во сне она прижимает меня к себе еще крепче. Я уже исхожу потом. Вот это объятия! Придется выждать какое-то время.
Истомленная переживаниями в кабаре, а затем ночными, Флора освобождает меня от своих объятий только в девятом часу. Но должен признать, что, едва открыв глаза, она проявляет завидную активность. Несколько энергичных приседаний и наклонов, несколько минут под душем, и мы уже сидим за кухонным столом перед обильным завтраком.
– А ты мне нравишься, мой мальчик, – говорит хозяйка, протягивая руку к булочкам, только что доставленным из пекарни. – Хотя я вправе обижаться на тебя.
В отличие от Розмари она в первую же ночь перешла на «ты».
– Обижаться, за что?
– За твое недоверие. Перешагиваешь Флору, ищешь
Бруннера…
– Недоверие здесь ни при чем, это диктуется необходимостью: нужные мне сведения я могу получить не от тебя, а от Бруннера.
Флора задерживает на мне задумчивый взгляд, словно соображая, что же это за сведения такие: приятелю ее они известны, а ей – нет. Затем пожимает плечами.
– Так уж и быть. Хотя было бы куда лучше, если бы вели переговоры мы с тобой вдвоем – два представителя торговых фирм, не так ли?
– Ты, в сущности, кого представляешь?
– Тебе это известно: Макса Бруннера.
– Бруннер – это не фарфоровый завод.
– А при чем тут фарфоровый завод?
– Значит, ты его послушное орудие.
– А почему не наоборот?
– Потому что он дергает за нитки.
– Бог ты мой! – вскидывает она брови. – Если он начнет дергать за нитки, то до такой степени запутается в них, что даже мне его не высвободить.
– А ты не боишься, что, завладев добычей, он может махнуть на тебя рукой?
Она смеется коротким и невеселым смехом:
– Скорее я могла бы махнуть на него рукой. Но не стану этого делать. Одинокой женщине, мой мальчик, всегда нужен домашний пес.
7
До недавнего времени это заведение, вероятно, представляло собой обыкновенный подвал, заваленный всяким хламом. Но вот, распространяясь неведомыми путями, сексуальная революция докатилась и до этих мест – возможно, как ее далекий и робкий отголосок. Афиши «Казино де Пари» начала века, несколько красных фонарей в нишах, десяток столиков, освещенная прожекторами эстрада – и вот уже подвал превратился в берлогу, где немногочисленная местная богема может созерцать разгул эротических страстей.
Это второе и последнее ночное заведение в добропорядочном Берне рангом значительно ниже «Мокамбо», но, вероятно, значительно интереснее его, если судить по тому, что народу здесь полным-полно. Магнитофон, заменяющий дорогостоящий и совершенно ненужный в этом подвале оркестр, с помощью усилителей наполняет зал почти невыносимой поп-истерией. Избыток децибелов контрастирует, однако, с нехваткой освещения, и я довольно долго блуждаю в красном полумраке между столиками, пока не обнаруживаю интересующую меня личность.
– Вы позволите?
Личность бросает взгляд в мою сторону и безразлично пожимает плечами. Затем снова смотрит в мою сторону и, видимо, узнает меня, потому что бледная физиономия субъекта вытянулась еще больше, а острые глазки беспокойно забегали.
– Виски? – спрашивает кельнер, которому здешняя суматоха не мешает заметить мое появление.
Я киваю и, видя во рту соседа незажженную сигарету, услужливо подношу зажигалку. Однако человек внезапно шарахается в сторону, словно пламя обожгло его, и бормочет:
– Мерси, я не курю.
– Но вероятно, прежде курили? – задаю ему вопрос только для того, чтобы начать разговор.
– Курил, и еще как. Но однажды врач предупредил меня, что, если буду так много курить, долго не проживу.
Грудь у меня не совсем в порядке. – Он замолкает и больше не смотрит в мою сторону – все его внимание поглощено женщиной, внезапно появившейся на эстраде под предупредительный гром воспроизводимых магнитофоном ударных инструментов.
У меня нет представления о программе в «Мокамбо», так как в тот вечер, раньше времени похищенный Флорой, я был лишен возможности ее посмотреть. Что касается здешней программы, то ей, конечно, далеко до классических традиций знаменитого «Казино де Пари». Вышедшая на эстраду дама, вполне очевидно, прибыла сюда не из
Парижа, а из какого-нибудь вертепа превращенного в развалины Бейрута. Чересчур жирная и весьма подвижная, она пытается сочетать восточный танец живота с американским стриптизом – постепенно стаскивая с себя свои эфирные вуали и обнажая все, чем одарила ее природа, она лихо вертит бедрами под завывания усилителей, и телеса ее трясутся, словно желе.
Мой сосед, весь превратившийся в слух и зрение, видимо, по достоинству оценивает эротическую сгущенность номера. И все же у меня такое чувство, что ему что-то мешает полностью сосредоточиться. Надеюсь, причина не во мне.
Показав публике все, что можно было, и не оставив после себя ничего, кроме пары туфель, толстуха исчезает за занавесом, вертя на прощание увесистым задом, и тут же на эстраде появляется ее антипод – длиннущая и ослепительно белая представительница северной расы, основательно одетая в шелка и меха, так что, очевидно, потребуется уйма времени, пока она окончательно разденется.
Однако я не намерен дремать здесь до поздней ночи, да и события принимают такой оборот, что мне совсем не до развлечений, поэтому я вынужден ненадолго отвлечь внимание соседа от очередного сексуального блюда.
– Я пришел сюда не ради стриптиза, господин Пенев, а для того, чтобы сказать вам несколько слов. В ваших интересах внимательно выслушать их, мне кажется.
Человек стрельнул в меня глазами и, как ни странно,
снова вперяет взгляд в скандинавку, которая уже отбросила жакет из искусственной белки и занялась платьем.
– Я не добивался встречи с вами, – бормочет Пенев. –
Но если хотите что-то сказать, говорите. Я не глухой.
– Мне нужны досье агентуры. Агентуры Горанова.
Сосед, снова коротко взглянув на меня, устремляет взгляд на длинную белотелую самку, которая уже на подступах к кружевному белью.
– Досье? – глухо произносит он. – И что еще? Сверхзвуковой самолет, атомная бомба, космическая ракета?
Делайте любые заявки, я к вашим услугам.
– Видите ли, Пенев, не лучше ли нам обойтись без этих досадных вступлений? Ваше недоумение кажется таким наивным. Вам сказано предельно ясно: мне нужны досье. К
этому можно добавить лишь одно: времени у нас в обрез.
– Лично мне торопиться некуда…
– Однако те, что идут за вами по пятам, торопятся. Мне трудно судить, насколько вы в курсе, но с некоторых пор вы находитесь под наблюдением. И не стану удивляться, если и сейчас за вами следит кто-нибудь из присутствующих.
– А с какой стати вы проявляете такую заботу обо мне? – замечает сосед, не отрывая глаз от эстрады. – Если вы все время суете свой нос куда не следует и бредите всякими там агентурами, вам лучше о себе подумать.
– Я думаю о нас обоих. Не потому, что питаю к вам особую симпатию, а в силу того, что так сложились обстоятельства: я разыскиваю то, что находится у вас, а вы –
то, что у меня. К этому и сводится мое предложение: вы должны отдать то, что нужно мне, и получить взамен то, что нужно вам. Надеюсь, вам ясно?
– Не совсем, – слегка качает своей острой головой мой собеседник. – Я уже слышал, что вы ищете, но не могу понять, что я сам ищу.
– Брильянты.
Наконец-то Пенев благоволит отвести глаза от сцены, хотя именно в этот момент северная красавица, усевшись на стул в бесстыдной позе, начинает стаскивать чулки. Она их скатывает с такой досадной медлительностью, как будто рассказывает бесконечно длинный и скучный анекдот.
Старый, бородатый анекдот.
– Вы не могли бы объяснить поточней? – спрашивает
Пенев, вынимая изо рта уже совершенно размокшую сигарету и бросая ее в пепельницу.
– Я сказал – брильянты. Брильянты, оставленные Горановым, которые вам вот уже столько времени покоя не дают. И напрасно вы надеетесь докопаться до них с помощью Виолеты, Флоры или собственными усилиями Совершенно напрасно, Пенев. Потому что они у меня.
– Досье… Брильянты… Чушь какая-то, – бубнит пренебрежительно сосед.
Однако тот факт, что он утратил всякий интерес к номеру длинной скандинавки, говорит о другом. Пенев достает из кармана коробочку «Лаки-страйк» без фильтра –
при его «холодном» курении всегда пользуются сигаретами без фильтра – и вставляет в угол рта новую сигарету.
– Вы, похоже, и в самом деле не даете себе отчета, что происходит, – спокойно говорю я. – Чтобы продлить жизнь, вы воздерживаетесь от курения. А вам и невдомек, что имеются все предпосылки к тому, чтобы ваша жизнь сделалась такой короткой, как эта сигарета, которую вы без конца жуете. Люди, убравшие Горанова, собираются убрать и Пенева. Вполне возможно, они уже готовы к этой операции, и, если вы хотите уцелеть, не тратьте время на разговоры и отбросьте всякое притворство.
Реплика оказалась достаточно длинной, чтобы артистка успела стащить чулки, а Пенев – побороть колебания.
– Зачем вам досье? – вдруг спрашивает он и торопится добавить: – Если они вообще существуют.
– В них значатся имена моих близких, а им больше не хотелось бы фигурировать в этих досье, они желают в будущем спать спокойно.
– Значит, вы болгарин? – спрашивает мой сосед на родном языке.
– А вы за кого меня приняли? За американского негра? – отвечаю на том же языке.
Он не реагирует на эти слова и погружается в свои мысли, а тем временем высокая женщина на эстраде царственным жестом отбрасывает в сторону бюстгальтер и приближается к апогею своего номера – ей осталось освободиться от трусов. И, поскольку мой собеседник даже в этот напряженный момент не поднимает взгляда на красотку и поскольку его размышления, по моему мнению, слишком затянулись, я ощущаю потребность прийти ему на помощь:
– Должен вас предупредить: если вы прикидываете, как бы спасти собственную жизнь, пустив в расход мою, то вы допускаете роковую ошибку. Сам факт, что я открылся вам, говорит о том, что тыл у меня надежно защищен. При малейшей попытке предательства вас мигом ликвидируют.
Люди, готовые это сделать, всегда начеку, Пенев. Они не выпустят вас из поля зрения, и вам нигде не укрыться от пули. – И так как дело и без того зашло далеко, я позволяю себе добавить: – В сущности, пулю вы уже давно заслужили. И я проявляю большое великодушие, предоставляя вам амнистию. А оттого, что вместе с амнистией я даю вам и брильянты, мое великодушие представляется поистине фантастичным.
– Чем фантастичнее предложение, тем меньше доверия оно внушает, – отвечает Пенев, и ответ его не лишен основания.
– Вы прекрасно понимаете: люди, которых я представляю, брильянтами не интересуются, особенно крадеными.
– А что это, в сущности, за брильянты, о которых вы все время толкуете? – спрашивает он ради небольшой проверки.
– Многокаратовые. Потрясающая коллекция. Разложенные со вкусом в небольшой черной коробочке.
– Сколько их?
– Девять.
– Вот и обмишурились вы, – качает головой Пенев. –
Их ровно десять штук.
– Было десять. Только один из них попал на рынок, где сбывают краденые вещи. Так что теперь их девять.
Он, разумеется, отлично знает, сколько их, просто ему понадобилось выяснить, насколько я в курсе дела. Уже исчезла со сцены высокая скандинавка, чтобы предоставить место мулатке с умопомрачительными формами в легком ситцевом платье. Эта явно работает в соответствии с лозунгом: «Берегите время!»
– И нечего вам мудрить, – советую я Пеневу. – Будете долго мудрить – сделка может и не состояться. У вас не так много времени, чтобы собрать свои пожитки и исчезнуть.
– Кстати, как вы себе представляете эти досье? –
спрашивает Пенев, только теперь подняв голову, чтобы посмотреть мне в глаза.
– Их внешний вид меня нисколько не интересует. И то, как они заполнены. И шифр, если им пользовались.
– Шифра нет, – успокаивает меня Пенев. – Но есть другое: эти досье, гражданин, были разрезаны по вертикали на три полосы. Десять листов, и каждый был разрезан на три полосы, таким образом, всего получилось тридцать полос, не так ли? Ну вот. Но если дойдет до сделки, я смогу предложить вам только десять полос из общего количества.
– А где остальные?
– В двух различных местах.
– Но вам, конечно, известны эти места.
– Одно – да. Что касается другого, об этом спросите у
Горанова.
– А где первое?
– А брильянты?
– О брильянтах не беспокойтесь. Я могу вручить их вам сегодня же.
– Когда вручите, тогда я вам обо всем и расскажу. И
десять полос досье заодно передам.
– Условия сделки, которые вы мне предлагаете, неравноценны.
– Я вам ничего не предлагаю. Это вы предлагаете.
– И все же они неравноценны.
– Я не в состоянии дать вам больше того, что у меня есть, – пожимает плечами Пенев.
– А что содержат ваши «полосы»?
– Самое главное: псевдонимы. Листы, как я уже сказал, были разрезаны на три части. На одной – псевдонимы, на другой – подлинные имена, а на третьей записаны данные о характере деятельности.
– Но псевдонимы далеко не самое главное.
– Для нас они – самое главное, потому что мы под ними работаем. Во всяком случае, чем я располагаю, то предлагаю.
– Вы мне предлагаете сущий пустяк. Я рассчитывал на другое.
– Может, и я рассчитывал на другое, но, как видите, дошел до того, что вступаю в сделку с таким вот, как вы… –
мрачно бормочет он и разминает в пепельнице мокрую сигарету.
Конечно, для него это предел падения – теперь, когда факт предательства для него позади, он отчасти соглашается раскрыть его механизм, с тем чтобы, нагрев на этом руки, скрыться в неизвестном направлении.
Мулатка в рекордное время стащила с себя почти все, что на ней было, но, как оказалось, это лишь скромное вступление, а главная часть ее действия – какой-то бесконечный бешеный танец под бешеный визг магнитофона.
– Я должен вам сказать еще несколько слов, – предупредил я. – А что касается обмена товаром, предлагаю произвести его этой же ночью…
Этой же ночью. Доверие хозяев к слуге – если оно вообще существовало – в последние дни начисто пропало. За
Пеневым установлено наблюдение, и ему это хорошо известно. Однако после того, как я вошел с ним в контакт – а в этом была настоятельная необходимость, – я и сам могу оказаться под наблюдением, какой бы правдоподобной ни казалась версия о нашей случайной встрече в случайном заведении. Так что надо спешить.
Горсть брильянтов достоинством в миллионы долларов способна затуманить мозги даже самому расчетливому пройдохе. Произошло это и с Пеневым. Он похвалялся
Флоре, что собирается купить себе виллу – конечно же, за деньги ЦРУ. Но вот ЦРУ отстраняет его от участия в сделке, и в торговом зале объявляется Кениг. Открытый выход на сцену Кенига, так же как неожиданное появление наследницы, о существовании которой никто не подозревал, порождает у Пенева страх, что добыча, которую он столько времени стерег, может от него уйти. Это толкает его на своевольные действия. К примеру, он неотступно следит за Виолетой, что не могло быть не замечено такими людьми, как Кениг, хотя, вероятно, никто ему такого поручения не давал. Не исключено также, что покушение на
Кенига в вилле приписывается Пеневу, тем более что другой возможный виновник пока не обнаружен. Так или иначе, наследник Горанова находится под наблюдением. И
это обстоятельство не только дает ему обильную пищу для раздумий, но и толкает на мысль, что надо скорее смываться, что отныне ему придется быть на нелегальном положении.
Быть на нелегальном положении – где? Если человек ухитрился бежать за границу, если ему удалось сменить шумный Мюнхен на тихий Берн, это вовсе не означает, что он может непрерывно прыгать с места на место, особенно если учесть, что ЦРУ не по вкусу подобные шалости. Но пусть от этого болит голова у Пенева.
Сейчас важно, чтобы сделка состоялась без каких-либо осложнений. Этой же ночью. В соответствии с договоренностью Пенев первым покидает прокуренный багровый полумрак сексуального подвала, а немного спустя я тоже выхожу и еду следом за «шевроле», сохраняя дистанцию. У
меня нет сколько-нибудь серьезных оснований тревожиться, что наследник Горанова сделает попытку обмануть меня и выдать. Сейчас его положение слишком незавидно, и он не может позволить себе такую роскошь. Но все же –
чем черт не шутит – я предпочитаю особенно не отставать от Пенева, чтобы можно было видеть, если он вздумает свернуть куда-нибудь в сторону с прямой дороги.
Судя по картине, пробегающей перед моими глазами в зеркале заднего вида, хвост за нами не тянется. Однако, как уже отмечалось, я не сторонник принимать кажущееся за действительное. Нынче, в эпоху небывалого технического прогресса, существуют всевозможные способы совершенно незаметно держать тебя под наблюдением. Именно поэтому сделка должна состояться только в три часа ночи, чтобы прошло достаточно времени с тех пор, как мы с
Пеневым разошлись по домам и предположительно легли спать.
Три часа ночи. Обстановка, предельно ясная для людей старого поколения, которые все еще помнят сердцещипательную песню:
Брожу в тиши безлунной ночи,
как сладок липы аромат!
Что касается липы, то это, разумеется, поэтическая вольность – у меня в саду липа не растет, – а все остальное
– чистая правда.
Безлунной ночью под пышными кронами яблонь я пробираюсь в самый конец сада, где на низкой ограде, разделяющей две усадьбы, возвышается никому не нужная каменная ваза.
Мрак не мешает мне видеть, что возле вазы, по другую сторону ограды, уже ждет Пенев.
– У меня пистолет, Лоран, – предупреждает он, – поэтому, если у вас есть какие-то дурные мысли, лучше выбросьте их из головы. Я продырявлю вам брюхо, не боясь потревожить окрестных жителей.
– У меня тоже кое-что имеется, – вру я нахальнейшим образом. – Но, я полагаю, мы пришли сюда не затем, чтобы дырявить друг друга. Доставайте лучше бумаги.
– Сперва доставайте брильянты!
Я вытаскиваю из кармана уже знакомую коробочку и открываю ее. Хотя ночь безлунна, брильянты заиграли веселым блеском даже при тусклом свете уличных фонарей, с трудом проникающем сквозь яблоневую заросль. Не в силах сдержаться, сосед протягивает к заветному сокровищу жадную руку.
– Не трогать! – предупреждаю я. – Выкладывайте бумаги!
Он отдергивает руку, в свою очередь роется в кармане пиджака и достает какие-то тонкие листочки, свернутые вдвое.
– Похоже, они были при вас и в кабаре…
– Естественно. Так же как ваши камни…
– Мы запросто могли обменяться товаром под столиком. Но с таким мнительным человеком, как вы…
Как бы в подтверждение моей правоты Пенев вдруг спрашивает:
– А где гарантия, что эти камни настоящие?
– А где гарантия, что ваши досье настоящие? – отвечаю я вопросом на вопрос. – У вас по крайней мере преимущество: вы хоть знаете, как выглядят камни. А я ведь понятия не имею, что собой представляют досье. Только – об этом я уже напоминал – если вместо настоящих документов вы мне всучите невинные клочки бумаги или вообще какую-нибудь фальшивку, вы неизбежно будете казнены, Пенев, и незамедлительно.
– Я не ребенок, – бормочет сосед. – Давайте камни!
– Успеется. Сперва я должен выслушать вашу информацию. Где находятся остальные полосы?
Он молчит какое-то время, взвешивая возможный риск.
Потом шепчет:
– У Кенига. Не знаю, говорит ли вам что-нибудь это имя…
– Оно мне говорит о ЦРУ.
Пенев молчит, но в таких случаях молчание бывает красноречивее слов.
– Теперь давайте камни!
– Вот они, я кладу их на ограду. А вы положите рядом бумаги.
Он выполняет указание. И, не сосчитав до трех – за какую-то долю секунды до трех не досчитав, – каждый из нас хватает свою добычу.
– Один совет, – говорю я ему, перед тем как удалиться. – Исчезайте немедленно. Ваша жизнь и впрямь висит на волоске.
Он что-то тихо бормочет, вроде «я не ребенок», и уходит в темноту в направлении виллы.
Мне ровным счетом наплевать на то, что его жизнь висит на волоске. Предатель в момент предательства сам ставит на себе крест. Но сейчас мне крайне важно, чтобы он скорее убрался отсюда, и как можно дальше. Прежде чем установит истинную цену камней. И прежде чем его нынешний хозяин пронюхает каким образом он их получил.
Я пробираюсь во мраке к дому, поднимаюсь бесшумно по лестнице и вхожу в кабинет. Напряжение мое не столь велико, чтобы сердце у меня разрывалось, – давно уже миновало то время, когда мне были свойственны такие юношеские переживания. Однако было бы неверно утверждать, что я совершенно спокоен. Риск, что мне подкинули фальшивку, хотя и невелик, но все же есть.
Я зажигаю настольную лампу и быстро просматриваю досье. Тонкая с прожилками бумага сильно измята от перелистывания и основательно выцвела от времени. Потускнел и машинописный текст, так что абсурдно считать, будто эти бумаги приготовлены специально для меня.
Машинопись – оригинал, а не копия, хотя в данном случае меня это мало интересует. Что касается содержания, оно сводится к перечню географических названий, напечатанных в столбик с неодинаковыми интервалами: Искыр…
Огоста… Росица… Янтра… Места… Осым… Названия нередко повторяются, но их сопровождают различные цифры: Искыр-2… Искыр-3… Всего пятьдесят два словесных обозначения. Признаться, не ожидал я такого половодья.
Солидное приданое прошлого. Пятьдесят два предателя, которые периодически действовали либо были готовы к действию при определенных обстоятельствах. Пятьдесят два агента, которые будут целиком в распоряжении противника, если их вовремя не обезвредить. А насколько это возможно, пока сказать трудно, потому что на лежащих передо мной листах обозначены только маски, а истинные лица значатся на недостающем втором куске рукописи.
Полоски бумаги, до которых я докопался, весьма горькая победа. И все-таки победа. Потому что предположения, высказанные до начала операции, целиком подтвердились. И потому что теперь у меня есть точное представление о степени грозящей опасности, которую необходимо возможно скорее предотвратить. И потому, наконец, что теперь я знаю, где находится другая часть досье.
Только эта другая часть – не вторая, самая важная, а третья, насколько можно верить дополнительным сведениям, полученным от Пенева еще в кабаре.
Об этом и шла речь в заключительной части нашего разговора:
– Как бумаги попали в руки другого лица?
– Наверно, их взяли из сейфа сразу после убийства.
– А копии досье разве не существовало?
– Вы что, Горанова идиотом считаете? Картотека, говорил он, вот здесь! – И Пенев многозначительно постукивает указательным пальцем по голове. – Старик был стреляный воробей. Хотя и он ушел в мир иной.
– А почему ушел?
– Да потому, что дал маху с Караджовым… который оказался вовсе не Караджов… не знаю, в курсе ли вы…
– Я в курсе.
– Глупее всего то, что старик накололся именно при попытке обезопасить себя. Боясь, что его накроют ваши, сообщил о своей промашке… Иксу. Икс послал на выручку меня, и, казалось, все обошлось. Но потом появились эти женщины… Розмари, Флора… И стало ясно, что за стариком установлена слежка. Дальше больше, раздался этот телефонный звонок…
– Звонок?
– Я тогда подумал, что это ваша работа. Кто-то настаивал на встрече с ним… Невразумительно намекнул на что-то там… видимо, не подозревая, что телефонные разговоры старика подслушиваются… Это и решило судьбу
Горанова.
– Они бы не стали его устранять, если бы вы не сообщили им, что существуют досье, что все записано черным по белому, – вставляю я только для того, чтоб поддержать разговор. – Ни один дурак не станет заносить руку на живую картотеку, пока не выудит из нее все, что может пригодиться.
– Думайте, что хотите, – отвечает Пенев.
– И что же это за бумаги, унесенные из сейфа?
– Третий раздел.
– А второй?
– Я же вам сказал: насчет второго обращайтесь к самому Горанову.
То, что отсутствует именно второй раздел, содержащий подлинные имена агентов, с одной стороны, плохо, но с другой – хорошо. Кениг и его люди пока не располагают подлинными именами. Сведения, содержащиеся в третьем разделе, достаточно важны, однако не могут иметь практической пользы, поскольку отсутствуют имена соответствующих исполнителей.
С этой в какой-то степени утешительной мыслью я достаю фотокамеру-зажигалку и начинаю снимать листки с машинописным текстом. Снимаю дважды, на две различные пленки. Одна завтра утром отправится в тайник «вольво». А другая… другая тоже может пригодиться.
– Вы идете по улице, и вдруг вам на голову падает цветочный горшок. Что это, случайность или судьба? –
спрашивает Бенато, глядя на меня сквозь толстые очки круглыми младенческими глазами.
– Да, – отвечаю я без промедления.
– Что «да»? – снова спрашивает он уже с ноткой недовольства. – Вы, дорогой мой, просто не слушаете меня.
– Признаюсь, я маленько отвлекся, – тихо говорю я, отмахиваясь от своих мыслей.
– При этой вашей рассеянности немудрено и обед пропустить, – все так же недовольно отмечает мой компаньон и смотрит на часы. – Не кажется ли вам, что ваша дама заставляет нас слишком долго ждать?
– Мне кажется, что нам уже пора делать заказ, – предлагаю я, поскольку разговор этот происходит в уютном уголке «Золотого ключа» и поскольку как раз в этот момент у входа появляется импозантная фигура Флоры и словно туча закрывает собой белый свет.
Я встаю и исполняю неизбежный церемониал представления, после чего усаживаю даму между собой и Бенато. На Бенато Флора явно произвела впечатление, правда, исключительно своим ростом. Он, как мне кажется, давно уже вступил в тот возраст, когда на женщин смотрят только как на возможных собеседников.
После короткого совещания с Феличе, который всегда готов предложить все самое дорогое, мы заказываем аперитив и обсуждаем меню. Затем Бенато возвращается к прежней теме, только теперь он направляет свои испуганные детские глаза не на меня, а на Флору:
– Дорогая госпожа, представьте себе, что вы идете по улице и на вашу очаровательную головку откуда-то падает цветочный горшок. Как вы считаете, случайность это или судьба?
– Цветочный горшок, – коротко отвечает немка.
– Ну конечно, но все же какая-то сила привела его в движение.
– Земное притяжение, – уточняет дама.
– А вот мысль о фатуме вам не приходила?
– Видите ли, господин, если вам на голову свалится цветочный горшок и если вы при этом уцелеете, лучше всего подумать не о фатуме, а о том, как бы вызвать по телефону «скорую помощь». Ну, а если не уцелеете… Что ж, в этом случае вы можете быть уверены: проблема фатума вас больше никогда не будет беспокоить.
Справившись таким образом с трудным философским вопросом, Флора берет только что налитый бокал «дюбоне» – Феличе ни секунды не заставил себя ждать – и отпивает большой глоток. Полагаю, что вопреки проискам зловредной судьбы Бенато сделал бы то же самое, если бы не ухитрился опрокинуть свое вино. Правда, пострадал костюм не дамы, а его собственный. Вездесущий соотечественник Бенато подоспел как раз вовремя, чтобы прикрыть залитую скатерть двумя салфетками и подать новую порцию «дюбоне». Опасаясь, что случившееся может повториться, я и Флора следим за развитием событий с известным напряжением, да и сам Бенато, как видно, не свободен от подобных опасений, потому что предпочитает одним духом опорожнить свой бокал.
Пока мой партнер в ожидании салата из крабов обсуждает с нами одну из своих любимейших тем, а именно непрекращающиеся зверские убийства, что, конечно же, дело рук мафии, немка слегка наклоняется ко мне и шепчет безучастным тоном:
– Сегодня утром убит этот, как его, Пенеф.
– Как?
– Так же, как Гораноф: ножом в спину.
– Но вы, как я вижу, не слушаете меня? – бормочет с легким укором Бенато. – А я говорю о том, что в наше время преступность приобретает действительно угрожающие масштабы…
Наконец на столе появляются крабы, а затем и телятина по-итальянски, с зеленью и овощами, кофе и по наперстку коньяку, чтоб лучше усваивалась пища. Таким образом, если не принимать во внимание несколько разбитых бокалов и опрокинутые приборы, обед проходил вполне нормально не только для Бенато, но даже для Флоры, которая, несмотря на преждевременную гибель знакомого соседа, явно не утратила аппетита.
– Давайте выпьем еще по чашечке кофе, – предлагаю я в надежде услышать то, что и слышу:
– Прекрасная идея, но лично мне пора. Не хотелось бы расставаться с такой приятной компанией, но у меня неотложная встреча.
Бенато не только расстаться с нами трудно, он уже говорит с трудом, так его разбирает послеобеденная сонливость, и встреча с собственной постелью для него и в самом деле неотложна.
Мне остается только смириться с этим, и, заказав еще один кофе, я обращаюсь к Флоре:
– Когда это обнаружилось?
– В одиннадцатом часу. Возвращается домой Виолета, идет на кухню и натыкается в прихожей на труп. В спине торчит нож. Его убили, вероятно, за несколько минут до ее прихода. Когда Виолета ушла из дому, чтобы съездить на
Остринг, в кондитерскую, был десятый час.
– Между десятью и одиннадцатью – исправно действуют, – заключаю я.
– Пускай над этим ломает голову полиция, мой мальчик. Для нас важнее другое – кто следующий?
– Уместный вопрос. Я рад, что ты над этим призадумалась.
– Чему тут радоваться?
– Скорее поймешь, что тебе полезно сотрудничать со мной.
– Если ты не станешь водить меня за нос, – вставляет
Флора.
– Об этом можешь не беспокоиться. Лучше подумай о другом: у тебя опасные соперники, дорогая.
– Я это и без тебя знаю. Надеюсь, они не только мои соперники, но и твои.
– Меня не интересуют…
Фраза остается незаконченной, потому что моя собеседница знаком предупреждает меня о приближении кельнера. А когда Феличе удаляется, разговор принимает иное направление:
– Ну как, встреча состоится?
– Я затем и пришла, чтобы тебя осчастливить.
Ее ирония не предвещает ничего хорошего.
– Где и когда?
– Ровно в шесть. Внизу, у лифта.
– У какого лифта? Что у кафедрального собора? – невинно спрашиваю я.
– Да. У лифта Эмпайр Стейтс билдинг не так удобно.
До шести еще далеко. И так как Флоре захотелось остаться в центре и сделать кое-какие покупки на главной улице, я еду к Острингу с намерением узнать подробности убийства от своей сожительницы – милая Розмари всегда все знает.
Оказывается, ее нет дома. После памятной ночи, которую я провел у Флоры, в наших отношениях с квартиранткой стал ощущаться легкий холодок. Совсем легкий и едва заметный, но все же холодок.
– У меня создалось впечатление, что вы слишком усердно, я бы сказала, чересчур самоотверженно кинулись в атаку на эту немку, – заметила было Розмари, когда я пришел домой на следующее утро.
– Если мне память не изменяет, вы сами поставили передо мной задачу, – попытался я оправдываться.
– Да, но не в этом, не в сексуальном смысле, как вы это поняли.
– В сексуальном смысле… Стоит ли преувеличивать…
– Вы не подумайте, я не ревную, просто я боюсь за вас, – сказала Розмари, – отклонения от нормального вкуса начинаются с пустяков – скажем, человека потянет на вульгарную бабищу или что-нибудь в этом роде. А потом незаметно дело доходит и до грубых извращений.
– Стоит ли преувеличивать? – примирительно повторяю я. – Все делается только ради вас.
– Ну и какой же результат? Я имею в виду не то, что вас так занимает, а то, что интересует меня.
– Если вы полагаете, что такую крепость, как Флора, можно взять за одну ночь…
– И сколько же вам понадобится, чтобы полностью овладеть этой цитаделью? Тысяча и одна ночь? Или чуть больше?
– Ваша ирония становится безвкусной, милая. Отрицать не стану, это доставляет мне некоторое удовольствие. Но возможно, вы все-таки ревнуете.
– И не надейтесь. Мне абсолютно безразлично. И если мне было немножко обидно, то только потому, что за всю ночь вы не вспомнили обо мне и о том, что меня заботит.
– Не знаю, как вас убедить, но я ни о чем другом и не думал.
– Только фактами, милый. Одними только фактами, и ничем иным.
– Факты пока что таковы: Флора действительно интересуется брильянтами и находится здесь именно из-за них.
– Об этом нетрудно догадаться.
– И за Флорой, точно так же, как и за вами, стоит другой.
– Я подозревала.
– И этот другой – немецкий торговец Макс Бруннер.
– Чем же он торгует?
– Не брильянтами. Но, как вам известно, брильянтами интересуются не только ювелиры. Иначе ювелирам было бы некому их сбывать.
– Как вы вовремя мне это сказали. А какие у нее отношения с Пенефом?
– Вы можете быть вполне спокойны. Она обозвала его кретином.
– Это еще ни о чем не говорит. Кретины для того и существуют, чтобы быть орудием в руках умных.
– Убежден, что на него она уже не рассчитывает. Не знаю, почему именно, но не рассчитывает.
– А как она относится ко мне?
– Просто боготворит вас.
Мы продолжали разговор в том же духе еще какое-то время. Однако, чтобы не показаться совсем неблагодарной, Розмари все же признала, что мои сведения небесполезны, и выразила надежду, что в ближайшее время я выясню еще кое-какие детали и окончательно овладею этой крепостью
– конечно, не карабкаясь на ее стены в буквальном смысле слова. В общем, все кончилось довольно мирно, однако в наших отношениях стал чувствоваться какой-то холодок.
Едва ощутимый холодок – чтобы мы не закипели в пылу страстей.
Поднявшись в спальню, я окидываю взглядом соседнюю виллу. Полиция, наверно, уже закончила свою работу.
После двух убийств подряд в одном и том же месте люди приобретают определенные трудовые навыки, и все делается быстрее. В саду ни души, и холл с незашторенными окнами пустынный и немой. Немой – и все же говорит мне кое-что: значит, Розмари не пошла успокаивать то немощное существо. А может, уже раньше исполнила свою задачу.
Мне больше нечего делать в этой пустой вилле, разве что ждать, пока кто-нибудь пожалует и по мою душу. Я
выхожу и иду по аллее в сторону леса, просто чтобы немного размяться и попробовать взглянуть на ситуацию со стороны. Лес, этот тихий и прохладный колонный зал, неторопливо заключает меня в свои объятья; за его колоннадами, там, вдали, просматривается изумрудно-зеленое поле, за ним – голубая цепь гор, а еще дальше – заснеженные громады альпийских вершин, над которыми синеет небо.
Я сворачиваю на тропинку, чтобы посидеть на первой попавшейся скамье, но скамья, оказывается, занята. На одном ее краю сидит пригорюнившись худенькая девушка в темном ученическом платье с белым воротничком. На коленях у девушки лежит плюшевый медвежонок. Заметив мое приближение, девушка вздрагивает, но я спешу ее успокоить:
– Не бойтесь… Я ваш сосед, хозяин Розмари.
– Мне кажется, я вас уже видела, – кивает девушка, которой, как я уже имел случай заметить, наверняка под тридцать.
– Вы мне позволите присесть на минутку?
– Почему нет? Скамейка не моя.
– Мне бы не хотелось вам досаждать…
– Что вы! Не станете же вы говорить об этом ужасном убийстве…
– Не беспокойтесь, – заверяю я ее, хотя мне не терпится заговорить с нею именно об убийстве.
– Тут все норовят меня успокаивать и все толкуют о вещах, которые меня расстраивают еще больше, будто мало мне того, что эта страшная картина до сих пор у меня перед глазами – труп… и эта кровь… Даже когда я закрою глаза…
– Не стоит закрывать глаза, – советую я ей. – Если вы хотите отделаться от какого-то кошмара, вы должны не закрывать глаза, а открывать их как можно шире, смотреть на окружающие вас предметы: на красивые деревья, на луг, на горы и небо… вслушиваться в говор простых вещей…
– Мне кажется, что простые вещи я в состоянии понять, – соглашается Виолета, прижимая к себе медвежонка, словно тот готов заплакать. – Единственное, чего я не понимаю, так это людей… И может быть, поэтому я всегда их боюсь, даже если они любезны и дружелюбны…
– Люди бывают разные, – внушаю я ей. – И дружелюбие – это еще не все. Важно знать, что за этим дружелюбием кроется: сочувствие или расчет.
– В сущности, что всем этим людям от меня нужно? –
неожиданно спрашивает молодая женщина, словно мои банальные поучения задели скрытую рану. – И ваша квартирантка, и та рослая немка, которая сегодня утром угощала меня чаем с тортом в кафе… и господин Кениг. Вы слышали о таком?.
– Знакомое имя… – отвечаю неуверенно.
– Оно знакомо всему свету, потому что здесь каждый пятый – Кениг, но я имею в виду того господина, который вчера пришел ко мне и спросил, не продам ли я виллу, он,
дескать, интересуется вполне серьезно, абсолютно серьезно, и не склонен верить, что я не собираюсь ее продавать, раз у меня есть где жить. Я у него спрашиваю, о чем он толкует, а он все свое – ведь я где-то жила до сих пор; видя такое нахальство, я даю ему понять, что его вовсе не касается, где я жила, уперся как бык, конечно, не касается, просто я подумал, что вы продадите если не виллу, то хотя бы свое то, другое жилище, настаивает, чтобы я рассказала, где оно находится, открывается ли из него вид на озеро, я спрашиваю, о каком озере идет речь, а он говорит, мне лучше знать, и в конце концов, хоть это и грубо получилось, мне пришлось захлопнуть дверь у него перед носом…
Она рассказывает эту маленькую повесть, которой вполне подошло бы название «Незваный гость», как бы скороговоркой, слегка задыхаясь, словно ощутив потребность излить накопившуюся горечь, и я отлично ее понимаю – не очень приятно, оказавшись в отчем доме, почувствовать, что ты попал в гадюшник.
– А как вы все это объясняете? – осмеливаюсь я спросить.
– Никак, абсолютно никак. Вы же слышали: мне легче понять язык вещей или животных, чем людей.
Она снова укладывает медвежонка у себя на коленях, словно ему пришло время спать, и продолжает:
– Может, это и лучше, когда не понимаешь. Потому что, если, я стану все понимать, боюсь, мне будет еще страшнее. Например, я тут подумала: а вдруг эта немка нарочно заманила меня в кафе на время, пока убьют этого несчастного человека? Наверно, я начинаю фантазировать: ведь стоит только вцепиться в какую-то мысль, и ты уже не в состоянии остановиться, в голову лезут страшные вещи…
– Вокруг вас действительно что-то происходит, – признаю я. – Если не страшные вещи, то по меньшей мере странные…
– Да, но почему? – спрашивает девушка страдальческим голосом. – Что я им сделала? Что им от меня нужно?
– От вас, вероятно, ничего. Но может, вилла чем-нибудь их привлекает. Вы хорошо осмотрели помещение, где жил ваш отец?
– Не могу же я все переворачивать вверх дном, когда не прошло и десяти дней после похорон. Как подумаю, что его похоронили без меня… Вы, может, не поверите, но о его смерти я узнала совсем случайно, из какой-то старой газеты… Я живу как отшельница, так что…
– Ах, моя дорогая!. О Пьер!. – раздаются восклицания позади меня, и нетрудно догадаться, кто пришел.
– Здравствуйте, Розмари, – киваю я, вставая со скамейки. – Это я вас разыскивал, но теперь мне пора ехать.
Вечером увидимся.
– Приходите как-нибудь на чашку чая, вместе с барышней, конечно, – предлагает Виолета с усталой улыбкой. – Мне будет очень приятно.
И она несколько задерживает на мне взгляд, как бы давая понять, что она и в самом деле рассчитывает на свидание и что разговор наш не закончен.
Розмари сразу усаживается на скамейку, явно довольная тем, что я уступил ей место, и тем, что избавил их от своего присутствия. А я, спускаясь вниз, испытываю противоположные чувства, потому что Виолета – при этом ее простосердечии и желании излить душу – готовая жертва в руках моей прекрасной дамы. Будем надеяться, что дама кое-чем поделится со мной, хотя при том холодке, который с недавних пор установился между нами, особенно рассчитывать на это не приходится.
Сейчас без четверти шесть. Находясь в нижней части города, я иду несколько преждевременно к площадке перед лифтом. Преждевременно, хотя и преднамеренно, потому что в подобных обстоятельствах нелишне проверить, пока не поздно, не пожаловал ли кто-либо третий в качестве незваного участника встречи.
Оказывается, пожаловал. И не один. Я убеждаюсь в этом лишь после того, как мои шаги звонко прозвучали в галерее. Видимо, за мной следили сначала в машине, а теперь, для пущей интимности, сопровождают пешком. Один шагает под аркадами метрах в десяти позади меня, и шаги его раздаются в полной дисгармонии с моими, что меня, естественно, раздражает. Хоть бы ритм сохранял. Другой тащится по обочине дороги, параллельно галерее, бесшумный и грозный.
Впрочем, насколько я сумел оценить их беглым взглядом, оба довольно устрашающего вида: рослые, широкоплечие – словом, кавалеры под стать дорогой Флоре. На какой-то миг меня обжигает коварная мысль, что, может быть, я обязан таким вниманием именно Флоре. Обидная мысль. Но, как говорит Виолета, стоит только вцепиться в какую-то мысль, и ты уже не в состоянии остановиться, в голову лезут страшные вещи…
Случайное совпадение? Подобный вопрос может прийти в голову только новичку. Нос у меня достаточно натренирован, чтобы учуять прилипалу не с десяти метров, а со значительно большего расстояния. Да и опыт подсказывает мне, что, кто бы их ни подослал, этих молодчиков, о встрече с Флорой надо забыть и как можно скорей ускользнуть в верхнюю часть города.
Как можно скорее – это значит воспользоваться лифтом. Конечно, при условии, если мне удастся вовремя юркнуть в кабину и захлопнуть дверь перед носом у этих молодчиков. Оставаться в лифте с такими спутниками не очень рекомендуется.
Продолжаю двигаться к месту встречи, хотя и без всякой мысли о встрече. Те, что позади, видимо, разгадали мое намерение, потому что жмут на всю железку и уже заметно сократили расстояние. Пора и мне отказаться от лицемерной походки праздного зеваки и жать на газ. Нечему удивляться, что в несколько мгновений наше движение становится похожим на состязание скороходов.
Теперь уже сомневаться не приходится: прилипалы не склонны ограничиться простой слежкой. Быстро взвешиваю обстановку. Первая кассета с негативами в тайнике «вольво». Вторая покоится в крохотной полости каблука одного из моих ботинок. Секрет не такой уж хитрый, но я относительно спокоен, по крайней мере до тех пор, пока ботинки у меня на ногах. Только вот в карманах множество хозяйственной утвари: фотокамера-зажигалка, подзорная труба, отмычка, ампула… Нет, для обыска я совсем не готов. Конечно, я мог бы миновать лифт и следовать дальше по набережной. Но она мне уже хорошо видна, эта набережная, довольно длинная и безлюдная, чтобы можно было на что-то уповать. Лифт все же предпочтительней, нужно только выиграть время.
И чтобы выиграть время, я вдруг пускаюсь бежать, отрешившись от неуместной стеснительности, и мчусь на всех парах к ожидающему меня лифту. Только эти двое тоже бегут, я уже вполне отчетливо слышу их топот, и нечему удивляться, что так ясно слышу, потому что они через считанные секунды поравняются со мной и прижмут меня с двух сторон – то ли я переоценил свои возможности, то ли недооценил их.
Я напрягаю последние силы, и мне удается достичь лифта с опережением в один метр с небольшим – в сущности, это мизерное опережение, потому что, когда я влетаю в металлический ящик допотопного подъемного устройства и пытаюсь у них перед носом захлопнуть дверь, я чувствую, что они изо всех сил тянут ее в обратную сторону – эти проклятые двери лифтов всегда открываются наружу, – и единственное, что мне приходит в голову, – это внезапно отпустить дверь, после чего, как я и ожидал, двое нахалов летят кувырком назад. Теперь бы мигом нажать на кнопку и скорее вверх, чтобы сказка имела счастливый конец, однако перед тем, как тронуться лифту, должна быть закрыта дверь, и, прежде чем я дотянулся до нее, прилипалы как по команде бросаются вперед, и вот они уже в лифте, рядом со мной.
Оба тяжело дышат, и у обоих тяжелый взгляд – сомнения быть не может, сейчас они рассчитаются со мной за мою проделку. Один из них – мне запомнился его шоколадный костюм в светлую полоску – грубым движением захлопывает дверь и дергает передвижную решетку, а другой нажимает на кнопку. Старая скрипучая машина медленно трогается, и, так как пословица гласит: «Добра ищи, а худо само придет», эти лихие удальцы подступают ко мне с двух сторон, чтобы доказать, что пословицы не лгут.
Стоящий справа замахивается кулачищем, явно желая размозжить мне голову, припечатав ее к стенке, но, на его беду, головы не оказывается на месте – в этот миг она врубается в живот стоящего слева, так что бедняга разбивает лишь собственный кулак. Мне тоже не очень-то везет, так как живот у этого типа тверд, как железобетонный бункер, правда, и голова у меня тоже не из папье-маше, словом, счет получился ничейный, вернее, мог бы быть ничейным, если бы мой хитрющий кулак не саданул его чуть пониже, а в какое именно место, я не стану говорить.
Рухнув на пол, противник корчится от боли, от адской боли, надо полагать, но моя собственная участь не слаще, потому что тот, другой, с разбитым кулаком, так сноровисто пинает меня в отместку под ребро, что я падаю, и на какое-то мгновение мной овладевает чувство, будто вдруг иссяк во вселенной кислород, только малый не желает останавливаться на достигнутом, он склоняется надо мной, чтобы одним ударом расквасить мне физиономию, однако допускает просчет: мне удается острым двузубцем – указательным и средним пальцем – пырнуть ему в глаза, и, чтобы сохранить зрение, он шарахается назад, я же, стараясь хоть как-то пособить ему, изо всех сил дергаю его за ногу, и молодчик падает, попутно проверяя затылком надежность противоположной стенки.
Не без труда я поднимаюсь на ноги – в скромной роли победителя. Однако иной раз победа способна вскружить нам голову: я совсем забыл того, которому нанес недозволенный, с судейской точки зрения, удар, и теперь он сам напоминает о себе неожиданным пинком сзади, и, в силу закона физики о движении тела, я стремительно перемещаюсь вперед, где меня ждет беспощадная твердость металлической стенки; тем временем другой удалец тоже успевает встать на ноги, в итоге я оказываюсь на исходной позиции, одинаково уязвимый с обоих флангов, и дальнейшее развитие событий не сулит мне ничего утешительного.
К счастью, даже самый тихоходный лифт в конце концов достигает места назначения, если только не застрянет где-нибудь между этажами, так что и старинная бернская черепаха вскарабкалась наконец на самый верх, и здесь, на небольшой площади перед кафедральным собором, нас ждут другие пассажиры – два господина и две женщины с детьми; один из моих спутников, вероятно ненавидящий толпу, протягивает руку к кнопке, чтобы обеспечить мне обратный рейс и все удовольствия беззаботного путешествия в ад. К счастью, дети – народ нетерпеливый, и кто-то из них поторопился открыть дверь, блокировав движение лифта, а я давай кричать сквозь решетку: «Бандиты, полиция!» – кричу раз, потом еще раз для пущей убедительности; и тут мои спутники, резким движением сдвинув решетку в сторону, бросаются наутек, подальше от возможных осложнений, однако, как они ни торопились ретироваться, тот, что в шоколадном костюме, ухитряется шарахнуть меня под глаз, чтобы напомнить давно забытый фильм «Как много звезд!»
Бернская публика, как видно, любит наблюдать всякие скандальные случаи, но только издалека, а тут опасность оказаться замешанными в какую-то уголовную историю в качестве свидетелей оказывается столь вероятной, что дожидавшиеся лифта мужчины мигом исчезают, а женщины в страхе пытаются оттащить детей в сторону, что толкает меня на мысль снова захлопнуть дверь и кратчайшим путем вернуться в нижний город, создав максимальную дистанцию между собой и этими типами.
– Господин Лоран? – спрашивает с усталым любопытством человек, с которым я сталкиваюсь при выходе.
– Господин Бруннер?
– Вы что, с боксерского матча возвращаетесь? – сочувственно произносит мужчина.
– Надеюсь, боксеров подослали не вы?
– Неужто у меня такой немощный вид, что без посредников мне не обойтись?
Вид у него, как уже отмечалось, далеко не немощный, однако тон его речи подсказывает мне, что мое предположение едва ли оправданно.
– Судя по вашему виду, вы по крайней мере сегодня вне игры? – замечает Бруннер.
– Почему? Мне бы вот только умыться где-нибудь.
– Тогда пойдемте. Тут недалеко стоит моя машина.
Его машина и в самом деле оказалась совсем близко, сразу за каким-то складом, и немец, аккуратный и предусмотрительный, достает из багажника небольшую аптечку и предлагает ее мне, чтобы я мог промыть спиртом ссадины на лице, а кровоточащую скулу заклеить пластырем бананового цвета, трогательно ассоциирующимся с дамским бельем.
– Для вас что предпочтительней, посидеть в машине или заглянуть в ресторан напротив и отведать свежей рыбы? – спрашивает Бруннер.
– Мне все равно.
– А вот мне, к примеру, далеко не все равно. Взять хотя бы форель в масле… Если вы безразличны к таким вещам, то это означает, что вам необходимо серьезно подумать о собственном здоровье.
Так что мы идем по импровизированному мостику на противоположный берег, к ресторану, напоминающему своим скромным видом горную хижину, но знаменитому на весь Берн рыбными блюдами. Красующиеся на полянке столики мы пренебрежительно оставляем позади и находим более укромное местечко внутри заведения, у окна, глядящего на противоположный берег, чтобы можно было все видеть, не мозоля глаза другим.
Делать заказ я предоставляю Бруннеру, который, похоже, у Флоры перенял непритязательные вкусы, если не привил ей свои. Салат, бутылка белого вина и по большой форели в масле – так обрисовывается наше угощение, никаких деликатесов, предваряющих пиршество и заключающих его. И лишь теперь, когда с едой покончено и нам подали кофе, немец благоволит заметить:
– Приятный городок. Спокойный, тихий, – говорит он с сытым добродушием, созерцая сине-зеленые воды Ааре.
– Как сказать, – отвечаю небрежным тоном. – В последнее время в этом спокойном городке некоторые люди лишились жизни.
– Что поделаешь: люди умирают всюду.
– Но не обязательно насильственной смертью.
– Верно. И все-таки умереть в Берне… Это и в самом деле не так плохо: умереть в Берне!
– Умирайте, если угодно. Я пока не спешу.
– Естественно, – кивает он. – Только не всегда это зависит от нас. Вы, к примеру, не подозреваете, что нанесенные вам побои следует рассматривать как прелюдию к чему-то более серьезному?
– Все может быть. Но стоит ли так злорадствовать?
Если я сыграю в ящик, то едва ли вам от этого будет какая-то выгода.
– О, разумеется: нельзя извлекать выгоду из всего, –
охотно соглашается Бруннер.
– Я бы даже сказал, вы окажетесь внакладе.
– В каком смысле?
– Потеряете вероятного союзника.
– Союзника по чему – по дележу выгод?
– Не по дележу, а по извлечению.
– Уважаемый господин, жизнь многому научила меня, и я знаю, что даже самый верный союзник стоит денег.
Точнее говоря, чем верней союзник, тем дороже он обходится. Если вы полагаете, что Флора для меня недорогое удовольствие, то вы жестоко ошибаетесь. Для вас, может быть, да, но для меня – нет.
– Должен вас заверить, я обратился к Флоре не ради удовольствия, а из совсем других побуждений. И эти побуждения, надеюсь, вам хорошо известны, так же как мое вполне конкретное предложение.
– В самых общих чертах, мой дорогой: предлагаю одни сведения в обмен на другие… Ничего конкретного.
– Не стану же я уточнять детали в разговоре с этой женщиной. Я имел в виду, что мы с вами поговорим по-мужски.
Эти мои слова приятно ласкают слух Бруннера, поскольку он, как и всякий мужчина, находящийся под каблуком у жены, весьма чувствителен к вопросу о мужском достоинстве. С царственным жестом он проводит рукой по своему бритому темени, внимательно ощупывает полные щеки, трогает перстами кончик широкого носа и, убедившись таким образом, что все, слава богу, на месте, откидывается на спинку кресла и великодушно роняет:
– Что ж, я вас слушаю.
– Мне нужны сведения о ваших связях с Горанофом, начиная со старых времен и кончая самым последним.
– Зачем они вам?
– Я же не спрашиваю, зачем вам брильянты.
– Брильянты – дело другое. А сведения о Горанофе могут быть использованы против меня самого.
– Меня интересует только Гораноф, не вы.
– Но вам придется каким-то образом убедить меня, что это так.
– Впрочем, большая часть этих сведений уже в моих руках, и теперь мне ясно: Гораноф – это, в сущности, Ганеф, так что практически мне надо прояснить лишь некоторые подробности, которые известны лишь вам.
– Некоторые подробности… – насмешливо рычит
Бруннер. – Ничего себе подробности!.
– Ну ладно, пусть не подробности, будем их называть жизненно важными сведениями, – киваю, убедившись, что я на верном пути. – Но жизненно важные для кого? Для нас с вами? Отнюдь! Человека, для которого эти сведения имели жизненно важное значение, нет в живых. Потому и сами сведения утратили всякую ценность. Вдумайтесь хорошенько: товар, ради которого я к вам пришел, уже утратил всякую ценность.
– Раз он никакой ценности не представляет, к чему он вам? – снова рычит Бруннер.
– Чтобы полностью восстановить досье на этого человека. Назовите это педантизмом, чем угодно, но мне нужно иметь полное досье. И пока оно неполно, у меня нет уверенности, что вопрос до конца изучен. Иной раз мельчайшая деталь…
– Какой тут педантизм, это шпионаж, – замечает немец. – Я всегда сторонился таких дел. С меня хватит пяти лет войны…
– Уверяю вас, вы ничем не рискуете. Я не собираюсь втравливать вас во что-нибудь такое, и пусть этот разговор останется между нами – это будет на пользу нам обоим.
Бруннер задумчиво подносит руку к носу – он, видимо, из тех людей, которые, напряженно думая, так же напряженно ковыряют в носу. Однако, сообразив, что находится на людях, ограничивается тем, что рассеянно массирует его.
– Хорошо, подумаем. А теперь поговорим о другом: что вы предлагаете взамен?
– Сведения об одном тайнике. И о прочих вещах такого рода, о которых я мог бы узнать, пока суд да дело. Вам, должно быть, понятно, что я не сижу здесь сложа руки.
– Конечно. Иначе никто бы на вас не покушался, –
признает Бруннер и, поглядев на меня прищуренными глазами, спрашивает: – А откуда вам знать, что камни в тайнике?
– Я этого не говорил. Но я это допускаю, имея в виду некоторые приметы.
– Какие именно?
– Всех тут привлекает одно и то же место.
– И где же он, по-вашему, этот тайник?
– Спокойно, – говорю я. – Если после сегодняшних побоев я еще и поскользнусь, этого будет слишком много для одного дня.
– А вы действительно уверены в существовании тайника?
– Абсолютно. Я его видел собственными глазами.
– И не заглянули туда? Кому вы рассказываете?
– Бывают места, куда заглянуть не так просто, если не располагаешь соответствующими приспособлениями. Я
оставляю в стороне то, в чем уже столько времени пытаюсь вас убедить: мне абсолютно ни к чему ваши брильянты.
Поймите, Бруннер: абсолютно ни к чему!
– Может оказаться, что ваш тайник пуст, как воскресный день, – замечает упрямый собеседник.
– Не знаю, не проверял. Только будь он пуст, Пенеф был бы еще жив. Он стал жертвой любопытства, которое и вам не дает покоя: что там, внутри?
Заинтригованный моими словами и окончательно убедившись, что его собственный товар не стоит и ломаного гроша, немец уступает.
– Хорошо, Лоран. Откроюсь вам. Но предупреждаю: любая неустойка с вашей стороны будет наказана так сурово, что недавние побои покажутся вам кроткой материнской лаской. И запомните, если я не пускаю в ход кулаки, то лишь потому, что удары их смертельны!
Для пущей наглядности Бруннер кладет свои безотказные орудия на стол – ничего не скажешь, кулаки что надо, такие же массивные и тяжелые, как и вся его фигура.
Потом тихо басит без всякой связи:
– Впрочем, я бы выпил кружку пива…
После кофе пиво – подобная идея может прийти в голову только человеку вроде Бруннера, но я подзываю кельнера и заказываю требуемый напиток. Может, я забыл отметить, что в этот будничный день да еще в предвечернюю пору в заведении ни души, потому что народ валит сюда главным образом во время обеда, особенно в праздники. Если кто и пришел, то предпочитает сидеть снаружи, на свежем воздухе. Словом, обстановка достаточно спокойная, да и пиво, надеюсь, будет способствовать тому, чтобы этот подозрительный человек заговорил наконец.
Орошенный изрядным количеством кружек живительной влаги, рассказ получился на редкость обстоятельным, он изобилует множеством подробностей или отступлений, большую часть которых я для краткости опускаю. «Вам известно, что я служил в Болгарии, не знаю, как вам удалось это установить, но факт есть факт. Говоря между нами, Лоран, вы имеете обыкновение всюду совать свой нос, именно это дало вам возможность добраться до меня, потому что Флора ничего такого не могла выболтать.
Она у меня сообразительная и скорее пустит вас к себе в постель, чем к секретным вещам. Верно, верно, вы всюду суете свой нос, и у меня такое предчувствие, что рано или поздно вы заплатите за свое любопытство – не хочу сказать, что обязательно мне, но найдется человек, который определенным образом поздравит вас с успехом.
С Горанофом я познакомился в Софии. В сделках этот господин оказался достаточно твердым, но при необходимости умел и платить. Впрочем, лично я с ним сделок не заключал, мне было далеко до его калибра, и вместо того, чтоб обмениваться чеками, мы обменивались услугами.
Быть может, вы уже слышали, что я служил в интендантстве, а на интендантских складах со временем накапливается большое количество лежалого товара – или, может быть, не совсем лежалого, но такого, без которого рейх не проиграл бы войну. Гораноф вовсе не был мелкой сошкой, чтоб торговать подобным товаром, он просто присылал ко мне своих знакомых, промышлявших на черном рынке, и делал это очень аккуратно, а главное, не настаивал на какой-либо компенсации, но вы же понимаете, что в торговле, как и в любом другом деле, без компенсации не обойтись, и моя компенсация сводилась к тому, что и я со своей стороны посылал к Горанофу клиентов.
Вы еще молоды, во всяком случае значительно моложе меня, и могли не слышать, что в те годы находились люди, даже среди военных, которые прибирали к рукам все, что имело хоть какую-то стоимость, особенно на оккупированных территориях, где неприкосновенность личного имущества была под большим сомнением. Конечно, с формальной, юридической точки зрения это были краденые вещи, а иногда – такое тоже бывало – на них были следы крови. Но вы же знаете, такие вещи что вода в этой реке – грязная-прегрязная, но стоит ей пройти сквозь песок и камни, как она становится чистой. Вот так и с крадеными вещами: чем больше рук они проходят, тем скорее возвращают себе репутацию обычного товара.
Очень скоро я прослыл человеком безупречно порядочным в сделках, и, должен отметить, эта слава сохранилась за мной по сегодняшний день. Если вы позволите себе намекнуть, что мои сделки той поры с формальной, юридической точки зрения были не совсем нормальными, то придется возразить вам, что я никогда не стыдился этого –
напротив, испытывал чувство гордости, поскольку с полным правом могу считать эту деятельность моим личным вкладом в поражение нацизма.
Я солдат, дорогой господин, но только не нацист, и я никогда особенно не верил ни бесноватому, ни его генералам, и, если хотите знать мое искреннее мнение на этот счет, я вам скажу, что страной должны управлять не политики и генералы, а деловые люди, те, в чьих руках богатство страны, а раз у них богатство, то они не станут им рисковать. Все остальные либо авантюристы, либо паразиты презренные. Нацисты с генеральным штабом и фюрером во главе тоже обычные авантюристы, они виновники катастроф, так что я не испытываю никаких угрызений, напротив, горжусь, что даже в те годы массовой истерии я не потерял голову, не стал плясать под дудку нацистов, а занимался своим делом.
Если все мы будем заниматься своим делом, в мире, поверите мне, наступит успокоение, но на это, к сожалению, рассчитывать не приходится, раз каждый сует нос куда не следует, как, впрочем, и вы сами.
Итак, ко мне отовсюду ехали разные люди – у одних меньше звезд на погонах, у других больше, – и везли всевозможные похищенные вещи, рассчитывая на мою помощь, поскольку у меня были широкие связи и я слыл человеком вполне порядочным. Иногда среди привозимого попадались и уникальные изделия, стоившие баснословных денег. Не имея возможности покупать эти вещи, я направлял их к Горанофу, что и было компенсацией за оказываемые мне услуги. Не стану утверждать, что я знал решительно все о его покупках, скорее наоборот, мне было известно об этом совсем немного, потому что Гораноф очень быстро налаживал прямые связи с теми – ну, назовем их поставщиками. Но даже немногое, что я знал, достаточно убеждало меня в том, что его привлекает лишь самое дорогое и не занимающее много места, поскольку он, так же как я и другие разумные люди, уже предугадывал, чем закончится весь этот буйный триумф рейха.
И вот в первые дни сентября сорок четвертого года, числа второго или третьего, точно не помню, заявляется ко мне сам Гораноф и доверительно сообщает, что дела, по крайней мере, на Балканах, идут к своему завершению, и каждому, у кого есть голова на плечах, пора собирать шмотки и бежать на Запад, как можно дальше, и, если я способен подыскать для этого надежную военную машину, он со своей стороны берется раз добыть у одного из моих начальников документы, необходимые для свободного передвижения, но, поскольку ему самому для такого случая необходим служебный паспорт, а заполучить его не так-то просто, придется в качестве компенсации за услугу (говорил же я вам, что без компенсации ни на шаг!) взять с собой в машину третьего пассажира – одного типа из министерства внутренних дел, который и в военном министерстве чувствует себя как рыба в воде, словом, человек надежный во всех отношениях, от него в любом случае будет польза.
Я был не настолько глуп, чтобы отказаться от такого предложения, тем более что угроза катастрофы была предельно очевидна, а свободное передвижение обеспечивалось официальными документами, к тому же Гораноф пообещал вознаградить меня за мою услугу, а он, как вам известно, слов на ветер не бросал. Мы выбрали маршрут
Вена – Инсбрук – Брегенц и уже на месте, на берегу озера, должны были решить, отправимся ли мы в старую Германию или поищем способ проникнуть в Швейцарию. Я велел снарядить вполне исправный «опель», снабдил багажник всем необходимым, и, заручившись документами, уже шестого сентября, ранним утром, мы на всех парах двинулись в путь – я, Гораноф и Ганеф.
Мне пришлось категорически предупредить своих спутников, чтобы они не брали с собой ничего, кроме ручного багажа, поскольку провиант и горючее заняли очень много места, и Ганеф действительно захватил лишь маленький чемоданчик с бельем и тоненький портфель. У
Горанофа же оказалось два чемоданчика, и один из них был настолько тяжел, что не открывая можно было догадаться, чем он наполнен. Конечно, Горанофа можно было понять: уезжая в неизвестность, может быть, навсегда, человек берет с собой самое ценное. Но во время долгой езды и в бесконечных разговорах от скуки и мелких неудобств Ганеф постоянно шутил по поводу чемоданчика Горанофа, предлагал выбросить его по дороге, чтобы облегчить машину, а Гораноф, естественно, отвечал, что разумный человек не станет отправляться в путь без движимого имущества, но на это следовало возражение Ганефа, что вовсе не обязательно, чтоб движимое имущество состояло из слитков золота, и что по-настоящему разумный человек предпочитает обеспечить себя такими вещами, стоимость которых не прямо пропорциональна их весу, – к примеру, вот в этом тоненьком портфелишке лежат бумаги дороже любого золота.
Наша первейшая и самая трудная задача состояла в том, чтобы благополучно пересечь неспокойные области Югославии, где полными хозяевами были партизаны, и если нам в конце концов это удалось, то вовсе не потому, что мы такие стратеги: нам просто повезло. В долгой дороге люди лучше узнают друг друга, чем в долгой попойке, и я должен признать, что Ганеф оказался куда симпатичнее Горанофа, который никак не мог расстаться со своими барскими привычками, и, если требовалось подыскать подходящее место для ночлега или раздобыть зелени, этим должны были заниматься мы с Ганефым, а он, важная персона, отсиживался в это время в «опеле», боясь растрясти свое брюшко, – словом, мы были для него чем-то вроде денщиков, и только в силу того, что Ганефу по его милости было предоставлено место в машине, а мне он сулил какое-то там вознаграждение.
Вероятно, поэтому между мною и Ганефом установилось нечто вроде дружбы, особенно когда мы въехали в
Австрию, где Гораноф окончательно пришел в себя и до такой степени обнаглел, что стал обращаться с нами как со своими слугами: ведь пачки немецких денег находились у него, а не у нас.
Именно тогда возникла идея выпотрошить эту жирную рыбу в удобный момент, выпотрошить, разумеется, не в буквальном, а в переносном смысле слова, и вообще не истолковывайте мои слова неверно и учтите: я доверяю вам эти сведения вовсе не потому, что питаю к вам какое-то особое доверие, а просто из соображения, что мы сейчас –
один на один и мои слова вы при всем желании не сможете использовать против меня.
Для обоих болгар война уже закончилась, и они это знали, так как еще в Вене нам стало известно о вступлении русских в Болгарию. Оба они помышляли перебраться в
Швейцарию, а я решил не увлекаться эмигрантским авантюризмом и уже в Брегенце явиться в комендатуру; впрочем, авантюризм мне всегда был чужд. Дороги наши должны были разойтись, но перед тем, как им разойтись, нам, порядочным торговцам, приличествовало все-таки свести счеты.
Однажды, когда мы в полуденную пору ехали по довольно пустынной горной дороге, где-то между Блуденцем и Фельдкирхеном, если вам знакомы те места, я свернул с проезжей части в какой-то лесок.
– В чем дело? Почему мы останавливаемся? – вздрогнул Гораноф, очнувшись от дремоты.
– Кончился бензин, – ответил я, и это была правда, хотя мои спутники об этом не подозревали.
– Почему же вы раньше не сказали? – рассердился Гораноф. – К вечеру мы должны быть в Брегенце…
– Попробуем остановить какой-нибудь военный грузовик, – успокаиваю я его. – Деньги у нас есть. И раз уж речь зашла о деньгах, не пришло ли время свести счеты, пользуясь остановкой?
– В Брегенце, – ответил Гораноф. – На последней остановке.
– Нет, здесь! – подал голос Ганеф.
– А вы помалкивайте. Вам я ничем не обязан, – осадил его Гораноф.
– Вы мне обязаны своей жизнью. И сейчас самое время покончить с долгами. Потому что для вас последняя остановка здесь! – отрубил жандарм. – Ну-ка, вылезай!
– Опомнитесь! Что вы замышляете? – воскликнул Гораноф.
– Ничего особенного. Просто сейчас мы будем делиться, – заявил Ганеф, пистолетом помогая Горанофу вылезти из машины. – Я, как вы знаете, не любитель связывать руки громоздким багажом. Тяжелым тоже. И готов довольствоваться брильянтами. Поживей!
Они стояли друг против друга посреди поляны, рядом с машиной, и Гораноф уже был в паническом состоянии, но, несмотря на это, не обнаруживал склонности расстаться со своим сокровищем, а брильянты, о которых я тогда услышал впервые, были настоящим сокровищем – не случайно
Ганеф решил довольствоваться только им; Гораноф начал скулить и, окончательно одурев от страха, пригрозил, что закричит, а тот ему в ответ: «Кричи на здоровье, здесь прекрасное эхо»; в конце концов, когда жандарм направил пистолет ему в живот, Гораноф сунул руку во внутренний карман и вынул плоскую черную коробочку, чтобы откупиться, только откупиться ему не удалось, потому что, взяв коробочку, Ганеф тут же всадил ему в грудь две пули, а тот все продолжать стоять с разинутым ртом, потом вдруг упал.
– Зачем вы его убили? – возмутился я не на шутку – Мы так не договаривались.
– Я был готов убить его сразу, – ответил Ганеф. –
Только боялся повредить брильянты. Откуда я мог знать, где они у него хранятся?
– Вы все испортили. В моей стране еще существуют законы.
– Ваша страна так же обанкротилась, как и моя, поэтому зря вы печетесь о соблюдении законов, – заявил
Ганеф. – Я всю свою жизнь охранял законы и вот до чего докатился. Давайте лучше покончим с остальным и поедем дальше.
– То есть как с остальным? – возразил я, заняв позицию позади машины. – Вы взяли свою часть?
– Верно, взял, – ответил Ганеф. – И у меня нет желания таскаться с тяжестями, даже если это золото. Но согласитесь, не могу же я расходовать брильянты. Мы должны хотя бы доллары поделить между собой.
Тут он попробовал сунуться в кузов, но я его одернул, держа в руке «вальтер»:
– Марш отсюда, пока не поздно!
Но тут этот подонок выстрелил сквозь стекло машины и попал мне прямо в руку, в которой был пистолет. Пистолет я, конечно, выронил, и хорошо, что выронил, потому что, как раз когда я нагнулся его поднять, Ганеф выпустил в мою сторону весь магазин.
Я лежал затаившись возле машины, держа оружие в левой руке – не знаю, как вы владеете левой, а я даже в носу не способен ею поковырять, не то что попасть во что-нибудь с расстояния, – и только я собрался было выглянуть из-под «опеля», чтобы установить, где Ганеф, как над мотором заполыхало пламя. Этот негодяй решил сжечь машину, а заодно и меня и, прежде чем исчезнуть, что-то сыпанул в нее, так что мне пришлось отползти в ближайший кустарник и затаиться в укрытии.
«Опель», не успев разгореться, тут же погас: бензина в нем не было, – так что я в конце концов вылез из своего убежища и возвратился к месту происшествия, чтобы убедиться, что этот подлец исчез бесследно вместе с чемоданчиком, хотя до этого с таким презрением относился к тяжелому багажу. Наспех перевязав руку, я в последний раз осмотрел все, что было в машине, взял на память две-три безделушки и пошел к шоссе, надеясь, что появится военный грузовик.
Грузовик действительно появился, но только под вечер
– в те времена в горной местности движение на дорогах было не столь оживленным.
Меня доставили в Фельдкирх, но что пользы? Я потерял слишком много времени, и Ганефа наверняка уже и след простыл. И потом, что я мог сделать, когда у меня была ранена рука? Вы скажете, мне ничего не мешало выдать его властям. Совершенно верно, и власти вполне могли застукать его где-нибудь, прежде чем он успел перейти границу.
Все бы вытрясли из него: и золото, и брильянты, – а под конец и пулю, наверно, всадили бы ему. Но что я выиграл бы от всего этого?
Я человек не мстительный, поверьте, Лоран. Справедлив – да, справедлив, это безусловно. Но только не мстительный. Так что я решил приберечь это дело в своем личном архиве, чтобы при благоприятных условиях предъявить иск. Ясно, не правда ли?»
Бруннер проводит рукой по бритому темени, как бы проверяя, не слишком ли разгорячилась его голова от прилива воспоминаний. Потом рука опускается и исчезает во внутреннем кармане пиджака. Бруннер вынимает бумажник и роется в нем, затем кладет передо мной на стол три крохотных снимка. Это контактные копии малоформатных кадров, но, несмотря на миниатюрность фотографии, я отчетливо различаю изображения: одна и та же сцена, снятая с различных позиций, – распростершийся на земле Горанов.
– Это лишь отдельные образцы большой серии снимков, – не без гордости поясняет Бруннер. – Я сделал их своей камерой, прежде чем покинуть то место. У меня сохранились еще кое-какие вещи, взятые на память, – вещественные доказательства, как сказал бы законник. Но из всей коллекции важнее всего паспорт.
– Какой паспорт?
– Паспорт Горанофа. Или, если угодно, паспорт Ганефа, украшенный фотографией Горанофа.
– Наверно, довольно грубая подделка, раз это сработано там, на месте.
– Вовсе не такая грубая, – качает головой немец. – Ведь документы были заготовлены еще в полиции руками самого Ганефа, снимки он тоже сумел точно подогнать, и сухую печать поставил в одном и том же месте, так что простой заменой фотографии одна личность подменилась другой. Надо полагать, его собственное удостоверение причиняло ему до этого немало неудобств.
– Очевидно.
– Итак, Ганеф мертв для человечества, а истинный Ганеф, хорошо экипированный движимым имуществом убитого, начинает новую жизнь под чужой личиной.
– Именно так и происходит.
– Да. И довольно долго: целых три десятилетия. В
сущности, Лоран, он прожил свою жизнь и ничего не потерял. Убийца скостил ему лишь последние годы, которые тот наверняка коротал бы в болезнях и старческой немощи.
Один я остался внакладе. Как я ни разыскивал этого негодяя все тридцать лет, но напасть на его след не сумел. И
если его все же удалось обнаружить, то чисто случайно.
Судьбе было угодно, чтобы мы свиделись в Мюнхене по прошествии тридцати лет. Сбылась моя надежда, настало время предъявить ему иск.
Настало время и для очередной кружки пива – Бруннер то и дело посматривает в сторону бара, уже освещенного лампами холодного дневного света, и тихо бормочет:
– Пожалуй, я бы выпил еще кружечку…
Подав знак кельнеру, я гляжу в окно. На улице совсем стемнело, и, сидя у самого окна, мы можем привлечь внимание какого-нибудь любопытного прохожего. Поняв мой взгляд, немец машинально дергает занавеску.
– А что вы нам предложите на ужин, дорогой? – спрашивает он у гарсона, когда тот приносит пиво.
Оказывается, к ужину здесь могут предложить прорву блюд. Меня уже начинает мутить от этих стареющих людей, для которых вкусная еда становится главным, если не единственным земным наслаждением. Но дело требует жертв.
– Так вот, ходил я за ним по пятам, – продолжает немец свой рассказ, когда кельнер удаляется. – И однажды вечером застукал его здесь. Другой, может, не стал бы так делать, но я сделал. Позвонил, а когда он открыл, я сказал ему самым естественным тоном. «Здорово, Ганеф. Я – Бруннер.
Не знаю, помните ли вы меня…» Оказалось, помнит, потому что попытался хлопнуть дверью у меня перед носом, но я поставил на порог ботинок и поспешил предупредить его: «Без глупостей, Ганеф. От объяснения вам в любом случае не уйти. Так что пользуйтесь возможностью объясниться один на один, чтоб не пришлось этим заниматься в полиции». Объяснение состоялось в тот же вечер. И копии документов, которые я принес с собой, пригодились.
– Для вас эта встреча могла закончиться скверно, – говорю я. – Ганеф наверняка был не один.
– Знаю. Не учите меня. И не воображайте, что я сунулся бы туда без всяких предохранительных мер. Оригиналы оставались в надежных руках, и Ганеф не дурак, он отлично понимал: стоит ему крикнуть «помогите!» – и все тут же обрушится на его голову. Так что ему оставалось одно –
принять мои условия.
– А именно?
– О, это уже дела сугубо личного характера, Лоран. И
должен еще раз вам заметить, ваше любопытство не знает границ. Вам стоит подумать о личной безопасности.
Впрочем, нетрудно догадаться, что имеется в виду частичное возмещение ущерба наличными. И чтобы не быть несправедливым к покойнику, я должен признать: выплата была произведена точно в назначенный час. Сумма довольно внушительная, но возмещение есть возмещение. И
хотя это не было оговорено заранее, я рассматривал эту сумму всего лишь как первый взнос. Взнос, который должен был пойти на оплату виллы и на покрытие долгов. А
обеспечение старости? А содержание машины? А содержание Флоры? Субъекты вроде вас не прочь при случае и раздеть ее, а вот одевать приходится старому болвану
Максу Бруннеру…
Эту тираду, исполненную легкой горечи, прерывает появление на столе рыбы. И очень вовремя – чтобы несколько рассеять меланхолию немца и напомнить ему, что в этом грешном мире все еще существуют маленькие радости даже для стареющих мужчин. Подавив свою горечь несколькими солидными кусками белого, еще дымящегося мяса, он охлаждает их бокалом рейнского вина, затем продолжает в той же последовательности набивать свою утробу и наливаться живительной влагой и лишь после того, как с некоторым удивлением обнаруживает, что тарелка перед ним уже пуста, откидывается могучими плечами на спинку кресла и возвращается к прерванному разговору:
– Так что имелся в виду только первый взнос, Лоран. Но такая досада: он оказался и последним. Я бы простил этому типу ликвидацию Горанофа, это их дело. Я даже простил бы ему то, что он прострелил мне руку. Но улизнуть у меня из-под носа и переселиться на тот свет, когда я едва-едва приноровился доить его, – нет, дорогой, такого я ему никогда не прощу!
– Тут виноват не только он, – пробую я оправдать покойника.
– Естественно. Но дело не меняется. Все было продумано до последней детали, в том числе и наблюдение, осуществлявшееся Флорой, чтобы этот ловкач не выкинул какой-нибудь номер или не исчез в неизвестном направлении. А он все-таки исчез. Нет, этого я никогда не прощу ему!
Бруннер поднимает фужер и, словно для успокоения, делает длинный глоток. Потом вытирает салфеткой свою огромную хищную пасть и изрекает:
– Однако брильянты все еще здесь. Но где именно? И
ответа на этот вопрос я жду от вас, Лоран. И хотя я не люблю повторяться, я все же хочу еще раз вас предупредить: если вам вздумается повернуть дело так, чтобы я остался в дураках, вы неизбежно натолкнетесь на один из этих смертоносных кулаков.
– А брильянты я вам не обещал, – пробую я внести ясность в наши отношения.
– Я и не говорил, что жду брильянты именно от вас.
Мне нужны сведения. Те, какими вы располагаете в данный момент. И те, до которых доберетесь потом, – теперь я не сомневаюсь, ваш хитрый нос неизбежно все вынюхает.
Главное – не забывайте, что вы заключили соглашение и что Бруннер в вопросах соглашений беспощадно строг.
– Не беспокойтесь: я вам уже сказал, мне ваши камни ни к чему.
– А теперь о тайнике, – говорит Бруннер.
– Это сейф в холле Горанофа. И находится он в стене над комодом, за большой картиной.
– Помилуйте, ну какой же это тайник, раз каждый дурак без труда может его нащупать!
– Мало нащупать, надо еще и отпереть.
– Очевидно, кто-нибудь и с этим уже справился.
– Не допускаю. Замок у сейфа очень солидный и чертовски сложный. И заметьте, Бруннер: люди, которые могли бы иметь доступ к тайнику – Пенеф и Виолета, – не располагали ключом и не рискнули обратиться к какому-либо технику, да и времени у них для этого не было. А
человек, владеющий ключом, пока еще не добрался до тайника.
– Кто он, этот человек?
– Зовут его Кениг. Он объявился на торгах и предложил за виллу фантастическую сумму. Вам это что-нибудь говорит?
– Об этом я слышал, – кивает Бруннер. – А каким образом ключ оказался у Кенига?
– Тем же, каким мог оказаться и у вас, если бы вы самолично убили Горанофа, а затем обшарили его карманы.
– Вы хотите сказать, что Ганефа убрал Кениг?
– На ваше счастье, не лично он, а его люди. Мне кажется, если бы он сам совершил убийство, у него хватило бы ума отыскать замок к найденному ключу. А у тех болванов не хватило сообразительности для столь простого дела, да и указаний таких не было. Они исполнили, что им было велено, и смылись.
– А убийство Пенефа?
– Все то же задание: только убрать. И если, кроме всего прочего, предполагалось сделать обыск – на сей раз не хватило времени: по данным полиции, Пенеф был ликвидирован всего за несколько минут до возвращения Виолеты. Не исключено даже, что, едва всадив нож в спину, убийца уже слышал у входа голоса Виолеты и вашей
Флоры. И поспешил ретироваться через заднюю дверь.
– И вы допускаете, что, пока мы тут разглагольствуем, брильянты лежат себе в тайнике, на вилле Горанофа? –
восклицает заметно возбужденный Бруннер.
– Ничего я не допускаю. Я просто говорю то, что мне известно и о чем можно догадываться. – И чтобы он раньше времени не вешал нос, я добавляю: – Там они или где-то в другом месте, но брильянты еще не найдены. Иначе все вокруг сразу бы успокоилось.
– И вашей Розмари, наверно, давно бы след простыл, –
добавляет немец, глядя на меня прищуренными глазами. –
Она ведь тоже не ради чистого воздуха поселилась в таком месте, правда же?
– Очевидно… – отвечаю я небрежно.
– Послушайте, Лоран! – говорит Бруннер, оскаливаясь. – Помните о нашем соглашении: ничего, кроме сведений, мне от вас не нужно? Как видите, я достаточно скромен. Однако это не означает, что вам позволено замалчивать те или иные вещи по своему усмотрению…
– Оставьте ее в покое, – бросаю я все так же небрежно. – Розмари – пешка, не представляющая никакой опасности. Секретарша Тео Грабера, ювелира, которому Гораноф продал один-единственный брильянт – вероятно, чтобы выплатить вам скромное возмещение. Грабер подослал ее сюда, чтоб она следила за тем, как обстоит дело с брильянтами, которые он, очевидно, горит желанием приобрести как можно дешевле.
– Вот это уже более конкретный разговор, – бормочет
Бруннер. – Впрочем, все эти подробности для меня не новость. Я спросил только для того, чтобы вас проверить.
Я смотрю на него с укором. Потом меня вдруг осеняет:
– А вам не приходила в голову мысль, что камень, проданный Граберу, был не первый, а последний из той коллекции? И что на протяжении тридцати лет у него были все возможности распродать их по одному?
Бруннер смотрит на меня настороженно. Потом вдруг начинает хохотать хриплым смехом.
– Какой вздор, Лоран! Вы, я вижу, понятия не имеете о стоимости этих брильянтов. Трезвенник Ганеф и за сто лет не смог бы растранжирить такое богатство. Вздор!
– Я бы охотно подвез вас до центра, – тихо говорит
Бруннер, когда мы возвращаемся с другого берега. – Но
Берн – город маленький, и лучше нам не появляться вместе на виду у всех.
– Совершенно верно, – киваю я. – Мне лучше подняться на лифте.
– На лифте? Так ведь он еще полон неприятных воспоминаний.
– Если только воспоминаний, бояться нечего, – отвечаю.
Мы расстаемся.
Итак, ядрышко уже извлечено, хотя извлекать пришлось постепенно, крошку за крошкой, размышляю я, пока допотопное подъемное сооружение возносит меня в верхний город. История кое-как сложилась, хотя сборку ее приходилось производить то с начала, то с хвоста, словом, несколько не в том порядке, как дети выкладывают кубики, пока в итоге не получается подобие петуха или собаки.
Образ собаки у меня уже вполне сложился, весь целиком, хотя собаку тем временем постигла собачья смерть.
Однако это всего лишь история. История, проливающая свет на некоторые особенности нынешней обстановки, но все же история. Гибель Ганева ставит точку на его собственных заботах, но не на моих. Потому что если историю кое-как удалось сколотить, то досье все еще разорвано на части. И только одна часть находится в моих руках, точнее, у меня под пяткой.
Выхожу из лифта. На Соборной площади пусто. Ближайшим переулком иду на главную улицу, и десять минут спустя я уже у своей машины, на Беренплац. Лишь теперь, когда трубный голос немца больше не звучит у меня в ушах и мысли мои поулеглись, я чувствую, что башка моя препротивно ноет и уже основательно побаливает. Пора наконец возвращаться в свой тихий дом, стоящий в тихом уголке, и забыться в тихом благостном сне.
Проезжаю мимо парламента в сторону моста. Светящийся циферблат «вольво» информирует меня, что сейчас только половина одиннадцатого, а улицы давно опустели, словно уже глубокая ночь. Выезжаю на Кирхенфельдбрюке, и взгляд мой улавливает позади какой-то мигающий свет – должно быть, это светит фара мотоцикла, свернувшего на мост, потому что машины сзади я не вижу. И
только посередине этого длинного моста я соображаю, что к чему. Мне преграждают путь две бетонные красно-белые пирамиды, какие обычно расставляют на дороге, когда ремонтируют проезжую часть. Но никакого ремонта нет, а пирамиды, вероятно, только что поставлены: мигающий свет фары послужил сигналом к тому, чтобы эти тумбы выкатили на полотно дороги. Словом, я угодил в тщательно устроенную ловушку. Ничего не скажешь, все получилось именно так, как предвидел противник.
Однако, чтобы это предвидеть, не требуется бог знает какой проницательности. Кирхенфельдбрюке – единственный мост, по которому можно попасть на Тунштрассе, если не ехать кружным путем, и я, как все прочие жители
Остринга, неизменно возвращаюсь по этому мосту, так что было вполне логично, затаившись, просто ждать меня здесь, вместо того чтобы гоняться за мною по городу и караулить повсюду. Важно другое – зачем я им понадобился. Только сейчас не время для раздумий.
Сделав вынужденную остановку, я собираюсь рвануть задним ходом в обратном направлении, но тут двое каких-то субъектов выкатывают позади машины еще две пирамиды. Ни с места. К тому же эти двое держат наготове пистолеты. И мост достаточно хорошо освещен, чтобы видеть глушители на стволах. Раз уж пистолет снабжен глушителем, вероятность его применения намного возрастает. Движение по мосту в двух направлениях разделяет высокий стальной барьер – всякая возможность маневрировать исключена. Ни с места. Тем более что из-за барьера выскакивают еще двое и замирают перед машиной. И эти с пистолетами, стволы которых подозрительно удлинены.
Должен признать, они выбрали самое подходящее место, чтобы всадить в меня пулю. А я помог им тем, что заявился в самый удобный час. Мост отчаянно пуст. Несколько приглушенных выстрелов – и Пьер Лоран готов.
Но это еще полбеды. Скверно то, что вместе с Лораном уйдет в небытие и Боев. И сбросят меня в пропасть с шестидесятиметровой высоты моста мертвым или все еще живым – это деталь, которая даже следственную полицию едва ли заинтересует.
Двое, стоящие перед фарами машины, мне хорошо знакомы по недавней встрече в лифте. И этот, справа, в шоколадном костюме, уже успевший очиститься от пыли, небрежно делает мне знак пистолетом: «Вылезай!»
Покорно открыв дверцу, я делаю вид, что собираюсь вылезать из машины, но вместо этого быстрым движением бросаю одну из голубеньких капсулок, которые я на всякий случай таскаю с собой. И без промедления бросаю вторую, но уже в обратном направлении, за багажник машины. Не ждите взрывов и грохота. Лишь два ослепительных шара возникают, как огненный вихрь, и тут же гаснут. Однако вместе с ними угасают и незнакомые типы.
Медлить нельзя. Световые вспышки такой адской силы на середине главного моста не могут остаться незамеченными даже в спящем городе, даже если этот город – Берн, а дело происходит глубокой ночью, то есть в десять тридцать вечера. Выйдя из машины, мигом сдвигаю в сторонку одну пирамиду, затем другую, тело одного, затем другого, снова сажусь за руль и даю полный газ. Едва я успеваю съехать на
Тунштрассе, как позади раздается вой полицейской сирены. Не удивлюсь, если такой же вой появится и впереди.
Поэтому я сворачиваю в первый попавшийся глухой переулок и, прибегая к досадным, но необходимым обходным маневрам, еду к своему спокойному дому.
Дом и в самом деле спокойный. И на редкость спокойный город. Однако спокойствие его уже становится зловещим.
8
– О, ваше объяснение с Флорой было довольно пылким, – как бы невзначай роняет Розмари, внимательно посмотрев на мое лицо.
– Ошибаетесь, – отвечаю ей. – Это не любовные контузии. – Опустившись в любимое кресло, я мечтательно вздыхаю. – Как бы мне хотелось, дорогая моя, по-настоящему рассчитывать на вас.
– Я полагаю, вы вполне можете на меня рассчитывать.
– Даже могу надеяться на чашку кофе?
– Мошенник, – бормочет Розмари, но все же неохотно встает. – Раз вам так хочется провести бессонную ночь…
Но отослать ее на кухню – всего лишь кратковременная отсрочка. Чуть позже Розмари вместе с кофе предлагает мне очередной вопрос:
– Теперь вы, надеюсь, скажете, что все это означает?
– Нападение. – Мне не терпится пропустить глоток животворной влаги.
– Со стороны кого?
– Понятия не имею, – отвечаю я почти чистосердечно, закуривая сигарету.
– И с какой целью?
– Мне кажется, о цели красноречиво говорят последствия.
– По-вашему, они хотели вас убить?
– Вероятно.
– Может быть, с целью ограбления?
– Одно связано с другим. Особенно если они втемяшили себе в голову, что мои карманы до отказа набиты брильянтами.
– Значит, вы считаете, нападение связано с тем, что происходит здесь вокруг?
– А с чем же еще? Мы, как-никак, находимся в Берне, а не в Чикаго.
– Вы уже начинаете цитировать Флору… до такой степени она вас охмурила, – не может не съязвить Розмари.
Однако, не дождавшись ответа, переходит к более серьезным вещам: – Пьер, мне страшно.
– Если страшно, сматывайте удочки. Проще простого.
Грабер, надо полагать, хранит ваше место.
Она молчит, как бы взвешивая мое предложение, потом заявляет уже иным тоном:
– Я не собираюсь сматывать удочки! И не отступлю перед этими…
– Перед кем?
– Да перед этими, что на вас напали… Впрочем, сколько их было?
– Целая ватага. Сперва было двое, потом стало четверо.
И если бы я не усмирил их, они, наверно, так и продолжали бы удваиваться.
– Сколько бы их ни было, отступать я не намерена! –
повторяет Розмари.
Мне по душе такие решительные создания. Даже если они иного пола.
Уже на следующий день слова подкрепляются делом –
моя квартирантка уведомляет меня, что после обеда Виолета приглашает нас на чашку чая.
– Подобные визиты на виду у всех соседей меня особенно не радуют, – кисло замечаю я. – Стоит ли так оголяться перед возможными наблюдателями?
– А почему бы и нет? – вызывающе возражает Розмари, словно передо мной не секретарша Грабера, а чемпионка по стриптизу. – Законы этой страны запрещают бандитские нападения, а не чай в полдник.
– О, законы!.
Естественно, вопреки моим лицемерным возражениям сразу после пяти мы располагаемся в знакомом мрачном холле, который теперь уже не кажется столь мрачным: здесь появились еще две настольные лампы с розовыми абажурами. Виолета в скромном батистовом платьице, таком же розовом, как абажуры, да еще в крохотный голубенький цветочек. Чтобы не разносить чай и лакомства каждому в отдельности, мы сидим за столом и мирно беседуем обо всем и ни о чем, как того требуют правила хорошего тона.
Так продолжалось до тех пор, пока Розмари не брякнула ни с того ни с сего:
– А вчера на нашего дорогого Пьера дважды напали бандиты, представляете?
– О! – восклицает Виолета, разинув рот от изумления. –
Неужели правда?
– И дело не в том, что ему навешали фонарей, – продолжает моя квартирантка с той небрежностью, какая появляется, когда мы говорим о чужой беде. – Нас интересует, что за этим кроется. – Она переводит озабоченный взгляд на хозяйку и, понизив голос, добавляет: – Потому что, милая, нападения были совершены непосредственно после того, как вы с Пьером разговаривали в лесу!
– О, неужели? – снова восклицает Виолета, будучи, видимо, не в состоянии придумать что-нибудь другое. – Но мы же ни о чем таком не говорили, что…
– Не сомневаюсь, – спешит согласиться Розмари. – Но, как видно, те господа иного мнения…
– Какие господа? И что вам в конце концов от меня нужно? – вопрошает хозяйка, явно расстроенная.
– Может, лучше прекратим этот неприятный разговор и выберем тему полегче? – спрашиваю я.
– Но она же должна быть в курсе, Пьер! – возражает моя приятельница.
– В курсе чего? – обращается к ней не на шутку встревоженная Виолета.
– Того, что им не терпится как можно скорее убрать всех, кто вас окружает… всех, кто способен вас защитить.
Зарезав этого милого Горанофа, расправившись с Пенефом, они способны завтра сделать то же самое с Пьером…
– Мерси, – киваю я Розмари. – Вы меня просто окрыляете.
– Но это же правда, дорогой… И вчерашние покушения красноречиво подтверждают мои слова. А потом – чему удивляться? – наступит и моя очередь. Они хотят оставить вас в одиночестве, милое дитя, в полном одиночестве, а тогда уже заняться и вами…
– Но что им все-таки от меня нужно? – недоумевает милое дитя, которое, как я уже отмечал, едва ли моложе моей квартирантки.
– Вам лучше знать, – отвечает Розмари.
– Ничего я не знаю, уверяю вас!
– В таком, случае давайте опираться на предположения, – пожимает плечами моя приятельница. – Что может привлекать этих алчных типов, кроме ценностей – ну, скажем, золота или брильянтов… Да, если они и в самом деле учуяли брильянты… Тут, среди соседей, вроде бы поговаривали об этом, помните, Пьер?
– Да вроде ничего такого не было. – Я стараюсь дать понять Розмари, что она действует слишком грубо.
– Брильянты?. Не припоминаю, чтобы отец когда-нибудь говорил о брильянтах.
– Имея брильянты, он мог и не говорить о них, – терпеливо, будто ребенку, объясняет моя квартирантка. – И
потом, вы с ним так редко виделись… Вы же сами говорили, что виделись с ним редко? Следовательно, у вас не было возможности толком поговорить.
– Верно, – кивает Виолета. А потом задумчиво повторяет, как бы про себя: – Брильянты…
– Брильянты, – говорит ей Розмари. – А может, и кое-что другое в этом же роде.
– Вы давно лишились матери? – пробую я переменить тему, пока моя приятельница в своем нахальстве не предложила тут же артельно приступить к поискам.
– О, я почти не помню ее. Насколько я знаю, мы жили с ней в Базеле, а отец приезжал к нам очень редко. Потом, когда мне было всего три года, мать умерла, так по крайней мере рассказывал отец, но в дальнейшем, со слов женщины, которая меня растила, я поняла, что мать куда-то уехала… Ей, должно быть, надоело сидеть дома одной и напрасно ждать отца…
– Это еще не основание бросить ребенка на произвол судьбы, милая моя, – изрекает Розмари, будучи не в состоянии воздержаться от вынесения приговора.
– Я тоже так считаю, но она, видно, была другого мнения, – неуверенно замечает Виолета, будто речь идет всего лишь о вкусах. – А потом началась пора пансионов.
Пансион, пансион, вплоть до окончания университета…
– Вероятно, ваши воспоминания о той поре не очень-то приятны, – говорю я, лишь бы не молчать.
– Почему? Зависит от обстоятельств. О некоторых вещах у меня остались неплохие воспоминания. О некоторых, не о всех.
– А разве вы не могли жить вместе с отцом? – продолжает Розмари.
– Он всегда твердил, что было бы неудобно… Обещал объяснить со временем – несколько позже, может быть.
Сказать по правде, я и сама не жаждала жить с ним. Он был очень замкнутый и какой-то чужой. К тому же я привыкла к пансионам. Человек ко всему привыкает.
– У вас действительно было безрадостное детство, дорогое дитя! – сочувственно вздыхает Розмари. – Так рано лишиться матери… И при таком отце… А теперь еще эти брильянты!
Розмари, очевидно, норовит вернуться к прежней теме, и я напрасно пытаюсь внушить ей, чтобы она замолчала, –
эта хитрюга нарочно избегает смотреть в мою сторону, и мне остается сидеть в качестве беспомощного свидетеля и слушать ее глупости.
– Простите, милая, нет ли у вас выпить чего-нибудь холодненького? – вдруг спрашивает моя квартирантка с присущей ей непринужденностью. – Честно говоря, я что-то перегрелась от чая в эту теплынь.
– Ну разумеется, – с готовностью поднимается Виолета. – Что бы вы предпочли, кока-колу или минеральную воду?
– О, не беспокойтесь, я сама принесу, – вскакивает
Розмари, – развлекайте вашего кавалера, а я могу и сама…
Предельно ясно, что она горит желанием осмотреть хотя бы коридор и кухню, воображая, что ей тут же удастся засечь какой-нибудь загадочный тайник или что-либо другое, могущее заменить его. Что касается холла, то, надо полагать, она его тщательно обследовала еще при первом посещении и наверняка не один раз отсылала хозяйку на кухню под всякими предлогами, чтоб иметь возможность заглянуть во все щели.
Виолета охотно предоставляет ей хозяйничать на кухне и снова усаживается на место. Но не успела Розмари выйти, как Виолета наклоняется над столом и шепчет мне:
– Я бы хотела с вами встретиться… Наедине.
– Когда и где? – коротко спрашиваю я, учитывая проворство моей подружки.
– Завтра в пять, в лесу… где вчера встречались…
Какая наивность!
– Только не там. Я предлагаю кафе «Меркурий», на первом этаже, на главной улице, словом, найдете.
– Найду, – кивает Виолета, как послушная школьница.
– Да обратите внимание, чтобы за вами никто не следил, – предупреждаю я, хотя понимаю, что, будут за нею следить, нет ли, ей, при ее простодушии, этого все равно не заметить.
Тем не менее она снова кивает, чтобы показать, что ей понятна вся серьезность положения. Розмари задерживается сверх всякой меры. Небось что-то обнаружила, заслуживающее внимания, какую-нибудь отдушину для выхода испарений или коробку с электрооборудованием. В
конце концов она все же появляется, неся с триумфальным видом бутылку минеральной воды и стакан. Боюсь, она уже забыла, зачем принесла все это.
«Меркурий». Пять часов. Время, когда бабушки, пардон – пожилые дамы, приходят сюда полдничать: попить чайку и съесть по обычаю огромный кусок шоколадного торта со сливками, с целой горой сливок, и до того великолепно взбитых – не сливки, а мечта, трепет эфира, юношеская фантазия.
Вообще бабушек, пардон – пожилых дам, здесь вокруг такое изобилие, как будто жизнь со всеми ее удовольствиями предназначена только им одним, тогда как удел молодых трудиться в конторах, у электрических касс –
словом, аккуратно обслуживать широкие массы бабушек.
Они наполняют кафе, магазины, улицы, и, конечно, в первую очередь главную улицу, которая из края в край пестрит бабушками. Но какими бабушками! У них изысканные прически бледно-сиреневых, бледно-голубых и даже бледно-зеленых тонов. Они щеголяют в эфирных платьях самой веселой расцветки, в модных туфлях на тех самых уродливых каблуках, с зонтиками, с сумочками крокодиловой кожи. Однако самая существенная часть туалета этой фауны, конечно же, шляпы. Утратив возможность подчеркивать другие части тела, старушки все свое внимание сосредоточивают на голове и в особенности на венчающей ее шляпе. Тут вы встретите шляпы из самых разных материалов, всевозможных расцветок, размеров и форм: похожие на кошелки, птичьи гнезда, сковороды и, конечно же, на кастрюли, глубокие и достаточно вместительные.
Ровно в пять я появляюсь в просторном зале «Меркурия» и с уверенностью неопытного пловца или сомнамбулы погружаюсь в море шляп, колышущихся над столиками. Шляпы делают легкое вращательное движение в мою сторону, потому что – забыл сказать – они очень любопытны. Затем, найдя, что я слишком молод, а может быть, слишком стар и вообще не представляю никакого интереса с их точки зрения, шляпы снова плавно описывают полукружие, возвращаются на исходные позиции и сосредоточиваются на шоколадных тортах и сливках.
К счастью, мне все же удается найти свободный столик, я усаживаюсь и незаметно озираюсь вокруг. Оказывается, я единственный мужчина во всем зале, и это меня успокаивает. Хотя не исключено, что в наши дни западные разведки распространили свои щупальца и в безмятежный мир бабушек. А что может быть опаснее бабушки-шпиона, так глубоко нахлобучившей кастрюлю на голову, что глаз нельзя увидеть, а уж понять, что там у нее в мыслях, и не надейся.
Несколько минут спустя в зал входит наконец молодое существо – Виолета (шляпы снова совершают вращательное движение, смотрят оценивающе, после чего возвращаются на исходные позиции). Я встаю, слегка поднимаю руку. Молодая женщина улавливает мой жест и направляется в мою сторону.
– Мне показалось, какой-то господин увязался за мной, – шепчет она мне, слегка запыхавшись. – Но я кое-как ускользнула от него. Вошла в «Леб» и скрылась в толпе.
– Очень возможно, что это был незнакомый обожатель, – говорю я, предлагая ей стул.
– О мосье Лоран, – отвечает она сконфуженно, – я шла сюда, чтобы поговорить о серьезных вещах.
Подходит официантка в платье до пупа – теперь в таких коротких платьях щеголяют только официантки, если не принимать в расчет периодические капризы Розмари, – я заказываю неизбежный чай с неизбежным тортом и, когда лакомства появляются на столе, произношу:
– Чем могу быть полезен?
– Я сама не знаю, – отвечает Виолета. – Я хочу сказать: особенно ничем. Мне просто хотелось с кем-нибудь поговорить совершенно свободно, немного разобраться в этой путанице, а у меня нет ни одного человека, на которого я могла бы рассчитывать, и даже эта ваша Розмари, вы меня извините, может, она и неплохая девушка, порой проявляет такое любопытство, что… В общем, вы один внушаете мне доверие – именно тем, что у вас нет этого любопытства, – и произвели на меня хорошее впечатление еще в тот день, там, в лесу… И насколько я разбираюсь в людях, вы, мне кажется, не такой, как другие, все вынюхивают да выстукивают, будто в этой вилле спрятаны…
– Брильянты.
– Да, брильянты или бог знает какие сокровища.
– Откровенность за откровенность, – киваю я. –
Брильянты и в самом деле существуют, мадемуазель Виолета.
Она смотрит на меня недоверчиво.
– Вы уверены?
– Вполне.
– Тогда где же они находятся?
– Вероятно, где-то на вилле. В каком-то тайнике.
– Единственный тайник, известный мне, – сейф. Я о нем знаю от отца.
– Значит, они в сейфе.
– Сейф пустой.
– У вас есть ключ от него?
– Да, конечно, отец оставил его у меня, когда приезжал в Лозанну.
– Тогда где-то в другом месте. Может, в подвале.
– Эта вилла не имеет подвала. Подвал есть в моей вилле, в Лозанне. Но если вы полагаете, что я не знаю, что хранится в моей собственной вилле…
– Значит, вы до сих пор жили там?
– Не совсем. Я большей частью жила у своей подруги.
Мой дом расположен как-то особняком, и, честно говоря, мне страшно оставаться там одной, особенно по вечерам.
Поэтому я живу в квартире моей подруги по пансиону. Там я прописана, туда мне поступает корреспонденция – насколько женщина вроде меня может получать какую-то корреспонденцию.
– И все-таки брильянты существуют, – повторяю я, чтоб отвлечь ее от ненужных мне подробностей. – И только этим можно объяснить возню, которая наблюдается вокруг вас и вашего дома. Не говоря об убийствах…
– О да, прошу вас, не надо говорить об убийствах.
– Согласен. Поговорим о более чистых и невинных вещах. А существует ли что-либо более чистое и невинное, чем роскошный брильянт?
– Может быть, и нет. Вам виднее. Должна признаться, драгоценные камни меня совершенно не интересуют. И
если эти брильянты не легенда, а реальность, и если когда-нибудь они попадут в мои руки, можете не сомневаться, я тут же продам их первому попавшемуся ювелиру.
– А зачем? Вы нуждаетесь в деньгах?
– Вовсе нет, по крайней мере если речь идет о моих собственных потребностях. Отец обо мне хорошо позаботился, обеспечив мне пожизненную ренту. Но если бы у меня была большая сумма денег, по-настоящему большая сумма, я построила бы в Лозанне, на берегу озера, светлый и солнечный детский дом. Я даже место уже подобрала –
большущий парк с полянами и высокими деревьями. Вы не ошиблись: в этих пансионах у меня было невеселое детство, и притом, заметьте, в довольно дорогих пансионах. А
каково живется детям бедняков? Мой дом, если я его когда-либо построю, будет только для бедных детей.
– Мечта у вас благородная, – признаю я. – Но, вынашивая такую красивую мечту, вы, вероятно, возлагали надежды на что-то определенное?
– Вы угадали. – На ее лице появляется едва заметная улыбка. – Но раз уж мы заговорили о мечтах, как бы поступили вы лично, если бы вам досталась горсть брильянтов?
– У меня к камням нет никакого интереса.
– Ну а к деньгам, которые можно за них получить?
– Тоже.
– Значит, если бы они вам достались, вы просто выбросили бы их?
– Нет, конечно. Но я с удовольствием уступил бы их тому, у кого на них больше прав, чем у меня. – Однако, поймав ее взгляд, ее детски недоверчивый взгляд, я спешу добавить: – Я понимаю, это может показаться невероятным, но я сказал правду. Это вовсе не означает, что я совершенно бескорыстен. И если наш разговор будет вестись искренне, как он и начался, я, пожалуй, мог бы довериться вам и сказать, в чем состоят мои интересы.
Она снова смотрит на меня, но теперь недоверие в ее взгляде начинает исчезать. И, как бы желая оправдать мои ожидания, она произносит с неподдельной простотой:
– Я знаю об этих брильянтах, мосье Лоран. И не из сплетен, а от моего отца. Именно на них я возлагала свои надежды, о которых вы только что упоминали. Еще несколько лет назад, когда я услышала о камнях, я решила придумать что-нибудь, что придало бы моей жизни какой-то смысл.
– Ваше намерение достаточно благородно, и в этом ваше преимущество перед остальными претендентами, –
признаю я.
– По-моему, мое преимущество гарантируется законом о наследовании, – усмехается Виолета.
– В определенном смысле – да, а в определенном –
нет, – не слишком внятно комментирую я. – Не знаю, что вам рассказывал отец, но история этих брильянтов не так уж проста.
– Отец не вдавался в подробности. Он просто сказал мне однажды, что когда-нибудь мне достанется в наследство коробочка с камнями, которая искупит полное одиночество, на которое я была обречена… Бедный папа. Он воображал, что для меня оно было сплошным страданием…
– Неужто одиночество вас не гнетет?
– Нисколько. Если мне что-то внушает страх, так это общение с людьми, но вовсе не одиночество. А судить обо мне по моей кажущейся болтливости не стоит, вы можете прийти к ошибочному заключению. Я ужасно необщительна, мосье Лоран.
– Но ведь человек нуждается в общении.
– Я тоже. Но лишь с детьми. И если я добиваюсь принадлежащего мне по закону, то вовсе не для того, чтобы копить капитал в банке. Только, судя по вашим намекам, мое право на эти камни не так уж бесспорно, как утверждал отец…
– Я этого не говорил.
– Не надо меня успокаивать. Я хочу слышать всю правду. И если брильянты действительно мне не принадлежат – можете быть уверены, я не стану на них посягать, если даже вы положите их вот здесь, передо мной, на этом столе.
– К сожалению, я не в состоянии этого сделать. А вот открыть вам всю правду могу. Речь идет о десяти брильянтах исключительной ценности, один из которых, самый маленький, ваш отец продал, это было довольно давно, так что теперь их девять. Когда-то они принадлежали одному греческому миллионеру, но нацисты ограбили его, а потом продали награбленное вашему отцу, который, разумеется, мог и не знать о происхождении камней…
– И все-таки они краденые…
– Что ж, верно. Но бывшего владельца давно нет в живых, а наследники тоже отсутствуют – значит, никакого законного претендента не существует, не говоря уже о том, что вся эта история имеет немалую давность.
– И все-таки они краденые… – повторяет девушка как бы про себя.
– Однако ваш отец их не украл. И, по-видимому, он заплатил за них довольно солидную сумму.
– Действительно… – снова произносит она как бы про себя. – Может, вы и правы. И все же, должна признаться, после вашего рассказа эти брильянты внезапно померкли в моих глазах…
«Точь-в-точь как белый сапфир Розмари», – мелькает у меня в уме.
– Раз вы решили употребить их на такое благородное дело, они никоим образом не должны меркнуть в ваших глазах, – твердо говорю я. – Разве будет лучше, если они попадут в руки мошенников и стяжателей?
– Хорошо, если так, – отвечает она все еще с ноткой неуверенности в голосе. Потом возвращается к прежней теме: – А в чем состоят ваши интересы?
– Поскольку я уже проникся доверием к вам и поскольку вы болгарка, я вам отвечу прямо…
– О, болгарка! Сильно сказано, – замечает она, и на лице ее появляется анемичная улыбка. – Никогда в жизни не видела Болгарию.
– А вам не хотелось бы ее увидеть?
– Зачем? Меня с этой страной ничто не связывает. Да и путешествовать я не любительница. Каждое путешествие приносит разочарование. Как и новое знакомство. Как любая перемена. Издали все кажется лучше. И этот мир лучше, когда на него глядишь из окна своей комнаты, из «окна» телевизора. Реальность всегда уродливей, чем ее изображение. В реальной жизни нам вечно досаждают неудобства: жара или холод, дурные запахи или назойливые мухи, вынужденная усталость и чрезмерная потливость… – Она замолкает. Потом опять спохватывается: –
Вы что-то начали было рассказывать…
– Да, о моих собственных интересах. Один человек –
скажу прямо, бывший полицейский – оставил в свое время вашему отцу на хранение кое-какие списки. Отец ваш взял их просто так, чтобы оказать услугу своему старому знакомому. Только знакомый давно умер, а списки все еще существуют, и если бы они попали в чьи-то грязные руки, то могли бы причинить немало неприятностей людям, имена которых в них фигурируют.
– Вы хотите сказать, что именно эти бумаги вам нужны…
– Именно. Только я понятия не имею, где они находятся, и, так как вам они совсем ни к чему, как, впрочем, и любому другому, кроме какого-нибудь злоумышленника, я бы просил вас в случае, если вы их найдете…
– Зачем мне их искать? – останавливает меня Виолета самым обычным тоном. – Я знаю, где они находятся. Если, конечно, это то самое, что вы ищете: тоненькие узкие полоски бумаги, на которых значатся разные болгарские фамилии.
– Должно быть, это они и есть, – киваю я, стараясь в свою очередь, чтобы мои слова тоже звучали как можно более обычно.
– Вы можете получить их завтра же. Они в банковском сейфе моего отца. Но, уверяю вас, в этом сейфе нет ничего другого, кроме никому не нужных старых бумаг.
– Ничто другое меня не интересует, – бормочу я.
– Тогда давайте завтра же подъедем к банку, – предлагает она, явно довольная, что может порадовать меня тем, что для нее самой не представляет никакой ценности.
– Чудесно. Только надо сделать так, чтобы люди, не в меру любопытные по отношению к вам, этого не заметили.
Банк, сейф… Этого им вполне достаточно, чтобы вспомнить про брильянты.
Она молча кивает. Потом вдруг ей приходит поистине гениальная идея. Она лезет в сумочку и подает мне маленький секретный ключ.
– В таком случае поезжайте вы один. Вот вам ключ.
Только запомните шифр: «Зебра». В этом банке вместо цифрового шифра применяется буквенный.
Поблагодарив, я беру ключ и с безразличным видом сую его в карман, все еще не в состоянии поверить в случившееся. Потребовалось провести столько сложных комбинаций, потратить столько времени на подслушивание и выжидание, столько раз идти на риск и вступать в отчаянные схватки, чтобы в один прекрасный момент в каком-то кафе, где безраздельно властвуют шляпы бабушек, какое-то невинное существо небрежно сунуло руку в сумочку и вручило тебе ключ от секретного архива.
Этой хрупкой женщине и невдомек, что хранящиеся в сейфе жалкие бумажки стоят дороже всех брильянтов, так как с ними связано спокойствие миллионов людей и даже целой страны. Но какое ей дело до этой страны, если она знает о ней только понаслышке и даже не испытывает желания видеть ее.
– Я вполне понимаю, это не бог весть какая услуга, –
улавливаю, как во сне, голос Виолеты. – Но мне все же кажется, пусть не ради услуги, а просто из дружеских чувств, и вы когда-нибудь проявите отзывчивость.
– Целиком рассчитывайте на меня, – говорю я. – Волосок не упадет с вашей головы.
Затем подзываю полуголую официантку, чтобы расплатиться.
Забыл сказать, что сегодня пятница. И, как обычно в этот день и в этот час, я нахожусь на террасе, в двух шагах от рокового Кирхенфельдбрюке, который чуть было не добавил к своим многочисленным историческим достопримечательностям еще одну: мог стать лобным местом для вашего преданного… впрочем, стоит ли упоминать имена.
День заметно увеличился, даже очень заметно – уже начался июнь, – и в эту пору еще совсем светло, а мне не терпится бросить взгляд через парапет, чтобы увидеть на нижней площадке Бояна, замаскировавшегося под хиппи.
В этот предвечерний час по пятницам на террасе, как обычно, пусто, если не считать одного-единственного пожилого горожанина, лениво прогуливающегося под деревьями. Только он в самый неподходящий момент, как назло, проходит в двух шагах от меня, и, чтобы не пропустить передачи, мне приходится отойти от своего обычного места у парапета и сесть на ближайшую скамейку.
Авторучка предупреждающе щелкает, и я слышу голос.
Но в чем дело? Это не голос Бояна.
– Вашему другу нездоровится, он не может прийти, –
хрипит незнакомый голос в приемнике. – Он, весь избитый, лежит у входа в лифт, в нижнем городе…
– Принято, – говорю в ответ и с облегчением устанавливаю, что пожилой человек удалился в сторону моста. –
Мне нужно передать нечто очень важное.
При этом я несколькими прыжками приближаюсь к парапету. Внизу, там, где должен находиться Боян, сидит худой, невысокого роста мужчина, чья фигура мне смутно знакома.
Не знаю, к месту ли сейчас подобные рассуждения, но я должен отметить, что в нашем поведении существуют стереотипы и порой выбранные нами действия, какими бы разумными они ни казались с практической точки зрения, представляют опасность именно тем, что являются стереотипами. Поэтому, прежде чем поступить именно так, а не иначе, постарайся хорошенько взвесить, не на это ли действие рассчитывает противник, не предусмотрел ли он твой следующий шаг в своем плане.
Так чего же противник ждет от меня в данном случае?
Что я опрометью помчусь к лифту, чтобы наверняка угодить в ловушку? Или кинусь на этого, что внизу, чтобы довольствоваться тем же результатом? Разве не кажутся одинаково рискованными оба эти действия, если оценивать их с профессиональной точки зрения? Скажи, разве они не одинаково глупы с точки зрения профессионала, мысленно обращаюсь я к Любо. Только Любо молчит и задумчиво смотрит вниз, где должен был бы находиться Боян. Я бы тоже молчал, будь я на его месте, если бы это касалось моего сына. И хотя это касается не моего сына, у меня нет больше сил бездействовать и рассуждать про себя, да еще с профессиональной точки зрения. При мысли о том, что из-за меня они могут разделаться с сыном точно так же, как в свое время разделались с отцом, я готов волком выть. Но так как от этого проку будет мало, я бросаюсь с площадки –
с трехметровой высоты обрушиваюсь на того, что сидит внизу.
В первый момент у меня ощущение, что я раздавил его собой, как гнилое яблоко, но потом оказывается, это не совсем так. И чтобы предотвратить возможные и совсем неуместные в данный момент безумства с его стороны, я с размаху даю ему кулаком по роже. По этой смуглой большеглазой роже с какими-то женственными чертами.
Тим или Том? Я вечно их путаю.
– Кто тебя послал? – спрашиваю вполголоса, схватив метиса за горло.
– Не могу сказать, – хрипит он.
– Тогда околевай. Здесь же. Сию же минуту. – И для пущей убедительности чуть покрепче сжимаю его тонкую шею. Большие глаза Тима или Тома делаются еще больше и выкатываются до такой степени, что кажется – вот-вот выскочат из орбит. Я расслабляю руки, чтобы он мог говорить, и снова:
– Кто тебя послал?
– Хозяин.
– Ральф Бэнтон?
Метис утвердительно сводит свои тяжелые веки.
– Где Боян?
– Понятия не имею. Я никогда его не видел. Я сказал то, что мне велели говорить, – бормочет Том или Тим уже более охотно, смирившись с мыслью, что мокрому дождь не страшен.
– А где должен находиться человек, которому ты передаешь?
– Понятия не имею, – повторяет он. – Сказали, метрах в двухстах в окружности. Велели передать то, что было сказано.
– Вот видишь? – чудится мне, будто я слышу наконец голос Любо. – Парень ни слова не проронил. Просто его выследили и установили, когда и откуда он выходит на связь. А потом накрыли и отняли аппаратик. Но парень ни слова не проронил.
– Помолчи пока, – прошу его. – Не мешай мне. А об этом мы в другой раз потолкуем.
Но я и сам доволен, что Боян не проговорился. И что рефлекс меня не обманул. Если бы я подался к лифту –
обманулся бы. Человек, которого я все еще держу за горло, продолжает испуганно таращиться. Немного расслабляю клещи, чтобы он мог дышать. Сейчас он должен дышать.
Притом как можно глубже. Потому что, держа метиса одной рукой за шею, другой я прижимаю к его губам ампулы с усыпляющим средством. Затем оттаскиваю его под ближайший куст и быстро направляюсь к Беренплац.
Минут через десять останавливаю «вольво» в двух шагах от террасы, выждав удобный момент, хватаю в охапку все еще пребывающего в сладком наркотическом трансе Тима или Тома и, особенно не церемонясь, заталкиваю его в багажник. Спасибо, что прислали мне этого метиса, довольно худого и легкого, с таким нетрудно справиться, а что бы я стал делать, если бы это был тот детина в шоколадном костюме? Благо, таких молодчиков заметно поубавилось, особенно после вчерашнего матча.
Но чересчур радоваться не следует: в ближайшее время могут прислать пополнение.
Итак, Ральф Бэнтон. Мой тихий и добропорядочный сосед. Мой привычный партнер по сонным картежам. Настало, значит, время перейти к несколько иной игре. И теперь уже с раскрытыми картами.
Подъехав снова к главной улице, я останавливаю машину у первой попавшейся телефонной будки. Набираю номер и жду, пока знакомый голос задаст знакомый вопрос.
– Это Лоран, дорогой друг, – отвечаю.
– А, Лоран! Только что собирался вам позвонить. Что вы скажете относительно партии в бридж?
– Чудесная идея, хотя и не совсем ко времени. Я бы предпочел непродолжительный разговор один на один.
– Так в чем же дело, для вас я готов на все, – мягко отзывается Ральф.
– Только сперва вы должны передать мне того парня, которого вы ни за что ни про что избили. В противном случае мне придется заняться вашим Тимом или Томом, а пока он задыхается у меня в багажнике.
В трубке слышен короткий смешок американца.
– Что ж, выходит, я добрее вас. Ваш человек находится в моем гараже, а не в багажнике. И никто его не избивал.
Приходите и забирайте его, если угодно. Но разумеется, не забудьте вернуть мне слугу. Должен признаться, без него я как без рук.
Повесив трубку, я кидаюсь в машину. Но еду не к
Кирхенфельдбрюке, а к соседнему мосту, хотя я не допускаю, что противник настолько туп, чтобы дважды применять один и тот же прием. Стремясь полностью убедиться, что я избавлен от нежелательной компании, я какое-то время петляю по городским улицам, затем останавливаюсь в каком-то проулке, иду в другой, нахожу нужный дом и при помощи лифта – мне уже становится не по себе от лифтов – поднимаюсь на самый верхний этаж.
– Ты что, с ума сошел! – с содроганием шепчет Борислав, увидев меня на пороге.
– Стараюсь не дойти до этого, – тихо отвечаю я, вталкивая его внутрь и захлопывая за собою дверь. – Дай чего-нибудь выпить!
Он ведет меня в уютный холл, более или менее похожий на мой, только без обоев успокаивающе-зеленого цвета, ставит на стол бутылку виски и идет за необходимыми подсобными средствами.
– Оставь, – говорю. – Безо льда обойдемся. Некогда.
Плеснув себе микстуры, залпом выпиваю ее и говорю:
– Боян провалился. Еду на выручку. Встреча через полчаса в вилле Ральфа Бэнтона. Вероятно, все нити в руках у него, поэтому он до сих пор оставался в тени.
Чтобы не сидеть без дела, наливаю себе еще виски и продолжаю:
– И еще одно. Вот тебе ключ. Шифр – «Зебра». Сейф, принадлежащий Ганеву или, если угодно, его дочке, – в
Кантональном банке. В сейфе хранится вторая часть досье: имена. Ты ее изымаешь – завтра, рано утром, – и отправляешь по назначению. Кроме того, мне нужна справка относительно одной виллы в Лозанне. Числится она, вероятно, за Горановым или за его дочерью. Отыщи строительную фирму и еще одну, – при этих словах я делаю многозначительный жест, – если такая существует. Если да
– найди человека, способного справиться с делом. – Выпив упомянутую добавку, я бросаю для пущей ясности: – Бояна ты, разумеется, возвращаешь! Ну, пока, я исчезаю!
Борислав и рта не раскрывает – и так все ясно. Хотя по лицу его видно, что после столь продолжительной разлуки ему хотелось бы по-дружески поговорить, единственное, что он произносит, имеет сугубо деловой характер:
– Значит, комбинация с машиной не меняется?
– Остается прежней: порядок улиц соответствует порядку дней.
Пожав ему руку, я отечески хлопаю его по плечу, хотя мы почти одного возраста, а ростом он даже чуток выше, всего на несколько сантиметров – вот чудесный партнер для Флоры, надо будет как-нибудь сказать ему об этом, – и пулей вылетаю на улицу.
– Приведите парня! – бросает Ральф шоферу. Возле меня стоит его камердинер, ни жив ни мертв.
– А вы ступайте прочь! – приказывает ему хозяин. Затем любезно обращается ко мне: – Садитесь, Лоран. Что будете пить?
– То же, что и вы, Бэнтон. И по возможности из той же бутылки.
– Какой это бич в наше время… – меланхолично бормочет американец, направляясь к сервировочному столику.
– Что именно?
– Мнительность.
– Обычная предосторожность, дорогой, не более. И мне кажется, вполне естественная после того, как вчера в обеденную пору ваши люди попытались – в какой-то мере им это удалось – избить меня, вечером хотели совершить на меня покушение, а сегодня похитили моего молодого друга.
– Неизбежные служебные ситуации, Лоран. Вы прекрасно понимаете, что не я их придумал. Я всего лишь служащий. Такой же, как вы. Безликое звено в системе. Не имеющее к тому же права на дружеские чувства.
Он говорит тихо, своим обычным голосом, полным апатии, едва ли способным выразить что-либо другое.
Кроме холодности и равнодушия. Так же как и его карие, исполненные меланхолии глаза с их до странности отсутствующим взглядом, как бы спрятанным в полумраке ресниц, и ленивые движения, какими он наливает в рюмки «кальвадос».
– Ваше здоровье, Лоран?
Я охотно сказал бы ему кое-что по части здоровья, но тут шофер приводит Бояна. К счастью, он цел и невредим, следов телесных повреждений не видно. Парень бросает в мою сторону взгляд, в котором и преданность и чувство вины. Затем опускает глаза. Мне хочется сказать что-нибудь, чтобы хоть немного приободрить его, но я чувствую, как у меня сжалось горло. Он был так доволен, что на него возложили такую серьезную задачу, так счастлив, что ему оказали доверие, и вот на тебе – провал, что называется, с первого шага. Хочется дать ему понять, что он должен уметь мириться с огорчениями, иначе победы ему не видать, что такое с каждым может случиться, что дело, в общем, поправимое. Но как это сделать в вилле
ЦРУ, в присутствии человека из ЦРУ, который флегматично наблюдает за нами со стороны?..
– Ладно, иди, – тихо говорю я. – Возвращайся домой и не переживай.
«Возвращайся домой» – значит возвращайся на родину, и Боян прекрасно это понимает, так же как то, что возвращается он не победителем. Он смотрит на меня еще раз, посрамленный и расстроенный, и только кивает головой.
– Не переживай, – повторяю я, чтобы взбодрить его немного. – Все обошлось.
И поднимаю на прощание руку, а он идет к двери медленно и вяло, как может идти побежденный.
– Ваши люди чувствительны, – констатирует Бэнтон, когда мы остаемся одни.
– А ваши нет?
– Нет, конечно. Им неведомы болезненные переживания. Возможно, тут есть определенный плюс. Наше ремесло не для сентиментальных.
Не вижу надобности возражать. Американец тоже молчит, и я пользуюсь паузой, чтобы еще раз обдумать следующий ход. Рискованный ход. С другой стороны – не такой уж рискованный. Две части досье, включая самую существенную, уже обеспечены для Центра. Боян отправится восвояси. Борислав вне подозрений. Единственный залог в этой игре при раскрытых картах – моя собственная персона. А когда рискуешь лишь собой, все проще. Иначе у тебя такое чувство, будто ты играешь по большой на казенные деньги.
Американец продолжает стоять, видимо не желая попусту мять свой костюм цвета зернистой икры, и, небрежно опершись на камин, терпеливо ждет. Он хорошо понимает, что я пожаловал к нему не только ради того, чтобы обменяться пленными, но старается дать мне понять, что спешить ему некуда. И я не спешу. Особенно пока мы находимся здесь, в этом здании, оснащенном ЦРУ. Я хочу сказать, снабженном подслушивающей аппаратурой.
– Не знаю, должен ли я благодарить вас за случившееся, или сейчас светским этикетом можно пренебречь, – тихо говорю я, вставая.
Во взгляде Бэнтона еле заметная тень удивления, и, поймав его, я делаю красноречивый жест в сторону двери, давайте, мол, выйдем. Тень удивления в его карих глазах сменяется подобием насмешки, однако он кивает в знак согласия, и мы вместе идем к выходу.
– Надеюсь, вы не собираетесь выкинуть какой-нибудь глупый трюк, – как бы нехотя роняет американец, когда мы ступаем на асфальтовую аллею.
– Будьте спокойны, – отвечаю. – В таких делах вы монополисты. Мне просто хотелось удалиться от аппаратуры, которая, наверно, вас подслушивает. Потому что, если я не ошибаюсь, у вас это система: каждый подслушивает каждого.
– О нашей системе не беспокойтесь. Сейчас дело не в ней. Не верю, чтобы мы с вами заговорили о чем-нибудь таком, что не должно стать достоянием третьих лиц.
– Ошибаетесь, Бэнтон. И вы убедитесь в этом через несколько минут. В течение короткой прогулки по лесу.
Если только вы не боитесь темноты.
Он не склонен отвечать на мое замечание, и мы медленно поднимаемся по аллее вверх. Конечно, тут не так темно, чтобы по спине бегали мурашки, – люминесцентные лампы, хотя интервалы между ними весьма значительны, довольно хорошо освещают наш путь.
– Вы счастливый человек, Лоран, – вдруг изрекает американец негромко.
– Это мне и другие говорили, но, к сожалению, без всяких оснований.
– Ваше счастье в том, что я вас учуял слишком поздно… Эти женщины отвлекли мое внимание, и я слишком поздно вас засек. Иначе вы уже давно были бы вне игры.
– А какая вам была бы выгода от этого? Только и всего, что лишили бы себя возможности сыграть партию в бридж, испортили бы наши милые вечера и не услышали бы предстоящего разговора. – И, понизив голос, продолжаю: –
Я хочу обратиться к вам с одним предложением, Бэнтон.
Но, прежде чем это сделать, я должен знать, что вас интересует – брильянты или досье?.
– Полный набор, – отвечает Ральф так же тихо и без малейшего промедления, словно давно ждал этого вопроса.
– Если бы я располагал полным набором, меня бы уже не было тут и разговор наш не состоялся бы. Да вам он и ни к чему, полный набор. Вам нужны камни.
– Лично мне – да! – подтверждает американец. – Но у меня есть начальство.
– Видите ли, Бэнтон, вы профессионал, и вам должно быть, ясно, что теперь, когда мы узнали, что к чему, досье особой ценности не представляют.
– Мне лично ясно. Но у меня есть начальство.
– Да перестаньте вы тыкать мне в нос своим начальством, – бормочу я с ноткой раздражения.
– Вы тоже профессионал, а, выходит, не понимаете простых вещей, – спокойно произносит мой собеседник. –
После того как этот небольшой, но прекрасно организованный информационный центр зашатался до самого основания из-за необдуманных действий Горанофа, после того как Пенеф в свою очередь потерпел провал, после того как стало ясно, что самые различные силы из самых различных побуждений проникли в еще вчера хорошо законспирированный сектор, мое начальство, вполне естественно, настаивает на том, чтобы я хоть чем-то реабилитировал себя по службе. И для этой реабилитации мне потребуетесь вы. Вы лично, а не какая-нибудь мелкая сошка вроде этого вашего хиппи. И так как вы ничем другим не располагаете, вам придется заплатить своей жизнью.
Эти слова, хоть произнесенные без дешевой устрашающей интонации, звучат достаточно серьезно, но я пока не знаю, насколько они серьезны на самом деле и в какой мере Ральф старается – как и положено в начале всякого торга – внушить мне, чтобы я не слишком подчеркивал собственную ценность: чего, дескать, тебе куражиться, раз ты стоишь на пороге смерти.
Мы поднялись на самый верх пологого возвышения, по одну сторону которого, в низине, мирно спал район вилл, с множеством фонарей, отбрасывающих яркие косые лучи на густую листву деревьев, а по другую – темнел лес, освещенная просека которого тянется, словно глухой и пустынный коридор. Медленно шествуем по этому коридору до первой скамейки, той самой, на которой я как-то застал
Виолету с плюшевым медвежонком на коленях.
– Мы можем сесть, – предлагаю я.
Ральф подозрительно смотрит на скамейку, брезгливо ощупывает пальцами сиденье, потом с трудом выдавливает:
– Почему бы и нет! Садитесь.
Я сажусь, а он продолжает торчать возле скамейки, боясь испачкать свой великолепный костюм цвета зернистой икры.
– Вы отлично понимаете, Бэнтон, что, отправив на тот свет одного или двоих вроде меня, вы себя ни в какой мере не реабилитируете. И как человек разумный, видимо, не сомневаетесь в том, что всякая показная реабилитация –
пустое дело, а единственное, что достойно внимания, – это прибыль.
– Странный человек. Разве вы не слышали: у меня есть начальство. А вы знаете, что в такой системе, как наша, от этого зависит все.
– Ничего не зависит. Вы забираете брильянты и исчезаете.
– Не говорите глупостей, – отвечает он. Поставив на скамейку свой безупречно черный ботинок, он всматривается в него и вдруг, подняв на меня глаза, спрашивает:
– А у вас есть брильянты?
– Пока нет.
Американец смеется своим веселым смехом.
– Я так и предполагал.
– Не торопитесь предполагать. Уверен, что в самое ближайшее время я их непременно заполучу. И только для того, чтобы иметь удовольствие предложить их вам.
– Вероятно, это то же самое, что вы предложили Пенефу.
– Пенефу я ничего не предлагал.
– Неправда. Впрочем, это не имеет значения… И каким же образом вы собираетесь заполучить брильянты?
– Самым обыкновенным: забравшись в тайник.
– Надеюсь, это не тот тайник, где уже шарили все, кому не лень…
– Нет, конечно. Я не имею в виду сейф в холле Горанофа.
– А что вы имеете в виду?
– Нечто такое, о чем никто не подозревает. Никто, даже дочка Горанофа, которую ваш Кениг без конца осаждает своими хитроумными вопросами. Но согласитесь, открыть вам тайник – все равно что отдать вам брильянты. Да, я готов вам их отдать. Но не за гвозди. Вам – брильянты, мне
– досье.
– Это исключено, – вертит головой Бэнтон. – Мне –
полный набор, а вам остальное. – И, желая внести ясность, он красноречивым жестом подносит руку к виску, как бы делая выстрел.
В общем, переговоры начинаются туго, и каждый предъявляет максимальные претензии, что совершенно естественно, потому что при таких сделках всегда надо драться за максимум, чтобы вырвать у партнера хоть что-то. Наконец, устав от бесплодных пререканий, американец благоволит стать обеими ногами на твердую почву.
– Послушайте, Лоран: даже если вы действительно предложите мне эти воображаемые брильянты, и я соглашусь ответить взаимностью, вам от этого радости мало – по той простой причине, что досье у меня нет.
– Вы хотите сказать, полного досье, – поправляю я его.
Он смотрит на меня несколько настороженно и кивает.
– Значит, вы в курсе…
– Абсолютно. Могу даже доверительно сообщить вам, что одна часть бумаг уже в моих руках, правда, в виде фотокопий. – И так как он продолжает сверлить меня взглядом, я спешу добавить: – Только не надо терять голову. Я не настолько глуп, чтобы носить их с собой. Но у вас хранятся остальные две части.
– Возможно, – уклончиво отвечает Ральф. – Но лично я располагаю только одной.
– Именами?
– Нет, сведениями о выполняемой работе.
– Это почти что ничего… – бормочу я.
– Это – все, – красноречиво разводит руки американец. – Только имейте в виду, я пока вовсе не собираюсь предлагать вам эти материалы.
– Вы хотите сказать, что готовы вечно трястись над ничего не стоящими бумажками? И не склонны их поменять на сокровище в миллионы долларов? Да вы просто не сознаете, что говорите, Бэнтон.
– Возможно, я и согласился бы на обмен, – продолжает мой собеседник. – Но при условии: за мои негативы вы отдаете ваши негативы плюс брильянты.
– Это уже непомерная жадность, дорогой!
– Вовсе нет. Просто я соглашаюсь на ваши условия.
Негативы, которые вы можете мне передать, – копия.
Верно, мои – тоже копия. Но вам ведь решительно все равно, копия или нет. А я, имея на руках два фрагмента, могу хоть отчасти умилостивить начальство.
– Нет, вы и впрямь ненасытный человек, – произношу я с оттенком горестного примирения.
– Я великодушен, Лоран. Иначе в это время вам бы уже делали вскрытие. Вчера вы нанесли побои двум моим людям, четверо других лечатся в больнице от тяжелых ожогов. Ваше сегодняшнее издевательство над Томом не в счет. За любое из этих безумств вам полагается пуля. А
вместо этого, как вы видели, я деликатнейшим образом освободил вашего мальчишку и дошел даже до того в своем мягкосердечии, что торчу вот здесь в лесу и беседую с вами. Нет, мое великодушие действительно выходит за рамки здравого смысла. Но что поделаешь – характер.
– Я так растроган, Бэнтон, что готов уступить. Ладно, вы даете мне негативы в качестве скромного задатка, и будем считать, что мы договорились.
– Никаких задатков, – качает головой американец. – Вы получите копии в тот самый момент, когда я получу брильянты. – Он снова смотрит на меня, но теперь его взгляд приобрел свою обычную сонливость. – Тем не менее в этой сделке задаток наличествует. И это – вы. Не воображайте, что хоть в какой-то мере можете рассчитывать на бегство. Или на какие-нибудь безумства. С этого вечера на вас наложен карантин, Лоран. И хотя вы, возможно, не замечаете этого, но карантин и в данный момент имеет место.
Я не стану озираться – я почти уверен, что где-то рядом его верный Тим или кто-либо еще затаился с пистолетом в руке, заранее снабженным глушителем, или зажал в кулаке один из тех ножей, какие так часто в последнее время вонзаются в спины моих соседей.
– Как вам угодно, Бэнтон, – примирительно говорю я. –
Только не забывайте того, о чем мы уже, кажется, договорились: чтобы наложить руку на брильянты, мы должны попасть в тайник. А чтобы я мог скорее до него добраться, не создавайте мне помех. Налагайте карантин, но не чините препятствий и не втравливайте меня в состязания по боксу.
Вы, конечно, вряд ли сможете отказаться от подобных старомодных приемов, так как они – ваша вторая натура, но, ради бога, не обременяйте меня этим хотя бы ближайшие несколько дней.
– Я человек покладистый, – неохотно признает Ральф, как будто с сожалением обнаруживая свою ахиллесову пяту. – Я особенно не жажду, чтобы вам расквасили физиономию. Но это зависит и от вас. Придерживайтесь правил, чтобы никто не чинил вам препятствий. – Он нажимает на кнопку своих кварцевых часов и говорит: –
Испортили мне вечер своим торгом. А ведь могли составить хорошую предпраздничную партию с теми двумя гадюками.
– О, «гадюки»! Вы слишком несправедливы к слабым женщинам.
– У вас есть основания щадить их, – соглашается американец. – Если бы не они, если бы не их дикие выходки, вы давно бы числились в графе покойников.
– Не огорчайтесь, – советую я, вставая. – Всему свое время. Всему и всем.
И мы медленно шествуем обратно, в наш тихий мирный квартал, где, может быть, сейчас эти женщины видят прекрасные и страшные сны, полные сияющих брильянтов и жутких кошмаров.
9
Розмари не спится. Она сидит на диване, на своем обычном месте, в своей обычной позе, скрестив голые ноги, и ее лицо с напряженным выражением обращено к двери, откуда появляюсь я.
– О Пьер! Как вы меня напугали!
– Не ждали?
– Весь вечер только тем и занимаюсь. И дико нервничаю. Мне все казалось, на вас снова напали… и, может быть, я вас больше не увижу.
Пять или шесть недокуренных сигарет, лежащих в пепельнице, подтверждают ее слова. Обычно она выкуривает такое количество за день.
– Зря вы беспокоитесь, милая. Каждый вечер покушения не совершают. Даже в нашем мирном Берне.
– Вы, Пьер, единственный человек, в ком я могу найти опору! Эта жалкая Виолета оказалась неблагодарной…
Я предупреждающе вскидываю руку, предлагая ей сменить пластинку, и без всякой связи спрашиваю:
– А
как там ваши друзья импрессионисты?
По-прежнему схватывают мгновения, или как это у них называется? Неуловимое и вечно переменчивое…
– В последнее время перемен хватает и тут, вокруг нас, – отвечает Розмари. – Жаль только, что все они не слишком приятны.
– Мы сами виноваты: не умеем радоваться жизни, –
глубокомысленно замечаю я. – А что, если нам на днях прогуляться в Женеву?
Она смотрит на меня удивленно, пытаясь расшифровать мой настойчивый взгляд, и отвечает:
– Почему бы нет? Хоть с папашей повидаюсь.
С «папашей Грабером», уточняю я мысленно и ухожу на кухню. Однако Розмари следует за мной, и, чувствуя, что ей не терпится сказать мне о чем-то, я, миновав кухню, выхожу через заднюю дверь в сад, заговорщически кивнув
Розмари.
– Что-то вы сегодня так странно себя ведете? – спрашивает Розмари, понизив голос. – И что означает эта ваша мимика? Неужели думаете, нас подслушивают?
– Уверен.
– И с каких пор?
– Вероятно, со дня смерти Пенефа. Положение заметно ухудшилось.
– А чем вызвана ваша поездка в Женеву?
– Не могу сказать, пока не выяснится одно важное обстоятельство.
– Опять я должна сходить с ума…
– Зачем? Давайте лучше полакомимся яичницей с ветчиной.
Отъезд происходит только в среду, рано утром, потому что лишь во вторник вечером я нахожу в тайнике «вольво»
лаконичное указание Борислава, и мне приходится битых два часа кружить по городу, пока я получаю наконец возможность оторваться от очередного прилипалы. Бэнтон сдержал слово: никто меня не трогает, но зато слежка не прекращается. Мне удается увернуться из-под наблюдения всего на несколько минут, потом снова, вполне сознательно, я суюсь в поле зрения моего «опекуна», чтобы не вызывать лишних подозрений.
Согласно народному поверью, среда тоже плохой день
– по тем соображениям, что находится как раз посередине недели. Но если обращать внимание на поверья, то понедельник еще хуже, не говоря уже о вторнике, дурная слава которого не нуждается в комментариях, а равным образом и о четверге, в особенности же о зловещей пятнице, так что невольно отдаешь предпочтение субботе и воскресенью, но это выходные дни.
Примирившись с нерадостным прогнозом, связанным со средой, я предлагаю Розмари отправиться на ее машине.
Конечно, ее красный «фольксваген» очень бросается в глаза, однако, может быть, именно это заставит преследователей поверить в мои добрые намерения. Надеяться на то, что тебе удастся раствориться в транспортном потоке в такой багровой машине – все равно что пытаться спрятать верблюда в стае гусей.
– Ваш «вольво» нуждается в ремонте? – спрашивает моя приятельница, пока я протираю переднее стекло «фольксвагена».
– Вовсе нет. Я даже боюсь, что в мое отсутствие его снабдили какой-нибудь лишней деталью.
– А где гарантия, что и мою букашку не удостоили того же внимания?
– Гарантии нет. Но кажется, в последнее время кое-кто перестал обращать на вас внимание, милая. Боюсь, и на
Флору тоже.
– В том числе и вы? – восклицает она с притворным удивлением.
– Вы прекрасно знаете: мой интерес напрочь привязан к одному-единственному объекту. Я не импрессионист.
Утро выдалось солнечное и обещает теплый день, что очень хорошо, а может, и не так уж хорошо – все будет зависеть от температуры. Я предоставляю Розмари вести «фольксваген», в конце концов, это ее машина, а не моя, но все же предупреждаю ее, чтобы без нужды не превышала скорость и вообще не создавала впечатления, будто мы стараемся убежать от чего-то.
Это «что-то» – его я достаточно отчетливо вижу в зеркале над ветровым стеклом – всего лишь черный «ситроен», элегантный, как лаковый башмачок, с показным безразличием движущийся за нами на некотором расстоянии.
– Это вас раздражает?. – тихо спрашивает Розмари, тоже заметившая черную машину.
– Первое время. Пока привыкаешь. А потом входит в привычку, и испытываешь обиду, если позади никого нет: словно тобой пренебрегли.
– Создается впечатление, что вы давно к этому привыкли.
– Не могу припомнить, с какого именно числа.
– Я вообще ничего не знаю о вашем прошлом, Пьер. В
тот вечер, когда я вас так ждала, мне вдруг пришло в голову, что если вы не вернетесь, то так и уйдете из моей жизни, не успев ничего о себе рассказать. Действительно странно: живешь с человеком долгие месяцы под одной крышей, спишь в одной постели и решительно ничего не знаешь о нем, о его прошлом, о детстве…
– Что вам рассказывать о моем детстве, когда его у меня не было, – отвечаю я небрежно. – Я подкидыш, выросший в приюте. Не то что вы – из зажиточной семьи.
– О, зажиточная семья! – с усмешкой бросает она. – Это все видимость, созданная стараниями Грабера. Зажиточная семья!.
Она нервно сигналит, чтобы забравшийся в левый ряд грузовик принял вправо. Потом сигналит снова и снова, пока тяжелая машина не спеша освобождает наконец проезд.
– Верно, квартал, в котором мы жили, был богатый, но мы богатыми никогда не были, отец сумел обзавестись маленькой чердачной квартирой с помощью своего шефа, владевшего восьмикомнатными апартаментами на втором этаже. Но за свою чердачную квартиру мы должны были как-то расплачиваться, и эта забота съедала все мысли и средства моего отца. К каким только хитроумным ходам он не прибегал: брал ссуду в одном банке, чтобы погасить в другом, оплачивал одну закладную, чтобы тут же связать себя другой. – Она на время замолкает, вперив взгляд в летящую навстречу асфальтовую ленту, потом произносит:
– В сущности, зачем я рассказываю все это…
– Если я недостоин вашего доверия, можете не рассказывать.
– Что за глупости! Просто не хочется вам досаждать.
Печальная история. Эти операции стали для моего отца делом жизни, а под конец он великодушно передал эстафету мне. Все это, говорил он, мы делаем для тебя, квартиренка останется тебе, и ты должна помнить: родители пожертвовали всем, чтобы у тебя была крыша над головой, много ли таких, которые могут похвалиться, что имеют собственную крышу над головой! Эта крыша досталась ему по милости его шефа, но услуги, оказываемые нам богачами, обычно стоят очень дорого! Вот и эта услуга поработила отца на всю жизнь; бедняга надеялся стать главным кассиром, и тогда все уладится, однако он так им и не стал до самой пенсии. А когда вышел на пенсию, операции по оплате квартиры легли на его плечи еще большим бременем, заботы и вечное напряжение до такой степени истощили его, что пневмония за два дня унесла беднягу в могилу.
Слушая историю Розмари, и впрямь весьма прозаическую, я рассеянно наблюдаю пролетающий мимо пейзаж, тоже весьма прозаичный, не имеющий ничего общего с открытками для туристов: голые холмы, в лоскутья искромсанные ржавыми изгородями, разрытые участки земли, на которых желтые экскаваторы черпают красноватую глину, скучные серые постройки и слепые боковые стены заводских зданий. В Швейцарии, как и во многих других местах, будничная реальность имеет мало общего с поэтическими представлениями, как не без оснований отметила простодушная Виолета.
– За эту крышу над головой, – слышится голос Розмари, – мне и самой пришлось расплачиваться, причем с самого детства. В классе, где я училась, были дети одних богачей, и они относились ко мне весьма пренебрежительно. Конечно, никому из них не приходило в голову пригласить меня в гости, но я от этого особенно не страдала. Меня больше донимало другое.
Хоть они относились ко мне пренебрежительно, но все же замечали, как я одета, а на мне всегда было все самое дешевенькое, что продавалось в магазинах «Мигро», тогда как все остальные дети одевались у «Бон Жени», поэтому меня они прозвали мисс Мигро, и я часто плакала от унижения – наедине, конечно, – но, когда жаловалась матери, что меня обзывают «мисс Мигро», и просила перевести меня в другую школу, мать говорила, что это для меня хорошая наука, чтобы я всегда помнила, где мое место, а отец гнул свое – какая польза, что ты пойдешь к беднякам, если человек может чему-то поучиться, то не у бедняков, а у богатых людей, а мать ему в ответ: ты уж лучше помалкивай, всю жизнь работаешь на богачей, и единственное, чему ты у них научился, – это считать их деньги.
– Не надо так сильно жать на газ, сбросьте немного скорость, – говорю я, заметив, что стрелка дрожит на ста тридцати и те, сзади, начинают нервничать и тоже жмут вовсю.
– Верно, я увлеклась, – тихо отвечает Розмари и отпускает педаль. – Стоит мне разволноваться – и я несусь как угорелая…
– Значит, не перевели вас в другую школу?
– Нет. Но однажды в нашем классе появилась новая девочка, она тоже была не из богатых, хотя одевалась не у
«Мигро», и мы с ней постепенно подружились. Возможно,
«подружились» – слишком сильно сказано, потому что она была очень неразговорчива, держалась замкнуто, но иногда мы с ней гуляли вместе и часто ходили в картинную галерею «Пти пале» – ее отец служил там администратором, – и для меня был настоящий праздник бродить по этим светлым и тихим залам и рассматривать выставленные там прекрасные картины, ведь в те годы я не была избалована, у нас дома даже телевизора не было – отец все экономил, чтобы платить по закладным, – да и в кино я бывала, только когда нас водили всем классом. Полин, знакомая с сокровищами галереи, рассказывала мне о некоторых, про то, как
Зевс явился к Данае в виде золотого дождя, да про то, как
Сусанну подстерегали сладострастные старцы, но больше всего меня привлекали те картины, которые не нуждались в пояснениях, особенно пейзажи, и особенно полотна импрессионистов – может быть, своими странными красками, потому что от этих красок самое обыденное становилось каким-то праздничным, – и я могла до самозабвения любоваться какой-нибудь рекой, лесом, небом, мысленно уносилась в дальние дали, испытывала чувство покоя и умиротворения – знаете, словно лежишь в высокой траве и ласковый ветерок тихо веет, а ты всматриваешься в облачно-солнечные просторы неба.
Впереди, по правую сторону, маячили бензоколонка и ярко-желтый навес придорожного кафе.
– Я бы выпила кофе, – говорит Розмари, сбавляя скорость.
– Неплохая идея, – киваю я и все же посматриваю на часы: немногим больше девяти, времени у нас достаточно.
Мы садимся за столик на террасе. Место открытое, и никому не придет в голову, что тут замышляется нечто большее, нежели мирный завтрак. Вероятно, того же мнения и те, что в «ситроене», паркующемся за бензоколонкой.
– Значит, с тех пор вы посвятили себя искусству? –
возобновляю я разговор, когда нам приносят кофе со сливками и рогалики.
– Да, но это было всего лишь детское увлечение, не имевшее никаких последствий, – уточняет Розмари, помешивая кофе. – Иногда Полин давала мне с собой какой-нибудь альбом своего отца, и дома, рассматривая его, я постепенно узнавала историю каждого из этих художников, меня до слез растрогала печальная судьба ван Гога, и
Гогена, и бедного Сислея, и я все больше мечтала заняться делом, которому посвятил себя отец Полин, а так как Полин мне говорила, что для этого надо знать историю искусства, я постепенно свыклась с мыслью, что мой путь окончательно определился – я стану искусствоведом.
Только когда пришло время получать диплом об окончании гимназии и я поделилась своей мечтой с отцом, он заявил, что это чистое ребячество, что у него нет никаких средств содержать меня долгие годы, пока я буду учиться в университете, что закладные душат его как никогда и остается единственный выход – я должна поступить на курсы секретарш, по возможности скорее окончить их, чтобы как-то оплатить эту крышу над моей головой, под которой мне предстоит жить всю жизнь.
Она кладет на стол ложечку, сообразив наконец, что увлеклась, подливает сливок в кофе и погружает в него кончик рогалика. Затем откусывает его и отпивает кофе.
– Но вы же понимаете, Пьер, человеку нелегко расстаться со своей мечтой, особенно если это мечта его юности, самая заветная. Я сказала отцу, что буду самостоятельно добывать себе средства, буду учиться и работать одновременно, а он мне в ответ: что ж, дело твое, иди учись, раз тебе так хочется, а тем временем мы с матерью будем торговать цветами на улице, чтобы платить по закладным. Он был уже в предпенсионном возрасте, и рассчитывать на его повышение не имело смысла, дело и вправду могло дойти до торговли цветами, и, представив себе, как они с матерью стоят, словно нищие, где-нибудь на углу рю Монблан, я чуть с ума не сошла, мне пришлось отказаться от мысли об университете и поступить на курсы машинописи и стенографии. Этим и кончилась сказка.
– Первая сказка, – уточняю я – Чтобы началась вторая.
– Какая «вторая»? – спрашивает Розмари.
– Да эта, про драгоценные камни.
– Верно. Возможно, вы шутите, но так сложилось, что красота вечно искушает меня. Камни восхищали меня, когда я стала работать в фирме… Эти кусочки затвердевшего света… самые чистые цвета и самые звучные… Но что вам рассказывать о красоте, если вы к ней не имеете никакого отношения, если для вас она не существует даже в денежном измерении? Тогда-то я узнала не только как делаются камни, но и как делаются деньги. Бразильский бедняк лишает земные недра тысячелетних кристаллов, а его грабит владелец шахты, которого в свою очередь грабит скупщик, сам он становится жертвой фирмача, фирмач не остается в долгу перед оптовиком, оптовик перед ювелиром, а главный потерпевший этой цепной реакции, конечно, покупатель – он покрывает все расходы.
– Разделение вины…
– Да, и такое разделение, что виновных не остается.
Каждый грабит сообразно своему положению, грабит как может, и в этом проявляется жизнь общества, его дыхание, кровообращение, и я не могу понять, какой нам с вами резон провозглашать себя единственно честными людьми в этом мире всеобщего грабежа. Лично я на такую честь не претендую.
– Я вас прекрасно понимаю, – вторгаюсь я в ее монолог. – Но вы тоже должны меня понять: когда мы приедем в
Женеву, мне понадобится во что бы то ни стало ускользнуть от этих, что позади нас, чтобы сделать одно важное дело…
– Какое дело? – подозрительно спрашивает Розмари.
– Одно дело, непосредственно связанное с вашим интересом к камням. Мне кажется, я нащупал путь к месту, где таятся брильянты.
– О Пьер!..
Она пытливо смотрит на меня своими темными глазами, и в их выражении надежда явно превозмогает недоверие.
– Вот видите, я ничего от вас не скрываю. Будь у меня желание что-то скрыть от вас, я бы мог поехать в Женеву один.
– Я вам верю… Мне бы хотелось вам верить…
– В таком случае вы остановите машину перед домом
Грабера и подскажете, как мне пройти по дворам.
– Но ведь это означает, что я расконспирирую себя…
– С этим вы давно справились, – успокаиваю я ее.
– Думаете, что кто-то…
– Не думаю, а знаю. И не «кто-то», а Ральф Бэнтон.
– Ральф Бэнтон? Не может быть!
– Вы однажды сказали, что в тихом омуте…
– Я имела в виду совсем другое, – торопится она возразить.
– Что именно?
– То, что он извращенный тип. И посещает проституток у вокзала… Что иметь дело с порядочными женщинами едва ли способен.
– Может, ему просто не удается узреть тонкую разницу между теми и другими.
– Циник! – выстреливает она.
Проезжаем Лозанну, хотя в последнее время Лозанна все больше привлекает мое любопытство, и к одиннадцати мы в Женеве. Розмари едет медленно, в строгом соответствии с инструкцией, и дает полную возможность «ситроену» следовать за нами. Когда мы сворачиваем на небольшую улицу, где находится предприятие Грабера,
«ситроен» останавливается в самом начале ее, чтобы не уткнуться нам прямо в хвост. Когда мы с Розмари входим в парадную дверь, она поднимается по лестнице наверх, а я незаметно пробираюсь к черному ходу и через двор попадаю в соседний проулок.
Чтобы нарваться на мою дорогую Флору.
– Предатель! – бросает она ледяным тоном.
– Любезности потом, – тихо говорю я. – У тебя есть машина?
И за могучим корпусом немки тотчас замечаю стоящий напротив «опель».
– Бежим, – предлагаю я и тороплюсь к машине.
– Куда? А Бруннер? – спрашивает Флора, но покорно следует за мной, быть может, опасаясь, что я ускользну от нее.
– Бруннер, видимо, караулит с фасадной стороны, –
говорю я и готовлюсь занять место водителя.
– Да, он там, в кафе, – вносит ясность Флора и каким-то чудом успевает опередить меня.
– Раз так, езжай на Лозанну.
– А чего это ты мною командуешь? – недоумевает она, пуская двигатель. – Разве я могу так оставить Бруннера?
– Бруннер не ребенок. Если мы пойдем его искать, все пропало. С той стороны люди Бэнтона.
Она резко трогается с места, молча выезжает на набережную, сворачивает на мост Монблан и только после этого спрашивает: – Люди Бэнтона?
– Да, твоего милого Бэнтона, которого ты пыталась охмурить.
– Стараться охмурить кого бы то ни было не в моем характере, Пьер, – с достоинством возражает Флора. –
Мужчины и без того постоянно липнут ко мне.
– Только Бэнтон почему-то к тебе липнуть не стал, а прилип ко мне.
– Это человек Кенига, не так ли?
– Наоборот, если ты хочешь знать.
– Тогда как ты весь к услугам Грабера и Розмари.
– Я давно оказываю услуги Розмари, но только как хозяин. Неужто не видишь, что она мне нужна в качестве ширмы? А представилась возможность уйти черным ходом
– и я тут же ее оставил.
– Слежу за вами с самого Берна.
– Ну раз больше делать нечего…
Миновав мост, она сворачивает направо и едет по набережной.
– А сейчас, милая, покрепче жми на железку своей нежной ножкой.
– Пьер, ты же знаешь, я терпеть не могу, когда мною командуют, – ворчит она, но повинуется.
Машина стремительно несется по бульвару, достаточно свободному в этот час, потом сворачивает влево, и несколько минут спустя мы на шоссе, ведущем в Лозанну.
– А что, собственно, нам делать в Лозанне?
– То, что я обещал тебе и Бруннеру.
– Разве брильянты в Лозанне?
– Брильянты не в Лозанне, но путь к ним ведет через
Лозанну.
– Я не люблю пустой болтовни, ты это знаешь. Говори ясно, мой мальчик.
– Яснее уже некуда. Я должен встретиться с одним человеком и получить от него кое-какие сведения. Сведения неполные, однако в сочетании с другими картина предстанет полной.
– Какие еще сведения? Что ты мне морочишь голову? –
восклицает обычно спокойная Флора, мои туманные намеки выводят ее из себя.
Ужасная женщина. И причиняет мне сейчас столько неудобств. Но как я мог предвидеть эту встречу? Раз уж нарвался, деваться некуда. Придется весь день таскать ее с собой. Кроме… Чего?
– Чутье подсказывает мне, что в какой-то момент ближайших суток я смогу изречь магическую фразу «Сезам,
откройся!», – пробую я успокоить Флору. – Тогда-то ты поймешь, что не зря я морочил тебе голову.
– Имей в виду, ты можешь изрекать, что тебе заблагорассудится, но только в моем присутствии, – предупреждает Флора. – Отныне мы неразлучны.
– Ну-ка повтори эти слова, мое солнышко! Мне почудилось, будто я слышу райскую музыку.
– Не распускай слюни, Пьер! Имей в виду, я говорю на полном серьезе.
У меня нет оснований сомневаться. Я обвожу унылым взглядом уже знакомый пейзаж – берега голубого Женевского озера, в последнее время заметно помутневшего, зеленые парки, среди которых ютятся белые виллы и светлое небо, – но на душе от этого светлее не становится.
– У тебя, дорогая, слишком коммерческий взгляд на жизнь. До такой степени коммерческий, что, когда я говорю «любовь», ты подразумеваешь «деньги».
Но Флору, как видно, нисколько не обижают мои слова.
Напротив.
– Самое главное в этом мире, мой мальчик, – уметь делать деньги. Но к этому надо добавить: для всякого дела нужен инструмент. Для этого – тоже.
– Видимо, ты и меня рассматриваешь как инструмент.
– Почему бы нет? Лишь бы годился…
– Если меня не обманывает зрение, природа довольно щедро одарила тебя… инструментом.
– Двумя, – уточняет она. – Но второй не из разряда телесных атрибутов, и он гораздо важнее – это разум, мой мальчик. А то, что ты имеешь в виду, ценится только в публичных домах.
– Почему? Недавно я читал, в Америке какая-то феноменальная женщина ежедневно получает десятки писем с предложениями вступить в брак. Верно, она сантиметров на двадцать выше тебя да и весом килограммов на сто превзошла, но и тобой грех пренебречь. Вероятно, мужчины при виде тебя просто обалдевают.
– Я же тебе говорила! Липнут как мухи. Несмотря на твои гнусные намеки. Обалдевают, это правда. Но им лишь бы разок поужинать со мной наедине, и больше чем на простенький браслетик в две тысячи их не хватает. Мне, чтобы заработать две тысячи, проще раздеться в каком-нибудь притоне в Сан-Паулу. Ты, пожалуйста, не путай меня с любой другой женщиной.
– Ладно, – говорю. – Не будем пока о твоей фигуре и о твоих габаритах. Обратимся к интеллекту. Разве тебе есть на что жаловаться?
– Отнюдь, но меня заботит другое. Чтобы делать деньги, надо иметь еще один инструмент…
– Опять же деньги.
– Именно. Нужен капитал.
– Держу пари, что в эту минуту в маленькой старой
Европе двести – триста фирм на грани банкротства, хотя, когда они начинали, и деньги были у них немалые, и мараковали они, должно быть, неплохо.
– Раз они на грани банкротства, значит, чего-то им определенно недоставало, – невозмутимо возражает Флора. –
И скорее всего именно сообразительности. Каждый дурак, способный копить и наживать, воображает, будто у него ума палата.
– Если под словом «интеллект» ты подразумеваешь свет гениальности…
– Моя соседка фрау Пульфер, – говорит Флора, не обращая внимания на чушь, которую я несу, – нажила состояние на мизерном наследстве в двадцать тысяч плюс сообразительность. Могу запросто это подтвердить, потому что не так уж давно заправляла в одной из ее лавчонок.
– Лавчонок по продаже чего?
– Не брильянтов. И не парижских туалетов. А самых банальных вещей: трубок, зажигалок, пепельниц, сигарет…
– Что можно выгадать на пачке сигарет?
– Мелочь, конечно. Но если ты за день сбываешь тысячи пачек… Когда трубка стоимостью в пятьсот марок приносит тебе двести марок чистой прибыли и если ты имеешь понятие, где открыть лавчонку и как ее обставить…
– Это и есть твоя мечта?
– Торговать табаком? Ты опять путаешь меня с кем-то, Пьер. То я для тебя американский феномен, то фрау
Пульфер.
– Вот там, сразу за перекрестком, небольшая развилка, – говорю я. – Свернешь направо и остановишься.
– Мы же едем в Лозанну?
– Свернешь направо и остановишься, – повторяю я.
– Ага, поняла! Ну и хитрец…
Мои наблюдения в зеркало заднего вида пока ничего особенного не дали, однако немудрено и ошибиться, особенно если у того, кто тащится следом, чуть больше интеллекта, как выражается Флора. Так что невредно пропустить идущий за нами поток машин – а вдруг кто-нибудь от самой Женевы нас сопровождает.
Мы остановились на небольшом проселке, скрытом тенистыми деревьями. Заметить нас с шоссе не так просто, зато мы можем преспокойно вести наблюдение. И хотя мы успели выкурить по сигарете, ничего подозрительного на шоссе я не обнаружил.
– Выруливай, – говорю. – И остановись где-нибудь у вокзала. Да по возможности не на виду у всего города.
– Видали, как он мною командует! – бормочет Флора, изумленная моим нахальством.
Однако выруливает на шоссе и десять минут спустя останавливается – в строгом соответствии с указаниями –
на глухой улочке позади вокзала.
Мы входим в отель «Терминюс».
– Господин и госпожа Лоран, – сообщаю человеку за окошком регистратуры.
Человек разглядывает нас с видимым интересом, в особенности, конечно, Флору.
– На сколько дней?
– О, только на один вечер, – торопится предупредить моя дама, хотя ее информация в корне неверна: мы и до вечера не собираемся оставаться.
Человек подает мне ключ, велит слуге проводить нас и сам все так же взглядом провожает Флору до лифта.
Пока моя временная супруга освежается под душем, я делаю два телефонных звонка, стараясь не перекрывать своим голосом шум льющейся из крана воды. Сперва я звоню в авиакомпанию и прошу связать меня с господином
Спрингом. Опять неосторожность с моей стороны, но, когда до финиша осталось не так много, а обстоятельства складываются не лучшим образом, осторожничать не приходится.
– Я бы хотел спросить… – говорю в трубку.
– Да?
Смысл вопросительной интонации вполне ясен, по крайней мере для меня: Борислав сумел все же отправить в
Центр вынутые из кассеты досье. Торжествующе вешаю трубку – прервали, дескать, окаянные.
– Кому ты звонишь, мой мальчик? – Флора высовывает из ванной мокрое лицо.
– Пытаюсь связаться с тем человеком, помнишь, я тебе говорил…
Она не возражает, но на всякий случай забывает закрыть дверь. Важнейшая часть операции закончена. Теперь можно отдохнуть. И продолжать без того гнетущего чувства, будто играешь на средства, взятые из государственной казны.
Набираю другой номер. Флора, конечно, закрыла кран, чтобы лучше слышать.
– Мосье Арон?.. Это Лоран, вы, должно быть, слышали обо мне… Да-да, было бы очень приятно. Где бы вы предложили встретиться? Словом, где можно хорошо поесть? Я, признаться, плохо знаю ваш город… Да, да… Чудесно!.. Ровно в час…
– Надо было ему сказать, что приедешь с женой, – напоминает Флора.
– Он заметит тебя и без предупреждения. Но боюсь, твой приход может все испортить…
Какое-то время мы спорим: Флора горит желанием присутствовать на предстоящей встрече, однако мысль, что ее любопытство может погубить все дело, смиряет ее.
– Хорошо, мой мальчик, – уступает она в конце концов. – Послушаюсь тебя и на этот раз, хоть я терпеть не могу, когда мною командуют. Но не воображай, что я предоставляю тебе полную свободу. Я буду в том же зале, только за другим столом. И постарайся распрощаться с этим Ароном внутри помещения, потому что на улице тебя будет ждать твоя крошка Флора. Надеюсь, ты запомнил: отныне мы неразлучны!
Ужасная женщина.
В ресторан «Два голубя» мы с Флорой входим вместе, но она располагается за отдельным столиком возле окна, что побуждает меня занять место в противоположном углу.
Народу здесь немного: сегодня рабочий день, да и цены тут дай бог.
Моя дама бросает на меня взгляд, полный укоризны, а я прикидываюсь рассеянным и время от времени посматриваю на входную дверь. Дистанция между нашими столиками, видно, не нравится Флоре. Пускай. Не хватало еще, чтоб она сидела где-нибудь поблизости и подслушивала.
Но вот в зале появляется седой человечек в сером костюме, он озирается по сторонам – вероятно, пытается кого-то найти. Я решаюсь помочь ему и, приподнявшись, взглядом приглашаю к себе.
– Мосье Арон?
– Мосье Лоран?
Предоставляю гостю самому ознакомиться с меню. Для мосье Арона это, вероятно, необычный случай – прийти в такой ресторан и иметь возможность удовлетворить свои гастрономические вожделения. Стоит ли уточнять, что они сосредоточены на самых дорогих блюдах, но тут уж я достаточно натренирован – школа моего Бенато.
Пока гость изучает меню, я окидываю беглым взглядом его самого. Многолетний канцелярский труд сделал этого человека немного сутулым. Большой горбатый нос свисает вниз, как будто все годы вместе с хозяином усердно всматривался в бумаги. Маленькие влажные глаза вооружены очками с толстенными стеклами, которые он снимает только затем, чтобы заменить другими, для дальнего расстояния. В ходе обеда я имею удовольствие убедиться, что его постоянное внимание к оптике не ограничивается сменой очков, а сказывается еще и в том, что он постоянно двигает их то вперед, то назад, по широкой переносице, весьма удобной для таких операций.
Серый костюм гостя выглядит в общем прилично, однако, если посмотреть более придирчиво, нетрудно заметить, что он уже на грани приличия: все «невралгические точки» – локти, спина и, вероятно, другие места – достаточно потерты. Подобные следы заметного упадка видны на сорочке, вышедшем из моды галстуке и ботинках. Но если у вас закрадывается мысль, что приметы обветшалости свойственны также и психике мосье Арона, то вы будете неприятно удивлены: он нисколько не утратил своих духовных способностей, особенно ту из них, которую принято считать самой необходимой, – сообразительность.
В этом я убеждаюсь с первых же слов, когда метрдотель удаляется, чтобы сделать необходимые распоряжения.
– Ваш друг довольно подробно разъяснил мне, куда направлены ваши интересы, – говорит мосье Арон, совершенно сознательно переступая досадное предисловие вроде: «Нравится ли вам наш город?» да «Какое впечатление произвел на вас кафедральный собор?»
– Я очень рад. Это позволит нам сэкономить время.
– Не знаю… Не уверен… – осторожно возражает гость. – Должен вам сказать, у меня возникли некоторые сомнения. Я имею в виду профессиональную тайну и прочее. Мы люди старого поколения, мосье Лоран…
– Именно это внушает мне доверие, – спешу я пощекотать его самолюбие. – Старое поколение не то что новое.
Но щекотка, как видно, не оказывает желаемого действия.
– Приятно слышать. Однако, может быть, именно этим и вызваны мои сомнения.
– Что вас так смущает? – стараюсь его подбодрить. –
Вам скоро на пенсию.
– Да. Это еще одно основание проявлять осмотрительность.
Как бы в подтверждение сказанного он сменяет очки для чтения другими, позволяющими видеть дальше, только взгляд его обращен не на меня, а скользит мимо, туда, где сидит Флора. Словом, Сусанна и сладострастные старцы, как говорит моя квартирантка.
– Ничто ей не грозит, вашей пенсии, – продолжаю я успокаивать гостя. – В лучшем случае что-нибудь прибавится к ней.
– Что-нибудь… – недоверчиво вздыхает мосье Арон и снова предельно сосредоточивается. – Это ваше «что-нибудь» мне ничего не говорит. Люди моего поколения привыкли выражаться более определенно.
– Надеюсь, единица с тремя нулями звучит достаточно определенно?
– Да, но и весьма обескураживающе. Как вам известно, единица – самая маленькая из всех возможных цифр.
– А нули позади нее…
– Нули есть нули, без них, конечно, не обойтись.
Он, вероятно, собирается выдать еще какое-нибудь оскорбление в адрес единицы, но в этот момент кельнер приносит для мосье Арона черную икру, а мне – заурядные ломтики копченого окорока, потому что, если один из команды идет на безоглядное расточительство, другому приходится балансировать на грани скупости.
Пока мы расправляемся с закуской, кельнер снова начинает суетиться возле нашего стола, вооруженный всякими спиртовками и сковородками, чтобы закончить у нас на глазах сложное приготовление основного блюда. Блюдо это, говоря между нами, кусок обычной телятины, приправленный какими-то там изысканными соусами, а в качестве гарнира кладут грибы, мелкие кусочки мяса и не помню что еще – и все это только для того, чтобы пришлепнуть к простому блюду какое-нибудь диковинное название и заломить невероятную цену.
Наконец кельнер подносит нам в строгом соответствии с ритуалом фирменную достопримечательность и прохаживается в сторонке, что позволяет мне вернуться к прерванной беседе.
– А могу ли я знать, как вы сами представляете интересующую нас цифру?
Гость методично дожевывает ломтик филе, добавляет для вкуса грибочек, отпивает «бордо» девятьсот пятьдесят какого-то там года и лишь после этого отвечает:
– Я ее представляю как нечто действительно способное толкнуть разумного человека на риск…
– Но тут вообще нет риска.
– Вы так считаете? – укоризненно качает головой мосье
Арон. – Для вас, молодых, существует лишь один риск –
тюрьма. А запятнанное достоинство? А попранная честь?
Раз в ход пошли такие громкие слова, значит, цена будет изрядная. Дети и те знают, что честь и достоинство дешево не продаются.
Пускай, думаю, гость сперва насытится как следует да выпьет еще два-три бокала вина, может, тогда станет сговорчивей. Старик действительно оживляется, но причина не столько во мне, сколько во Флоре, а та, как бы почувствовав, что на нее обращают внимание, вызывающе закинула ногу на ногу, оголив свои импозантные бедра, и с равнодушным видом курит ту вкусную сигарету, которая венчает обед и с которой так приятно кофейничать.
– Мне кажется, эту молодую даму я вижу впервые… –
бормочет мосье Арон, меняя, уж не знаю в который раз, свои очки.
Он произносит эту фразу таким тоном, словно является завсегдатаем «Двух голубей» и со всеми здешними посетителями на короткой ноге. Я не считаю нужным отвечать, поскольку я здесь человек случайный и у меня, естественно, нет оснований быть знакомым с дамой.
– Я так и не услышал от вас, как вы сами представляете себе цифру, – пробую напомнить ему во время кофе.
– Мое представление, мосье Лоран, основательно тяготеет к семерке. Говорят, будто семь – еврейское число, но никуда не денешься: я еврей по отцу, так что для меня это число в какой-то мере вопрос национальной гордости.
– Если не ошибаюсь, в Библии нередко встречается и цифра три, – пытаюсь я возразить.
Однако он решительно качает головой: в Библии, как и в любой большой книге, могут встречаться самые различные цифры, однако всему миру известно, что истинно еврейское число – семь, и не случайно поэтому он не обращается к числу девять, которое тоже почитается в Священном писании.
Наконец после долгих дружеских пререканий мы останавливаемся на числе довольно-таки безличном, но удобном для нас обоих – пять.
– Вы только не забывайте, что в цифру пять входит и ключ, – спешу я предупредить собеседника.
– Ключ? Какой ключ? – удивляется мосье Арон и даже приподнимает очки, чтобы получше разглядеть меня и убедиться, что собеседника не хватил солнечный удар. Он так удивляется, как будто все это время мы толковали не о сооружениях с замками и ключами, а об охране окружающей среды.
– Ключ от сейфа, – наивно поясняю я.
Мосье Арон не склонен скрывать, что мои слова звучат действительно наивно, потому что к сейфу имеет отношение совсем другая фирма, где у него есть один знакомый, правда, человек исключительно трудный, и потом, дело это очень старое, и поиски дубликата будут сопряжены с немалыми трудностями, а раз так, то о пятерке не может быть и речи, и даже кабалистическое число семь довольно мизерно, так что нам следует прямо и решительно переходить к девятке.
Флора издали следит за нашим оживленным разговором, она уже сама не своя от этого оживления и от того, что мы, очевидно, буксуем на месте; при иных обстоятельствах я, наверное, пригласил бы ее к нам, чтобы старик мог увидеть ее поближе и размяк малость, но в данный момент я даже думать об этом не решаюсь: это означало бы впустить волка в кошару.
Наконец-то после долгого торга мы сошлись на компромиссном решении, которое, как и следовало ожидать, выражается именно семеркой – это еврейское число, после того как на него было израсходовано столько слюны, мы обнимаем с чувством облегчения.
Оказывается, вопреки невероятным трудностям, с которыми связаны поиски ключа, он может быть доставлен уже во второй половине дня, самое позднее – к шести часам вечера. Я даже подозреваю, что он и сейчас находится в одном из карманов гостя, и если мосье Арон не пожелал его вытащить, то лишь с единственной целью – вытрясти из меня дополнительно пару тысчонок.
– Достоинство тайника, – начинает наконец старик выкладывать свою информацию, – состоит в том, что он не фигурирует в первоначальном плане постройки и, следовательно, не может быть обнаружен при рассмотрении плана. Имейте в виду, господин, это железобетонный бункер, врытый глубоко в землю и непосредственно примыкающий к зданию. Этот бункер – плод горячего воображения бывшего владельца дома и стоил ему немалых денег. Хозяин, как видно, опасался, что даже нейтральная
Швейцария может стать жертвой бомбардировок – сооружение относится именно к периоду войны. Несколько лет спустя новый владелец, мосье Гораноф, решает использовать убежище для других целей, и работа по его реконструкции была возложена на нашу фирму. Должен вам сказать без всякого пристрастия, выполнена она была поистине образцово, уж я в этом разбираюсь. Монолитная железобетонная стена между бункером и подвалом – поначалу непроницаемая – приобрела способность перемещаться по невидимым рельсам и приводиться в действие нажатием на кнопку. Вы скажете: а где же кнопка? Для кнопки тоже сумели найти кардинальное решение: она спрятана в одном из кранов парового отопления. Удалив ручку крана, нажимаешь на кнопку, покоящуюся внутри, и готово – тяжелая массивная стена, словно по мановению волшебной палочки, сдвигается в сторону, и перед тобой открывается внутреннее помещение бункера. Гениально, не правда ли?
– А сейф?
– О, сейф никакой загадки не представляет, если у тебя в кармане ключ. Но весь вопрос в том, как добраться до сейфа или, если угодно, как оградить его от посторонних.
Именно этот вопрос наша фирма решила самым кардинальным образом!
Мосье Арон смотрит на меня с видом победителя, как будто все то, о чем он рассказал, – его личная заслуга.
Потом его взгляд, скользнув через мое плечо, снижается, чтобы опуститься, вероятно, на объемистые бедра Флоры.
Но очень скоро он опускается еще ниже, возвращается к нашему столу, мосье Арон даже очки спешно меняет, потому что, несмотря на близорукость, он видит какие-то оранжевые листочки, сложенные вдвое и каким-то таинственным образом оказавшиеся возле его руки. Мосье
Арон не такой неопытный человек, чтобы считать их, хотя это не мешает ему тут же безошибочно определить:
– Думаю, здесь три пятьсот.
– Совершенно точно.
– Значит, вы должны восполнить недостающее, чтобы стало пять.
– Однако без ключа ваши сведения не стоят ломаного гроша.
– А чего стоил бы какой-то голый ключ без моих сведений? – И, заметив мое мучительное колебание, он вносит ясность: – Ключ при всех обстоятельствах ваш.
– Ладно, – вздыхаю я и достаю банкноты, которые приготовил заранее. Но, прежде чем сунуть их ему под руку, я требую: – Укажите точно место и время встречи.
– Удобнее всего у меня дома. В шесть.
– Раньше никак нельзя?
– Ну, на пятнадцать минут раньше. Дело в том, что в пять я ухожу с работы.
Я сую ему деньги и одновременно беру его визитную карточку с адресом. Опасаюсь только, что при всем моем старании сделать это незаметно мой жест не ускользнул от внимания Флоры.
– Итак, без пятнадцати шесть я у вас, – повторяю я во избежание возможных недоразумений. – И если в момент расставания вы услышите от меня что-нибудь еще, то имейте в виду, что это я так, для отвода глаз.
– Я кое-что понимаю в этих вещах, – с достоинством кивает мосье Арон.
Я расплачиваюсь, затем мы с гостем по старому мужскому обычаю заходим на минутку в туалет. Мне представляется удобный случай прочитать визитную карточку; запомнив адрес, я рву ее в клочки и спускаю воду. С такой женщиной никогда не знаешь, что тебя…
Когда мы выходим на улицу, дама, сидевшая за дальним столиком, по странному совпадению тоже выходит следом за нами, сопровождаемая двумя стариками британского вида. Ох эти старцы. И эта Сусанна.
– Итак, в пять часов перед «Контис», – доверительно, но вполне отчетливо произношу я.
– Да, перед «Контис»! – негромко отвечает мосье Арон, бросая в мою сторону заговорщический взгляд.
– Ты мне скажешь в конце концов, что это за тип? –
нетерпеливо спрашивает Флора, как только мы трогаемся в сторону отеля.
– Не обременяй себя пустяками, – внушаю я ей. – Какая тебе разница, кто он, лишь бы дело шло на лад.
– В таком случае я пойду за ним и сама до всего докопаюсь. Он так пялил на меня глаза, что достаточно одного моего слова…
Не закончив, она круто поворачивает в обратную сторону, и я нисколько не сомневаюсь, что при ее нахальстве ей ничего не стоит увязаться за ним.
– Довольно ребячеств, – рычу я и хватаю ее за руку. –
Ты же сама слышала – зовут его Арон, он служит в «Нидегер и Пробст».
– А зачем он тебе понадобился? – продолжает она расспрашивать, неохотно идя со мной.
– Чтобы заполучить ключ, понимаешь, ключом он должен меня снабдить! Теперь ты удовлетворена?
– А где замок? – настаивает на своем эта невозможная женщина.
– Выяснится после обеда. Необходимые сведения плюс ключ – в этом и состоит значение сделки.
– И все это время вы говорили только о ключе? – любопытствует Флора.
– Ключ стоит денег, милая. И немалых денег.
– Видела, как ты сунул что-то в его рукав. Не слепая.
Мы идем молча, потом она снова спрашивает.
– Но все же ты должен знать хотя бы приблизительно, где находится замок… В вилле Горанофа или еще где?
– Естественно, в вилле Горанофа.
– А зачем он заказывал это устройство аж в Лозанне?
– Затем, что, наверно, имел в виду людей вроде нас с тобой. И хотел всячески затруднить их задачу. Можешь мне поверить, я потратил немало времени, чтоб нащупать этого Арона.
Наконец мы возвращаемся в отель. Сняв пиджак, я вытягиваюсь на широченной супружеской кровати, просто так, чтобы немного расслабить мышцы, и на всякий случай незаметно сую под подушку маленький лечебный препарат. Флора тоже собирается малость отдохнуть и, чтобы не измять свое чудесное летнее платье, которое так подчеркивает ее могучие формы, предусмотрительно снимает его, стоя перед зеркалом.
– При виде этого прозрачного белья у меня создается впечатление, что ты собралась не в деловую поездку, а на стриптиз, – отваживаюсь заметить ей.
– Деловая женщина всегда должна быть готова к стриптизу, дорогой мой. Не исключено ведь, что он может оказаться и принудительным, – спокойно отвечает Флора.
– Принудительным? В твоем случае? Не смеши меня.
Не считая нужным отвечать мне, она продолжает вертеться перед зеркалом – вероятно, не столько осматривая себя, сколько давая мне возможность полюбоваться ею.
Что я и делаю, чтобы не обидеть ее.
Затем она идет ко мне походкой соблазнительницы из старых фильмов, останавливается и говорит:
– Ты бы разделся, чтобы не измять брюки.
Я подчиняюсь, и все с той же целью – чтобы ее не обидеть. Потом, как-то непроизвольно, создается ситуация, которую иные целомудренные авторы обозначают одним или несколькими рядами точек. И мы расслабляемся, чтоб чуток подремать, ведь до пяти еще далеко, да и «Контис»
где-то совсем рядом. У меня, разумеется, нет ни малейшего намерения вздремнуть, и нервы мои слишком напряжены, так что я просто слежу, когда моя «супруга» заснет наконец, но она никак не засыпает, ворочается с боку на бок, и я с трепетом ожидаю, что в один прекрасный миг кровать под нами рухнет, сокрушенная беспокойной красавицей.
– Ты уже потратил на эту операцию столько денег, Пьер… – слышится сонный голос Флоры.
– Что верно, то верно, – бормочу в ответ.
– …И потерял столько времени…
– Что верно, то верно, – повторяю я.
– …с единственной целью – чтобы меня осчастливить, не правда ли, мой мальчик?
– Грубовато работаешь, милая. Ты прекрасно знаешь, это не единственная цель. Но я действительно смогу тебя осчастливить. И в силу простого обстоятельства.
– Какого именно? – спрашивает она, но сонливость ее уже рассеялась.
– Там, где находится то, что ты ищешь, лежит и нечто другое, интересующее меня. Предельно просто, верно?
– А что это такое – «нечто другое», Пьер?
– Бумаги, документы – словом, ерунда, не стоящая выеденного яйца.
– И ты готов пожертвовать брильянтами ради ерунды?
– Именно: готов. Как бы невероятно это тебе ни казалось. Неужто ты не допускаешь, что есть вещи важнее денег?
– Нет. Не могу я допустить подобной глупости, – сознается она. Но вот ее голос снова делается сонным: –
Впрочем, все зависит от точки зрения. Ты, наверно, из тех, кто, уйдя с головой в политику, бросают бомбы и стреляются…
Чтобы она могла спокойно уснуть, я не отвечаю на ее слова и мысленно сосредоточиваюсь на том, что меня ждет.
Попросту совещаюсь сам с собой, чтобы стала ясней перспектива. Не знаю, как долго длится совещание, но у меня такое чувство, что Флора уже совсем притихла, и я осторожно просовываю руку под подушку, чтобы добраться до лечебного препарата. Должно быть, ампулка закатилась слишком далеко, раз я не могу нашарить ее рукой. И когда мне кажется, что она уже где-то совсем рядом, надо мной неожиданно нависают пышные груди Флоры.
– Ты спишь, мой мальчик?
Эти слова и эти груди – последнее, что я слышал и видел, прежде чем погрузиться в неясный и странный наркотический сон.
Просыпаюсь я с острой головной болью и отвратительной горечью во рту. Однако мне не сразу удается сообразить, что я проснулся, потому что в голове все еще витают бессвязные образы, и я даже не в состоянии понять,
как и почему я оказался в этой незнакомой квартире. Потом наконец я догадываюсь, что это, должно быть, отель
«Терминюс», и я вижу над своим лицом покачивающиеся пышные груди Флоры и слышу ее заботливый голос: «Ты спишь, мой мальчик?»
Усыпила меня моим же собственным снадобьем, кобра этакая. Заметила в зеркале, как я прячу ампулку, и, пока я раздевался, метнула ее под свою подушку.
Еще не до конца разобравшись, что и как было, я вскакиваю с постели. Вскакиваю, чтобы снова свалиться: жутко кружится голова, тошнит. Только сейчас не время падать в обморок. Снова пытаюсь встать, на сей раз медленно и осторожно. Смотрю на часы, оставленные на столе: семь минут шестого. Слава богу. Неуверенными шагами иду в ванную и становлюсь под душ.
Немного погодя я уже чувствую, что воскресение наступило. Я мигом одеваюсь, и мне удается установить по некоторым пустяковым признакам: мои карманы тщательно обшарены. Никакой пропажи не обнаруживаю, но карманы обшарены. Видимо, искала визитную карточку мосье Арона.
Я выхожу из отеля и иду по адресу, отпечатавшемуся в моей памяти. Хорошо по крайней мере, что эти наркотики не вытравляют то, что запечатлелось в мозгу, напротив –
одним неприятным воспоминанием становится больше.
Кривая улочка, ведущая в верхние кварталы города, кажется безобразно крутой, но, хотя без пятнадцати шесть еще далеко не наступило, я набираю предельную скорость, потому что при создавшейся ситуации с такой женщиной, как Флора, нельзя быть уверенным ни в чем.
– Вы чуть поторопились. Я только что с работы, – с ноткой усталости замечает мосье Арон, открывая дверь своей скромной квартиры.
Как известно, при деловых встречах слишком ранний приход такое же выражение неучтивости, как опоздание.
Правда, в данный момент меня заботит не столько учтивость, сколько ключ.
– Надеюсь, он у вас? – спрашиваю я, ощущая, как в груди шалит усталое сердце.
Вместо ответа хозяин вытаскивает из жилетного кармана упомянутый предмет, с виду довольно солидный и весьма сложной конфигурации.
– Надеюсь, это тот самый? – снова спрашиваю я, протягивая руку.
Мосье Арон деликатным жестом отстраняет ее и говорит с достоинством:
– Не забывайте, господин, что я принадлежу к старому поколению.
Хорошо, если обычаи старого поколения оказали тут свое влияние. В подобных сделках, при всех и всяких предосторожностях, иной раз приходится действовать вслепую.
– Если я не ошибаюсь, между полученной суммой и магическим числом существует некоторый разрыв, и его полагается заполнить, – намекает мне хозяин, продолжая держать ключ на почтительном расстоянии от моей нетерпеливой руки.
Флора запросто могла устроить мне наиподлейшую пакость, вытащив из кармана деньги. И тогда этот расчетливый человек ни за что на свете не расстался бы со своим ключом. Но ей это не пришло в голову, да и не могла она решиться на такой шаг.
Выложив банкноты, чтоб заполнить существующий разрыв, я беру взамен секретный инструмент и, пожелав мосье Арону доброго здоровья и спокойной старости, ухожу.
Без восьми шесть.
Хотя еще только без восьми шесть, на улице уже остановился черный «опель» Флоры, и она вот-вот вылупится из его черной скорлупы.
– Зря выходишь, милая, – предупреждаю ее. – Поедем дальше.
– А, ты здесь, мой мальчик… – приветливо, насколько ей это удается, роняет она и возвращается на место. – Никак не могла предположить, что ты так скоро проснешься.
Так сладко уснул.
– Первым делом давай в отель, надо расплатиться, –
велю я, усаживаясь в машину.
– Нельзя ли несколько другим тоном? Ты ведь знаешь, я терпеть не могу, когда мною командуют.
– Я бы тебе еще не так и не то сказал, дорогая. Но пользуйся моим великодушием.
– Великодушием? Ха-ха… – Ее резкий хрипловатый смех звучит недолго. – Ты, возможно, не догадываешься, что тебе досталась та самая доза, которую ты приготовил для меня. А помнишь, как однажды ты меня вынудил принять подобную пакость?.
– Не знаю, о чем ты говоришь.
– Бедняжка!. Такое унижение пришлось вынести и такую боль в голове…
– Понятия не имею, о чем речь.
Однако Флора не склонна продолжать объяснения и включает скорость.
Остановившись возле отеля и оплатив номер, мы едем в
Берн. Знакомый и не слишком экзотичный пейзаж. Теперь, когда напряжение миновало, снова разбаливается голова.
Так что я молчу и даже пытаюсь немного подремать, хотя попробуй подремать, сидя рядом с такой женщиной.
– Здорово же ты меня подсидел с этими пятью часами и
«Контисом»… – слышится ее голос. Поскольку я молчу, она не унимается: – Наверное, ты и сейчас не представляешь, о чем идет речь?
– Очень смутно, – признаюсь я. – От двойной дозы я совсем выбился из колеи.
– До такой степени, что оставил меня в дураках. Почему мне раньше не пришло в голову узнать его адрес в
«Нидегер и Пробст»? Показала бы тебе заднее место…
– Было бы на что посмотреть, – бормочу в ответ. – Хоть ты и кичишься своим интеллектом, должен заметить, это место у тебя куда более развито, нежели мозг.
– Сообрази я хоть немного раньше… – продолжает сетовать Флора, не слушая меня.
– И чего бы ты добилась? Выбросила бы две тысчонки –
все твои женские прелести не заменят мосье Арону эту сумму, – выбросила бы две тысчонки за ключ, который тебе совершенно ни к чему. Я полагал, ты чуточку умней, но, выходит, ошибся.
– Напрасно ты так думаешь. Будь в моих руках ключ, я бы сама могла вести игру! – возражает она. – Мой ключ, твой замок, но я бы сама стала вертеть делами.
– Тебе никогда не придется вести игру, дорогая. Это не бридж и не торговля трубками. И хотя ты не любишь, чтобы тобой командовали, в твоих интересах не лезть на рожон, а слушаться меня, если ты действительно намерена добраться до брильянтов.
Несмотря на одолевающую меня дремоту, мой голос звучит довольно внушительно, и спутница какое-то время размышляет над только что сказанным.
– Хорошо, Пьер, но имей в виду: если ты дерзнешь поставить мне подножку у финиша, я тебя убью!
– Нечего меня пугать, – с трудом бормочу я, так как меня окончательно разморило. – Я же знаю, что ты этого не сделаешь. Ты питаешь ко мне слабость.
– В самом деле, едва ли я отважусь на такое, – признается она. – Нет, у твоей Флоры не хватит сил тебя убить… –
И, чтобы окончательно успокоить меня, добавляет: –
Бруннер тебя убьет.
10
Флора высадила меня у кафе близ Остринга и дальше поехала одна. В смысле конспирации наше расставание не имеет особого значения, но сейчас мне не хватает только скандала Розмари.
Не столько отдохнув, сколько одурев от дорожной дремоты, я иду к вилле, но при первом же повороте вижу зеленый «бьюик» американца, стоящий у аллеи.
– Прямо здесь вас пристукнуть, Лоран, или для вас предпочтительней, чтобы казнь была совершена в более укромном месте? – любезно спрашивает Ральф, высовывая голову наружу.
Безвкусная идея относительно того, чтоб меня пристукнуть, похоже, становится все более популярной.
– Не забывайте, между нами существует соглашение, –
напоминаю я.
– Только вы нарушили его.
– Вы плохо информированы. Я просто съездил с Розмари к ее Граберу…
– Знаю.
– И пока я ждал ее внизу, в холле, на меня вдруг налетела Флора. Налетела, словно тайфун, и унесла меня…
– И в течение всего дня швыряла вас туда-сюда, словно беспомощный лист, сорванный с дерева…
– Ну, не совсем беспомощный. Мне кажется, я кое-что сумел сделать. А что касается Флоры, то это правда, в течение всего дня так и не смог от нее избавиться.
– И это мне известно, – кивает Бэнтон. – Я видел, как вы вылезали из ее машины. Что же вам удалось сделать?
– Прямо здесь, посреди дороги, будем продолжать разговор? – спрашиваю я с нескрываемым упреком, не мысля дальнейшего существования без чашки кофе.
Американец вылезает из «бьюика», и мы идем в ближайшее кафе, гордость этого района. Здесь и в самом деле очень уютно, но мы располагаемся снаружи, на террасе, откуда можно наблюдать шумный бульвар с идущими от центра и уходящими обратно трамваями, а повыше – зеленые холмы, на которых ютятся виллы.
– Пожалуй, уже этой ночью мы сможем закончить операцию и поставить точку на нашей сделке, – говорю я, допивая вторую чашку кофе.
– Как понять это ваше «пожалуй»? – поднимает Ральф свои меланхоличные глаза.
– Я хочу сказать, если эти женщины не будут чудить.
– Зависит от нас. Если мы им не позволим чудить, они не будут. Скажите сперва, что вы намерены делать. А уж потом будем составлять план.
– А по-моему, будет лучше, если мы составим партию в бридж, – как бы в шутку говорю я. И в общих чертах излагаю свой проект. Ральф молча слушает, должно быть, лихорадочно соображает, не таится ли в этом проекте какое-нибудь местечко, на котором он может поскользнуться.
Потом заявляет:
– Я согласен. И нечего зря время терять. Через полчаса приходите вы с Розмари, а о Флоре я сам позабочусь.
– Наконец-то! – восклицает моя квартирантка, когда я вхожу в наш холл с обоями, успокаивающими нервы.
– Вам бы не мешало приготовиться, милая. Через полчаса нас ждет Бэнтон.
– Зачем? Чтобы нас ликвидировать?
– Пока что в программе отсутствует такой пункт. Скорее всего, нас ждет обычный бридж.
Розмари встает со своего любимого места на диване, где весь вечер, наверное, сходила с ума, но, прежде чем отправиться в спальню, все же спрашивает:
– А вы справились со своим делом?
– Думаю, что да. Хотя и не совсем.
– Почему не совсем?
– Потому что столкнулся с Флорой.
– Столкновение произошло случайно или по предварительной договоренности? – мерит меня взглядом Розмари.
– Ни то ни другое: она выслеживала нас, значит – не случайно. Но мы с нею об этом не договаривались, как вы себе вообразили с вашей невероятной мнительностью.
– Эта женщина просто бесит меня своим нахальством!
– Ревнуйте, – подогреваю я ее. – Мне это доставляет удовольствие.
– Ревновать?.. Единственное, чего я боюсь, – это как бы она в последний момент не увела брильянты.
– Едва ли это возможно. Конечно, я не пророк, но едва ли. Мне кажется, шансы преимущественно на вашей стороне.
– Шансы – это одно, а конечный результат – другое. Вы знаете, что у меня вся надежда на вас.
– Знаю, знаю. Но вы все же поторапливайтесь.
И когда она приступает за дверью к сложной процедуре одевания, я спрашиваю:
– А как там ваша подруга Виолета?
– Нет ее. Исчезла, – слышится из соседней комнаты голос Розмари.
– То есть как исчезла?
– Да вот, когда я к трем часам вернулась домой, схожу-ка, думаю, проведаю ее, хотя она того не стоит. Оказывается, ее нет. Соседи говорят, будто она еще рано утром укатила куда-то на своем «рено».
Иду на кухню и выглядываю в окно. В соседней вилле темно. Обстоятельство, не предусмотренное в моем плане.
Будем надеяться, что это несущественно.
Полчаса спустя Тим или Том вводит нас в покои американца. Хотя одного из них я не так давно дубасил, но по-прежнему не могу их различить. В холле вместе с хозяином нас встречает и Флора.
– О дорогая, это прелестное платьице делает вас совсем эфирной, – восклицает она при виде Розмари.
Что на их змеином языке означает «драной кошкой».
– А ваш строгий костюм удивительно подчеркивает достоинства вашей фигуры.
Что на том же змеином языке означает «вашу непомерную тучность».
Делая вид, что не слышит, Флора обращается ко мне:
– Пьер, мой мальчик, я вас так давно не видела…
«Целый час», – мысленно отвечаю я.
– Пожалуй, нам не стоит терять время, – произносит
Ральф и, покинув кресло, направляется к уже приготовленному игральному столу.
Мы следуем его примеру; игра сразу входит в привычный спокойный ритм и развивается в традиционном направлении – я проигрываю. Но и американец тоже проигрывает – быть может, в силу того, что голова его слишком занята другими мыслями, а может, просто потому, что он подыгрывает мне, сидя напротив меня.
– Ничего, зато нам в любви повезет, – успокаивает он себя со свойственным ему остроумием патриархальных времен, отчего на лицах у обеих дам одновременно появляются иронические полуусмешки.
В это время входит Тим или Том и докладывает, что кто-то спрашивает по телефону мосье Лорана.
– Кто это может быть? – Я стараюсь придать себе озадаченный вид, поскольку неожиданный звонок предусмотрен моим планом.
– В самом деле, кто бы это мог быть? – явно тревожится
Ральф, бросив в мою сторону подозрительный взгляд.
Встав из-за стола, я иду по коридору к двери кабинета и слышу позади ожидаемую реплику американца:
– Минуточку, я сейчас!.
Американец должен выступать в роли человека, терзаемого недоверием.
Итак, забыв о телефоне, мы выходим через заднюю дверь на улицу и торопимся к стоящей в отдалении машине
Бэнтона. Садимся рядом, за рулем Ральф, он трогается, стараясь особенно не газовать. Тиму или Тому поручено некоторое время спустя сказать дамам, что меня спешно вызвал какой-то мосье Бенато и что хозяин, со свойственной ему мнительностью, решил сопроводить меня.
Отныне ситуацию в вилле Бэнтона целиком будут определять дамы. Пока у них не иссякнет терпение ждать, им будет казаться, что они в гостях, но, как только захотят уйти, им станет ясно, что они пленницы. Как мне доказывал Бэнтон, Том или Тим при всей их хрупкости не такие уж беспомощные.
– Виолета исчезла еще с утра, – сообщаю я, когда мы проезжаем мимо виллы Горанова.
– Какое это имеет значение?
– Никакого, если она при своей наивности не встрянет…
– Если встрянет, шуганем, – небрежно роняет Бэнтон.
Выезжаем на шоссе, идущее к Лозанне, и стремительно мчим в унылом свете люминесцента, от которого человека охватывает мировая скорбь. И молчим, потому что все, что мы могли сказать друг другу, уже сказано. Движение в эту пору небольшое, и светлая лента шоссе стремительно летит навстречу между плотными стенами мрака. В какой-то момент позади «бьюика», на почтительном расстоянии, обнаруживаются мощные фары, и это дает мне повод нарушить тишину:
– Надеюсь, за нами не тащится хвостом ваш сегодняшний «ситроен» или что-нибудь другое в этом роде?..
– Я же вас заверил, что ничего такого не будет, – сухо возражает Бэнтон.
– Потому что стоит только вмешаться кому-то постороннему, и вся операция полетит к чертям.
– Вы начинаете повторяться, дорогой, – замечает американец. Но и он тоже повторяется, спрашивая недоверчиво: – А где гарантия, что вы не завлечете меня в ловушку?
– Не становитесь смешным. Какая ловушка? Здесь, в этой стране, скорее я в ваших руках, чем вы в моих.
Фары позади постепенно к нам приближаются, и наконец машина выходит вперед. Неизвестный нам «мерседес» с неизвестной женщиной за рулем. Женщина пожилая, не то что «наши». Видимо, Ральф сознательно сбавил скорость, чтобы пропустить эту машину.
– Вы мне так и не сказали, до какого места мы едем, –
подает голос американец спустя какое-то время.
– Вам это ни к чему. Иначе у вас мог бы появиться соблазн направить туда кого-нибудь из своих людей и этим все испортить.
– Мне в голову не приходила подобная мысль, – врет он самым беззастенчивым образом. – Я не настолько беззащитен, чтобы нуждаться в охране.
– Верю. Но если бы и не верил, ваш оттопырившийся справа пиджак запросто убедил бы меня, что я не прав.
Впрочем, вы, по-моему, совершенно напрасно обременили себя этим утюгом.
– Возможно, – отвечает Ральф. – В сущности, моя работа – проверять бумаги и считать банкноты, а не стрелять.
– Очевидно, вы говорите лишь о своей воображаемой работе в банке?
– В банке, в другом ли месте, но моя работа сугубо канцелярская. Однако, прежде чем стать канцеляристом, я испробовал и многое другое. Так что не путайте меня с
Кенигом: вы рискуете ошибиться.
– Мне в голову не приходила подобная мысль, – уверяю его в свою очередь. – Напротив, я рассчитываю на ваш профессионализм. Потому что, если вы профессионал, едва ли вы станете делать глупости, на которые способен иной любитель, – глупости, которые могут все испортить.
Конечно, я далек от того, чтобы слепо доверяться американцу. Мне даже думается, что «бьюик» оснащен микроаппаратурой, посылающей в эфир свои «пиу-пиу» и направляющей на расстоянии вслед за нами какой-нибудь «ситроен». И ничего удивительного, если те, в «ситроене», поддерживают связь с оставшимися в вилле – к примеру, с
Тимом или Томом, готовыми при необходимости подослать подкрепление. Но если верить в искренность Ральфа нельзя, то сомневаться в его корыстолюбии не приходится.
А это значит, что по крайней мере в момент совершения сделки у нас не должно быть свидетелей. Чтобы все получилось как надо, у начальства Бэнтона не должно возникать никаких сомнений.
Начиная с этого момента, риск, конечно, возрастает.
Бэнтону ничего не стоит отпустить меня на все четыре стороны: я исчезаю с документами, не имеющими особого значения, и оставляю его в покое. Но на такое великодушие с его стороны рассчитывать не приходится. Трудно себе представить и другое – что у него хватит глупости передать меня в руки своего начальства. Он просто-напросто ликвидирует меня, чтобы раз и навсегда избавиться от свидетеля.
– Так в котором часу ваши люди должны вступить в действие? – спрашиваю, лишь бы не молчать.
– Вы становитесь просто невыносимым, Лоран, – тихо отвечает Бэнтон.
– Я ведь говорил: в считанные секунды тайник нам не открыть. И нам с вами будет одинаково неудобно, если ваши люди раньше времени начнут совать нос…
– Вы становитесь просто невыносимым, – повторяет американец. – Можете быть уверены, никто не станет совать свой нос, и никто не сможет нам помешать.
Остальную часть пути едем молча. Только при въезде в
Лозанну Ральф спрашивает:
– Теперь куда?
– К вокзалу.
– Если вы сразу назовете адрес, мне будет легче ориентироваться.
– Я не могу назвать вам то, чего сам не знаю. У меня есть только зрительные представления, где это может быть.
В действительности все наоборот: у меня нет никаких зрительных представлений, но я довольно точно ориентировал себя по карте. У вокзала я говорю ему:
– Сворачивайте вниз, проезжайте под мостом, затем опять вправо.
И лишь после правого поворота я даю следующее указание, потом – следующее. И так далее. Я сознательно усложняю маршрут, даже рискуя заблудиться. Наконец «бьюик» втискивается в узкий проход между каким-то высоким зданием и каменной оградой.
– Это здесь? – подозрительно спрашивает Ральф.
– В двух шагах отсюда, – успокаиваю я его. Дальше мы идем пешком, и мои «два шага» несколько растянулись.
– Вы меня разыгрываете, дорогой, – не выдерживает
Ральф.
– Какой мне резон вас разыгрывать? Хотя я тоже имею право на какие-то предохранительные меры. Кому охота умирать в мои годы?
Наконец подходим к небольшой массивной постройке, не очень выделяющейся среди деревьев, на пологом склоне, спускающемся к озеру.
– Вот здесь, – сообщаю я.
– Вы и в самом деле разыграли меня. На машине мы могли подъехать в считанные секунды.
– Обойдем здание с этой стороны, – предлагаю я, не слушая его.
Оказывается, помещение у входа освещено.
– Видали? – удивляется Бэнтон, глядя на светящиеся окна.
– Говорил же я, что Виолета способна выкинуть какой-нибудь фортель!
– Тем хуже для нее, – бросает мой спутник и направляется к двери.
– Постойте, так не годится, – останавливаю я его. – Уж не собираетесь ли вы с нею разделаться?
– Зачем? Скрутим ее, сунем что-нибудь в рот.
– Оставьте ваши бандитские приемы. Я сам все сделаю.
Прибегнуть к сильным средствам никогда не поздно.
– Ладно, Лоран, действуйте, – неохотно уступает
Ральф.
Я жму на кнопку звонка достаточно сильно, чтобы разбудить хозяйку, если она уснула. Немного погодя изнутри доносится голос Виолеты, слишком слабый, чтобы можно было что-то понять. Надавливаю на ручку, дверь открывается. Справа в коридоре вторая дверь, ведущая в освещенное помещение, гостеприимно распахнута, и мы входим в комнату.
Виолета лежит на диване под пестрым одеялом, она встречает нас анемичной улыбкой:
– А, мосье Лоран!
Затем ее взгляд останавливается на американце, и улыбка сменяется недоумением.
– Наш сосед, господин Бэнтон, – спешу его представить. – Он меня привез на своей машине. – И добавляю: –
Вы нас напугали, Виолета. Мы уже кинулись вас разыскивать в полицейских участках. Раздобыли ваш здешний адрес. Подумали было, что с вами бог знает что случилось…
– Случилось, – кивает девушка. Она резким движением отбрасывает одеяло, и мы видим, что ее нога в гипсе.
– Что произошло?. Как?. – изумляюсь я. Она смотрит на меня страдальческим взглядом и, не обращая внимания на Ральфа, начинает устало объяснять:
– Сегодня утром меня чуть было не раздавили в моей собственной машине. И столкновение было не случайным.
Я на все махнула рукой, только бы меня оставили в покое.
– Кто именно?
– Не знаю… Все…
– И вы здесь лежите в полном одиночестве? – пробую переменить тему после неловкого молчания.
– Вовсе нет. Обо мне заботится моя подруга, я говорила вам о ней. Она живет рядом. – Тут Виолета вспоминает об обязанностях хозяйки: – Садитесь! Я не в состоянии вас угостить, но вы можете сами за собой поухаживать. Бутылки в гостиной…
– Не беспокойтесь, – говорю я, садясь. Ральф продолжает стоять у двери, чтобы пощадить свой костюм хоть после того, как столько времени мял его в машине. Он многозначительно посматривает в мою сторону – мол, до каких пор будем терять время. Я и сам не склонен медлить: каждая потерянная минута приближает момент вероятного вторжения сюда людей Бэнтона – им придется основательно попотеть, пока они отыщут это место, но в конце концов они его все же найдут.
– Господин Бэнтон прослышал, что вы собираетесь продать эту виллу и оставить себе ту, что в Берне, – пробую я закинуть удочку.
– Возможно… – невнятно отвечает Виолета. – Я еще окончательно не решила, но может быть…
– Он привез меня, чтобы, воспользовавшись случаем, хотя бы бегло осмотреть дом. Ведь мы не предполагали, что застанем вас в таком состоянии.
– Да бог с вами… – роняет хозяйка. – Я, как видите, еще не на смертном одре. И если у господина Бэнтона есть желание… Жаль, что я не могу его сопровождать.
– Не беспокойтесь, мадемуазель, – нарушает молчание
Бэнтон. – Нам хотелось бы получить какое-то представление… Я не хотел бы вам досаждать.
– Чем вы мне досаждаете? Боюсь только, комнаты далеко не в образцовом состоянии, но если вы хотите бегло осмотреть…
Мы выходим в коридор, минуем две другие комнаты и попадаем в служебное помещение. Дверь в подвал открыта, и мы обнаруживаем идущую вниз бетонную лестницу. Я
нащупываю выключатель. Хорошо, если там есть свет. В
этих старых подвалах не всегда догадываются ввернуть лампочку. К счастью, тут все нормально. Спустившись вниз, мы оказываемся в просторном бетонном помещении, совершенно пустом, если не считать отопительного устройства в одном углу. Интересующая нас стена, вероятно, напротив. Гладкая железобетонная стена, на которой сохранились следы опалубки – никаких тебе ниш, только в одном нижнем углу сквозь узкое отверстие пропущены две трубы, снабженные кранами.
Отвинтив круглую ручку одного из кранов, я сую в образовавшееся отверстие авторучку. Ничего. Отвинчиваю другую и повторяю операцию. Раздается слабый щелчок, и бетонная стена медленно и бесшумно отодвигается в сторону, открывая вход в бункер.
Мы входим. Ральф нащупывает выключатель, и помещение заполняется тусклым красноватым светом – чересчур слабая лампочка. Свет хотя и тусклый, но его вполне достаточно, чтобы в глубине бункера разглядеть внушительную стальную дверь сейфа, встроенного в стену.
Я с интересом наблюдаю краешком глаза за поведением американца. Характер тут сказывается или выучка, но лицо его сохраняет совершенно спокойное выражение.
– Давайте ключ, Лоран.
– Сперва негативы, Бэнтон.
Он запускает в карман руку, достает миниатюрную кассетку и подает мне.
– Надеюсь, здесь засняты не старые газеты…
– Можете проверить.
Я проверяю с помощью увеличительного устройства, потом прячу негативы и достаю ключ.
– Вместе с копиями, – напоминает Бэнтон. Передаю и копии.
Американец идет в глубь бункера и, заметив, что я следую за ним по пятам, предупреждает:
– Смотреть можете, но руками не трогать.
Сунув ключ в замок, он дважды поворачивает его и без особых затруднений открывает тяжелую дверь. Внутренность сейфа достаточно освещена, чтобы мы могли увидеть стоящие там два небольших чемоданчика. На каждой полке по чемоданчику, и ничего больше.
В этот момент я слышу какое-то едва уловимое щелканье позади нас. Оборачиваюсь и глазам своим не верю: бетонная стена медленно возвращается на исходную позицию, и мы оказываемся заживо погребенными. Перед тем как ей окончательно закрыться, я вижу в просвете худенькую фигуру беспомощной Виолеты, прочно стоящей на обеих ногах, без малейших следов гипсовой повязки.
Взгляд американца тоже обращен в ту сторону. У нас на глазах бетонный бункер неожиданно превратился в нашу гробницу.
Я приближаюсь к злополучной стене. Не затем, конечно, чтобы отодвинуть ее руками, а в надежде найти какой-нибудь рычаг, который, возможно, позволил бы изнутри привести ее в действие. Увы, ничего подобного я не нахожу. Манипулировать можно лишь с внешней стороны.
– Это вы виноваты, Лоран, – бормочет американец, бессильно прислонясь к стене и не считаясь с тем, что она вся покрыта толстым слоем пыли. – Если бы мы связали ее покрепче и сунули в ее лживый рот какую-нибудь тряпку, мы бы теперь не знали забот.
Он замолкает, сознавая всю бессмысленность своих упреков, и теперь уже без всякого желания снова возвращается к стальной кассе.
– Давайте хоть посмотрим, что там в них. Тем более что времени у нас много. Вполне достаточно. Пока не кончится кислород и пока мы не подохнем тут от удушья.
Ральф вытаскивает один из чемоданчиков, ставит на бетонный пол и открывает. Я не приближаюсь, поскольку и отсюда нетрудно разглядеть содержимое: разные изделия из золота, золотые украшения, монеты – словом, вещи, какие каждый обыватель обычно хранит в самом укромном месте, только тут их много, очень много.
Наскоро порывшись в этой сокровищнице, американец приходит к заключению:
– Брильянтов нет…
– Неужто вам этого мало?
– В данный момент в создавшейся ситуации этого мне больше чем достаточно, – отвечает Ральф. – Но брильянтов нет…
Он небрежно отодвигает ногой чемоданчик и вытаскивает другой. Та же картина: безделушки из желтого металла, от которого так мало проку, но который люди привыкли считать таким драгоценным. Плюс несколько дорогих украшений в бархатных и кожаных коробочках. Но в одной из них не просто украшения.
– Брильянты!..
Голос американца полон меланхолии – мне кажется, он предпочел бы вовсе не находить их. Потому что теперь, когда он их нашел, ловушка, в которой мы оказались, вероятно, представляется ему еще более чудовищной и зловещей.
Я подхожу ближе: надо бы и мне взглянуть на эти пресловутые брильянты. Тем более что, как говорит Ральф, времени у нас много. Более чем достаточно.
Камни лежат на темном бархате и, хотя освещение плохое, при малейшем движении искрятся всеми цветами радуги.
– Они и в самом деле исключительные, – констатирует
Бэнтон.
Закрыв коробочку, он порывается сунуть ее в карман, обнаруживая этим жестом древний рефлекс собственника.
Но потом все же небрежно бросает ее обратно в чемоданчик.
– Как, по-вашему, какой толщины может быть этот бетон? – спрашивает он, осматривая стены.
– Не менее одного метра. А потолок наверняка около двух. Передвижная стена, конечно, намного тоньше – какие-то полметра, сущий пустяк.
– Словом, ори, пока не лопнешь, и никто тебя не услышит, – обобщает Ральф.
– А кто бы обратил внимание на ваш ор? Милосердная
Виолета, запершая нас, чтобы мы тут сгнили и чтобы потом свободно распорядиться наследством? Или ваши люди, которые – прошу прощения, Бэнтон, – до такой степени глупы, что, увидев пустой подвал, тут же уедут, довольные своей наблюдательностью.
– Оставим это. Скажите лучше, на сколько времени нам хватит воздуха?
Он снова осматривает оценивающим взглядом помещение. Бункер напоминает комнату размером примерно четыре на четыре. Для убежища вполне достаточно, но если судить о нем как о резервуаре воздуха, то это, конечно, мизер. Во-первых, высота потолка – метра два, не более. Во-вторых, это помещение, вероятно, очень давно не открывалось, воздух застоялся, и если в нем все же есть немного кислорода, то лишь благодаря тому, что непродолжительное время стена была отодвинута. Если кислород и проник сюда, то в плачевно малой дозе.
– Проблемы удушья меня никогда не занимали, – признаюсь я. – Но, учитывая жалкую кубатуру этой дыры и тот факт, что в воздухе и сейчас кислород почти отсутствует, нетрудно предсказать, что уже через несколько часов мы будем дышать окисью углерода собственного производства. Так что и за остальным дело не станет.
Ральф стоит, опершись спиной о стену, больше не заботясь о том, что испачкает костюм, и вдруг начинает медленно сползать на пол. Первое время мне кажется, что он поддался малодушию. По крайней мере до тех пор, пока я не услышал его смех. Совсем негромкий и невеселый смех, но от этого смеха у него трясутся плечи, и сдержать его он не в состоянии. Наконец взрывы мрачного веселья становятся все более редкими и к Ральфу возвращается дар речи:
– Ха-ха… Вы только подумайте, Лоран… Я побывал в
Гвинее и Гватемале, в Панаме и Конго. Я побывал там, где стреляют из-за угла, убивают не моргнув глазом… Верно, стрельба – не моя стихия, я уже говорил… Моя специальность – проверять и оплачивать счета, но я столько раз рисковал собственной шкурой и был на волосок от смерти… и всякий раз мне удавалось уцелеть. Да, после всех испытаний я уцелел, чтобы оказаться здесь, в этом городе… Ха-ха… чтобы какая-то дурочка, жалкая гимназистка из числа этих, недоразвитых, ха-ха, порешила меня…
Он замолкает, словно его вконец истощил приступ странного веселья, от которого мурашки бегут по коже, и постепенно к нему возвращается привычная флегматичность.
– Все же не так уж плохо умереть в двух шагах от этих брильянтов, – бросаю я.
– Брильянты исключительные!. – машинально произносит Бэнтон.
– Чистый углерод, – добавляю я.
– Мы с вами тоже не что иное, как набор химических элементов, – замечает американец. – Все зависит в конечном счете от структуры и соотношения.
– Чистый углевод, – повторяю.
– Пусть будет так. Но за этим углеродом скрываются горы долларов.
– А как бы вы их использовали?
– Откуда я знаю? Как-нибудь использовал бы, будь у меня возможность унести ноги и скрыться в неизвестном направлении. Но я профессионал и прекрасно понимаю, что это невозможно, а если бы даже оказалось возможным,
то пришлось бы до конца своих дней жить в непрестанном страхе – нет, помилуй бог. Такова система, Лоран. Однажды попав в нее, выйти не пытайся.
– Тогда зачем они вам, эти камни?
– Просто так: поместить в сейф в каком-нибудь банке.
Все-таки какая-то гарантия…
– Гарантия чего?
– Да отстаньте вы с вашими вопросами, – бормочет
Ральф. – Надоели вы мне.
– Надо же находить способ убить время, Бэнтон. Если мы сможем убить время, все окажется легче…
– Я не против. Убивайте. Только не так. Не этими идиотскими вопросами. Попробуйте ходить на руках. Или свистеть – меня это будет меньше нервировать. Или спойте что-нибудь…
– А ведь иные в этот час поют… И играют… Оркестр в
«Мокамбо» еще не выбился из сил…
– Да, играют, и поют, и наливаются шампанским, распутничают, занимаются групповым сексом, обжираются мясом, заливая его бургундским. Треплются о том, где лучше провести отпуск, на Багамских островах или на
Бермудах… – неторопливо излагает он, как бы припоминая, чем еще могут заниматься люди. – А вот грязную работу предоставляют Бэнтону и ему подобным, и то, что
Бэнтона этой ночью заметут либо он сам задохнется в каком-то подвале в собственных испарениях… никакого значения не имеет, это заранее предусмотрено, как неизбежная утруска, словом, это в порядке вещей, об этом даже не принято думать…
Он замолкает, словно желая перевести дух, и я тоже пытаюсь перевести дух – мне не хватает воздуха, или я воображаю, что не хватает. Я чувствую, как в голове снова начинается та отвратительная боль, с которой я проснулся под вечер в отеле «Терминюс».
Под вечер в отеле «Терминюс» – сейчас все это мне кажется чем-то очень далеким, почти забытым, чем-то из
Ветхого завета… И Флора, и мосье Арон…
Проходит время. Может, час, а может, больше. Не желаю смотреть на часы. К чему на них смотреть, когда знаешь, что тебе больше нечего ждать, кроме… И мы молчим, каждый расслабился, каждый занят своими мыслями или пытается прогнать их.
– Вот почему мне бы хотелось унести ноги и исчезнуть, если бы мог, – слышится снова тихий голос Ральфа, совсем тихий, потому что Ральф, в сущности, говорит сам себе, а не мне. – Это было бы наиболее логичным. Меня ведь всю жизнь этому учили, это было стимулом: преуспевать, двигаться вперед. Ради чего? Чтобы иметь большее жалованье, больше денег. А раз так, раз ты нащупал наконец эти деньги, целые горы денег, почему не набить ими до отказа мешок и не податься куда заблагорассудится…
– И все-таки вы бы этого не сделали, – встреваю я совершенно машинально, так как мне уже не хочется разговаривать, не хочется ничего.
– Ну конечно, потому что существует и другое: воспитание, дрессировка. Мне все время внушали, что наша разведка – это величайшее установление, вам тоже, наверно, говорили что-нибудь в этом роде. Мне доказывали, что деньги – великое благо, и я поверил. Вам говорили, что брильянты – это всего лишь чистый углерод, и вы поверили. С чего же вы взяли, что вы выше меня, если вы такая же обезьяна, как и я?
– Однако совсем не безразлично, во что человек поверил, – возражаю я равнодушно.
– Абсолютно безразлично… Все – чистейшая ложь.
Или, если угодно, удобная ложь. А что из того, что одна из них поменьше, а другая побольше? Я – один. Так же как и вы. Каждый из нас сам по себе… Каждый из нас, жалкий идиот, поверил, что это не так, ему это вдолбили с корыстной целью…
Он прекращает рассуждения, а может, продолжает, но только про себя, для него это все равно, поскольку – хотя и упоминает мое имя – обращается он все время к себе. Если бы он провел день, как я, с мучительной головной болью, если бы какая-нибудь Флора раздавила ему в рот ампулку жидкого газа, у него наверняка пропало бы желание рассуждать, как оно пропало у меня, и единственное, что я стараюсь сейчас делать, – это не думать о том, что мне уже не хватает воздуха; от такого ощущения немудрено, если начнешь царапать ногтями стену, царапать себе грудь и вообще царапаться.
– И все из-за женщин… – слышу после продолжительного молчания голос Ральфа. – В своих устремлениях женщина – необузданное существо, предсказать ее поступки невозможно.
– Так же как и поступки мужчины, – произношу я, едва слыша собственный голос.
– Вовсе нет. У мужчины есть какая-то система. А раз есть система, ее можно расшифровать… Тут себя чувствуешь уверенней: есть система, есть за что уцепиться.
Другое дело женщина… Вы сами как-то сказали, что Флора налетела на вас, как тайфун. А ведь это истинная правда: женщины – это стихия, ураган. И не случайно тайфуны всегда носят женские имена: Клео, Фифи, Флора… Ох, эта мне Флора!. Тайфуны с ласковыми именами… Налетают и все опрокидывают вверх дном…
– Вы уверены? Мы с Розмари жили довольно спокойно… по крайней мере до определенного времени.
– Вполне естественно. В центре урагана погода всегда спокойная. Безоблачная и тихая. Зато попробуйте стать на его пути… Знаю я, что это такое – ураганы. Рассказывал же: Гватемала.
– Может быть, вам хорошо знакомы ураганы, но у меня создается впечатление, что женщин вы не знаете, – замечаю я опять же после долгого перерыва – Ральф, наверно, уже успел забыть, о чем шла речь.
– И женщин знаю, – нудит американец, как свойственно пьяному или засыпающему человеку. – Потому я с ними и не якшаюсь, если вы это имеете в виду… Никогда не якшаюсь. Просто прихожу и плачу… и ухожу с облегчением и с тем чувством отвращения, которое позволяет не думать о них какое-то время…
Он умолкает, совсем замерев там, у стены, куда сполз в тихом истерическом смехе, давно это было, прошли часы, а может, и годы. Потом, по прошествии еще нескольких часов или лет, мучительно изрекает:
– Женщины хороши только на страницах журналов, Лоран… Журналов для подрастающих онанистов… Тех журналов, где можно увидеть множество проституток после режиссуры опытного порнографа… А в обыденной жизни их амбиции и страсти… Нет, не говорите мне…
Тайфуны с ласковыми именами…
Затем опять, после того как миновали часы или минуты, я слышу его голос, какой-то очень далекий:
– Впрочем, вы с полным основанием выгораживаете их… этих женщин. Не будь их… я бы вас давно вынюхал и обезвредил.
– Каким образом? – спрашиваю я, еле разжимая зубы.
– Самым радикальным… Я вас уважаю, Лоран… самым радикальным. По отношению к человеку вашего ранга…
полумеры оскорбительны…
И мы продолжаем отдавать концы, каждый у подножия своей стены, каждый на своем лобном месте.
– И вот на тебе… взаимно обезвредили друг друга… в этом бункере… в этой нашей общей гробнице… И вам, должно быть, противно, что приходится умирать рядом с таким… как я.
– Почему? На поле боя враги часто погибают рядом…
– Да, верно… погибают рядом… Но хоронить их вместе не хоронят… А нам выпало остаться в братской могиле… в братской могиле шпионов…
В сущности, именно тут твое место, говорю я, правда не вслух, потому что у меня нет сил говорить вслух. В этом бункере времен войны. В бункере, который сохранился, хотя война уже далеко позади… В сущности, нам обоим здесь место, оставшимся от войны, для которых война никогда не кончалась… И нечему тут удивляться, что мы оказались вместе, Ральф… И нечего прикидываться дураком… потому что ты прекрасно знаешь, что она совсем иная, эта наша война, не похожая на ту, с окопами и огневыми позициями… это совсем другая война, и каждый находится в тылу противника, и у каждого в тылу имеется свой противник… и пока она продолжается, нам придется иметь дело друг с другом, нам или другим таким, как мы…
потому что противник без противника немыслим… потому что мы порождаем друг друга, и, не будь одного, пропала бы нужда в другом, мы соприкасаемся друг с другом, как день и ночь, как свет и мрак…
Свет, да… Только он уже заметно слабее… Он исчезает. Наверно, спускаются сумерки. И я удивляюсь, до каких же пор нам сидеть в этом мраке, неужели никто не догадается включить свет.
Мы с Бориславом притихли каждый в своем кресле под зеленым фикусом, верхушка которого уже касается потолка этого кабинета. На диване, разумеется, восседает мой бывший начальник, в моем представлении он всегда был немного педант, так же как он всегда придерживался мнения, что я немного авантюрист. А вот у генерала другая особенность, он не любитель официальных заседаний. Вот и сейчас он меряет неторопливыми шагами ковер и задумчиво останавливается то здесь, то там.
– Это не первый случай, – сухо произносит мой бывший начальник, так как ему первому предоставлено слово. – Боев с задачей справится, и неплохо, преодолеет все трудные этапы, и наконец, когда пора поставить точку, он, вместо того чтобы поставить точку, обязательно полезет в западню… Это не первый случай…
– В западню угодить немудрено, – проявляет нетерпение Борислав. – Если бы в жизни все было как на бумаге, этого бы, конечно, не случилось…
– Как бывает в жизни, не вы один знаете, – спокойно отвечает мой бывший начальник. – Мы тоже выросли не в канцеляриях… Хорошо начертанный на бумаге план можно так же хорошо выполнить. Особенно если этим займется такой опытный работник, как Боев. Если, конечно, вовремя сумеет подавить в себе склонность к авантюризму…
– Какой еще авантюризм? – снова вторгается Борислав вопреки установленному порядку. – Разве это авантюризм?
– Ты пока помолчи, – тихо говорит генерал. – Не прерывай человека.
– Пускай, – произносит мой бывший начальник. – Меня это не смущает. Только ему надо быть более объективным. – Он окидывает моего друга острым холодным взглядом и продолжает: – А как иначе назвать весь этот торг с американцем? И зачем, собственно, он ему понадобился, этот торг? Чего ради ему надо было соваться в этот бункер?
– Разве не ясно: чтобы пополнить досье. Чтобы добраться до последнего недостающего куска, – отвечает Борислав.
– Данные, содержащиеся в этом куске, не настолько важны, чтобы ставить на карту свою жизнь. Их можно было получить и в ходе следствия.
– Да, но, возможно, не все, а сколько маеты, сколько времени потратили бы!
– Но не рисковать жизнью, – спокойно возражает бывший шеф.
– В конце концов он рисковал собственной жизнью… –
кипятится Борислав, проглотив конец фразы. Я знаю, что он хотел сказать: «…а не вашей».
– Наша жизнь принадлежит не только нам, – сухо поясняет бывший шеф.
– Верно, – соглашается Борислав. – Но что поделаешь: есть люди, которые привыкли доводить дело до конца, выполнять задачу полностью, до последней точки» даже если это связано с риском не вернуться.
– Не вернуться – значит не до конца выполнить задачу, – возражает мой бывший шеф. – Или выполнить, заплатив слишком дорогую цену.
Я внимательно слушаю их, скрючившись в кресле. У
меня такое чувство, что они начинают повторяться – это нередко случается, когда возникает спор, хотя генерал не без оснований считает, что истина рождается в споре. Я
внимательно слушаю их, и порой мне становится как-то не по себе и я прихожу в недоумение. В самом деле, раз речь идет обо мне, то, может, имеет смысл и у меня спросить, как я сам смотрю на вещи, а не продолжать разговор так, словно меня здесь нет?
– Ты и впрямь немного пристрастен, Борислав, – отзывается наконец генерал. – Нельзя закрывать глаза на то, что последнего куска досье у нас до сих пор нет. Нет у нас его, хотя и заплатили мы за него слишком дорого… – Он замолкает, потом говорит с каким-то упреком в голосе, но упрекает он вроде бы не Борислава, а самого себя: – Пристрастен ты, браток… и я тебя понимаю… Мы потеряли опытного работника… и товарища…
И только теперь я начинаю соображать, почему мне не дают слова – потому что я умер.
Темнеет все больше и больше, уже почти ничего не видно. Но это не черная пелена ночи, а беспокойный сумрак неясных сновидений. И, как всегда в такие моменты, я вижу Любо, который идет с беспечным видом своей неторопливой походкой, слегка припадая на одну ногу.
В те времена, когда мы с ним преследовали в пограничье бандитов среди голых каменистых холмов, Любо тяжело ранили, и хотя ему удалось выжить, он с тех пор прихрамывает, едва заметно, но все же прихрамывает, и это стало его неотъемлемой чертой. Он даже во сне является мне чуть прихрамывая, хотя было бы логично предположить, что призрак не обязательно должен строго копировать человека – он может передвигаться, не припадая на одну ногу.
Он подходит ко мне, останавливается, но на меня не смотрит, словно это явка и мы делаем вид, что совсем не знаем друг друга, а оказались рядом по чистой случайности.
– Своему бывшему начальнику ты можешь говорить все что угодно, браток, но только не мне, – бормочет Любо, почти повернувшись ко мне спиной. – Я-то знаю, зачем ты сунулся на виллу американца, знаю и то, как ты очутился в бункере. На виллу ты полез только ради того, чтобы выручить моего мальчишку.
– Не болтай глупости, – говорю. – Ты же знаешь, я выполнял задачу.
– Расскажи это кому-нибудь другому, только не мне, я как-никак сам тебя учил этому ремеслу и знаю все твои повадки. И нечего мне толковать, зачем ты это сделал.
– Но, выручив Бояна, я тут же мог отправиться восвояси.
– В том-то и дело, что не мог. И ты это прекрасно понимал. У тебя была возможность ретироваться, показав им нос, но чуть раньше, когда стало ясно, что Боян провалился. И если взглянуть на это с профессиональной точки зрения, ты обязан был так поступить. Вместо того чтобы прыгать с террасы, ты должен был немедленно исчезнуть, предоставив Бориславу выручать парня. Его, наверно, все-таки отпустили бы. Зачем они стали бы с ним связываться? Ты им был нужен, ты!..
– Глупости ты говоришь, – отвечаю я, не глядя на Любо, как будто у нас явка. – Разве мог я махнуть рукой на третью часть досье?
– Третья часть!. Велика важность! Ты соблазнился третьей частью уже после того, как пришел к мысли, что тебе все равно деваться некуда. Тебе было ясно, что ты приглянулся им в качестве искупительной жертвы и что после провала Бояна, говоря строго профессионально, тебе там больше нечего было делать и ты должен был молниеносно исчезнуть. А вместо этого ты сам полез волку в пасть. Чтобы выручить моего парня.
– Да перестань наконец болтать всякую чепуху…
Строго профессионально, с профессиональной точки зрения… В конце концов будем мы поступать строго профессионально, нет ли, но рано или поздно мы все равно все к тебе придем, ты ведь знаешь… Так что нечего раньше времени меня отпевать…
И чтобы помешать ему меня отпевать и заставить его убраться, я открываю глаза. Открываю мучительно, с большим трудом и пытаюсь сосредоточиться на чем-нибудь реальном, пока я все еще здесь, среди этой реальности, и вперяю взгляд в серую пустыню бетонного потолка с неровными следами опалубки. Но, как будто сообразив, что я хочу уцепиться за него, уцепиться за что-либо прочное, потолок вдруг начинает вращаться надо мной, этот самый бетонный потолок с отпечатками тесин и с тускло горящей лампочкой. Вращается медленно, но непрерывно, вращение длится так долго, что меня начинает мутить, и я снова пытаюсь уцепиться за него, чтоб не рухнуть куда-нибудь в сторону или даже на этот вращающийся потолок… «Закрой глаза! Закрой глаза!» – говорит мне чей-то голос, и я закрываю, но под веками мельтешат полосы яркого света, словно раскаленная добела проволока, а в голове стучит невыносимая боль, стучит не молотком, а вроде бы долотом. Я поворачиваюсь в сторону, но и тут меня сетью опутывает раскаленная добела проволока, поворачиваюсь в другую сторону – то же самое, я уже опутан со всех сторон и чувствую, как эта огненная сеть меня душит, душит, и, боясь задохнуться совсем, я снова открываю глаза, но надо мной темно, вокруг меня всюду темно, и в черном мраке плывут темно-багровые пятна, а среди них, где-то вдали, словно одинокая звезда, смутно мерцает кружочек от лампочки.
«Надо малость расшевелиться… – слышится голос. –
Ты должен встать и рассеять тьму. Она внизу, у самого пола. Ты должен подняться…»
Я пытаюсь подняться, опираясь спиной о стену, но тут же снова сползаю вниз. Я делаю новую попытку. Мрак несколько рассеивается. Ночь превращается в сумерки.
Бэнтон, сидящий у противоположной стены, вынимает пистолет… Совсем нечем будет дышать… Я уже достаточно прочно стою на ногах, чтобы подойти к нему, и…
падаю. Встаю на колени, силюсь снова выплыть из мрака и опять падаю, уже возле Ральфа. Вырываю у него пистолет без всякого труда. Он едва удерживал его в руке.
– Верни его мне, – произносит он чуть слышно. – Не могу больше… задыхаюсь…
– Совсем нечем будет дышать…
– Отдай…
– Не отдам…
И мы замираем оба, вконец обессилев. Он – на своем лобном месте, а я – в углу, возле передвижной стены. И
снова сгущается мрак. Этот пятнистый мрак. Черные и темно-багровые пятна. «Вот и все», – слышится голос. Я
смотрю вверх. Одинокая звезда погасла. Полнейший мрак.
Значит, действительно все. Наконец-то. Столько раз приходилось думать о смерти. И как тут не думать, если она ходит мимо тебя. Как тут не думать, если ты знаешь, что в один прекрасный день она неизбежно остановится возле тебя. Одни считают, что смерть страшна. Для других – это отдохновение. Словно непробудный сон после трудного дня. Настало время тебе самому увидеть, как оно там, у
Любо, по ту сторону жизни.
11
Смерть опять прошла стороной. Невероятно, но факт.
Только в этот раз задержалась поблизости дольше обычного и заглянула мне в глаза. И, подумав немного, дала отсрочку.
В двух шагах от меня, в углу, незаметно образовался просвет, совсем узкий, но его оказалось вполне достаточно,
чтобы я ощутил в помещении, насыщенном окисью углерода, дуновение жизни. Здесь темно, однако это не загробный мрак, а обычный: старая лампочка не привыкла к длительному употреблению и просто-напросто перегорела.
Я ощущаю в себе способность двигаться. Ползком, конечно. Подбираюсь ближе к щели и замираю. Хочется вдыхать струящийся сквозь нее воздух полной грудью, но я замираю.
Как долго я остаюсь в таком состоянии, сказать трудно.
В этом бетонном гробу я утратил всякое представление о времени. Погребенных оно не интересует. Но вот я вдруг чувствую, что просвет становится шире. Стена бесшумно отодвинулась, чтобы открыть свободный доступ воздуху и свету. Она проследовала всего в нескольких сантиметрах от меня. Достаточно одного рывка, и я на той стороне, вне зоны удушья и смерти. Но поспешные движения рискованны. И я жду, затаив дыхание.
В образовавшемся проеме появляется что-то живое. И
на освещенную часть бетонного пола ложится большая тень. Тень женщины. Она начинает перемещаться. Женщина осторожно входит в бункер, и режущий луч карманного фонаря полосует открытую кассу – она пустая, –
спускается ниже, на чемоданчики, и задерживается на них…
Вот он, наиболее подходящий момент. Я быстро на четвереньках выбираюсь наружу, достигаю кранов и нажимаю на первый. Там, в бункере, у меня было достаточно времени, чтобы сообразить: раз второй открывает, то первый, по всей вероятности, служит для закрывания.
Стена и в самом деле бесшумно перемещается, и просвет исчезает.
Теперь можно перевести дух. И попытаться встать на ноги. Это удается не сразу, однако скорее, чем я ожидал.
Подышав полной грудью всего несколько минут, я окончательно оживаю. Очищается кровь, и мысли делаются яснее. Мысли о тех, что в бункере. А также о тех, которые, несомненно, караулят меня снаружи.
Я стою, все еще опираясь о стену, и шевелю ногами.
Сперва одной, затем другой. Проверяю, насколько они способны слушаться и держать меня. Сперва одну, затем другую. Потом делаю первые шаги. Не блестяще получается, но падать не падаю. Надо выждать еще немного, пока кровообращение сделает свое дело. А теперь мне пора приниматься за мое.
Итак, эти двое. Слегка нажимаю на рычажок второго крана, и снова образуется щель – узкая, сантиметров десять: я поторопился отпустить рычажок.
– Пьер, это ты, мой мальчик? – слышится голос Флоры, мигом приникшей к щели.
Она прекрасно видит, что это я, и вопрос ее рассчитан лишь на то, чтобы восстановить атмосферу интимности, что может служить хорошим началом взаимопонимания.
– Да, милая. Ну как там, внутри? Обнаружила сокровища? Убедилась, что я слов на ветер не бросаю?
– Я никогда не сомневалась в этом, мой мальчик.
Только перестань валять дурака. Нажми-ка покрепче на рычажок вон того, второго крана и дай нам выйти.
– А, ты насчет стены? Это и есть та самая стена, которая нам с тобой мерещилась. «Сезам, откройся!» Разве не помнишь? Вот она и открылась.
– Только потом снова закрылась, – напоминает Флора.
– Верно, чтобы не было сквозняка…
– Вы не способны на такую пакость, Лоран!
Это уже не Флора, это немощный голос Ральфа, бессильный и апатичный голос, который, кажется, целую вечность зудел у меня в ушах, зудел, зудел… до умопомрачения. Фраза доходит откуда-то снизу, как будто из-под земли, Флора отстраняет свою массивную ногу, и я вижу бледное лицо американца – он все же дополз сюда, к просвету, как умирающий от жажды доползает до спасительной лужи.
– Вы не способны на такую пакость, верно… после того как мы вместе провели эти кошмарные часы…
– А окажись вы здесь, вы выпустили бы меня?
– Вероятно… Не знаю… – бормочет Бэнтон. – Во всяком случае, если бы вы не отняли у меня пистолет и будь у меня силы, я бы сейчас всадил в вас пулю, чтобы вы не торчали так вот и не злорадствовали…
– Я вовсе не злорадствую, Бэнтон. Просто у меня работа. И чтобы выполнить ее, мне необходимо уцелеть. Так что первым делом бросайте-ка мне сюда негативы, которые вынудили меня отдать вам.
– Из-за каких-то паршивых негативов разыгрывать такую комедию? – пренебрежительно изрекает американец.
И несколько секунд спустя миниатюрная кассета катится к моим ногам. Подняв ее, вношу ясность:
– Да, из-за негативов. Не из-за брильянтов. Насчет брильянтов вы там разбирайтесь с Флорой. Она женщина сговорчивая…
– Пьер, ну хватит болтать, мой мальчик, – напоминает о себе сговорчивая женщина. – Нажимай-ка лучше вон на тот рычажок. А то я уже сварилась в этой дыре.
– Я в ней варился гораздо дольше, милая. И этой отдушины не было. А остался жив-здоров, как видишь. Так что ничего не случится, если потерпишь маленько.
– Лоран, вы не способны на такую пакость… – подает голос Ральф у подножия величественной дамы.
– Нет, конечно. Я вас оставлю распечатанными. И через непродолжительное время пришлю кого-нибудь, чтобы выпустил вас на чистый воздух. Но только не сразу, а немного погодя, когда я смогу в достаточной мере удалиться от выстрелов ваших людей, Бэнтон.
– Пьер! – умоляюще восклицает Флора.
– Лоран… – слышится голос и американца.
Но я уже устремляюсь на свет божий, правда, не так быстро, как хотелось бы. Осторожно преодолеваю лестницу, затем так же осторожно пробираюсь по коридору.
Открываю одну за другой двери – кухни, холла, столовой.
Везде пусто.
Однако в комнате, что у самого выхода, не пусто. На своем прежнем месте лежит Виолета. В гипсе. И хорошо упакована. Еще одной повязкой ее, вероятно, снабдила
Флора. Видать, пустила в ход все подручные средства, и прежде всего шнуры от штор. А в довершение основательно запечатала жертве рот кружевной скатертью тончайшей работы.
Я распутываю скатерть и вынимаю изо рта Виолеты платок. Она несколько раз жадно вдыхает большие порции воздуха – хорошо знакомый мне рефлекс – и только после этого произносит слабым, беспомощным голоском:
– Какая ужасная женщина!. Вконец извела меня, грозилась задушить и вынудила-таки сказать, где что находится, а после этого – видите, что сделала, – оставила меня, словно вязанку дров…
– Действительно ужасная женщина, – соглашаюсь я. –
Однако она просто ангел по сравнению с вами.
– Но у меня не было иного выхода, господин Лоран! –
произносит с подкупающей наивностью это милое существо. – Что я могла сделать голыми руками, когда меня осаждали со всех сторон все эти люди…
– А как вы догадались, что осада переместится именно сюда?
– Да очень просто: Кениг уже начал было у меня выспрашивать… А позавчера эта ваша приятельница, Розмари, с присущим ей нахальством приезжала сюда, в Лозанну, к моей подруге, чтобы узнать, где мой дом… Та, разумеется, не настолько наивна и не стала ей объяснять, но когда кто-то вроде Розмари пускается в расспросы, то узнать адрес не такое хитрое дело… Да и вы при встрече со мной там, в «Меркурии», клонили к этому. Я стала лихорадочно соображать, что вас так тянет сюда… и где может находиться то, что вас привлекает. Я сама толком не знала, где что спрятано… Поэтому решила перебраться снова сюда…
– И на всякий случай загипсовать ногу…
– А что особенного? Чем ты беззащитней в глазах окружающих, тем меньше опасность, что на тебя поднимут руку.
– Это вполне логично, – признаю я. – Так же как то, что вы заперли нас в той дыре, чтобы сгноить…
– А что мне было делать, попав в такое безвыходное положение?.
– Вы чересчур хитры, милое дитя. А чересчур хитрые в конце концов остаются с носом, просто от избытка хитрости…
И поворачиваю к выходу.
– Неужели вы так меня оставите?
– Да. И только из милосердия. Потому что в таком положении вы кажетесь особенно беззащитной. И у вас не появится соблазна сунуться туда, где вас мигом растерзают как пить дать.
Пока шла эта беседа, я успел, посматривая в окна, изучить окружающую обстановку. На небольшой поляне между домом и деревьями пусто. В стороне от поляны виден «опель» Флоры – тоже пустой. Так что, выбираясь из дома, я настроен воспользоваться этой свободной машиной, взять напрокат, конечно. Не успел я и два шага ступить, как чья-то могучая рука хватает меня за шиворот, а другая уже готова превратить в фарш мою руку.
– Смываетесь, да? – слышу позади хриплый голос.
Оказывается, это Бруннер.
– Вы угадали, – спокойно говорю я. – Мне это начинает надоедать. И не старайтесь изувечить мне руку, умоляю.
Это совсем не на пользу нам обоим.
– Особенно вам… – рычит немец. Однако он заметно расслабляет свои клещи, видимо, обезоруженный моей выдержкой.
– Я вас отпущу, Лоран. Вы же знаете, лично против вас я ничего не имею. Но сперва я должен сделать обыск.
Поднимите руки вверх и не шевелитесь.
Я повинуюсь и, пока он меня ощупывает, поясняю:
– Если вы ищете брильянты, то, уверяю вас, у меня их нет. В данный момент они, вероятно, в руках вашей приятельницы. Я сдержал слово, Бруннер.
– Я готов заплакать от умиления, Лоран. Не опускайте руки, – снова рычит немец и после беглой проверки начинает обшаривать меня основательно.
– Только ради бога не трогайте моих кассеток…
– Больно они нужны мне, ваши кассетки…
– Что касается пистолета, то я готов уступить его вам.
Он, правда, принадлежит Бэнтону, но сейчас и вам вполне может пригодиться.
– Пожалуй, – соглашается немец, пряча пистолет в карман.
Тем временем физико-химические реакции в его ленивом мозгу позволяют ему усвоить значение только что услышанного.
– Бэнтон! Где он?
– Там, в подвале, вместе с Флорой. Но бояться нечего: сейчас он вам не наставит рога. Что касается брильянтов…
– Хватит болтать! – нервничает Бруннер. – Говорите, Лоран, брильянты в самом деле там? Да или нет?
– Вы что, глухой? Вроде бы ясно сказано: и брильянты там, и Флора там, и Бэнтон там!
Мое раздражение, так же как и содержимое моих карманов, побуждает немца действовать, и он, показав мне спину, кидается к дому. А я, как нетрудно предположить, –
к «опелю», но – какое разочарование! – ключи отсутствуют. Пресловутая немецкая сообразительность!
Мое приближение к машине не лишено, однако, смысла: мне удается спрятаться за нею на две-три секунды, пока на поляну выскочит другой автомобиль. На сей раз «ситроен». И кажется, достаточно знакомый.
Двое приехавших выскакивают из машины и тоже сломя голову несутся к дому. Насколько мне удалось рассмотреть, один из них Кениг, а другой – Тим или Том, нет, пожалуй, Тим – он вел машину. Еще годик-другой, и я начну свободно их различать, этих метисов.
Направляюсь к «ситроену» в надежде на то, что метисы не столь аккуратны, как немцы, но тут откуда ни возьмись на меня набрасывается из-за деревьев пленительная Розмари, запыхавшаяся, измочаленная.
– О Пьер! Вы всегда появляетесь очень кстати. Куда девались эти двое?
– А что у вас с ними общего?
– Они все время за мною гнались, и все-таки я сумела ускользнуть от них.
– А теперь, выходит, они от вас ускользнули. И всего на минуту вас опередили. Хочу сказать, в длительной погоне за брильянтами.
– Где они, брильянты? – спрашивает Розмари, лихорадочно хватая меня за руку.
– Там, в подвале. Но я вам не советую туда соваться. Не исключено, что с минуты на минуту начнут греметь победные залпы.
Как бы в подтверждение моих слов от цоколя дома доносится глухой выстрел. Потом еще два – один за другим. Потом еще.
Но эта сумасшедшая, вместо того чтобы прийти в растерянность, в свою очередь бросается к дому.
Безумцы.
Делать тут больше нечего. Одно меня заботит – что предпочесть: «ситроен» или пурпурный «фольксваген»
Розмари, который обнаруживаю за кустарником.
Розмари как-никак моя приятельница. Столь продолжительное сожительство… И почти безоблачное. Пока оно длилось, я узнал так много полезного об импрессионистах, о благородных камнях, о том, что человек по природе своей эгоист. К тому же «ситроен» помощней, а меня воспитывали в духе известного изречения: «Берегите время».
Сев на могучего коня современной французской техники, я пришпориваю его, и он с яростным ревом мчит меня в сторону Берна. Тихого, сонного Берна, жить в котором одно удовольствие… А быть может, и умереть. Как говаривал Бруннер: «Умереть в Берне!. » И все же у меня иной девиз: умереть всегда успеешь.
– И долго еще ты будешь так вот нестись сломя голову? – спрашивает Борислав, который то дремлет рядом со мной, то болтает о том о сем.
– Сломя голову не шибко понесешься, – отвечаю.
– Лично я не прочь позавтракать. И выпить две-три чашки кофе.
Похоже, я действительно увлекся, совсем как милая
Розмари: чем сильней меня донимают всякие мысли, Тем крепче я нажимаю на газ. А ведь уже целый час, как мы в
Австрии. И вообще нет оснований нестись сломя голову.
Шоссе извивается среди роскошных альпийских пейзажей. Вот они наконец, эти роскошные пейзажи, знакомые нам по цветным открыткам. Высокие заснеженные пики, застывшие на фоне голубого неба. А под ними – плавные изгибы хребтов, поросших хвойными лесами. А еще ниже –
изумрудные пастбища.
Если же сделать еще один-единственный шаг, отделяющий великое от смешного, то мне придется добавить: а еще ниже средь этой необъятности, по узкой и серой полоске ползет черная машина – куда он так торопится, этот махонький жучок? – а в машине, покачиваясь, едут двое.
Тот, что дремлет, – Борислав. А другой… Ну, так уж и быть
– ваш покорный слуга Эмиль Боев.
– Эмиль, – снова подает голос проснувшийся Борислав. – Если ты не остановишь машину у первого попавшегося заведения, может прохудиться радиатор.
С худым радиатором в эту июньскую теплынь далеко не уедешь, к тому же скоро десять, а в такое время даже последние бездельники успели позавтракать, а о порядочных людях и говорить не приходится.
Еще два изгиба шоссе, и перед нами возникает упомянутое заведение: кокетливый ресторанчик с террасой, примостившийся на взгорке, у самой дороги, текущей в темной зелени хвои.
– Здесь тебе нравится? – спрашиваю, сбавляя скорость.
– Не все ли равно, где завтракать! Отпуск нам здесь не проводить. Останавливайся, и дело с концом!
Останавливаюсь. «Вольво» оставляю на обочине шоссе, так как не вижу другого места, куда бы можно было приткнуться, поднимаемся по лестнице на террасу и садимся за столик в тени сосен. Борислав заказывает завтрак, а я –
газеты, и немного погодя каждого занимает свое: меня в основном пресса и кофе, а моего друга – сдоба и конфитюр.
– Что там пишут о твоей истории? – спрашивает Борислав, продолжая жевать.
– Чего только не пишут: «Лозанна: в подвале сводят счеты… тремя пулями убит метис, личность не установлена… рядом еще два трупа: Макс Бруннер и Отто Кениг…
Владелицу виллы нашли в комнате связанной… Ведется следствие…»
Откладываю в сторону утренние газеты, чтобы еще раз проверить качество австрийского кофе, сравнив его со швейцарским. Затем снова обращаюсь к прессе – этому могучему средству массовой информации.
– Но это еще не все, – продолжаю информировать друга, вчитываясь в последнюю полосу газеты. – «Вооруженное нападение в Женеве: американский подданный
Ральф Бэнтон ворвался, вероятно, с целью ограбления, в контору ювелира Тео Грабера»… и так далее и тому подобное. «Грабер ранен двумя выстрелами… доставлен в больницу в тяжелом состоянии… Ральф Бэнтон задержан.
Ведется следствие».
– Ну как, достаточно? – спрашиваю у Борислава, имея в виду газетную хронику.
– То есть как достаточно? Сейчас еще закажем, – отвечает он, занятый в основном завтраком.
Не успела удалиться от нас русоволосая официантка в тирольском костюмчике, как со стороны лестницы доносится звонкий и приветливый голос:
– О Пьер! Я не сомневалась, что вы здесь! Видела внизу вашу машину.
– Я здесь и всегда к вашим услугам, дорогая, – галантно говорю в ответ, вставая, чтобы дать стул моей бывшей квартирантке и соблюсти полагающуюся церемонию –
представить ее Бориславу.
Гостья садится, а мой спутник подает знак, чтобы принесли еще один кофе, после чего Розмари получает наконец возможность излить чувства, накопившиеся в ее груди:
– О Пьер! Что это был за кошмар! Они стреляли друг в друга, как дикие звери, в том подвале…
– Дикие звери не стреляют, дорогая, – спешу ей заметить. – Они несколько сдержанней в этом отношении, чем люди. – И добавляю: – Я все же надеюсь, что вы предусмотрительно дождались, пока канонада закончится…
– Естественно… Не стану же я соваться под пули. Но все было настолько ужасно!.. Эта кровь…
– Да, – сочувственно вставляю я. – Без крови дело не обходится. Кровь и брильянты! Ну и как же все-таки кончилась эта история с брильянтами?
– В мою пользу, естественно, – отвечает Розмари с достоинством. – Потом поясняет, уже поскромней: – Хотя и не совсем…
– А именно?
– Когда эти дикари наконец поубивали друг друга…
Она замолкает, так как к столу приближается русоволосая австриячка с громадным подносом. Розмари явно не в силах продолжать свой рассказ, она, очевидно, изголодалась не меньше Борислава, и ей необходимо что-то пожевать и глотнуть кофе с молоком. Лишь после этого она снова обретает способность говорить:
– Как только закончилась стрельба и рассеялся дым, я, конечно, кидаюсь вниз, чтобы поглядеть, что же произошло, и обнаруживаю это убежище. Флора настаивает, чтобы я немедленно выпустила их, и старательно мне объясняет, что и как нужно сделать, но я не с последним дождиком родилась на свет, как вы любите говорить, поэтому я велю сперва подать мне брильянты, а тогда уже поговорим об остальном. Она, естественно – вы же знаете мерзопакостный характер этой немки, – и слышать не желает о такой сделке и принимается нахальнейшим образом врать, будто там вообще не оказалось никаких брильянтов, она, видите ли, готова передать мне какой-то там чемоданчик с ценностями – больно мне нужен ее чемоданчик, стала бы я столько месяцев торчать в этом скучном Берне ради какого-то чемоданчика. Раз такое дело, я предъявляю ей ультиматум: или сию же минуту мне будут переданы все десять брильянтов, и ни одним меньше, или я жму до предела на рычажок – и вечная память! Ну и конечно, при всем ее мерзком характере она вынуждена уступить, а чтоб ей не морочил голову Бэнтон, мне пришлось передать ей пистолет – конечно, так, чтобы она в меня не пальнула. А сама сижу на корточках возле кранов и жду, пока появится коробочка, которая вам, наверно, хорошо знакома, – как две капли воды похожая на ту, вашу, с фальшивыми брильянтами. Я внимательно проверяю содержимое коробочки и убеждаюсь, что у меня в руках не подделка, а настоящие брильянты, и только после этого предпринимаю следующий шаг.
– Плотно задвигаете стену…
– Нет, Пьер! У меня мелькнула такая мысль, но вы же знаете меня, сентиментальную утку, да еще глупую фантазерку, – стоило мне вообразить, каково им будет, чтобы я тут же отказалась от своего намерения.
– Естественно… – замечает Борислав после того, как ему удается окончательно утолить голод.
– Естественно? – вскидывается Розмари и смотрит на него своими темными глазами. – Естественно, конечно.
Однако, будь на моем месте эта Флора, можете не сомневаться, все бы сложилось немножко иначе и не так естественно.
Она на время замолкает, чтобы допить кофе и закурить сигарету, которую ей галантно подносит Борислав. Я
щелкаю зажигалкой, и Розмари продолжает:
– Я, конечно, не стала сразу их выпускать. Сперва надо было разделаться с той паршивой лицемеркой, которая лежала связанной там, наверху. Я ее не застрелила, и тут вы тоже скажете «естественно», а между тем было бы вполне естественно застрелить ее, чтобы навеки заткнулась. Но я женщина слабая, Пьер. Настолько слабая, что мне никогда бы не добраться до этих брильянтов, если бы не вы, Лоран.
– Я на благодарность не рассчитываю.
– Вы ее не заслуживаете, милый! – сражает меня Розмари. – Эти брильянты вы с одинаковой щедростью сулили всем: и мне, и Флоре, и Бэнтону, и Виолете, кому угодно.
– Что я могу поделать, такой у меня характер. Люблю доставлять радость людям. Страсть как люблю. Что же касается брильянтов – я имею в виду не пустые обещания, а именно брильянты, – то их я с самого начала предназначал вам… Во имя нашей общей слабости к импрессионистам…
И нашей старой дружбы…
– Я совсем не уверена, что это так, хотя мне хотелось бы в это верить, – выражает она некоторое сомнение. – Но вопреки всему я вам благодарна: обнаружили брильянты вы, и достались они мне… – После этих слов Розмари, вероятно, вспоминает что-то не очень приятное и, помолчав немного, делает небольшое уточнение: – Достались мне все, кроме двух.
– Почему кроме двух?
– А все из-за этой паршивки Виолеты! Будь это Флора, она бы, наверно, ничего ей не дала, но я со своей мягкотелостью все-таки подарила ей два…
– Этим вы проявили великодушие не только к ней, но и к бедным детям, – вставляю я для ясности.
– Почему к бедным детям? – удивляется Розмари.
– Она доверительно сказала мне, что если получит брильянты, то непременно построит детский дом на берегу озера.
– Детский дом? – презрительно смотрит на меня Розмари. – Никак не ожидала, что вы такой наивный при вашей мнительности. У этой хилой и подлой лесбиянки есть другая голубая мечта. Это Эмма Фрай, ее приятельница по пансиону, вы, наверно, слышали про эти пансионы для молодых девиц, вернее сказать, для молодых лесбиянок.
Это Эмма Фрай, да будет вам известно, никакая не мечта, а всего лишь порочная до мозга костей кукла из Лозанны – я об этом узнала в ту ужасную ночь, когда мне пришлось тащиться за Виолетой до самой Лозанны и караулить ее в машине до утра, пока эти две мерзавки забавлялись в доме, а бедняга Пенеф, не подозревая о моем присутствии, тоже выслеживал ее в ста метрах от дома. Так что ей понадобились денежки не на детский дом, а на то, чтоб ублажать эту развратницу, с которой нашу целомудренную лесбияночку еще со студенческих лет связывают брачные узы, а
Эмма вертит ею как хочет, и, если бы Виолета действительно сумела прибрать к рукам брильянты, она наверняка положила бы их к ногам своей возлюбленной, конечно, не все сразу – она не настолько глупа, – а по частям, чтобы не порывать связь с этой извращенной куклой. – Розмари замолкает на минуту, как бы для того, чтобы преодолеть подступившее чувство отвращения. Потом продолжает: –
И вопреки всему мне пришлось, как видите, подарить ей целых два брильянта, из-за которых я столько раз рисковала своей шкурой.
– Подарила ей ее собственные брильянты, – уточняю я. – И разумеется, те, что поменьше.
– А вы бы хотели, чтоб я ей отдала большие? И потом, с какой стати «собственные»? Брильянты краденые, и я ей со всей прямотой об этом заявила; а она в ответ: «Знаю, что краденые, но это мне не помешает выдать вас полиции», так что в конце концов пришлось швырнуть ей хоть что-нибудь, чтоб она заткнулась.
– И вы ее развязали…
– Я не настолько глупа. Сунула камни ей под матрац и пошла вниз освобождать тех. С пистолетом в руке, конечно. И хорошо, что у нас с Флорой были пистолеты, потому что Бэнтон до того осатанел, что готов был на все, но мы ему здорово вправили мозги, особенно Флора – я еще удивляюсь, как это она не продырявила башку этому американцу, – и мы отчалили вдвоем, я с брильянтами, а Флора с этими двумя чемоданчиками, которые, надо полагать, тоже кое-чего стоят.
– И у нее так и не появилось соблазна разрядить в вас пистолет?
– А зачем ей рисковать? Я ведь тоже могла это сделать.
И потом, мне кажется, что она уже примирилась. Ее потрясла смерть Бруннера. Мы как-никак женщины, Пьер!
Мы не такое зверье, как мужчины.
– Знаю, знаю, – киваю я. – Вы так чувствительны, в вас столько нежности. Тайфуны с ласковыми именами.
В сущности, в этой истории все они, и женщины и мужчины, оказались во власти одного и того же тайфуна –
тайфуна алчности, он оторвал их от твердой почвы, заставил забыть обо всем остальном. Необузданная страсть к созвездию брильянтов первой величины ослепила их настолько, что для них больше не существовало ни былых связей, ни привязанностей. Что касается женщин, этих тайфунов с ласковыми именами, то, я не отрицаю, их шальные порывы в какой-то мере были мне на пользу.
Может быть, благодаря тому, что я не женоненавистник.
При этих мыслях я перевожу взгляд на Розмари и спрашиваю:
– А как ваш Грабер? Вы навестили его в больнице?
– Почему в больнице?
– А где же еще? На кладбище ему пока рано. – И чтобы дать ей понять, что к чему, предлагаю ей газету.
– Ах, этот негодяй! – возмущается она, не дочитав до конца.
– Кого из двух вы имеете в виду?
– Бэнтона, конечно. Грабер, может быть, тоже не ангел, но никогда бы не выстрелил в живого человека.
– А кто стреляет в мертвецов? В сущности, вы должны быть довольны. И благодарить Бэнтона.
– Вы циник, Пьер.
– Это я уже слышал от вас.
– Довольна или недовольна, но, должна признаться, я испытываю чувство облегчения. Грабер никогда бы не простил мне…
– А теперь куда? – спрашиваю.
– Если вы хотите знать куда, поедемте со мной. Конечно, вы человек довольно скучный… Но где их взять, интересных? Хотя, я знаю, со мной вы не поедете. Так что незачем говорить вам «куда». Да и не все ли вам равно?
– Все равно, – признаю. – Просто мне хотелось знать, как начнется наконец триумфальное восхождение к вершине счастья.
– Счастья? Вы знаете, что я человек не претенциозный.
Но и дожидаться старости в заботах о закладных на том чердаке у меня тоже нет никакого желания.
Она и в самом деле мало похожа на человека, сияющего от счастья. Обычное дело: достигнутая мечта неожиданно утрачивает свой блеск, даже такая, брильянтовая. Наступают будни. И с течением времени становится все более реальным риск, что какой-нибудь мошенник не сегодня-завтра освободит тебя от бремени легко нажитого богатства.
Взглянув на часы, Розмари объявляет, что ей пора. Мы встаем, чтобы проститься, и, подавая мне руку, моя бывшая квартирантка говорит:
– Ну, Пьер… Мы, наверно, больше не увидимся…
– Наверно… – машинально повторяю я за ней.
– Поцелуйте же меня!
Мне неудобно перед Бориславом и еще более неудобно стоять как истукан, после того как мы столько времени провели вместе в том зеленом холле, на той глухой вилле, в том бесславном квартале.
Целуя ее, я чувствую на своем лице ее руку, которая как будто пытается удержать меня еще хотя бы на один миг.
Наконец Розмари уходит, но, прежде чем спуститься по лестнице, снова оборачивается и машет мне рукой.
– Какая женщина! – слышится голос Борислава.
Да, действительно. Хотя что, в сущности, я мог бы о ней сказать? Движешься среди призраков без всякой уверенности, что тебе удалось до конца сорвать их покровы.
Призрачные вещи, призрачные события, а главное – призрачные люди. Глядишь на нее и вроде бы убеждаешься:
«Да, это именно то», но потом неожиданно что-то происходит, и ты решаешь, что вовсе не «то», а не знаю что, пока позднее не уяснишь, что это вовсе не «не знаю что» – совсем как те деревянные матрешки: вскрываешь одну, а в ней оказывается другая, а в другой – третья. Только у матрешек всегда есть предел – после четвертой или пятой доходишь до последней. А с иного человека сколько ни снимаешь призрачные покровы, никогда не можешь быть до конца уверен, что тебе удалось постичь его истинную суть.
Борислав до такой степени очарован видом моей приятельницы и ее импульсивным нравом, что заказывает еще по чашке кофе – по последней, и мы уже допиваем его, этот последний кофе, когда на террасе внезапно появляется новое действующее лицо, точнее, еще одна дама, царственная и величавая, как альпийский массив.
– А, Пьер, вот ты где, мой мальчик! Я по машине догадалась, что ты должен быть где-то тут, – спокойно произносит Флора, словно мы повстречались на асфальтовой аллее близ Остринга.
Я встаю, представляю их друг другу и усаживаю гостью.
– Вы уже позавтракали, – устанавливает она. – Я бы тоже не прочь немного закусить…
Белокурая австриячка принимает заказ, который по своему ассортименту мало напоминает завтрак и не уступит иному обеду. Затем, самодовольно приосанившись, чтобы Борислав мог по достоинству оценить ее могучий бюст. Флора оборачивается в мою сторону и грозит мне пальцем:
– Благодари бога, что я питаю к тебе слабость. Иначе ты заслуживаешь не знаю какой кары… За то, что запер меня с ним там, в бункере…
– Если только это ты имеешь в виду, то, по-моему, ты должна меня благодарить, дорогая Флора. Это был единственный способ защитить тебя от пуль и спасти от удушья.
– Лжец! – Она опять грозит мне. – Откуда ты мог знать, что начнется стрельба?
– Зато я отлично знал, что люди Бэнтона где-то рядом.
Бэнтон не тот человек, чтобы отправляться со мной в полную неизвестность без должного сопровождения.
– Глупости. Люди Бэнтона приехали на хвосте у этой дуры Розмари.
– А как они оказались у нее на хвосте?
– О, это целая история. И не заставляй меня ее рассказывать, прежде чем я поем. Просто подыхаю с голоду.
Официантка ставит на стол поднос, загруженный до предела: кроме масла, конфитюра и булочек, неизбежных компонентов гостиничного завтрака, здесь вареные яйца, копченый окорок и огромный кус шоколадного торта.
Так что мы с Бориславом выпиваем очередной кофе, не знаю уже который, а тем временем Флора опустошает тарелки. И лишь когда дело доходит до торта, у немки возобновляется желание продолжать беседу.
– И то, что вы, Пьер, оставили нас с этими выродками
Тимом и Томом, тоже вас не красит!.
– Не моя это затея. Так случилось по настоянию Бэнтона.
– Мы догадывались. Пакостная затея. И Бэнтон получил по заслугам. Читали? Он задержан…
– Знаю. Но вас не смогли задержать…
– А кто нас мог задержать? – смотрит она на меня с недовольным видом.
– Да те двое: Тим и Том.
– А, те двое! Чего о них толковать. Первое время мы с
Розмари вообще не понимали, что происходит. Подумали, что ваш компаньон действительно вызвал вас по какому-то спешному делу и Бэнтон решил вас сопровождать. Потом у меня возникает подозрение, что тут кроется подвох.
«Плакали наши брильянты. Пьер знает, где искать тайник, а Бэнтон небось что-то посулил Пьеру. Так что теперь они действуют заодно, а мы сидим здесь, как последние дуры».
«Откуда вам известно, что Пьер знает, где искать тайник?»
– спрашивает Розмари. «Мне, – говорю, – достаточно сегодняшних наблюдений, и, если вы полагаете, что мы провели день в любовных утехах, вы глубоко ошибаетесь».
«В таком случае давайте устроим проверку, – предлагает
Розмари, – они, скорее всего, в Лозанне, в доме этой лисы
Виолеты». «Но как его найти, этот дом?» – говорю я. «Если вы не знаете, то другие знают, – заявляет Розмари, – только где гарантия, что вы не оставите меня в дураках?» «Ну,
милая, – говорю, – нам сейчас не до этого, мы с вами бедные женщины и должны всячески помогать друг другу». «Звучит неплохо, – говорит Розмари, – но где гарантия?» Наконец мне удается убедить эту упрямую бабу, что, пока мы тут торгуемся, уведут наши брильянты, и мы решаем на свой страх и риск отправиться вам вдогонку. Но не тут-то было: только теперь до нас доходит, что мы с нею пленницы этих двух дегенератов – Тима и Тома. Я, как вы знаете, не из робких, особенно когда имею дело с такими пигмеями, и без лишних проволочек даю им понять, что в наш век равноправия женщины тоже чего-то стоят, но, хотя в руках у меня увесистый стул, пользы мало: эти кретинчики, оказывается, обучены всяким там каратэ и дзюдо, –
короче говоря, наш бунт кончается тем, что нас крепко-накрепко привязывают к креслам, а каких синяков они нам насажали – я бы вам их показала, только приличие не позволяет.
– Стоит ли о таких пустяках говорить? – бросаю я.
– Не стоит, конечно. Вы же знаете, я не настолько впечатлительна, как эта драная кошка, ваша Розмари, но факт остается фактом: мы, бедные невольницы, обречены на полное бездействие, а тем временем вы там, в Лозанне…
– Мы там, в Лозанне, оказались более несчастными невольниками, чем вы. До того несчастными, что уже были готовы проститься с белым светом.
– Верно. И кто вас спас? Я. Только не слышала, чтобы кто-нибудь сказал мне спасибо за это…
– Если я этого не сказал, то только потому, что слова не способны выразить мои чувства, дорогая…
– Да-да, я знаю, ты щедр на пустые слова… Но вернемся к существу вопроса. В тот самый момент, когда мы были в полном отчаянии, в холл через террасу внезапно вламывается мой Макс. У меня не было сомнения, что
Макс, которого мы так бессовестно бросили в Женеве, рано или поздно наведается ко мне, и я оставила у себя в квартире записочку, что нахожусь у Бэнтона. Не знаю, стоит ли описывать само сражение, тем более что я, будучи привязанной к креслу, могла наблюдать его лишь частично, зато я имела счастье видеть самый конец, когда эти лилипуты с их японской хваткой были загнаны в угол и у Бруннера в руках превратились в мокрые тряпки, а в довершение он прикрутил обоих к креслам, в которых мы томились, чтобы у них было время получше переварить все случившееся. А
после этого Бруннер занялся вашей Розмари, стал вышибать из нее сведения насчет виллы в Лозанне, и, не вмешайся я – зачем, говорю, ты так круто, Макс, она, как-никак женщина, к тому же неглупая, сама все скажет, – он бы ее всю изувечил. В конце концов Розмари раскололась-таки, выдала адрес, но взялась настаивать, чтобы мы ехали все вместе, и тут уж я не выдержала – хотя, как вам хорошо известно, мой мальчик, я не из говорливых – и давай втолковывать вашей приятельнице, что жизнь, выпавшая на нашу долю, – это не что иное, как бег наперегонки, каждый бежит сам по себе, на свой страх и риск, собственными ножками, и, если тебе так хочется присутствовать на этом празднике, садись в свою красненькую скорлупку и с богом. Ведь это же поистине благородный жест с моей стороны, за который до сих пор мне и спасибо никто не сказал, хотя мне он обошелся не так дешево – девять колоссальных брильянтов, – но, раз тебе суждено совершить глупость, за нее, само собою, приходится платить. Но в тот момент мне думалось, что я ничем не рискую, рядом со мной мой Макс, и я была уверена, что он не даст меня в обиду, мне и в голову не могло прийти, что через несколько часов какой-то жалкий пигмей по имени Тим или Том разрядит в грудь Макса свой пистолет, а ведь именно так и случилось, и мне пришлось кончать со всем вот этими руками…
– Но не голыми руками, был и пистолет?
Она смотрит на меня пронзительным взглядом, и ее роскошные голубые глаза вдруг становятся серыми.
– Ты что, виделся с Розмари?
– Где я мог с нею видеться?
– Я невольно об этом подумала, потому что у меня действительно был пистолет. Только уже было поздно.
Бруннер тоже был убит.
– Что-то я не замечаю, чтоб ты была в трауре, дорогая.
А черное было бы тебе к лицу. И ты бы в нем казалась стройней.
– Пора тебе понять, мой мальчик, что стройностью я не дорожу, как твоя Розмари, напротив. В этом мире еще не перевелись мужчины с нормальным вкусом.
– Значит, упустила брильянты… – обобщаю я. – Мне стоило такого труда обеспечить их тебе, а ты под конец упустила их.
– Этого бы не случилось, если бы в тот день, прежде чем уехать из Лозанны, мы завернули ненадолго к Виолете.
Но я не знала, где ее вилла. А ты знал, и ключ был у тебя в кармане, но меня ты туда не повез.
– А знаешь, чем бы это кончилось, если бы мы туда заехали? Мы до сих пор лежали бы там с тобой вдвоем, в том бункере, и никто не смог бы нас вызволить, потому что никто, кроме меня, и не подозревал о существовании этого бункера. И если я говорю: «До сих пор лежали бы с тобой вдвоем», то тебе, должно быть, ясно, что не в любовных объятиях, а в холодных и мерзких – в объятиях смерти.
– В самом деле… Эта гадюка Виолета уже была начеку… Мне и в голову не пришло…
– Но ты, дорогая, по крайней мере те чемоданчики сумела обследовать? Там было немало дельных вещиц…
– Чего их обследовать. Унесла целиком, и теперь они лежат в банковском сейфе на мое имя. Конечно, это не брильянты. Но я не жадна. Если у тебя есть интеллект, можно прожить и без брильянтов. В них нуждаются только такие легкомысленные особы, как твоя Розмари. Найдет себе вертопраха вроде тебя, не знающего цены деньгам, и быстро спустит свои камушки. А у меня другие планы…
– По торговой части… – догадываюсь я. – Фрау Пульфер…
– С фрау Пульфер у меня нет ничего общего, мой мальчик. Розничная торговля меня не прельщает.
– Понимаю. Ты откроешь отель.
– Отель – это неплохо, – кивает Флора. – Но он медленно окупается. Нет, лучше я открою шикарный ресторан в каком-нибудь шикарном месте…
– А меня не возьмешь в компаньоны?
– И не подумаю.
– Но ведь должность домашнего пса еще не занята?
– Да, но мне бы не хотелось одновременно заводить и домашнюю змею. У тебя, мой мальчик, характер не дай бог. Не говоря уже о том, что ты любишь вести двойную игру, и командовать ты не прочь…
– Не подозревал, что ты такого мнения обо мне, – сокрушенно говорю я.
– В сущности, я бы могла тебя взять, если бы ты не был замешан во всяких опасных делах, связанных с политикой.
Сам замешан, значит, и я могу оказаться замешанной. Нет, Пьер! Деньги я люблю, но и покой мне дорог.
– Ясно: тебе нужен муж.
– Если мне понадобится муж, без труда найду. Хотя и рост и вес у меня не такие, как у твоего американского феномена. Верно, число мужчин с нормальным вкусом катастрофически падает, но я не теряю надежды, мой мальчик.
– Раз только за этим столиком их двое…
– Приятно слышать, – восклицает она таким тоном, словно другого и не ожидала. – Но мне, пожалуй, пора.
Я провожаю ее до лестницы и стоически выношу ее дружеское рукопожатие.
– Если когда-нибудь судьба забросит тебя в мой ресторан – где он будет, я пока не знаю, – можешь не сомневаться, обед тебе поднесут за счет фирмы, – обещает она.
Сделав несколько шагов, Флора оборачивается и добавляет, чтобы я не слишком обольщался: – Первый обед!
Я иду на место, чтобы расплатиться.
– Какая женщина! – произносит Борислав с оттенком восхищения.
– Женщина что надо, – соглашаюсь я. И вот мы снова летим по серой ленте шоссе, извивающейся среди изумрудных холмов. Только теперь уже за рулем Борислав, что дает мне наконец возможность призвать в союзники сон, в котором, как известно, иные склонны видеть младшего брата смерти. Но с младшим братом общаться не опасно, гораздо страшней объятия его старшей сестрицы.
– До чего же надоело слушать эти ваши истории, – откровенно заявляет Борислав. – Брильянты, брильянты…
– А каково мне?
– И что в них особенного, в этих брильянтах? – продолжает рассуждать мой друг.
– В том-то и дело, что ничего особенного. Чистый углерод.
Document Outline
Что может быть лучше плохой погоды. Тайфуны с ласковыми именами
Что может быть лучше плохой погоды
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Тайфуны с ласковыми именами
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg




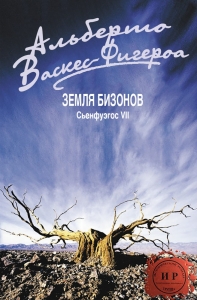
Комментарии к книге «Что может быть лучше плохой погоды. Тайфуны с ласковыми именами», Богомил Райнов
Всего 0 комментариев