Мирко Пашек ЛОВЦЫ ЖЕМЧУГА
ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА
Это повесть о самых прекрасных жемчужинах, которые когда-либо дарило море, о смуглых людях, которые добыли их с морского дна, и история их первого бунта против воли аллаха, бунта, окончившегося на острове Омоному, что означает Мать Комаров.
Эта книга не выдумка, а рассказ о том, что было на самом деле, и историю эту еще и сегодня можно услышать на арабском и африканском берегах Красного моря; люди украшают ее множеством достойных изумления подробностей и необыкновенных приключений.
Но в книге обо всем рассказывается без романтического приукрашивания, подробно и обстоятельно, и люди в ней показаны такими, какими они есть на самом деле, со всеми достоинствами и недостатками.
И книга от этого только выиграла — ведь душой всего является сам человек, его воля, его разум и сердце.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Глава I
Все началось с того, что с Ауссой случилось несчастье. Это произошло в 1896 году, вскоре после того как войска абиссинского негуса Менелика были разбиты итальянцами у Адуи; хотя это и происходило вблизи, но с повестью нашей ничем не связано. Нельзя же ожидать, что победа Италии хотя бы на иоту изменила течение событий, ведь Эритрея, в которой произошла эта история, давно уже была итальянской.
Однажды утром у безыменного островка вблизи мыса Бурь, лежащего в Эритрее, к югу от Массауа, невдалеке от самого большого из Дахлакских островов, богатых жемчугом, стояло на якоре небольшое парусное судно «Эль-Кебир», водоизмещением около двадцати тонн. Оно имело всего одну мачту и относилось к судам такого типа, который чаще всего применяется для поисков жемчуга. У него были низкие борта, и на палубе стояла крохотная каюта, в которой жили «нахуда», т. е. капитан, и «сериндж», помощник нахуды, его приказчик и надсмотрщик.
Когда судно плыло по широкой морской глади, оно напоминало утку, потому что тащило на буксире, словно утят, шесть небольших лодок.
Но в этот предрассветный час судно стояло у берега, а лодки полукругом лежали на песке; было похоже, что они спали.
Люди тоже спали, двенадцать данакильцев и среди них Аусса. Спали и два мальчика, один десяти, а другой двенадцати лет, в обязанности которых входило готовить пищу и прислуживать капитану. Младший был мальчик из племени галла, с кожей такой смуглой и блестящей, что напоминал мокрого медвежонка. Старший был проворный сомалиец, худой и нескладный; его звали Саффар, и позднее, когда он вырастет, ему суждено будет прославиться под именем Эль-Сейф. У него выделялись глубокие темные глаза и высокий лоб.
Утро было ясное, как это часто бывает в Красном море. Ночью море светилось, а перед восходом солнца гладь его отливала фиолетовым цветом, который к утру перешел в бледно-голубой. В Красном море все голубое, кроме пурпурных утесов в проливе Баб-эль-Мандеб и безмерных кроваво-красных пространств, окрашенных планктоном.
Планктон… Право же, это изумительная вещь! Иногда он красный. Временами зеленый или голубой, или седой, как туман. Это одно из самых загадочных явлений. Он состоит из миллиардов живых частиц, из множества крошечных созданий, невидимых простым глазом, которые сами не могут передвигаться, и их носит вода. Больше всего они боятся своего незначительного веса; опуститься на дно — для них значит погибнуть; чтобы не погружаться на дно, они меняют свою форму, размеры, надуваются пузырьками воздуха, как миниатюрные воздушные шары… Таков планктон… Да, это действительно интересная вещь!
Однажды утром планктон покрывал огромные пространства Красного моря от африканского берега до побережья Аравии, и было этих крохотных существ, пожалуй, больше, чем всех остальных живых созданий на земле, вместе взятых.
Море не было красным; оно светилось изнутри прозрачным фосфоресцирующим светом. Море искрилось… И вот из-за этого и погиб Аусса, не потому, конечно, что море искрилось, а потому, что здесь был планктон. А точнее говоря, потому что здесь был жемчуг, а Аусса был ловцом жемчуга.
И еще потому… Ах, есть много причин, которые со временем обнаружат себя, но об этом вы узнаете позднее.
Еще до рассвета проснулся Саффар и, разбудив своего маленького друга, принялся разжигать костер, чтобы испечь на нем лепешки.
Ясный и прозрачный воздух был наполнен тяжелым запахом гнили, всюду сопровождающим суда ловцов жемчуга, — запахом гниющих раковин, которые должны гибнуть под палящими солнечными лучами, чтобы раскрыть свои створки. Но к соленому аромату моря и сладковатому запаху гнили примешивался еще острый запах мочи. Но ни Саффар, ни его товарищ не обращали внимания на этот букет запахов. Они привыкли. Они знали, что должно сгнить много, много жемчужных раковин, чтобы люди нашли хотя бы одну жемчужину, достойную внимания. Знали они и то, что спуск на большие глубины ведет к заболеванию мочевого пузыря, и ночью ныряльщики не в состоянии удерживать мочу. Они знали это все из жизни, которая их окружала, и они никогда не задумывались над этим, не задумывались, что такая же судьба ожидает и их, когда они вырастут и спустятся в синие глубины, что давление воды разорвет ушные перепонки, и они станут плохо слышать, а позднее, в возрасте, который бывает различным, но никогда не бывает большим, у них, ныряльщиков, хлынет изо рта кровь — и это будет конец. Да, все это они знали, но никогда не думали об этом.
Костер уже догорал, когда над морем показался край золотого диска.
Один за другим ловцы начали пробуждаться; вставали они быстро, не протирая глаз, и переход от сна к бодрствованию был также скор, как переход от ночи к дню в тропиках. Их двенадцать человек, и один из них был Аусса, который не догадывался, что сегодня он проснулся в последний раз. Все они нагие, если не считать узких набедренных повязок. У всех высокие стройные фигуры, кожа темная, почти черная, а головы украшены густыми, как шерсть, копнами волос. Лишь у нахуды и серинджа волосы коротко подстрижены; они были арабами, но скрывали свои стриженые головы под белыми чалмами.
Нахуду звали хаджи Шере. Выглядел он очень низкорослым благодаря своей небольшой голове, которая выглядывала из-под чалмы, словно репа, не больше, и была такая же сморщенная; под носом у него торчали взъерошенные усы; пара маленьких заплывших глаз бегала с предмета на предмет, все время находясь в непрерывном движении.
Сериндж был тучный мужчина, как это и подобает арабскому купцу. Имя его позабыто. Позднее, когда лодка, в которой он плыл, перевернулась, и он погиб, эта смерть стала настоящим праздником для его многочисленных должников.
Оба они встали, едва только туман на краю горизонта рассеялся, возвещая восход солнца.
В момент, когда солнце вынырнуло из моря, когда волны засветились золотом его лучей и разукрасились золотыми и лазурными полосами, хаджи Шере склонился к земле и, коснувшись лбом песка, забормотал слова молитвы «собх»[1]. Потом все вместе прочитали первый стих молитвы фатхи. Зазвучал общий хор. Молясь, хаджи Шере не переставал озираться по сторонам; он был хозяином и никогда этого не забывал, а остальные были всего лишь ловцами жемчуга, и они тоже не забывали это.
Окончив молитву и позавтракав, ловцы столкнули лодки в воду и отплыли. Лодок было шесть, по два ныряльщика в каждой лодке; Аусса был вместе с молчаливым Камесом. День уже начался, и жар, словно капли дождя, падал с неба. Многие считают, что небо в тропических странах голубое. Нет, оно очень светлое, почти белое, как бы просветленное солнечными лучами, и насыщено жаром, который давит на людей.
Но Аусса и Камес не ощущали этой тяжести, которая европейца свалила бы с ног. Они были детьми этой жаркой земли, оба родились здесь, на этом берегу, лишь кое-где покрытом чахлой зеленью, обожженном солнцем, опустошившим страну, словно страшный ураган.
Я слышал, что некоторые племена в пустынях Африки ненавидят солнце как злейшего врага и швыряют в него камни в детской надежде попасть. Но Аусса и Камес даже не взглянули на него. Оно было наверху, они внизу. Они смотрели вперед.
Лодка была длинная и с низкими бортами. На их языке она называлась «хури». В ней лежал большой плоский камень с отверстием в центре; длинная веревка, к которой он был привязан, свернута кольцами. В лодке лежала еще острога с длинной ручкой, стояли глиняный сосуд с питьевой водой и небольшой деревянный ящик без крышки, но с застекленным дном. И это все. За поясом у Ауссы и Камеса были еще ножи и сетки из пальмовых волокон. Лодка плыла быстро, подгоняемая сильными ударами весел. Остальные хури тоже набирали скорость, веером расходясь в разные стороны. Вдруг Камес отложил в сторону весло и опустил в воду ящик со стеклянным дном. Затем он наклонился над ним. Переход в царство чудес был таким же быстрым и неожиданным, как переход от сна к бодрствованию, от ночи к дню. Казалось, что этот ящик обладает чудесными свойствами, что леса, которые видны сквозь стеклянное дно, нигде не существуют.
Но ящик был обычный, и все дело в том, что поверхность воды под стеклом была ровной, а высокие стенки ящика загораживали стеклянное дно от блеска солнечных лучей. Вот почему простой ящик мог служить окном в неведомый и таинственный мир.
Глубина здесь была около двадцати метров, но вода такая прозрачная, что, казалось, стоит только протянуть руку и можно будет дотронуться до коралловых ветвей. Но кораллы далеко. Сказочные коралловые леса с причудливо изломанными веточками, белыми и пурпурными, растущие в зеленоватой воде. Это напоминало какое-то фантастическое мертвое царство, но над кустами кораллов, как птицы, проносились рыбы, и каждое их движение порождало снопы разноцветных искр.
По мере того как лодка продвигалась вперед, коралловые заросли редели. Вот показалось дно, покрытое обломками скал и раковинами всех видов, от мелких ракушек до гигантских чаш, огромных, как мельничные жернова, с поверхностью, волнистой, как крыша дома. Это были двухметровые великаны из семейства тридакн, которых туземцы зовут «сахала», а французы — «bénitier», или «кропильница», так как, по поверью, стоит принести такую раковину в церковь и установить ее там, как та превратится в кропильницу, выложенную жемчугом и расцвеченную такими красками, каких не придумает даже самый искусный мастер.
Но здесь, в теплом море, эти раковины совсем не напоминали кропильницу. Присосавшись к скалам, жадно открыв свои чудовищные челюсти, они висят, и из их створок льется холодный огонь — фиолетовый, золотой, белый — это солнечные лучи отражаются от перламутра створок… А вокруг, словно бабочки, мелькают рыбы.
Потом лодка плыла над чем-то неподвижным, слегка вздрагивающим, над какой-то массой, которая чернела под водой длинными полосами, — это был огромный косяк рыб, застывший на месте.
Затем показались заросли морских водорослей, внешне напоминавших какие-то необычные цветы, но их длинные листья извивались, как змеи, а сами цветы росли на кораллах.
Тысячи форм, сотни оттенков… не было видно лишь прозрачных масс планктона.
Но вот лодка остановилась. Она была у цели: среди кораллов, среди водорослей, среди огромных «кропильниц» было видно множество раковин, облепивших скалы. Формой и размерами они напоминали ладонь человека, выглядели невзрачно — грязно-зеленые и бурые. Это были жемчужные раковины.
Когда лодка достигла места лова, отложил весло и Аусса. Он смотрел на дно, вспоминая расположение скал. Потом, делая глубокие вдохи, привычным движением привязал к пальцам правой ноги сетку из пальмовых волокон, правой рукой сжал плоский камень с отверстием, пальцы левой отыскали рукоятку ножа. И, вобрав в себя побольше воздуха, он без плеска нырнул с лодки в море.
Он погружался, влекомый ко дну тяжелым камнем. Все вокруг него было сине-зеленое и теплое. Он ни о чем не думал и старался лишь вспомнить расположение скал на дне. Неясно всплывали воспоминания о первых спусках в морские глубины, которые он совершал когда-то; он вспоминал, как мучительно отзывалось тогда на его организме огромное давление воды, вспоминал о резкой боли в ушах, когда у него лопнула барабанная перепонка.
Но все эти воспоминания были мимолетными. Он опускался со своим камнем все глубже и глубже. Вокруг проносились испуганные стайки рыб, виднелись неясные очертания скал, которые росли, приближались, но были еще далеко… Это очень долгий путь, двадцать метров в глубину моря.
Но вот он на дне. Опустил камень, который тотчас же, словно птица, рванулся вверх — Камес вытащил его. Аусса даже не проследил за ним. У него в распоряжении было всего двадцать секунд, и он не смел медлить, если хотел остаться в живых. Привычным движением подвесив сетку к шее, он вытянул руки и, двигаясь непривычно медленно, стал отдирать от скал жемчужные раковины. Сердце стучало, как колокол, но воздух в легких еще был. Собирая раковины и складывая их в сетку, Аусса не думал о времени, но что-то внутри него отсчитывало секунду за секундой. И вот Аусса вдруг почувствовал, что срок его истек. Одновременно он рванулся вверх. Поднимаясь сквозь бесконечную голубизну, он чувствовал то же, что всегда охватывало его в эти минуты: что у него не хватит воздуха, что его хрупкое тело лопнет, как пузырь.
Но вот он на поверхности. Он вдохнул воздух так глубоко и жадно, что это прозвучало, как стон.
Обессиленный, он схватил руку Камеса и перевалился в лодку. Высыпал свою добычу из сетки. Дышал медленно, словно наслаждаясь этим, и молчал. А Камес привязал сетку к пальцам правой ноги, схватил камень и, зажав нос, прыгнул в море.
Все еще медленно и глубоко вдыхая, Аусса смотрел на круги каната, которые тихо распутываясь, с шелестом исчезали в глубине.
Потом он следил за Камесом. Он видел его, распростертого, висящего на конце веревки, видел, как тот опустил камень и начал вытаскивать веревку. Сердце его билось спокойнее. Он следил за Камесом, так же как и Камес будет следить за ним, когда он снова нырнет. Он охранял Камеса, так же как Камес будет охранять его, Ауссу. Но в глубине души Аусса сознавал, что все это ни к чему. Никто не сможет защитить ловца жемчуга на глубине двадцати метров, потому что надо целых пятнадцать секунд, чтобы достичь дна, и пятнадцать — обратно.
Вот вынырнул и Камес и сделал свой первый вздох, болезненный и сладостный. Аусса подал ему руку. Солнце палило немилосердно, и кожа у него была уже совсем сухая. Лишь на волосах, густых и спутанных, как шерсть, висели капельки воды. Аусса несколько раз вдохнул воздух и прыгнул в воду.
А солнце все поднималось, искрясь испепеляющим жаром. Море блестело, как лист жести. Шесть лодок расположились на его поверхности огромным полукольцом, и ни одного звука, ни одного движения… лишь нагие смуглые люди исчезали поочередно в глубине и появлялись снова, издавая жалобные вздохи. По десять раз успели нырнуть Аусса и Камес, пока раковины гибли в лодке, раскрывая свои створки, словно желая вдохнуть свежий воздух. Но они вдыхали только смерть.
Потом на большой высоте летел альбатрос, и Аусса с тоской глядел на него, сам мечтая о таких вот крыльях, чтобы взять и полететь. Это было до того, как он в одиннадцатый раз нырнул в море. И потом он полетел, держа в правой руке груз… летел не как птица, а как камень. Он падал. Камес следил за ним, вытащил его камень и еще держал его в руке, когда увидел, что Ауссе пришел конец.
На дне было заметно какое-то слабое движение. Что- то заблестело — красное, фиолетовое, золотое, — но лишь на мгновение. Аусса странно рванулся, но остался на дне, словно прилип к нему. Это было непонятно. А затем в зеленоватой глубине расплылось темное облако… Это была кровь.
Камес вскочил на ноги.
Он простой человек и многого не знал. Он не знал, что такое планктон, чем питаются огромные тридакны, не догадывался, что они отворяли свои створки лишь затем, чтобы в огромном количестве заглатывать планктон, который им приносит вода. Но он знал, что опасно даже прикоснуться к прожорливому великану, который так чувствителен, что сразу же сожмет створки. И он знал, что края створок острее ножа. Знал, какая огромная сила у «сахалы», и что раковину эту не поднимут и двое взрослых мужчин.
Камес сразу понял, что случилось. Все еще держа в руках камень, он издал пронзительный крик, всполошивший все вокруг. Люди в других лодках оглянулись. Но они увидели лишь круги на воде; Камес камнем падал ко дну.
А Аусса, словно птица, висел в глубине, желая взлететь, но не в состоянии это сделать.
Тридакна, страшная «сахала», сжала ему запястье левой руки, до кости разрезала мясо, но не смогла перерезать руку, так как края створок никогда не бывают ровными. Аусса уже не чувствовал руки, но продолжал висеть на ней, не испытывая ни ужаса, ни страха, не сознавая, что он в последний раз видит солнце, которое, просвечиваясь сквозь зеленовато-синий полумрак, висело над его головой. Он не видел и Камеса, приближающегося к нему, он был загипнотизирован этим огненным шаром, а его сердце лихорадочно билось, и легкие были пусты.
Он не чувствовал боли, так велико было его смятение. Он не чувствовал, как Камес ножом отсек ему руку, оставив тридакне то, что она смогла захватить. Потом оба полетели наверх, к солнцу, и Аусса был так счастлив, что ему захотелось закричать… Но вода залила ему легкие, и тело его, словно вдруг почувствовав боль, поникло в объятьях Камеса. Они вынырнули на поверхность, и Камес увидел пять лодок, которые направлялись к ним, подгоняемые сильными ударами весел.
Глава II
Когда ловцы возвращались вместе с Ауссой, они радовались — аллах милостив, аллах не захотел послать на землю ангела смерти!
Это по его воле «сахала» размозжила руку Ауссы, а иначе Камес ничего бы не смог сделать своим ножом.
Аллах акбар! Аллах велик!
Так пели они высокими голосами, так тараторили они, потрясая лохматыми головами. Их сердца тянулись к радости, как у детей, они были детьми природы и любили жизнь, как дети. Смотри, Аусса жив! И они славили аллаха!
Увидев с берега приближающиеся лодки, хаджи Шере помрачнел и беспокойно подергал свою бороду, грязную, как метла. Это первый случай, когда ловцы вернулись раньше чем положено. Когда же он увидел Ауссу, лежащего в крови, то прикрыл себе лицо краем бурнуса и громко произнес слова корана: аллах делает живое мертвым и мертвое — живым. Таков аллах!
— Иншаллах! — поклонился сериндж. — Во всем его воля!
— Иншаллах! — склонились ловцы. Они были данакильцами, но предки их много поколений назад приняли ислам.
Ауссу вынесли из лодки и положили в тени на песок. Из обрубка руки струей лилась кровь, и мухи кружились вокруг. Мальчик Саффар сел рядом с ним и стал отгонять мух. А Аусса глядел в небо, словно ожидая появления аллаха или хотя бы альбатроса, того самого, который тогда летел к материку. Но небо было пустынным и таким блестящим, что Аусса закрыл глаза; хотелось заснуть и не ощущать боли. Он чувствовал, что жизнь вытекает из его тела, как вода из треснувшего сосуда.
И он закричал:
— О! Воды!
Ему дали пить. Потом принесли веревку и туго перевязали ему руку пониже локтя. Кровь продолжала течь. Веревку затянули потуже. Кровь все текла. Люди стояли над ним в замешательстве, не зная, что предпринять.
Саффар продолжал отгонять мух.
— Надо ехать в Джумеле, — решил Камес.
Хаджи Шере нахмурил брови. Он притворился, что не услышал совета. Ему не хотелось плыть до Джумеле и обратно; он потерял бы день лова и откуда знать, какая будет потом погода.
— К хакиму![2] — продолжал настаивать Камес.
Хаджи Шере взглянул на небо.
— Если аллах захочет, чтобы кровь текла, что сможет каким? — спросил он.
Никто не ответил.
— Кровь остановится, если этого захочет аллах, — продолжал хаджи Шере. Его взгляд встретил взгляд серинджа.
— Иншаллах, — поклонился сериндж. — Во всем воля аллаха.
— Иншаллах, — склонились люди.
Они любили жизнь, но ведь они были мусульманами. Никто не сможет изменить то, что аллах написал в кишмете; кишмет — это судьба, и никто ее не избежит. Так гласит коран. Что сможет сделать хаким? Ничего. Во всем лишь воля аллаха.
А кровь текла на песок. Но песок был сухой, и он жадно впитывал ее. Казалось, это ненасытные уста аллаха пили кровь. Он дал ее, он и берет ее обратно… Во всем его воля.
Так говорили они, стоя вокруг Ауссы и глядя на то, как течет кровь. Тогда сериндж решился на красивый жест и, оторвав край своего бурнуса, опустился на колени и забинтовал руку Ауссы. Кровь перестала течь.
— Возвращайтесь в море и продолжайте лов! — приказал хаджи Шере. — Мы сделали все, что могли. Аллах знает, что наша совесть чиста.
Его бегающие глаза склонились к земле, словно в молитве.
— Да, аллах это знает, — согласились ловцы. Они верили во всеведение аллаха, ведь об этом говорится в коране. И их совесть была чиста.
Они вернулись к лодкам. Камес сел в одну из лодок третьим. Хаджи Шере следил за ними. Сериндж рассматривал свой испорченный бурнус. Мальчик Саффар смотрел на повязку Ауссы, сквозь которую проступала кровь.
Этот день был такой же, как и все остальные дни в этом жарком уголке земли.
Ни звука, кроме плеска волн, ни движения, кроме самих волн, ничего зеленого, кроме зеленой тени, падавшей от судна «Эль-Кебир» на поверхность волн. Ни ветерка, ни навеса, где можно было бы укрыться от палящего солнца. Тень не спасала от жары. Казалось, что время остановилось. Но капли крови, падая на песок, словно отсчитывали секунды.
Аусса молчал; лицо у него было желтое.
Когда ловцы в полдень возвратились, чтобы засветло успеть рассмотреть добытые раковины, Аусса еще дышал. Увидев возвратившиеся лодки, сериндж снова оторвал край бурнуса и снова перевязал рану Ауссы. Хаджи Шере стоял на берегу, радостно улыбаясь.
— Эй! — кричал он. — Аллах милостив. Кровь течет мелкими каплями. Слава аллаху!
И люди встали на колени и горячо молились; было время после полуденной молитвы аср. Потом высыпали на берег свой улов и, распевая протяжные песни, стали раскрывать жемчужные раковины. Стоял ужасный запах гнили; ловцы руками отрывали от створок куски зловонного мяса и бросали его в море. Когда они кончили, сериндж подсчитал улов. Был он небольшой: горсть бильбилу, т. е. мелких жемчужин, не больше, чем булавочная головка.
И опять нахуда хаджи Шере опустился на колени и громко прочитал первые слова фатхи, молитву, которая заменяет присягу: я не скрыл ничего, что дал мне сегодня аллах.
И ловцы подхватили молитву, так как глаза нахуды бегали от лица к лицу, словно охваченные безумием. Но вот и фатхи закончена, и они подошли к Ауссе, который лежал на песке и был бледнее песка. Мальчик Саффар все еще отгонял мух, которых привлекала кровь на повязке.
— Спит, — произнес хаджи Шере. — Оставим его в покое.
Но Камес уже опустился на колени и приложил ухо к груди Ауссы.
Бегал.
— Мертв, — произнес он с удивлением.
— Как так? — удивился сериндж. — Не может быть?!
— Молчи! Не пытайся обсуждать поступки аллаха! — перебил его нахуда. С этими словами он наклонился и прислушался к дыханию Ауссы.
— Да, он мертв, — сказал нахуда, поднимаясь. И про тянув руки к небу, затянул дрожащим голосом стихи из корана:
— Люди же богобоязненные обретут жизнь спокойную, будут жить в райских садах, облаченные в шелковые одеяния… Так будет; а в жены получат они дев чернооких…
И сериндж и ловцы опустились на песок, подхватывая его слова. Лишь мальчик Саффар молчал. В его маленькой головке проносились мысли, которых он не понимал, перед глазами мелькали образы, которые он не улавливал. Но когда до его сознания дошло, что он молчит, он склонился и детским голосом стал повторять вслед за нахудой последние слова молитвы: …там не будет смерти, и сам аллах будет охранять их покой.
Еще минуту оставался в глубоком раздумье на коленях хаджи Шере. Потом встал.
— Похороните его, — обратился он к ловцам.
В песке вырыли могилу, а Саффар и другой мальчик натаскали камней и обложили тело Ауссы, чтобы уберечь его от хищников. Когда ловцы поднимали мертвого друга, сериндж заметил, что к его шее по-прежнему привязана сетка с тремя раковинами, его последним уловом. Он снял ее. Моллюски были мертвы, как и Аусса. И, отойдя на берег, сериндж засунул свои пальцы в разлагающуюся массу. Выбросил первую раковину. Выбросил вторую. Взял третью — и вздрогнул. На лице его выступил пот, а глаза, словно в ужасе, широко раскрыты. Это была большая жемчужина, круглая, как горошинка, и она сверкала на солнце трепещущим зеленым блеском.
— О, аллах! — шепнул сериндж. Он сжал кулак и оглянулся. За спиной стоял хаджи Шере; глаза его на мгновение перестали бегать с места на место, взгляд был направлен на кулак с зажатой в нем жемчужиной.
И разжал сериндж руку и показал жемчужину.
— Она совершенна! — заявил он. — Красавица!
Нахуда быстро ее оценил. И глаза его снова забегали по сторонам, не зная, где остановиться, от жемчужины к судну, от судна к морю и горизонту, где опускалось солнце, от солнца к людям, которые засыпали могилу.
— Возвращаемся! — крикнул он. — Возвращаемся!
Но ловцы продолжали засыпать могилу, сериндж нетерпеливо забегал по берегу.
— Плывем в Джумеле! — кричал он, — Быстро! Мы нашли Королеву Жемчужин! Быстрее, Али Саид засыплет вас серебром!
Люди столпились вокруг него, охваченные радостью, словно уже получили обещанное серебро, а когда они увидели жемчужину, то с счастливыми улыбками стали готовить судно к отплытию. При этом они, как птицы, пели высокими голосами.
У могилы остались лишь мальчики, Саффар и его друг, которые обкладывали ее камнями. Но камни были маленькие и не покрывали всю могилу.
Когда солнце зашло, судно «Эль-Кебир» уже плыло по морю.
Вот как случилось, что Аусса погиб, ибо в море был планктон, иначе бы створки «сахалы» были закрыты, и рука Ауссы осталась бы невредимой. Но имелись и другие причины его смерти, и хотя у Саффара и была ясная голова, сам он еще так юн, что не мог рассуждать о неисповедимой воле аллаха.
Глава III
Шейх Али Саид, господин Дахлакских островов, жил в Джумеле, расположенном на берегу самого большого острова этой группы, который назывался Дахлак-эль-Кебир. Дом, где жил Али Саид, был побелен, и его можно видеть далеко с моря сквозь просветы в аллеях финиковых пальм. Пальмы были высокие и давали обильные плоды, хотя и росли на голой земле, не покрытой травой; так всегда бывает на Востоке. Лишь кусты граната и жасмина зеленели под пальмами. Сама земля была бурая. И стволы пальм бурые, как какао. Плоды пальм были сначала желтыми, потом золотыми, а когда созревали, становились красно-бурыми. И весь этот бурый сад имел грустный и печальный вид.
Но пальмы Саида были единственными деревьями в этих местах, и сразу же за садом желтел песок, который днем раскаляло солнце, а ночью месяц поливал своими лучами, серебристыми, как иней; тогда шакалы, подняв морды, выли на луну. Кроме дома Саида, в Джумеле были еще жилище каида[3], несколько рыбацких хижин и дом, где жил брат Саида Азиз, развлекавшийся тем, что мучил своих черных невольников. Азиз был низенький желчный мужчина с усами, докрасна накрашенными хной, и с вечно грязной одеждой, всегда охваченный жаждой мучить других. Саид презирал его.
Али Саиду было тогда еще только 40 лет, но он уже давно носил славный титул Господина Жемчуга. Он гордился им. Это был высокий мужчина с кожей, по цвету напоминающей кофе, разбавленное молоком. У него были тонкие ноздри, нос с горбинкой, как у хищной птицы, а усы подстрижены по-йеменски. На чалме у него была зеленая лента — отличительный знак потомка пророка.
О нем говорили, что он ненавидел женщин. Это была неправда, он только презирал их, как презирал все, кроме жемчуга. Верхние этажи его дома занимали обширные помещения гарема: когда-то там жило семь его жен. Но эпидемия холеры, посетившая остров, взяла из дома Саида все молодое: шесть жен из семи и всех девятерых сыновей, которых дали ему жены. И в доме Азиза эпидемия унесла только молодых, и теперь Азиз был тоже без детей. У Саида осталась только старшая жена, от которой он уже не ожидал потомства. Тогда он привел в дом молодую жену, не из-за того, конечно, что он любил ее, а из-за того, что хотел, что должен иметь сына. Ее звали Зебиба, она была уже беременна, и ожидали, что скоро должна родить.
Зебиба была йеменка. Али Саид — его предки пришли из Йемена — обожал все йеменское. Йемен, считал он, это древняя, славная земля, где сохранились арабские порядки и обычаи. Али Саид пил йеменское кофе мур, т. е. кофе, размолотое в порошок и приправленное гвоздикой и корицей. Он пил его, сидя у фонтана во дворе дома, и смотрел вверх на окна, за которыми Зебиба дожидалась своего часа. Потом поднимался на верхнюю террасу и опять пил кофе мур, глядя на море. Оно было серо-голубое и покрыто белыми узорами волн, как йеменский ковер. Все, или почти все, что на нем появлялось, принадлежало ему, Саиду. Исключения бывали редки, слишком уж мало чужих кораблей заходило в эти отдаленные места. Когда на горизонте виднелась мачта, он зная, что это судно с ловцами жемчуга и что судно принадлежит ему. Он был Сахиб-эль-Сембук, Господин Кораблей… да и Господин Жемчуг тоже, так как иметь средства для лова жемчуга — это значит иметь и улов.
Были дни, когда в маленькой гавани в Джумеле рейд был заполнен судами ловцов жемчуга, многим из них не хватало места в гавани, и они бросали якорь вдали от берега. Потом, на другой день, корабли уходили в море, и гавань пустела… лишь иногда ночью темная тень бесшумно скользила по волнам, направляясь в открытое море. Это были суда рабовладельцев, и они везли черных рабов из Хабеша и Эритреи к арабским берегам, скрываясь в темноте от английских и итальянских сторожевых судов. И хотя Али Саид не любил говорить об этом, но и эти ночные тени частично принадлежали ему.
На другой день после смерти Ауссы море было пустынно, а в гавани Джумеле стоял на якоре лишь один «Эль-Кебир», который приплыл ночью. Солнце еще не поднялось над горизонтом, а нахуда хаджи Шере и сериндж уже стояли у ворот дома Али Саида, прося допустить их к Господину Жемчугу. Их принял евнух Башир.
Все скопцы к старости имеют склонность к ожирению, но ожирение Башира было необычным: казалось, что Башир растекался… что вместе с мужскими признаками он потерял и определенность своих форм. Да, так оно и было. Башир стал скопцом еще будучи десятилетним мальчиком, тогда, когда такая операция в Хабеше была большой редкостью, и после этого его тело долгое время было телом нормального человека. А потом понемногу… Но любовь Саида дала Баширу многое; он был управляющим дома, пил шербет, ел медовые лепешки, и невольники трепетали при звуках его писклявого голоса. Что еще нужно бедному скопцу? В последнее время его, как и Али Саида, охватила страсть к жемчугу.
Когда Башир ввел гостей во внутренний двор дома, Али Саид лишь слегка кивнул им головой.
И поклонились нахуда и сериндж, и приветствовали его, касаясь пальцами лба, сердца и губ. Лишь после этого Али Саид пригласил их сесть. Но разговор начался не сразу, так как нельзя было, чтобы низшие начинали его, и нельзя было, чтобы вельможа проявил свое любопытство. И лишь когда нахуда и сериндж выпили по чашечке йеменского кофе, Саид открыл рот, чтобы произнести первое слово. И можно было видеть его зубы, острые и белые, как клыки хищника.
Разговор был продолжительный, потому что сначала говорили о пустяках. Нельзя начинать с объяснения своего визита; хозяин мог подумать, что гости пришли из-за дела, а не ради него. И гости, и хозяин курили наргиле, и казалось, что время остановилось. Тихо было в доме Саида, и только звенел фонтан, распространяя вокруг прохладу.
Глава IV
Когда Господин Жемчуг увидел добычу Ауссы, его лицо осталось каменным, но ноздри вздрогнули.
Он взял жемчужину и, рассматривая ее прищуренными глазами, взвесил на ладони. В темном помещении она словно светилась.
Потом Саид встал и подошел с ней к окну, рассматривая ее как пальцами, так и глазами. Из кармана вынул лупу; сейчас он напоминал опытного ювелира.
— Это красавица, Саид, — сказал сериндж, который был не в состоянии переносить тишину.
Али Саид пожал плечами.
— Есть еще одна такая? — спросил он, катая жемчужину между пальцами, как хлебный шарик.
— Сам знаешь, о Саид, что аллах раздает счастье по каплям, — с усмешкой отвечал хаджи Шере, но глаза его яростно забегали по сторонам.
Саид не отвечал. Он снял с полки весы. И, взвешивая жемчужину, он напоминал уже аптекаря.
— Она стоит сорок фунтов, но я дам вам пятьдесят, — сказал он, наконец.
Сериндж потемнел.
Хаджи Шере снова усмехнулся:
— Ты шутишь со своими слугами, Саид. Ладно. Но если бы ты отрубил мне руки, эта шутка была бы менее жестокая.
— Руки рубят преступникам, — ответил сухо Али Саид и засунул жемчужину в красный кошелек.
— Эта жемчужина стоит сто двадцать либров! — воскликнул сериндж. — Правда, она зеленоватая, но…
Али Саид усмехнулся. Он знал лучше, чем кто-либо другой, что морская вода изменяет цвета жемчужин, что на воздухе они принимают другие оттенки: зеленоватая жемчужина со временем белеет, белая — зеленеет. Улыбаясь, он подвесил кошелек с жемчужиной к своему поясу.
— Жемчужины, как и люди, проверяются только временем, — произнес он задумчиво. — Есть жемчуг со скрытым пороком… Я дам вам шестьдесят либров. Время покажет, дорогая она или нет. Пока же…
Сериндж потемнел от бешенства. Али Саид не обращал на него внимания. Ключом, который висел у него на шее, открыл йеменский сундук и отсчитал сорок фунтов. Двадцать фунтов — треть добычи — были платой за его лодки. Но, держа в руке сорок фунтов, он на мгновенье замер.
Сериндж стиснул рот, а глаза нахуды забегали по сторонам.
Но Саид добавил еще один фунт.
— Ловцу, который нашел ее.
— Он мертв! — сказал сериндж. Дыхание его было прерывистым.
— Иншаллах. На то воля аллаха, — ответил Али Саид и взял либр обратно. Хаджи Шере следил за его движениями. Потом молча сгреб деньги. Саид хлопнул в ладоши, и Башир появился так быстро, словно ожидал за дверьми. Его бесформенное лицо колыхалось.
— О, сын ослицы и мула!
Эти слова, которые он так тщательно сдерживал, находясь в доме Саида, хаджи Шере бросил в лицо серинджа.
— О, сын ослицы и мула! Зачем ты вмешиваешься в разговор, когда тебя не просят?
Сериндж покраснел.
— Саид все равно узнал бы, что один из ловцов погиб, — возразил он, обтирая концом чалмы пот со лба.
— Но не тот, который нашел жемчужину! О, ты сын тысячи ослиц и мулов!
Сериндж ничего не отвечал.
Они направились к пристани, но, не доходя до нее, остановились, чтобы поделить деньги; одну часть серинджу, две части — нахуде. Сериндж получил 13 либров, нахуда 26 либров, один либр остался. Потом они двинулись дальше и еще издали услышали голоса ловцов.
Те пели. Были они счастливы, потому что нахуда и сериндж понесли Саиду жемчужину и принесут от него много серебра. Поэтому они и пели. Они пели о тучных баранах, которых зажарят на вертеле и съедят, о курицах, которых сварят и съедят, о меде, в котором, словно рыбы, будут плавать лепешки, о серебре, которое будет звенеть. О женщинах с большими черными глазами, которых они смогут купить за это серебро… О всем этом пели они, как дети, тешась своими мечтами. И маленький галла пел о сале, которое будет сочиться из зажаренного барана и шипеть на огне, словно змея. И мальчик Саффар пел о ноже, который он купит в Массауа, и который он будет носить на шнурке, привязанном к шее, как это делают взрослые мужчины. Все пели. Утро было прекрасное, и плоды фиников зрели в пышной листве.
Но вот пришли сериндж и нахуда, и лица у них были темными. Ловцы умолкли. А нахуда, войдя на палубу, простер руки к небу и произнес напыщенно:
— Аллах справедлив! Он не терпит несправедливости и наказывает зло!
Потом он замолк и, усевшись на палубе, закрыл лицо руками.
А ловцы сразу помрачнели, собрались в кружок и начали тихо и боязливо о чем-то говорить.
— Аллах акбар, — произнес сериндж. — Аллах велик. На небе он наградит праведных, которые страдали при жизни. Мы мало получили за жемчужину.
— Мы мало получили, но хорошо вам заплатим, — прервал его нахуда. — Саид дал лишь пятнадцать фунтов. Две части нахуде, который кормит вас, одну часть серинджу, который покупает для вас табак, а остальное — вам, счастливым, которые едят мою пищу и курят табак серинджа.
С этими словами он выгреб из кармана горсть мелких монет. Ловцы по очереди подходили к нему, нахуда клал на ладонь каждому монетку и говорил:
— Тебе, о счастливый, который ест мою пищу и курит табак серинджа.
Мальчик Саффар и его товарищ не получили ничего; их кормили, и этого было достаточно.
Когда эта процедура окончилась, хаджи Шере встал и хотел уйти в свою каюту. Но ловцы столпились вокруг него, сжимая в руках монетки и глядя на него так, словно спрашивая или ожидая чего-то. Глаза хаджи Шере забегали по сторонам.
— Денег больше нет, — сказал он.
Но ловцы не сдвинулись с места, и один из них пробормотал:
— Сериндж обещал, что нам будет большая награда.
— Обещал, — грустно согласился сериндж. — Но не было на это воли аллаха. Саид спрашивал, кто нашел жемчужину.
— А кто ее нашел? — спросил с ударением нахуда.
— Аусса…
Ловцы поглядели друг на друга. Они вспомнили незасыпанную могилу. Сердца их заволновались, как сердца маленьких детей, они уселись в кружок и запели грустную песню, которую забыли пропеть вчера, охваченные неотвязчивым видением серебра.
Пели они долго, и в их песнях слышалась то тоска, то слезы, то гнев. Тогда хаджи Шере вышел на палубу, хлопнул в ладоши и закричал:
— Перестаньте! Мало заплатил Саид, нахуда прибавит. Купите себе барана!
И он кинул им денег.
Они перестали петь, купили старого, тощего барана (на большее не хватило денег), зажарили его и съели. Потом легли спать. Об Ауссе они уже не думали. Утром отплыли снова, вспоминая о вчерашнем пире; им почему- то представлялось много тучных баранов, лепешки с медом и много серебра; такова душа детей Востока.
Встречаясь с другими ловцами, они рассказывали о жемчужине необыкновенной красоты. Так о добыче Ауссы узнали все на берегах и островах Красного моря.
А Али Саид молился на свою жемчужину, был очарован ее таинственным блеском и вместе с Баширом часами любовался ею, замечая как она со временем становилась более светлой, дорогой и прекрасной.
Наконец, она стала совсем белой, но история наша на этом не оканчивается, потому что эта жемчужина и привела в Джумеле господина Бабелона.
Глава V
Господин Бабелон объявился на побережье Красного моря незадолго до смерти Ауссы. В один прекрасный день он сошел в Массауа с почтового парохода, коренастый, невозмутимый, улыбающийся, в руке — большой зеленый зонтик, на голове — красная феска, в синих очках и с белым плащом, перекинутым через руку. Он был похож на богатого египтянина, и не старался опровергнуть это, хотя и был — как теперь выяснилось — марионигом[4] из Бейрута.
Сначала он остановился в гостинице — если этот дом для приезжих можно назвать так громко — и проявил любопытство ко всему, что касалось жемчуга. Родом сириец, он хорошо владел арабским языком, но также хорошо говорил по-итальянски, французски и турецки.
Знание арабского и турецкого языков весьма упростило его задачу. И он стал завсегдатаем кофеен в Массауа, куда часто захаживали купцы и торговцы жемчугом.
Оказалось, что чужеземец разбирается в жемчуге. Это было первой причиной успеха, потому что его интересовал лишь самый лучший товар; мелкие жемчужины он ни во что не ставил. С хладнокровием отказывался и от цветного жемчуга, который ценится на Востоке. Но зато от имени парижской фирмы Роземан скупал все дорогие жемчужины бледных оттенков, какие только ему попадались.
Того, что он представляет крупную европейскую фирму, господин Бабелон не скрывал. Это лишь поднимало его авторитет, потому что раньше жемчужина, прежде чем попасть в Европу, проходила через много рук; ее путь начинался от Али Саида и кончался в Измире, Стамбуле или, в лучшем случае, в Александрии. А не лучше ли продавать без перекупщиков, пользоваться услугами мастера, а не подмастерьев?
Не прошло и месяца, а господин Бабелон уже чувствовал себя в Массауа, как дома; он нанял дом и обставил его такой смесью Европы и Востока, на какую был способен только человек, находящийся между этими двумя мирами. Так, например, в одной комнате рядом с канцелярским письменным столом высилась груда восточных подушек, на которых он любил сидеть или курить с приятелями наргиле. Этот письменный стол производил на жителей Массауа большее впечатление, чем лучшие образцы мебели; и дом господина Бабелона стал магнитом для всех любопытных глаз, тем более что хозяин ни перед кем не закрывал дверей. Но это еще не все: для пущей важности он показал гостям граммофон с чудесной трубой, разрисованной лилиями.
Без сомнения, гостеприимство было очень выгодным для хозяина дома: люди приходили, приносили новости, а господин Бабелон слушал. Чаще всего он молчал, редко задавал вопросы. Он молчал, а его маленькие глаза смеялись, и мозг неутомимо работал, откладывая все интересное в своей памяти. Люди уходили, довольные граммофоном, а господин Бабелон был доволен тем, что он все знает. Все. И обо всем. О всех жемчужинах и о том, где кто что выловил. О всех трюках, которые можно делать с жемчужинами. Знал он и о многом другом. Но о своих познаниях господин Бабелон никому ничего не говорил.
Вот так и случилось, что господин Бабелон одним из первых узнал о жемчужине Ауссы, которая, по слухам, была величиной с вишню и красоты необычайной. Это произошло однажды вечером. На рассвете следующего дня он уже стоял на палубе парусного судна, с попутным ветром летевшего к Джумеле.
Ветер был такой сильный, что мужчина в голубых очках был вынужден сложить свой зеленый зонтик. Потом он снял красную феску и стал совсем простоволосый — если можно сказать это о голове с такой совершенной плешью. Он стоял на палубе, как моряк, широко расставив ноги, и на губах его играла улыбка человека, уверенного в своей силе. Сколько ему лет? Трудно сказать. Может тридцать, может пятьдесят. Он из тех людей, внешность которых формируется еще в молодые годы и потом уже не изменяется. Можно даже поверить, что господин Бабелон так и родился с лысиной… да, пожалуй, и в этих синих очках.
Пролив между Массауа и Дахлакскими островами имеет в ширину около пятидесяти морских миль, и Бабелон мог прикинуть, что достигнет места назначения лишь после захода солнца. Но он был терпелив. Стоял и усмехался, словно в кармане у него уже лежала эта самая жемчужина величиной с вишню. А надо величиной со сливу, слышите, вы, идиоты из Массауа! Господин Бабелон довольно усмехнулся. Он не верил чудесным сказкам, но знал, что они всегда имеют под собой основание, и в этом он не ошибался.
Хотя господин Бабелон и не проявлял нетерпения, но все же нахмурился, когда ветер переменился и принудил судно выполнять сложные и многочисленные маневры. Его очень интересовал Али Саид — Господин Жемчуг, о котором ему рассказывали прямо сказки. Он прибыл на Дахлак лишь ночью.
Известие, что к пристани приближается судно со странным чужеземцем на палубе, пробудило любопытство у Али Саида; такое случалось очень редко. А господин Бабелон недвижно сидел на палубе и отправился с визитом лишь после часовой молитвы аср, которой он дал понять, что чтит мусульманские обычаи.
Его принял Башир, сопровождаемый для большей пышности четырьмя черными невольниками; он едва удержался, чтобы не поклониться чужеземцу, так величественно тот выглядел. Господин Бабелон не поклонился тоже, чему толстый евнух был рад. Он поклонился только Саиду, да и то по-европейски. Это было на верхней террасе, откуда открывался вид на морскую даль. И господин Бабелон не смог удержаться, чтобы не поднести к глазам бинокль, который висел у него на груди.
Глаза Саида сузились, уже давно он мечтал о бинокле.
— Я вижу судно, — непринужденно сказал господин Бабелон. — У него две мачты и оранжевые паруса с заплатой в верхнем углу. Это твой корабль, о Саид?
Он приставил бинокль к глазам Саида.
— Это мой корабль, — кивнул тот. Потом осмотрел бинокль. — Хорошая вещь, — добавил он сухо, обращаясь к чужеземцу.
А господин Бабелон поклонился ему второй раз, одновременно протянув руку с биноклем.
— Он твой, Саид, — сказал он.
Саид поклонился ему, потом хлопнул в ладоши.
— Отнеси, — бросил он Баширу.
Потом они сидели и пили кофе мур.
— Ты очень богат, — заметил Саид.
— Я покупаю жемчуг для фирмы Роземан в Париже, — отвечал господин Бабелон, словно это объясняло все. Али Саид улыбнулся, хотя слышал о фирме Роземан первый раз.
— Я продаю жемчуг, — согласился он. — Принеси красный кошелек, — бросил он Баширу.
Господин Бабелон заглянул в кошелек и отодвинул его.
— Я покупаю только хороший жемчуг!
Саид улыбнулся.
— Принеси желтый кошелек, — кивнул он Баширу.
Господин Бабелон порылся в желтом кошельке и покачал головой.
— Я покупаю только самый лучший жемчуг!
— Такого жемчуга нет, — отвечал Саид.
— Есть одна жемчужина, которую принес тебе корабль «Эль-Кебир».
Али Саид ничего не отвечал. Он смотрел на море. Потом пожал плечами:
— Ничего не знаю…
Господин Бабелон замолчал. Они допили кофе, и Саид поднялся.
Господин Бабелон возвратился на корабль задумчивый. Много времени просидел он неподвижно на палубе, а когда, уже дал приказ к отплытию, двое невольников принесли мясо, овощи и фрукты — дар Саида. И господин Бабелон отменил приказ об отплытии; сам попробовал только финики, а остальное отдал команде. Этой ночью он долго не мог заснуть и долго смотрел на море, которое фосфоресцировало, потому что в нем был планктон.
Рано утром приехал на муле Башир и передал господину Бабелону приглашение от Саида. Господин Бабелон усмехнулся, весь день ловил удочкой рыбу, а после молитвы аср отправился с визитом.
Саид принял его в той же комнате, где произошел его разговор с серинджем и нахудой.
— Я думал о той жемчужине, — начал он. — Ты думаешь, что я солгал; я ничего не знаю о ней.
— Верю тебе, — поклонился ему господин Бабелон.
Потом они говорили о пустяках, а солнце клонилось к западу, похожее на золотую монету. Господин Бабелон думал уже, что день потерян напрасно. Но тут Али Саид встал и, глядя ему в глаза, сказал:
— Ты отплываешь с пустыми руками. Ты подарил мне вещь, которая мне очень правится. Я покажу тебе что-то, что очень тебе понравится, потому что ведь ты знаток.
Но дать тебе ее я не могу.
Ключом, который висел у него на поясе, он отворил йеменский сундук и вытащил шарообразный хрустальный сосуд с плоским дном. Он был наполнен прозрачной водой, но когда Саид поднес его к свету, господин Бабелон увидел, что не напрасно потерял день, что теперь он потеряет и ночь, потому что сегодня уже не уснет.
Дно хрустального сосуда было покрыто слоем жемчужин, но казалось, что дна нет вообще и есть только какое-то неестественное свечение, голубоватое, неосязаемое облачко, по краям которого поднимаются хрустальные стенки сосуда, грубые и явно материальные. Так выглядело благородное стекло в сравнении с блеском жемчужин. Они были бледными. Но есть много оттенков белого цвета: сахар тоже белый, но рядом со снегом он серый. А снег был бы серым рядом с этими жемчужинами! Об этом подумал господин Бабелон в первый момент своего восхищения. Он подошел поближе. Было видно, что жемчужины разных размеров — любая не меньше горошины — и все абсолютно круглые. Он напрягал глаза, чтобы увидеть в этой массе хотя бы одну жемчужину с пороком, хотя бы один несовершенный экземпляр, жемчужину с темным блеском. Но он не находил их, видел перед собой лишь холодное мерцающее пламя. Потом попробовал прикинуть количество жемчужин и их цену… Но ничего у него не вышло.
— Да, здесь жемчужины жемчужин… — шепнул он.
— Это лучшие жемчужины в мире, — кивнул Саид. — Одну из них нашли мои люди с корабля «Эль-Кебир». Какая из них? Не знаю. Ее не найти. Не знаю, какая из них она. Я не лгал тебе: не знаю.
Он поставил сосуд на подоконник и сел, глядя на него широко раскрытыми глазами безумца. У дверей, словно сторож, стоял Башир, и на его бесформенном лице был тот же сумасшедший взгляд.
Господин Бабелон тоже сел. Он был спокоен.
— Я купил бы все, — заявил он.
Али Саид засмеялся одновременно с Баширом:
— Я богат, как султан!
— Богаче! — качнул головой господин Бабелон. — Скажи свою цену. Я пошлю каблограмму в Париж.
Башир хихикнул своим неприятным голосом. Но Саид лишь покачал головой:
— Свет луны не продается!
Минуту стояла тишина. Али Саид словно в экстазе смотрел на подоконник.
— Их девяносто шесть, — начал он, кивая головой в такт словам, словно читая коран. — Отец моего отца начал собирать их. Мой отец собирал их сорок лет. Я начал около двадцати лет назад и добавил сюда восемнадцать…
— Лишь одну в год? — удивился господин Бабелон.
— В некоторые годы по две, в некоторые — ни одной, как этого хотел аллах, — пожал плечами Али Саид. — Теперь их девяносто шесть — все, что аллах позволил взять у этого моря.
Господин Бабелон поднял голову:
— Все? Некоторые жемчужины могли и пропасть, Саид. Ловцов много, а море большое.
— Аллах велик, — отвечал с усмешкой Али Саид. — Море это капля на его ладони, а я тот, кому он доверил свои драгоценности.
Он медленно поднялся.
— Я Господин Жемчуг! — воскликнул он. — Ни одна не минует меня. Не сможет! Не смеет!
— А если б миновала, мы бы знали об этом! — вмешался Башир.
— Знали бы об этом, — кивнул Саид. — Нельзя утаить такую жемчужину. От меня нельзя. Все проходит через мои руки. Только то, что я отвергаю, идет в продажу. И этого хватает.
Господин Бабелон кивнул. Так и было. Али Саид был Господином Жемчугом. Корабли принадлежали ему. Но и те, которые искали жемчуг на своих судах, шли к нему, если случалась хорошая добыча. Только лишь безумец отважился бы разгневать Али Саида, Господина Жемчуга.
…Глядя на сосуд и снова поддаваясь странному очарованию, он подумал, что эта поблескивающая кучка есть все, что за столетие дало одно из лучших жемчужных мест на земле… Да, это было все, горсть блестящих шариков, которые называют жемчужинами лишь по невежеству и недостатку сравнений.
С усилием он освободился от этого очарования; ведь он прежде всего купец.
— Я куплю их, Саид, — заявил он. — Скажи любую цену — я приму ее. Или продай часть из них, ведь у тебя достаточно.
— У меня их недостаточно, — громко засмеялся Саид. — Никогда их не будет достаточно! Я любовник этих жемчужин, а не только их господин!
Он взял сосуд и понес его к сундуку. Вдруг судорожно рассмеялся:
— Я не продам их, даже если буду умирать с голоду. А я ведь не умираю. На что мне деньги? У них нет души. А у жемчужин она есть. Поэтому они и не украшают глупых женщин. Знаешь ли ты это?
Господин Бабелон не отвечал. Он знал, что у жемчужин нет души, что они не вечны, что их разъедает пот, что они гаснут в нездоровых испарениях, что воздух губит их. И то, что Али Саид называл «смертью жемчужины», он называл «химическая реакция».
— Зачем ты держишь их в воде? — спросил он. — Хочешь сохранить их?
— Да, — кивнул Али Саид. — В чистой дождевой воде они не стареют и не умирают.
Он запер сундук.
Господин Бабелон встал:
— Но ведь ты умрешь, Саид. А сына у тебя нет.
Али Саид смутился.
— У меня будет сын… Если на то будет воля аллаха, — добавил он поспешно.
— Хорошо. Я подожду и куплю жемчужины у него, — засмеялся господин Бабелон. — Я очень терпелив.
Засмеялся и Саид, а у Башира от смеха затряслось лицо.
Этим же вечером господин Бабелон отплыл в Массауа, и действительно, ночью он плохо спал, тем более, что море было неспокойным.
Неделю спустя Зебиба родила Али Саиду сына. Был он хилым ребенком, и все говорило о том, что он не выживет. Из страха перед таким исходом его назвали Абдаллах, т. е. сын божий.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Глава I
Смерть Ауссы была лишь первым шагом на пути к дальнейшим событиям, которые начались тогда, когда к ста пятнадцати жемчужинам Саид прибавил еще одну.
Это произошло в 1913 году. Корабль Саида «Йемен» стоял на якоре среди залежей жемчужных раковин к югу от Дахлака. Нахудой на нем был хаджи Шере — теперь уже сморщенный, как старая клюква, и усы у него совсем белые, — а самым старшим из ныряльщиков был сомалиец Саффар, тот самый, который мальчиком носил камни на могилу Ауссы.
Но сам Аусса давно забыт. Из всей команды старого «Эль-Кебира» остались в живых лишь двое, хаджи Шере и Саффар; остальные постепенно исчезли, так же как сам «Эль-Кебир».
«Йемен» приходился родным братом «Эль-Кебиру». За ним также плыли на буксире длинные, низкие лодки — хури, но теперь их уже семь. И также на нем были молодые смуглые ловцы жемчуга, данакильцы и сомалийцы, и так же два мальчика занимались приготовлением пищи. Сериндж на нем новый. Звали его Бен Абди, и был он высокий, тучный мужчина, который вечно тер себе спину длинным скребком из рыбьей кости.
С возрастом на икрах и бедрах Саффара наросло немного мяса, но ноги так и остались длинными, худыми ногами африканца. Зато грудная клетка сильно увеличилась, благодаря постоянным упражнениям в дыхании, а мускулы рук были словно из тукового дерева.
Когда Саффар с веслом в руках сидел в лодке, он казался живым воплощением силы. Это впечатление еще более усиливалось, сравнением с узкими плечами мужчины, который сидел в его лодке. Он тоже сомалиец, звали его Раскалла. У него усталые, испуганные глаза; он еще не привык к спускам на большие глубины.
Когда лодка достигла места лова, Раскалла нырнул так, как когда-то нырял Аусса — с сеткой и камнем. Потом нырнул Саффар…
А Раскалла поспешно оглянулся, скорчился в лодке, взял одну из раковин, которую только что достал со дна моря, и раскрыл ее ножом, ища жемчужину…
Он делал так уже много дней, но всегда раскрывал лишь одну раковину, прося прощения у аллаха. Он знал, что ожидает ловца, укравшего жемчужину, и поэтому боялся. Но больше всего боялся аллаха. Поэтому открывал в день лишь одну раковину, оправдываясь перед самим собой, что он не хочет воровать и не ворует; ведь он мог положить в сетку одной раковиной меньше! А эта раковина принадлежит ему.
Но до сих пор он не нашел ни песчинки. И он продолжал испытывать судьбу, потому что должен был найти жемчужину! Ему казалось, что иначе он скоро умрет.
И Саффар знал, что Раскалла тайком вскрывает раковины, потому что, когда он однажды поднимался на поверхность, увидел раковину, которая падала на дно медленно, как сухой лист; это мог сделать только Раскалла. Но Саффар молчал.
Раскалла был из тех немногих ловцов жемчуга, которые начали нырять уже в зрелом возрасте.
Еще год назад он жил в Сомали, ловил рыбу и выращивал растения, из которых потом выжимал благовонное масло. Рыбу он носил на базар, а масло продавал «саладину», потому что другого покупателя не было. Саладин сидел у себя в доме, закутанный в белый бурнус, и курил наргиле. В селенье был один саладин. В каждом селенье был только один саладин, и он сидел и курил наргиле, сколько саладинов, столько наргиле, сколько селений, столько саладинов. Это были арабские купцы, и у них были разные имена, но народ звал их «саладинами». А они звали народ «баркале», что означает «тот, кто не имеет подушку», т. е. нищий, бродяга.
Прошедший год был богат рыбой и маслом. Раскалла наскреб немного денег и привел в дом жену. Чтобы оказать уважение «своему» саладину и обеспечить себе его дружбу, он послал ему в подарок рыбы. Но случилось так, что саладин во время еды подавился и несколько дней не мог курить наргиле. Он обвинил Раскаллу, что тот хотел навредить ему и публично его оскорбил. Раскалла разошелся вовсю и заявил, что саладин просто объелся, что часто случается с саладинами. Все смеялись над саладином, и тот отказался впредь покупать у Раскаллы благовонное масло. Раскалла отправился в соседнее селенье, но и тамошний саладин отказался от его услуг, заявив, что не хочет иметь никаких дел с злоречивым баркале. И Раскалла понял, что он нигде уже больше не сможет продавать свое благовонное масло.
Он возвратился домой и стал жить ловлей рыбы. Но однажды ночью, взглянув в окно, он увидел большой костер. Горела его лодка, а слуги саладина стояли вокруг нее и пекли на огне рыбу, нанизанную на прутья. Раскалла обнажил нож, но то же самое сделали и слуги саладина. Раскалла был вынужден смириться, но, взяв в свидетели аллаха, он поклялся, что пойдет к каиду и пожалуется на злодея. Но слуги смеялись: иди! Для каида и пекут они рыбу! Он частый гость в доме саладина!
Тут Раскалла понял, что это конец и что он должен покинуть селение. Но он не смог взять с собой жену, потому что она ждала ребенка. Так он попал в Массауа, где работал грузчиком в порту, носил бочки и мешки. Но на это он едва мог прокормить себя. И тогда в Массауа прибыл сериндж Саида, который искал ловцов жемчуга и обещал горы серебра тем, у кого окажется счастливая рука. Так и стал Раскалла ныряльщиком, будучи уже в зрелом возрасте, что очень опасно для жизни: сердце и легкие должны привыкать к глубине с малых лет.
А потом он очутился на «Йемене» и сразу же узнал две вещи: что горы серебра существуют только на устах у серинджа, и что смерть его близка. Но он не хотел умирать, потому что у него была жена и ребенок, которого он еще не видел. Лежа как-то ночью рядом с Саффаром и глядя на небо, усыпанное звездами, он рассказал ему о своей судьбе и просил совета. Но Саффар знал только то, чему его учили в детстве: судьба в руках аллаха. И он не мог дать совет… И когда он увидел раковину, которая опускалась ко дну, словно сухой лист, он понял, что Раскалла ищет жемчужину, чтобы продать ее и вместе с женой уехать туда, где нет ни жемчуга, ни саладинов. Поэтому он и молчал, хотя то, что делал Раскалла, было большим преступлением, и за это полагалась жестокая кара. Он надеялся, что аллах будет великодушен и поможет Раскалле. И вот, оказалось, что в голубом небе действительно есть аллах, и что он услышал его просьбу.
Глава II
Раскалла открыл раковину и отбросил ее. Она была пуста. Это была уже седьмая за день, потому что семь раз успел нырнуть он и каждый раз поднимал одной раковиной больше для себя.
Саффар вынырнул, перевалился через борт хури и высыпал свой улов. Но Раскалла все еще тяжело дышал. Кожа его лоснилась не от воды, а от пота. Это был тревожный признак; ныряльщик не должен потеть.
Саффар водил ногами в воде и ждал, глядя на море. Он чувствовал, что его взгляд побудил бы Раскаллу нырнуть. Это чувство было непонятно и для него самого, но он знал, что это так. Много было у него странных чувств, мыслей и догадок, каких не было у его друзей. Иногда ему казалось, что он чересчур много думает… Но и это было лишь странным неясным ощущением.
Узкая грудь Раскаллы вздымалась все свободнее. Но он все еще сидел в лодке даже и тогда, когда привязал сетку к пальцам ноги, и движения его были медленными и неуверенными. Он все еще боялся глубины, и страх этот он не мог преодолеть ни волей, ни привычкой. Он рыбак, а не ныряльщик. Но что сделает рыбак без лодки? Ничего. А о новой лодке нельзя и мечтать. Дерево — большая ценность на сомалийском побережье…
Он взял камень и прыгнул в воду. Но не нырнул, а чего-то ждал, держась за борты хури и глядя на худые ноги Саффара, мелькавшие в воде. А Саффар смотрел на густую шевелюру Раскаллы и снова испытывал странное, непонятное ощущение: он жалел этого запуганного мужчину. Он жалел его так, как жалел Ауссу, когда тот истекал кровью…
И в эту минуту, наверно, единственную за прошедшие годы, у него в голове пролетело воспоминание о безыменном острове и о крови Ауссы, которая вытекала и исчезала в песке, словно ее пил ангел смерти, посланный аллахом. И вдруг перед его глазами эта картина встала так ясно, словно была соткана не из воспоминаний, а из настоящих форм и красок: ловцы столпились в кружок, нагие и смуглые, на песке лежит нагой и смуглый Аусса… и нахуда протягивает к небу руки:
— Если аллах захочет, чтобы кровь текла…
В этот момент Раскалла с тихим всплеском погрузился в воду. Саффар наклонился над ящиком со стеклянным дном и следил за товарищем.
А Раскалла падал в голубую бездну, влекомый камнем. В голове его стучала неприятная, навязчивая мысль. Он знал, что умрет, но не хотел умереть здесь, в глубине. Он сжимал камень, словно тот мог защитить его, словно мог на него надеяться. Но вот он на дне. Но и там заколебался, не отпуская из рук камень, словно боясь остаться один. Наконец, отпустил его. По дну двигался вялыми движениями, словно был измучен ими. Он не мог иначе, он боялся! Он оторвал от камней несколько раковин и сунул их в сетку… а потом увидел жемчужину.
Это была «одинокая» жемчужина. Она выпала из раскрытой раковины и теперь лежала в расщелине скалы, как в футляре. Это было похоже на чудо. Но это не было чудом; иногда в море попадаются такие «одинокие» жемчужины. Выскользнув из раковины, они падают на дно, где их заносит песком. А эта упала в расщелину скалы.
И Раскалла нашел ее. В бескрайних, бесконечных просторах дна он бросил взгляд именно туда, где лежала эта жемчужина. Это было чудом, но он верил в чудеса, творимые аллахом.
Но в эту минуту у него не было времени раздумывать об этом. Он нагнулся за жемчужиной и засунул ее в рот. Потом начал подниматься на поверхность, хотя сетка была еще наполовину пустая. Но у него в легких уже не было воздуха. Он поднимался кверху, отчаянно перебирая руками, с ужасом думая о том, что утонет или что у него не хватит воздуха теперь, когда у него жемчужина, когда у него все!
Он по пояс выскочил из воды и схватился за лодку, тяжело дыша.
— Тише, тише, — успокоил его Саффар и поспешно нырнул, разглядев убогий улов Раскаллы.
Раскалла вскарабкался в лодку. Вытащил изо рта жемчужину. Она была круглая и немного зеленоватая. Он хотел спрятать ее, но не знал куда, ведь он был совершенно нагой, если не считать набедренной повязки. Он засунул ее обратно в рот.
Он был счастлив! У него была жемчужина, у него было все! Ему хотелось петь. Но он все еще тяжело дышал. Во рту ощущал жемчужину. Это была его жемчужина! Аллах акбар! Аллах акбар! Раскалла смотрел на небо и плакал.
Когда лов окончился, все семь хури направились к одному месту, туда, где стоял на якоре «Йемен», и где пахло мочой и гнилью.
Ловцы высыпали на палубу свою добычу, уселись на корточки и, распевая песни, протяжные, как само море, начали вскрывать мертвых моллюсков. Бен Абди следил за ними, расчесывая скребком свою спину.
Ловцы пели. А когда последняя раковина исчезла над водой, нахуда хаджи Шере и сериндж Бен Абди принялись скороговоркой читать молитву фатхи, так почитаемую ловцами жемчуга.
Люди подхватили ее. И Раскалла тоже раскрыл рот.
Но вдруг он вздрогнул и почувствовал, будто невидимые руки сжали ему горло. Он замолчал. Боли не чувствовал, просто что-то мешало дышать… И Раскалла знал, что это страх перед аллахом. Он не мог выговорить святую молитву фатхи; не мог поклясться. У него была жемчужина. Но он видел и блуждающие глаза нахуды, которые обшаривали людей, приближаясь к нему… Он начал беззвучно шевелить губами, словно читая молитву, но глаза его бегали по сторонам, словно у зверька, который не знает, куда убежать. И вот пристальный взгляд нахуды коснулся его лица и остановился.
Хаджи Шере смотрел на Раскаллу. Голос его сделался высоким, и ритм молитвы нарушился. Он выговаривал слова все быстрее и быстрее, и в конце концов они перешли в невнятное бормотанье… Молитва фатхи окончилась, и нахуда встал.
Он протянул руку к Раскалле. Его зрачки сузились.
— Ты молчал!
Сериндж тоже смотрел на Раскаллу своими выпученными водянистыми глазами; скребок в его руке дрожал.
— Почему ты молчал? Почему не читал фатхи? — спрашивал нахуда, и в голосе его слышалась угроза.
Раскалла открыл рот. Но какая-то непонятная сила сжала ему горло… и ему показалось, что жемчужина у него во рту растет, увеличивается, что каждый видит ее, словно она лежит на ладони. Он хотел заговорить, но не смог.
Сериндж Бен Абди медленно встал. Он приблизился и схватил Раскаллу за волосы.
— Почему молчишь? — крикнул он. — Говори!
Но Раскалла не мог говорить, и Бен Абди тряс его, словно желая вытрясти признание.
— Нет! — вымолвил, наконец, Раскалла.
И жемчужина выпала из его рта.
Настала такая тишина, что было слышно, как скрипит мачта, и волны плещут о борт корабля.
Потом нахуда и сериндж одновременно наклонились за жемчужиной. Поднял ее хаджи Шере. Они выпрямились и долго рассматривали ее. Снова стояла немая тишина…
Сериндж повернулся, и скребок в его руке протянулся к Раскалле.
— Нет! — выкрикнул Раскалла. — Я не украл ее! Я нашел ее на дне!
Но сериндж уже набросился на него:
— Пес! Сын пса! Пес!
Он работал кулаками, словно молотом. Он бил Раскаллу в лицо, в грудь, по плечам, но больше всего в лицо.
— Пес! Пес!
Хаджи Шере все еще рассматривал жемчужину. А ловцы сидели в кружке, неподвижно, словно истуканы, и глаза их бегали туда и сюда, от нахуды к Раскалле и обратно…
И Саффар видел на их лицах только любопытство. Любопытство и ничего больше. Любопытно видеть жемчужину — и любопытно видеть побои! Ничего больше… Лишь маленький Шоа, данакилец, смотрел на Раскаллу, и в глазах его стоял ужас.
Нахуда тщательно запрятал жемчужину в нижний карман и повернулся к Раскалле, который лежал ничком, скуля, как пес.
— Факих! Грабитель! — воскликнул он и пнул распростертое тело.
— Факих! — крикнул еще раз, и еще раз пнул.
— Факих! — крикнул в третий раз, и в третий раз пнул.
— Свяжи его! — бросил он серинджу. — Это преступник!
Потом отвернулся и протянул руки к небу:
— Аллах милосерд! Он послал нам жемчужину, которая обрадует Саида! Возвращаемся в Джумеле! Вам повезло, о люди! Саид засыплет вас серебром!
Ловцы поднялись. Большая детская радость была на их лицах. Взволнованно крича, они разбежались по палубе…
А Бен Абди связал Раскалле руки и ноги и в последний раз пнул его ногой.
Глава III
Рассвет уже окрасил верхушки финиковых пальм, когда «Йемен» бросил якорь в Джумеле. Бет-эль-Саид, дом Саида, белел на берегу.
Нахуда и сериндж передали Раскаллу каиду, который запер его в своем доме, потому что тюрьмы в Джумеле не было. Потом они отправились к Господину Жемчугу.
На корабле остались только ловцы. Они сидели на палубе и пели о своей радости, о дарах, какими осыплет их Саид, о всем том, о чем поют дети. Они ведь были детьми природы.
Саффар сидел рядом с маленьким Шоа. Глаза его были закрыты, лоб гладкий и блестел, как старое седло; казалось, он ни о чем не думает. Но он думал. Бессвязные мысли, яркие видения возникали из тьмы и снова исчезали, чтобы уступить место другим. Саффар не умел размышлять. Никто его этому не учил, и голова его напоминала легкие Раскаллы, который не владел дыханием. Его голова была занята лишь тем, что непосредственно касалось его: поисками жемчуга, поисками пищи. Но иногда в голове появлялись и более сложные образы, неясные, все время изменяющиеся… Вот такие образы охватили его и сейчас, и он закрыл глаза, словно темнота могла сделать их более отчетливыми.
Долго пели ловцы, и долго о чем-то думал Саффар. Потом он открыл глаза и прикоснулся к плечу Шоа:
— Пойдем к Саиду, — сказал он.
Но Шоа не понимал.
— Пойдем к Саиду и спасем Раскаллу, — продолжал Саффар.
Шоа повернул к нему удивленное лицо.
— Как?
Саффар не отвечал. Он сам ясно не представлял, как он сможет спасти Раскаллу.
У него был такой план: склониться к ногам Саида и крикнуть:
— Раскалла взял жемчужину, потому что у него не было выхода. Не губи его! — и это было все.
Он встал.
— Аллах да поможет тебе, — сказал Шоа. Он глядел на Саффара удивленными глазами.
Саффар сел снова. Он никогда не видел Саида. Он только знал, что тот большой, величественный и седой и что он всегда гуляет в прекрасных садах. В этих садах он его и найдет. Он бросится перед ним на землю. Саид поднимет руки к небу и воскликнет: Раскалла будет жив!
Когда он добрался до ворот дома Саида, он понял, что во внутрь ему не попасть; Саид не принимает нагих сомалийских ныряльщиков. Он долго шел вдоль глиняной ограды сада, пока не нашел место, где она была низкая и разрушенная. Он перескочил через нее и очутился в саду. Действительность оказалась ярче его представлений. Тени пальмовых верхушек лежали на земле, как большие черные звезды, в ручьях текла холодная прозрачная вода. Среди зелени алели гранаты, земля была коричневая и на ней росли кусты, покрытые белыми цветами. Было тихо и пустынно, лишь шелест пальмовых листьев доносился сверху, и птицы стучали клювами по стволам пальм.
Было очень красиво. На мгновенье он забыл про свою миссию, залюбовавшись садом; слишком долго он видел лишь море и скалы. Но потом с ужасом вспомнил, что никто не должен увидеть его здесь, тем более нахуда или сериндж. Он сошел с тропинки и крадучись стал пробираться между деревьями, направляясь к задней стене дома, откуда должен выйти Саид. Он не сомневался в этом: нельзя оставаться дома, имея такой сад.
Он приблизился к зданию и затаился в гранатовом кусте. Здесь решил ждать. Но тут же услышал поблизости голос нахуды.
Это повергло его в замешательство. Захотелось убежать отсюда, но он боялся, что хаджи Шере увидит его. Боялся и остаться здесь в зарослях граната, боялся глаз нахуды, которые бегают с места на место и все замечают… Ему пришла в голову мысль, что лучше всего скрыться на верхушке пальмы, среди ветвей, и он начал карабкаться на одну из пальм, стоявших у самого дома, наклонив к земле свои верхушки, увешанные гроздьями фиников. Он долез до половины ствола и остановился. Саффар увидел нахуду и серинджа так близко, что мог бы коснуться их, будь у него в руках пальмовая ветка. Они сидели на ковре прямо у окна, в которое заглядывал Саффар, а Саид — потому что высоким, величественным мужчиной в белой одежде мог быть только он — Саид давал им деньги.
Саффар был поражен ужасом. Он знал, что стоит одному из них поднять голову, и он будет обнаружен. Но они не видели его, занятые деньгами, а Саффар не отважился залезть выше. Он остался на прежнем месте. На ковре блестела груда серебра, и Саид прибавлял к ней все новые и новые горсти монет. Это был настоящий серебряный дождь, а Саффару до сих пор приходилось видеть только отдельные капли его.
Но вдруг поблизости раздались чьи-то шаги, он спрыгнул с пальмы, словно боясь быть заподозренным в краже, и бросился бежать…
Он бежал, хотя женщина, испугавшая его, сама застыла на месте от ужаса. Он не знал об этом и бежал из всех сил, направляясь к глиняной ограде, которую перескочил одним прыжком. Он не думал ни о Саиде, ни о своей просьбе, и в голове его была только одна мысль: бежать.
Добежав до моря, он окольными путями пробрался на корабль. Кожа его блестела от пота. А ловцы все еще пели…
Шоа приветствовал его вопросительным взглядом. И Саффар был вынужден закрыть глаза, потому что его мучил стыд. Он видел Саида, был от него так близко, что смог бы коснуться его пальмовой веткой… и убежал. Почему? Потому что боялся нахуды и серинджа. Теперь он уже не сможет спасти Раскаллу. Он испугался нахуды и серинджа. В этом все зло: он всегда будет бояться нахуды и серинджа…
А сериндж Бен Абди и нахуда хаджи Шере уже возвращались из дома Саида, и лица их были мрачными. Нахуда простер руки к небу:
— Иншаллах. Горе нам, о люди.
Сериндж с выражением глубокой печали на лице почесал себе спину.
— Саид не нашел жемчужину ценной. Он дал нам всего двенадцать фунтов, — сказал он неуверенно.
Саффар встал, словно подброшенный какой-то неведомой силой. Он сам не понимал, что с ним случилось, но чувствовал эту силу у себя в сердце, у себя в душе, переполненной возмущением:
— Лжете! Он дал вам больше!
— О, баркале! — возмутился сериндж, в гневе своем употребляя любимое слово саладина. Он шагнул вперед.
А Саффар закричал:
— Читайте фатхи!
Удивленный сериндж застыл на месте.
— Читайте фатхи! — настаивал Саффар.
— Да, читайте фатхи! — поддержал Шоа.
— Читайте фатхи! — потребовали остальные ловцы. Они улыбались. Им понравилась мысль о том, что и нахуда с серинджем должны поклясться святыми словами в своей честности.
— Читайте фатхи!
Хаджи Шере и Беи Абди стояли и молчали. Потом посмотрели друг на друга. Это было неслыханно… но они не могли отказаться; этим они только бы подтвердили подозрения.
— Читайте фатхи! — требовали ловцы. Они гримасничали.
Саффар начал отчетливо произносить святые слова, вкладывая в них всю душу.
Хаджи Шере и Бен Абди опустились на колени и раздраженными голосами стали читать молитву.
Саффар следил за каждым движением их губ; потом голос его стал все слабее и, наконец, как бы сломался… И внутри у Саффара тоже что-то сломалось: его наивная, слепая вера заколебалась. Ему было страшно. Казалось, что он вдруг увидел то, что ему никогда не доводилось видеть, увидел оборотную сторону всего возвышенного, святого, великого… Сериндж и нахуда читали фатхи, а до этого они солгали. И ничего не случилось, ангел не слетел с неба, и молния не вспыхнула в облаках, и не было слышно грозного, карающего голоса, ничего, ничего… Нахуда и сериндж не боялись ничего. Они читали фатхи не со страхом, а со злостью. В их душах был гнев. Вот они окончили молитву и встали.
Встал и Саффар. Лицо у него было грозное.
— Вы клятвопреступники! — крикнул он. — Клятвопреступники. Богохульники! Я видел все у Саида. Вы воры!
Бен Абди двинулся к нему. Но Саффар ускользнул от него и подбежал к борту корабля. Снова он поднял голову:
— Воры! Воры!
Что-то обожгло его — нож, который швырнул сериндж в слепой ярости.
Но он не обратил на это внимания.
— Воры! — кричал он изо всех сил. — Воры! Богохульники! Клятвопреступники!
Потом он бежал вдоль морского берега. Остановился лишь тогда, когда почувствовал, что истекает кровью. Нож серинджа нанес глубокую рану. Он вымыл ее прозрачной морской водой. Потом лег на песок, и в голове бесконечной чередой одна за одной оживали картины и образы…
Вечером он прокрался к кораблю. Шоа дал ему поесть. Саффар утолил голод и двинулся вдоль берега.
На следующий день ловцы с «Йемена» собрались перед домом Саида. Пришел и каид, мигая глазами за стеклами очков в жестяной оправе и перебирая янтарные четки; он делал это не из религиозных побуждений — для этого четки на Востоке не применяются — а для того, чтобы сосредоточивать свои мысли. Черный невольник держал над его головой зонтик с длинной ручкой. На песке лежал кусок пальмового ствола, и рядом, на костре, кипело масло. Привели Раскаллу. Ему отрубили кисть правой руки и сунули обрубок в кипящее масло, чтобы остановить кровь. Палач — он же мясник — перевязал рану куском материи, смоченной в масле. Так велит аллах — ведь коран советует отрубать вору руку.
После этого Раскалла был освобожден. Но куда он мог идти после этого? Что делать ныряльщику, у которого нет руки?
Через несколько дней его посадили в первую попавшую лодку и отвезли на материк.
Там они высадили Раскаллу. Он сел на песок и задумался. У него не было ничего, кроме двух кусков полотна, одного на бедрах и одного на обрубке руки. Он действительно был «баркале», «тем, кто не имеет даже подушки». Он шел по берегу. Его жена и ребенок жили далеко на юге, но Раскалла направлялся к западу, от моря. Шел он долго. Никто не знает, где окончился его путь. Никто и не старался узнать.
К этому времени его жемчужина окончательно побелела, и Али Саид положил ее в свой хрустальный сосуд — это была сто семнадцатая красавица. Но на вид ничего не изменилось — просто в кучу маковых зерен добавили еще одно.
Саффар же некоторое время жил в рыбацкой деревушке на западном берегу острова Эль-Кебир. Рана зарубцевалась, но после нее остался большой шрам. Потом он вернулся в Джумеле и поступил на службу к господину Попастратосу.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
Глава I
Господин Попастратос прибыл в Массауа как раз в то время, когда Раскалла впервые поддался искушению открыть жемчужную раковину.
Так же как и господин Бабелон семнадцать лет назад, господин Попастратос сошел с почтового парохода. У него была высокая коренастая фигура, необычайно подвижное лицо, маленькая бородка и щегольски закрученные усы. Но в отличие от тихого господина Бабелона приезжий прямо на набережной стал ругать своих носильщиков.
Мигом он познакомился со всеми жителями Массауа. Да и сам господин Бабелон — все такой же, как и семнадцать лет назад, — проявил такое любопытство, что, не ожидая, пока приезжий навестит его гостеприимный дом, — что в конце концов непременно бы произошло — оставил свой письменный стол и наргиле с грудой подушек и пришел в гостиницу к господину Попастратосу с визитом, предложив себя к его услугам.
Господин Попастратос, пожав руку господину Бабелону, заявил, что услуг ему не надо, а нужен хороший дом и быстроходный корабль, что он приехал не за дружбой, а за жемчугом и что бескорыстие это признак лицемерия, которое он — почтенный грек — не переносит. Господин Бабелон выразил удовлетворение, что в Массауа теперь будет хоть один добропорядочный человек, и ушел, пряча свое впечатление за синими непроницаемыми стеклами очков.
Через месяц у господина Попастратоса уже был хороший дом, быстроходный корабль и мешочек с жемчужинами. Дом его был частью европейский, а частью восточный, но совсем не так, как дом господина Бабелона, потому что в нем одни помещения были полностью обставлены по-европейски, а другие — по-восточному.
Корабль назывался «Эль- Сейф», что означает «Меч», и был он достойным своего имени. У него были красивые очертания и острый нос, окованный железом и украшенный вырезанной из дерева рукоятью меча; и в этом была вся соль, потому что, когда «Эль-Сейф» плыл по морю, казалось, могучий, изогнутый меч на носу рассекает перед ним волны. Но жемчужин в его мешочке было пока еще немного. И господин Попастратос отправился с визитом в дом господина Бабелона.
После этого визита господин Бабелон решил подкупить одного из его служащих, который представлял ему подробные сведения о всех поступках господина Попастратоса, и, таким образом, он был в курсе всех его торговых дел. Это для него очень ценно, потому что пути «Эль-Сейфа» и господина Попастратоса были неисповедимы, и господин Бабелон справедливо полагал, что лучше, если он будет обо всем информирован. А торговые дела одного скупщика жемчужин всегда интересны для другого. Вторая дюжина жемчужин господина Попастратоса была уже значительно лучшей.
А за третьей он отправился прямо к Али Саиду.
Едва господин Бабелон узнал, что его соперник отправился на Дахлак, он сразу же бросился за ним; его пугала такая целеустремленность.
У господина Бабелона тоже имелось собственное судно, но оно не могло и сравниться с «Эль-Сейфом», хотя бы потому, что было на двадцать лет старше. Оно называлось «Ямиле», т. е. «Красавица», было неуклюжее, не имело на носу острого меча, да и скорость значительно меньше. И поэтому — хотя господин Попастратос прибыл в Джумеле в полдень — господин Бабелон появился там лишь в сумерки. Путем расспросов ему удалось выяснить, что соперник все еще у Саида. Минуту он колебался… наконец, преодолел свою врожденную застенчивость и тоже отправился к Саиду; время было неудобное, но он полагал, что старинные друзья имеют право являться не вовремя.
Он застал господина Попастратоса во внутреннем дворе дома за странным занятием: тот вытаскивал яйцо за яйцом из носа Башира, в то время как брат Саида Азиз захлебывался от смеха, кидая в лицо евнуху:
— О, ты, отец яиц! О, колодец плодородия! Что собираешься выводить ты, детей или цыплят?
Азиз, этот безобразный карлик с рыжими усами, в последнее время часто являлся непрошенным в дом Саида, чтобы даром и досыта напиться кофе мур. Жадность его проявилась в еще более ясном свете, когда господин Попастратос оставил, наконец, Башира в покое и, приблизившись к Азизу, вытащил у него из бороды золотую монету. Снова неприятно захохотал Башир, видя, как Азиз лихорадочно перебирает свою бороду, надеясь найти еще одну монету.
Ничего не найдя, он обратил свой гнев на Башира, но тот спрятался за Саида, который только улыбался. Смеяться Саид не мог; вот уже несколько лет он страдал одышкой, которая его иссушила; он похудел, хищный нос особенно выделялся на его осунувшемся лице, а кожа имела болезненный желтоватый оттенок. Но сейчас он улыбался, с презрением глядя на Азиза.
Смеялись все, даже Абдаллах. Этот отпрыск Саида вырос хилым долговязым юношей с продолговатым злым лицом и с глубоко запавшими глазами, которые делали его похожим на покойника.
В эту минуту всеобщего веселья господин Попастратос понял, что настало его время. Он опустил монету в карман и произнес небрежно и шутливо: — Ты видел, Саид, мои удивительные фокусы. Теперь очередь за тобой: покажи мне свои удивительные жемчужины.
Господин Бабелон заморгал глазами. Поведение Попастратоса граничило с дерзостью и казалось, что величественный Саид одернет пришельца. Но, к его удивлению, Саид не высказал никаких признаков неудовольствия. Он перестал смеяться и взглянул на небо, где виднелась полная луна, белая, как жемчужина, которая заливала двор своими голубоватыми лучами. А потом — к еще большему удивлению господина Бабелона — встал и кивнул Баширу.
— Подождите немного, — сказал он.
Несколько минут длилось ожидание, а господин Бабелон все размышлял, какими чарами околдовал Попастратос Саида, такого неприступного и надменного. Была ли это неприкрытая дерзость, которая обезоружила Саида? Или он смотрел на Попастратоса как на фокусника, шута, которому можно спустить дерзость? Господин Бабелон не знал. Но ему тоже хотелось увидеть сокровища Саида, которые он не видел с тех пор, когда семнадцать лет назад тот показал ему их. А ведь он бывал в Джумеле частым гостем, оказал Саиду немало услуг!
Наконец, возвратился Саид. Но он нес не сосуд из хрусталя, а вышитый шелком мешочек.
— Я вынул их из воды, потому что сейчас полнолуние, — загадочно сказал он.
Башир постелил на полу, в лучах лунного света, кусок черного бархата. Саид высыпал на него кучку жемчужин, ласковым движением руки разровнял ее — и отошел.
— Himmel! О небо! — прошептал господин Попастратос. Он был бледен, словно блеск жемчужин упал на его лицо.
Господин Бабелон молчал. Ему понятно такое волнение. И он был потрясен, когда впервые увидел это чудо. Но тогда был день, и желтые лучи солнца освещали жемчужины, сокровища ночи — и все-таки это было изумительное зрелище. А сейчас ночь, луна светилась, словно большая жемчужина, и сто семнадцать красавиц внизу были словно сто семнадцать маленьких лун. Но они были красивее, чем бледная луна, потому что блеск их все время менялся. Казалось, жемчужины дышат.
Но это только мираж; это дрожал свет вокруг них, над ними… Сто семнадцать крохотных светящихся шариков вспыхивали и гасли, но свет этот был таким слабым, что его с трудом можно обнаружить. Он то исчезал, то снова появлялся.
Было тихо. Господин Попастратос сразу же овладел собой, но что-то еще продолжало волновать его. Он смотрел на черный ковер так же, как и все. Лишь Абдаллах водил глазами по сторонам; он не любил жемчуг; он ничего не любил, как часто говорила его мать Зебиба.
Тишина стояла долго.
— Жемчужины — дети луны, — нарушил тишину Саид, — свет звезды в полнолуние падает на дно моря и иногда попадает в раскрытые уста раковины. И раковина впитывает в себя драгоценные лучи, и из них образуются жемчужины… Вот почему ночью, когда на небе светит полная луна, я вынимаю свои жемчужины из воды, в которой они сохраняются, и показываю их матери.
Он замолк, и снова настала тишина.
Господин Бабелон хорошо знал, что жемчужины это не дети луны. Он знал, что их происхождение более прозаичное: внутрь раковины попадает песчинка… А еще чаще это микроскопический паразит, который проникает внутрь моллюска. Моллюск защищается тем, что обволакивает его слоем перламутра. Так возникает жемчужина…
Но господин Бабелон молчал, потому что поэтическая сказка Саида очень подходила к настроению минуты.
Тишину нарушил господин Попастратос.
— Я куплю их, Саид! — выкрикнул он. — Или хотя бы одну из них!
Саид, как и много лет назад, покачал головой.
— Мне не нужны деньги. Мне нужны жемчужины.
— Зачем? Для чего? — удивился Попастратос. Снова он стал самим собой. — Глупости! Что ты станешь с ними делать? Ты ведь не сумасшедший, который стал бы навешивать их на себя…
— У меня есть все, что мне нужно, — перебил его Саид. — И еще больше этого.
— У тебя нет ничего! — махнул рукой господин Попастратос.
— Ты похоронил себя в этой дыре и гниешь здесь заживо. Да знаешь ли ты, что мог бы ты иметь за эти жемчужины? Полмира, весь мир! Ты мог бы жить, как султан, выбрать для себя самое красивое место на земле, смеяться и веселиться, иметь самых красивых женщин мира, мог бы безумствовать, как захочешь, имел бы не только чернокожих невольников, а белых, ученых и образованных. И они были бы в стократ покорнее негров! Одним словом, ты мог бы жить! Да знаешь ли ты вообще, что такое мир?
Неизвестно, был ли господин Попастратос действительно потрясен видом жемчуга, или же он просто хотел своим красноречием сломить упрямство Саида, заставить его продать жемчуг. Но на Саида этот взрыв не произвел никакого впечатления. Он лишь усмехался, глядя на свои жемчужины.
А вот Абдаллах смотрел на Попастратоса…
А потом на жемчужины. Но уже не так, как отец.
Господин Бабелон был первым, кто поймал этот голодный взгляд.
Глаза Абдаллаха, еще за минуту до этого такие безразличные, нельзя было узнать. Было похоже, что они ввалились еще глубже, совсем исчезли в тени, и на лице были только две темные щели, словно у черепа. Но в их выражении нельзя было ошибиться — все лицо выражало жадность, алчность или хищную, звериную тоску.
Саид глянул на своего сына и опомнился. На него сразу напал ужасный приступ кашля.
Приступы астмы всегда посещали его во время сильных душевных волнений. Это приводило его в бешенство.
Недавно он распорядился наказать плетьми хакима, который не смог помочь ему, а теперь сам лечился отварами трав, которые привозили ему из Массауа, и два дня в неделю проводил во внутренних частях острова, вдали от моря, потому что ему особенно был вреден влажный воздух. Но ничего не помогало.
И теперь, поймав взгляд Абдаллаха, он затрясся от кашля, и воздух с хрипом вырывался из его груди. Наконец, приступ кончился.
— Отнеси жемчуг! — кивнул он Баширу.
И, обессиленный, повалился на груду подушек.
Абдаллах медленно подошел и склонился над ним.
Взгляд отца встретился с взглядом сына, и они поняли друг друга.
Этой же ночью Али Саид приказал поставить у дверей своей спальни стражу и назначил раба, который должен был в его присутствии пробовать все кушанья и напитки. Потом заперся с Баширом и долго о чем-то разговаривал с ним.
Господин Бабелон и господин Попастратос возвращались к гавани. Оба ничего не говорили о событиях прошедшего вечера. Попастратос рассказывал о своих плаваниях, твердя, что страстно хотел бы увидеть хотя бы один невольничий корабль и осмотреть его груз; до сих пор ему не везло. Господин Бабелон заметил, что все черные слуги в доме Саида — рабы. Да, Попастратос знал это, но он хотел бы увидеть их, так сказать, «в своей среде». Ведь нигде на свете…
Господин Бабелон молча кивал ему. Он много мог бы рассказать своему спутнику, но молчал; очевидно, голова его была занята другими, более интересными мыслями.
На другой день в Джумеле объявился Саффар, который узнал, что туда прибыл чужой корабль и который хотел узнать, не нужны ли там матросы. Господин Бабелон отверг его, так же как и нахуда «Эль-Сейфа». Но случайно из каюты выглянул сам господин Попастратос и, увидев на лбу у Саффара шрам, напоминающий по форме изогнутый меч, воскликнул:
— Вот этого парня я давно ищу! Эль-Сейф к Эль- Сейфу! Меч к мечу!
Так Саффар попал на «Эль-Сейф», и здесь он нашел друга. Звали его Гамид, он был из Верхнего Египта и умел читать и писать.
Глава II
Вскоре после побега Саффара в жизни ловцов жемчуга произошли большие перемены.
На рассвете следующего дня хаджи Шере дал приказ к отплытию, хотя двумя ловцами стало меньше — Саффаром и Раскаллой. В Джумеле он не смог заменить их, а ехать в Массауа и терять на это лучшее время в сезоне ловли он не хотел. Но он не хотел также удовлетвориться меньшим уловом, и поэтому решил посоветоваться с серинджем.
Они сидели на палубе в тени каюты, потому что, несмотря на ранний час, жара была ужасная — солнце, едва вынырнув из-за горизонта, поползло вверх, похожее на гигантскую монету, раскаленную сначала докрасна, потом до бела и в конце концов на него прямо нельзя было смотреть, так болели глаза. Хаджи Шере и Бен Абди пили кофе мур, которое приготовил им один из ловцов, и беседовали, поглядывая из-под прищуренных глаз за командой.
— Одна хури будет пустая, — говорил хаджи Шере.
— Это значит, что выловим только шесть седьмых раковин вместо семи седьмых, — быстро подсчитал Бен Абди.
— Да, — согласился нахуда и по старой привычке добавил:
— Иншаллах.
— Иншаллах, — вздохнул Бен Абди. — Волей аллаха…
Но эти слова, с такой покорностью произносимые во всем магометанском мире, который простирается от Босфора до Индии и островов Индонезии, были в его устах лишь данью привычке.
Хаджи Шере отхлебнул йеменского кофе, и на мгновение глаза его остановились на сериндже, но потом снова забегали по сторонам, словно совершая какую-то безумную пляску.
— Что же делать? — спросил он.
— Не знаю, выход ли это, — пробормотал Бен Абди, — но можно попробовать: у нас семь лодок и двенадцать ловцов. Посадим в каждую лодку троих.
— И в море выйдут четыре хури, а три будут пустовать! — злобно выкрикнул хаджи Шере. — Ты сын ослицы и мула!
Беи Абди покраснел:
— Выслушай же меня до конца, о нахуда, а потом ругай! — воскликнул он раздраженно. — Не хочешь выслушать меня, делай как знаешь! Да, мы выведем на ловлю только четыре хури, но заставим ловцов нырять чаще. Один всегда будет находиться под водой, а двое будут отдыхать. Что делается сейчас? Тот, который был на дне, уже вынырнул, но находящийся в лодке не хочет нырять, сын пса. Он ждет и дышит, оба они ждут и дышат! Сколько времени? Сколько захотят! А теперь-то мы уже посмотрим за этим — они будут иметь для отдыха строго отмеренное время: ныряет первый, выныривает, и сразу же идет в воду второй, после него — третий. Ну, что скажешь ты о моей голове?
Сериндж Бен Абди удовлетворенно фыркнул. Он не сказал двух вещей. Во-первых, в Персидском заливе жемчуг ищут таким образом, что в лодке находятся несколько ныряльщиков, которые непрерывно ныряют один за другим. Бен Абди знал это, потому что несколько лет назад судьба завела его на Бахрейнские острова, где он и познакомился с этим способом. Но он смолчал об этом. А во- вторых, он не сказал, что лодки ловцов жемчуга в Персидском заливе значительно больше, чем хури Красного моря и что на них, как правило, пять ловцов, реже — четыре, но никогда не бывает трех. Зачем же ему говорить это? Хури не поднимет больше трех ловцов, а если каким- то чудом в ней и поместятся четыре, то тогда потеряет свое значение его первоначальный замысел. С трех лодок одновременно нырнут лишь трое ловцов, а с четырех — уже четыре, и улов увеличится на одну треть. Так думал, хотя и молчал об этом, сериндж Бен Абди…
Да, голова его рассчитывала неплохо!
Помолчав, сериндж с любопытством глянул на нахуду. Но хаджи Шере молчал. Он задумчиво разглядывал верхушку мачты, которую раскачивал ветер.
Нахуда хаджи Шере никогда не был в Персидском заливе и понятия не имел, как там ловят жемчуг. Он родился и вырос на Красном море и вот уже несколько десятилетий плавал по его зеленоватой глади, не добираясь дальше Адена на пороге Индийского океана и дальше Тауфика у входа в Суэцкий канал. Так часто случается на Востоке, и очень мало таких, которые стремятся переступить границы «своего» горизонта…
Нахмурившись, следя за танцующей верхушкой мачты, хаджи Шере молча размышлял.
— Хороший ныряльщик выдержит под водой минуту, — сказал он, наконец. — Это значит, что каждый из троих будет иметь для отдыха две минуты, и ни секунды больше…
— Этого достаточно! — заявил Бен Абди.
Хаджи Шере снова минуту молчал. Его взгляд блуждал по фигурам ловцов, которые бродили по палубе или сидели на корточках, как бы набираясь сил для предстоящего лова. Словно ощутив этот пристальный взгляд, один из ловцов обернулся к нахуде… Но хаджи Шере смотрел не на их лица, он разглядывал их грудные клетки, пытаясь оценить их дыхательные способности. Ловцы робко улыбались ему. Но взгляд нахуды был холоден, это был опытный взгляд купца, который, рассматривая товар — кожу, шерсть, ткани, — прикидывает, сколько это может стоить.
— Этого достаточно! — повторил нетерпеливо Бен Абди.
— В начале лова, утром, — отвечал нахуда. — Но позднее, после полудня…
— Привыкнут! — перебил Бен Абди, чувствуя, что его предложение принимается. — Мы заставим их! Ведь у нас есть свободные лодки! Ты сядешь в одну, я — в другую, и мы будем присматривать за ними во время лова.
Хаджи Шере беспокойно заморгал глазами. Ему не очень нравилась перспектива — целый день находиться под жгучими солнечными лучами.
— Я не надсмотрщик, — буркнул он. Это твоя задача. Ты будешь присматривать за ними. Ты для этого подходишь, мой добрый, хитрый Бен Абди!
Бен Абди улыбнулся. Правда, он был наказан за свою хитрость, как и все те, у кого мало ума, но он был очень доволен своей выдумкой, и ему не терпелось проверить ее на практике.
— Конечно, — довольно засмеялся он. — И еще одну выгоду принесет нам мое предложение: одновременно в лодке будут находиться двое ловцов — и никто не отважится тайком вскрывать раковины!
Наконец, глаза хаджи Шере оставили ныряльщиков в покое, — холодные, знающие глаза купца, который закончил осмотр и теперь скажет свое решение:
— Нам еще потребуются ловцы.
Бен Абди радостно встал; он видел, что его предложение принято:
— Ты ведь знаешь, о нахуда, как нелегко найти новых ловцов!
— Иншаллах, — согласился хаджи Шере.
К вечеру этого же дня корабль отправился на ловлю жемчуга, а на утро был испробован новый способ.
Когда ловцы впервые уселись в хури по трое, они шутили и смеялись. Они были довольны: рядом всегда будет друг, с которым можно будет болтать даже во время лова. Четыре хури веером разошлись в стороны и стали полукругом.
Бен Абди на своей лодке встал в центре этого полукруга, в месте, откуда он мог наблюдать за всеми лодками.
Так начался лов; и двое ловцов смеялись и разговаривали, пока третий был под водой. Но постепенно песни и разговор прекращались. Ловцы сменяли друг друга в полной тишине. А рядом был Бен Абди, который сидел в своей лодке, словно большой белый паук. Он все видел и на всех кричал, особенно, когда кто-либо из ловцов медлил.
Время шло медленно, значительно медленнее, чем в предыдущие дни, и солнце жгло так, словно хотело сжечь все на поверхности земли и моря. Но Бен Абди недвижимо сидел в своей лодке, не видя, что одежда его мокра от пота, не видя ничего, кроме четырех немых хури…
А потом сильные удары весел гнали его туда, где один из ловцов медлил, хотя его товарищ уже вынырнул из воды, и он «наводил» порядок. Ловцы боялись серинджа, особенно после случая с Раскаллой.
Время летело, и сериндж трудился, как никогда, потому что дело шло о воплощении его замысла; и ловцы тоже трудились, как никогда. Без песен, без шуток возвращались они в этот день на корабль.
Так на «Йемене» был введен новый способ лова, который позднее был назван «трое в хури»; в первый же день двенадцать ловцов вынесли на поверхность значительно больше раковин, чем раньше четырнадцать ловцов. Но ловцам приходилось тяжело, особенно к концу лова, когда усталые легкие жадно требовали воздуха. У двоих пошла изо рта кровь, и они скончались незадолго до того, как «Йемен» отправился в Джумеле с жемчужинами и оттуда в Массауа за пищей и табаком.
Ловцы жаловались аллаху на свое несчастье, но нахуда Хаджи Шере признал опыт удачным. В Массауа и в Джумеле он поделился своим опытом с нахудами других кораблей, не скупясь на похвалы своему хитрому другу, который ходил преисполненный важности, надувшись, как рыбий пузырь.
Вот как случилось, что когда ловцы с «Йемена» ушли к другому нахуде, они и там нашли ад, потому что и там выдумка Бен Абди была уже освоена.
И снова ловцы жаловались аллаху, а многие даже не могли жаловаться вслух, потому что кровь сочилась у них изо рта. Но аллах не отвечал. Тогда они решили, что это его воля, и терпеливо склонили головы. Что еще можно сделать?
Глава III
Загадочные мысли господина Бабелона, которые пришли ему в голову еще в Джумеле после посещения Саида, — где он был вместе с господином Попастратосом, — одолевали его и по дороге в Массауа, да и в самом Массауа, и они оставили его в покое только через десять дней. К этому времени господин Бабелон узнал и о страже, которая была поставлена перед спальней Саида, и о рабе, которого заставляли проверять, не отравлена ли пища. Узнав об этом, он рассмеялся и приказал приготовиться к поездке в Джумеле. Был понедельник, и он знал, что в этот день Али Саид уезжает из Джумеле «лечить» свою астму.
Благодаря попутному ветру «Ямиле» достигла места назначения вскоре после полудня. На этот раз ее хозяин не стал терять время на молитву аср, которой следует начинать всякий визит. Он выскочил на берег, едва только корабль причалил к нему, и направился к дому Саида, проявляя хотя и незначительные, но все же заметные признаки волнения: он ежеминутно снимал свои голубые очки и протирал их носовым платком или грыз ногти, что никогда с ним не случалось.
В доме Саида он узнал, что Господин Жемчуг выехал еще вчера, сопровождаемый Баширом и стражей, и что он взял с собой свои красавицы-жемчужины. Несмотря на это — а может быть и поэтому — господин Бабелон вошел в дом, говоря, что он хочет засвидетельствовать свое уважение хотя бы Абдаллаху; волнение его уже исчезло, и он опять стал воплощением неземного спокойствия.
Абдаллах сидел в тени на верхней террасе дома, там же, где когда-то сидел его отец, всматриваясь в морскую даль и размышляя о сыне, которого ему пошлет аллах. Увы, рождение сына не успокоило отца…
Абдаллах сидел, скрестив ноги, и пил кофе мур. Часто он забывал подносить чашку к губам, глядя запавшими глазами куда-то вдаль, рассматривая то, чего нельзя было видеть; он был поглощен своими виденьями… Лицо его под чалмой с зеленой лентой было оливкового цвета.
Слуга проводил господина Бабелона на террасу и удалился, чтобы принести угощение. А господин Бабелон стал разглядывать хилого, жалкого, но упрямого юношу, который отдавался своим мечтам, не видя, что к нему пришли. Потом господин Бабелон шагнул вперед и откашлялся.
Абдаллах вздрогнул. Гость торжественно произнес свои салям[5] и, улыбаясь, сел.
— Море велико, Абдаллах, — начал он, покачивая головой в такт своим словам. — Оно занимает больше места, чем суша.
Абдаллах не отвечал. Он смотрел на Бабелона мрачным, невидящим взглядом; казалось, он чем-то встревожен.
— Но море однообразно, — продолжал тот, понизив голос. — В нем есть только жемчужины да рыбы. Жемчужины будут найдены, а рыбы — пойманы. А что может случиться с тобой? Ничего…
Абдаллах все еще молчал. Вдруг он дернулся, отгоняя муху. Схватил ее, с удовольствием раздавил; ему казалось, что он держит в руке остатки самого господина Бабелона.
Так во всяком случае господин Бабелон объяснил себе его жест.
— Я твой друг, Абдаллах, — продолжал он, улыбаясь. Я стар. Но я люблю молодых и понимаю их. У меня нет сына, но если бы он был, я бы не стал держать его взаперти на острове Эль-Кебир.
— Уходи! — крикнул Абдаллах. Руки у него тряслись.
Но господин Бабелон продолжал сидеть.
— Я могу и уйти, — сказал он. Я вернусь в Массауа, зайду в свой дом, полный радости и веселья, и скажу своим друзьям:
— Я разговаривал с одним молодым человеком, и я хотел сделать его счастливым. Но он отказался. Он безумец.
Абдаллах минуту молчал. Он не смотрел на господина Бабелона, но и не смотрел на море. Он вообще никуда не смотрел, хотя глаза его были широко раскрыты.
— Ты не говорил, что хочешь сделать меня счастливым, — проговорил он в конце концов.
— Ну, так я говорю это сейчас: если хочешь, поедем со мной в Массауа. В Массауа множество развлечений, множество красивых женщин, много музыкантов и танцовщиц. Здесь же ты видишь только черных рабынь.
Абдаллах все еще смотрел перед собой взглядом, который не видел ничего, кроме того, что рисовала ему фантазия. Его худые руки больше не тряслись, но зато его сердце забилось, словно сердце ныряльщика, опустившегося на опасную глубину. Правда, сердца не было видно, но зато было заметно, как над запястьем, сразу же под оливковой кожей, лихорадочно билась голубая жилка. И господин Бабелон ее заметил; взгляд его был внимателен и зорок. Он встал.
— Пойдешь, Абдаллах? — спросил он спокойно. — Твой отец обрадуется этому, потому что он боится тебя.
На жестоком лице Абдаллаха появилось подобие улыбки. Но она сразу же исчезла, и юноша в ярости стиснул зубы.
— Но у меня нет денег, — выкрикнул он. — Я сын Саида, но у меня нет денег! Я…
— Сыну Али Саида деньги не нужны, — улыбнулся господин Бабелон. — Когда ты займешь место своего отца, деньги у тебя появятся. У тебя будет сосуд с жемчугом, который можно продать… — Господин Бабелон замолчал, выбирая подходящие слова. — Твой отец проживет недолго, Абдаллах, — произнес он задумчиво. — Я предлагаю тебе не только поехать в Массауа, я дам тебе деньги за этот жемчуг. Хочешь?
Абдаллах не ответил. Он встал и вышел с господином Бабелоном из дома. Идя к пристани, он ни разу не оглянулся. Он забыл даже про свою мать, если только он вообще помнил про нее. Он вошел на корабль в сафьяновых туфлях, в чалме потомка пророка и в одежде, расшитой золотом. Он не взял с собой ничего. Сыну Али Саида ничего не нужно.
Через четверть часа «Ямиле» отплыла и вскоре исчезла за горизонтом.
Когда Саид вернулся в Джумеле и узнал, что его сын уплыл с господином Бабелоном, он вздохнул спокойнее.
Но по-прежнему у дверей его спальни стояла стража, и по-прежнему черный невольник отведывал каждое блюдо, которое ему подавали. Зебибе он сказал:
— Волчонок убежал, и он вернется сюда только после моей смерти.
— Он не волчонок, — отвечала Зебиба. — Он твой сын.
— Да, — кивнул Саид. — Но твое чрево было больное, когда ты зачала его.
Она наклонила голову:
— Иншаллах. Волей аллаха…
— Иншаллах, — вздохнул Саид. У выхода он остановился:
— Если бы у меня были еще сыновья, я приказал бы его умертвить.
Оставшись одна, Зебиба долго плакала.
Глава IV
Когда господин Бабелон вез Абдаллаха в Массауа, господин Попастратос находился в плавании. Он плыл от острова к острову, останавливаясь то там, то здесь, и снова уходил в море. Матросы «Эль-Сейфа» говорили, что путь корабля скорее напоминает запутанный след змеи, чем след меча, который он нес на носу.
И вот в один из таких рейсов, когда на стоянках команда могла отдохнуть, когда, плывя по спокойному морю, можно было рассматривать горизонт, который непрерывно менялся, когда вечером у костра люди пели и рассказывали необыкновенные истории, в душе у Саффара вспыхнул яркий свет. И зажег его египтянин Гамид.
У Гамида было продолговатое лицо феллаха и спокойные глаза. На «Эль-Сейфе» он был кормчим, и ему самому было непонятно, почему он подружился с Саффаром. По кастовому делению, существовавшему в этих краях, он стоял неизмеримо выше, чем полуголый сомалиец с копной лохматых волос; он ведь египтянин, кожа у него светлая, иногда он носил рубашку, а в Массауа даже надевал рваную куртку. В чем же дело? Он не мог ответить на этот вопрос. Может быть, дело в том наивном восхищении, которое питал к нему Саффар, восхищении перед человеком, который умел читать и писать. Сам этого не сознавая, Гамид был польщен этим восхищением.
И он вложил в душу Саффара ту искорку, которая потом превратилась в большой яркий свет — только одну искорку, но для восприимчивой души Саффара этого было достаточно. Эта искра не была первой, потому что холодный огонек появился в душе Саффара еще тогда, когда на палубе «Эль-Кебира» нахуда и сериндж беззастенчиво солгали, произнося святую молитву.
Тогда-то — не в тот самый день, а несколько позднее, в часы вынужденного бездействия, когда в рыбацкой хижине Саффар искал способ возвратиться в Джумеле — он впервые задумался, и его мозг преодолел сложный путь и пришел к выводам. К выводам неожиданным и поразительным, — сначала он им не поверил, и лишь позднее его сомнения перешли в уверенность, — Саффар понял, что на свете есть люди, которые живут за счет труда его товарищей и за счет его труда, которые не боятся ни святой клятвы, ни лжи перед лицом аллаха, лишь бы обмануть бедняка и прикрыть зло, которое они творят.
Да, это был первый огонек в его темной душе. Но он был очень ярким, этот первый огонек, и лучи его, сначала еще слабые, осветили то, что только недавно было скрыто под черным покровом, куда Саффар даже не смел заглядывать. И теперь Саффар знал, какие странные вещи скрываются за этим покровом, знал, что человек в состоянии заглянуть туда…
Его гнев и возмущение теми, которые стояли над ним и к которым еще совсем недавно он относился с таким уважением и доверием, были огромны.
Но так же огромна была его радость, потому что он разгадал их игру, и его желание все знать, все, что до сих пор было ему недоступно, потому что он не принадлежал к числу тех, для которых открыт путь к знанию. И теперь, когда появился Гамид, который готов помочь Саффару вступить на этот тяжелый путь, он нашел его подготовленным к этому и жадно хватающим любую крупинку знания. Гамид давал ему все, что мог. Правда, он так и не научил Саффара читать и писать, для него это было чересчур сложно. Он сам не был образованным в европейском смысле этого слова. Но он родился в Египте, провел молодость на Средиземном море, в Александрии и Порт- Саиде, на этих гигантских перекрестках тысяч дорог, встречался с людьми, пришедшими сюда из разных стран, много слышал, много видел, о многом говорил; кругозор его непрерывно расширялся. Правда, способности у него были средние, но он не избежал влияния среды, потому что не мог избежать, потому что этого никто не избегает. И когда он попал на берега Красного моря, он принес с собой то, что теперь так охотно отдавал Саффару.
Гамид учил Саффара. Он рассказывал ему о самых обычных вещах. Сначала он, например, объяснил Саффару устройство компаса, который был в то время для Саффара каким-то странным и таинственным предметом. Но Гамид объяснил ему, что стрелка компаса — это ребенок, который всегда ищет свою мать — большую железную гору где-то вдали, на севере. Это было, пожалуй, все, что он сам знал о компасе. И Саффар с благодарностью воспринимал все то, что давал ему Гамид — он учился.
Но он брал у Гамида знания не так, как жаждущий черпает воду из колодца. Понемногу он научился понимать все разнообразие и переплетение причин и следствий, от которых зависит многое и многое. Многое он знал и раньше. Он знал, что когда налетит порыв ветра, надуваются паруса; ветер является причиной, а надутые паруса — следствием. Он знал и такие вещи, которые неизвестны даже образованному европейцу… но все эти сведения были получены им от других, а не обнаружены им самим. А теперь — с помощью Гамида — он сам стал отыскивать связи между явлениями, о которых раньше даже не задумывался, которые никогда не приходили ему в голову. Он знал, что нахуда большой, могущественный господин. Почему? Раньше он объяснял это волей аллаха… Но теперь Саффар знал, что одной воли аллаха недостаточно. Чтобы стать нахудой, надо уметь вести корабль, знать очень многое. Научись этому, если сможешь, и ты сам станешь нахудой, а аллах будет не при чем. Но если ты не сможешь повести корабль, ты не станешь нахудой, и аллах тебе не поможет; ты разобьешь корабль о первые же утесы.
Все такие мысли были новыми для Саффара. Иногда ему приходилось идти непроторенными путями, он должен был все объяснять себе сам; особенно часто это случалось тогда, когда его мысли шли не от причин к следствиям, а наоборот — от следствий к причинам. Однажды, когда корабль стаскивали с мели, Саффара хлестнуло канатом. До сих пор ему не приходилось еще делать это при помощи канатов, и он не знал, как поступить. Удар канатом был лишь следствием, причины он не знал. Но тут Гамид подошел и объяснил, что, пожалуй, для высокой фигуры Саффара нужно взять канат подлиннее. Саффар так и сделал, и канат больше не вырывался из его рук. От следствия — боли, вызванной ударом, он пришел к причине — недостаточной длине каната.
Позднее, когда возникали другие ситуации, Саффар уже решал их сам, радостно, с какой-то непонятной страстью.
Он брал простые, обыденные явления и старался доискаться их причин. Он делал открытия, которые своей наивностью рассмешили бы и школьника, но для него они имели исключительное значение. А его мысли — раньше это были просто вереницы светлых, бессвязных образов и представлений, проносившиеся перед ним, — стали связными и глубокими.
И Гамид тоже разглядел этот свет, который вспыхнул в рождающемся человеке. Однажды он был изумлен, когда Саффар сказал ему:
— Знаешь, почему я тебя уважаю? Потому, что ты меня уважаешь.
Помолчав, Гамид согласился:
— Да, ты прав.
На следующий день он на минуту доверил Саффару руль.
Взволнованный, стоял Саффар за рулем; еще никогда в жизни он так не волновался. Каждая волна, каждый порыв ветра были для него причиной, следствия которой могли нарушить плавный ход судна. Он стоял у руля, крепко сжав его руками; каждая жилка в нем пела. Это был для него ее труд, а радость; он мог ответить на любое «почему?» и решить многие «как?»
С тех пор Саффар часто вставал за руль. Тогда-то Гамид стал звать его Эль-Сейфом, отчасти из-за шрама на щеке, а отчасти по имени корабля.
Рождение нового Саффара — Эль-Сейфа — происходило не сразу; это было дело не нескольких дней, а многих недель. Был это длительный и трудный процесс, который только начинался в этот первый рейс, в который Саффар пустился вместе с Гамидом. Только начался! Понадобилось еще много времени, прежде чем Саффар начал управлять не только кораблем, но и своими мыслями.
Этот рейс был окончен неожиданно: как только господин Попастратос узнал, что Абдаллах очутился во власти господина Бабелона, он обругал себя ослом и тупицей и спешно возвратился в Массауа.
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Глава I
Когда Абдаллах в своих сафьяновых туфлях прибыл в Массауа, что случилось только к вечеру следующего дня, ласковый господин Бабелон, укрываясь от солнца своим зеленым зонтиком, повел его в самую оживленную кофейню. Он усадил сына Саида за столик и улыбаясь стал оглядываться по сторонам. Многие из его знакомых подходили к столику с приветствиями. Некоторые из них знали Абдаллаха, потому что люди «жемчужного мира» часто навещали Дахлак, но большинству он был совсем незнаком, так как лишь немногие купцы удостаивались чести переступить порог дома Саида. И господин Бабелон поспешил представить его:
— Склонитесь перед Абдаллахом, о люди, сыном Али Саида и будущим Господином Жемчугом. Он прибыл в Массауа отдохнуть и развлечься. Постараемся помочь ему.
И знакомые старались. В этот же день был устроен большой праздник, куда были приглашены и танцовщицы, и мелодии арабских песен звучали всю ночь.
Когда Абдаллах пришел в себя, он был в доме господина Бабелона, день клонился к вечеру, а сам гостеприимный хозяин сидел у его постели. И Абдаллах засмеялся, потому что он вспомнил удивительные события минувшей ночи и танец пьяного господина Бабелона со своим неизменным зонтиком. Зонтик был сложен, и господин Бабелон, опоясанный скатертью, вращал его, одновременно выделывая сложные па. За это был награжден аплодисментами тех, которые бывали в Каире и знали широко распространенные там на пирушках танцы с бритвами. Но Абдаллах никогда не был в Каире, и поэтому танец господина Бабелона восхитил его не меньше, чем каирские танцы европейца, впервые попавшего в Египет. Теперь он вспомнил это и засмеялся.
— Плохо танцуешь, старик с зонтиком, — сказал он сейчас язвительно. — Идиот.
— Я действительно всего лишь старик с зонтиком, — согласился господин Бабелон с приветливой улыбкой. — И я действительно идиот, потому что принес тебе много денег и ничего не хочу вместо них, кроме твоей подписи. — С этими словами он подал Абдаллаху деньги, лист бумаги и вечное перо. Абдаллах, не считая, сунул деньги под подушку, не читая, подписал бумагу, которую дал ему господин Бабелон, и долго разглядывал вечное перо.
— Нравится тебе? — спросил приветливо господин Бабелон. — Оно твое. Теперь оно тебе часто будет нужным.
Потом он бережно сложил расписку и удалился, весьма довольный собой, потому что в сумму, которая значилась в ней, входила и отданная наличность, и издержки минувшей ночи и даже это вечное перо. Господин Бабелон был очень предусмотрительным человеком.
Так вошел в местное «общество» Абдаллах бен Али, и вскоре он уже доказал, что недаром его отец — Господин Жемчуг. Песни на улице, где жили танцовщицы, звучали каждую ночь вплоть до первых петухов, и веселье ее прекращалось. Но танцев с зонтиком уже не было, потому что господин Бабелон там больше не появлялся. Он хорошо понимал, что вовсе не обязательно ходить за Абдаллахом, как тень, потому что тот и так придет к нему с вечным пером, зажатым в руке. И в этом он не ошибался; господин Бабелон был очень опытный человек.
И вот, когда Абдаллах уже больше месяца провел в Массауа и уже написал господину Бабелону целую груду расписок, у причалов гавани встал «Эль-Сейф», а в дверях кофейни — господин Попастратос.
Он вошел внутрь энергичной походкой, уселся, подозвал официанта, громко поздоровался со своими приятелями и долго о чем-то разговаривал с некоторыми из них. Вечером этого же дня он нанес визит господину Бабелону и заявил тому, что он, господин Бабелон, самый крупный мошенник на Красном море. Господин Бабелон смеялся до слез, словно это была остроумная шутка. Попастратос был очень обескуражен этим результатом — и вечером он пошел к танцовщицам.
Музыка этой ночью не умолкала. Господин Попастратос исполнил турецкий танец с ножами, и его успех далеко превзошел славу господина Бабелона. Но душе общества, Абдаллаху бен Али, не понравилось лицо господина Попастратоса, и он заявил, что оно напоминает ему зад ослицы Башира.
И господину Попастратосу ничего не оставалось делать, как только уйти домой; всю ночь он грыз себе ногти, что служило у него признаком сильных душевных потрясений.
Когда утром к нему зашел нахуда «Эль-Сейфа», он с проклятьями вытолкал его на улицу. Однако через пару часов он сам пригласил к себе нахуду, потрепал его по плечу, дал ему горсть турецких сигарет и приказал подготовить корабль к отплытию.
Но раньше чем «Эль-Сейф» поднял якорь, небо покрылось черными тучами — обычное явление в Красном море — и в море начался шторм. Господину Попастратосу не помогли ни проклятья, ни размахивания руками. Он был вынужден переждать эту бурю и смог отплыть только через два дня. Местом назначения был порт Ходейда в Йемене.
Глава II
Буря, которая задержала господина Попастратоса в Массауа, имела исключительное значение для судьбы нахуды «Йемена».
Хаджи Шере, закончив лов, поспешил в Джумеле, чтобы продать добычу Саиду. Добыча была не велика: горсть бильбилу и пять или шесть жемчужин побольше, но ни одна из них не была совершенной. Все это было высыпано в маленький красный мешочек; весь вместе этот жемчуг не стоил и четверти цены жемчужины, которую нашел Раскалла. Да к тому же Саид заплатил скудно, не вняв мольбам и просьбам нахуды… С того времени, когда у его постели встала стража, а черный невольник отведывал каждое блюдо, подаваемое Саиду, а особенно после побега Абдаллаха, Саид стал странно подозрительным и вспыльчивым, и с ним было лучше не спорить.
Проклиная свое бессилие, хаджи Шере и Бен Абди возвратились на корабль, расплатившись с ловцами еще скупее обычного.
— Нас обокрали! — вопил хаджи Шере. — О, когда же аллах увидит это и пошлет на землю ангела мести!
— Иншаллах! — воскликнул Бен Абди. — На все его воля. А пока мы должны смириться, а вы, люди, последуйте нашему примеру.
Так говорили они, давая по одной монете на двоих, потому что меньше нельзя было дать. Так что половина ловцов оказалась с пустыми руками, и они принялись кричать, не поняв, что же произошло.
— Поделитесь между собой! — ворчал хаджи Шере, кидая по сторонам тревожные взгляды. — Одна монета на двоих!
Но ловцы стояли, подняв руки к небу и крича, и умолкли только тогда, когда сериндж Бен Абди закричал на них.
— Тише, вы, стадо баранов! Одна монета на двоих, говорит нахуда! Не слышите что ли, вы, которым море раздавило уши! Благодарите аллаха за то, что хоть что-то получили! А что осталось мне и нахуде? Только двенадцать ваших бездонных утроб и ничего больше…
— Читайте фатхи, — потребовал кто-то.
Это Шоа отважился выкрикнуть, спрятавшись за спины товарищей.
Нахуда и сериндж тревожно переглянулись. К этому крику присоединились голоса других ловцов, которые звучали уже не так шутливо и весело, как тогда, когда Саффар подал им этот пример, а грозно, неотвратимо:
— Читайте фатхи! Да, поклянитесь!
— Клятвопреступники! — выкрикнул Шоа, все еще скрываясь в толпе ловцов.
Поднялась целая буря шума и криков, и нахуда пришел в ужас.
И он встал на колени — второй раз в жизни — чтобы вместе с серинджем поклясться нагим ныряльщикам в том, что он их не обманул. И, произнося вслух святые слова, он в душе проклинал того, кто первый потребовал от него это, Саффара, в которого, к несчастью, Бен Абди так неудачно швырнул ножом.
Казалось, что фатхи помогла, словно бальзам, влитый в рану; ловцы притихли и тоже молились. Тогда-то и показался над горизонтом край тучи, похожий на сизое крыло голубя. Но хаджи Шере не обратил на нее внимания в своем гневе, а Бен Абди ярость тоже сделала слепым.
А черная туча на горизонте все росла. Наконец, и нахуда понял опасность. Но он все еще медлил, не спеша возвратиться обратно в Джумеле, потому что воздух был свежий, а не душный, как перед бурей. Вдруг поднялся ветер и, надув паруса, тряхнул корабль, чуть не сломав мачту.
— Спустить паруса! — закричал хаджи Шере и бросился к мачте.
Но в этот же миг корабль снова качнуло, и нахуда был отброшен к борту корабля. Он хотел схватиться за деревянные поручни, ограждавшие судно, но запнулся о бухту каната. Судно снова наклонилось… и хаджи Шере, схватив руками только пустоту, вылетел за борт. Он сразу же исчез в волнах, качающихся, как детская колыбель. Еще мгновение были видны края его развевающегося бурнуса — но корабль несло вперед, и вскоре нахуда исчез.
Неожиданно ветер утих, как часто бывает перед бурей.
— Киньте веревку! — крикнул сериндж.
Бросили веревку, но нахуды уже не было; колыбель превратилась в гроб — хаджи Шере совершенно не умел плавать.
— Прыгайте за ним! Утонет! — выкрикнул сериндж.
Ловцы не тронулись с места, молча стоя вокруг него.
А потом сзади раздался чей-то голос:
— Мы ловцы жемчуга и не станем ловить нахуду!
Глаза Бен Абди вспыхнули яростью…
— И не станем ловить серинджа! — добавили сзади. Он резко обернулся. К нему были обращены немые лица. Тогда он бросился в каюту, где у него было ружье — но вдруг остановился. Он был один — и он знал это. Это было ужасно. Он один среди чужих — и знал, что они — его враги.
Он остановился и огляделся по сторонам, словно опасаясь нападения.
Ловцы стояли неподвижно, но глаза их сверкали. Казалось, в них горели крохотные огоньки, которые каждое мгновенье могли превратиться в бушующее пламя. Да, они были поражены этой неожиданно наступившей ситуацией; они чувствовали в себе какое-то новое для них ощущение — ощущение своей силы. Оно опьяняло их, они чувствовали, что это они хозяева положения, и что сериндж их боится.
А серинджа охватил ужас, и от страха лицо его побледнело; сейчас он напоминал большую тучную свинью, то нечистое животное, которое проклял сам пророк. Сериндж боялся их!
Минуту они стояли неподвижно — толпа смуглых ловцов и грузный мужчина, похожий на свинью, только еще хуже этого нечистого животного, потому что он был полон бесконечной жестокости, охвачен страшной злобой, и которого аллах должен покарать, как покарал он хаджи Шере.
— Иншаллах! — нарушил тишину Шоа. — Свершилась воля аллаха. Гнев аллаха настиг нахуду!
— Да! Потому что утонуть при большом волнении нельзя! — выкрикнул молодой сомалиец; он был еще ребенок, и сердце его было детски мягкое.
— Аллах велел так…
— Молчи! — оборвали его. Нахуда был уже забыт, они смотрели на серинджа, который стоял среди них, словно в кругу судей.
И страх серинджа внезапно перешел в ужас, кровь застыла у него в жилах, и взгляд его невольно был направлен к небу, словно взгляд того, кто ожидает смерть— и там он нашел спасение.
— Гнев аллаха! — вскрикнул Бен Абди, указывая пальцем на небо, по которому черная туча неслась прямо на корабль. — Гнев аллаха грозит нам, о люди!
Ловцы испуганно смотрели на небо. В этот миг снова налетел порыв ветра, и парус сразу надулся, издав звук, напоминающий щелканье бича.
— Спустите паруса! — закричал сериндж. — Быстрее, аллах, да покарает вас!
Ловцы вздрогнули; ощущение силы исчезло и остался только ужас. Тот неясный ужас перед всем таинственным и непонятным, который привился у них еще в детстве и сопровождал их всю жизнь.
— Аллах акбар! — зашептали они.
— Поверните корабль! — кричал сериндж; он снова был хозяином положения.
Все послушно разошлись по своим местам. Корабль повернули назад, все паруса были убраны, кроме косого паруса на носу, но и его было достаточно, чтобы судно стремительно неслось по волнам, покрытым белой пеной и словно кипящим. Туча уже закрыла все небо, и лишь узкая полоска на горизонте играла красками солнечного заката. Приближался шторм. Но «Йемен» успел вовремя вернуться в Джумеле и укрыться в его небольшой гаваны.
В Джумеле ловцы опомнились и обступили серинджа, требуя отмены способа «трое в хури» и возвращения к прежнему способу лова. Им казалось, что этот способ придумал покойный хаджи Шере, и теперь все должно перемениться.
Сериндж Бен Абди выслушал их и захохотал. Он уже не чувствовал ни страха, ни ужаса, он был уже не один, за его спиной виднелся Джумеле, в котором находился каид. Он смеялся над их глупостью. Он смеялся и от гордости за свою выдумку. И он мстил своим смехом за те неприятные минуты, которые ему довелось пережить.
— Вы ловцы жемчуга, — сказал он. — Ловцы не должны лениться!
— Нельзя нырять при таких волнах, — возразил Шоа, поняв его намек.
— Но можно нырять, когда вас трое в хури, — усмехнулся сериндж и, почесав себе спину между лопатками, добавил:
— Иншаллах.
И ловцы опустили глаза, с ужасом вспоминая черную тучу, эту, как им казалось, тень на лице аллаха. Они поняли, что потерпели поражение.
А господин Попастратос в это время был уже на пути к берегам Йемена, к Ходейде.
Глава III
Очевидно, господина Попастратоса хорошо знали в Ходейде, потому что турецкие чиновники, поднявшиеся на корабль в порту, вели себя с ним как старые друзья; Йемен тогда был еще частью Оттоманской империи.
Сначала господин Попастратос отправился в кофейню. Но он выбрал не йеменскую кофейню, потому что он терпеть не мог кофе мур, а турецкую, где и заказал себе кофе, приготовленное по-турецки, т. е. без приправ, и подаваемое в медном сосуде, в котором оно и варится.
Йеменское кофе — лучшее в мире, и господин Попастратос знал это не только по слухам. Кофе это было названо — да и сейчас оно так называется — мокко, в честь маленького порта Эль-Мокка, или Моха, в южном Йемене. Настоящее мокко всегда было, да и будет всегда, невзрачным на вид. Бразильский плантатор с презрением бы высыпал его. Зерна мокко неправильной формы, различного цвета и величины, чаще всего мелкие. Но ведь кофе это напиток, и нечего его разглядывать. А чашка настоящего мокко привела бы в экстаз и бразильского плантатора.
Попивая кофе, господин Попастратос с любопытством следил за уличной толпой. Было еще рано, но там двигались караваны верблюдов и мулов, которые несли мехи с водой из Эль-Хохи. Ходейда — самый большой порт в Йемене, но там нет питьевой воды. Вода в колодцах и источниках не может даже называться водой; иногда она соленая, иногда зловонная, но всегда отдает болотом.
Господин Попастратос знал, что когда-то турки построили в Ходейде установку для опреснения морской воды; с того места, где он сидел, мог видеть ее развалины. Тогда по трубам текла дистиллированная вкусная вода. Но йеменские имамы[6] объявили это гарамом — грехом, потому что в коране об этом нет ни слова. И они подстрекнули толпу разрушить эти установки. А дальше все пошло своим порядком, богатые пили чистую, вкусную воду, которую привозили с гор, а бедняки довольствовались зловонной жидкостью из колодцев и часто умирали.
Господин Попастратос неожиданно засмеялся. Смешно: в коране ничего не говорится об опреснении воды! Ха-ха-ха! Потом он снова отхлебнул кофе и, повернув голову, стал рассматривать дома, которые были видны ему в окно. Все они были многоэтажные и очень красивые. Однообразные украшения около окон, шпили на крышах, но главное — классически прямые линии очертаний — все это делало их достойным внимания кого-либо из европейских архитекторов. Но ученым архитекторам-европейцам были неизвестны узоры, применяемые для украшения домов в Южной Аравии; в Южной Аравии ученых архитекторов, которые бы писали трактаты о своих проектах, конечно, нет — есть только доморощенные зодчие, которые все делают по-своему… но не хуже любого архитектора!
Господин Попастратос снова засмеялся. Все смешило его: и это опреснение воды, о котором Магомет ничего не говорил, хотя он и был пророком, и эти йеменские здания, необычайно привлекательные, хотя они и строились глупыми, темнокожими рабочими…
Вдруг он увидел караван мулов, нагруженных связками какой-то зелени. Связки были длиной в полметра, завернутые в банановые листья, и перевязаны веревками.
Господин Попастратос возвратился на корабль, собрал четырех матросов с Саффаром среди них и повел их на главный рынок. Там он прямо направился к тому месту, где продавались эти зеленые охапки, накупил их столько, сколько могли донести его люди, и, засунув руки в карманы, отправился на пристань.
В тот же день «Эль-Сейф» отплыл из Ходейды, держа курс на запад, к Африке; лишь эти зеленые вязанки заставили его свернуть сюда.
Меч на носу корабля резал воду, как бритва. Узкие борта корабля скользили в воде, словно не встречая никакого сопротивления. Судно летело, как птица, и было радостно видеть над собой надутые паруса, ощущая всем телом скорость. Потом появилась луна, и лучи ее, ударяясь о волны, высекали тысячи крохотных искр, напоминающих жемчужины.
Тут Саффар почему-то вспомнил своих товарищей- ловцов с «Йемена»; он уже слышал о способе «трое в хури». Мысли его следовали одна за другой, и он вспомнил Раскаллу в тот день, когда тот так боялся нырнуть. Бедняга баркале! Осужденный к смерти… Если бы не случай с жемчужиной, он погиб бы сейчас, при способе «трое в хури»… Трое в хури! — Если бы было «четверо в хури», было бы немного легче. И зачем понадобился нахуде этот новый способ? Добудут больше жемчужин? Нет. Найдут больше раковин — больше будет надежд, что в них попадется жемчуг. Надежды и больше ничего…
Но в это время Гамид подозвал его, и Саффар забыл о ловцах жемчуга, потому что мысли его были уже заняты тем, как вести корабль среди туч лунных искр. Ночь была красивая и величественная, и корабль напоминал летящую птицу…
Через двадцать часов «Эль-Сейф» встал на якорь в Массауа. Здесь господин Попастратос приказал выгрузить связки зелени и, укрыв их парусами, доставить себе в дом, там их сложили в самом прохладном месте, которое только нашлось. Потом он отправился на улицу танцовщиц, где было еще пустынно и тихо, потому что солнце стояло еще высоко в небе.
Глава IV
Улица танцовщиц оставалась тихой и после захода солнца, и ночью. В кофейне сидело всего лишь несколько человек; они курили наргиле, и только бульканье воды нарушало мертвую тишину. Зато в доме господина Попастратоса звенела музыка, потому что всех музыкантов и танцовщиц пригласили туда. Много гостей было приглашено; среди них и сын Саида Абдаллах.
Он не мог не прийти. Господин Попастратос нанял музыкантов на целую неделю и объявил в городе, что он хочет отпраздновать день рожденья греческого короля. Это была неправда, но ведь никто не знал, когда родился король Греции, да никто и не старался узнать его. Больше всего местное общество интересовали приглашения, которые господин Попастратос сделал своим лучшим друзьям… и Абдаллаху, которого он уже никак не мог считать своим другом. Абдаллах сначала отказался, говоря, что гнусный руми дерзок настолько же, насколько зловонен. Но когда ему сказали, что ни музыкантов, ни шумной компании в любом другом месте он не найдет, и что так будет продолжаться целую неделю, он, не отказавшись от своего презрения к господину Попастратосу, решил прийти: ведь он шел ради веселья, а не ради этого проклятого руми.
Когда Абдаллах вступил в его дом, он не встретился с хозяином; и был этим недоволен, потому что охотно бы выложил ему в глаза свое мнение о нем. Но господин Попастратос это предвидел, и поэтому предпочел остаться у себя в кабинете, предоставив музыкантам развлечь гостя. И Абдаллах уселся на подушки господина Попастратоса, зажал зубами мундштук наргиле господина Попастратоса и, слушая музыкантов господина Попастратоса, смотрел на танцовщиц. Он сильно похудел за это время; сказались бессонные ночи. Казалось, что под его одеждой нет тела, что она висит на сухой ветви. И руки, выглядывавшие из рукавов, напоминали ветви. А глаза его стали больше, или это только казалось из-за синевы под ними.
Ночь подходила к концу, а господин Попастратос все еще праздновал именины короля у себя в кабинете. Когда же он, наконец, вышел оттуда, то направился не к гостям, а в кладовую, где лежали пучки травы из Йемена. Он взял один из пучков и, подозвав слугу, поручил ему положить его к ногам Абдаллаха со словами: «подарок хозяина».
Так и произошло.
И Абдаллах, забыв про свое нерасположение к хозяину, которое мешало ему веселиться, выпрямился и радостно воскликнул: эль-кнат!
Он знал это йеменское растение, хотя отец запретил ему употреблять его. Али Саид любил все йеменское, но эль-кнат он отвергал, говоря что это грех; и он знал, что говорил. Но здесь было много эль-кната, и Абдаллах поспешно разорвал веревку, связывавшую пучок. Потом отбросил в сторону банановые листья и, сорвав несколько молодых зеленых побегов, засунул их в рот. И жуя их с нескрываемым наслаждением, он закричал:
— Мей! Мей! Воды! Воды!
Слуги принесли воды. Некоторые из гостей присоединились к Абдаллаху и тоже стали жевать эль-кнат, требуя воды. Они жадно пили: ведь йеменская трава вызывает жажду, потом снова жевали, снова пили и опять жевали…
А лица их внезапно оцепенели и превратились в уродливые маски… глаза застыли, словно разглядывая что-то прямо перед собой. И, очевидно, это что-то было очень интересное, потому что зрачки глаз увеличились, белки совсем исчезли, казалось, глаза состоят только из одних зрачков, пристально разглядывавших какую-то точку прямо перед ними.
Лишь тогда среди гостей появился господин Попастратос. Он вошел, молча уселся и пристально посмотрел на Абдаллаха. Но Абдаллах не видел его, разглядывая что-то, находившееся прямо перед его глазами. Он вообще не видел ничего… перед ним проносились видения райских садов и фигуры красивейших женщин. Женщины проходили мимо него, и Абдаллах мог касаться их руками. Он чувствовал сильную жажду и много пил. Но он делал это уже механически, не сознавая ничего. Потом долго сидел, неподвижный, словно статуя, и душа его пребывала в райских садах, среди этих женщин.
Он сидел так долго, дольше, чем остальные гости, жевавшие эль-кнат. Он был юн и слаб; его организм не мог сопротивляться йеменскому яду. Музыканты перестали играть и ушли, потому что господин Попастратос сказал им, что они больше не нужны. А Абдаллах все еще сидел. Ушли и танцовщицы, увидев, что на них никто не обращает внимания. Большинство гостей тоже покинуло гостеприимный дом, но Абдаллах все еще сидел…
Господин Попастратос курил турецкие сигареты и наблюдал за ним. Некоторые из гостей уже начали приходить в себя; расслабленные и обессиленные, они не имели воли для того, чтобы заставить себя подняться и уйти. Наконец, и они ушли…
Лишь тогда очнулся Абдаллах и тут же бессильно поник на пол, как будто ветвь, на которой висела его одежда, обломилась.
Настала долгая тишина.
Господин Попастратос продолжал курить. Он приказал приготовить Абдаллаху постель, полагая что сыну Саида будет трудно дойти до дома. А Абдаллах начал понемногу пробуждаться от летаргии, которая обычно наступает после кната… наконец, он поднял голову и огляделся по сторонам, словно забыв, где он находится, словно разыскивая те чудесные райские сады…
— Спасибо тебе, Абдаллах, за то, что ты почтил своим посещением мой скромный дом, — произнес господин Попастратос так ласково, как только смог. — Двери его всегда открыты для тебя.
Но Абдаллах даже не взглянул на него. Он озирался по сторонам. Господин Попастратос, догадавшись, что его мучает жажда, налил ему воды. Абдаллах выпил, не заметив, кто напоил его.
— Дай еще! — произнес он.
Господин Попастратос снова налил воды, но Абдаллах качнул головой:
— Дай мне кната!
Господин Попастратос удивился; он знал, что в Йемене многие жуют эль-кнат, но только один раз в день, или в крайнем случае два. Но сейчас… Минуту он раздумывал…
— Кната! — настаивал Абдаллах, и в голосе его слышалась мольба.
Господин Попастратос встал и принес еще охапку. Потом засвистел, вспомнив о господине Бабелоне. Не могло быть сомнений в том, кто из них двоих окажется победителем.
Глава V
Однажды вечером, тем вечером, когда Абдаллах бен Али наслаждался кнатом, Саффар сошел на берег. Остальные матросы сидели на палубе и пели старинные песни, то тоскливые, то радостные.
Ему захотелось побыть одному, побыть в тишине.
Только что среди туч появилась луна, круглая, как овечий сыр, бросавшая свои лучи на спокойную гладь моря. Саффар спустился по трапу, нашел на пристани укромное место и сел в тени одного из столбов, к которым привязывают лодки. Он был недвижим, и казалось, слился с этой тенью. И европеец, который застал бы здесь его — нагого туземца, любующегося морем, луной и ночью, — был бы поражен.
Но Саффар пришел сюда не любоваться морем. Он смотрел на него, чтобы отчетливей вспомнить события прошлой ночи, когда он сам вел корабль, чувствовал в руке его дрожь, словно дрожь живого существа, чувствовал, что он слился с громадой корабля. Это было захватывающее ощущение, и Саффар хотел еще раз пережить его. Поэтому он вспоминал это снова и снова.
Постепенно для него стало привычкой вечером, после молитвы иша, когда его товарищи шли спать, оставаться на палубе и вызывать в себе это ощущение. И думать… Вскоре он получил для своих мыслей новую пищу: на корабле узнали, что Абдаллах, сын Господина Жемчуга, переметнулся от господина Бабелона к господину Попастратосу.
Это была правда, хотя и не совсем так: Абдаллах не переметнулся, а всего лишь оставил дом Бабелона и перебрался в дом Попастратоса. Он все оставил в доме Бабелона, даже вечное перо, которое тот ему когда-то подарил. Ничего не надо сыну Али Саида, Господина Жемчуга; если нужно, всегда найдутся друзья, которые дадут ему все…
И ему правда ничего не было нужно, ничего, кроме кната, женщины из райских садов прелестнее танцовщиц из Массауа. Абдаллах перестал выходить из дома — одежда была ему не нужна. Он ничего не покупал — деньги были лишние. Ничего не подписывал — вечное перо было ни к чему. Новый хозяин, в противоположность господину Бабелону, не связывал его расписками; он и так крепко держал его в своих руках, очень крепко держал…
Саффар этого не знал, но вскоре он стал кое о чем догадываться. Достаточно было связать воедино некоторые факты, как поездка господина Попастратоса в Ходейду, охапки зелени, которые он там закупил, отношения между Али Саидом и Абдаллахом — и все становилось на свое место.
Зачем белый ездил в Йемен за эль-кнатом? Чтобы привязать к себе Абдаллаха. Зачем ему это нужно? Потому что Абдаллах сын и будущий наследник Али Саида. Что достанется ему в наследство? Жемчуг…
На этом месте размышления Саффара прервались, остановленные недоумением перед сложными путями белых, которые из множества предпосылок, причин и следствий, тесно переплетенных между собой, связанных в одну длинную и запутанную цель, могут совместить две такие различные вещи, как йеменский эль-кнат и жемчуг Саида: чтобы получить жемчуг, который находится на Дахлаке, белый плывет в Ходейду за эль-кнатом! Да, так ведь и было. Аллах акбар…
Это был очень сложный узел причин и следствий, и Саффару удалось распутать его, хотя он и держал в руках только один конец — эль-кнат.
Потом размышления Саффара неожиданно были прерваны. «Эль-Сейф» снова отплыл в Ходейду.
На этот раз господин Попастратос остался в Массауа, потому что не хотел оставить своего гостя, и корабль вел нахуда. Это был веселый рейс. У нахуды было исключительно хорошее настроение — и потому, что он хотя бы временно был единственным хозяином корабля, и потому, что незадолго до отплытия его навестил тайно сам господин Бабелон с неизменной улыбкой на своем лице, с той улыбкой, которая была так заразительна. И после этого визита в течение всего пути нахуда тоже улыбался, а матросы смеялись и пели, словно и их сердца захлестнула волна радости.
В Ходейде нахуда закупил много эль-кната, а потом отправился на берег отдохнуть, отпустив и команду. И этот день оказался для Гамида роковым.
Он зашел в йеменскую кофейню — один, потому что несмотря на свою привязанность к Саффару, он избегал показываться на людях с ним вместе. В кофейне он потребовал стакан воды, но забыл добавить «из Эль-Хохи». Ему принесли воду из колодца, потому что за привозную воду надо платить особо. Гамид выпил ее, хотя она и отдавала болотом; потом стал пить кофе мур, запах которого не чувствовался из-за пряностей. Он весело провел в Ходейде весь день, но вечером, сразу же после отплытия, почувствовал резкую боль в желудке и вскоре уже метался в лихорадке, мучимый жестоким поносом. Саффар заменил его у руля, и в этот раз он впервые вел корабль сам, без посторонней помощи. Но он беспокоился о своем друге, и радость его была омрачена. Он без ошибок довел корабль до Массауа, и лишь перед самой гаванью к рулю встал нахуда.
Как уже говорилось, корабль привез много кната, но часть его нахуда тайно продал господину Бабелону, который все также приветливо улыбался ему.
И вот господин Бабелон отправился с визитом.
— Войдите! — сказал господин Попастратос. — А, это вы, любезный друг! Садитесь же!
— Не беспокойтесь, я постою, — скромно отвечал господин Бабелон. — Я, собственно, пришел не к вам, а к сыну Саида; у меня есть к нему дело…
— Не знаю, не знаю, примет ли он вас, — озабоченно почесал затылок господин Попастратос. — Его навещают другие, более желанные гости.
— Даже самые желанные гости когда-нибудь ведь уйдут, — заявил господин Бабелон. — Я подожду. Что поделаешь. К сожалению, Абдаллах мой должник…
— Боже мой, да если ваше дело заключается только в этом, вы можете не затруднять себя ожиданием, — засмеялся господин Попастратос. — Я сам заплачу за него, а потом рассчитаюсь с ним.
— Вы очень любезны… пожалуй, вы самый любезный из всех, кого я знаю, — поклонился ему господин Бабелон. — Но мне нужно бы и поговорить с Абдаллахом. Смотрите, ведь он забыл у меня свою вещь, которую я ему когда-то подарил. Это очень меня огорчило… — С этими словами он показал вечное перо, и господин Попастратос рассмеялся.
— Ну, что же, поднимитесь наверх. Первая дверь налево. Она не заперта — в комнате так уютно, что даже птица не пожелает улететь из нее.
Господин Бабелон поблагодарил его поклоном.
Абдаллах сидел в пустой комнате на соломенном коврике, и веки его глаз дрожали, словно листья осины. Он только что возвратился из далекого путешествия в райские сады. Господин Бабелон улыбнулся, поздоровался с ним и уселся прямо на голый пол.
— Достойно ли сыну Али Саида жить в этой дыре? — спросил он с укоризной.
Абдаллах поднял глаза, горевшие ярким огнем; веки глаз все еще вздрагивали.
— Призрак, — шепнул он. — Везде призраки. И эта комната — призрак. Я живу во дворце, который тебе и не приснится…
Господин Бабелон вытащил вечное перо и положил его к ногам Абдаллаха:
— Я принес твою вещь, которая когда- то нравилась тебе. Возьми ее.
Абдаллах посмотрел на перо.
— Оно мне уже не нужно, — устало проговорил он. — Я могу писать в воздухе пальцем золотые буквы. И стоит мне лишь подуть на них, как они исчезнут…
— Иди ко мне, Абдаллах, — зашептал ему господин Бабелон. — Я дам тебе много кната, и я уложу тебя на мягкие подушки, к которым ты привык.
Но Абдаллах покачал головой. Казалось, лицо его было из темного стекла. Было видно, как на запястье дрожала голубая жилка, она билась так часто, что, казалось, сейчас лопнет, и брызнет кровь, если в его жилах таковая имеется. Господин Бабелон во всяком случае очень в этом сомневался. За несколько недель Абдаллах превратился в сгусток нервов, и его слабое сердце, конечно, долго не выдержит. С его лица исчезло выражение упрямой жестокости, оно стало мягким и безвольным; для жестокости нужна воля, а у Абдаллаха ее больше не было. Это уже не был Абдаллах — Раб Божий, это был раб эль-кната и господина Попастратоса.
Господин Бабелон встал.
— Жаба! — крикнул он. — Ты даже не безумец, а просто идиот!
Это были первые резкие слова, которые когда-либо слетали с его уст. Минуту он стоял неподвижно… Потом вышел, не попрощавшись, не забыв, однако, забрать вечное перо. Печальный, вошел он в кабинет хозяина.
— Я побежден, — глубоко поклонился он господину Попастратосу и подал ему пачку расписок. — Я старый чурбан…
— Удача — как женщина, — философски молвил господин Попастратос, подсчитывая цифры. — Будьте же вы мужчиной! — Он раскрыл сейф и расплатился с господином Бабелоном.
— Это правда, — отвечал господин Бабелон, пряча деньги. — Желаю вам, чтобы сын ушел не раньше отца.
— Куда? — наивно спросил господин Попастратос.
— К праотцам! — добродушно улыбнулся господин Бабелон и поспешно откланялся.
Господин Попастратос застыл за своим столом, потом торопливо поднялся по лестнице.
Абдаллах сидел в той же позе, в какой оставил его господин Бабелон; веки его дрожали, жилка на запястье пульсировала, глаза блестели.
Хозяин мрачно посмотрел на него; он не был здесь уже несколько дней, не желая переживать то неприятное ощущение, которое всегда охватывало его в присутствии Абдаллаха, и довольствовался сообщениями слуг о том, что все в порядке. Но порядка не было: эль-кнат действовал быстрей и губительней, чем это можно было ожидать; Абдаллах был слишком слаб и безволен. И сейчас господин Попастратос знал, что Абдаллах его раб, что он сделает все, что ему прикажут, что он будет лизать ему ноги за четверть вязанки кната. Но он знал и то, что, пожалуй, с эль-кнатом пора покончить… Он сел.
— Абдаллах, скоро я отправлюсь в плавание в дальние страны. Если хочешь, я возьму тебя с собой.
Абдаллах покачал головой. Он не хотел ничего, его утомляло даже безделье, и плыть куда-то казалось ему просто ужасным.
— Я буду и в Египте, — продолжал господин Попастратос. Высажусь в Порт-Саиде и поеду в Каир. В Каире есть квартал, огороженный высокой стеной, и называется он Эзбекуи. Слышал ли ты о нем?
Абдаллах качнул головой. Конечно, он слышал о квартале Эзбекуи в Каире и когда-то очень стремился побывать в нем, провести там хоть несколько ночей. Но сейчас он был утомлен, и качнуть головой легче, чем кивнуть и потом объяснять что-то.
Минуту господин Попастратос молча грыз ногти.
— А хочешь быть Господином Жемчугом, Абдаллах? — сказал он, наконец.
И тут в Абдаллахе что-то дрогнуло. Он поднял голову.
— Хочу! — воскликнул он страстно. — И буду! Но что случилось? Али Саида больше нет? Ты что-то скрываешь от меня, грязный руми?
В голосе его слышались угрожающие нотки. Какие-то скрытые силы проснулись в его душе и превозмогли странную летаргию, одолевавшую его. Была ли это жажда могущества, жажда славы, единственная жажда, которая еще влекла его, если не считать воды и кната? Господин Попастратос не знал. Но он почувствовал, что задел больное место.
— Нет, твой отец пока жив, — сказал он. — Я не стал бы скрывать от тебя его смерти. И я не стану скрывать еще одной вещи: если ты хочешь стать Господином Жемчугом, ты должен отказаться от кната. Хотя бы на время.
Ты очень жаден и тороплив… Ты так тороплив, милый юноша, что можешь обогнать даже Али Саида. И тогда ты никогда не сможешь стать Господином Жемчугом, никогда, ведь покойник может стать только Господином Вечности…
И господин Попастратос засмеялся, ему казалось, что сегодня он очень остроумен. Но улыбка, неуместная улыбка, тут же сбежала с его лица.
— Ну, Абдаллах, отказываешься от кната? Стоит сделать это ради того, чтобы быть Господином Жемчугом.
Абдаллах кивнул головой. Да, ради этого можно многим пожертвовать.
— Сегодня ты уже не получишь кната, Абдаллах! — подчеркнул господин Попастратос. — Хочешь, не хочешь, а так надо! Я твой друг, а дело идет о твоем здоровье!
Абдаллах снова кивнул. Он вдруг понял, как близка смерть. Раньше он никогда не думал об этом. У него не было для этого ни времени, ни повода; он без устали бродил по садам, созданным его воображением, и ласкал женщин, которых не существовало. Но сейчас мысль его обрела способность охватить все это, и он видел все это так ясно, словно блеск глаз сделал его ясновидящим. Он кивнул. Да, он все понимает и со всем соглашается.
И господин Попастратос возвратился в свою канцелярию, от всего сердца благодаря господина Бабелона за его предостережения.
Но его спокойствие было нарушено уже через два часа: прибежала старая Рифа и сообщила, что Абдаллах требует кната.
— Проклятый идиот! — выругался Попастратос. — Ничего он не получит! Дай ему наргиле! Дай ему кофе, но не очень крепкое! И ни листка кната!
Последнее приказание было излишне, потому что ключ от кладовой, где был закрыт кнат, лежал у него в кармане.
Рифа исчезла. Гнев господина тоже исчез. Но через полчаса он вдруг вспомнил о чем-то и встревоженный поднялся наверх посмотреть, что делает этот безумец. Но комната Абдаллаха была пуста.
В одно мгновенье господин Попастратос поднял на ноги весь дом и в сопровождении многочисленной свиты слуг выскочил на улицу. Он догнал Абдаллаха вблизи дома господина Бабелона. Тот шел и дрожал, как осиновый лист.
— Куда идешь? — закричал на него Попастратос.
— За кнатом, — отвечал Абдаллах. — Старик с зонтиком даст мне.
Господин Попастратос разразился проклятиями на незнакомом языке.
— Вернись! — потребовал он. — Я дам тебе кнат.
Абдаллах согласился.
Он снова попал в свои райские сады, а господин Попастратос — в свою канцелярию. Вскоре от господина Бабе- лона пришел слуга со связкой кната и запиской, в которой было только два французских слова:
— Bon voyage! (Бон вояж! — счастливого пути!)
Это казалось странным, но господин Попастратос сразу понял о каком пути идет речь.
Он понял и то, что немедля надо что-то делать.
Вечером он навестил хакима Муссу, тучного мужчину с жиденькой бородкой и сладкими глазками, который с тех пор как Али Саид прогнал своего врача, часто ездил в Джумеле и лечил своего пациента больше словами, чем лекарством.
Свидание продолжалось долго. Господин Попастратос опорожнил свои карманы и в полночь вернулся домой, хотя и без денег, но зато с надеждой.
На другой день хаким Мусса отплыл на Дахлак, чтобы вскоре же возвратиться обратно.
И через две недели, в новолуние, Али Саид вздохнул последний раз. Он задыхался, хватая воздух жадно открытым ртом, умирал, глядя на свои жемчужины. Он не мог найти среди них ни ту, ради которой погиб Аусса, ни другие, на которых тоже были слезы и кровь, ни ту, которая выпала из раковины в расщелину и которую нашел Раскалла, этот баркале, бродяга и. нищий. Он видел только неясное свечение, которое то вспыхивало, то гасло…
Так умер знаменитый Господин Жемчуг.
Не помогло ему и чудодейственное лекарство, которое дал ему хаким Мусса в свой последний визит, сказав, что его нужно употреблять только в новолуние.
ЧАСТЬ ПЯТАЯ
Глава I
Недомогание Гамида было серьезное. Оно не прошло и в Массауа, где было вдоволь чистой воды. Понос не проходил… В Массауа у Саффара не было другого жилья, кроме палубы «Эль-Сейфа», а у Гамида была своя комнатушка на окраине города. Туда Саффар и перевез его, там и остался, чтобы ухаживать за ним. Корабль стоял на причале, и матросам было нечего делать, потому что господин Попастратос был занят своими делами, связанными с жемчугом.
А у Саффара появилась крыша над головой, и он был рад этому. Кто же еще смог бы присматривать за Гамидом? Кто бы смог держать его в чистоте, носить ему чудодейственные амулеты и не менее чудодейственные лекарства, которые помогали даже тогда, когда от больного отказывались знахари? Никто. Почему? Чему учит коран? Здоров — благодари аллаха. Болен — воля аллаха. Умер — мир аллаху.
Но в последнее время в голову Саффара все чаще приходила мысль о том, что воля аллаха не так уж могущественна, и что воля других существ тоже что-то значит. Это было тогда, когда он вспомнил Ауссу и кровь, которая стекала на песок и впитывалась в него. Он попытался сказать об этом Гамиду, но ему показалось, что Гамид или не понял его, или не захотел понять. Гамид считался с волей аллаха. Он был слаб и немощен, и он считал, что вера поможет ему. Тогда Саффар намекал ему, что может он, Саффар, лучше уйдет, потому что ведь Гамид с помощью аллаха выздоровеет сам. Если же умрет — иншаллах!.. Но едва он направился к двери — это он сделал только для вида — как Гамид окликнул его. Гамид боялся оставаться наедине с аллахом. И Саффар улыбался. Он перерос своего учителя…
Болезнь Гамида была такая же нечистая, как и вода Ходейды. Другой бы уже покинул его, но Саффар остался. Он любил Гамида, как брата. Часто он думал и об этом и, наконец, обнаружил причину. Он пришел к выводу, что его тянет к себе не тело Гамида, а душа его. Гамид пробудил и его, Саффара, душу. А сам Гамид лежал в своей хижине, смотрел на небо сквозь крохотное окошко, молясь аллаху, и надеялся только на Саффара.
Это казалось непонятным. Он египтянин, человек со светлой кожей, он, кормчий двадцатипятитонного корабля, вглядывался в этого нагого чернокожего сомалийца, бывшего ныряльщика, почти раба, с клоком спутанных волос на голове, с набедренной повязкой и худыми ногами. Он глядел на него снизу, потому что он, Гамид, лежал, а Саффар стоял.
Но это было не все, совсем не все. Разница между ними была более глубокая, дело было не только в положениях их тел. Разница была в том, что Саффар рос и разгибал свою спину, а Гамид оставался тем же.
Он все еще стоял на том месте, где оказался после того, как научился читать и писать. Тогда он казался себе таким важным и ученым, что ему и в голову не приходило, что надо учиться дальше. Он читал коран и понимал его. В то время и Саффар уже знал коран, читал его наизусть, понимал его, но внутренние связи явлений были ему непонятны. Он напоминал ребенка, который бормочет непонятное ему стихотворение: мысли исчезают, потому что они слишком сложны для него.
Но потом Саффар двинулся в путь, разогнался… и вот он уже обогнал Гамида. И сейчас он сам мог бы учить Гамида, потому что проник в область, которая для его учителя была недосягаема. Он попытался сделать это еще тогда, когда завел с Гамидом разговор о воле аллаха, которая не объясняет всех поступков. Это был первый серьезный спор между ними. Правда, тогда Саффар избегал произносить богохульства, а сам Гамид остерегался спора на такую тему. Но семя было брошено, и теперь оно ждало только благодатной влаги…
В конце третьей недели болезни Гамида Саффар пришел к выводу, что больному не помогают ни чудодейственные амулеты, ни лекарства и заклинания, и лишь обычный рисовый отвар творит чудеса. Он выбросил амулеты и стал лечить больного тем, что образованный человек назвал бы «рисовая диета». Видя, что Гамид быстро выздоравливает, он потерял всю веру в чудеса, которую носил в себе еще с детских лет.
Но в это время господин Попастратос, очевидно, вспомнил о своем судне и однажды красный и запыхавшийся прибежал в гавань; Саффару пришлось оставить Гамида. И ни он, ни Гамид, и никто другой не подозревали, что этот рейс станет развязкой, что приближается туча, из которой хлынет благодатная влага.
Глава II
В Массауа узнали о смерти Саида в тот самый день, когда в Джумеле его хоронили.
Когда господин Попастратос получил это утешительное известие, он щелкнул пальцами, закурил сигарету и улыбнулся. Наконец-то! А там наверху этот идиот Абдаллах, и надо поскорее набить его до отвала кнатом до… до…
До каких пор — этого господин Попастратос не знал. Но это не имело никакого значения. Главное это то, что сейчас он поедет с Абдаллахом на Дахлак, за жемчугом. И зря смеялся господин Бабелон, этот старый чурбан:
— Счастливого пути! — Bon voyage!
С такими приятными мыслями господин Попастратос встал и медленно поднялся наверх.
Абдаллах сидел на коврике, скрестив ноги, и веки его дрожали. Он был совершенно трезв, но уже развязывал трясущимися руками новую вязанку кната, которую ему только что принесла старая Рифа. Рифа все еще стояла в дверях.
Но господин Попастратос даже не заметил ее, он слишком торопился.
— Позволь мне первому поздравить тебя, — начал он важно, поклонившись по пояс маленькой фигурке, сидящей на цыновке. — Ты — Господин Жемчуг. О душе твоего отца уже заботится сам дьявол.
Вязанка кната выпала из рук Абдаллаха. Его блестящие глаза закатились куда-то под лоб, так напряженно смотрел он на губы Попастратоса.
— Твой отец Али Саид умер, — объяснил господин Попастратос, думая, что Абдаллах не понял.
И тут внутри у Абдаллаха что-то дрогнуло. Сухая ветвь, которая поддерживала его тело, надломилась. Послышались рыданья… Тело медленно поникло на циновку. Тюрбан потомка пророка развязался, и можно было видеть бритую голову продолговатую, как яйцо.
Настала минута тишины. Господин Попастратос ждал, когда Абдаллах придет в себя, ведь это было для него так неожиданно. Но Абдаллах не шевелился, и мужчина беспокойно склонился над ним.
Абдаллах уже не дышал. Сердце у него слабое, у этого хилого сына Саида, и эль-кнат погубил его.
Секунду казалось, что господин Попастратос упадет рядом с Абдаллахом. Кровь отхлынула от его лица, он был бел как снег. Потом на лице его появились какие-то бурые пятна; он с недоумением смотрел на тело, лежащее у его ног…
А потом, заломив руки, закричал:
— Пес! Пес! Пес!
Старая Рифа накрыла лицо Абдаллаха и вышла. «Пнул, — шептала она, — и в голосе ее слышался ужас, — пнул мертвого»!..
А голос разъяренного хозяина поднял на ноги весь дом. Испуганные слуги разбежались. Один из них, состоявший на жалованье у господина Бабелона, направился прямо к нему.
Излив свой гнев, господин Попастратос спустился в кабинет, бросился на тахту и стал так яростно грызть ногти, что из пальцев текла кровь, и он с окровавленными губами напоминал в эту минуту вампира или вурдалака.
Таким и застал его слуга, который бегал к господину Бабелону и выгодно продал тому известие о смерти Абдаллаха.
— У меня важная новость, господин, — произнес он робко. — Она стоит много серебра…
— Вон! — бешено рявкнул Попастратос.
Вот как случилось, что лишь в полдень он узнал то, что мог бы узнать раньше: господин Бабелон рано утром с попутным ветром отплыл на Дахлак.
Теперь уже господин Попастратос не кричал и не бесился. Молча устремился к гавани. Через полчаса корабль был уже готов. У Саффара не было времени даже попрощаться с Гамидом. Меч на носу рассекал волны, как топор. Вскоре на горизонте показались паруса корабля, на котором плыл господин Бабелон.
Попастратос торжествующе засмеялся и принялся бегать по палубе, словно пытаясь этим увеличить скорость корабля.
— Быстрее! — кричал он. — Быстрее, или я повыбрасываю вас в море, вас, проклятых негров! Быстрее!
Саффар-Эль-Сейф стоял у руля с глазами, устремленными на этот небольшой четырехугольный парус впереди. Нахуда приказал поднять все паруса, какие только могли быть подняты. Корабль, склонившись под тяжестью парусов, мчался, как птица.
И когда туманной полоской на горизонте показались берега острова Эль-Кебир, «Ямиле» было уже хорошо видно. Но нужно было еще обогнуть остров, потому что Джумеле лежит на берегу, противоположном Массауа.
Нахуда мгновение колебался: с какой стороны обогнуть остров, с юга или севера? Господин Бабелон направился к северу, и нахуда кивнул Эль Сейфу, приказывая преследовать его.
Но вблизи острова вдруг безжизненно повисли паруса «Эль-Сейфа», зато «Ямиле» легко неслась вперед. Этим маневром господин Бабелон снова получил преимущество… Однако в конце концов «Эль-Сейф» с Эль Сейфом у руля стал нагонять его. К пристани в Джумеле оба судна подошли одновременно. Солнце еще не село, и господин Попастратос мог считать, что он установил новый рекорд по трассе Массауа — Джумеле. Но ему было не до этого. Он выскочил на берег и злобно глянул на господина Бабелона, который в эту минуту раскрывал свой зеленый зонтик.
— Добрый день — или сейчас уже вечер? — приветливо улыбнулся господин Бабелон. — Надеюсь, и вы идете навестить нового Господина Жемчуга, Азиза?
Глава III
Карлик Азиз сидел во дворе своего дома и щелкал орехи, выплевывая скорлупу себе на одежду. В доме не было никого, кто мог бы принять гостей, и Бабелон с Попастратосом, которые одновременно подошли к воротам, вместе вошли и во двор.
— Салям алейкум, Азиз, — поклонился господин Бабелон. — Или ты уже настолько возгордился, что и не замечаешь нас? — Азиз насупился. Со времени последнего визита Попастратоса и его фокуса с монетой ему казалось, что все потешаются над ним, и это очень злило его.
— Я не хочу слушать ваши глупые шутки. — Уходите! — Господин Бабелон чистосердечно рассмеялся:
— Азиз! Неужели это правда, что ты ничего не знаешь? — Тогда и господин Попастратос понял в чем дело.
— Абдаллах, сын Али Саида, мертв, — пояснил он. Наследник Али Саида ты, Азиз! Я пришел сказать тебе это и рассчитываю на твою благодарность, ведь я первый принес тебе эту радостную весть.
Орехи посыпались из рук Азиза, и он ошеломленно уставился на Попастратоса. И его поза так напоминала позу Абдаллаха сегодня утром, что Попастратос на секунду замер в ожидании, что это известие убьет и Азиза. Но Азиз перенес это потрясение; сердце у него было здоровое, хотя он и был стар.
— Поклянись именем аллаха! — потребовал он взволнованно.
— Клянусь именем аллаха! — поспешил ответить господин Бабелон, хотя он и был христианином. — Волей аллаха Абдаллах мертв. Он умер сегодня утром.
Только теперь Азиз поверил. Его маленькие глазки забегали по двору, но господин Бабелон знал, что Азиз осматривает не этот тесный двор, а весь остров Эль-Кебир, простор моря вокруг него и десятки кораблей на нем — наследство Али Саида.
— И жемчужины, — добавил господин Бабелон, угадав мысли Азиза. — Я, Азиз, не забыл про тебя. Я пришел купить их, и я хорошо тебе заплачу…
— Я тоже, — взволнованно прервал его Попастратос. — Я заплачу тебе больше, Азиз. И я не хочу ждать!
Видение огромного наследства, которое аллах подарил ему, старику в грязном бурнусе, исчезло, и глаза Азиза, побегав по лицам гостей, остановились на Попастратосе:
— Говоришь, ты дашь больше? Сколько?
Господин Попастратос без колебания назвал цену.
— Мало, — усмехнулся Азиз. — Ты дашь больше? — обратился он к господину Бабелону.
— Я думаю, что никто не сможет дать больше, — произнес господин Бабелон и попробовал улыбнуться.
— Хорошо, — злобно усмехнулся Азиз. И, протянув руку к Попастратосу, он медленно произнес:
— Они твои… волей…
Но не успел он произнести последнее слово, как господин Бабелон согласился прибавить.
Он мог бы поклясться, что так или иначе Азиз не произнес бы этого последнего слова, но он не хотел рисковать. Слишком велика была ставка.
Но господин Попастратос прибавил тоже. Оба они все еще стояли, Азиз не считал нужным пригласить их сесть. Он усмехался, показывая пальцем то на одного, то на другого. А они, как заводные, выкрикивали цифру за цифрой.
Азиз ухмылялся. Это была его месть за то, что они пренебрегали им раньше. Тогда он был смешной, безумный старик. Сейчас он Господин Жемчуг. И теперь ты, чужеземец, который умеет вытаскивать золотые монеты из бороды, плати! Что с тобой станется? Засунешь руки в бороду и вытащишь золотую монету!.. И ты, старик в очках и с зонтиком! Раньше ты не навещал Азиза, не приходил поклониться ему, потому что рядом жил Али Саид. Хорошо, стой же и набавляй! А теперь оба помолчите!
Азиз наморщил лоб, словно глубоко задумавшись о чем-то… И соперники замолкли, ожидая его решения. Как игрушки, у которых кончился завод…
Господин Бабелон был пристыжен до глубины души. За все время его пребывания на побережье Красного моря и вообще на Востоке, никто так не издевался над ним.
— Послушайте, ведь безумец издевается над нами, — шепнул он Попастратосу по-французски. — Оставим его и подождем, пока он образумится. Больше не прибавляйте! Обещаю вам тоже…
— Теперь ты! — указал Азиз на Попастратоса.
— Довольно! — решительно сказал Попастратос. — Хватит! Оставайтесь со своим жемчугом!
— Да, — подтвердил господин Бабелон. — Оставайтесь! Мы не привыкли к такой торговле!
Азиз заморгал и машинально поднес ко рту орех.
— Я уже старик, и я не хочу от вас больше, чем стоит жемчуг. Пойдемте в дом Саида, и я покажу вам товар. Он встал и хлопнул в ладоши, требуя оседлать мула.
Господин Бабелон заскрежетал зубами. Было ясно, что старик хочет разжечь их видом жемчужин и, таким образом, заставить их раскошелиться… Он сказал об этом Попастратосу.
— Это жалкий, противный древоточец! — возмутился тот. — Но я не бревно, я не бревно!
Наконец, Азиз уселся на мула и начал подниматься по каменистой тропинке к дому Саида. Он даже не пригласил своих гостей следовать за ним и не предложил им мулов. И они добрались до усадьбы покойного Али Саида измученные, так как мул двигался быстро. Он бежал даже рысью — так погонял его Азиз. «Погонщик мулов — вот он кто», — подумал о нем господин Попастратос.
У ворот никого не было. А на дворе стояла толпа невольников, которые низко кланялись Азизу. Они уже знали о смерти Абдаллаха; эту весть сообщили им матросы «Эль- Сейфа».
Азиз соскочил с мула и бросился прямо в комнату Саида, где стоял старинный йеменский сундук.
— Башир! — кричал он на бегу. — Башир!
Но Башир не появлялся, и Азиз сам вошел в пустую комнату.
— Башир! — крикнул он еще раз и попробовал поднять крышку сундука. Крышка легко поддалась.
Мгновение он стоял неподвижно, словно раздумывая о чем-то.
Потом вместе с господином Попастратосом и господином Бабелоном заглянул внутрь. И вздохнул с облегчением — хрустальный сосуд светился в темноте.
— Смотрите! — вскричал он, хватая его.
— Смотрите! — подхватил язвительно господин Бабелон. — Смотрите! Он пуст!
Глава IV
Сосуд был пуст. Его наполняла лишь прозрачная дождевая вода. Несколько мгновений Азиз стоял неподвижно, словно не в состоянии осмыслить свершившееся, словно надеясь, что жемчужины вот-вот. найдутся, что они вновь появятся в сосуде.
— Черт побери! — выругался господин Попастратос.
И только после этих слов Азиз поверил своим глазам.
Он бережно, словно от этого что-то зависело, поставил сосуд в сундук и пошел к выходу.
Но у двери он остановился.
— Башир! — крикнул он снова. Голос его звенел. — Башир!
Вокруг стояла молчаливая толпа черных слуг.
— Где Башир? — спросил Азиз, обращаясь к ним.
И слуги склонились ниц, и один из них проговорил:
— Он приказал никому не говорить, где он, но ты наш господин…
— Где Башир? — яростно прохрипел Азиз.
— Он уплыл сегодня в полдень на корабле Саида.
— Куда?!
— Этого он не сказал. Но корабль направился к югу… Азиз ничего не отвечал. Он повернулся и выбежал за ворота. О своем муле он забыл.
Господин Бабелон и господин Попастратос шли за ним. Им ничего не оставалось, как направиться к гавани.
— Если он не найдет себе корабль, он попросит один из наших, — задумчиво произнес господин Бабелон. — Согласимся ли мы?
Попастратос молчал. Он в ожесточении грыз ногти.
— Башир безумец! Как Азиз сможет найти его, если тот уплыл неизвестно куда, — промолвил он в конце концов.
Господин Бабелон кивнул. Он держал зонтик в руке и вращал его. Зонтик напоминал пропеллер первого самолета, который недавно опустился в Массауа.
— Лучше иметь дело с безумцем, чем с этой выжившей из ума обезьяной, — сказал он.
— Значит, вы считаете, что не стоит давать корабль? Но на вопрос Попастратоса можно было не отвечать; берег открылся их взору, и они увидели фигурку Азиза, спешащую к небольшой парусной лодке, качающейся на волнах рядом с «Эль-Сейфом». Это был «Эль-Рих» — «Ветер». Али Саид часто пользовался им для поездок в Массауа. Пяти матросов достаточно для нее, и она была очень подвижной.
— Гм, — произнес господин Бабелон. — Значит, он сможет обойтись без нас. К сожалению, мы не сможем обойтись без него…
Они остановились, глядя, как Азиз кричит на матросов.
— Черт бы его побрал! — выругался Попастратос.
— Успокойтесь! — обратился к нему господин Бабелон. Он уселся на большой камень. Солнце склонялось в море, и его диск, похожий на большой апельсин, отражался в голубых стеклах. Казалось, что у господина Бабелона огромные огненные глаза.
— Садитесь! — пригласил он своего соперника. — То, что должно случиться, то случится — такова воля аллаха. Господин Попастратос уселся.
Солнце село, но в полумраке можно было еще видеть, как мчался по волнам «Эль-Рих» — «Ветер». Потом опустилась темнота, но тут же на небе показался серебряный серп месяца, и паруса «Эль-Риха» дрожали в лунном свете, как платочек, которым машут прощаясь. «Эль-Рих» мчался на юг.
Оживленно о чем-то беседуя, Бабелон и Попастратос подошли к пристани.
Господин Бабелон, не поднимаясь на палубу «Ямиле», приказал своему нахуде ждать здесь до утра, а утром плыть в Массауа. Сам же он поднялся на палубу «Эль- Сейфа» — «Меча».
«Эль-Сейф» вышел из гавани и направился к югу в погоне за «Ветром», паруса которого все еще белели вдали. У руля встал Саффар — Эль-Сейф.
— Ты можешь пока отдохнуть! — обратился к нахуде господин Попастратос; он стоял на корме рядом с господином Бабелоном, который вглядывался в туманную даль моря. — В полночь ты будешь нужен.
Нахуда кивнул. Он понял хозяина: сейчас плаванье безопасно, а в полночь месяц зайдет, и корабль будет вблизи Ханфилы, на мелководье. Он показал Эль-Сейфу звезду, по которой надо ориентироваться, и спустился вниз. Остальные матросы тоже улеглись у себя в кубрике, и Саффар один остался у руля.
Ночь была величественная. Ветер дул порывами, поднимая множество мелких волн, которые называются «дикими»; это не те волны, которые катятся прямыми длинными рядами, нет, они поднимаются то тут, то там, вздымая тучи брызг. Нрав у них буйный, и поэтому у рулевого должны быть крепкие руки и зоркие глаза.
Эль-Сейф знал это. Чувства его были обострены, и ему не приходилось делать усилий, чтобы заставить себя быть внимательным: его мысли текли ровно и размеренно, а не неслись, как у человека, который много думал, видел и пережил. Он смотрел на путеводную звезду и на нос корабля, который ритмически поднимался и опускался, словно отсчитывая время. Он слышал за своей спиной шепот этих чужеземцев, но он не обращал на него никакого внимания: они говорили на непонятном языке.
Он сросся с кораблем и от этого чувствовал себя счастливым: его душа и тело жили напряженной жизнью, а не дремали, как это было раньше. Вглядываясь в залитое лунным светом море, он увидел невдалеке паруса «Ветра». Они были все ближе и ближе.
— За ним! — шепнул ему сзади господин Попастратос. — За ним, чего бы это ни стоило!
Эль-Сейф засмеялся. У него было пылкое сердце, и быстрый полет судна по волнам опьянял его и радовал больше, чем простое сознание того, что «его» судно лучше другого, что у него нет соперников в этом море.
Он еще крепче сжал штурвал, но так, чтобы «чувствовать» волну. Покачиваясь под ударами волн, «Эль-Сейф», ведомый искусной рукой, несся вперед. И вел его Эль-Сейф, матрос Эль-Сейф и бывший искатель жемчуга Эль-Сейф, который сейчас стоял у руля.
«Эль-Рих» оказался плохим соперником — вскоре оба судна плыли рядом. Их разделяла лишь узкая полоска воды.
— Возьми поближе к ним, мне надо сказать им что-то, — обратился к Саффару господин Попастратос, держа в руке рупор.
Саффар — Эль-Сейф взялся за штурвал. «Эль-Сейф» скользнул туда, где сквозь полотнище паруса просвечивала яркая звезда. Суда медленно сближались, но Саффар был спокоен: судно слушалось руля, а он всегда успеет повернуть. Стоп! Он закрутил штурвал в другую сторону.
И тогда случилось непонятное.
— С ума сошел! — закричал господин Попастратос и страшным ударом свалил его с ног.
А господин Бабелон схватился за руль и стал поворачивать его к «Эль-Риху»; он смотрел вперед, туда, где сквозь парусину мерцала звезда. Все это заняло несколько секунд. Потом донесся крик ужаса с палубы «Ветра», и не успел он смолкнуть, как могучий толчок потряс «Эль-Сейф» и одновременно что-то хрустнуло. Пальцы Бабелона, изо всей силы сжимавшие руль, были синими.
Все было кончено, только за кормой темнели какие-то неясные фигуры. Да еще ветер донес несколько невнятных слов. Все было кончено. «Меч» рассек «Ветер».
Господин Бабелон, с довольной улыбкой вытер вспотевший лоб. И Эль-Сейф видел эту улыбку, как видел и все остальное.
Да, он видел все, потому что, хотя удар господина Попастратоса и свалил его с ног, глаза его оставались открытыми. Он видел движение, которое сделал господин Бабелон, вставая у руля, видел блеск спиц штурвала, видел спокойное выражение на лице господина Бабелона, то спокойное выражение, которое так поразило его, Саффара. Казалось, с лица господина Бабелона спала маска — исчезло выражение участливости и добродушия и обнажился хищный оскал зверя, готового прыгнуть и растерзать…
Да, недаром на носу «Эль-Сейфа» был укреплен меч, тот меч, который разрубил «Ветер».
На палубе появились темные фигуры матросов.
Эль-Сейф поднялся на ноги. На лице его было написано удивление.
— Болван! — набросился господин Попастратос на Эль-Сейфа — Бездельник, ты потопил судно Азиза! Ты пьян?! Сошел с ума?! Свяжите его!
— Так и должно было быть, раз у руля стоял негр, — произнес поучительно господин Бабелон. — Теперь неприятностей не оберешься… Шесть человек утонуло, — обратился он к подбежавшему нахуде. — Неправда! — воскликнул Саффар. — Он сам это сделал…
— Замолчи, негодяй! — вскипел господин Попастратос и ударил Эль-Сейфа по лицу. — Свяжите его, говорю вам! Свяжите его!
— Да, да, я свидетель! — подтвердил господин Бабелон. — Негр виноват, и негр должен быть наказан.
Эль-Сейф поднял голову. Он знал, что ничто не заставит судью усомниться в правдивости двух богатых европейцев. Он посмотрел на господина Бабелона. Было темно, и он видел лишь светлое пятно вместо лица.
Было темно, и господин Бабелон не видел его глаз. Но он уловил движение, которым Эль-Сейф вскинул голову, и испугался. Голова негра всегда должна быть опущена, так велит аллах… И у господина Бабелона были все основания испугаться.
Эль-Сейф не вырывался, когда ему скрутили руки; он знал, что это бесполезно.
Его повели в каюту.
— Это неправда, — повторил он. — Это сделали они. Матросы смотрели на него с недоумением:
— Зачем это им нужно? Шайтан замутил тебе голову, Эль-Сейф. Ты будешь наказан.
У руля встал нахуда. Он стал объяснять Попастратосу, что они должны вернуться в Массауа и объявить о происшествии. Нельзя потопить чужой корабль и спокойно плыть дальше.
— Он прав, — согласился господин Бабелон. — Конечно, это неприятно, Башир и так далеко обогнал нас, но мы должны исполнить свой долг. Только после этого мы сможем продолжать погоню.
Так и решили. Судно повернуло к Массауа, которой и достигли к утру. Господин Попастратос и господин Бабелон передали Эль-Сейфа портовым чиновникам, дружески побеседовали с начальником порта (он тоже был когда-то приглашен к Попастратосу на именины короля) и вернулись на корабль.
Выходя из конторы порта, господин Бабелон поймал взгляд Эль-Сейфа и вздрогнул; ему показалось, что этот взгляд — не взгляд забитого чернокожего, а взгляд человека, уверенного в своей правоте и силе.
Господин Бабелон заставил себя улыбнуться: негр уверен в своей силе! Великий боже!.. — он шел и усмехался. Но на душе у него было неприятно — его мучил страх.
Глава V
Начальник порта перебирал четки и раздумывал, как поступить с Эль-Сейфом. Конечно, думал он, его надо посадить, пока не выяснены все обстоятельства. Потом он его отпустит, ведь и господин Попастратос тоже виноват, незачем доверять руль неопытному человеку. И он будет оштрафован за это, думал чиновник. А после этого, парень, я тебя отпущу.
Эль-Сейф пробовал все рассказать ему, оправдаться, поклясться именем аллаха. Но по знаку начальника его увели.
Его увели за город, туда, где начинались пустыри, где стояла пустующая тюрьма. Это было небольшое здание, в котором раньше помещалась бойня. Теперь ее охранял глухой стражник в турецкой феске. Узника бросили в камеру.
Массауа — одна из жарких местностей в Африке, а эта камера без сомнения самое жаркое место в Массауа. Окон в ней не было, а узкое отверстие под крышей не спасало от жары. Но скорпионам здесь нравилось, и они вылезали из многочисленных щелей нежиться в душном воздухе камеры.
Не успел еще Саффар пробыть здесь и двух часов, как весь он был мокрый от пота, словно только что вынырнул из воды.
Его мучила жажда, но он тщетно просил у сторожа воды; тот либо не слышал, либо не хотел слышать.
— Воды! Дайте мне напиться! — кричал он. — Я не виноват! Это они, два чужеземца! Они нарочно утопили «Эль-Рих»! Аллаху это известно! Аллах акбар!
А на другой день он кричал еще пронзительней; он умирал от жажды и отчаяния…
На третий день он умолк.
К этому времени господин Попастратос вместе с господином Бабелоном приближались к Ассабу.
Они бросили там якорь, но, не найдя и следа Башира, направились к Баб-эль-Мандебскому проливу. Они так спешили, что чуть не потерпели крушение.
Это произошло невдалеке от Обока. Было раннее утро, и над морем еще висел туман, когда корабль тряхнуло значительно сильнее, чем во время столкновения с «Ветром». Корабль накренился…
Господин Попастратос почти нагой соскочил с постели. Поднявшись на палубу, он обнаружил, что судно наскочило на мель и никакая опасность ему не угрожает. Но меч «Эль-Сейфа» так глубоко зарылся в песок, что не было никакой надежды на скорое освобождение.
К счастью, в тот же день мимо плыла арабская сембука[7], нахуда которой согласился довезти господина Бабелона и Попастратоса в Обок.
Оказалось, им повезло, потому что Башир покинул Обок всего тридцать шесть часов назад: он отослал обратно корабль Саида и пересел на судно, которое возвращалось из Джидды — порт поблизости от святого города Мекки — и везло оттуда богомольцев.
— Куда оно поплыло потом?
— В Аден.
— Гром и молния! Кажется, этот проклятый скопец собрался бежать в Индию! — возмутился господин Попастратос. Это было очень вероятно, потому что много мусульман из Индии едет в Мекку и оттуда возвращается домой.
— Увидим! — пожал плечами господин Бабелон, и его тон означал, что он готов следовать за Баширом хоть в Индию.
Господин Попастратос выругался и закурил сигарету. Им не удалось отплыть из Обока в Аден; сначала пришлось переправиться через пролив и попасть в Джибути, где они смогли бы найти или нанять корабль.
Было воскресенье, и французские чиновники важно прогуливались по улицам, обсаженным пальмами. На них были длинные белые брюки, белые тропические шлемы, напоминавшие огромные грибы, и твердые белоснежные стоячие воротнички. Они напоминали восковые фигуры, которых одели зачем-то в это странное облачение.
Господин Бабелон внимательно разглядывал эти белые фигурки. Они напоминали ему Францию, ту Францию, о которой он так тосковал. А пальмы на набережной в Джибути напоминали ему Ниццу на Лазурном берегу, о котором он так часто вспоминал…
Господин Бабелон забыл про все, и мысли его сейчас были там, на Лазурном берегу. Тогда он не носил ни синих очков, ни красной фески, ни зеленого зонтика. Он был тогда совсем другим; в легком фланелевом костюме, с цветком в петлице пиджака, с изящной тростью, украшенной серебряным набалдашником; только большая жемчужина на булавке, которой был заколот галстук, и связывала его с этим проклятым Массауа. Да, какие это были времена! Но ничего, скоро он навсегда покинет эти места, и уже никогда не вернется сюда…
Вот о чем думал господин Бабелон. А когда, нанимая корабль, господин Попастратос потянулся за кошельком, Бабелон под влиянием своего настроения вдруг неожиданно для себя обратился к нему:
— Разрешите, дружище, мне заплатить в этот раз. Вы любезно помогли мне добраться в Обок — теперь моя очередь. — Господин Попастратос вежливо поклонился.
В этот же день корабль вышел в море, а следующим утром он уже пробирался в лабиринте скал и островков, напоминающих вершины затопленных гор.
Бурые и алые, как кровь, скалы отбрасывали зеленовато-синие тени, и волны, набегая на них, разбивались на мириады капель. А над утесами летали стаи птиц, и лишь их пронзительные крики да шум прибоя нарушали тишину. Аден был близко.
А после полудня показался и сам Аден — громада больших каменных зданий у подножья высокой горы. Два английских миноносца дремали на зеркальной глади залива, синей и неподвижной; ничто не двигалось, и лишь огромные орлы парили в светло-синей вышине и исчезали за вершиной горы.
Охотники за жемчугом Али Саида сошли на берег.
— А теперь, — с улыбкой обратился господин Бабелон к Попастратосу, — теперь, друг мой, каждый из нас самостоятельно должен искать свое счастье. Мне кажется, что Башир все еще здесь, в Адене. Посмотрим, кто из нас раньше найдет его.
Господин Попастратос согласился. Ему самому хотелось предложить то же самое, но он не знал, как начать.
Он уселся в пролетку и приказал везти себя к центру города. Господин Бабелон задумчиво следил за ним… а потом тоже нанял экипаж, но поехал в противоположном направлении.
Глава VI
Путь его лежал вдоль берега залива к цепи скал, которую Аденский полуостров протягивает к морю, словно щупальцы. Каменные дома остались позади, и лишь ряды низких бараков тянулись по обочинам дороги. Потом окончились и бараки, экипаж остановился перед изгородью из колючей проволоки. Сойдя с него, господин Бабелон протянул свою визитную карточку часовому-англичанину. Вскоре его пригласили за колючую изгородь, и через коридоры здания провели в канцелярию полковника Ходжеса.
Полковник Эдвин Ходжес был в рубашке цвета хаки с расстегнутым воротом, в галифе и желтых кавалерийских сапогах. Он был краснолицым мужчиной средних лет, под носом у него топорщились жиденькие усики, а левая рука висела на перевязи — но это не была рана, полученная в сражении; он сломал руку, упав с лошади. Над головой его качалась индийская пунка — большой круглый веер, свободно висящий на веревке; тонкая бечева тянулась от нее вдоль стены и уходила за дверь; там сидел мальчик-туземец, который, дергая за веревку, раскачивал пунку.
Ходжес встал, приветствуя господина Бабелона:
— Хэлло! Кого я вижу на берегах этого Красного Ада?
— Вы правильно заметили, — отвечал господин Бабелон, вытирая пот, струящийся по лицу; он говорил на правильном английском языке. — Действительно, не существует Красного моря, а есть только Красный Ад, который к тому же не красный, а синий. Так что название вдвойне неправильное, да и вообще мне эти места надоели.
Ходжес засмеялся:
— Надоели? Вам?
— Да, — подтвердил господин Бабелон. — Я думаю, что после смерти обязательно попаду в ад, и поэтому мне совсем необязательно проводить в нем и эту жизнь.
— Вы говорите так, словно пришли попрощаться, — заметил полковник, щуря глаза; комнату заливали потоки света, отражавшиеся от прибрежных скал.
— Я пришел… — начал господин Бабелон, — меня привели сюда более важные причины. Я ищу некоего евнуха Башира и надеюсь, что вы мне поможете отыскать его…
— Евнухами я сыт по горло, — пробормотал полковник.
— Но, кроме этого, — продолжал господин Бабелон, — я привез с собой господина Попастратоса, купца из Массауа…
— Гм? — вопросительно кашлянул полковник.
…— и его настоящее имя вы, возможно, слышали, — невозмутимо продолжал господин Бабелон. — Это Эрик Леб.
— Гм! — снова кашлянул полковник — Леб? Вы так думаете?
— Я в этом уверен, — рассмеялся господин Бабелон и сунул руку в карман…
…А дальше события развивались с молниеносной быстротой. С такой быстротой, что когда английские полицейские, сопровождаемые господином Бабелоном, ворвались в караван-сарай, где остановился Башир, времени у него было лишь ровно столько, сколько нужно для того, чтобы прикрыть мешочек с жемчугом полами своей одежды. Что касается господина Попастратоса, который прибыл туда лишь через десять минут, то он был так поражен, что не смог ни протестовать, ни защищаться.
Казалось, он предвидел такой исход. Он сунул руку в карман, не затем, конечно, чтобы вытащить револьвер; револьвера у него не было. Он просто не знал, что ему делать со своими руками, так это все его ошеломило. Выходя, он, как гипнотизированный, смотрел на господина Бабелона, словно видя его впервые.
— Bon voyage! — крикнул ему вдогонку господин Бабелон. Но Попастратос не ответил ему.
— А когда-то он был таким веселым человеком… — покачал головой победитель.
— Что с ним теперь сделают? — трясясь спросил Башир.
— Повесят.
— За что?
— За то, что он совершил много грехов, — объяснял господин Бабелон. — За то, что он продавал оружие там, где это не разрешалось, например бедуинам в Аравии. За то, что собирал чего нельзя было собирать — военные сведения. И передавал туда, куда не нужно было их передавать — немцам и туркам. И вообще за то, что совал нос куда не следует.
У Башира затряслась борода.
— Но как это все узнали?
Минуту господин Бабелон пристально смотрел на него.
— Узнали, потому что я рассказал им об этом. Они мои старые друзья, а он плохо ко мне относился. — Господин Бабелон быстро наклонился вперед. — Да и ты тоже, ты, отец тухлых яиц!
Рот Башира приоткрылся, но из горла донесся только какой-то непонятный звук.
— Молчи! — крикнул на него господин Бабелон. — Не ты ли украл жемчуг Али Саида?
— Я не украл его, — проговорил, наконец, Башир. — Саид еще давно наказал мне, что в случае его смерти я должен отплыть от берега и бросить жемчуг в воду. Он не хотел, чтобы жемчуг достался Абдаллаху! Клянусь тебе…
— И ты бросил его в воду? — спросил господин Бабелон, откидывая край его одежды.
— Я не мог это сделать, — прошептал Башир. — Такие жемчужины…
— И ты хотел продать их моему врагу, да? — иронически спросил господин Бабелон.
— Вот они! — взмолился Башир. — Купи ты их у меня!
— Дай сюда! — сказал господин Бабелон. Он принялся считать их. Несколько минут стояла тишина.
— Сто шестнадцать, сто семнадцать, сто восемнадцать! В чем дело? Этот скряга достал еще одну?
— Да, — кивнул Башир. — За неделю до смерти…
— Хорошо, — прервал его господин Бабелон, ссыпая жемчужины в мешочек. Потом он засунул его в карман. — Какими деньгами тебе заплатить? Английскими, французскими, турецкими?
Но, прежде чем Башир ответил, господин Бабелон сказал:
— Пожалуй, я ничего не стану тебе платить, потому что сейчас англичане придут и за тобой.
Лицо Башира сразу стало бесформенным. Евнух, который раньше сидел, скрестив ноги, теперь как мешок повалился на землю.
— Я ничего не сделал! — закричал он, словно уже видя себя осужденным. — Клянусь!..
— Ты много наделал дел, — прервал его господин Бабелон. — Ты общался со шпионом, и у тебя много денег. Не покажется ли полиции это подозрительным? — господин Бабелон поглаживал свой карман, где находился мешочек с жемчугом. — Конечно, лучше всего тебе бы убраться отсюда… Но как это лучше сделать, я не знаю. Гм…
Башир внимательно слушал его.
— Гм, — размышлял вслух господин Бабелон. — Я думаю, что лучше всего было бы, если бы ты уехал в Джибути. Там у меня корабль, и англичане верят мне… А в Джибути мы договоримся об остальном — во всяком случае ты будешь не беднее, чем при рождении.
И господин Бабелон усмехнулся, глядя сквозь стекла очков на евнуха, который, очевидно, не понял его остроты.
— Согласен? — спросил он Башира.
Башир кивнул. Потом встал.
— Нет, — остановил его господин Бабелон. — Если мы выйдем вместе, это будет подозрительным. Собери свои вещи и через два часа будь в порту. Я буду ждать тебя там. — Башир заколебался.
— Могу ли я верить тебе? — спросил он. — Ты не обманешь?
— Башир, Башир, неужели ты не знаешь, что я за человек? Ведь я человек слова, и все это знают! — Господин Бабелон снял синие очки и взглянул на собеседника.
Башир глянул ему в глаза… и господин Бабелон вышел.
Конечно, он и не собирался ждать Башира, тем более, что через час за тем явилась полиция. Полицейские хотели проверить утверждение Попастратоса, что тот приехал в Аден ради жемчуга. Правда, это была пустая формальность, так как немного позднее Попастратоса «повесили за горло, пока не умер», как было записано в коротеньком протоколе. Но так могущественен был взгляд господина Бабелона, что Башир, когда его выпустили поздно вечером, бросился в гавань, нисколько не сомневаясь, что его ждут. Не найдя там никого, он бросился на камни и закричал:
— Жемчужины! Дети луны! Жемчужины!
К сожалению, господин Бабелон не слышал его. Когда начало светать, он был уже недалеко от Джибути. Он стоял, опираясь на поручни корабля, и составлял в уме телеграмму, которую он пошлет своей фирме. Сначала он хотел сообщить лишь, что возвращается в Европу с денным товаром. Но в Джибути он, поразмыслив, сделал дополнение; он просил также выслать в Массауа заместителя, которому мог бы передать все дела, ибо сам хотел остаться в Европе.
Ожидая почтового парохода, идущего в Массауа, он остановился в гостинице и первым делом решил оценить жемчуг Али Саида, высыпав его на стол и пробуя составить из жемчужин ожерелье.
Там было сто восемнадцать жемчужин, они были разных размеров, но все совершенные, и казалось, сам аллах искал их в морских глубинах и вкладывал в руку ныряльщика так, чтобы ожерелье было воплощением великолепия; их можно разложить парами одинаковой величины, и величина жемчужин убывала от пары к паре, пока всю цепочку не замыкали две жемчужины, которые были меньше всех остальных. Но, к сожалению, в середине был разрыв. Не хватало одной жемчужины которая соединила бы обе нитки и закончила ожерелье. Какая жалость! Какая непоправимая жалость! Ведь эта жемчужина должна быть больше всех остальных, но кроме того, белой, совершенно круглой и блестящей. А господин Бабелон знал, что такой жемчужины нет во всем мире…
В это же время он получил письменное сообщение из Массауа о том, что Саффар-Эль-Сейф бежал из тюрьмы и направился на юг, за ним, господином Бабелоном. Это известие так испугало его, что на некоторое время он даже позабыл про свои жемчужины.
И когда на следующий день в Джибути остановилось судно, плывшее в Мукаллу, порт на южном берегу Аравии, т. е. в противоположную сторону от Массауа, он нисколько не колебался и еще через день, стоя на палубе, следил за стаями летающих рыб, проносящихся над бескрайними просторами Индийского океана.
ЧАСТЬ ШЕСТАЯ
Глава I
А Саффар действительно направился на юг, но совсем не за господином Бабелоном.
Крики, которые в течение двух дней доносились из душной камеры, где он был заперт, были последними криками Саффара-ребенка. И следующей ночью, когда из отверстия под крышей потянуло свежим воздухом, Саффар окончательно успокоился и стал обдумывать что-то…
На следующий день он распределил свой дневной рацион воды, и несмотря на то что в полуденные часы его ужасно мучила жажда, воды ему хватало до самого вечера. Он также решил, что днем он будет спать, а бодрствовать будет ночью, когда легче дышится и легче думается. Ему удалось и это. Сначала его мысли были заняты тем, как выбраться из этого жаркого пекла, и он придумывал десятки безумных проектов, при помощи которых мог бы очутиться на свободе. Он знал, что здесь про него просто-напросто позабыли, что никакого суда не будет и что он и так уже осужден.
Когда он ясно понял это, ему снова захотелось кричать, чтобы хоть криками выразить гнев и отчаяние, царившие в нем.
Но он справился с собой и отбросил все мысли, которые считал вредными и ненужными.
Он понял, что опутан невидимыми цепями, и поэтому перестал впустую отчаиваться, кричать и ждать от кого- то помощи. Он правильно решил, что самое главное — сохранить здоровье и силу, особенно душевную силу.
Потом он попробовал трезво оценить положение, в котором очутился. И как всякий человек, лишь недавно научившийся логически мыслить, он начал с самого начала.
А началом всех его размышлений был факт, что все происшедшее с ним в ту памятную ночь было следствием каких-то причин… Каких, же?
Сначала он нашел во всем лишь волю аллаха. Но, продолжая размышлять в ночной тишине о проявлениях воли аллаха, свидетелем которой ему довелось быть, он снова пришел к тому же выводу, о котором он уже пробовал намекнуть Гамиду: воля людей значила гораздо больше, чем воля аллаха.
Зачем двоим белым понадобилось потопить «Эль-Рих»?
Длинная цепь размышлений привела его к выводу, что они потопили его не для того, чтобы просто потопить корабль, не для того, чтобы уничтожить его экипаж, нет, им надо было уничтожить Азиза… Но зачем же им понадобилось делать это ценой еще пяти жизней?
Потому что он, Азиз, был наследник Али Саида.
И мысли его снова вернулись к тем жемчужинам, что были причиной смерти Ауссы и несчастья Раскаллы… Ауссу не хотели вести к врачу, чтобы не терять день лова; когда же в его руке нашли жемчужину, то немедленно возвратились в Джумеле. И Раскалле обрубили руку лишь для того, чтобы напомнить ловцам о наказании, которое ждет того, кто скроет жемчужину. И клятву они нарушали лишь для того, чтобы извлечь из жемчуга побольше денег. И во всем этом они находили волю аллаха. А если бы ловцы знали, что это не воля аллаха, а жадность и хищность тех, кто стоит над ними, начиная от серинджа и кончая самим Али Саидом?
Вот перед этим-то вопросом и остановился Эль-Сейф после трех ночей размышлений.
Ночью к тюрьме прибегали стаи шакалов и выли, вытянув свои морды к луне, словно молясь ей и распевая свои псалмы. Саффар слушал их вой и снова начинал приходить к выводу, что во всем воля аллаха. К нему и должен обращаться человек, как вот эти звери обращаются к луне. Его надо просить о милости, как они просят луну о чем-то своим жалобным воем. Потому что если во всех событиях не воля аллаха, то тогда можно было бы найти выход и Раскалле, и всем остальным, которые вовсе не хотели искать жемчуг, а хотели бы иметь лодку и мирно жить продажей рыбы…
Но вот шакалы перестали выть, и снова настала тишина. Потом месяц медленно стал опускаться к горизонту и, наконец, заглянул в камеру Саффара сквозь отверстие под крышей… и свет, который залил стены камеры, казалось, осветил и душу Эль-Сейфа. В голове возник ответ на вопрос, который так мучал его.
Эль-Сейф нашел выход, и он был таким простым! Удивительно простым!.. Он выпрямился во весь рост и рассмеялся. Огромная детская радость наполнила его тело, и он плясал в своей камере, залитой потоками лунного света. Он плясал и пел. Он знает, как найти выход! Он будет счастлив, будет очень счастлив! У него будет жена, будет вдоволь рыбы, которую он поймает своей сетью! Он будет свободен, и больше он не будет нырять за жемчугом! Аллах акбар! Аллах велик!
Так Эль-Сейф снова вернулся к аллаху, но уже не как раб его воли. У него была своя воля, и он благодарил за это аллаха. И за рыбу, которую он поймает собственной сетью и которую ему испечет его жена…
Но вдруг он вспомнил, что находится в тюрьме, и понял, что надо бежать отсюда, даже если это будет стоить ему жизни…
На следующую ночь кто-то тихо стукнул в дверь его камеры, и Эль-Сейф услышал знакомый голос. Это был Гамид.
Известие о беде, в которую попал Эль-Сейф, дошло до него, и он поспешил к своему другу. Гамид был уже совсем здоров. Он спросил Эль-Сейфа, чем он, Гамид, смог бы помочь ему. Саффар попросил принести ему какой- нибудь острый предмет. Гамид понял, что Эль-Сейф хочет бежать, и сначала испугался.
— Куда? — спросил он его.
— Молчи и не расспрашивай, — отвечал Эль-Сейф. — Скажи только, пойдешь ли со мной.
И Гамид поклялся, что пойдет. Страх его исчез так же внезапно, как и появился. Казалось, уверенный голос Эль- Сейфа успокоил его. Это было удивительно: узник наполнил надеждой и отвагой сердце человека, находящегося на свободе!
На следующую ночь Гамид принес ему и бросил через отверстие в крыше большую металлическую скобу, которую употребляют для того, чтобы скреплять деревянные балки. Это было как раз то, что нужно. Сухая известь под ударами превращалась в порошок, и пробить в стене отверстие было так легко, что Эль-Сейф удивился, как это никто до него не додумался до этого. Впрочем, все его предшественники в этой камере полагались лишь на волю аллаха.
Через два часа он был уже на свободе: он работал, не боясь поднять шум, так как сторож был глухой, как пень, да к тому же крепко спал.
Гамид принес с собой немного еды, кувшин с водой и рыболовные принадлежности. Захватив все это, друзья направились к гавани.
Эль-Сейф не раз спрашивал Гамида, не знает ли тот лодки или барки, которую можно бы было использовать для побега. Гамид не знал, да и вообще он считал, что на суше можно скрыться легче. Но сейчас он тоже бежал к морю, он всецело был во власти воли Эль-Сейфа; еще бы, ведь он, Гамид, был ему обязан жизнью!
У причалов пристани они нашли лодку-хури, привязанную к кораблю. Это была «Красавица» господина Бабелона. Но Эль-Сейф так спешил, что не обратил на это никакого внимания.
— Мы возьмем эту лодку, — сказал он. — Но я не хочу начинать то, что задумал, с кражи лодки. Напиши, — попросил он Гамида, — что мы вернем лодку или заплатим за нее хозяину.
— У меня нет бумаги, — отвечал Гамид.
Эль-Сейф осмотрелся по сторонам и подал ему обломок доски, валявшийся у его ног.
— Нечем писать.
Саффар поднял с земли кусок угля.
— Пиши!
— Я напишу покороче, — ответил Гамид и вывел:
«С вашим хозяином мы рассчитаемся».
— Подпиши: Эль-Сейф.
Гамид нарисовал кривой меч. Потом отвязали лодку, а к свободному концу веревки привязали доску с этой двусмысленной надписью. В лодке нашлось весло, и вскоре друзья были уже далеко от берега.
— Куда? — спросил Гамид Эль Сейфа, когда лодка вошла в открытое море.
— К полуострову Бурь, — отвечал Эль-Сейф. — Надо навестить ловцов жемчуга.
Когда утром матросы с «Ямиле» обнаружили пропажу лодки и с трудом прочли надпись, они не сразу поняли, кто виновник всего этого. И лишь тогда, когда они узнали, что Саффар бежал из тюрьмы, все стало ясным: господин Бабелон посадил Эль-Сейфа в тюрьму, Эль-Сейф убежал оттуда и направился на поиски господина Бабелона, чтобы отомстить ему.
Нахуда сообщил это начальнику порта, а тот написал письмо в Джибути, которое, как уже известно, так испугало господина Бабелона.
Потом «Ямиле» вышла в море, пытаясь настичь беглецов. Но увидев на горизонте парус, Эль-Сейф скрылся в лабиринте прибрежных островков. «Ямиле» возвратилась ни с чем.
На третий день беглецы приблизились к месту лова жемчуга. И лишь тогда-то Гамид понял, что затеял Эль- Сейф, и он обещал помочь ему; он и вправду целиком был во власти его несокрушимой воли.
Глава II
Ловцы искали жемчуг почти на том же самом месте, где двадцать лет назад погиб Аусса. Старый «Йемен» был заменен новым кораблем; судном «Хеджаз» командовал молодой и самолюбивый нахуда по имени Омар, который заменил покойного хаджи Шере. Серинджем по-прежнему был Бен Абди со своим неизменным скребком из рыбьей кости; многих ловцов Эль-Сейф знал лично, и среди них был данакилец Шоа.
Ловцы еще спали на песке, а нахуда и сериндж — в каюте корабля, когда Эль-Сейф и Гамид высадились на берег, вдыхая знакомый запах гнили. Два мальчика уже хлопотали у костра, который только что разгорелся. Они с изумлением вытаращили глаза на пришельцев, но молчали; они не хотели начинать разговор раньше, чем это сделают старшие.
Подойдя поближе, Эль-Сейф узнал в одном из спящих Шоа и разбудил его.
— Я вернулся, Шоа, — сказал он ему. — Я принес вам радостную весть. Ты еще не забыл меня?
Шоа молчал. Он ничего не понял и лишь переводил свой взгляд с лица Саффара на нож, который тот держал в руке, и обратно… Потом кивнул головой:
— Я помню тебя.
— У серинджа есть винтовка? — спросил его Эль-Сейф.
— В каюте, — снова кивнул Шоа.
— Хорошо! — засмеялся Эль-Сейф. Вместе с Гамидом он поднялся на корабль, привязанный канатом к береговому утесу и крикнул:
— Вставайте, сериндж и нахуда! Сейчас час собх, и я принес вам радостную весть! — Он зашел за каюту, так что можно было видеть только Гамида.
Ловцы на берегу начали просыпаться.
— Кто кричит? — спросил нахуда Омар.
— Я, — отвечал Гамид. — Я прибыл из Массауа волей аллаха. И Омар и Бен Абди соскочили с корабля на берег, а Эль-Сейф встал между ними и трапом.
— Идите к ловцам! — приказал он. — Сейчас я все вам объясню! — Бен Абди узнал его и сделал резкое движение… Но слова Эль-Сейфа остановили его:
— Я тоже умею владеть ножом, о Бен Абди!
Нахуда Омар недоуменно оглянулся. Он решил, что на них напали разбойники, и не понимал, почему он видел только двоих.
Он направился к толпе ловцов, которые уже встали. Бен Абди тоже шел туда; он был изумлен не меньше чем нахуда, да к тому же напуган: он узнал шрам на лице Эль-Сейфа.
Эль-Сейф двинулся к ним.
— Я принес вам счастье, ловцы жемчуга! крикнул он, и голос его напоминал звон металла, потому что в нем была надежда и вера. — Я принес вам свободу! Вы — хозяева этого корабля!
— Али Саид — хозяин! — возразил нахуда, от волненья позабыв, что Али Саид мертв.
— Нет больше Али Саида! — напомнил ему Эль- Сейф. — Нет Абдаллаха. Нет и Азиза. Корабль теперь ваш, о люди!
Бен Абди хрипло засмеялся:
— Если вы возьмете корабль, это будет кража!
— Сто раз уже заплатили за него! — выкрикнул Эль-Сейф. — Корабль стократ наш! Все, кто владели им, мертвы! Он наш! Мы были рабами, но теперь мы никогда не будем ими, если не захотим! Мы ныряли на дно моря, а жемчуг доставался Саиду…
— …который давал за это деньги! — подхватил нахуда.
— Да. Но только вам. Вы заставляли нырять нас! Почему нам не достается жемчуг?
— Иншаллах, — отвечал Бен Абди. — Волей аллаха.
— Нет на это воли аллаха! — вскричал Эль-Сейф. — Нет и никогда не было!
— Слышите! Он отступник! Он богохульствует над могуществом всевышнего! — закричал нахуда.
— Молчи! — прервал его Эль-Сейф, и голос его дрожал. Слова нахуды задели его самое больное место, то, что еще недавно было исключительным содержанием его духовной жизни, его учителем и наставником, его страхом и поэзией — его веру. Вера эта жила в нем, и он мог отрешиться от нее, да и не хотел, потому что боялся, потому что все вокруг — земля, на которой он жил, воздух, которым он дышал, люди, которые окружали его, все это связывало его с ней.
— Молчи! — снова вскричал он. Он снова взял себя в руки. Он знал, что на его стороне правда, и это придало ему силы.
— Лжешь! Я верю! — сказал он убежденно. — Я верю, и я никогда не лгал, читая святую молитву фатхи, как ты, проклятый! А сейчас я принес людям правду. Слушайте ее! — Он простер руки к небу. Глаза его сверкали. Он медленно заговорил:
— Аллах хочет одного — чтобы мы жили. Для этого он создал нас. И чтобы мы были счастливы. Для этого он создал нас. По его воле мы ощущаем голод, если не едим, но не по его воле — умираем с голоду. Все, что мы сделаем хорошего — это воля аллаха, это станет волей аллаха. Наши поступки…
Бен Абди, сжавшись, как пружина, прыгнул вперед. Но Эль-Сейф был еще проворнее, и его кулак настиг серинджа в воздухе, когда тот пробовал вскочить на палубу корабля. Бен Абди мешком свалился на землю.
— Свяжите его! — приказал Эль-Сейф; он смотрел на Шоа в упор. Шоа подчинился.
— Вот, — начал Эль-Сейф. — Я ударил его, и такова была воля аллаха. У вас есть руки, берите себе корабль — такова воля аллаха.
Минуту стояла тишина. Нахуда побледнел.
— Я подчиняюсь, — сказал он. — Делайте что хотите.
— Мы не хотим быть втроем в хури! — крикнул кто-то.
— И даже вдвоем в хури! — поддержали его. — Мы больше не хотим искать жемчуг!
— Вы и не будете! — выкрикнул Эль-Сейф. — Жемчужины несут смерть, а на это нет воли аллаха. Нам не нужно жемчужин. Никому они не нужны. Мы возьмем корабль и уплывем на нем к далеким берегам. Там мы выстроим себе хижины. Узнав об этом, и другие ловцы присоединятся к нам. Мы будем ловить там рыбу, и мы будем счастливы…
Он говорил, и голос его звенел, как металл. Он говорил то, к чему так стремился Раскалла, этот баркале, бедняк. Он говорил то, во что верил ото всей души. Ловцы внимательно слушали его. Они вдруг увидели этот далекий берег, сети и хижины на нем, своих жен, хлопочущих у огня…
Детская радость охватила их. И ко всему этому еще присоединялось ощущение своей силы, опьяняющее ощущение того, что они — хозяева корабля, хозяева самих себя и своей судьбы, и они понимали, что все их желания могут быть выполнены.
И снова в их глазах появилось удивление — как тогда, когда погиб хаджи Шере и был так испуган Бен Абди, но удивление быстро сменилось страхом. И они подняли головы, с трепетом ожидая суда аллаха… Но небо было чистое, и лишь семь белых птиц кружилось в нем.
— Аллах акбар! — закричали они.
И, окончательно поверив в совершившееся, начали петь о блаженных берегах, где они заживут счастливой жизнью, о рыбной ловле, о своих женах, о своей силе и доблести. А Эль-Сейф взошел на корабль, взял винтовку серинджа и, сломав ее, бросил в море:
— Оружие нам не нужно. Ведь не станем же мы стрелять рыб из ружья! — рассмеялся он. Он был счастлив — его мечты начинали осуществляться.
— Мы будем ловить рыбу все вместе, как наши предки. И когда поймаем, поровну разделим ее. То, что съедим — съедим. Остальное будем продавать…
— И я с вами! — крикнул вдруг нахуда Омар.
Все смеялись, плясали и пели. И сам нахуда и египтянин Гамид. Потом они перестали плясать и направились к Эль-Сейфу.
— Ты наш господин, — сказал Гамид и поклонился ему. Он, египтянин! И сейчас он уважал Эль-Сейфа так же, как и тот уважал когда-то Гамида за то, что он умел читать и писать.
— Я ваш брат! — возразил ему Эль-Сейф.
Потом Шоа начал читать вслух слова молитвы собх, о которой они забыли. И ловцы склонились к земле, омылись песком и принялись славить аллаха. Правда, молитвенных ковриков у них не было, но нахуда принес свой и расстелил его перед Эль-Сейфом. И они начали новую жизнь чтением святой молитвы фатхи, которая у правоверных мусульман начинает всякое доброе дело.
Больше они уже не искали жемчуг. Они ловили рыбу и пекли ее на костре. Потом опять плясали и пели, бесконечно довольные и счастливые, и вечером легли спать, беззаботные, как дети.
Глава III
Проснувшись утром, ловцы обнаружили исчезновение серинджа Бен Абди и лодки, в которой Эль-Сейф приплыл с Гамидом. Они долго искали веревку, которой был связан сериндж, и, наконец, Шоа нашел ее у самой воды, куда ее выбросил прибой. Концы веревки были ровно перерезаны ножом. Эль-Сейф взял ее и связал руки нахуды.
Нахуда Омар долго молчал. Но потом он начал кричать:
— Вот она, свобода, о которой ты говорил, Эль-Сейф! Так ты платишь мне за то, что я согласился подчиниться тебе? Так ты платишь невинному, который может поклясться в своей невиновности как угодно? Ты хочешь иметь меня своим врагом, Эль-Сейф?
Но Эль-Сейф ничего не ответил и отошел от него. А нахуда Омар продолжал кричать, все чаще обращаясь к аллаху и к справедливости:
— Вот она, свобода! Смотрите, люди, разве это свобода, если руки невинного связаны за спиной?
Так кричал нахуда Омар, и его пронзительный голос был слышен далеко вокруг.
— О, ангел свободы! — продолжал он. — Твой плащ — голубой, как небо, в котором летают птицы! Твоя рука так нежна и ласкова! О свобода, твое лицо так приветливо, но этого не знает Эль-Сейф, иначе он не решился бы так поступить!
И Эль-Сейф, которому надоело слушать эти вопли, приблизился к нему и перерезал веревки. Но нож у нахуды он все-таки отобрал.
— Спасибо, о Эль-Сейф! — глубоко поклонился нахуда.
Но Эль-Сейф не отвечал; минуту он стоял задумавшись, а потом крикнул:
— Эй, люди! На корабль! Отплываем!
Ловцы столпились вокруг него.
— Куда? — спрашивали они. — К счастливым берегам?
— Да, — кивнул он.
— А где они? — настаивали ловцы.
— Вы сами найдете их, — с улыбкой отвечал он. — Вы свободны, и вы сами хозяева своей судьбы.
Они долго молчали, вспоминая что-то, и, наконец, один из них, ловец из племени варсангели, выкрикнул название залива Бейлуль.
— Туда надо плыть! — кричал он. — Мой отец ловил там рыбу, когда я был еще мальчиком! Я собирал там раковины, выброшенные морем, и, прикладывая их к уху, слушал таинственный шум…
— Этим шумом ты сыт не будешь! — прервал его Расул, ловец из племени афар — не слушайте его, люди! Он сам не знает, что говорит. Надо плыть на юг, но не до Бейлуля, а еще дальше, в пролив Баб-эль-Мандеб. Там, на острове Барам растут огромные пальмы, из которых получают ладан. Мы сделаем на коре надрезы и будем смотреть, как вытекает в кувшин золотистая смола! Так делал мой отец, и отец моего отца…
— Ладаном тоже сыт не будешь! — воскликнул Эль- Сейф; почему-то в этот момент он вспомнил Раскаллу, и сердце его заныло. Он поднялся на ноги:
— Мы будем жить ловлей рыбы, а не добычей ладана. Об этом и думайте, выбирая, куда плыть.
Стояла тишина… потом заговорили все вместе, и каждый твердил свое. Солнце уже начало опускаться и нужно было приниматься за ловлю рыбы, ибо от вчерашней добычи уже ничего не осталось.
Потом снова пекли рыбу, пели и танцевали, чувствуя себя счастливыми; не нужно быть «втроем в хури», не нужно быть «вдвоем в хури», и вообще не нужно было искать жемчуг. По песку носились тени ловцов, пляшущих у костра, а египтянин Гамид показал своим товарищам танец с ножами. Его танец так понравился, что ловцы сложили о нем песню и прославляли его, как Отца танцев. У обоих мальчиков, хлопотавших у огня, лица были вымазаны жиром; в эти дни впервые они стали наедаться вдоволь.
Потом все легли спать, и небо над ними было усыпано звездами.
Проснувшись и прочитав молитву собх, они снова принялись гадать, куда им направиться, где найти счастливую землю. Но они никак не могли прийти к соглашению, потому что самым подходящим местом каждый считал то, где он провел детство и вырос; и не было среди них и двух, происходящих из одного племени.
Эль-Сейф отошел в сторону и задумался. Потом медленно побрел по берегу.
Ноги его вязли в песке, изредка встречались нагромождения камней… и вдруг он увидел могилу Ауссы. Он не искал ее, не думал о ней, просто она сама попалась ему на глаза. Песок на ней был точно такой, как и тогда, когда они с мальчиком галлой обкладывали ее камнями. И берег был все тот же, и скалы… казалось, что ничего не изменилось здесь за долгие годы и, пожалуй, ничего не изменится. Но Эль-Сейф знал, что это только кажется. Разве он сам не изменился, разве он не превратился из Саффара в Эль-Сейфа?
Крики за его спиной становились все громче, он мог уже разбирать отдельные слова. Эль-Сейф хотел было уже возвратиться… и вдруг увидел у своих ног груду камней, тоже напоминавших могилу Ауссы.
Где же настоящая могила? Он не знал. Аусса мог быть похоронен и там, и здесь, а пройдя немного дальше, он обнаружил еще одну могилу. Может быть никакого Ауссы и не было? Может быть были тысячи Аусс, и все они похоронены где-то здесь?
Эль-Сейф опустился на каменную плиту. Тишина, в которую врывался только шум прибоя, не мешала ему думать, к мысли текли одна за другой…
Долго сидел Эль-Сейф на том месте, которое может было, а может и не было могилой Ауссы. Большие белые птицы летели так высоко над ним, что шума их крыльев не было слышно. Но Эль-Сейф не замечал их. Он думал над тем, что же делать.
Когда он вернулся к кораблю, он никого не застал там; все уехали ловить рыбу. Довольные, возвращались ловцы:
— Был богатый улов, Эль-Сейф! — кричали они.
Он не отвечал. Он следил за солнцем, которое клонилось к горизонту, красное, как гранат.
— Решили, куда мы поплывем?
— Да, да, — отвечали ловцы.
Лишь Гамид покачал головой.
— Куда же? — спросил Эль-Сейф.
Ловцы снова начали выкрикивать одно название за другим, но Эль-Сейф движением руки остановил их:
— Раз вы не можете решить, решать буду я. На рассвете мы отплываем.
Ловцы не возражали, потому что голос его был тверд.
Спать легли рано; Эль-Сейф приказал всем хорошо отдохнуть. И снова тысячи звезд вспыхнули над ними. Но все еще стоял запах мочи и гнили, напоминая о тех временах, которые уже никогда не вернутся.
Глава IV
Еще до восхода солнца корабль был готов к отплытию. Эль-Сейф назначил Шоа серинджем, Гамида — кормчим и объявил курс, которого следовало держаться: на юг, к Сомали.
Но прежде чем поднять якорь, он созвал всех на палубу и объявил:
— Есть пять вещей, которых мы должны остерегаться, потому что они — грех. Я долго об этом думал, и знаю, что говорю. Самый большой грех это жемчуг; об этом написано и в коране, где говорится про «драгоценности и золотые украшения». Второй грех — хамр[8], в том числе и эль-кнат. А третий, четвертый и пятый грехи это подлость, жадность и зависть. Этого всего мы должны избегать. Но главное, мы всегда должны держаться вместе, и мы должны защищать свой корабль, ибо без него мы опять станем рабами. И если мы встретим саладина, мы встретим его с оружием в руках, потому что в нем одном заключены все пять грехов вместе.
Ловцы смеялись и опять пели. Им совсем не хотелось встречаться ни с какими саладинами.
И вот «Хеджаз» отплыл на поиски берегов счастья. Эль-Сейф хотел плыть на юг, потому что ветер дул туда, но нахуда Омар утверждал, что там много мелей и подводных скал, и в конце концов Эль-Сейф заколебался: он не понимал карт и не знал этих мест. Корабль повернул к западу, чтобы обогнуть опасные места, и до полудня лавировал против бокового ветра.
В полдень на севере показались два паруса.
Тогда Эль-Сейф повернул корабль к югу, и на этот раз нахуда уже не возражал.
Ветер был попутный, и корабли вдали начинали уже догонять «Хеджаз». Вот уже можно было различать надстройки, фигуры людей на палубе… Уже можно было узнать и один из кораблей.
Это была «Массауа», корабль Али Саида. Второе судно никто не знал, но оно тоже неотвратимо приближалось.
Эль-Сейф подозрительно посмотрел на нахуду Омара, но тот, положа руку на сердце, торжественно воскликнул:
— Я с вами! Что бы ни случилось, я с вами! Вам нечего меня бояться…
— Мы никого не боимся! — прервал его Эль-Сейф. — Мы сильны своей правдой, и аллах спасет нас.
— Аллах спасет нас, — поддержали его ловцы. Лица их были суровы и решительны.
А корабли сблизились уже настолько, что можно было различить лица людей, стоящих на палубе.
На мостике «Массауа» стояли сериндж Бен Абди и каид из Джумеле, тот самый, с янтарными четками и в очках с оправой из жести, который осудил Раскаллу. На другом корабле находилось несколько вооруженных винтовками людей, и среди них — человек воинственного вида; это был йеменец Джам, брат Зебибы, вдовы Али Саида, и дядя Абдаллаха, который приплыл в Джумеле за получением наследства.
Увидев серинджа, каида и вооруженных людей, ловцы поняли, что их ждет неравный бой.
— Верьте в себя, в меня и в аллаха! — ободрял их Эль-Сейф. — На нашей стороне правда! Мы вооружены правдой, а кроме нее, у нас есть ножи.
Он сжимал рукоятку своего клинка, пылающими глазами следя за Бен Абди, своим самым лютым врагом. Ободренные его словами, ловцы почувствовали себя увереннее; сила Эль-Сейфа передалась и им.
Между тем погоня приближалась.
— Покоритесь! — крикнул каид с палубы «Массауа».
— Нет! — отвечал за всех Эль-Сейф. — Мы ничего не сделали…
Голос его умолк: нахуда Омар набросил на него петлю и сбил его с ног.
— Предатель! — выкрикнул Шоа.
Ловцы с ножами бросились на него…
Но в этот момент раздался ружейный залп, и мальчик- сомалиец упал, обливаясь кровью.
— Это гнев аллаха! — раздался крик Бен Абди.
На мгновение ловцы с «Хеджаза» заколебались, раздумывая над этими словами, и мгновение это решило их судьбу.
Чужой корабль борт о борт стал с ними рядом, и молчаливые вооруженные люди соскочили с него на палубу «Хеджаза». И ловцы отложили ножи в сторону, потому что против винтовок они ничего не смогли бы поделать. Эль-Сейф все еще пробовал освободиться от петли, наброшенной на него, но двое вооруженных людей свалили его на палубу, и нахуда связал Эль-Сейфа. Потом он сам связал руки Шоа, язвительно величая его «серинджем», и Гамиду — «кормчему».
Так свершился один из грехов — подлость и предательство. Гамида, Эль-Сейфа и Шоа швырнули в трюм «Массауа». Загремел железный засов. Гамида охватило отчаяние.
— Я несчастен! — кричал он. — Зачем я не умер раньше, в Ходейде?
— Молчи, — отвечал ему Эль-Сейф. — Думай, что говоришь!
Но Гамид продолжал кричать, и тогда к нему подошел Бен Абди и пнул его ногой.
— Иншаллах, — шептал удрученный Шоа.
— Нет! — отвечал ему Эль-Сейф.
Плавание продолжалось долго. К удивлению, им давали и пищу и воду, словно зачем-то старались сохранить их силы. На третий день их вывели на палубу.
На палубе был Бен Абди, незнакомец из Йемена и каид из Джумеле, неторопливо перебиравший четки. Он первый начал вслух читать фатхи, и Бен Абди с йеменцем присоединились к нему. Потом каид обратился к узникам:
— Вы осуждены, — сказал он. Вы хотели властвовать, будете властвовать. Вам нужна была земля, она у вас будет. Мы предоставим вам целый остров.
Лишь тогда они огляделись по сторонам. Корабль стоял на якоре у небольшого острова. Прибой с шумом набегал на торчащие из воды скалы. Узкий проход между скал вел внутрь острова. Над островом летело несколько пеликанов, держа в клювах рыбу. Пленники молча переглянулись. Они узнали страшный остров Омоному, что означает Мать Комаров.
В этот самый момент господин Бабелон покидал Джибути, а в городе Бендер-Аббас на берегу Персидского залива была найдена жемчужина жемчужин, та самая, которой было суждено замкнуть ожерелье Бабелона.
Глава V
Она была большая и круглая, но больше напоминала мраморный шарик, которым играют дети, потому что поверхность ее была неровная и тусклая.
Больной моллюск породил ее, и тот, кто ее нашел, тут же разразился проклятиями, а люди вокруг стояли и хохотали. Многих заставила она улыбнуться, и персидских купцов на Бахрейнских островах, где ее нашли, и купцов в Ормузе и в Бендер-Аббасе. Когда ее взвешивали, купцы подшучивали:
— Ого, да это Мать Жемчужин! Сколько? Пятьсот туманов и она твоя.
Так она путешествовала с весов на весы, пока не попала на те, которые держал в своей руке Ибрагим, купец из Бендер-Аббаса. Купец, который предложил ее, смеялся, как безумный. Ибрагим тоже смеялся. Но когда остался один, он вооружился лупой и стал тщательно осматривать жемчужину. Был он долговязый верзила с большим носом, который придавал его лицу выражение ужасной меланхолии, с пучком редких волос под носом и на подбородке; руки у него вечно тряслись, потому что он употреблял чересчур много наркотиков.
Потом он отложил жемчужину и взял в руку бритву. Иногда случается, правда, очень редко, что моллюск заболевает только тогда, когда жемчужина в нем уже достаточно велика. Внутренность такой жемчужины здоровая, и лишь тонкий слой на поверхности мутен и шероховат. Но искусный ювелир может осторожно соскрести поврежденную поверхность — словно снять кожуру с луковицы — и восстановить красоту жемчужины. Именно это и намеревался сделать Ибрагим; он хорошо знал свойства жемчуга.
Но руки у него тряслись, и он испугался, что может непоправимо погубить жемчужину. Ибрагим на минуту задумался, а потом позвал своего слугу, который присматривал за его домом, сопровождал хозяина в поездках, носил за ним зонтик и товары, купленные хозяином. Ему едва исполнилось двенадцать лет, и из глаз его постоянно сочился гной; он был болен распространенной на Востоке болезнью, которой заражают людей мухи, высаживающие свои личинки в уголках глаз человека. Его звали Исса, и у него не было ни отца, ни матери.
Ибрагим позвал Иссу, усадил его так, чтобы солнечные лучи падали прямо на жемчужину, и, вложив ему в руки лезвие бритвы, велел осторожно очищать поверхность жемчужины прикосновениями, легкими, как дуновение. Исса был понятлив и ловок, но движения у него были осторожные и медленные. Он плохо видел. Гной сочился из его глаз, а от яркого света глаза к тому же слезились, и слезы капали на жемчужину.
Первый день Исса смог поработать только два часа, и ему удалось соскрести лишь тоненький слой с части поверхности. Но результат первого дня обнадежил Ибрагима: можно было ожидать, что внутренность жемчужины здоровая.
Ибрагим ликовал. Его друг в шутку швырнул ему на весы горсть золота.
Он дал Иссе лепешку с медом и велел ему отдохнуть, с тем чтобы на следующий день снова приняться за работу. Но на другой день глаза у Иссы болели еще сильнее, и снова большие слезы, смешанные с гноем, падали на жемчужину.
Тогда Ибрагим принес ему еще одну лепешку с медом и кусок полотна, и Исса принялся за работу, время от времени прерывая ее, чтобы вытереть мокрые глаза. Но после полудня он стал уже совсем плохо видеть и был вынужден делать большие перерывы для отдыха. За весь день он снова соскреб лишь тонкий слой, и Ибрагим был недоволен. На этот раз он уже не дал ему лепешки с медом.
И на третий день Исса с утра до вечера согнувшись сидел над жемчужиной. Глаза слезились, и тряпка, которой он вытирал их, вся была в бурых пятнах, но Ибрагим кричал на него и заставлял работать. Он боялся только, как бы Исса не испортил жемчужину.
Медленно появлялись контуры будущей жемчужины жемчужин. Целую неделю Исса потратил на то, чтобы снять тонкий слой со всей поверхности… Прошло две недели, прежде чем он соскреб еще такой же слой. Ибрагим по-прежнему сидел рядом с ним и следил за его движениями.
Третий слой Исса уже не смог одолеть. Он почти ослеп. Глаза у него налились кровью, веки набухли, и уличные ребятишки толпами бегали за ним и кричали:
— Краб! Краб!
Потому что у крабов такие же выпученные глаза.
Это его злило. Но еще больше беспокоило его то, что он почти ничего не видел. Глаза беспрестанно сочились гноем, и в конце концов Ибрагим выгнал Иссу. Он уже нашел к тому времени другого мальчика, у которого были зоркие и здоровые глаза.
И вот с жемчужины был снят третий слой, но оказалось, что надо снять и четвертый. Наконец, был снят и четвертый. И жемчужина засияла во всем своем великолепии, словно прозрев после долгих лет слепоты, словно сам Исса подарил ей свое зрение: он ничего не видел, а с жемчужины спало бельмо.
Тогда Ибрагим наполнил кулечек из бумаги пылью, полученной из расколотых раковин, положил в него жемчужину и перевязал его бечевкой. Кулечек он привязал к палке, и новый мальчик слуга, сидя на корточках, крутил палку; кулек описывал в воздухе круги, а к жемчужине возвращался ее матовый блеск.
Много дней сидел так мальчик, и когда рука у него начинала болеть, он перекладывал палку в другую руку, продолжая свой бесконечный, однообразный труд; точно так же за дверью полковника Ходжеса сидел другой мальчик и целыми днями раскачивал пунку, чтобы полковнику не было жарко. Наконец, Ибрагим вынул из кулька жемчужину и сразу понял, что он богач. Но он не пошел с ней на базар. Он не хотел, чтобы об этом знал кто-либо из его друзей, и хотел предложить ее какому-нибудь заезжему купцу.
Как раз к этому времени Мукалла наскучила господину Бабелону.
Мукалла — очень живописный город с большой белой мечетью и бурыми домами, с грядой скал, тянущихся за городом, за которыми находится Хадрамаут, один из таинственных уголков земли.
Но что делать там скупщику жемчуга? Исследовать Хадрамаут? Зачем? Жемчуга там нет, там только бедуины, которые раскрашивают свое тело индиго, и множество селений со звучными названиями Сеюм, Шимбан, Хаджарен и странными домами в несколько ярусов. Но зачем это все купцу, который ищет жемчужину жемчужин?
И, не осмелившись вернуться в Массауа, господин Бабелон решил осмотреть места лова жемчуга в Персидском заливе. Он быстро собрался в путь. Целью его поездки были Бахрейнские острова, Линга, Ормузский пролив и Бендер-Аббас… Да, ему действительно везло, хотя он и не согласился с этим, утверждая, что счастье — это только плод ума.
Глава VI
Эль-Сейфа, Гамида и Шоа высадили на острове Омопому. Скалы, обрамлявшие его, напоминали красивую рамку безобразной картины. Внутри острова расстилались зловонные топи. Камыши, растущие по краям топи, имели тысячи воздушных корней, висевших, как плети, иногда уходивших в землю, торчавших в воздухе, словно ноги чудовищных птиц. И этих кошмарных ног было множество, они переплетались между собой, образуя вокруг болота непроницаемую стену; на болоте сидели пеликаны, и казалось, они смеялись. Смеялись, когда их странные клювы были широко раскрыты, смеялись и тогда, когда клювы были сжаты. Смешные уродливые мешки висели у них под клювами, и чем старше был пеликан, тем уродливее был у него мешок.
Других живых существ здесь не было.
Каид из Джумеле с четками в руках, сериндж Бен Абди со скребком из рыбьей кости и йеменец сопровождали вместе со стражей осужденных. На берегу каид перерезал веревки у Эль-Сейфа, Гамида и Шоа и сказал:
— Ну, вот вам счастливый берег! Владейте им!
Йеменец прищурил глаза, оглядываясь по сторонам; он никогда не слышал об этом острове.
— А где же комары? — спросил он.
— Они появятся после захода солнца, — ответил ему Бен Абди и с усмешкой подал Эль-Сейфу свой скребок:
— Возьми. Он тебе еще пригодится.
Потом они направились к лодкам, но в это время появился нахуда Омар, который не смог удержаться, чтобы не поиздеваться над Эль-Сейфом.
— Извини, о владыка, что я оставляю тебя одного, — гримасничая проговорил он. — Но я обещал ловцам, что не покину их, и не покину. Не покину! Аллах свидетель, что не покину!
И отплывая от берега, он все еще продолжал выкрикивать «Не покину!» Он был очень самолюбив, и его угнетало, что он был вынужден так унизиться перед Эль-Сейфом и даже предложить ему свой молитвенный коврик.
Корабль отплыл от берега и начал описывать большой круг вокруг острова.
Трое людей остались одни, и у них не было ничего — ни одежды, ни пищи, ни воды, ничего, кроме скребка серинджа. Солнце нещадно палило скалы. Гамид снова предался отчаянию и начал жаловаться и стонать, пока не спугнул пеликанов, дремавших в зарослях.
— Молчи! — потребовал Эль-Сейф. — Птицы спать хотят, — попробовал он пошутить. Потом Эль-Сейф спустился к морю и начал искать устриц, чтобы хоть немного утолить голод. После этого он начал искать воду, но не нашел ничего, кроме нескольких зловонных луж, поросших по краям камышом.
Шоа мрачно улегся в тени, но Гамид уселся с ним рядом и принялся проклинать свою судьбу. Шоа, которому его вопли надоели, поднялся и отошел от него. Он хотел в одиночестве дождаться смерти. Он отказался и от устриц, которых предложил ему Эль-Сейф, считая, что жить ему незачем, поэтому незачем и питаться.
Когда солнце начало опускаться к горизонту, из зарослей поднялись огромные тучи насекомых, хотя до захода солнца было еще далеко. Тучи становились все гуще и темнее, и это были полчища комаров, в честь которых и был назван остров.
От них можно было укрыться только в воде. И Эль- Сейф лег на отмели; волны перекатывались через его тело, а он раздумывал о своей судьбе.
— Что он сделал, чтобы быть так наказанным?
Ответ у него был готов: он дал своим товарищам корабль, а другим ловцам пример, которому они могли следовать.
Но в чем он ошибся, и почему наступил такой конец? Неужели из-за того, что он сломал винтовку и выбросил ее в море? Он понимал — это мало что изменило… Он не должен был позволить Бен Абди бежать, не должен был верить нахуде Омару, не должен был задерживаться на том месте! Да, это были большие ошибки, но ему казалось, что он еще что-то сделал не так.
— Но что же? Что?
К нему приблизился Шоа и тоже лег в воду; он хотел умереть, но не от бесчисленных укусов насекомых.
— Убежал от комаров, — пояснил он. — Их много, и аллах дал им мечи, чтобы колоть нас.
— Да, — вздохнул Эль-Сейф, но тут же возразил:
— Нет, нет! Это не так! Их не много!
— Их много, — настаивал Шоа. — Их столько, сколько воинов у пророка.
Но Эль-Сейф имел в виду не комаров; он говорил о тех, которые захватили его и осудили; да, у них были мечи, но их было не много!..
Наступила ночь, и комаров появилось еще больше.
— Хорошо лежать в воде, — произнес Шоа. — Тело ослабнет, и душе будет легче покинуть его.
— Нет, — возразил ему Эль-Сейф. — Я хочу жить!
— Ты можешь хотеть только то, что хочет аллах, — отвечал ему Шоа.
— Но аллах хочет, чтобы я жил! — выкрикнул Эль- Сейф. — Для этого он и создал меня! — Эль-Сейф встал. В голове у него проносились вереницы мыслей, и снова перед ним замелькали туманные картины, как тогда, когда у него не было нити, на которую можно было бы нанизать их.
Он побрел к берегу, но в темноте споткнулся о Гамида, который тоже лежал на отмели и дремал. От толчка Гамид пришел в себя и закричал:
— О проклятый! И здесь ты не даешь мне покоя! Зачем только я помог тебе бежать из тюрьмы, зачем не оставил тебя в той горячей духовке? Ты споришь с аллахом! Зачем я верил тебе…
— Гамид! — наклонился над ним Эль-Сейф. — Брат, возьми себя в руки! Не против воли аллаха выступил я, а против воли людей, против злой воли. И если я виноват, то только в том, что не знаю, в чем моя ошибка, в чем ошиблись мы все. Вот что меня мучает. Не комары.
Его мучали и комары, но он не обращал на них внимания.
Перед восходом солнца комары исчезли, но когда солнце взошло, оно сразу же начало немилосердно жечь. Кожа у всех была, покрыта тонким слоем соли, но казалось, что соль проникает внутрь их тел, потому что их мучала ужасная жажда, словно они наелись чего-то пряного.
Но они ничего не ели, и даже чувства голода у них не было, только жажда.
В полдень Гамид взобрался на скалу и, стоя там, принялся выкрикивать страшные проклятия, обращаясь к парусам корабля, маячившего вдали. Он кричал весь день, но к вечеру обессилел и принялся молиться, опустившись на колени и протянув руки к недоступным парусам.
— Как ты можешь так себя вести, если ты умеешь читать и писать! — укорял его Эль-Сейф. — Мудрость это не только уметь читать и писать, мудрость — это уметь быть человеком…
И лишь Шоа молчал. Он лежал в тени, лицом к скале и не шевелился. Он жаждал смерти, протягивая к ней самого себя, как Гамид протягивал руки к далеким парусам.
Этой ночью Шоа уже не спустился к воде. Он остался там, где был, потому что воля его была окончательно сломлена. Движение это признак жизни. А Шоа уже был мертв, хотя он еще дышал.
Зато Гамид вошел в воду по горло, продолжая то проклинать, то просить… пока не закричал, что видит свет, что видит приближающуюся лодку. Потом ему показалось, что лодка приближается чересчур медленно, что она остановилась… и он бросился ей навстречу, крича:
— Вот я! Вот я! Подождите!
Он плыл долго, потому что долго еще доносились его крики. Потом он замолк.
К утру тело Шоа опухло и было покрыто тысячами мелких язв. Эль-Сейф склонился над ним и окликнул его. Но Шоа не отвечал, хотя сердце его билось.
И Эль-Сейф вдруг почувствовал себя таким одиноким, что бросился бежать вдоль стены камышей, стремясь увидеть хотя бы пеликанов, увидеть хоть какое-нибудь живое существо, слышать хоть щелканье их клювов. Но пеликаны сидели неподвижно и ему казалось, что они улыбаются. Они показались ему похожими на саладина, о котором ему рассказывал Раскалла, и он принялся швырять в них камни, крича:
— Убирайтесь отсюда! В вас заключены все грехи!
Но тут он опомнился и понял, что начинает сходить с ума, как Гамид. Он сел на камень и задумался… Потом он сделал попытку перелезть через стену камышей в надежде найти гнезда пеликанов и утолить голод сырыми яйцами. Но он был настолько слаб, что это ему не удалось; это надо было сделать вчера.
И он снова предался отчаянию и стал рвать на себе волосы, крича:
— Я виноват! Аллах дал мне голову, но я не смог ею воспользоваться! Они, они пользуются своими головами…
Вдруг он остановился. Долго стоял он и смотрел на пеликанов… Потом направился к Шоа:
— Шоа, — шептал он, — их не больше, просто они умнее нас. У них много голов, а мысли у них одни… словно все их головы растут из одного тела…
Но Шоа не отвечал, хотя сердце его билось.
Эль-Сейф сел рядом с ним. Он был спокоен. Он все понял… От жажды трескались губы, он едва ворочал во рту распухшим языком, но он не замечал этого.
— Шоа, — шептал он. — Моей головы не хватило… Но у нас будет еще много голов, и все из одного тела…
Потом он замолк, потому что язык отказывался служить ему. Собрав все силы, он вскарабкался на скалу. Это заняло у него много времени и сил, и он даже не смог уползти в тень и так и остался на самом солнцепеке.
Он смотрел вокруг себя. Море было словно большая бледно-голубая чаша, в центре которой лежал он, Эль- Сейф, и умирал. После захода солнца у него уже не было сил спуститься к воде… Он лежал в центре огромной чаши. Его голова с шрамом, напоминавшим изогнутый меч, и с копной черных волос покоилась на камне. Он смотрел вверх, на звезды. Слышался тонкий писк комаров.
Он слышал этот писк, но уже не чувствовал их болезненных укусов. Он думал о том, что он сказал, обращаясь к Шоа, о том, что было скорее мечтой, чем мыслью… Море под ним светилось, как в ночь перед смертью Ауссы…
На другой день «Массауа» пристала к острову, и каид, нахуда, сериндж и несколько матросов высадились на берег, чтобы похоронить осужденных, как это велит пророк.
Шоа был мертв, они долго искали Эль-Сейфа и, наконец, нашли его на вершине утеса. Он еще дышал.
Каид наклонился над ним. И — словно блеск янтарных четок на минуту пробудил его к жизни — Эль-Сейф открыл глаза и улыбнувшись прошептал:
— Нас будет больше…
Каид удивленно заморгал глазами. Потом посмотрел на него и сказал:
— Умер. — Помолчав, он добавил:
— Иншаллах. Воля аллаха.
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Господин Бабелон купил в Бендер-Аббасе свою жемчужину жемчужин. Правда, она ему обошлась дорого, но он мог себе это позволить, ведь жемчуг Али Саида достался ему даром.
Когда он шел по городу, направляясь к гавани, он был так счастлив, что, проходя мимо толпы нищих, дал серебряную монету мальчику с гноящимися глазами. Мальчик, почувствовав в руке монету и узнав, что она серебряная, выбрался из толпы нищих и принялся кричать ему вдогонку слова благодарности. Это был Исса.
Господин Бабелон усмехнулся; он был доволен своим великодушием.
В этот же день он отплыл из Бендер-Аббаса, направляясь в Джибути и дальше в Красное море; он считал, что Эль-Сейф уже обезврежен и теперь ему нечего бояться.
Он стоял на палубе и следил за стаями летучих рыбок, проносившихся над поверхностью Индийского океана и сверкавших, как перламутр, подсчитывая в уме, сколько заплатит ему фирма Роземан за те сто девятнадцать жемчужин, что лежали у него в кармане. В Джибути он узнал о судьбе Эль-Сейфа. Улыбнувшись, он купил букетик жасмина и блаженно вдохнул его аромат. В тот же день он взял билет в первый класс почтового парохода, идущего в Массауа. И, стоя у поручней и следя за игрой волн, он не переставал думать о другом море, более приветливом, и о других берегах, более милых.
В Массауа его уже дожидался заместитель. Когда господин Бабелон шел от гавани к своему дому, пробегавшая собака укусила его за ногу. Он тщательно промыл и продезинфицировал рану. Но через несколько дней — раньше, чем он приготовил все для отъезда — с ним случился припадок. Помочь ему было нельзя. Много дней мучали его жестокие конвульсии, и, наконец, смерть освободила его от страданий.
Но смерть также сняла с него маску, которую он носил всю жизнь, и у трупа было то же выражение гиены, то выражение хищной жадности, которое уловил Эль-Сейф во время гибели «Эль-Риха». И многие из жителей Массауа, пришедшие в последний раз взглянуть на него, с трудом узнавали своего старинного добродушного друга.
Вот как окончились жизни тех, о ком рассказывалось в этой повести, жизни хороших и плохих: Эль-Сейфа, Шоа, Гамида… Али Саида и его сына Абдаллаха и брата Азиза… Бабелона, Попастратоса и хаджи Шере… Но остались в живых те, кому в повести уделено больше всего места, многочисленные, безыменные ловцы жемчуга. Те, кто сопровождал Эль-Сейфа в его коротком плавании к берегам счастья, первые бунтовщики среди ловцов жемчуга на Красном море, не забыли тех недолгих, но счастливых минут, когда они стали, наконец, людьми, когда ощутили свою силу. И хотя вскоре и они один за другим ушли из этого мира — такова судьба ловцов жемчуга, они оставили своим преемникам эту историю, которая рассказывалась у костра или на палубе звездной ночью, историю, которая передавалась от поколения к поколению и которая еще сейчас жива на берегах Красного моря, хотя с тех пор прошло без малого полстолетия.
Но повесть об одном из них, об Эль-Сейфе, который появился, чтобы дать им свободу и людское достоинство, который говорил, что воля аллаха и справедливые поступки — одно и то же, еще не окончена, ибо люди верят, что Эль-Сейф еще вернется, что с ним вернется его правда, которая была такая великая и святая, что не могла умереть вместе с ним.
Примечания
1
Мусульманская молитва, которую читают при восходе солнца.
(обратно)2
Хаким — врач у арабов.
(обратно)3
Каид, или кади, — судья у арабов.
(обратно)4
Мариониты — христианская секта в Сирии.
(обратно)5
Салям — приветствие.
(обратно)6
Имамы — князья, знать.
(обратно)7
Сембука — парусное судно.
(обратно)8
Хамр — наркотик в общем смысле этого слова.
(обратно)
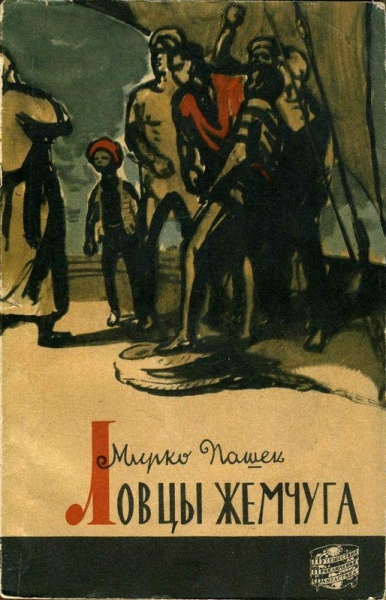



Комментарии к книге «Ловцы жемчуга», Мирко Пашек
Всего 0 комментариев