Надежда Нелидова Женщина нелёгкой судьбы, лёгкого поведения
Дорогие москвичи и гости столицы!
«Мужчина – аксессуар, игрушка в руках женщины».
«После того, как вы начнете заботиться о себе, вокруг появятся люди, которые позаботятся о вас. Прежде всего, мы живем для себя, а потом уже для окружающих».
– Нет, что они говорят, в этом твоём модном суде?! – в ужасе ломала руки Фомина – в обиходе Фома. – Это же попрание христианской морали: возлюби ближнего, как самого себя. Торжество плоти над духом… Наряжать и тешить оболочку… Смотришь подобные передачи – и веришь в скорый конец света.
– И трубы ангелов апокалипсиса возвестят… Та-рам-пам-пам! Истинно говорю вам: 4 мая сего года Земля налетит на небесную ось! – загробным голосом подхватила я.
– Не шути над этим, – скорбно попросила Фома. – А в школе, помнишь, октябрятами? Сам погибай, а товарища выручай. А Высоцкий: а когда ты упал со скал, он стонал, но держал?
…Смотреть телешоу одной, не в женской компании – это извращение. Это даже подозрительно, как если бы мужчина пил пиво и смотрел футбол в одиночестве. Никакого кайфа. Я всегда приглашаю на передачу «Модный суд» – Фому, соседку по лестничной площадке. Комментировать, хихикать, возмущаться, спорить, в который раз поражаясь отсталости, косности и узости Фомы.
Фома – это Плюшкин в юбке. Когда у неё заканчивается губная помада, она спичкой выколупывает из стаканчика то, что осталось, пока не заблестит донышко. С гордостью сообщает:
– Ещё на целый месяц хватило!
Или, выжав из тюбика остатки крема, не выбрасывает его – как можно?! Она разрезает туб пополам и пальцем добывает-выцарапывает размазанные по стенкам кремовые остатки. И искренно таращит глаза:
– Там ещё на две недели было!
Я считаю «Модный суд» подружкой, доктором, советчицей и психологом для женщин. Как-то им удаётся преобразить женщину, не сломав её. И эти гипнотически завораживающие словечки: кюлоты, лабутены, сникерсы, стиль кэжуал…
Фома считает «Модный суд» тайным орденом, заговором по превращению женщин – в пустышек, голов – в головки. Но в красивом теле далеко не всегда красивый дух. Что-то одно всегда в ущерб другому. Выбирая между походом в библиотеку и шопингом – женщины делают выбор в пользу последнего. Режущая слух передача, где космонавт говорит: «ездию», а певицы: «туфлЯх», «тортАх»… Вот он, уровень таких шоу…
– Крайне вредная передача. Затачивание женщин на потребительское поведение, – уверена Фома. – Стереотип: женщина – кукла, мужчина – безмозглое существо, кошелёк на двух ножках.
Как раз в эту минуту модная прокурорша выдаёт очередную гениальную цитату, которая завтра загуляет на просторах страны:
– Прежняя Красная Шапочка – кисейная барышня, позволила себя съесть Серому Волку. А современная Красная Шапочка сделала из Серого Волка горжетку. В нынешнем сезоне серое очень идёт к красному. Так должна поступать настоящая женщина.
– О да, – ужасается Фома, – настоящей женщине нельзя вынести мусор в халате и с не накрашенными губами – ведь у мусорного контейнера её может ждать Судьба. Дурочки тщательно наносят макияж, одеваются в строгой цветовой гамме. Согласно дизайну, перекидывают шарфик ниже ключиц – и ни миллиметром больше. Цепляют на руку ведро с мусором, как сумочку от Луи Виттон – и пошли походкой от бедра… Кошмар!!»
Отчасти я понимаю Фому. С её-то внешностью… С торчащими ушами, на которые она тщетно начёсывает жидкие прядки. Ушные раковины пробиваются сквозь волосы и победно пламенеют флажками.
Это уж ниже пасть некуда: когда мужчина для завоевания другой Женщины использует тебя как почтового голубя, как собачку с письмом в зубах… Мужчина – это Геннадий, Женщина – это я. А сообщающее звено, голубь и собачка – Фома.
Это она притащила мне газету с объявлениями о знакомстве: «Соня, прямо твой кандидат!». И стала нашей наперсницей. Сочиняла за меня письма – у неё хорошо получается, она библиотекарь. Таскала от него посылки с почты. Потом, когда он уже переехал и устроился в охрану, и бывал на смене, носила от него в клювике знаки внимания: открытки, тортики, цветы. Давала ключи от своей квартиры для свиданий (я ещё со своим не развелась, держала про запас).
В самый первый раз мы свиделись с Геннадием на Ярославском. Он дослуживал свой майорский срок в глуши, три тысячи километров восточнее Москвы. Я жила на 400 километров южнее. Оптимальное место для встречи – Москва.
Как сейчас помню гулко, дробными шариками рассыпающееся в вокзальных сводах эхо: «Дорогие москвичи и гости столицы!» И мне идёт навстречу… Боже, таких мужчин не бывает! Грузноватый, седой, бравый – а лицо смущённое, как у мальчишки. Плюс (держу в уме) на носу майорская пенсия.
Геннадий оказался стеснительным, прочно окопавшимся и хорошо сохранившимся в захолустье военного городка холостяком. Находят же до сих пор мамонтов в вечной мерзлоте. Хотя археологов в юбках шуршит больше, чем мамонтов – но повезло мне.
А пока – то Геннадий летал ко мне во фруктовый рай. То я к нему в скудные плешивые тундровые пейзажи.
Женское поведение – это как запах самки для самца в животном мире. Первое: женщина должна быть уверенной в себе на все сто. Мужики – это же слабый пол. Сла-а-абенький, жалкенький, но пыжащийся доказать обратное. Женская уверенность сразу выбивает почву из-под ног противника, вносит сумятицу в его ряды. Оружие побросано, враг бежит, обнажая тылы и сдаваясь на милость победителя. Бери голыми руками.
Вот Фома говорит про книги. А знать надо, дорогуша, какие книжки читать и какие строчки подчёркивать красным карандашом. Дамы, готовы?
«Заарканить мужчину легче, чем шевельнуть пальчиком. Всё очень просто. Когда хотите оплести мужчину, устраивайте так, что всякий раз, когда он бросит на вас взгляд, он видит, что вы смотрите на него. Вот и всё». Умница О. Генри подметил принадлежность женщины к Древнему Ордену Мышеловки.
И значит, всюду – в вокзальном ресторане, в такси, в гостиничном номере – Геннадий видел устремлённые на него, влюблённые, восторженные, умоляющие распахнутые с помощью туши «Лореаль», мои глаза. Впрочем, злоупотреблять этим приёмом долго нельзя. Вон, у кукол тоже широко распахнутые гляделки. В конце концов, хочется сказать, как Райкин: «Чего уставилась, дура?»
Поэтому, когда он уже на крючке – расслабляемся. Мило и застенчиво трепещем и опускаем ресницы, растерянно отводим взгляд, мило и застенчиво щуримся, будто нас слепит солнечный свет. Так и есть: мужчина для нас – солнце, светило, божество. Замечательный образец обольщения глазками – актриса Клэр Форлани.
О гостиничном номере я не оговорилась. Потому что секс в женской стратегии и тактике – на втором месте. Тут нужно раскинуть карты боевых действий, хорошенько изучить силы и характеристики противника, подготовить орудие: тяжёлое или мелкокалиберное.
Условно разделяем мужчин на два вида: «альфонс» и «простачок». С первыми играем в недотрогу: «Я не такая, что вы позволяете, только после свадьбы!» Со вторыми: «Я вся горю, я жду тебя, о мой нефритовый гигант, я львица и готова тебя разорвать! Р-р-р!»
Геннадий был ближе ко вторым. Господи, встречаются же в гарнизонных захолустьях такие самородки! Воображаю, каким коротеньким хлёстким – как шлепок грязи, как брезгливое смачное «блямс!» – словцом меня сейчас заклеймили женщины. Пари, что эти женщины одиноки.
Геннадию как военному пенсионеру выделили квартиру в нашем тихом зелёном городке – мечте отставного военного.
Остался последний штришок. Предложение руки и сердца, марш Мендельсона, свадьба в местном ресторане «Плёс», где отмечаются все бракосочетания. Нужно ковать железо пока горячо. В противном случае мужчина начинает задавать себе закономерный вопрос: если и так всё хорошо, зачем жениться? Страсть не может гореть вечно – если не поддерживать её ровное тление в чугунной жаровне паспортного штампа – затухнет.
– Взгляни на модного судью! – пугается Фома. – Эталон безвкусицы! Розовые шаровары в горошек. Золотые янычарские туфли. Зелёный лакейский узенький пиджак. На рукаве нацеплены фенечки, как у семиклассницы. На лацкане усыпанное камнями блюдце: то ли орден, то ли брошь? Шарф намотан такой толщины, будто у бедняги фарингит в острой форме… Выйди он на улицу – за ним же дети будут бежать!
Я объясняю Фоме, что это такая униформа. Как у доктора белый халат, у военного – камуфляж, у дорожного рабочего – оранжевый жилет. Ну, куда это годится: представь, сядет он на свой судейский трон в костюме офисного клерка.
Фома давит интеллектом:
– Что они вытворяют с женщинами? Ты читала «Виринею»? Как она входит во двор в линялых обносках – сановита, величава… – Она на память зачитывает нараспев, как со сцены: «Измельчал народ. Красивость женская стала мелка и лукава. От одежды, от старанья зависит». Вот чем твой модный суд и занимается: мельчит и лукавит женскую красивость разными ухищрениями, прибамбасиками…
В чём-то Фома права. Я ясно вижу трёх китов, на которых зиждется якобы чудесное преображение подсудимых. Первое: улыбка-походка-осанка. Второе: макияж-причёска. Третье: корректирующее бельё. А одежда дело десятое.
Но вообразите: проснётся наутро мужик рядом с партнёршей. А у той вместо летящей укладки – жиденький волосяной покров. Вместо вчерашней точёной упругой фигуры – складки на боках как у шарпея. «Господи, – скажет, – что за чуда в перьях рядом лежит?!» Штаны-рубашку в охапку – и дёру.
Но вот с недавних пор я приметила подложку модного суда, которая очень даже меня заинтересовала. Модный суд не только одевает участниц. А ещё и служит, как бы это выразиться, конкретным корыстным, мелкособственническим женским интересам. «Модный суд» превратился:
1. В клуб поиска женихов («Наш канал смотрит вся страна. Завтра за тобой очередь выстроится»).
2. В место примирения балансирующих на грани развода мужа и жены («Да мы тебя оденем как конфетку, с руками оторвут. А этот козёл рядом с тобой на фиг никому не нужен»).
3. А также в место, где затянувшийся гражданский брак плавно перерастает в официальный. Наваливаются втроём: худенькая строгая модная прокурорша, корпулентная громкоголосая адвокатша, судья со сладенькой улыбочкой. И долбят, и долбят несчастного, и обрабатывают, и срамят на всю страну – пока бедолага не сдастся. Неуклюже оскальзываясь на одно колено, протягивает мятый букет разрумянившейся от счастья даме. Пряча глаза, гугнит что-то о руке и сердце.
Вот этот последний пункт меня крепко заинтересовал. Гладкое золотое кольцо у меня уже куплено. Потому что лучше один раз самой разориться на простенькое обручальное колечко – а бриллиантовые он будет дарить всю оставшуюся жизнь. О, уже и из меня афоризмы полезли.
Я заполняю анкету на сайте и – ура! – нас приглашают! Лихорадочно сочиняю о себя легенду, непременно с фишечкой.
Свидетелем будет Фома. Обвинителем – ничего не подозревающий Геннадий. Для него я тоже сочиняю историю: якобы его раздражают мои яркие, короткие и обтягивающие платьишки. И будто бы возбуждает не мой знойный пышный облик, а строгий стиль офисного крысёнка. Серый костюм, юбка по колено, очочки, прилизанные волосы.
Набросала для него текст и велела выучить, хотя он упирался.
Всё получилось, как я планировала. Труднее всего было уломать Фому. Геннадий-то давно хотел съездить в столицу, посетить театры, возложить цветы на могилу Высоцкого. А на кастинг, сказала я, так, на минутку забежим.
Загрузила его баулом с гардеробом. И снова Ярославский, снова на площади зазывалы в гнусавые рупоры надрываются у экскурсионных автобусов: «Дорогие москвичи и гости столицы!»
Это вам с дивана видится всё празднично, легко и весело. А не хотите 17-часовых марафонов по магазинам на отваливающихся ногах – и – явно с подвохом – полное убожество выбора? А переодевания перед мужиками-операторами до трусов и лифчика? Если среди них есть геи – я их понимаю. Ежедневно видеть каждый день далеко не идеальные, дряблые целлюлитные или скелетированные части женских тел, съехавшихся со всех концов необъятной страны…
А когда тебя в гримёрке бесцеремонно и больно дёргают, поворачивают и вертят одновременно четыре пары рук, и лязгают ножницы, и тебя касаются губки, спонжи, щёточки – и над тобой свершается что-то ужасное… А ты даже не видишь ничего, потому вокруг зеркала, как при покойнике, затянуты чёрной плёнкой. Даже хромированные ёмкости для жидкого мыла заклеены бумажным скотчем, представляете?!
Острые мелкие волоски, которые не сдули после стрижки, нестерпимо колют шею и грудь. И очень хочется горячего кофе и в туалет, а тебя просят потерпеть. Щеки свёкольно пылают, в ушах звон, во рту пустыня Сахара.
Окончательно затосковала, когда попросили «для контраста» на подиуме сутулиться и строить выражение лица, будто мне под нос повесили дохлого скунса – это когда демонстрировала свой выбор одежды.
А режиссёр возмутилась, что у меня чистые волосы – и напялила толстую вязаную шапку: чтобы волосы пропотели и засалились.
Всё по-другому, обманчиво с изнанки шоу. Голосование – пшик, результат берётся с потолка. Массовка тычет в коробочки-пульты для вида. В кулисах заносчивая, колючая, задирающая острый носик прокурорша-ботан оказалась милейшей, приветливой, общительной женщиной. А разбитная простецкая адвокатша, играющая роль «своей бабы в доску», – неприступной, угрюмоватой гордячкой, окружившей себя охраной. А судья и был такой, какой на экране: радушный хозяин-дядюшка с масляным голоском.
…Да, забыла сказать, что Геннадия не утвердили на роль обвинителя («Вяловато, пресновато»). Его усадили в группу поддержки – а рядом с прокуроршей, копна копной, воссела ушастая Фома. В голове невидимки, волосы закручены в кукиш аптекарской резинкой. Наглядное ходячее пособие: можно вытащить Дуньку из колхоза, но колхоз из Дуньки – никогда.
Ну, она дорвалась: выдала им по первое число, обрушивалась, срывала покровы. Раскраснелась, неожиданно похорошела. В ответ возмущённые ведущие размазывали её по стенке. Я думала, эти кадры вырежут, но всё оставили, представляете?!
Наконец, настал и мой звёздный час. Я прохожу до заветной бумажной финишной полоски до зеркала – и отлегло от сердца. Ничего так, помолодела лет на двадцать. Вторые два выхода ещё лучше. И тут я с ужасом понимаю, что забыла передать Геннадию коробочку с кольцом, она в гримёрке!
Все взгляды и камеры поворачиваются на красного, как рак, Геннадия: по сценарию его очередь делать мне предложение. Он предсказуемо вытаскивает из-под сиденья букет кровавых, как мои губы, роз. Несёт, как все мужики, книзу бутонами: будто веник в баню. А в другой руке у него – раскрытая бархатная коробочка! Сам купил, молодец!
Молодцевато, по-военному вспрыгивает на подиум и… идёт мимо меня к Фоме!! Протягивает розы, кольцо и просит руки и сердца. Немая сцена. У Фомы челюсть отвисла, она её рукой подхватила, клацнула – и вернула на место.
– Вот это финт ушами! Такого поворота событий у нас в студии ещё не было, – ахает адвокатша.
Модный судья довольно потирает коротенькие ручки. Прокурорша поглядывает поверх модных очков и что-то стремительно строчит в своём блокнотике. И, перекрикивая шум в зале, приглашает Фому стать участницей следующего модного суда!
Вражеская конница развернулась и понеслась, топча, таща и рвя копытами мои знамёна. Палатка смята и опрокинута, мои военные карты разлетаются в воздухе. Главный военный советник вероломно перебежал на сторону противника. Измена!
Я уезжаю, увозя выбор стилистов почти на сто тысяч рублей. Фома и Геннадий остались возложить цветы Высоцкому. Ещё они купили билет на премьеру молодого режиссёра, которая называется – нипочём не угадаете! «Дорогие москвичи и гости столицы!». Звали меня, но я отказалась. С меня и в жизни хватит этих шоу. Одно слово: разводилово и лохотрон.
г. Глазов, УдмуртияВыйти замуж за Никона
Вичка уже знает, кто будет её мужем. Она выйдет замуж за Никона. Это который по телевизору говорит: «Я Никон. Я ценю каждое мгновение твоей жизни… Я всегда рад, что бы ты ни делала… Я Никон». Голос за экраном волшебный и мягкий – и нет сомнения, что невидимый Никон столь же прекрасен.
Вичка слёзно умолила записать Никона на старый бабушкин диктофон. Теперь каждый вечер перед сном включает: «Я Никон… Я очень счастлив с тобой…». Или когда её ставят в угол, она прижимает к уху тяжёленькую чёрную коробку с кассетой. Коробка сухо и звонко шуршит, будто в ней возятся жуки. «Я всегда рад, что бы ты ни делала… Я Никон…» – пробивается сквозь шорох чудесный голос.
Баба Дора, отрываясь от толстой книги и пыхая папиросой, прислушивается и подтверждает:
– Да, голос мужественный и сексапильный.
Вичка за Никоном побежала бы «в чём была, голая, в тапочках и в бигуди». Это баба Дора так говорит про своего любимого Николаса Кейджа.
Вообще-то баба Дора не бабушка Вичке, а прабабушка. Но она совсем не похожа на старух у подъезда, осевших как пыльные мешки с картошкой. Баба Дора худая, спортивная, ходит в брюках, коротко стрижётся и курит папиросы в мутном жёлтом мундштуке. Она говорит, что это янтарь, и он пролежал в океане миллион лет.
Мама Юля родила Вичку в шестнадцать лет. А Жужа маму Юлю – в семнадцать. Жужа – это бабушка Сусанна. Но она категорически запретила Вичке называть её бабушкой и даже била за это по губам.
Когда Жужа с мамой Юлей идут по улице, их называют сёстрами. Жужа прямо вся краснеет от удовольствия. А маме Юле всё равно, она рассеянно улыбается. Она прекрасна, равнодушна и холодна. Махонькая ростиком (Вичка её скоро догонит), как Золушка, и бледна, как Спящая Царевна из сказки Пушкина:
В той норе, во тьме печальной, Гроб качается хрустальный На цепях между столбов…И она не проснулась до конца, потому что её поцеловал не настоящий Принц. Вичка видела на прозрачном мамином личике чёрные синяки. Разве Принцы колотят своих возлюбленных?
«Чем такое чмо, лучше вообще никакого», – в этом вопросе баба Дора и Шуша полностью солидарны. В остальном они всегда ругаются. Кричат так, что можно услышать на другом конце города – хотя разговаривают по телефону или сидят на кухне в метре друг от друга.
Потом баба Дора хватается за сердце и выжимает из коробочки маленькие белые таблетки. А Жужа сразу начинает вставать на голову или сворачиваться на полу, как зародыш. Это позы йоги со смешными названиями: шавасана, например, или баласана, или врикшасана. Рикша, который врёт?
Например, бабушки спорят, у кого на этой неделе будет жить Вичка. У бабы Доры на кафедре фуршет, и она потом трое суток будет лежать с мокрым полотенцем на голове. А Жужа уезжает с концертной бригадой в гастроли по области. А в другой раз наоборот: обе свободны и вдруг страстно воспылают любовью к Вичке. Тянут и рвут её – так что ей больно – обвиняя друг друга в неправильном педагогическом воспитании.
Вичка пугается, что её разорвут пополам, как младенца на суде царя Соломона, и кричит: «Мама!»
– Зови, зови свою маму. Нужна ты ей, как собаке «здрасьте». Ей мужики трахаться нужны, а не ты, – говорит, тяжело дыша и оправляя волосы после потасовки, Жужа.
– Ты плохая! – кричит Вичка. – Тебя никто не любит, поэтому ты одна!
Она знает от бабы Доры, что Жужа тайно ходит к городской ведунье. Снимает венец безбрачия со всех троих и уже «просадила уйму денег. Лучше бы колготки ребёнку купила».
У них, и правда, бабье царство. И у мамы Юли муж ненастоящий, «не расписанный». Он бизнесмен, носится «как в задницу наскипидаренный», по всей стране. Мама Юля покорно таскается за ним, как хвостик. «Никакой женской гордости, господи, кого мы вырастили!»
Вичке очень хочется, чтобы маму поцеловал настоящий Принц. Пожалуй, она даже готова дать ей Никона… А она, так и быть, выйдет замуж за Серёжу. Это мальчик в голубой панамке, с которым Вичка познакомилась сквозь забор. Детский сад находится в том же сквере, где гуляют Вичка с бабой Дорой.
На общем семейном собрании решено было Вичку в садик не отдавать, потому что там «рассадник». И когда гости удивляются, какой Вичка развитый ребёнок по сравнению со сверстниками, баба Дора и Шуша краснеют от удовольствия. Каждая приписывает лавры себе.
Обе чуть с ума не сошли, когда Вичка сочинила стишок:
Киска сидит на оконце, Её пригревает солнце. Кисонька очень рада, Хотя на дворе прохлада.Они ставили Вичку на табурете перед гостями, а баба Дора показывала её своим студентам. Актовый зал хлопал, аплодисменты были похожи на шум дождя. Сначала несколько недоверчивых, как бы раздумывающих хлопков – первые капли дождя. Потом хлопки всё громче, и вот они сливаются в бурный гул, как ливень. Потом утихают, распадаются на слабые дождинки-хлопки.
Маме же Юле всё равно. Она сидит, вытянув на софе длинные ноги, устремив в телефонный экранчик прекрасные глаза: длинные, нарисованные до висков, как у египетской фараонши Хатшепсут.
Она бывает живая только первые минуты, когда входит в прихожую. Снимает и вешает длинное душистое шоколадное пальто. Вичка подпрыгивает, как шарик на резинке йо-йо, и визжит от радости. Она и похожа на шарик, такая же кругленькая.
Вичка от избытка чувств зарывается лицом в мамино пальто:
– Пальто миленькое! Пальто хорошенькое! Пальто вкусненькое! Я его поцелую! Я на нём женюсь!
Мама Юля никогда не скажет, что это глупости и на пальто нельзя жениться. И целовать тоже нельзя: на нём микробы. Мама Юля рассеянно улыбается, вынимает розовый телефон из пушистого, тоже розового чехольчика в виде зайца – и становится туманной и далёкой.
Вичке она привезла очередную Барби. Их у неё уже штук тридцать. «Лучше бы колготки ребёнку купила», – басит баба Дора из-за стеклянной двери кухни, из клубов дыма.
Вичка сделала две пещеры: под столом у Шуши и на нижней полке в книжном шкафу у бабы Доры. В них спят мёртвым сном в прозрачных коробках-гробах бледные куколки с открытыми нарисованными глазами египетских фараонш.
Вичка каждый раз просит маму Юлю привезти Барби с закрывающимися глазками. И хотя бы одного Кена, чтобы он целовал всех царевен по очереди. Но мама каждый раз забывает.
– Что хорошего в твоём Врубеле? – нервничает Жужа по телефону. – Просто возьми серебряную бумажку от шоколада, сомни и распрями кулак. Комканая фольга – вот и весь твой Врубель.
Вичка стоит в углу. Она провинилась. Сегодня в гости приходила дама с Жужиной работы. Они музицировали, потом пили кофе.
Вдруг гостья незаметно пукнула и стала помахивать под столом ладошкой: отгонять воздух. Точно так делала Вичка, если творила то самое. Вичка захохотала и стала легонько в шутку шлёпать тётю по попе, приговаривая: «Ай-яй, как стыдно!». Так делали взрослые за подобный Вичкин грешок.
Но Жужа рассердилась, Вичку нашлёпала и поставила в угол. «Какая несправедливая и непонятная штука жизнь», – размышляет девочка. Провинится Вичка – её шлёпают и ставят в угол. Провинится взрослый – шлёпают и ставят в угол снова Вичку.
За время стояний она проковыряла большую дыру в стене. Когда её обнаружат, Вичке здорово попадёт. Но Жужа редко туда заглядывает. В углу шевелится большой пушистый клуб волос и пыли, похожий на дымчатого котёнка из рекламы «Вискас».
Вичка очень любит рекламу. Там всегда солнышко и голубое небо. И у всех мам есть белозубый, красивый, как Никон, папа. И все улыбаются и любят друг друга. Там хорошенький мальчик, похожий на Серёжу, приговаривает: «Милки Вэй, Милки Вэй», – и ворует конфету. И мама его не шлёпает и не обзывает воришкой, а ласково окликает: «Сыщик!». И даёт конфет сколько влезет. Мальчик заливается смехом. Никакой он не хорошенький, а гадкий, и смех у него противный.
А ещё, если потерявшаяся девочка в рекламе отыскивается, то её осыпают поцелуями и говорят: «Принцесса, солнышко, кнопочка, милая, мы чуть не умерли от страху!»
– Тварь, сволочь, мы чуть не умерли со страху! – кричали баба Дора и вызванная по телефону Жужа. Это когда Вичка пролезла между прутьями детсадовского забора, и они с Серёжей сидели на веранде и болтали ногами во время прогулки, целых два часа. А баба Дора и жужжа гудящими ракетами метались по скверу.
Вичка мечтает о дымчатом котёнке. Но мама Юля привезла хомячка, из-за чего был страшный шум, будто в квартире начался пожар. «Лучше бы колготки ребёнку купила!».
Но делать нечего. Покричали и поселили хомячка у Жужи в старом, мутно-зелёном, слоистом аквариуме.
Однажды хомяк – Вичка назвала его Серёжа – простудился. Ей показалось, что он горячий. Когда у Вички температура, её клали в холодную ванну.
У Жужи в столовой стоял старый самовар. Когда он остывал, из краника в подставленное блюдце капала вода. Вичка выплеснула накопившуюся воду, опустила хомяка Серёжу в блюдце. Это будет его холодная ванна. А сама побежала играть. Спохватилась к вечеру, когда Серёжа уже разбух от воды…
Лучше не думать, а то непрошенные слёзы наворачиваются. Вот тоже странно: разве кто-нибудь просит, чтобы слёзы пришли?
Из щели прямо под Вичкиным носом вылезла сонная зимняя муха. Оправила мятые крылья, попыталась взлететь, но опрокинулась на спину и зажужжала, и завертелась на месте, как пропеллер. Подпрыгнула и поскакала тяжёлыми скачками, как жаба, по своим делам. Вичка тоже скакнула за ней.
– Виктория, марш в угол. Время ещё не вышло.
– Жужа, а купи велосипед, – вспомнила Вичка. Сегодня ей приснился чудесный сон. У неё был дрессированный велосипед. Он сам во сне послушно катился рядом, сам поднимался по лесенке, как собачка.
У Серёжи есть яркий блестящий велосипед на четырёх колёсах. Он разгонялся и небрежно и красиво, не глядя на Вичку, делал круги и проносился мимо забора.
– Я не собираюсь перекладывать груз с души на Бога, – сердится Жужа в телефон. – Я достаточно сильная, чтобы нести этот груз самой. Я не пойму: каяться – это осознавать, что делаешь плохо, и никогда не повторять? Или пытаться исправить грех, и срываться, и повторять снова и снова… То есть постой, сейчас сформулирую…
– Жужа! Велосипед!
– Выдумала: велосипед. Колготки купить не на что… Так, завтра у нас с трёх логопед Фирдоус Илио… Илиодоровна. Господи, с таким именем-отчеством и логопеда не надо…
Всё смешалось в Вичкином доме. У мамы Юли свадьба. Сработала ворожба, снят венец безбрачия! Жених бизнесмен – не прежнее чмо, а другой. Он женится и увезёт маму далеко. Он весь в белом, высокий, лысый и улыбается мёртво и жутко, как мистер Пропер.
Мама Юля сказала, что его зовут Зад, и подтолкнула Вичку поздороваться. Какие неприличные имена бывают у взрослых, но что поделаешь. Вичка, спотыкаясь, смущённо говорит: «Здравствуйте, дядя Зад». Все хохочут, и мама Юля шёпотм поправляет: «Не Зад, а Азат! Дядя Азат!»
Как славно, когда все смеются. Вичка тоже хохочет и звонко кричит, уже нарочно:
– Здравствуйте, дядя Зад!
– Виктория, не вредничай! Извинись сейчас же перед дядей, – сладко улыбается Жужа и больно впивается ногтями в пухленькую Вичкину руку выше локтя.
– Ну что вы, ребёнок балуется! – Мистер Пропер улыбается, наклоняется к Вичкиному уху: «Ещё раз скажешь – дам леща, мелкая засранка!»
Зачем Вичке рыба лещ? Нет, и это не настоящий Принц.
– Свадьба в июне – это экономия. Пионы стоят копейки. Усыплем лестницу и весь зал, будто лепестками роз.
– Нет, но каковы расценки, тихий ужас! Помните советские цены: хлеб 16 копеек, бутылка подсолнечного масла – рубль 3 копейки. Яйцо десяток – 90 копеек, рисовая каша брикет – 19 копеек, пачка кофейного напитка «Кубань» – 19 копеек…
Вичка прислушивается к стрёкоту швейной машинки из кухни, к женскому стрёкоту из спальни. Она путалась под ногами и вот забралась в ванную, сидит перед стиральной машиной. В круглом иллюминаторе бешено плещется пенное бельё. Вичка смотрит, кто победит: розовый пододеяльник поглотит голубой – или наоборот? Побеждает голубой пододеяльник, сожрав розового соперника с потрохами.
Вичка плачет. Сегодня во время прогулки Серёжа катал девочку из группы на велосипеде, и они целовались за верандой. Вернее, не целовались (Вичка видела в фильмах, как это по-настоящему делают дяди и тёти), а стукались носами. Скашивали глаза на прильнувшую к забору, сморщенную от страдания Вичку, и хихикали.
Дворник только что полил газон. Вичка набрала грязи вместе с травой и стала бросать в изменника. Так увлеклась, что не заметила, как её жёстко и цепко взяли за плечо. Воспитательница подвела её к бабе Доре, которая зачиталась толстой книгой. Баба Дора больно дёргала Вичку за руку вниз и обещала, что больше такого безобразия не повторится.
– Вы с ума сошли, Дора Ильинична! – знакомая врач округло подымала бровь. – Вы же грамотный человек, педагог! Это не просто невинные фантазии и фетишизм – это дружба маленькой девочки и взрослого мужчины! Каждый вечер слушает вместо колыбельной дебильную рекламу! Кошмар! Вы не представляете, какой опасности подвергаете… Это любой педофил на улице подойдёт и возьмёт девочку за руку… Она спросит: «Вы Никон?» И пойдёт за ним!
Баба Дора нарисовала в воображении ужасную картину, и схватилась за сердце и за коробочку с таблетками. На улице дёргала Вичку за руку и фанатично шептала:
– Немедленно! Немедленно! Эту гадину на плёнке, этого твоего Никона… Немедленно!
Вичка рыдала.
– Когда тебе плохо, – сухо сказала баба Дора, – оглядись вокруг и поищи, кому ещё хуже.
Мама уедет надолго. Серёжа предал. Сейчас баба Дора придёт домой, сотрёт с кассеты и убьёт Никона. И жарко, невыносимо жарко и душно, как перед грозой.
Впереди идут двое мальчишек с удочками и несут в руках завязанные пластиковые мешочки с водой. В них бултыхаются маленькие серые рыбки. Вичка видела таких в энциклопедии на картинке: это пескари. Задыхающимся в болтанке, в тёплой мутной воде, пескарям хуже, чем Вичке. Но ей от этого не легче.
– Бабушка, не закармливайте без меня ребёнка. Даже намёка нет на талию, ужас! Вырастили ей пивное пузо – уродина, а не девочка.
Высказавшись, мама Юля идёт спать. Она ведёт ночной обораз жизни и потом спит до четырёх часов дня, и ужасно сердится, если Вичка её нечаянно будит. Может даже бросить в неё чем под руку попадётся.
Коробочка с бабушкиным лекарством лежит на подзеркальнике. Бабушка их глотает, сразу перестаёт кричать и становится счастливой и умиротворённой. И говорит: «Господи, какой покой!»
Честно говоря, Вичка и раньше нажимала на пробку, и из желобка выкатывались белые мелкие таблеточки. Это Барбины пирожные. Если их лизнуть, они сладковатые.
Вичка жмёт и жмёт пробку, набирает полную ладошку таблеток и сыплет в рот. Следующая ладошка… Она просто уснёт и превратится в спящую царевну. Придёт Никон – поцелует её, и всё изменится. Вичка проснётся не уродиной, а взрослой, красивой и тоненькой, как мама Юля.
Мама, Жужа, баба Дора – все обступили Вичку и кричат. Их не слышно, но видно, как широко открываются рты, как у пескарей в мешочке. Какие у них тревожные лица, как они все беспокоятся и любят Вичку! Склоняются чужие тётеньки в белых халатах.
К Вичке возвращается слух.
– Противоядие! – страшным голосом кричит баба Дора в трубку. – Что за препарат?! Название?!.. Ф-фу! – она с облегчением бросает трубку и обмякает. – Психотерапевт сказала – это плацебо! Пустышка! Сахар и мел! Что ей может грозить в худшем случае – это запор!..
Вичка очень устала от впечатлений и засыпает. «Я очень счастлив с тобой. Я всегда рад, что бы ты ни делала… Я Никон». Последнее, что она слышит сквозь сон:
– И она берёт с меня за сахар и мел 14 тысяч?!
г. Глазов, УдмуртияСахарный ободок
Собрался Николай с молодой женой Прокопьевной в баню. Идут чинно под ручку, со свёртками чистого белья под мышкой. И уже издали видят в банном запотевшем окошке размытый, тусклый огонёк. И мелькание голого тела, и шум льющейся воды, и яростные шлепки веника: моется кто-то в бане.
Сначала Николай подумал: брат это его, не сказавшись, решил первый пар снять. А там незнакомый мужик. Мужик смутился, но не так чтобы очень. Сполоснулся, вышел в предбанник, неохотно натянул порты, рубаху. Только Николай с Прокопьевной разделись, нырнули в низенькое чёрное огнедышащее жерло – стук-постук в дверь. Два мужика, и тоже не с их деревни.
– А, так тут занято, – и, не извинившись, ничего не объяснив, бочком-бочком развернулись и ушли. При этом вроде как похабненько, поганенько ухмыльнулись.
Моются, значит, муж с женой молчком – а в дверь то и дело стукоток. Как к себе домой. По двое, по трое сунутся, заглянут, пожмут плечами, усмехнутся и разворачиваются. Даже кунпанией, человек шесть со своими вениками: засмеялись нехорошо, подмигнули и ушли.
Домылись они с Прокопьевной кое-как… И тут Николай проснулся. И, глядя на матицу и яростно расчёсывая железные мозоли на чёрных заскорузлых ладонях, стал ломать голову, обдумывать сон. Встал, день думает, ночь думает, неделю думает. Мрачнее тучи, почернел лицом.
И додумал, далеко не ходи, смысл-то на поверхности лежит: это ж бойкая молодая жена ему изменяет! Пользуются его «банькой» все, кому не лень: и по одному, и по трое, и кунпанией. И смеются над ним, Николаем, за его спиной.
Эта догадка дошла до Николая среди ночи. Избил он тогда Прокопьевну до полусмерти: сбросив с койки, плясал на ней ногами, молотил поленом.
Председатель утром стукнул кнутовищем в окно, клича в поле заводилу, молодушку-веселушку Прокопьевну. Но увидел её лежавшую ничком, чёрную как уголь – отшатнулся. И пошёл прочь, оглядываясь и крутя головой, крякая и вдумчиво хлопая кнутовищем по кирзачу. Муж жену поучил – что ж, видно за дело. Люби жену, как душу, тряси как грушу.
А Николаю это дело глянулось, и начал он учить Прокопьевну каждую ночь. А чтобы разогреться, вспоминал ту баньку. И Прокопьевна приноровилась и уже от колхозных работ не отлынивала, а только платком кутала лицо. А на теле синяки – не велико горе: не видно.
В этом месте Вичка, супя бровки, резонно спросила, отчего Прокопьевну не защитили её дети? А Прокопьевне оттого Бог и не дал ребятишек. 16 раз залуплялись – и 16 раз из-за папкиных тумаков не могли уцепиться в мамкином брюхе.
И не узнать стало в скрюченной старушонке недавнюю певунью и хохотунью Прокопьевну. А ведь за весёлость и беззаботный, лёгкий нрав и приметил её Николай.
Сколь после войны было добрых женщин. На гулянках блюли себя, строго сидели сиднем, чтоб соседки не осудили. А невеличка Прокопьевна – и-их! – выскочила в круг, топнула изношенным лаптешком, завертелась так, что рубашонка пузырём надулась. Завизжала:
– Мой милёнок как телёнок, Только разница одна…Статный Николай – ещё на гимнастёрке не выгорели следы погон – не утерпел, расправил усы – и пошёл, и пошёл выделывать кренделя вокруг крутящейся юлой маленькой плясуньи. Выскочила за сарай обмахнуть пылающее лицо – а её в темноте нетерпеливо, грубо схватили за плечи, тряхнули, так что запрокинулась голова – и жаркими резиновыми губами в губы… Ну, что. Её грех: сомлела Прокопьевна, тут же за сараем и дала Николаю.
– Кого дала? – не поняла Вичка.
– Себя, боле и дать было нечего, разве что исподницу.
Вичка представила, как молодая Прокопьевна доверчиво протягивает Николаю ладошку. Разжимает – а в ней крошечная Прокопьевна, как из киндер-сюрприза, чисто Дюймовочка. И он бережно – сдует горячим дыханием такую махонькую! – уносит добычу домой.
…После банного сна он ей в упрёк ставил: что вот так, прямо за сараем, сразу… Ну и что, что девушкой оказалась. Не зря в деревне за глаза, усмехаясь, назвали Прокопьевну «сахарным ободком». Да ведь, собака, за его любовь бешеную, ненормальную, так и прозвали. Посреди дня в поле, посреди народа сгребёт ровно медведь – и тащит в лес…
Вичке не надо говорить про любовь и ревность – эти чувства ей хорошо известны. У них в садике все мальчики влюблены в хроменькую девочку. А весной в группе появился новенький: черноглазый кудрявый мальчик. Одно слово «но-вень-кий» – приятно холодит язык, как мятная конфетка!
В утреннике главную роль дали мальчику, потому что у него оказалась самая активная мама. Она сшила из детского розового атласного одеяла толстую накидку. Хоботом был шланг от пылесоса, сзади приделали тугую пружинку. Получился поросячий хвостик, хотя мальчик был Розовым Слоном.
На сцене девочки-баобабы раскачивались, махали руками-ветками и открывали рот под песенку из музыкальных колонок. Слон ничего не делал, а только неуклюже топал ногами и мотал хоботом-шлангом. Когда слон прислонился к стене и стал серым, мама взмахнула – и набросила на него тёмную кисею.
Зал бурно захлопал: так это было красиво! И Вичка ахнула, которая держала на палке картонное солнце: оно окрашивало кожу слона в розовый цвет.
Все девочки влюбились в Розового Слона, а Вичка даже подралась за него.
– Дивно! Одеялко-то ново? – деловито покачала головой Прокопьевна. – Ишь, атласно одеяло для баловства кромсать…
Прокопьевна похожа на грецкий орешек. Личико сморщенное, костяное и серое. Ушки как ореховые скорлупки. Кулачки твёрдые и высохшие, как ядрышки ореха. Волосы на затылке зашпилены в крошечный грецкий орех.
… – Поражаюсь этим деревенским старухам-долгожительницам, – пыхает папироской баба Дора. – В войну пахали как лошади. На фермах месили ледяную жижу – вечный ревматизм. Питались гнилой картошкой – сплошной крахмал, холестерин, пророщенной рожью – ростки ядовитые. Всю жизнь пили здешнюю воду – врачи её запретили: одно железо. Вся деревня мучается от камней в почках.
А грыжи от надсады, а криминальные аборты в грязи… На днях захожу к ней в избу: невыносимый угар, аж синё. Закрывают печи рано, экономят драгоценные дрова. (Виктория, если Прокопьевна печку топит – не заходи! Я у ней пять минут побыла – голова раскололась). И так всю жизнь! И живут до ста лет!
Странные эти взрослые, хуже маленьких детей, пойми их. Баба Дора говорит, что Вичке нужно срочно худеть. Что в её бабДорином детстве, таких обзывали «жиртрестом». А Прокопьевна залюбовалась, умилилась на Вичку. Особенно одобрила Вичкины пухлые ножки: «Ишь, кругленьки, беленьки, ровно яблочки!» А бабу Дору не одобрила: «Сухопарая, чёрная, носастая, чисто ведьма. Больная она у вас, ли чё?».
Увидела, как баба Дора вытряхивает из яркого пакета в сковородку комок мороженых китайских мидий – и плюнула. Сказала, что в деревне эти ракушки называют перловицами, и ели их в войну в большой голод, и то бабы блевали. И она наковыряет в речке целый таз перловиц. Свежих и не воняющих голимой хлоркой, как эти магазинные.
Вичка и баба Дора приехали в деревню вместо дачи: укрепить и оздоровить будущую первоклассницу Вичку. Вернее, приплыли на катере: белом, гладком, гудящем и вибрирующем, как стиральная машина.
Когда сошли на берег, баба Дора усадила Вичку у камер хранения, а сама пошла узнать расписание. К ячейке, оглядываясь, подошёл длинный дядька. Набрал код, вытащил неполную бутылку водки и варёную картошку. Снова оглянулся, отхлебнул, сморщился, откусил от картошки – и захлопнул ячейку.
– Несчастный тот мужик, – прокомментировала баба Дора, которой Вичка рассказала увиденное. – До чего жена довела.
А дядька поднялся по той же улице и вошёл в дом, где собрались жить баба Дора и Вичка. Только в другую половину. А к бабе Доре и Вичке радушно выплыла довёдшая мужа жена, хозяйка. Личико мелкое, мышиное – а тело медведицы, ноги слоновьи, как столбы. У неё было три брюшка: одно на своём месте, а два других брюшка покойно лежали на груди в мешочках лифчика, просвечивали сквозь халат.
Если бы она играла роль бабушки Розового слонёнка – даже бы одеяла не пришлось набрасывать. Хозяйка велела себя звать баба Нина.
Утром Вичка вышла во двор, жмурясь от деревенского беспризорного солнца, которое ни в одном месте не заслоняли многоэтажные дома. На крылечке соседней избы сидела игрушечная старушка, держала на коленях стеклянную банку. А в банке – живой гусёнок! Вичка так поразилась, что прямо по грядкам протопала к чудесной старушке.
– А что вы делаете?
– Гусёнка выпариваю. Слабенький, пусть греется на солнышке. Вишь, здоровается с тобой.
Зеленоватый комочек пуха вытянул из банки шею и запищал.
– Ой, а можно, я его на руки возьму?
Гусёнок оказался невесомый и плюшевый, тыкался в Вичкины губы клювиком – целовался. Его хотелось затискать.
Рядом кот бабы Нины равнодушно отворачивался и щурился, чтобы не поддаваться на провокацию. Дома-то он обычно сидел на окнах: наблюдал за жизнью на улице, за воробьями, за пробегающими собаками. Как будто смотрел телевизор: цветной широкоэкранный, 3D, в режиме онлайн. Иногда, чтобы не пропустить самое интересное, перепрыгивал на другое окно: переключал канал.
– Кот гусёнка не съест?!
– Небось не съест. У, жмурится, ирод. Весь в хозяина.
Вичка тоже слышала от соседей, якобы муж тёти Нины учил кота придушивать и таскать соседских цыплят на суп. Кот освоил пока половину программы: придушивал, но в дом цыплят не таскал.
А Нинке (бабе Нине) Прокопьевна до сих пор не могла простить жестокую обиду: та её моложе, а при советской власти пенсию получала семьдесят рублей. А Прокопьевна – семнадцать рублей пятьдесят копеек. Хотя она ломала на ферме и стёрла в кровь хребёт и руки – а Нинка всю жизнь просидела на толстой жопе в леспромхозовской конторе.
– Баба Дора, давай допивай скорее свой кефир. Ровно неживая пьёшь.
Вичка называет кефиром густой, горький чёрный кофе. Если крепкий чай называют чефиром, то кофе – кефир. Вичка нетерпеливо топает ножкой: торопится отнести гусёнку гостинец: пакетик с рассыпчатой пшённой кашей от завтрака.
… – Гусёнок-то наш? Помер ведь, в ограде прикопала. Не жилец оказался.
Вичка поворачивается и идёт, спотыкаясь, прямо по грядкам. От беззвучных рыданий сотрясается пухлая грудка, подпрыгивает тугой мячик круглого живота под джинсовым сарафанчиком. Прокопьевна находит её у забора, уже выплакавшую горе, философски насупившую красные опухшие бровки.
– Прокопьевна, а мы тоже умрём?
– Не, девка. Это только гусята помирают.
– Вот и врунья. Все умирают.
– Все помирают, а мы с тобой нет. Эвон я сколь живу. Столь и не живут вовсе. Посчитай: сколь у меня морщин, самых мелконьких? Сколь морщинок – столь и лет.
Это правда, возраст деревьев тоже определяют по кольцам-морщинам. Прокопьевна зажмурилась, подставила свой грецкий орешек. Вичка стала считать – сбилась на тысяче. А дальше она не умеет считать.
Всё правда, Прокопьевна родилась тысячи лет назад. До бабы Доры, до Ленина и до царя. В промежутке была война с кричащими от голода коровами. А до этого летали греческие боги с телами упитанных розовых младенцев, бродили мамонты, полз грязный ледник толщиной с десятиэтажный дом, горели смрадные костры с миниатюрными красавицами ведьмами… И всё это видела бессмертная Прокопьевна.
– И мама пусть не умирает, ладно? И бабушка Дора.
– Вот и ладно. Вот и не реви.
– Дора Ильинична. Это, конечно, не моё дело, – тактично замялась в дверях баба Нина. – Но вы бы правнучку свою остерегли. Ходит к этой… каторжной. Как мёдом намазано. А та и радая, приваживает изо всех сил. Тюремщица.
Бабу Дору трудно испугать.
– Тюремщица? Война, колоски?
– Кабы колоски. Мужа убила. Топором. Говорили, – баба Нина перешла на шёпот, хотя никто её не слышал, – будто гулящая она была жёнка, порченая. Сахарным ободком не зря прозвали. Дыма без огня не бывает. Семнадцать лет как один день отгудела. И ведь стыда хватило в деревню вернуться. Так вы бы, Дора Ильинична, подальше от неё правнучку-то. Не ровён час. До сих пор сама курам головы рубит. И давление как у космонавта. А я, – пожаловалась, – как кровь увижу – прям тонометр зашкаливает.
Вичка вбежала в дом, хохоча, ноги в серо-зелёных разводах от тины. С Прокопьевной ловили в речке пескарей. А на пороге сложенные чемоданы.
Баба Дора воспитывает Вичку по новому методу: разговаривает как с ровней, подробно объясняя свои действия и поступки. Усадила Вичку напротив, рассказала услышанное от хозяйки. И что Вичку засмеют в садике: нахваталась диалектизмов, через слово: «ровно» «чисто», «гру». И – один к одному – звонила мама: достала Вичке путёвку в детский санаторий. И хватит ныть, спать пора, катер в шесть утра.
Утром дядиНинин муж мелко засеменит, перебирая ногами, таща чемоданы на пристань… Предвкушая встречу с заветной ячейкой в камере хранения…
Напрасно Вичка прыгала вокруг бабы Доры и пыталась объяснить.
Как маленькая Прокопьевна почуяла свой смёртный час. «Ну, ведьма сладкая, допрыгалась: убивать тебя буду».
Только и выставила махонькие ручки навстречу колуну, с которым надвигался осклабившийся Николай. При взмахе остро отточенный, но плохо насаженный топор соскользнул с рассохшегося топорища (не до хозяйства было в последнее время Николаю). Топор совершил в воздухе кульбит – и вонзился остриём в лоб – самому Николаю! Следователь посмеялся: ничего умнее не могла придумать?!
Насколько ночью всё выглядит по-другому, чем днём. Солнечный день кажется гулким и неправдоподобно далёким, нереальным. Дома и сараи отбрасывают огромные чёрные тени, как горы.
Вичка смотрела с мамой по телевизору ужастики. И мама сказала, что, чтоб не испугаться, нужно в самый страшный момент запеть песенку, любую. Ну и вышел конфуз. Вичка дрожащим голосом запела про любимого розового слона.
Тут прямо во весь экран с громким звуком: «В-вух!» – высунулось привидение. От неожиданности из Вички предательски вырвалась горячая струйка и обмочила трусики. А всё потому, что пока верхняя дырочка (рот) была напряжена от пения – нижняя-то оказалась не подготовленной, расслабленной.
Вот и избушка Прокопьевны. Ура, не заперто! Пахучие тесные сени. Войлочная драная дверь, будто об неё точили когти кошки. Скрипучие половицы, рассохшиеся как… Не надо об этом думать.
Заполошно стучат ходики. В темноте белеет холодильник. Недавно была гроза. Во время одной особенно сильной молнии холодильник всхлипнул, затрясся и отключился. Прокопьевна трижды поплевала, перекрестила его – холодильник вздрогнул, ожил и зашумел, заработал.
У окна под игрушечным лоскутным одеялом на коечке едва виднеется кучка тряпья.
– Прокопьевна! – робко зовёт Вичка.
Кучка не шевелится. В лунном свете полуоткрыт стеклянный глаз, мёртво торчит костяной носик. Вичка дотрагивается и в ужасе отдёргивает руку. Прижимает стиснутые кулачки ко рту – и отступает, пятится к дверям. Всюду Смерть, и ничего уже не исправить, и никогда не взойдёт солнце. Умрёт Вичка, умрут мама и баба Дора. И только на пустой земле, шевеля сухую траву, будут тоскливо голосить ветра голосом Витаса.
В эту минуту слышится живой тонкий носовой свист.
– Чё, чё ты? – Кучка с голосом Прокопьевны шевелится, кашляет, садится, свесив ножки. – Дрожишь вся, испугалась? Не реви, айда сюда, укутаю… Думала, обманула, померла? Небось, вон она я, никуда не делась. Живая, жива-ая… – и грецкие орешки щёчек мелко трясутся в добродушном смехе.
г. Глазов, УдмуртияЖенщина нелёгкой судьбы, лёгкого поведения
Странной нынче выдалась встреча Нового Года. Город точно вымер: ни ярких огней, ни бабаханья петард, ни громкой музыки.
Нельзя! Красный Петух рассердится, посчитает шум, блеск и яркость за вызов, за соперничество. Грозно распушит червонное перо, нальются кровью глазки, гребень и борода. Взлетит на крышу, трижды прокукарекает, раскинет огненные крылья. Быть беде, большому пожару в доме, в семье, в судьбе. А напоследок, жареный, ещё и клюнет так, что мало не покажется.
За новогодними столами все сидят смирно, на женщинах матовые платья. Всё блестящее поснимали: чтобы ни намёка на отблеск пламени. Чтобы не приманить, не спровоцировать, не раздразнить драчливого персонажа китайского календаря.
Наоборот, задобрить: между свечами расставлены плошки с крупой, гречкой, горохом, кистями рябины, семечками, накрошенным хлебушком. Поклюй – и улетай с богом, и не посещай нас до 23. 59 следующего 31 декабря. Чтобы нам с тобой весь год не видеться, и чтобы мирно распрощаться ещё на 12 лет по басурманскому календарю.
Под самый Новый Год потеплело. Я пробираюсь по вымершему, затемнённому как при воздушной тревоге городу, к единственному ярко освещённому окошку. Сходство с войной и бомбёжкой добавляет грохот то и дело обламывающихся на крышах снежных козырьков.
Снег – мороз – оттепель. Снег – мороз – оттепель. В результате климатических аномалий на крышах образуются многослойные, многотонные «пирожные». Пропитанные, как сиропом, талой водой, они не выдерживают собственной тяжести, отламываются ломтями. Либо, жутко ухнув и хлопнув, сходят лавиной. Да какие плотные – наутро бульдозер тщетно пыхтит, пытаясь сдвинуть с места плотные горы.
Даже самый маленький слоистый снежно-ледяной ком, учитывая ускорение, весит килограмм 50-100. Представляете: чапаете вы по своим делам, а на вас сверху прилетает парочка «мешков с сахаром» весом в центнер…
«Вот скажите, каким местом думают наши архитекторы, проектируя покатые лавиноопасные крыши?» – бормочу я под нос, пробираясь через сугробы. Не крыши, а льдо-и снегосборники. Крыши-убийцы. Архитекторы что, не знают наших коварных городских зим: то слякотных и гнилых, то метельных и с трескучими морозами?
Брали бы за образец коттеджный пригород. Там высятся островерхие, сказочные как у Андерсена дома-башенки, с крышами крутыми как горки. Даже разовый, самый липкий снежок на такой крутизне не задерживается и тотчас сдувается ветром. А не копится и прессуется всю зиму в сотни тонн снежной смерти.
Вон, как раз идёт капремонт, меняют крыши. Что стоит чуть изменить планировку, поднять стропила, увеличить угол ската… Мне ясно, горожанам ясно, только архитекторы прикидываются ясными пеньками.
В результате каждую зиму и весну наш город – да чего там, вся страна – играет в увлекательную смертельную игру «русская рулетка». Повезёт – не повезёт, шмякнется – не шмякнется, насмерть – или только повредит члены?
Вот говорят, дурные привычки укорачивают жизнь. Да мне она жизнь спасла, дурная привычка. Остановилась я на пять секунд щёлкнуть зажигалкой, поднесла огонёк к сигарете. Через пять секунд в пяти шагах от меня рухнула и раскололась глыба: аж четырёхэтажный дом подпрыгнул и земля затряслась. Что бы от меня осталось? Мокрое место и некролог петитом в уголке местной газеты.
Дядька, проходя, глянул на меня, застывшую и белую, как только что съехавшая лавина. Покачал головой: «Да, девка, повезло тебе. Бог спас». Да не Бог, а сигарета. Я потом её, до ободка нервно докуренную, со следами помады, засунула в хрустальный флакончик и повесила на серебряной цепочке на зеркало. Будет моим талисманом.
– Как ты не видишь взаимосвязи и истинного хода событий? – терпеливо внушает подруга Варя. – Это и называется – судьба. Это Бог тобой руководил: чтобы ты именно за пять шагов вынула зажигалку, прикурила…
– Не знала, что Бог – это пагубная привычка…
– Не богохульствуй!
Гостьи начинают наперебой припоминать разные чудесные случаи, сбывания примет, намёки судьбы. У хозяйки Варежки (Вари) её малогабаритная квартирка забита комнатными цветами, статуэтками, картинами, подружками, смехом, болтовнёй. Здесь всегда жарко, шумно, весело и всегда вкусно пахнет. Когда ни загляни: на ноябрьские, на майские, на 8 марта, в выходные, просто в будни… И в центре комнаты сидит и приветливо улыбается, как солнышко, красавица Наташа: Варина дочка.
Говорят, для женщины существует три грозных признака наступившей старости. Когда она разлюбит шоколад – раз. Когда она при любом удобном случае избегает надевать лифчик, маскируясь балахонистыми кофтами («Косточки режут, лямки впиваются, давят, нечем дышать»). И третье: когда от выпитого вина ей хочется спать, а не делать глупости.
У Варежки на её грудь, поддерживаемую жёсткими кружевными чашечками, можно смело ставить поднос. Даже когда она дома в халатике, не даёт расслабиться и передохнуть своему пятому номеру. От вина у неё щурятся, смеются, блестят, порочно темнеют и влажнеют глаза. Шоколад прячет от самой себя: не то, как чеховская героиня, объестся и будет плакать.
Варежка не верит в приметы, не боится Красного Петуха: на ней платье цвета рубинового вина, клюквенные туфли. На Наташе коралловое ожерелье, пурпурная блузка. Чистые разлетающиеся девичьи волосы обвиты венком из золотистой гирлянды. Варино окошко – единственное во дворе, а может, в городе – бесстрашно переливается, подмигивает разноцветными гирляндами.
Новый Год – вообще-то домашний праздник. Но самые бесприютные из нас собираются у Варежки своей компанией. И не только те, кому грозит перспектива в одиночестве чокаться бокалом с телеэкраном, с Голубым Огоньком.
Вот у меня благоверный начал набираться с трёх часов дня: «А в Петропавловске-Камчатском – полночь». И не поспоришь. Встречал аккуратно подряд по всем часовым поясам. На пермском не выдержал, свалился.
Ну, я тут же халатик поменяла на платье, мазнула помадой по губам, подмигнула в зеркало талисманчику. И, прихватив миски с салатами, на улицу – минуя взрывоопасные места, где может рухнуть снег, пригибаясь как при бомбардировке – бегом к Варежке, благо живём рядом.
Здесь проходной двор, цыганский табор, всем рады, все двери настежь, дым коромыслом, сногсшибательный запах. На кухне кто-то гремит противнями, заглядывает в духовку, карауля томно истекающий жиром и соком кусок свинины. Кто-то выводят на трёхъярусном торте морозные узоры. В гостиной накрывают на стол: хлопают скатертью как парусом, звенят стеклом и старым мельхиором.
В прихожей кто-то не успел и торопливо снимает перед трюмо бигуди. Из ванной слышится шум воды. На балконе мелькают сигаретные огни. В спальне самое столпотворение: примеряют, закалывают, ушивают на скорую руку, меняются бижутерией, хвастаются обновками. Кто-то вертится в мужнином подарке: норковой шубке. Кто-то пудрит синяк под глазом: тоже мужнин подарок.
Во всех розетках бессовестно торчат разномастные телефонные подзарядки. Потом Варежка удивляется электрическим счетам. Гостьи являются к ней, как к себе домой, и устанавливают свои порядки. Хулиганят: не хотят спать, а хотят петь песни, лить слёзы и всю ночь разговаривать за жизнь. Чтобы Варежка утешала их, вытирала слёзы, мирила с мужьями и топила для них электробаню в три часа ночи.
Однажды она явилась ко мне под утро с одеялом: «Мне на работу, я хронически не высыпаюсь». – «Гони их все к чёртовой матери!» – «Что ты, они такие несчастные, милые!».
В центре комнаты, как будто происходящее их не касается, царицами восседают сияющая Варежка с красавицей Наташей. Наташа одаряет всех радушной ослепительной улыбкой. Идёт глубокомысленный и бестолковый женский разговор, одновременно обо всём и ни о чём.
– Вот муж кого больше любит: тебя или ребёнка?
– Ребёнка.
– А должен – тебя!
– Но я тоже больше люблю ребёнка!
– Для матери это нормально, естественно. Но семья только тогда благополучна, когда муж больше любит жену.
… – Бывают мужья, по натуре – волки, а бывают мужья – псы. Волки – всё в дом, верны до смерти, зубами порвут за семью. Псы – увьются на собачью свадьбу за первым хвостом, только унюхают течку… Одно слово: кобели.
…– В перестройку границы открылись, и все эти «мисски» и красавицы ломанулись за кордон. И слава Богу, туда им дорога! Меньше конкуренция, а на безрыбье и рак рыба. Раньше-то на меня мой Валерка и не посмотрел бы…
…– Она мне говорит: «Я человек настроения». Звучит красиво, как «человек дождя» – а на самом деле просто хамка! Говорит: «Я ведь не осуждаю, осуждать – грех. Я только привожу факты, сухие факты».
– Нюхнёшь якобы французские духи из отечественного магазина – душные, тяжёлые, в нос шибают. Какая там Франция, льют из одной цистерны. Вы настоящих-то духов не видели, а мне приходилось на излёте советских времён. Откроешь шкаф с платьями – оттуда до сих пор, через десятки лет – отголоски милого тонкого неповторимого аромата.
– Как вкусно ты описываешь. Варежка, а от тебя всегда так хорошо пахнет… Чем душишься?
Варежка улыбается:
– Голь на выдумку хитра. Берёте самую недорогую туалетную воду, любую: стойкую, но не резкую и не приторную. С вечера слегка обрызгиваете одежду ниже колен. Оставляете в расправленном виде, чтобы запах не задохнулся, выветрился. Утром надеваете. Всё.
Я любуюсь Варежкой в её рубиновом платье. Какие болваны эти мужчины. Монашкой она, конечно, не жила – а как по-другому урвать кусочек коротенького женского счастья? Не навязывалась, не требовала ничего взамен: подарков, ресторанов, туристических поездок, развода с женой. И как-то у неё всё выходило женственно, нежно, чисто и целомудренно – хотя речь, в общем-то, идёт о прелюбодеяниях. Как-то она могла устроить так, что жёны даже не догадывались о маленьких победоносных походах мужей налево.
Поездки к морю – фи. Жарко, тесно, скользко от пота. То ли дело Пинега, Печора, Шексна. Безлюдье, вековая тишина, древний гранит, суровая северная природа. В палатке, под треск костерка, пение елей и плеск озёрной волны, под мелкими холодными звёздами Варя зачала Наташку. Не подозревающий о том мужественный отец, поцеловав, пощекотав на прощание бородой милую Варюшу, уехал к семье.
– Ты хоть искала его? На алименты подала?
– Зачем? Разве за счастье подают на алименты? Я ему так благодарна!
– Не понимаю некоторых женщин, – поджала губы сотрудница, тот самый «человек дождя». – Вот чтобы я без штампа с мужиком в постель легла… Сначала паспорт покажи.
Я ей заткнула рот, тотчас набрав в поисковике старинную фразу о женской неприступности:
«Знайте же вы, что часто целомудрие сравнивают с запертою шкатулкою с сокровищем. Сокровище это лишь потому цело, что не нашлось желающих им завладеть».
Пока она зеленела от желчи, я ей популярно расшифровывала смысл цитаты: бывают женщины темпераментные – а бывают фригидные, холоднокровные как лягушки, бр-р. И нечего собственное не востребование и лягушачью физиологию выдавать за чистоту и гордость. Скажи прямо: не привелось испытать страсть, которая сметает на своём пути все условности.
А наша Варежка – и есть щедрая шкатулка с сокровищами. Я так думаю: трястись над красотой до старости как Скупой рыцарь – так же преступно, как зарывать талант в землю. Прятать хлеб в голодный год. Выливать воду в песок – в засуху и жажду…
Да, звучит спорно. Так спорьте, аргументируйте, доказывайте свою правоту, точку зрения – а не бросайте в одинокую красивую женщину комья грязи.
– Блудница, корчила из себя святую! Вот Бог и наказал. А нечего было с чужими мужьями гулять! – это всё та же любительница «сухих фактов».
Случилось это в весенний день, когда всё радовалось, сверкало, журчало, звенело капелью. Умница и красавица, студентка, без пяти минут экономист, Наташка бежала с занятий. Размахивала красным рюкзачком, в цвет шапочки с весёлым помпоном…
…Глухой мощный хлопок вверху: будто что-то нутряное лопнуло – и толстой стеной летящий с крыши грязный снег. По красному помпону её и обнаружили в образовавшемся гигантском сугробе. Разрыли руками…
Варежка не отходила от дочери. Вместо неё бегали по судам мы. Накипело, потому скажу по-мужски грубо: против ветра не сс…сь, с богатым не судись. Самый справедливый и гуманный суд в мире отказал даже в возмещении физического вреда.
Юркий, молодой да ранний, адвокат дьявола и по совместительству управляющей компании, виртуозно, как напёрстками на базаре, манипулировал статьями УК. И уже непонятно было: съехал снег то ли с крыши, то ли с балкона глухой девяностолетней старушки, с которой и взять нечего. То ли было огорожено красными тряпочками, то ли нет…
С той поры Наташа сидит в кресле недвижно и прямо, никого не узнаёт и одинаково улыбается всем ослепительной ровной улыбкой.
Вот тогда Варя взмолилась: «За что, Господи?!». И впервые усомнилась – и на сердце стало пусто и гулко, как будто насосом выкачали воздух. Вдруг подумалось: «Бога нет. Есть злобный неумный космический мальчишка-оболтус. Который сидит за своим вселенским компьютером и играет в злую, жестокую, бессмысленную игру в судьбы людей.
И мать, такая же звероподобная и низколобая, зовёт мальчишку ужинать. А он кричит: «Мам, я тут с одной тёткой ещё шестой уровень не прошёл!» И, уплетая космическую котлету, восторженно рассказывает: «Мам, я над ней эксперимент провожу. Уже столько раз убивал – а она всё не убивается, всё ползёт и ползет. Живучая!»
Наутро поняла, что если так думать – это мрак и смерть, конец всему. То же самое, что заживо себя похоронить. Святые отшельники добровольно хоронили себя заживо. Но в них горел огонь. А без огня человек – труп. В церковь Варя не ходила, но была у неё духовница, матушка Глафира. К ней она поехала в монастырь, долго говорили. Надо было жить дальше.
Пока мы все отсыпались, Варежка уже вовсю хлопотала. Прибрала в кухне, перемыла посуду, сбегала в магазин за молоком, сварила кашку для Наташи. Вывезла её в кресле погулять по мягкому выпавшему снежку.
Когда возвращались, замешкались у подъезда. Палочку, которой припирали входную дверь, кто-то выбросил. Дом спит, некому придержать дверь на тугой пружине.
На автостоянке целеустремлённо прохаживался мужчина в длиннополом кашемире, энергично ругался по мобильнику, в уголке рта прыгала не зажжённая сигарета. Прямо персонаж из фильма девяностых про новых русских.
– Муссина, – смешно просюсюкала-прошепелявила Варежка. – Не угостите даму сигареткой?.. А если серьёзно: придержите, пожалуйста, дверь.
Тот сунул мобильник в карман. Деловито оценил обстановку, властно отобрал у Варежки управление коляской, проводил до квартиры. «Сестрёнка? Красавица!» – «Дочка!»
– А знаете, есть примета, – сказала Варежка. – Если в новогоднее утро первым в дом войдёт гость мужчина – с ним войдёт счастье… Милости прошу, угощу кофе с остатками изумительного торта. Вчерашнего, правда…
Через неделю мужчина, которого звали Олег, перевёз к Варежке из гостиницы чемодан. Олег оказался крупным специалистом, приехал на завод в командировку, устанавливать какую-то линию. Давно и прочно разведён. После развода дал зарок не жениться – но перед нашей Варежкой не устоял.
Этим летом они полетят за границу, повезут Наташку: списались с клиникой, где успешно делают операции на позвоночнике. Оба, как выяснилось, обожают суровые северные пейзажи. Мечтают каждое лето втроём проводить месяц в гулкой тишине на берегах карельских бездонных чёрных озёр.
…То ли птица в клюве ей принесла счастье, то ли в ладонь обронила счастливое перо. А вы говорите: Год Красного Петуха…
Из тюрьмы Г. в колонию С
В середине неблизкого пути обнаруживаю, что оставила дома паспорт. На душе скребут кошки: пропустят – не пропустят? Едем не к тёще на блины – в режимное учреждение.
В дороге меня окончательно добивает ещё известие. Оказывается, мы едем в колонию для несовершеннолетних мальчиков. Это им я везу свои девчачьи сказки и женские истории! А то ведь мальчишки прямо глаза проглядели в окошко, извелись там без малышовских сказок, без тётенькиных любовей и страданий. Ну да не обратно же поворачивать.
Когда входим в клуб, колонисты вскакивают, чеканно и оглушительно выкрикивают: «Здравия желаем!» Это они приветствуют незрячего поэта Смелкова.
А жизнь брала своё – прозрело сердце, Искал себя и в деле находил, Срывался, падал, вновь вставал и жил…В юности потерянное зрение из-за разорвавшейся в руке гранаты. Три высших образования. Восемь сборников стихов. Руководство обществом слепых и промышленным предприятием. Если у вас дома есть итальянская стиральная машинка «Канди», выпуска 2003–2009 года – знайте: электрожгуты в ней изготовлены при генеральном директоре Смелкове.
До него и сейчас трудно дозвониться: то он в командировке по делам общества слепых, то на творческой встрече, то на даче, которую построил своими руками. На этот раз Смелков организовал конкурс сочинений среди несовершеннолетних колонистов, на тему «Мы все твои, Россия, дети».
Я наблюдаю за мальчишками. Какие красивые, одухотворённые, открытые лица! Я не оговорилась: красивые и открытые. Когда человека стригут под машинку, у него странным образом открывается, яснеет и делается беззащитным лицо, будто с него сдёргивают покров фальши. С волосами можно производить разные манипуляции: взбить так и эдак, кучеряво уложить. А лицо – вот оно лицо, какое есть.
Когда-то я спросила знакомую евангелистку: «Отчего в тюрьмах встречается так много красивых, просто ангельски красивых людей? А потом узнаёшь, что этот ангел вырезал целую семью».
– А ты думаешь, дьявол явится людям мохнатым, с рогами и копытами, каким его изображают на картинках? – ответила она вопросом на вопрос. – У него будет прекрасный, светлый, неслыханной прелести лик…
Зрители расселись в клубе следующим образом: на первых скамьях самые крупные, плечистые подростки. Чем дальше от сцены – пацаны мельче и хилее. И уже за их спинами торчат ушки и макушки самых бледных, заморённых. Даже с моего места видны их вялые лица с красными, подпухшими от недосыпа (или слёз?) глазами.
Всё правильно. Вернее, всё неправильно и так быть не должно. Но всякое замкнутое пространство, будь то армия, тюрьма, колония или остров Любви в «Доме-2» – есть срез общества, где отношения между людьми утрированы, доведены до гротеска. Очищены от всяких условностей.
Если разобраться, и на воле есть плачущие, обиженные «терпилы». Есть нейтральные «мужики» – и есть паханы и облизывающие их шестёрки. Просто это разделение не бросается так резко в глаза.
– В колониях, особенно детских, без подобной иерархии не обойтись. Иначе – забудь о дисциплине. Анархия, бунт, – признался (не для печати) офицер-воспитатель, когда мы ехали обратно. В салоне вспыхнула маленькая дискуссия.
– А как же Макаренко?
– Сравнили. Тогда дети были другие. Мягкий и благодарный, как пластилин, материал. Внутри – не вытравленный ещё стерженёк патриархальности. Вера в Бога, в справедливость, в идеалы…»
Если бы мы, не приведи Бог, оказались за решёткой, я бы была «шнырём» (немного утешает, что интеллигентный Басилашвили из «Вокзала для двоих» на зоне тоже угодил в «шныри», то есть уборщицы). А вот Леонид Фёдорович, несомненно, стал бы авторитетом. Но справедливым и мудрым авторитетом.
Безо всякой надежды я предлагаю ребятам несколько привезённых книг:
– Подарите на свидании своим мамам, сестричкам. А может, у кого и девушки есть.
К моему удивлению, меня вмиг окружает толпа. Мальчишки, торопясь, перескакивают через скамейки. Со всех сторон: «Я, я! Пожалуйста, дайте мне!» Интересно, если бы я раздавала таблицы умножения – хватали бы с таким же энтузиазмом? Это что, пресловутое: дают – бери, бьют – беги?
А может, я ошибаюсь. Каждому мальчишке, даже самому забитому и жалкому, хочется выглядеть крутым. Круто же: пришла мама на свидание – а он ей подарок: новенькую, пахнущую типографской краской книжку. Из-за решётки, из неволи. Маленький мужчина, добытчик.
В человеке первично Добро. Если бы в стране за труд платили достойные деньги, а не жалкие подачки – сколько бы родителей не спилось, сколько детских судеб не было бы искорёжено. По этому поводу в машине снова вспыхивает ожесточённый спор.
– Не путай тёплое с мягким. Вон, китайцы за кусок хлеба ломят – мировую державу отгрохали.
– То китайцы. А русскому человеку вынь да положи справедливость. Без неё, справедливости, ему и жизнь не жизнь, и сахар горек.
В основном книги достались плечистым и крепким, с ближней скамьи. Последнюю я протягиваю ушастенькому замухрышке. Он берёт с оглядкой, робко, недоверчиво и обречённо: отберут за первым углом.
Впрочем, воспитатель отбирает книги у всех: подарки подарками, а инструкция инструкцией. Книги он должен просмотреть: не пронесла ли я в них чего запретного. Наркотики или маляву. И самому ознакомиться с содержанием: нет ли там нецензурных мыслей и выражений. И раздаст он их, в отличие от меня, справедливо. Самым достойным: за хорошее поведение и за учёбу, победителям конкурса.
Нынче трудно добровольно заставить читать книги у малоизвестного автора. Да чего там – просто заставить читать. Человека нужно отодрать от телевизора и надеть наручники, арестовать. Надёжно изолировать от общества, посадить в четыре стены за толстую решётку (не вырвешься, голубчик!), замкнуть на ключ, окружить колючей проволокой и злыми собаками – и может, для надёжности, даже заковать в кандалы. Попался! Чтобы уж никуда не делся и читал как миленький.
С самого начала наш маршрут определён следующим образом: воспитательная колония для несовершеннолетних в городе И. – следственный изолятор в городе Г. – женская колония общего режима в городе С. Кольцо – только не золотое, а железное – замкнёт мужская ИК строгого режима в пригороде Я.
От сумы и тюрьмы не зарекайся. Не приведи Бог, окажешься за решёткой – и так это скромненько, как бы между прочим, обронишь: «А тут у вас в тюремной библиотечке мои книжечки лежат…». Глядишь, гражданин начальничек – ключик-чайничек подобреет, распорядится перевести в камеру суше, теплее. Лишнюю передачку разрешит, свиданку с родными или ещё какую поблажку.
Это мы похохатываем, перетаптываясь у ворот следственного изолятора. Хотели попасть за решётку? Да без проблем. Не забыли прихватить кружку, ложку и пару белья?
Ещё подшучивали насчёт захвата заложников. Но нам это точно не грозило. Нашими зрителями был немногочисленный, человек двадцать, хозотряд: осуждённые на небольшие сроки за нетяжкие преступления. Уборщики, кухонные работники, ещё что-то по мелочи.
В этот раз к нашему творческому десанту присоединились работники культуры: Вадим, Ольга и Маша, мои неизменные палочки-выручалочки. У Вадима тембр и сила голоса как у Левитана. Оля и Маша – очень артистичные хорошенькие девушки, которые украсили бы собой любую сцену.
В обычной жизни им не грех подчеркнуть стройность талии и ножек. Но сегодня они причесались и оделись очень строго: минимум косметики, никаких фривольных локонов, юбки ниже колен. Красавица Оля даже водрузила на точёный носик очки и стала похожа на учительницу.
Зря волновались. Зрители сидели, целомудренно уперев глаза в пол, старательно разглядывая носы обуви. Впрочем, изредка жарко, исподлобья взглядывали на сцену.
Леонид Фёдорович разрядил обстановку. Прочитал «соколикам» десяток стихов: зажигательных, подбадривающих, с добрым юморком. Военных, с горчинкой. Лирических: о босоногом детстве, любви к родным берёзкам, к матери, к женщине…
У каждого свой дом, А в нём – очаг. Мой дом – в твоих, любимая, очах. Ресницы – вместо стен, А крышей – синь…Через два часа мы возвращались в обратном порядке. На контроле послушно поворачивались, как ваньки-встаньки, растопыривали руки, задирали подошвы туфель. Снова нас сопровождали лупоглазые голубые прожекторы, пристальные глазки видеокамер, лязг толстых железных дверей и густой басистый лай овчарок. Вышли за высокую и толстую кирпичную изгородь. И кто-то сказал с наслаждением:
– Вы чувствуете? Чувствуете?! Ах, какой необыкновенный, сладкий…
– Да что сладкий?
– Воздух свободы!
Хотя воздух в тюремном дворике и на улице, где бегут машины и торопятся прохожие, по химическому составу ну совершенно одинаковый.
А из изолятора нам потом позвонили и передали убедительную просьбу хозотрядовцев. Выступление им так понравилось, что они ещё хотели бы с нами встретиться. Недавно я шла мимо ворот тюрьмы. Там махала мётлами группка мужчин в чёрных телогрейках.
Один парень отскочил, давая дорогу, молодцевато вытянулся во фрунт и шутливо откозырял.
– Здравствуйте! А вы у нас вечер проводили!
И, хоть получил втык от конвойного («Р-разговорчики!») – весь светился, будто родного человечка встретил.
Когда я обговаривала детали нашего выступления в женской ИК общего режима, на глазах незаметно превращалась в старуху из «Золотой рыбки».
Сначала заверила, что встреча не потребует от работников колонии никаких специальных приготовлений. Потом выяснилось, что мне нужен ноутбук с хорошими колонками. Потом – что никак не обойтись без проектора и большого экрана для показа видеоролика. Потом понадобился специалист, который бы всей этой техникой руководил. Потом я запросила зал просторнее, чтобы была акустика. Потом, раз помещение большое, – микрофоны для выступающих…
– Будут вам микрофоны, – заверили меня. – Только не волнуйтесь: у нас во время таких мероприятий муха пролетит – слышно бывает. Недавно бурановские бабушки выступали…
Мы приехали весёлым июньским днём. Ослепительное солнце, лёгкие облачка, пронзительно-синее небо. Сквозь колючую проволоку зеленеет короткая травка.
Жизнь здесь бедна событиями и зрелищами, и колонистки высыпали на огороженную территорию целыми отрядами. Переговариваются, подталкивают друг друга локтями. Любопытно тянут шеи и закрываются ладошками от солнца. Беленькие платочки, голые, женственно-розовые ноги в ботинках на беленький же носочек. Довольно стильные, подогнанные по фигуркам халатики в клеточку, похожие на удлинённые мужские рубашки.
Нам приветливо машут и с нами здороваются. Здесь отбывают срок женщины из разных концов страны.
А вокруг раскинулись живописные просторы.
– Есть ли у колонии своё подсобное хозяйство? – интересуюсь я рачительно, как сельская уроженка. – Огороды, теплицы, фермы?
Про себя рассуждаю: здорово же: сади цветы, овощи, зелень. Разводи коров, кроликов, кур. От работы на тёплой земле, с доверчивыми ласковыми животными – разомнутся руки, оттают сердца, отогреются души… На столах появятся свои мясо, молоко, яички. А излишки можно продавать – на эти деньги обустраивать быт колонии…
Снова вспоминаю Макаренко: у него колонисты так ухайдокивались на полях и в мастерских – не то, что безобразничать и играть в тюремные иерархии – еле до постели добирались.
Выяснилось: земли вокруг колонии – муниципальные. Хоть и зарастают бурьяном – трогать не моги. Послушайте, как же это всё ужасно не продумано!
У меня дома хранятся давнишние подарки из колоний. Крошечные глянцевые записные книжечки. Букет из переплетённых цветной электропроводкой шариковых ручек: на кончиках пружинятся крученые искусные ромашки, розочки, колокольчики. На стене висит тяжёлое панно: в толстом стекле спит как живая рябиновая кисть. Поблёкшие, тронутые желтизной резные листья, кое-где ягодки пожухли…
Лишь при тщательном рассмотрении видно, что ягоды, веточки и листья не настоящие: сделаны из пластилина. И видно, с какой любовью, с жадной тоской трудились истосковавшиеся руки, что душа в эти безделушки вложена…
«Люди эти… запирались в тюрьмы, этапы, каторги, где и содержались месяцами и годами в полной праздности, материальной обеспеченности и в удалении от природы, семьи, труда, то есть вне условий естественной и нравственной жизни человеческой…
Насильственно соединялись с развратниками, убийцами и злодеями, которые действовали, как закваска на тесто, на всех ещё не вполне развращённых людей».
Более ста лет прошло с написания толстовского «Воскресения» – ничего не изменилось.
Собрались в столовой. И сразу бросилась в глаза разница между мужской и женской зоной. Между мужчинами и женщинами. Женщины более строптивы, непосредственны, независимы и вообще себе на уме.
Они демонстративно пофыркивают на замечания или добродушно не замечают их. Даже на зоне кокетливо чувствуют свою женскую исключительность и пользуются ею, как охранной грамотой (попробовали бы так мужчины).
Если мужчины даже во время самых смешных сцен считают ниже своего достоинства усмехнуться, дёрнуть уголком губ – у женщин все эмоции наружу. Покатываются, хохочут до слёз, как дети. Восторженно топочут ногами, аплодируя, вскидывают вверх руки и раскачиваются, как деревца на ветру… Когда Смелков читал:
Если хочешь женщину понять, Сыном любящим взгляни на мать. На жену и дочь, коль есть они, Мужем верным и отцом взгляни… Среди бела дня или ночИ Не спеши судьёй быть – помолчи. Помолчи, хоть не привык молчать, Если хочешь женщину понять,– зал дружно промокал покрасневшие глаза концами платков, всхлипывал и шмыгал носами.
За стеклянной дверью томился охранник: щуплый, с азиатским жёлтым личиком. Ему там ничего не было слышно, и паренёк скучал. Подпирая косяк спиной, переминаясь, он поскользнулся, потерял равновесие и с шумом съехал на пол, а кепка – на нос. В ту же секунду грохнул такой искренний женский хохот – стены задрожали. Видно, паренёк этот был давним предметом шуток и подтруниваний. Строгие глаза охранниц и призывы к тишине мало действовали. И снова я подумала: на мужской зоне такое трудно представить…
Одна полненькая, смешливая, добродушная женщина особенно энергично махала руками. Аплодировала артистам громче всех, звонко хохотала, вскакивала и посылала воздушные поцелуи, так что её урезонивали охранницы. Жизнь из неё била ключом. Лицо такое славное, круглое, простое, крестьянское.
И срок небольшой, и статья не тяжёлая. Часть 1, статья 109 УК РФ: причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения… На Пасху затопила печь, заперла избу и ушла к подружке праздновать. Из печки выскочил уголёк. Пятеро детей: от двух месяцев до девяти лет – сгорели заживо.
Некоторые рассказы складываются из деталей, как кубики «лего». Вот и я хотела собрать впечатления-кубики и объединить их сюжетом. Скажем, завязка такова: когда я прохожу близко от заключённых, к моим ногам незаметно от охраны падает бумажный шарик. Я сообщнически наступаю ногой, поднимаю, разворачиваю. Записка.
И сразу взглядом нахожу автора: огромные страдающие, умоляющие глаза: не выдайте! Что будет в той записке, как развернутся события дальше – дело времени и фантазии.
Скажете, избито, банально, надумано, так в жизни не бывает? Через две недели звонят из редакции: «Тебя настойчиво разыскивает мужчина, читатель. Можно дать твой номер?» – «Ну, пожалуй…» – отвечаю я, утомлённо вздыхая. Вроде, достали уже поклонники моего творчества.
В трубке приятный уверенный баритон. Неторопливая, грамотная, убедительная речь. Каждое слово взвешено и тщательно продумано. Видно, что мой телефонный визави основательно подготовился к разговору.
Вначале пара дежурных комплиментов (меня читают, мои творения нравятся). Потом вкратце о посещении женской ИК (самые уважительные отзывы). В той колонии находится знакомая моего собеседника. Круглая сирота.
Очень, очень нелёгкая судьба. А сама удивительно лёгкий, светлый человечек. Таких называют «солнечными». Не в смысле Даун, а что от таких исходит солнечное тепло. Споткнулась, бывает. Кто без греха, бросьте в неё… Да, отбывает срок, статья тяжёлая. Нет, к сожалению, её не было тогда среди зрительниц: приболела.
Она вообще часто болеющая. Такая нежная, хрупкая, миниатюрная. Росточек 150 сантиметров, много ли ей надо. Дюймовочка. Климат суровый, северный. Так получилось, атмосфера вокруг сложилась тяжёлая… Она не выживет в таких условиях.
От меня требуется самая малость: выйти на начальника колонии (очень отзывчивый понимающий человек) и попросить о переводе Дюймовочки в южную область. Приходской батюшка (добрый, славный человек) в курсе этой истории и всячески поддерживает…
А после позвонить и сообщить о результатах переговоров… Но уже во время разговора я дала понять, что результатов не будет, просто не может быть.
Как мой собеседник себе это представляет? Начальник берёт трубку и выслушивает от незнакомого человека – то есть меня, что вот на днях я выступала у них в колонии и прошу за одну заключённую. Я её в глаза не видела, но из совершенно точных источников и интуитивным чутьём знаю, что она исключительно честный, вставший на путь исправления человек. На основании чего прошу перевести в южную колонию. Начальник колонии, бросая трубку и путаясь в телефонном проводе, кидается исполнять мою просьбу… Детский сад какой-то.
То есть, тридцать с хвостиком лет назад, будучи глупой восторженной девчонкой, я действительно кидалась очертя головы: кого-то спасать, кого-то топить. Расставляла акценты, решала кто прав, кто виноват, возомнив себя господом Богом с диктофоном и шариковой ручкой наперевес.
Потом выяснялось, что топила тех, кого надо спасать, а спасала тех, кого надо топить. Вернее, топить вообще никого никогда не надо.
Со временем, чем больше писала на криминальные темы, тем больше убеждалась в народной мудрости: «Не та боль, что кричит – а та, что молчит». Молчали жертвы – потому что были мертвы. Молчали их родные, потому что – не вернёшь…
И снова и снова поражалась поразительному сходству преступников с маленькими детьми. Сломают игрушку, с любопытством оторвут у куклы голову, руки и ноги: а что будет? Как маленьким детям, им не свойственно СОпереживание, СОчувствие. Им не понять: жертва испытывает такие же ужас, отчаяние и боль.
Они любят только себя и до седых волос верят в чудо, в рождественскую сказку. В Деда Мороза, который прилетит в голубом вертолёте и вытащит из мешка подарок. Например, внезапный оправдательный приговор. Или чудесное освобождение по УДО.
А то, что замученные и убитые жертвы уже не встанут из могил – так батюшка отпустил грехи и утешил, и свечки в приходском храме поставлены. И пущена слеза: не потому что жалко убиенную жизнь, а из-за минутного сентиментального порыва. Вы думаете, отчего так надрывен тюремный шансон?
Вот песня про дом – её самозабвенно распевает в застолье, в караоке вся страна. Из динамиков проникновенно плывёт, плещется, тоскует бархатный голос героя. У него, дело понятное, «пока ни кола, ни двора и ни сада». А хочется и двор, и сад, и нехилый домишко в Подмосковье с прудом, лебедями и звёздами.
Надо всего-то: угадать пять номеров из шести. Сама понимаешь, милая, «мало шансов у нас. Но мужик барабанщик, что кидает шары, управляя лото, мне сказал номера, если он не обманщик, на которые нам выпадет дом».
Выпадет, ясно? Дома у нас с неба падают – а вы как думали? Что их покупают на заработанные деньги или строят своими руками? Х-эх, лошары!
Да чего там. Многие, не только за решёткой, верят в халяву, в чудо, в Деда Мороза. В Золотую рыбку и щучье веление, в Гордона и Малахова, в ежегодную прямую линию с Президентом. В кого и чего угодно – только не в себя самого.
Главное, чтоб свезло. Чтобы мужик, падла, кинул нужный шар, как договаривались, по понятиям. И тогда тебе подарят квартиру, сделают операцию, ввинтят лампочку, оплатят билет в оба конца, протестируют на ДНК, депутат лично возьмёт под свой контроль…
Кому страстно, до боли хочется помочь – так это невинно осуждённым. Один Бог да родственники несчастных знают, сколько их сегодня за решёткой. Но явно немало, учитывая систему раскрытия преступлений. Чем стремительнее отрапортуют сыщики о поимке и чистосердечном признании – тем статистика лучше и звёздочка крупнее, и премия больше. Отсюда преступления с явно серийным почерком раскрываются чудесным, фантастическим образом в кратчайшие сроки. Шерлок Холмс, Пуаро и мисс Марпл отдыхают. Только вот преступлений меньше не становится.
Вот в какие дебри размышлений завела меня жизнь. А ведь чуть было не получился выдуманный рассказ: хорошенький, аккуратный такой, гладенький. Как кубик «лего».
Да, а замкнуть «железное кольцо» в пригороде Я. у нас не получилось. В мужской колонии разобран клуб, обещают сделать после Нового года. Вот тогда, сказали, и приезжайте, ждём…




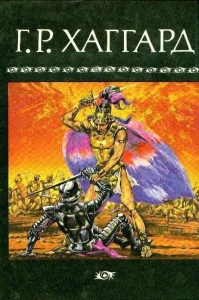


![Драгоценности Парижа [СИ]](https://www.4italka.su/images/articles/548344/primary-medium.jpg)
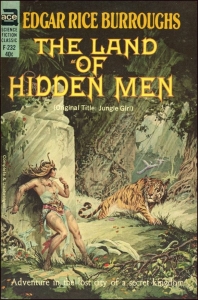
Комментарии к книге «Женщина нелёгкой судьбы, лёгкого поведения», Надежда Георгиевна Нелидова
Всего 0 комментариев