ПРИКЛЮЧЕНИЯ 1978
ПОВЕСТИ
Сергей НАУМОВ На расстоянии крика
С аэродрома, где приземлился Ли-2, его повезли на новеньком «виллисе». Молчаливый подтянутый капитан коротко козырнул и вежливо распахнул заднюю дверцу.
По сторонам бежали взбухшие, сбросившие снег поля, кое-где на речках синел еще ледок, отступивший от берегов, но уже чувствовалось: еще день-два, и хлынет тепло, сорвутся первые дожди, пробьется трава.
Майор Андрей Долгинцов смотрел на черный, слившийся с землей лес на горизонте и чувствовал, как все, что он видел, вдруг стало близким, волнующим. Подумать только — четыре года назад он воевал здесь, в морозные ноябрьские ночи сорок первого уходил за «языками» в немецкий тыл, так ни разу и не побывав в Москве.
И вот теперь, когда война идет к победному концу, внезапный вызов в столицу.
«Виллис» остановился у приземистого, незаметного серого здания. Капитан провел его мимо часовых, предъявив удостоверение. Они поднялись на второй этаж и вошли в просторную комнату, где за столом сидел человек в форме старшего лейтенанта.
— Садитесь, — предложил старший лейтенант, — генерал освободится через несколько минут.
Генерал вопреки ожиданиям Андрея оказался довольно молодым человеком с веселыми живыми глазами. Мундир сидел на нем ладно, а тройная планка орденских лент выдавала в нем человека бывалого и заслуженного. Он поднялся из-за стола, пожал Андрею руку и кивнул на кресло.
— Сколько времени вы служили в армейской разведке, Андрей Степанович?
— Два года три месяца, товарищ генерал.
— Переведены к нам в сентябре сорок четвертого…
— Так точно.
— Я помню две операции, в которых вы участвовали… Они прошли успешно. Тогда вы работали под кличкой «Седой»?
— Так точно.
— Говорят, вы удачливы?
— Всякое бывало.
Долгинцов усмехнулся.
— А все же?..
— Удачлив, товарищ генерал.
— Разряд по альпинизму…
— Кандидат в мастера.
— Историю Германии изучали?
— В пределах училища и еще немного сверх того.
— Понимаю, — генерал улыбнулся, — придется внимательно прочитать вот эти книги…
Он пододвинул Долгинцову список.
— Немецкий знаете в пределах училища или сверх того?
— Немецкий знаю, товарищ генерал.
— Это мы проверим, — весело сказал генерал, — я вам сейчас скажу в рифму по-немецки, а вы попробуйте определить, в какой части Германии я родился и жил.
Генерал откинул голову и, полузакрыв глаза, прочитал наизусть:
Ты знаешь безжалостный Дантов ад, Звенящие гневом терцины! Того, кто поэтом на казнь обречен, И бог не спасет от пучины.— Рейнланд-Пфальц, южные области, товарищ генерал. А строфа из Гейне… «Зимняя сказка».
Генерал, не скрывая удивления, внимательно взглянул на разведчика.
— Похвально… майор. Весьма похвально… Откуда такое знание диалекта?
— Приходилось допрашивать разных немцев… Подмечал нюансы в произношении.
Генерал задумчиво повертел в руках карандаш.
— О качествах разведчика много написано, еще больше говорится в официальных и частных беседах. А разведка — это тысячи мелочей, которые нужно помнить. Развитый интеллект, эрудиция, быстрота мышления… Вы должны знать правду. Выбор пал на вас по многим причинам.
— Готов выполнить задание, — Андрей привстал.
Генерал коротко кивнул:
— Тогда к делу. В боях за Шрайберсдорф нашими разведчиками захвачен тяжелораненый гауптман Удо фон Плаффен. При обыске обнаружен испанский паспорт и рекомендательное письмо к Кальтенбруннеру. Письмо содержит просьбу переправить Удо в Швейцарию. Заботливый папаша, генерал СС, просит своего старого приятеля Эрнста Кальтенбруннера об одолжении. Генерал СС Дитрих фон Плаффен погиб во время налета американской авиации на Нюрнберг. Других близких родственников у гауптмана нет. Вы одного возраста с Удо, похожи лицом, фигурой, сединой. Удо рожден на земле Рейнланд-Пфальц…
— Понимаю, — сказал Долгинцов.
— Вы пойдете на связь с нашим человеком в Австрии и останетесь там для выполнения особо важного задания.
Генерал встал, подошел к зашторенной стене и открыл большую крупномасштабную карту.
— Покажите все населенные пункты в Австрийских Альпах, где вы бывали с альпинистской группой в 1938 году…
Седой взглянул на карту и сразу вспомнил последнее свое восхождение.
Австрийцы пригласили группу советских студентов-альпинистов штурмовать трехтысячник в районе Гроссглокнер. Это был своеобразный обмен. Четверо австрийцев в то же время совершали восхождение на Ушбу. Трехтысячник они тогда взяли легко, играючи. После Тянь-Шаня и Памира Альпы показались горушками.
— Филлах, — сказал Седой, — небольшой курортный городок.
Андрей переместил указку чуть ниже.
— Штирия… Австрийцы зовут ее Грюне Марк — «Зеленый край». Город Клагенфурт, по населению и площади больше, чем Филлах, но менее экзотичен. Здесь наша группа жила целые сутки… Бад-Аусзее, горный курорт… озеро, кирха, прогулка на катере… лебеди, ночной ресторан.
— Запомнил, — улыбнулся глазами генерал.
— Мы там праздновали восхождение… Мозельвейн из подвалов господина Фишбаха.
— Достаточно, Андрей Степанович. Бад-Аусзее — ваша цель. Подробности и вся подготовка к операции в разведотделе штаба фронта. Сожалею, что не могу показать вам Удо фон Плаффена. Гауптман пока еще в тяжелом состоянии. Вояка он бывалый — Франция, Греция, Африка и наша Белоруссия… Дважды был ранен. Впрочем, это все есть в досье. Нам удалось все же поговорить с ним. Испанский паспорт используйте только в крайнем случае. Гестаповцы не очень жалуют дезертиров даже в перспективе. И помните: несмотря на близость поражения, в Германии наблюдается повышенное чинопочитание. Парадоксально, но это так. И не выпячивайте приставку «фон». Сейчас она непопулярна. Будьте внимательны к мелочам… В Москве пробудете трое суток. На аэродром вас проводят. Желаю успеха и… удачи, товарищ майор, удачи…
* * *
Говоривший подполковник сильно щурился и сверлил Седого глазами-буравчиками, словно на допросе. Холодный, равнодушный голос раздражал Андрея.
— У нас мало времени на детальную разработку операции. Вы разведчик с опытом и хорошей интуицией, бывали в горах, выбрасывались с парашютом, знаете в совершенстве немецкий. Наблюдательны, сообразительны…
Подполковник продолжал говорить, слегка раскачиваясь. И Седой подумал, что этот человек что-то убаюкивает в себе, может быть, постоянную боль.
— Австрия — ваша цель. Точнее, район Альпийской крепости, но не сам Редл-ципф. Аусзее… Альтаусзее… Монтзее. Изучите карту, хотя вы там и бывали. Пойдете от селения к селению, от озера к озеру. Самолет возьмет вас в Шрайберсдорфе, ночью проскользнете левее Граца… Впрочем, на карте обозначена точка выброски. Достигнете Аусзее и через нашего человека на явочной квартире передадите для Аякса письмо. С той же минуты поступаете в распоряжение Аякса. Нашего человека зовут Австриец… Пароль — «Я привез вам посылку от Анны». Отзыв — «Давно жду. Благодарю».
«А ведь он похож на немца», — подумал Седой, разглядывая асимметричное, худощавое лицо подполковника, — типичный пруссак, играющий роль русского. И не исключено, что бывал «там».
Подполковник почувствовал, что его разглядывают, остро и холодно взглянул на Седого.
— Вам придется столкнуться с людьми Кальтенбруннера. Альпы сейчас — его компетенция. Каждый новый человек под подозрением и слежкой. От вас не требуется особой конспирации. Нужно прежде всего стать немецким офицером с солидным рекомендательным письмом к весьма влиятельному в рейхе человеку, то есть к самому Кальтенбруннеру, и жить жизнью такого офицера. Характер и склонности вашего визави? Лучше, если он не будет служакой. Вы третий человек, идущий на связь с Аяксом. Два месяца, как замолкла рация. Многое нам неясно. Возможен провал в Аусзее, не исключено, что квартира под наблюдением и Австриец засвечен. А теперь привыкайте. К этой вот вещице.
Подполковник достал из кармана изящную коробочку, отделанную сафьяном. Усмехнувшись, раскрыл ее. Свет настольной лампы, преломившись в гранях камня, вспыхнул нестерпимым ярким всплеском.
— В перстне настоящий бриллиант, сорок восемь каратов, фамильная драгоценность фон Плаффенов — монограмма на платиновой основе перстня. Бриллиант известен в Германии и за рубежом, так что будете носить на пальце целое состояние, я бы сказал, танковую бригаду.
Седой взглянул подполковнику прямо в глаза. Тот спокойно выдержал взгляд.
— Оставить монограмму и вставить фальшивый бриллиант? Нет. То, что должны сделать Аякс и вы, стоит много больше. Ваш перстень должен поражать воображение и по возможности открывать вам двери и… людей. Ну а самое главное — камень прикроет вас. У человека с таким состоянием есть веская причина оказаться в предгорьях Альп и, может быть, совершить прогулку к швейцарской границе.
— Я должен передать рекомендательное письмо в канцелярию Кальтенбруннера? — спросил Седой, рассматривая бриллиант.
— Да. Чтобы не вызвать подозрений. Для окружающих вы человек, жаждущий аудиенции у одного из влиятельных людей рейха.
— Ну а если…
— «Если» не будет. Кальтенбруннер не принимает никого, он готовится к встрече Гитлера. Да, майор, недалеко от Альтаусзее подготовлена посадочная площадка для личного самолета фюрера, который должен взлететь с одной из площадей осажденного Берлина. Вот только взлетит ли? Но Кальтенбруннер ждет… Его резиденция в Альтаусзее, вас туда просто не пустят. На этом и строится наш расчет. Вам известно, что письмо настоящее. Изъято у раненого гауптмана Удо фон Плаффена. Перстень тоже. Шанс встретить в Аусзее человека, знавшего Удо, невелик. Гауптман — офицер вермахта, в Австрийских Альпах дислоцированы дивизии «Эдельвейс». Теперь о сути задания. В районе Альтаусзее находятся копи, где в глубоких шахтах гитлеровцы захоронили сокровища «третьего рейха». Ясно, что при приближении американских войск шахты будут взорваны. Нам известно также, что доверенное лицо Кальтенбруннера в определенный день двинется через горы в Северную Италию и оттуда в Швейцарию. Он понесет главный капитал Кальтена — микропленку с данными об агентуре, оставленной секретными службами в странах Восточной Европы. Мы не думаем, что Эрнст Кальтенбруннер хочет купить у американцев жизнь этой микропленкой. Скорей всего он надеется, что агентура пригодится нацистскому подполью. Человек Кальтена сильный, выносливый, в прошлом альпинист и горнолыжник. На границе с Швейцарией у немцев есть «окно». Агента наверняка будут встречать на итальянской стороне или раньше, у перевала. Уверен, если вам удастся войти в контакт с Аяксом, узнаете больше и в подробностях… Два месяца молчит рация…
— Разрешите вопрос, товарищ подполковник? — Седой достал пачку «Казбека», взглядом спрашивая разрешения закурить.
— Курите. И пусть это будет последняя пачка. Удо фон Плаффен не курил. Это из показаний пленных… Ваш вопрос… Его нетрудно предугадать. Что делать, если… Если не войдете в контакт с Аяксом, действуйте по своему усмотрению. Альпийская крепость — не последнее логово для нацистов. Альпы открывают дорогу в Швейцарию и Северную Италию. Люди Кальтена и Мюллера пока еще носят форму и находятся на службе, но настанет час, и они побегут, но побегут организованно, группами. Возможно, с одной из таких групп пойдет и человек Кальтена. Ему нужно будет прикрытие. Вам нельзя ошибиться в выборе группы. В горах же… не мне вам объяснять, как берут «языка». Конечный же результат — микропленка.
Подполковник поморщился и прикрыл глаза. В свете, падающем от настольной лампы, Седой видел, как заострились скулы на лице собеседника, как плотно сжались губы. Холодный, безразличный тон, выдержанный подполковником до этой вот минуты, помогал ему держаться, сохранять ясность мысли. Этот человек не вылежал в госпитале и сейчас страдал от постоянной глубокой боли. Седой знал таких людей, да он и сам был из той же породы. Седой достал из заднего кармана брюк плоскую трофейную фляжку, плеснул коричневатую искрящуюся жидкость в стакан и негромко сказал:
— Выпейте… товарищ подполковник.
Разжались губы, дрогнули веки, подполковник открыл глаза, несколько мгновений смотрел на Седого, словно не узнавая, затем увидел стакан, неуверенно потянулся к нему; боясь уронить, взял стакан обеими руками, отпил глоток, спросил:
— Откуда… «Мартель»?
— Трофей. Разведчики подарили по старому знакомству, — усмехнулся Седой, — выпейте, помогает — по себе знаю.
— Сколько дырок в тебе, майор?
— Восемь…
— А мне говорили — три…
— Устаревшие сведения.
Подполковник допил коньяк залпом, стукнул стаканом о стол.
— Монолог с лирическим отступлением, — буркнул он и посмотрел на часы. — В письме содержится просьба легализовать Удо за границей. Испанский паспорт указывает адрес. Старик заботился о судьбе сына, и это понятно. Удо твоего возраста и немного похож. Все, майор. Подробности, карту, письмо и фотографию Австрийца — в канцелярии. У тебя впереди ночь…
— И еще два дня…
— Да. И два дня. Не забывай о портном. Форма должна сидеть ладно. Ты все-таки аристократ. И еще вот что…
Подполковник ссутулился, погасил настольную лампу, лицо его сразу стало странно неподвижным, отчужденным.
— Может случиться так, что квартира в Аусзее провалена. Тогда обрати внимание на цветы, особенно в кафе на столиках. Увидишь фиалки, изыщи возможность сесть за этот столик. Я уверен, тебя «прочитают», если фиалки на столе не случайность. Это старый резервный пароль. Сейчас весна, и в предгорьях Альп много фиалок. Чтобы тебя «прочитали», нужно попросить официанта заменить цветы на свежие, потом самое трудное — ждать. И быть внимательным к мелочам. Аякс будет проверять тебя.
Подполковник тяжело поднялся из-за стола, остро и, как показалось Седому, насмешливо взглянул на разведчика.
— Я не имею права сказать тебе — береги себя. Войне конец. Самое большее через месяц. Не торопись… даже если все будет складываться нормально… Не торопись. Ну… Сухов моя фамилия…
Он вышел из-за стола, приволакивая правую ногу, протянул Седому тонкую бледную руку. Рукопожатие неожиданно оказалось цепким и сильным.
* * *
Он три часа ехал автобусом, потом два часа шел пешком через незнакомый глухой лес, пока не вышел на узкий проселок, вымощенный гранитом. Проселок должен был привести его в Аусзее. Следовало опасаться магистралей, где проверка документов, как сито, через каждые десять километров.
Ночной прыжок был удачным. Седой приземлился на большой поляне, закопал парашют, сориентировался по карте, добрался до шоссе и затаился до утра в кустарнике. Автобусная остановка оказалась неподалеку, и первым автобусом капитан вермахта Удо фон Плаффен уже ехал к Альпам, пряча глаза за темными стеклами очков: весеннее солнце заливало салон.
Он не доехал до полосатого шлагбаума, где начиналась «зона», двух остановок, вышел из автобуса и свернул в лес. Седой не сомневался в подлинности своих документов. Ему хотелось как можно позже попасть под наблюдение; привозить за собой хвост в Аусзее он считал преждевременным. Появившись в городке без соглядатая, он мог несколько часов оставаться «безнадзорным» и попытаться за это время проверить Австрийца.
Проселок точно вывел разведчика к озеру, возле которого разбросал свои черепичные крыши небольшой курортный городок, весь утопающий в весенней кипени садов.
Швейцар местной гостиницы, получив от Седого щедрые чаевые, вернул ему уже заполненный бланк.
— Не рекомендую останавливаться у нас, — быстро сказал он, — тесно, отдельных номеров нет. И шумно — внизу ночной ресторан. Я дам вам адрес.
Он усмехнулся:
— Пансионат фрау Хольценбайн. Роскошные комнаты, теплая вода, австрийская кухня и тишина. Дорого…
Седой кивнул. И швейцар написал короткую записку на обратной стороне уже заполненного бланка.
Здесь, в гостинице, Седой впервые почувствовал силу фамильного бриллианта. Швейцар не сводил глаз с перстня. Козырнув, разведчик вышел на улицу. Прежде чем идти в пансионат — адрес был написан все на том же бланке, — Седой решил осмотреть городок и увидеть Австрийца. У него и в мыслях не было заходить в маленький домик на окраине, он просто хотел убедиться, что домик существует.
Австриец имел обыкновение прогуливаться с палевым догом между двенадцатью и часом дня. В распоряжении Седого оставалось чуть больше часа. И он решил пройтись по улице, кружащей вдоль озера.
Шла война. Здесь же время словно остановилось. На аллее у озера прогуливались изысканно одетые пары, бродили подтянутые бодрые старички в смокингах и тирольских шляпах с пером, продавались цветы. А по озеру плавал маленький прогулочный катер, лавируя среди многочисленных белых лебедей, бог весть когда завезенных сюда.
С гор налетал ветерок, пахнущий свежевыпавшим снегом. Военных на улице было мало — преимущественно офицеры из дивизии «Эдельвейс». И все же ему встретились два офицера вермахта. Высокий нескладный майор-пехотинец шел, опираясь на тяжелую палку. Рядом с ним вышагивал плотный широкоплечий человек в форме саперных войск, лицо которого было укутано бинтами,
«Здесь неподалеку должен быть госпиталь, — вспомнил Седой. — Ну да, американцы уже бомбят Альпы, не сегодня-завтра подойдут к Зальцбургу».
Белый домик под черепичной красной крышей равнодушно смотрел на безлюдную улочку закрытыми окнами. Седой, не останавливаясь, прошел мимо, свернул в переулок и поднялся по вырубленной в скале лестничке наверх, откуда открывался красивый вид на озеро и прилегающие к нему склоны гор. Улочка с домиком Австрийца хорошо просматривалась с площадки, которой закапчивалась лестница. Седой присел на ступеньку и достал маленький полевой бинокль. Он был один — с правой стороны его закрывала скала, слева — высокие каменные перила, похожие на парапет.
Палевый дог появился в калитке ровно в двенадцать. Эта точность насторожила разведчика. В стеклах бинокля промелькнуло сухое тонкое лицо с орлиным носом и длинными седыми баками. Это был он — Австриец. Долгинцов проводил его взглядом до конца улочки и спрятал бинокль в карман мундира. Седому не понравилась походка человека, вышедшего на прогулку. В ней явственно читалась напряженность; и вздернутые плечи, и спина, словно ждущая удара,
«Черт его знает, — думал Седой, — может, мне все это кажется. Настроил себя — Австриец засвечен, а он вот гуляет в положенное время, ждет».
И все же двое не вернулись. Но ведь могло случиться, что они завязли в густой паутине проверок еще на подступах к Аусзее.
Австриец жил один. Значит, домик сейчас пуст. Седого подстегивало время, и он решился. Спустившись по лестнице, он зашагал к домику, твердо решив снять комнату напротив, как вдруг обнаружил: дома, стоявшие на другой стороне улочки, были отгорожены от внешнего мира глухими жалюзи. Разгорался весенний день. Дома же беззвучно взирали на Седого слепыми окнами. Он шел словно по выжженной зоне.
«Они ждут третьего, то есть меня. — Мысли смешались, понеслись вразброд, как вспугнутые взрывом лошади. — Я иду по улочке второй раз — это наведет их на мысль, что я тут неспроста. Двое наших не вернулись… Отсюда… У Австрийца спина, ждущая удара. Так ходят обреченные… Значит, связи с Аяксом не будет…»
Первые удачи с приземлением и прибытием в Аусзее без препятствий показались Седому зыбкими и ничтожными.
Он шел легкой небрежной походкой, насвистывая забытую опереточную мелодию, и поглядывал в конец улочки, где должна была возникнуть фигура Австрийца с палевым догом. Седому хотелось увидеть его лицо.
Австриец стоял на набережной и кормил лебедей. Отламывая от венской булки кусочки, он бросал их в воду и без всякого интереса смотрел, как птицы лениво заглатывали хлеб. Дог стоял рядом и был похож на изваяние.
Лицо Австрийца, тонкое и бледное, с большими голубыми глазами, казалось изнуренным и печальным. Он оглянулся всего один раз, когда за спиной, громко разговаривая, прошли два офицера с серебряными эдельвейсами на беретах.
Седой успел заметить легкую усмешку, скользнувшую во взгляде человека с палевым догом.
Пансионат фрау Хольценбайн Седой разыскал довольно быстро. Его встретила дородная женщина в черном платье с глухим воротом, молча прочла записку швейцара, внимательно прочла обратную сторону, где в графе «цель приезда» значилось — «Аудиенция у Кальтенбруннера», — поджала губы, мельком, но с интересом взглянула и слегка кивнула головой, соглашаясь принять постояльца.
Седому отвели большую комнату с балконом на втором этаже. Из окна были видны горы, внизу на клумбе начинали цвести какие-то ранние цветы.
Плата за пребывание в пансионате фрау Хольценбайн была фантастически высокой даже для этого райского уголка. Хозяйка сдержанно намекнула, что можно рассчитываться не только марками. Седой пожал плечами и отсчитал марки из той пачки, что получил в канцелярии штаба.
Он поднялся к себе и вышел на балкон. На горизонте, там, где долина врезалась в межгорье, виднелись зубчатые синие леса. С востока к дому подступали высокие прямоствольные сосны и вековые грабы. Теплое золотистое сияние стволов медленно переходило в смуглую матовость. И среди них молочно белели березы, но графика их была резче, кроны не светились, а спокойно и мягко зеленели. Синева неба уже не звенела, как утром, не сияла, а светила ровно и глубоко.
«Откуда здесь березы?» — подумал Андрей.
В сердце заполз холодок грусти.
«Майнлибер Андрей, ты совсем раскис. Ты полагал, все сложится, как домик из цветных кубиков. Ты забыл, кем нафарширован этот фешенебельный курорт. Ищейки и асы СД, люди гестапо, начинавшие службу еще в Испании. Они хотят, чтобы в последнем их редуте не было никого постороннего. Здесь планируется фашистское подполье, его будущее».
Андрей снял мундир, прилег на диван. До обеда оставалось два часа — хозяйка просила не опаздывать. Ночь, проведенная без сна, и так неудачно начавшийся день навалились неимоверной усталостью.
«Покурить бы сейчас», — подумал Седой. Он вспомнил свою последнюю «прогулку» по немецким тылам — это было на территории Литвы — и старика литовца на заброшенном хуторе, куда он с группой набрел после долгого скитания по лесам. Они оторвались от преследования, но усталость и голод мучили разведчиков. Ребята уснули прямо на полу, едва переступив порог дома. Он же просидел всю ночь со стариком, положив трофейный «шмайсер» на колени. Бутылка самогона, которую литовец поставил перед ним, была самым страшным искушением. Он знал, как снимает нервное напряжение стакан этого мутного зелья, но он не мог знать, на чьей стороне воюет сын хуторянина, чей портрет красовался на стене. Чтобы не уснуть, он стал чистить оружие своих товарищей, не разрешив старику выходить из дома. Они молчали всю ночь, как могут молчать только враги.
…Ровно в два Седой спустился в столовую и увидел там троих мужчин, одетых в штатское. Разведчик щелкнул каблуками, сдержанно представился. Высокий худощавый человек с черточкой усов под длинным толстым носом дружелюбно протянул ему руку:
— Майор Ганс Хольц.
С кресла в углу поднялся крепыш в очках с красивым, чуть надменным лицом. Коротко кивнул:
— Подполковник Зигфрид фон Рорбах…
Третий, широкоскулый толстяк в пестром костюме, остро взглянул на Андрея исподлобья, нехотя буркнул:
— Гауптштурмфюрер Каргер.
— Садитесь, капитан, вон там, с краю, — пригласил подполковник, — здесь у каждого свое место.
Фрау Хольценбайн сама прислуживала за столом, ей помогала совсем юная девушка, представленная хозяйкой как Габриэлла.
Обедали молча. Окончив трапезу, немцы закурили — двое сигареты, Рорбах — толстую сигару.
— Не курите, капитан? — удивился Хольц.
— Не случилось привыкнуть, — усмехнулся Седой.
— Давно с фронта? — спросил Хольц.
— Четвертые сутки… Шрайберсдорф…
— Сюда на отдых или дела?
Хольц откровенно рассматривал разведчика.
— Дела. Аудиенция у Кальтенбруннера.
Каргер удивленно вытаращился на Седого.
— Что делаете вечером? — прервал паузу Рорбах.
— Не знаю, — пожал плечами разведчик, — осмотрю город, буду читать… отдыхать.
— Что читать? — улыбнулся Рорбах.
— Библию, с вашего позволения, — рассмеялся Седой.
Все улыбнулись.
— Наш долг пригласить вас, как новичка, в ночное заведение господина Фишбаха, — сказал Хольц, — там собирается занятная публика. Кстати, у Фишбаха бывает Айгрубер.
— Я согласен, господа…
«Кто такой Айгрубер? — думал Седой. — Необходимо сегодня же узнать».
— У нас свой столик в ресторане, — Рорбах явно играл смущение, — нас всегда четверо, капитан не будет возражать, если к компании присоединится женщина?
— Напротив, господа. Думаю, что дама только украсит наше общество.
«Кто такой Айгрубер?» — мысль эта не давала сосредоточиться.
* * *
— Айгрубер — человек, которому вы можете вручить рекомендательное письмо. Он…
Фрау Хольценбайн поджала губы и строго взглянула на Седого. Во взгляде ее был упрек и недоверие — офицер вермахта, прибывший в Аусзее, должен знать хотя бы фамилию адъютанта Кальтенбруннера.
— Извините, фрау Кристина, значит, я знал однофамильца. Я воевал вместе с подполковником Куртом Айгрубером в Африке. Распространенная в Германии фамилия, не правда ли?
— Да, герр Плаффен, — все так же сурово вымолвила хозяйка.
«Вы болван, майнлибер Андрей, — ругал себя разведчик, листая библию, — не хватало еще обратиться в справочное бюро с просьбой собрать досье на матерого гестаповца. Пока каждый твой шаг — ошибка. Бинокль на лестнице, разглядывание Австрийца с расстояния пяти метров, мундир, который нельзя сменить на штатское, — на ужине ты будешь как пугало. И наконец, вопрос хозяйке пансионата, которая несет на себе бремя тайного и явного осведомителя. Следующий шаг может быть в пропасть…»
Седой думал о себе, как бы со стороны оценивая свои действия, посмеивался над холодком в груди.
Он думал о себе во втором лице, но всякий раз прогонял мысль о своей независимости в этом деле. В разведуправлении полагаются на его интуицию, но здесь нужен разумный совет человека, знающего обстановку, людей. Нужна связь с Аяксом.
Столик, за которым сидели Каргер, Рорбах и Хольц, стоял в глубине просторного помещения с низким сводчатым потолком. Седой облегченно вздохнул, приметив в ресторане несколько армейских мундиров.
— Извините за опоздание, господа. Габриэлла забыла разбудить меня.
— Мы уже сделали заказ, — подмигнул Хольц, — вам осталось занять место и ждать.
— Раньше здесь гасили электричество и зажигали свечи, — сказал Рорбах.
Седой скользнул взглядом по залу — калейдоскоп лиц, возбужденных, разгоряченных вином и едой, больше морщинистых и бледно-мертвенных в свете многочисленных бра.
Сквозь синеватый сигаретный дым мелькали люди, одетые в черные вечерние костюмы: черные галстуки выделялись на белых рубашках, матово вспыхивал жемчуг на холеных шеях женщин. Подобно теням, появлялись и исчезали бледноликие официанты с пустыми плоскими глазами.
— А вот и Лотта, — услышал Седой.
Хольц поправил галстук и звякнул вилкой, словно давал сигнал тревоги.
В проходе возникла хрупкая фигура женщины, затянутой в темный эсэсовский мундир. Ее ярко-рыжие пушистые волосы были забраны под изящную форменную пилотку. Женщина была красива той красотой, которую можно встретить на портретах моцартовских времен, — тонкий с горбинкой нос, маленький, чуть жестковатый рот и лицо с алебастрово-белой кожей.
Она коротко кивнула, задержала взгляд на Седом, и он вдруг почувствовал, как что-то в нем дрогнуло.
Рорбах представил Седого.
— Лотта Кестнер, — коротко прозвучало в ответ.
Принесли вино. Хольц налил всем. Лотта встала. Поднялись остальные. Стоя с фужером в руке, Андрей пытался угадать тост.
— За мужчин-солдат, — коротко произнесла эсэсовка.
Седой снова поймал ее немигающий, резкий взгляд и ответил легкой усмешкой.
Андрею показалось — в глазах Лотты просверкнула ответная, нет, даже не усмешка, а улыбка.
«Чертов боковой свет, он меняет даже выражение лица», — подумал разведчик.
Рорбах пригласил Лотту на танец. И здесь произошло неожиданное: один из тех, кто был в мундире, вдруг встал из-за стола и нетвердой походкой направился к танцующим. Он шел так, как ходят по канату. Подойдя совсем близко, он рванул Рорбаха за плечо.
— Она будет танцевать с офицером вермахта… — пробормотал пьяный.
Седой быстро встал из-за стола. Рорбах ударил обидчика быстро и точно, в подбородок. Пьяный рухнул на пол, но вскоре тяжело поднялся и выхватил из кармана мундира парабеллум.
Рорбах отпрянул, прикрывая рукой левую сторону груди.
— Всем не двигаться, — крикнул офицер, — стреляю без промаха.
Он медленно приближался к Рорбаху, и вкрадчивое выражение его лица, слепые от ненависти глаза буквально гипнотизировали подполковника.
— Ты проглотишь пулю, штатская крыса, — жгучий шепот повис над замершим залом.
Седой шагнул вперед и встал перед пьяным. Черный зрачок пистолета почти уперся ему в грудь. Он видел длинный ряд орденских колодок на мундире гауптмана. Железный крест, тускло поблескивающий в молочном рассеянном свете, и вдруг понял, что нужно делать.
Разведчик дружески улыбнулся пьяному, укоризненно сказал:
— Не делай глупости, дружище. Меня зовут Удо.
По тому, как потухли глаза гауптмана, Седой понял, что достиг цели.
Он властно и осторожно взял пистолет из расслабленной руки пьяного и, подхватив под локоть, повел его меж столиков на место.
— Вы храбрый человек, капитан, — встретил его рокочущий баритон Каргера. Рорбах, еще бледный от пережитого страха, кивнул Седому, Хольц с детским любопытством всматривался в лицо Андрея, Лотта сидела, устало прикрыв глаза, сжимая в руках бокал с вином.
— Не хватало, чтобы немцы стреляли друг в друга… здесь, — сказал Седой, — выпьем, господа. Предлагаю тост за единственную среди нас женщину.
* * *
Гитлер не прилетел. Американцы подходили к Зальцбургу. Советские войска вели бои на улицах Берлина и вплотную приблизились к отрогам Восточных Альп. Ходили слухи, что взлетная площадка в центре Берлина разбомблена советской авиацией, а личный пилот фюрера застрелился. Обитатели пансионата фрау Хольценбайн коротали время за игрой в вист, бродили по живописным окрестностям и, казалось, чего-то ждали.
Рорбах по утрам истязал свое тело гимнастикой, купался в ледяной воде озера и посмеивался над Седым, который обходился легкой зарядкой и чашкой крепкого кофе. Они сблизились после случая в ресторане, подполковник оказался интересным собеседником, рассказывал много о Японии, где прожил три довоенных года, читал наизусть японские танки-пятистишья, полные тонкого лиризма и средневекового аромата, расспрашивал Андрея о боях в Белоруссии и Польше, и это было как нельзя кстати, потому что Седой хорошо знал обстановку тех сражений, расстановку сил на Первом Белорусском, прошел по тылам немецких армий, допрашивал многочисленных «языков».
Из бесед с Рорбахом Андрей понял, что тот не нюхал пороха и едва ли пережил хоть одну бомбежку. «Абвер или СД? — думал Седой. — Он такой же подполковник вермахта, как я гауптман. Хольц тоже непохож на фронтовика, хотя и носит знаки ранений. С Каргером все ясно. С Лоттой тоже. Медноволосая эсэсовка, фанатичка и ортодокс, чистокровная «наци», верящая в чудо».
«Они побегут, но побегут организованно, группами, — вспомнил разведчик слова Сухова, — возможно, с одной из таких групп пойдет и человек Кальтена».
Седой без помех съездил в Альтаусзее и разыскал Айгрубера. Тот взял письмо, недобро усмехнулся и сообщил, что Эрнст Кальтенбруннер пока никого не принимает. Пообещал передать письмо шефу и посоветовал достать штатскую одежду, а лучше альпийскую теплую куртку и ботинки с триконями.
На четвертый день своего пребывания в Аусзее Андрей, как всегда, отправился ужинать в заведение Фишбаха. После случая с усмирением пьяного гауптмана предупредительные швейцары распахивали перед ним двери.
Пройдя в угол к зафрахтованному Хольцем столику, Седой замер, едва взглянул на сервировку. Посреди столика в маленькой изящной вазе красовался букет фиалок.
Букет состоял из шести бледно-лиловых цветков с мохнатыми листьями и прохладными лепестками.
Чувствуя, как бешено заколотилось сердце, разведчик тяжело опустился на свободный стул. Он исподлобья оглядел компанию. Ничто не изменилось в этих людях. Картер подремывал, Хольц пытался ухаживать за Лоттой, Рорбах смаковал вино и посматривал на всех снисходительно и весело. А фиалки стояли на столе. Седой старался не смотреть на них.
Профессия разведчика приучила Седого подходить к людям просто и в то же время настороженно. Хороший — плохой, добрый — злой: его не интересовали такие характеристики. Люди у Андрея делились на две категории: на тех, с кем можно было идти за линию фронта, и на тех, с кем нельзя. Если человек мог спокойно под огнем разминировать проход, он заслуживал молчаливого уважения Седого. Майор не прощал небрежности и трусости. Но так было там, у своих, когда он долго и тщательно подбирал группу для заброски в тыл врага.
Теперь же нужно было угадать своего среди врагов. Впрочем, фиалки могли оказаться на столике случайно. Может быть, такие же букетики стоят по всему ресторану.
— Извините. — пробормотал Седой, поднялся и прошел через весь зал к туалетным комнатам. Взгляд его скользил по столикам — бледно-лиловых цветов на них не было. Лишь на нескольких стояли хризантемы в высоких фарфоровых кувшинчиках.
«А ведь я боюсь, — думал Седой, — боюсь потерять эту возникшую надежду. Боюсь произнести простую фразу: «Кельнер, замените цветы на свежие».
Седому пришла вдруг на память вычитанная где-то фраза: «Осторожность — это кольцо бесплодных мыслей, которые вращаются вокруг точки страха».
Не одну тысячу раз преодолевал он в себе это леденящее чувство — война-то была долгой, а он встретил ее на границе в тот памятный рассветный час вечного июньского дня. И столько потом было всего за четыре фронтовых года, что, казалось, не осталось в сердце этого липкого, цепенящего ощущения. А может быть, это другое — он боится не выполнить задания. Микропленка с адресами затаившихся врагов, пароли, характеристики, подробные досье на каждого. Вот что понесет человек Кальтена через горы в милую уютную Швейцарию, а может быть, и дальше, скажем, в Мадрид.
Андрей покинул туалетную комнату, предварительно смочив волосы и расчесав их, и пошел в свой угол, делая небольшой крюк, охватывая взглядом вторую половину ресторана, надеясь увидеть лиловый цвет на каком-нибудь столике.
Вернувшись к своему столику, Седой с удивлением обнаружил, что компания увеличилась на одного человека. Разведчик узнал в нем сапера с забинтованным лицом. Его круглая, как белый шар, голова была сплошь закутана в многослойный бинт. Оставалась открытой только верхняя часть лица, откуда поблескивали черные внимательные глаза. Там, где должен был находиться рот, зияла прорезь, и оттуда торчала дымящаяся сигарета.
— Майор Фридрих Корн, — представил незнакомца Хольц, — убегает из госпиталя перехватить рюмочку, другую.
Майор невозмутимо посасывал сигарету, перед ним стоял бокал с коньяком, куда была опущена длинная соломинка.
Появление нового человека и цветов, возникших на столике невесть откуда, связались в сознании разведчика в одно целое. Он не исключал простого совпадения и все же обрадовался возможности угадать Аякса.
— Скорцени! — свистящим шепотом произнес Хольц, и все вздрогнули, разом обернулись к входным дверям. Там стоял человек в черном эсэсовском мундире, увешанный оружием так, словно собирался немедленно ринуться в рукопашную. Его крупное, одутловатое лицо было мрачно-непроницаемым. Большими черными, немного навыкате глазами разглядывал он замерших в зале людей.
В сопровождении метрдотеля Скорцени прошествовал в боковой банкетный зал. Следом за Скорцени в зал вошли несколько людей в штатском.
Хольц вытер вспотевший лоб салфеткой. Каргер ухмыльнулся. Рорбах сделал вид, будто изучает меню. Седой поймал на себе испытующий взгляд Лотты. Она смотрела в упор. Седой не отвел глаза, чувствуя, как в нем медленно и неотвратимо нарастает бешенство.
— Бриллиант настоящий? — услышал вдруг Андрей. Он не сразу догадался, что вопрос задан забинтованным сапером. Сквозь прорезь в бинтах вопрошающе горели угольки глаз.
— Настоящий, — резко ответил Седой.
— За такого солитера можно купить неплохое место в загробном царстве.
— Что и собираюсь сделать, — в тон саперу сказал разведчик.
— Не психуйте, гауптман, — голос из-под бинтов звучал глухо, но дружелюбно, — вы должны знать, что, нося на руке целое состояние, становитесь крупной дичью, а в этих местах собралось множество охотников… И с большой практикой, заметьте.
— Ну и шутник вы, Фридрих, — пробормотал Хольц.
— Я вот думаю, зачем сюда пожаловал Скорцени, — невозмутимо отозвался Корн, — если пить чай, то мог бы…
— Осторожно, майор, — пробурчал из угла Каргер, — это не вашего ума дело.
Под бинтами заклокотал смех.
— Господа, пока есть вино и светит солнце, оставим пикировку.
Рорбах легким движением поправил галстук.
— Не нужно быть пророком, чтобы предвидеть завтрашний день. Нам предстоит долгий путь, господа. Предлагаю идти вместе. В какой-то мере мы знаем друг друга, и это немаловажно…
Рорбах поднял бокал с вином.
«Сухов был прав, — думал Седой, — крысы побегут с корабля стайками. И может быть, даже завтра. Появление Скорцени в Аусзее — это сигнал…»
Вечер давно шагнул в ночь, а ресторан гудел, как растревоженный улей. У всех было предчувствие, что ночь эта последняя, что завтра кончится отлаженная цивильная жизнь и начнется другая — горькая и трудная, с ветром и снегопадами, с ночлегом в тесной палатке, с возможной погоней.
Седой ждал, когда компания достаточно захмелеет, чтобы совершить то, что рекомендовал подполковник Сухов. В полночь, чувствуя непривычную тяжесть в голове, он властным жестом подозвал официанта и, тупо глядя ему в лицо, командирским тоном приказал:
— Эти фиалки убрать, принести свежие…
Все удивленно посмотрели на Седого.
— Эти цветы почернели от времени, — мрачно пробормотал разведчик, — убрать.
— Вам придется исполнить каприз барона Удо фон Плаффена, — пьяно усмехнулся Хольц, — он хозяин стола.
Голова Седого безвольно качнулась.
Он казался пьяным даже самому себе. Из ресторана они ушли вместе с Рорбахом.
…Он сидел в мягком кресле перед открытым окном, не зажигая света. И знал, что сквозь ночную темень на него смотрят глаза врагов.
«Я вижу их глаза», — думал Долгинцов, За долгие годы войны он научился различать глаза, полные затаенной или открытой злобы. Такие они были вчера у Хольца за ужином в ресторане. Он хотел казаться улыбчивым и веселым парнем, но его выдали глаза.
«Наверное, и они чувствуют мои глаза тоже, — усмехнулся Седой, — я не могу скрыть своего презрения ко всей троице. Вот только Лотта… Что-то в ней не так».
Он иногда ловил на себе ее внимательный теплый взгляд. Или ему казалось. Во всяком случае, в нем не было враждебности.
«Скорей всего это игра, чтобы усыпить бдительность, — скользнула ленивая мысль, — они мастаки на такие представления. Нужно выспаться…»
* * *
Седой проснулся ночью от шороха. Открыл глаза и сразу услышал дыхание того, кто стоял в углу комнаты, прячась за шкафом.
«Спьяну чудится черт те что. Я же помню, как закрыл дверь на ключ, да и сам ключ остался в скважине. В комнате никого не должно быть. Не хватало только галлюцинаций».
И все же он проснулся и почувствовал в полной темноте пристальный взгляд человека. И услышал его дыхание.
«Пистолет. Где пистолет? Ах да, в кобуре. Ремень с кобурой на стуле — не дотянуться. Нужно ждать. Ждать. Ведь так просто убить спящего… Он должен подойти к кровати. Вот тогда…»
Но и человек, затаившийся за шкафом, инстинктом догадался, что Седой проснулся. В лицо ударил сильный сноп света.
— Не шевелиться… иначе пуля. Где оружие?
Яркий свет обжигал, слепил и казался нестерпимо долгим выстрелом.
Седой не раз переживал состояние полной скованности, когда мощная непреодолимая сила прижимает тебя к земле, и все над тобой гудит и свистит от бешено летящего металла, и ты беспомощен что-либо сделать.
И, быстро осознав свою беспомощность, Седой спокойно сказал:
— Пистолет в кобуре на стуле…
Свет метнулся по комнате, и разведчик разглядел того, кто каким-то чудом проник в его комнату. Все было обыкновенно в этом человеке: серый плащ, серая шляпа с широкими полями, длинное невыразительное лицо. В его руке чуть подрагивал девятизарядный «вальтер».
— Руки… — приказал человек, подхватывая со стула кобуру с пистолетом.
Андрей выпростал из-под одеяла руки. Луч мощного фонарика уперся в пальцы и сделал их белыми, бескровными.
— Где камешек?
— А я думал, вы собирались проверять документы, господин грабитель.
Седой сказал это мягко, с легкой издевкой, словно и не видел направленного в его сторону «вальтера».
— Двух дырок будет достаточно, барон, — хрипло засмеялся человек в плаще, — итак: камешек или две пули?
— Предпочитаю две пули и тебя на виселице, милейший… Чем скорей ты выберешься из моей комнаты, тем больше шансов сохранить шкуру.
Седой чувствовал — грабитель в замешательстве, смущен бесстрашием владельца бриллианта, его уверенностью и спокойствием.
Погас свет фонарика. Седой услышал, как щелкнул замок, дверь бесшумно и быстро открылась, и наступила тишина. И Седой, не успокоенный после ожога страха, долго лежал в этой тишине, до мельчайших деталей вспоминая все, что произошло. Больше всего его раздражало то, что он не услышал, как вошел грабитель. Он возник неожиданно, как привидение, и, если бы не навыки фронтового разведчика, Андрей закричал бы, давая разрядку взвинченным нервам.
«Собралось множество охотников и с большой практикой», — вспомнил Седой слова забинтованного сапера. Он встал с постели и включил свет. И вздрогнул. На столе лежал большой запечатанный конверт.
Он знал ледяное ощущение одиночества. Ему случалось выбрасываться из самолета с парашютом в глубоком немецком тылу и по неделям жить чужой жизнью, а то и вовсе одному в сырых лесных землянках.
Сейчас он страшился вскрыть конверт, потому что боялся снова остаться один.
Седой закрыл дверь на ключ и взял в руки конверт. Осторожно надорвал его. На стол упала записка.
«Приказываю идти с группой Рорбаха. Достаньте темные очки и теплые перчатки. Следует изучить карту южных Альп — направление Северная Италия. Рация захвачена гестапо. Радист погиб. Австриец провален. Письмо из Центра уничтожьте. Будьте внимательны. Связь односторонняя. Записку сжечь. В знак того, что вы прочитали записку и согласны выполнять мои распоряжения, совершите завтра с майором Рорбахом прогулку на катере. Купите на набережной у женщины с зонтом букет хризантем. Подарите их фрау Хольценбайн. Аякс».
Глядя на горящий листок бумаги и потом растирая меж пальцев пепел, Седой думал о человеке, многие годы, день за днем идущем по краю бездны.
Он не читал по-фронтовому точных, лаконичных радиограмм Аякса, но представлял себе всю сложность и опасность его работы.
Андрей подошел к шкафу и достал из тайника перстень, долго разглядывал его — он только сейчас заметил, что камень имеет голубовато-зеленый оттенок.
Седой твердо решил сохранить бриллиант. Он теперь уже не сомневался, что письмо от Аякса принес грабитель. Проверка была грубой и рискованной из-за недостатка времени.
Время теперь неслось вскачь. Если бы не эта неразбериха, он, безусловно, попал бы в сферу интересов гестапо, и тогда пришлось бы пройти всестороннюю проверку. Гестапо славилось оперативностью. Но не сейчас, когда приходилось спешно упаковывать чемоданы.
Седой понимал, что не от хорошей жизни Аякс пошел на такой риск. Меры предосторожности, которые он предпринял, были не очень надежны, и если формально следовать правилам разведки, то тот, кто скрывается под этим псевдонимом, должен замереть, затаиться, кануть на долгие месяцы в водовороте крупного города. Может, так бы оно и было, если бы не кончалась самая страшная в истории человечества война.
Уходя на задание и после, ведя разведку в тылу врага, когда приходилось особенно тяжело, Седой всегда вызывал в памяти картину атаки. Он ясно видел, как по команде ротного солдаты встают и бегут вперед навстречу рвущим воздух осколкам и пулям, забывая о смерти и всегда помня, во имя чего принимают ее.
* * *
У майора фон Рорбаха было много друзей. Он учился с ними в академии, соревновался на ипподроме и просто рос под скупым солнцем Восточной Пруссии.
Рорбах лениво взглянул на плывущих навстречу катеру лебедей.
— Вы должны меня понять, потому что ваш отец владел имением и стрелял диких голубей ради забавы в собственных лесах. Гауптштурмфюрер Каргер не учился в академии и не знает, что Киото — древняя столица Японии, как не знает того, что «Мозельвейн» двадцатого года нельзя запивать белым баварским пивом. Он учился делать колбасу, когда обожаемый фюрер взял власть…
— Американцы взяли Зальцбург, — сказал Седой.
— Вы хотите сказать, что аудиенция у Кальтенбруннера не состоится?
— Я не хочу сдаваться американцам…
— Вы знаете содержание письма, которое вручили Айгруберу?
— Нет. Но догадываюсь, о чем мог просить отец…
— Он просит переправить вас в Испанию…
Рорбах смотрел в упор. Седой не отвел взгляда.
— Вы пойдете с нами, Удо. Война должна родить войну. Может быть, не так скоро, как бы нам хотелось, но это произойдет. Пока существует большевизм, мы дорого стоим, барон. Я думал, что, пригласив меня на прогулку, вы хотели услышать именно это, Удо.
— Благодарю за доверие, — кивнул Седой.
Они сошли с катера и пошли по набережной в направлении старой, белой от времени церквушки, и по дороге Седой купил у женщины с зонтом букет роскошных махровых хризантем.
— Даме сердца, — улыбнулся Рорбах.
— Фрау Хольценбайн, — ответил с улыбкой Андрей.
— Хризантемы заставили меня вспомнить Японию. Жестокость и нежность — такова эта нация. Вот послушайте, Удо, о чем писал японский поэт Фудзивара Киесиэ в семнадцатом веке!
О, этот мир, печальный мир и бренный! И все, что видишь в нем и слышишь, — суета. Что эта жизнь? Дымок в небесной бездне, Готовый каждый миг исчезнуть без следа.— Вы многое повидали… — грустно заметил Седой.
— Не прибедняйтесь, Удо. Вы тоже. Африка, Франция, Греция и, наконец, Россия. Вермахт шагал широко… Вы даже стали седым…
— В Белоруссии, Зигфрид, можно было стать и зеленым.
«Он знает обо мне, то бишь об Удо фон Плаффене, много, но не все. И он еще не видел фотографии настоящего отпрыска рода фон Плаффена. В письме генерала СС не упоминались ни Франция, ни Греция — значит, началась проверка. Они не хотят идти в Швейцарию с неизвестным. Вот только успеют ли? Если успеют… пуля — это самое легкое, на что можно рассчитывать».
Седой знал, что его могут фиксировать на игру вазомоторов, нервную реакцию. Органолептику они проходили во втором классе разведшколы. Но как раз здесь-то их и не мог ждать хоть какой-нибудь результат. Вживаться в роль Седой умел. Играть же немецкого офицера ему приходилось не раз, правда, в несколько иных обстоятельствах. И его не нужно было учить азам офицерского этикета и сдержанного чинопочитания.
Вернувшись в пансионат и вручив фрау Хольценбайн хризантемы, разведчик поднялся к себе, пообещав Рорбаху быть к обеду. Подошел к окну. Осторожно выглянул из-за шторы. Так и есть. Фигура в штатском маячила на углу улицы, там, где к зданию пансионата примыкал аккуратный домик под черепичной крышей. Человек, не таясь, прохаживался вдоль ограды. Седой заметил его еще вчера днем, но не придал этому значения. Вспомнилась и другая фигура в штатском. Она «вела» его с Рорбахом с самого начала прогулки; шпик словно бы нарочно обращал на себя внимание, и Седому стоило большого труда не оборачиваться.
«Вот почему Аякс приказал сжечь письмо из Центра, они фиксируют каждый мой шаг».
Седой достал из внутреннего, вшитого под подкладку мундира кармана крошечный конверт. Отошел в глубь комнаты, захватив со стола пепельницу, зажег спичку.
* * *
Ночью большая часть обитателей Аусзее перебралась в Кремсмюнстер. Эмигранты всех мастей спешили навстречу приближающимся американцам, предпочитая унижение плена возможной гибели от рук людей Кальтенбруннера и Скорцени. К тому же ни для кого не было секретом, что копи, расположенные близ Альтаусзее, будут рано или поздно взорваны.
Группа Рорбаха собралась на одной из тайных квартир гестапо. Каждый получил меховую одежду, горные ботинки, ледоруб. И три альпинистские палатки на шестерых. При распределении палаток произошла заминка. Мужчины решили предоставить Лотте Кестнер право выбора напарника по ночлегу. Лотта усмехнулась и показала рукой на спальный мешок:
— Я буду спать на воздухе.
Рорбах кивнул соглашаясь. Забинтованный сапер махнул Седому рукой. У Андрея дрогнуло сердце. С той минуты, как он сжег записку, разведчик не переставал приглядываться к своим будущим спутникам. Жест, реплика — все для него было полно особого смысла. Корн вызывал в Седом чувство симпатии. Он любил людей насмешливых, ироничных. Рорбах рассказывал, что в руках сапера взорвался детонатор, ему обожгло лицо и разбило челюсть. С таким ранением не до смеха — Корн смеялся. Рослый, с широкими покатыми плечами, он таил в себе огромную физическую силу.
Седой ответно махнул саперу рукой и принялся укладывать рюкзак.
Последнее убежище эсэсовцев провожало группу Рорбаха громким собачьим воем. Служебные псы, брошенные своими хозяевами, голодные метались по улицам, пугая обывателей.
— Они накличут на нас беду, — проворчал Хольц, оглядываясь с крутого обрыва на городок, где уже мелькали белые лоскуты флагов.
— Им забыли дать циан…
Каргер длинно выругался и вызывающе посмотрел на Лотту. Бледное лицо ее, обрамленное меховым капюшоном, осталось непроницаемым.
Из-под бинтов послышался смех, похожий на клекот. Раненого сапера явно забавляли страхи уходивших в горы людей.
Альпийские луга кончились за первой же серой каменной грядой. Повеяло холодным простором, впереди запестрели плешинки снега, подъем стал круче — начинались настоящие Альпы, вздыбленный хаос скал, одетых в лед и снег.
Три связки шли, проваливаясь по колено в снегу, помогая себе ледорубами. Все надели темные очки.
Каргер жадно хватал ртом воздух. Было видно, что он устал, шел тяжело, покачиваясь словно пьяный.
Снежное плато вывело группу к подножию крутолобой горы, вдоль которой тянулся острый гребень со спусками и подъемами.
Седой шел в паре с Лоттой. Пройдя на длину веревки, он останавливался и страховал эсэсовку. Лотта передвигалась медленно — видно было, что каждый шаг дается ей с большим усилием.
«Никогда не ходила в горах, — подумал Андрей, — такой не доверят микропленку. Значит, Рорбах или Хольц. Каргер тоже не дойдет до перевала».
О Корне Седой думал как о союзнике. Им придется спать в одной палатке, и он надеялся на откровенный разговор.
Уже густели, наливаясь холодом, сумерки в долине, когда группа вышла к домику альпинистской спасательной службы. Вместе с сарайчиком, слепленным из камней, эти сооружения были последними домами до самого перевала. Дальше могли встретиться лишь заброшенные хижины охотников.
Первыми достигли каменного заборчика Рорбах и Корн. Они молча курили, сидя на валунах, поглядывая на тяжело идущих по склону спутников.
Дом и сарайчик оказались пустыми. В них никто давно уже не жил.
Каргер молча, не раздеваясь повалился на панцирную кровать и мгновенно уснул.
— Он съел за свою долгую жизнь слишком много бифштексов, — мрачно пошутил Хольц.
— Нужно развести огонь, — сказала Лотта, — здесь холодно. Удо, в сарае есть дрова. Наколите помельче. Я займусь ужином…
Седой накинул на плечи сброшенную было куртку и взял с тумбочки перчатки. И вдруг услышал, как в одной из них что-то хрустнуло. Он быстро вышел и на подходе к сараю надел перчатки. Ладонь левой руки ощутила угольчатый край сложенного вчетверо листа бумаги. В сарае было темно, и Седой зажег спичку.
«Ночью не спать. Опасность заговорить во сне по-русски. Вас подозревают. Будьте внимательны и осторожны. Запоминайте дорогу — возможен обратный маршрут. «А».
Разведчик тщательно растер пепел и рванул воткнутый в толстое полено заржавевший топор. Раскалывая толстые сырые чурки, он вспомнил, как вошел в дом, бросил перчатки на тумбочку — нет, сперва он поставил ледоруб в угол, снял рюкзак, а потом уже снял перчатки. Кто был рядом? Хольц! Потом подошел Корн и включил фонарик. Затем вошли Лотта и Рорбах. Он нагнулся над рюкзаком, и тогда Лотта сказала насчет колки дров. Кто же? Не спать ночью? Как он сам не подумал об этом?
Бессонная ночь. Она знакома Седому. Среди тысячи суток войны их было так много, что и за несколько лет не отоспаться. Андрей вспомнил июньские короткие ночи на родной заставе, тревожные ночи в ожидании нападения. Гул танковых моторов на сопредельной стороне, лязг железа и отраженный призрачный свет. До сна ли тогда было ему, совсем еще юному лейтенанту, год назад окончившему пограничное училище.
Седой вышел из сарая с охапкой дров.
Похолодало. На северной стороне неба появились «кошачьи хвосты» — высокие перистые облака, первые предвестники наступающей непогоды.
«Будет метель. Почему Аякс не сообщил, кто идет с микропленкой? Не знает сам? Не знает. Меня подозревают. И все же Аякс здесь. Значит, я ему нужен — и это главное».
То, что его подозревают, Седой чувствовал и сам. Первые дни в Аусзее ему казалось, что это тщательно скрываемая неприязнь не нюхавших пороху гестаповцев к военному человеку, фронтовику. Но с появлением «тени» понял, что это не так. За пансионатом следили днем и ночью. Седой, даже если бы очень захотел, не смог исчезнуть из городка. И Аякс знал об этом. Значит, ему нужно, чтобы меня подозревали.
«Я иду за ним, как слепой по краю пропасти, — подумал Седой, — оступится он, покачусь с кручи и я».
* * *
Он боялся уснуть. Усталость все-таки подстерегла его. В доме стояла душная, пахнущая гниющим деревом темнота, из которой доносились храп, стоны, невнятное бормотанье спящих людей.
И все же Седой знал — не спит еще один человек. Тот, кто отдал ему приказ не смыкать глаз.
Андрей лежал на спине и сквозь полуприкрытые веки смотрел на деревянный потолок, смутно чернеющий в призрачном тусклом свете, льющемся в широкие проемы окон.
Вспомнилось, как год назад вот так же лежал он на разостланном тулупе на полу родного дома и делал вид, что спит. Андрей приехал домой всего на два дня проведать мать. Она не спала в ту ночь, тихо сидела у его изголовья, иногда шептала что-то жалобно, боясь разбудить его.
Он был у матери один. Отца Седой не помнил. Он погиб в двадцать втором году, гоняясь в Средней Азии за бандами басмачей. Осталась только фотография — высокий широкоплечий человек с открытым молодым лицом, в командирской гимнастерке, с наганом на ремне.
Андрей рос, как все мальчишки в деревне, а повзрослев, уехал в пограничное училище, твердо решив идти по дороге отца. Война. Она прибавит к его биографии такое количество событий и дат, что никакого анкетного листа не хватит, и придется писать повесть о собственной жизни, ничего не выдумывая и ничего не прибавляя.
Он простился с матерью в тот единственный свой приезд, так и не сказав ей, кем он служит в армии и где воюет. Законы жизни, по которым живет разведчик, суровы и жестоки. Уходя на задание, он оставляет на родной земле награды, документы и свое настоящее имя.
Андрей смотрел в потолок и мысленно перебирал события последних дней. Гитлер так и не прилетел в Альтаусзее. «Железный Кальтен» распустил своих подчиненных — а точнее, секретные службы фашистского государства. И десятки тысяч их, словно жуки, расползлись по территории Германии, меняя облик, документы, придумывая легенды о своем прошлом. Организационно сохранилась лишь элита — лучшие из лучших, те, кто должен, по мысли гитлеровской верхушки, спровоцировать новую войну. Сохранилась и агентурная сеть, созданная при отступлении во всех без исключения странах, которые выходили из войны или поворачивали оружие против вермахта.
Подумать только, списки этих строго законспирированных агентов с подробными характеристиками и адресами находятся сейчас от него, может быть, в каких-нибудь полутора метрах.
Возможно, что это только фотокопии, но как они нужны нашей контрразведке. Еще сутки идти до перевала. Там ждут. Самый север Италии в руках немцев. Дивизии генерала Виттинхофа еще сопротивляются. Из Северной Италии проще уйти в Швейцарию. Значит, в эти сутки все и решится.
За окнами вставало блеклое, похожее на сумерки утро. Всех разбудил Каргер. Он шумно сел на кровати и громко и хрипло кашлянул. Вскочил Хольц и осторожно выглянул в окно. Он, конечно, знал, что моторизованные отряды американцев, растекаясь в межгорьях, еще не достигли Альтаусзее, и все же в силу профессиональной привычки первым делом осматривал окрестности.
Седой вышел из домика. Словно ожидая чего-то, вглядывался разведчик в бесстрастные каменные громады.
Гасли звезды. Вершины становились золотыми; на дне ущелий таяли последние клочья ночного мрака. Но тени еще не обозначились четкой чернотой, а лишь чуть наметились размытыми очертаниями.
Из сарайчика вышла Лотта — она там ночевала, — молча кивнула и прошла в дом.
Завтракали в полном молчании. Один только раз Рорбах, протянув Седому буханку хлеба, сказал:
— Удо, нарежьте хлеб…
Ничего необычного не было в этой просьбе. И все же Андрей вздрогнул. Он поймал напряженный взгляд Лотты и взял нож. И хотел уж было поднести левой рукой буханку к груди, как вдруг вспомнил, что так режут хлеб в российских деревнях — к себе на грудь. Положил буханку на стол и стал нарезать хлеб аккуратными тонкими ломтями. И не смог сдержать усмешки.
— С детства не умею резать хлеб, — сказал Седой, — у нас дома это всегда делала прислуга.
— Надо полагать, вы кое-чему научились на фронте, — пробормотал Рорбах.
Больше никто не сказал ни слова. Андрей взглянул на Лотту. Она сидела, полузакрыв глаза, уголки ее красивого жесткого рта едва заметно вздрагивали.
«Ирония хороша, когда ею прикрывают то, чего нет на самом деле. Майнлибер Андрей, ты умеешь превосходно стрелять, драться, можешь не спать несколько ночей кряду, ты даже умеешь прыгать с парашютом, но ты плохой психолог и не слишком наблюдательный человек. Тебя по-дешевому провоцируют, и ты едва не клюешь на провокацию. Эстет и знаток японской культуры Рорбах чуть было не купил тебя за десять обесцененных марок. А то ли еще будет. Корн пил через соломинку кофе. Каргер просто жевал. Хольц и Рорбах. Вот кто наблюдал за тобой. Аякс, конечно, кроет тебя, Андрюша, всеми нужными в таком случае словами. Но ведь нас двое, а их всего-то четверо. Когда ты злишься, Андрюша, ты сразу лезешь в драку, А ты ведь человек для особых заданий, и у тебя дело чрезвычайной государственной важности. Наблюдай, жди, как приказано, и мой руки перед едой».
Утренний взблеск гор погас, словно его выключили, а четверть часа спустя повалил густой липкий снег.
Рорбах раздал всем по две таблетки фенамина. Таблетки проглотил только Каргер.
Над ними висела белая шапка горы. Разорванные глыбы ноздреватого льда иногда высверкивали сквозь снегопад — гора была выше снеговых туч, и там светило солнце.
С маленького плато, где приютился домик спасательной станции, тропа круто взлетала вверх, будто аркан. Потом она раздваивалась, петлей охватывая обрыв, над которым возвышалась одинокая шпилеобразная скала, похожая на обелиск. Оттуда тянуло холодом и мраком. И там был ветер. Внизу же было тихо, и группа сравнительно легко поднималась скальными террасками к взлобью большой горы, название которой Седой прочитал на карте, но так и не запомнил. Он шел на всю длину веревки, которой был связан с Лоттой, и с неистребимой привычкой армейского разведчика всматривался и вслушивался, считая, что тем самым выполняет приказ Аякса — запоминать дорогу.
Снег шел уже два часа. При полном безветрии он падал и падал, сцепляясь в крупные хлопья, ложась на скалы причудливым белым покрывалом.
Седому вспомнились читанные когда-то стихи:
Снег, снег, снег, Чьи-то шаги в тишине, Старый идет человек По собственной седине.«По седине идет» — это хорошо сказано. Но он-то не старый. Он еще поживет, послужит. Обязательно в разведке. Эта служба ему и по характеру и по призванию.
Привал с часовым отдыхом устроили в просторном кулуаре между двумя гребнями,
Снег немного поутих, поднялся ветер. Обед был более чем скучный — по четыре галеты и стакану теплого кофе.
Андрею нестерпимо захотелось покурить. Дым от сигарет раздражал его.
Таблетки фенамина он так и не проглотил, опасаясь подвоха, и теперь чувствовал, что устал. Хватит ли сил до перевала?
Видимость улучшилась, и по указанию Рорбаха дальше двигались без страховки, соблюдая дистанцию в пять шагов.
Около часа группа двигалась вдоль гребня старым альпинистским маршрутом и подходила уже к скале-обелиску, когда Седого внезапно охватила глухая неясная тревога. Так часто, не видя, ощущает человек приближение облачной тени, беззвучно бегущей по земле.
Он еще полностью не осознал, почему, подобно неожиданному, как удар, подозрению, возникло это предчувствие. Что-то произошло в передвижении фигур впереди и позади него. В мглистой сумятице снега все это могло и показаться, но только не Седому, обостренно воспринимавшему теперь даже интонацию знакомых голосов.
Разведчик все так же равномерно шагал по тропе, подставив плечо ветру, чувствуя, как в левой половине груди задрожал и забился тревожным звоном колокольчик опасности.
Незаметным движением Андрей снял пистолет с предохранителя и переложил его в карман куртки. Вспомнил о бриллианте — он лежал в нагрудном кармане, упрятанный в брикет жевательной резинки. Достал и сунул в рот. Седой твердо решил — случись что, бриллиант на фашистское подполье работать не будет.
Перстень с монограммой сделал свое дело. Сухов оказался прав — камешек сработал как прикрытие и, возможно, как приманка. Андрей подозревал, что в группу его взяли не за личные заслуги и, уж конечно, не за «аристократическое происхождение». Предчувствие не обмануло Седого. Когда он поднялся на последнюю перед шпилеобразной скалой выступ-площадку, Каргер, шедший сзади, метнулся ему за спину, пытаясь левой рукой захлестнуть горло.
Броском через бедро Андрей свалил грузного эсэсовца на землю и отступил к скале. Хольц взмахнул рукой — он стоял сбоку от разведчика. Седой успел заметить зажатый в руке кастет. Мгновенно перехватил руку, вывернул ее и сильно ударил ребром ладони по шее. Хольц рухнул как подкошенный. Рорбах и поднявшийся Каргер одновременно кинулись на разведчика, Андрей упал и тут же сдвоенным ударом ног в живот свалил Рорбаха. Каргер успел зацепить Седого ногой. Острая боль ударила в голову, а руки автоматически поймали ногу эсэсовца, и тот со стоном упал на склон, «Теперь быстро встать», — приказал себе Седой.
На самом деле поднимался он тяжело и получил еще удар — на этот раз кулаком по печени. Длиннорукий Хольц достал его левым боковым.
«Боксер», — усмехнулся Андрей и рванул из кармана пистолет. Он едва успел вскинуть его, как откуда-то сбоку хлопнул выстрел, точно пущенная пуля вырвала парабеллум из руки Седого, рикошетом скользнула возле правого виска, слегка контузив разведчика. Он не упал, а только качнулся и увидел, словно сквозь туман, на гребне знакомую фигуру Корна. В правой руке тот держал пистолет, левая сжимала приклад английского автомата «стен». Седой вздрогнул. На сапере не было бинтов. Изящная меховая фуражка едва прикрывала его выпуклый бугристый лоб. Лицо было волевым, с крупными чертами.
— Всем стоять смирно! Слушать мой приказ. Через час вы можете продолжать движение. Каждый, кто приблизится ко мне ближе чем на сто метров, будет убит.
Корн поднял над головой автомат.
— Этого человека, — вооруженной рукой он указал на Седого, — допросить и расстрелять… Перстень с бриллиантом сдать по прибытии на место в фонд будущей Германии,
Говоривший, не поворачиваясь, сделал несколько шагов назад и скрылся за гребнем.
— Айсфогель… — пробормотал Хольц и достал пистолет.
Они шли к нему с трех сторон, еще не зная, что бриллиант затоптан Седым в снег в самом начале схватки, слева от скалы.
«Если я сейчас брошусь на них, они стреножат меня тремя выстрелами. Что же Аякс?..»
Впервые за время схватки он поискал глазами Лотту. Она стояла у самой пропасти, засунув руки в карманы куртки, и, как показалось Седому, отрешенно смотрела на него. И вдруг он увидел, как Лотта едва заметно покачала головой, вынула руки и демонстративно заложила их за спину.
«Она говорит мне, чтобы я не сопротивлялся. Она не уверена, что Корн — Айсфогель ушел. Она потому и стоит у самого края — оттуда просматривается поворот, которого не минует идущий вдоль гребня».
Седой дал себя связать. Получить сейчас пулю было бы непростительной глупостью. Они поставили его к скале-обелиску.
Хольц ткнул Седого пистолетом в грудь.
— На кого работаете, барон?
— На себя, — глухо буркнул Андрей.
— Не лгите. Мы не мальчики. Так на кого? На Си-ай-си! Или может быть на «Джи-ту»?
— На дефензиву, — опять буркнул Седой.
— Оставьте его, Хольц, — вмешался Рорбах. — Он русский. И работает на московский Центр.
Каргер быстро и профессионально обыскал Седого.
— Где камень?
— Он фальшивый, Каргер… — Седой улыбнулся. — И потом… Я предвидел этот грабеж.
— А пулю ты предвидел?
— Не исключал такой возможности…
— Получишь… Между прочим, ты мне сразу не понравился…
— А я вас полюбил с первого взгляда, Каргер. Такой добродушный малый…
— Мы устроим «тир», — бормотал Хольц, — я давно не стрелял в живого большевика.
«Войне конец, — подумал Андрей, — может, сейчас, сию минуту… Что же она медлит, Лотта Кестнер?» А не ошибается ли он? Женщина могла просто покачать головой, сожалея или не принимая того, что здесь происходило. Тогда без последней рукопашной… Айсфогель… Ледяная птица. Фамилия? Или кличка… Предпочел немецкому «шмайсу» английский «стен»… Стреляет как бог. Противник серьезный.
Хольц, Каргер и Рорбах разглядывали Седого с любопытством и ненавистью.
— Тридцать метров, — сказал Хольц, — ставлю бутылку «Мартеля»…
— Нет, Ганс, — Рорбах протестующе поднял руку, — «тир» так «тир». Тридцать метров и каждому по два выстрела. Стрелять по конечностям. Мы четвертуем его…
Андрей взглянул на Лотту. Она стояла теперь совсем близко к обрыву. Капюшон на ней был откинут, и волосы разметались по плечам. Ветер заламывал ее хрупкое тело над обрывом, и Седому казалось, что еще мгновение, и он столкнет женщину в пропасть.
Каргер считал шаги. Заледеневший снег гулко скрипел под его ногами. Последней к пятачку, вытоптанному Каргером, подошла Лотта.
— Господа, — услышал Андрей ее металлический голос, — прошу право первого выстрела…
— Да, конечно, — сразу же согласился Хольц и объявил, как на ипподроме: — Лотта Кестнер стреляет первой…
Лотта расстегнула куртку.
— Дайте мне ваш «вальтер», Ганс, мой пугач слишком легок…
Хольц протянул ей пистолет. Она встала боком, как на дуэли, чуть согнула вооруженную руку в локте и стала медленно поднимать ее, целясь Седому в голову.
Внезапно, когда все уже ждали выстрела, рука ее опустилась.
— Подарите мне пять шагов, господа… мне трудно целиться.
Голос ее прозвучал тускло, почти жалобно.
— Вы женщина, Лотта, и имеете на это право. Делайте пять шагов и стреляйте, иначе наш пациент замерзнет.
Рорбах, как всегда, был снисходителен и вежлив.
Лотта сделала первый шаг, и Каргер громко сказал:
— Один…
— Два… — сказали вместе Хольц и Каргер.
Им нравилась эта игра.
— Три… — скандировали они, — четыре… Пять… Стой!
И вдруг она резко повернулась. Лотта Кестнер стреляла в упор. Первым упал Каргер, так и не успев сообразить, что же произошло. Рорбах попытался выхватить из кармана куртки пистолет, но тут же рухнул, сраженный пулей в сердце. Хольц присел и прыгнул вперед, пытаясь достать Лотту своими длинными руками.
Она всадила в него две пули, и он зарылся лицом в снег у самых ее ног.
Лотта повернулась к Андрею, бросила «вальтер» и, пошатываясь, двинулась к нему, слабо взмахивая руками, словно собиралась взлететь.
— Ох! — Ноги у нее подогнулись, и она рухнула в снег лицом. Но тут же попыталась подняться, бормоча: — Я сейчас… сейчас… у меня есть нож…
Лотта снова упала, и Андрей услышал, как она тихо плачет. Расстрел эсэсовцев стал последней каплей нечеловеческого напряжения, в котором жила Лотта все эти дни. И вот теперь, когда напряжение спало, не оказалось сил.
Андрей молчал. Он и сам чувствовал себя прескверно. Его бил озноб, горечь заполняла рот — удар по печени не прошел даром.
Наконец Лотта поднялась и, пошатываясь, приблизилась к скале-обелиску. Держа нож обеими руками, перерезала веревку.
Седой вдохнул полной грудью, все еще боясь оттолкнуться от скалы.
— Как вас зовут? — устало спросил он. — Меня — Андрей…
— Я не могу сказать тебе своего имени, Андрюша…
Лотта смотрела на Седого добрыми, ласковыми глазами, и что-то материнское, нежное было в долгом ее взгляде.
— Но я сделаю то, о чем мечтала всю войну. Я поцелую тебя за всю нашу Красную Армию, которая сломала фашистского гада… Я так долго ждала тебя… солдат…
— Да, — Седой откликнулся, как эхо.
Она приблизилась к нему, протянула руки. Андрей вздрогнул и закрыл глаза. Он почувствовал ее теплые губы всего на одну секунду. Ему показалось, что его поцеловал ребенок.
* * *
Он трогал ее смерзшиеся, запорошенные снегом волосы и тихо говорил:
— Я достану его, не волнуйся. Он ушел на расстояние крика.
— Да. Теперь я знаю — это он. Я так и думала, но не была уверена. Айсфогель… Я видела его однажды в Берлине. Никто не знает, в каком чине он служит в РСХА.
Лотта подняла к Седому лицо.
— Андрей, это опасный, сильный человек. Будь осторожен. Возьми второй пистолет и все запасные обоймы. Я немного отдохну и пойду следом… Но пойдем мы не так, как он, а срежем угол. Под северным гребнем можно пройти к перевалу более коротким путем, но там в кулуаре почти всегда сходят лавины. В ясные дни с двенадцати до трех часов. Можно успеть…
Лотта взглянула на часы.
— Сейчас десять… Он идет старой проверенной тропой — не хочет рисковать. А мы должны… Нас теперь двое. И помни — английский «стен-ган» бьет на двести пятьдесят метров. Вот, возьми…
Лотта протянула Андрею длинный красный шнур.
— Привяжи к руке — вдруг все-таки лавина…
Седой спрятал шнур в карман, пересчитал обоймы и тоже сунул в карман. Тяжело поднялся, прошел к скале-обелиску, присел на корточки и стал разгребать снег.
— Потерял что-нибудь?
Лотта неслышно присела рядом.
— Танковую бригаду. Подполковник Сухов мне этого не простит. Фамильная вещь, известная всей Европе. Вот он…
Седой разжал ладонь с зачерпнутым снегом, извлек из беловатой массы жевательной резинки перстень и протянул его Лотте.
— Сдаю без расписки…
— Не годится, Андрей. Сам вручишь бриллиант Сухову Николаю Севастьяновичу…
— Ты знаешь Сухова?
— Знаю. Но об этом после… «Стен-ган» бьет на двести пятьдесят…
* * *
Он поднимался, и горы точно опускались. Когда он вышел на скалистый северный гребень, вершины уже стали ослепительно белыми. Весеннее солнце поднялось высоко, но здесь, у границы вечных снегов, было холодно и сыро. Тусклой голубизной отливали изломы ледников, прозрачные лиловые тени лежали в ущельях.
Седой надел темные очки, жадно поискал глазами фигуру Айсфогеля, не нашел и подумал, что рано, тот еще идет под прикрытием гребня.
К кулуару Смерти Андрей подошел, когда все вокруг было залито солнцем. Он сделал несколько шагов и сразу оказался в полумраке. Солнце сюда не доставало. Со стен с гулким шипением спадали ручьи. Снег в кулуаре, смешанный с обломками скал, будто кто перепахал. Было угрожающе тихо.
Седой шагал быстро, как только мог. Ледяной разреженный воздух заставлял глубже дышать, сильнее биться сердце.
Он шел и думал о Лотте. Успеет ли она проскочить кулуар до двенадцати? Совсем обессилела. Седой знал, что такое стрелять в упор в человека, даже если он и враг. К этому трудно привыкнуть. А она скорее всего делала это впервые. По самой что ни на есть необходимости. От бедра, когда нет времени, чтобы вскинуть руку с оружием. Ей было важно, чтобы я не потерял веру в себя, важно было снять элемент обреченности — возьми камень, меня могут убить… На войне убить могут всегда. Но сейчас он не даст этого сделать человеку с красивой кличкой Айсфогель.
Не зря же он, майор Долгинцов, четыре года только и делал, что бегал вдогонку за смертью, а когда она оборачивалась, обманывал и уходил от нее.
Сейчас он будет осторожен как никогда. И главное — заставить эту «птичку» смотреть против солнца. Против такого бешеного солнца прицельно не постреляешь. Фактор неожиданности само собой. И лучше бы достать его первой пулей — не «языка» же беру…
На выходе из кулуара Андрей обернулся на шум. Наверху от самого карниза отвалилась гигантская глыба снега и со свистом заскользила по склону. Она сметала на своем пути нагромождения камней и, набирая скорость, неслась в кулуар.
Седой и раньше видел лавины, но такой мощной пляски снега и камней ему наблюдать не доводилось. В кулуаре все кипело, ухало, грохотало, словно там одновременно рвались десятки тяжелых мин.
«Вот тебе и с двенадцати до трех, — подумал Андрей, — весна нынче ранняя и солнце сумасшедшее. Год на год не приходится. Опоздай я на пять-шесть минут… и — аминь…»
Сравнительно невысокий хребет, по которому двигался теперь Седой, выводил к небольшой каменистой площадке, откуда начинался путь на перевал. Этого места Айсфогель миновать не мог. Слева поднималась совершенно отвесная двухсотметровая стена, справа синел смерзшийся фирн ледника.
Расчет Лотты оказался точным, если… Если Айсфогель не заметил его движения по гребню хребта. У него есть бинокль. Но как бы там ни было, путь на перевал ему закрыт. Остается попытка прорваться с боем.
Седой выбрал для засады ложбинку между двумя покатыми скалами так, чтобы солнце светило ему в спину. Он проверил оба пистолета, лег в начинающий подтаивать рыхлый снег и окинул взглядом холодный суровый мир гор. И вздрогнул. По леднику шел человек. Медленно, но уверенно поднимался он вверх, помогая себе ледорубом. Недосягаемый для пистолетного выстрела, он не оглядывался. Знакомый ранец все так же висел у него за спиной.
Пересекать ледник одному, без страховки, с альпинистской точки зрения было чистым безумием. Но, может быть, не для этого человека. Недаром же его наградили таким прозвищем — «Ледяная птица». Он рискует жизнью, исключая риск боя. В случае неудачи он скатится по леднику в бездну вместе с тем, что несет.
«Сколько у него запасных дисков? — размышлял Седой. — Не больше двух. В горах каждый лишний грамм давит. Значит, если будет бить короткими… Нужно встать и идти. По его следам-ступенькам. Приблизиться на пистолетный выстрел. И вся надежда на слепящее солнце и… на усталость — Айсфогель шел быстро, и путь его был в два раза длинней. Должен устать, не железный же он…»
Впереди белели фирновые взлеты гребней. С них свисали наметенные ветром карнизы. Не обрушится ли хоть один из них от выстрелов? Такое в горах случается. Лавина может сорваться даже от звука голоса. И Айсфогель знает об этом.
Ледник словно белый галстук на темно-серой груди горы. Кое-где на нем видны «бараньи лбы» — округленные, заглаженные льдом и водами скалы
Вмятины в фирне — следы Айсфогеля. А вот и характерные углубления, отпечатки «кошек», на которых прошел альпинист самые опасные участки. Андрей с трудом вбивал ботинки в плотный смерзшийся снег. Хорошо, что ботинки с триконями — держат.
Седой сохранял дистанцию на глаз. Двести метров, не больше. Айсфогель не оборачивался. Нужно заставить его нервничать. Разведчик поднял пистолет и выстрелил в воздух.
Гестаповец обернулся и дал длинную очередь. Пули взметнули фонтанчики льда у самых ног Андрея. Он упал на живот, вонзил ледоруб в снег и сполз на десяток метров вниз.
Следующая очередь была короткой — пули прошли над самой головой.
— Вот черт! — пробормотал Андрей, отползая за один из «бараньих лбов».
Он все еще надеялся на маленькую лавину, разбуженную выстрелами. И он увидел ее. После короткой очереди из «стен-гана» с одного из гребней сорвался ком снега, прочертил на карнизе черную полосу и расколол снежное поле. Оно треснуло пополам и устремилось по центру ледника.
Седой встал из-за камней и закричал, предупреждая Айсфогеля о лавине.
Гестаповец обернулся, прыгнул в сторону и вдруг, осознав, что не успеет, устремился навстречу лавине, высоко подпрыгивая, словно намереваясь перемахнуть всю эту мчащуюся массу снега.
Белая ослепительная пыль скрыла его фигуру. Андрей лег в углубление за камнями и, вонзив ледоруб в снег, вцепился в него обеими руками. Задержал дыхание. Лавина задела каменный островок краем, накрыла удушающей ватной пеленой и промчалась дальше.
Седой выбрался из-под снега и взглянул вслед клубящемуся потоку. Внезапно на его гребне разведчик увидел фигуру Айсфогеля. Он все так же высоко вскидывал ноги, он бежал по лавине, не давая увлечь себя в ее толщу.
Андрей и раньше слышал о людях, седлавших лавины, и вот теперь видел высший альпинистский пилотаж наяву. Это граничило с чудом. И счастье Айсфогеля, что лавина не несла с собой камней. Она выдохлась на половине ледника.
Гестаповец выбрался на лед, и Седой не увидел на его груди автомата. «Стен-ган» поглотил снег.
Не было на Айсфогеле и светозащитных очков.
…Их разделяло шестьдесят-семьдесят метров. Но теперь гестаповец был внизу, и солнце светило ему в спину. Он потерял в схватке с лавиной и ледоруб, без которого продолжать путь по леднику было невозможно. Айсфогель избрал единственно верное решение. Он стал медленно и осторожно спускаться к площадке, на которой час назад Седой лежал в засаде.
Андрей отчетливо слышал шипящий звук, издаваемый летевшими из-под ног гестаповца льдистыми крупинками.
«Если Лотта идет тропой, по которой шел гестаповец, она слышала выстрелы и поспешит, — думал Седой, — я должен его задержать. Как? Соблазнить его живой мишенью. Не дать ему пристреляться, все время вести огонь самому».
Седой достал второй пистолет и поднялся из-за гладкого валуна.
Он стрелял с обеих рук, пританцовывая на ледяной площадке возле камня, бросаясь то вправо, то влево, падая и снова вскакивая, слыша, как постанывают над головой пули, посланные из девятизарядного «вальтера» с расстояния, когда опытный стрелок поражает мишень с первого выстрела.
Андрею мешало солнце, оно теперь было его врагом. Да он и не вел прицельного огня, стреляя в контур, в силуэт, не давая противнику продолжать спуск к площадке. И потом это было чужое, не им пристрелянное оружие. Он считал свои выстрелы и оставил два патрона в парабеллуме на самый крайний случай, когда увидел поднимающегося ему навстречу Айсфогеля. Этот человек не знал страха. Опасность только подхлестывала его. Так казалось Седому. И все же он заметил, что Айсфогель идет как бы на ощупь, его мотает в стороны.
«Ранен, — мелькнула мысль, — решил подняться на верный выстрел. Теперь пора его стреножить, самое время».
Андрей поднял пистолет, тщательно прицелился, щурясь от яркого, бьющего в лицо солнца. Глухо клацнул ударник. Осечка?
«Это нужно было предусмотреть, разведчик Долгинцов, и оставить по патрону в каждом стволе. Умереть после всего, что было. Нелепость».
Седой отбросил парабеллум и взялся за ледоруб. Только теперь Андрей разглядел того, кого называли «Ледяной птицей». Высокий бугристый лоб и четко очерченный, сильно вытянутый овал лица. Гестаповец сильно щурил большие черные глаза, словно искал что-то в лице противника.
«Не двигайся, — приказал себе разведчик, — три метра. Не промахнется. Целится в голову — это уже шанс. Если бы в сердце, тогда почти никакого. Рука дрожит. Устал».
Не спуская глаз с пистолета, Седой видел теперь только руку и белый от напряжения палец на спусковом крючке.
«У него последний патрон, поэтому он медлит. Нет» Снежная слепота. Ведь он полчаса как без очков».
Мысль вспыхнула и ослепила. Разведчик сжал ледоруб, резким и быстрым движением обеих рук метнул его в голову гестаповца.
Хлопнул выстрел. И в следующее мгновение Андрей услышал взвизг металла и ощутил тупой удар в голову. Пуля попала в ледоруб и рикошетом угодила Седому в левую часть головы, прикрытую теплой меховой шапкой.
Разведчик упал и стал медленно сползать вниз. Словно в полусне услышал:
— Андре-е-ей!
Ему казалось, что он целую вечность слышит этот по-детски тонкий голос. Он напрягал всю свою волю, пытаясь узнать его, но глухой, идущий из глубин мозга гул мешал ему сосредоточиться.
Сознания коснулись знакомые резкие звуки. Они вернули Андрея из забытья. Где-то рядом стреляли.
Седой почувствовал, что скользит по леднику, перевернулся на живот, раскинул руки и ноги в стороны, цепляясь за малейшие неровности, мелкие ледяные заусеницы. Спас его скрытый под снегом заструг, образовавшийся от натеков с тающего днем снега.
Андрей разлепил запухшие от удара глаза и сквозь красный туман увидел идущего по краю ледника Айсфогеля. Гестаповец шел, вытянув вперед руки, как слепой. В одной из них Седой заметил сверкнувший тонкий длинный клинок. Вдруг он остановился и стал торопливо снимать ранец.
«Сейчас он поищет лицом солнце, развернется и выбросит ранец в пропасть. В нем микропленка… тысячи адресов и явок… Где же Лотта?»
Седой попытался приподнять голову. Близкий выстрел заставил его вздрогнуть. Андрей успел зафиксировать в сознании падающую фигуру гестаповца и впал в забытье.
…Он пил, захлебываясь, горячий кофе прямо из термоса. Лотта с улыбкой смотрела на него, потом тихонько засмеялась, прикрыв рот ладонью.
— Ты чего?
— Ты рыжий, Андрюша… Я все думала, какой ты, с головы седой… не поймешь. А борода выдала… Рыжий…
Андрей провел рукой по щеке — трехдневная щетина сухим репейником обметала подбородок и скулы — и тоже засмеялся мелким тугим смешком, Держась обеими руками за голову, потому что смеяться тоже было больно.
— Хочешь, я прочту тебе стихотворение Пушкина?
— Зачем?
— Я давно ни с кем не говорила по-русски, Андрюша…
— Наговоримся еще, — посмеиваясь, сказал Седой, — спускаться вниз, считай, сутки.
— Нет, ты послушай. И не смейся. Так нужно… мне.
— Закурить бы сейчас, — пробормотал разведчик,
— Кури. И слушай…
Лотта протянула ему пачку сигарет.
— Я нашла их в ранце вместе с контейнером… А это тоже трофей.
Она щелкнула изящной зажигалкой.
После первой же затяжки у Седого закружилась голова.
Роняет лес багряный свой убор, Сребрит мороз увянувшее поле…Лотта читала негромко, без особого выражения, словно вела беседу:
Проглянет день как будто поневоле И скроется за край окружных гор. Пылай, камин, в моей пустынной келье, А ты, вино, осенней стужи друг, Пролей мне в грудь отрадное похмелье, Минутное забвенье горьких мук…Ирония возвращалась к Седому вместе с привычным ощущением силы и легкости. Он видел парящее над ним небо, маленькое облачко, коснувшееся солнца, светящееся и трепещущее, слышал, как вздрагивали продрогшие ели на склонах, наполняя воздух тонким звоном, и каждой клеткой усталого, намучившегося тела ощущал жизнь, ее биение и власть.
— Помнишь наизусть, — усмехаясь, сказал он, — по литературе пятерка была?
— Была, — как эхо, грустно отозвалась Лотта.
Они помолчали. Лотта поднялась первой.
— Андрей… — глухо и строго произнесла она. — теперь слушай меня внимательно и не перебивай. Ты начнешь спуск через полчаса, как я уйду к перевалу. Будь осторожен — в горах могут бродить «эдельвейсы». Возьмешь мой «вальтер» и две обоймы. Если что… контейнер уничтожить любой ценой. В старой хижине, что на левом склоне хребта, ты ее видел, когда мы поднимались в группе к спасательной станции, тебя ждет человек. Его зовут Игнаци. У него для тебя одежда, австрийский паспорт на имя Питера Геншера, венского служащего, приехавшего в Филлах навестить брата. Он же скажет, где хранить контейнер. Ни в коем случае не держи его при себе. Американцы если не сегодня, то завтра будут в Филлахе. Первое время поживешь у моего человека. Он антифашист, потерявший всех близких в Маутхаузене. Проверок бояться не нужно. Документы настоящие. Как только представится возможность, выедешь в Вену. Микропленка останется в тайнике. Нельзя рисковать… Это приказ Центра.
— Ясно, — сказал Седой, — а все же… могли бы вместе…
— Нельзя, Андрей. Война для нас с тобой не кончится и после салютов Победы. Мы сделали одно дело из тысячи… Ты разведчик и все понимаешь. До свидания… Большой привет Сухову и генералу. Он захочет увидеть тебя еще раз. Низкий поклон Москве…
Голос ее дрогнул.
— И Малой Бронной…
Они обнялись.
Она спускалась с ледника по его следам и, когда достигла каменистой площадки, обернулась и крикнула:
— Я сама найду тебя в Москве… Слышишь?
— Слышу, — тихо сказал Седой.
Она шла по острому гребню, ведущему к перевалу. Ее силуэт долго вырисовывался на фоне синего неба. Потом он исчез.
Седой отвернулся, внимательно оглядел в бинокль склоны, вскинул ледоруб и сделал первый шаг с ледника.
Алексей ЕГОРОВ Тайна полковника Уранова
I
Утром 11 ноября 1903 года судебный следователь первого участка Твери Успенский получил сообщение, которое заставило его отложить другие дела: «Имею честь уведомить Ваше высокоблагородие, что в 9 часов 30 минут сего числа найден труп убитого мужчины на огороде Буракова между рекой Тьмакой и валом близ мельницы Нечаева. Труп убитого охраняется городовыми до Вашего прибытия. Пристав 3-ей части Октаев».[1]
Через полчаса следователь в присутствии автора донесения и двух понятых находился около мертвого человека. Поодаль, шагах в двадцати, толпились любопытные. Люди всматривались в лицо убитого: не окажется ли знакомым? Городовой, осаживая самых настойчивых, гремел басом:
— Куда лезете? Это вам не балаган, господа!
Октаев, кряжистый пристав, несмотря на свою полноту, начал действовать споро и привычно. Он достал из кармана брюк портновский аршин, измерил им тело покойника.
— Два аршина и шесть вершков. — Октаев перевел взгляд на следователя. Тот, брезгливо поджав губы, крючковатым носом уткнулся в блокнот. Пристав диктовал:
— Возраст… Парню не больше двадцати… Телосложения крепкого… Питания умеренного. Одет в ватный пиджак, застегнутый доверху на все пуговицы. Обут в высокие литые сапоги. А вот и признаки насильственной смерти! Господин следователь, извольте взглянуть, и вы, понятые, смотрите: порезы, по-видимому от ножа, вот застывшая кровь…
В толпе раздалось: «Зарезан!»
Пристав, не обращая внимания на возглас, продолжал свое дело. Шагами стал измерять расстояние от трупа до дороги, ведущей на Грабиловку.
— Четырнадцать шагов, — объявил он и остановил взгляд на присыпанном снегом предмете рядом с убитым. Нагнулся, поднял: — Калоша! С левой ноги. Совсем новенькая! Глянец еще не стерся, и нарезки на подошве сохранились… И клеймо:
«Товарищество американской резиновой мануфактуры».
Пристав присел на корточки, примерил калошу к сапогу убитого и, не скрывая радости, многозначительно произнес:
— Маловата! Не с той ноги!.. Таким ботфортам продукция американской мануфактуры и ни к чему…
— Приобщите к делу, — произнес молчавший до этого момента следователь.
— Разумеется, — пристав завернул калошу в газету, а потом стал извлекать из карманов брюк и пиджака покойника их содержимое — кусок сахара, складную щетку…
— Записка…
Следователь взял ее у пристава, развернул, пробежал глазами:
«Я девчонка молодая и не знала, что обман, мальчишка разудалый раз завел меня в чулан…»
— Лирика, едва ли поможет следствию. Но в протокол занесем. Что еще в карманах? Деньги есть?
— Денег нет, — пристав вывернул все карманы.
В толпе снова послышалось:
— А к празднику дачку давали.
— Ограбили парня.
Следователь, считая осмотр завершенным, повернулся к приставу:
— Везите тело в анатомический театр губернской больницы.
В это время из толпы вышел человек, видимо последним прибывший сюда. Пропустив мимо ушей предупредительный окрик городового, он приблизился, внимательно всматриваясь в лежащего на земле.
Пристав сделал знак городовому «не мешай» и осторожно спросил:
— Что, знакомый?
— Да никак это брат мой, Паша, — пробормотал человек.
Представители власти удовлетворенно переглянулись. Пристав обратился к подошедшему:
— Вам, сударь, придется проследовать с нами. Кстати, кто вы?
— Я Волнухин. Мне в лавку надо, а вечером заступать на смену, я смазчиком работаю у Берга.
— Да вы, сударь, не беспокойтесь, мы вас долго не задержим. Прошу в мою карету.
Следователь сунул записи в карман, натянул на руки перчатки и перед тем, как сесть в экипаж, сказал приставу:
— Начинайте предварительное расследование. И пожалуйста, не мешкайте. Нам, как охотникам, по свежим следам идти сподручнее.
— Не беспокойтесь, господин следователь, сейчас же приступим к делу. — Октаев пожал протянутую руку Успенского.
В части пристав допрашивал Волнухина по всей форме. Занеся в протокол биографические данные первого свидетеля, Октаев спросил:
— Какие предположения вы имеете по поводу убийства?
Волнухин покачал головой:
— Не знаю. Паша жил от нас отдельно.
— Где именно?
— В доме мельника, на Козьмодемьяновской улице. С Василием Кондратьевым и Михаилом Швецовым.
Первым Октаев вызвал Швецова. Долговязый, узкогрудый семнадцатилетний парень с еле заметным пушком над верхней губой вошел в кабинет без всякой робости. Пристав внимательно оглядел его и без обиняков спросил:
— Вы знаете, что ваш сожитель Павел Волнухин найден сегодня убитым?
— Вы шутите?
— Помилуйте, какие уж тут могут быть шутки! — Октаев взглядом впился в глаза парня.
— Кто же его убил? — спросил Швецов.
— Это я хотел задать вам. Вы жили с покойным.
— Да, жил. И не один. Кондратьев с нами.
— Не припомните ли, с каких пор?
— Кажись, с весны мы вместе. После пасхи поселились у мельника.
— Почему именно с Кондратьевым и Волнухиным?
— Работаем на одной фабрике. Сговорились. Дешевле, значит.
— Когда вы последний раз видели Павла?
— Да вчера. Он после смены стоял недалеко от проходной с двумя какими-то девками, а я к сестре шел на именины мужа.
Пристав припомнил листок с куплетами, найденный в кармане убитого.
— Что это за девицы были?
— Скорее всего фабричные.
— Скажите, Швецов, были ли у пострадавшего крупные суммы денег?
Михаил хихикнул:
— Какие суммы у нашего брата!
— На праздник аванс давали!
— У Павлухи копейка в кармане не задерживалась. Он и выпить, значит, был не дурак, и сладкое любил. Много сахару ел.
— Ну а неприятели у Волнухина были?
— Были. Нрав у Павлухи тверезого покладистый. Но уж выпьет, задорный становился. На прошлой неделе подрался с одним фабричным, поколотил его, тот пригрозил, что Павлуха попомнит об этом.
— Как фамилия фабричного?
— Не знаю.
— Откуда же вам известно о драке?
— Сам Павлуха рассказывал.
— Как вы думаете, Швецов, почему убили Волнухина? С целью грабежа? Или по мести? Или пострадал за любовь?
— Не знаю, господин пристав.
Октаев составил протокол допроса, прочитал его Швецову и предложил подписать.
Потом допросил Кондратьева. Тот ничего не добавил.
В сопровождении пристава и городовых Швецова и Кондратьева препроводили на квартиру, там в их присутствии перетрясли их холостяцкие пожитки. Калош ни один из обитателей каморки в доме мельника Гаврилы не носил, каких-либо материалов по делу найдено не было. Папка пристава тем не менее пополнялась документами. Был подшит к делу протокол допроса сестры Швецова, подтвердившей, что ее брат в день убийства вечером приходил к ней. Врач земской больницы удостоверил, что Василий Кондратьев семь дней подряд ходил на перевязку и в тот день был у него на приеме. В ткацком цехе фабрики Берга нашли не очень грамотную записку: «Начало. Брат путается. Хотел наповал. Ножик сорвался и себе руку порезал. Прошу расследовать Петрова. Конец».
Можно было догадаться, что некто, пожелавший остаться неизвестным, хочет или помочь следствию, или, наоборот, направить его по ложному следу. Записку приобщили к делу.
Поступило заключение от тверского городского врача, который сообщил, что «смерть Павла Волнухина наступила от кровотечения из многих ран, нанесенных острым режущим орудием — кинжалом или финским ножом».
Пристав, прочитав заключение врача, с досадой швырнул бумажку на папку. Отчего наступила смерть, всем было ясно уже при первом осмотре трупа. Но вот кто держал в руке это «острое режущее орудие»? Октаев с тревогой думал, что, несмотря на допрос многих людей, следствие не продвинулось к истине ни на шаг. Пристав вспомнил о калоше. Подошел к шкафу, снял ее с полки, повертел в руках. Иметь такую улику и не найти преступника! Это же смешно. Бросил калошу на стол. Что это? Пристав заметил сероватый комочек, выпавший из носовой части ее. Взял в руки. Да это же хлопок! Самый настоящий хлопок! Октаев обрадовался находке. Преступника надо искать на фабрике! Найти человека, который носил калоши до 11 ноября, а на другой день их уже не надевал.
И еще одно соображение пришло в голову Октаеву: Волнухин — молодой человек крепкого сложения, получивший тридцать ранений и умерший от потери крови, не мог не сопротивляться; вполне возможно, он, обороняясь, сам мог нанести убийце раны. Пристав вспомнил про записку, подброшенную кем-то на фабрике. Во все больницы были направлены срочные запросы: кто обращался за медицинской помощью 12 ноября. Среди ответов тверских докторов внимание пристава привлекла справка врача берговской больницы. В ней сообщалось, что 12 ноября в 10 часов утра на прием приходил ткач фабрики Берга Михаил Петров. Порез левой руки. Пострадавшему промыли рану, на кисть наложили повязку. Пристав снова вспомнил о записке и немедленно послал городового за Петровым.
— Где вас угораздило руку-то повредить? — как бы между прочим спросил пристав Петрова.
— Рубил говядину, господин начальник, и промазал, по пальцу задел.
— Эка неосторожность какая! — посочувствовал Октаев. — Чем рубил-то?
— А-а-а… Топорик такой у нас есть. Топориком.
— А на чем рубили?
— Как на чем?.. На стульчике… Такой чурбанчик…
Уже другим, суровым тоном пристав добавил:
— Что ж, проверим ваши показания.
Октаев встал, вызвал городового. Втроем они направились в фабричный барак, в каморку номер 34, где Михаил жил с братьями. Пригласили понятых. Пристав обратился к Петрову:
— Прошу представить стульчик-чурбанчик, на котором вы рубили вчера говядину, и топорик, которым повредили себе руку.
Петровы не сразу вспомнили, где находится стульчик, его нашли в чулане, долго пришлось искать и топорик. Пристав внимательно оглядел предметы.
Глаза его удовлетворенно светились:
— Давненько вы им, однако, не пользовались!.. Эксперты об этом скажут. Ляхов, заберите!.. А теперь поищем калошу.
Но калош Петровы не носили.
На другой день Октаев снова вызвал Петрова на допрос:
— Ну что, будем запираться?
— Не понимаю, господин начальник, чего вы от меня хотите, — пожал плечами Петров.
— Рана беспокоит, — Октаев заглянул в бумажку, лежавшую перед его носом, — глубокая и широкая. Зачем вам сочинять басню о рубке мяса? Вчера мы осмотрели топор и стул, вы сами убедились в своей лжи, а сегодня…
Пристав взял со стола бумажку, прочитал вслух:
— «Рана на большом пальце левой руки у Петрова могла быть нанесена ему колющим орудием… защищаясь от нападения, он держал левую руку вытянутую вперед, а нападающий проколол ему насквозь мягкие части большого пальца. Такая же рана могла быть причинена Петровым самому себе при условии, когда он, обнимая кого-либо левою рукою, правою наносил удары тому лицу и нечаянно поранил себе палец».
Пристав перевел взгляд на Петрова и заметил на его лице растерянность.
— Ну, что скажете?
Коротким жестом Петров разрубил воздух:
— Расскажу правду. На меня напали… Шел поздно ночью домой. Возвращался из деревни с праздника. На Грабиловке ко мне приблизились трое, стали требовать деньги. У меня ни копейки. Один из них выхватил нож и замахнулся. Я поднял руку и сразу же почувствовал в ней боль и убежал.
Петров умолк. Пристав коротко рассмеялся:
— Ничего не утаили? Так. Но почему же вы сразу не рассказали о нападении на вас? Плели о рубке мяса. Совсем нелепо!
— Я боялся, — признался Петров. — Не убивал я. Хотелось подальше быть от подозрения.
— Уведите! — сказал пристав.
Сорокатрехлетний пристав Андрей Андреевич Октаев, хитрый и опытный полицейский страж, в своем активе имел немало запутанных, сложных уголовных дел. Такая важная улика, как калоша с вложенным в носок клочком хлопка, оставленная на месте убийства, казалась Октаеву кончиком нити, который поможет размотать весь клубок преступления. Пристав стал искать калошу в цехах фабрики Берга. Он ходил от станка к станку, присматривался к обуви мужчин. Подошел к ткачихе Матрене Уткиной:
— Скажи, любезная, почему соседа нет у станка?
— Пошел за маслом.
— А кто на этом работает? — Октаев указал на станок.
— Иван Соколов.
— А не припомнишь ли, голубушка, в чем обут твой сосед?
— О чем вы, барин?
— В штиблетах или в сапогах ходит Соколов на работу?
Матрена пожала плечами, не понимая, зачем это полицейскому начальнику понадобилось.
— В штиблетах с калошами. Он у нас форсный. — Матрена подумала и добавила: — Сегодня пришел в сапогах.
— В сапогах?
Пристав дождался Соколова, подошел к нему, тронул за плечо.
— Пройдемте к нам в участок, шумно здесь, — сказал Октаев.
Диалог пристава Октаева с ткачом Иваном Соколовым продолжался в канцелярии третьей части. Допрос производился по всей форме. Ответы Соколова фиксировались в протоколе. Родился в деревне Казино Новинской волости Тверской губернии. От роду 20 лет. Холост. Четыре года работает ткачом у Берга. Жил у сестры Марии, ткачихи Морозовской фабрики, сначала в фабричных спальнях, потом на разных квартирах, сейчас — на Птюшкином болоте. Не судился.
— Знаете ли вы Павла Волнухина? — спросил пристав.
— Впервые слышу.
— А что вам известно про его убийство?
— Говорили на фабрике, что Павлуху зарезали…
— «Павлуху»? — Октаев переспросил с еле скрываемой радостью. Испытанный его прием сработал и на этот раз.
— Да, Павлуху!
— Откуда же вам известно его имя, если вы Волнухина не знаете вообще?
— Фабричные бегали смотреть труп, говорили: «Павлуху убили». Я и запомнил.
Пристав ухмыльнулся:
— Вы на фабрику все время ходили в штиблетах с калошами. А сегодня пришли в сапогах. Где же ваши калоши? Пройдем на Птюшкино болото и в вашем присутствии произведем у вас обыск. — Пристав поднялся из-за стола, подошел к Соколову: — Ну, ну, пошли!
Названия многих улиц, площадей, уголков Твери шли от метких прозвищ, данных им горожанами: главная улица именовалась Миллионной; здесь жили миллионеры Коняевы, Морозовы, Нечаевы, Берги; фабричный район, где ютился рабочий люд, кто-то окрестил Грабиловкой. Днем его обитателей грабили те, кто жил на Миллионной, а ночью на неосвещенных, грязных улицах орудовала шпана. Городская окраина, к которой подступала топь, называлась Птюшкиным болотом. Здесь жил со своей сестрой ткач Иван Соколов.
Пристав с городовыми и Соколовым вошли в каморку. Сесть негде.
— Ялымов, приступайте! — скомандовал Октаев.
— Калош нет, ваше высокородие! — поискав, сказал городовой. — У господина Соколова было время подготовиться к нашему приходу.
Вечером того же дня Октаев докладывал судебному следователю первого участка Тверского уезда о ходе допроса Петрова и Соколова:
— Они убили! Видит бог, они!
— Надо доказать!
В кабинет вошел делопроизводитель и подал Успенскому запечатанный конверт. Следователь вскрыл его, извлек бумажку, молча прочитал ее, сказал, как бы продолжая разговор со своим собеседником:
— Вот послушайте, что пишет мне господин прокурор окружного суда: «Имею честь предложить Вашему высокоблагородию передать судебному следователю по важнейшим делам для дальнейшего производства следствия возникшее в Вашем производстве дело об убийстве рабочего Павла Иванова Волнухина…» Так-то вот! — Следователь перевел взгляд на пристава.
— Выходит, жандармское управление будет продолжать следствие?
— Правильно! Вам не по носу табак, господин Октаев.
II
Еще гремела музыка в клубе Дворянского собрания и титулованные особы, промышленные воротилы и финансовые тузы развлекались в уютных залах и гостиных дворца, еще прогуливались щеголи возле пылающих огнями окон ресторанов, еще не угомонились обитатели ночлежек и воровских притонов, а утомленная дневным трудом рабочая окраина Твери уже давно спала. Ни одно из окон казарм Ямской слободы, погруженной в осенний ночной мрак, не светилось, когда надзиратель при фабрике Товарищества Тверской мануфактуры с двумя полицейскими и двумя понятыми постучался в дверь комнаты Александра Петровича Вагжанова.
— Кто там? — послышался сонный женский голос из-за двери.
— Открывайте, — потребовал надзиратель, — полиция.
Женщина за дверью испуганно запричитала.
— Немедленно открывайте или взломаем дверь! — еще более строго приказал надзиратель. — Ломов, приступайте!
Полицейский, однако, не успел схватиться за ручку, как брякнул, спадая, крючок, скрипнула дверь, и спокойный мужской голос остановил гостей:
— Что вам угодно, господа?
— Вы Александр Петров Вагжанов? — оттолкнув полицейского, надзиратель выступил вперед.
— Да, — последовал ответ.
— В порядке государственной охраны мы имеем приказ произвести у вас обыск.
— Смею спросить, на какой предмет? — спокойно спросил Вагжанов.
— Узнаете в жандармском управлении…
Больше часа продолжался обыск. Квартиру перевернули вверх дном, надзиратель убедился, что найти ничего не удастся, он повернулся к Вагжанову:
— Ждали меня? Признавайтесь!
Вагжанов в тон ему:
— Как отца родного!
Надзиратель, достав из портфеля бумагу, ручку, пузырек с чернилами, пододвинул поближе лампу и стал составлять протокол. Писал он не торопясь, четко выводя каждую букву. Когда документ был написан, он прочитал его вслух:
«Полицейский надзиратель при фабрике Товарищества Тверской мануфактуры вместе с подписавшимися понятыми прибыли в новые морозовские дома № 8/8 в квартиру крестьянина Новинской волости Ямской слободы Александра Петровича Вагжанова, где в порядке государственной охраны произвели обыск и ничего по обыску преступного не нашли. Постановили: записать в настоящий протокол».
Понятые поставили свои подписи.
Надзиратель сложил лист бумаги вчетверо, положил его в свой портфель и сказал, обращаясь к Вагжанову:
— А вам придется пройти с нами.
— Преступного ничего не нашли, а меня все же под арест! На каком основании?
— Собирайтесь! — надзиратель тронул козырек фуражки.
Казарма, растревоженная визитом полицейских, не спала. Из полуоткрытых дверей каморок доносилось: «Вагжанова взяли…»
Ночь была тревожной не только для Вагжановых. Обыски и аресты прокатились по всей Твери. На ноги были поставлены все полицейские и жандармы. Начальник тверской жандармерии полковник Уранов лично принимал рапорты о ходе операции. В его кабинете беспрерывно звонил телефон. Прибывали с докладами приставы, филеры, городовые:
— Арестован Горбатый.
— Задержан Мельник.
— Взяли Карпа…
Полковник выслушивал донесения и ждал, когда ему назовут еще два имени. Время от времени он нетерпеливо обращался к ротмистру Щербовичу-Вечеру:
— Почему не взяты Фома и Барышня?
Ротмистр лишь неопределенно разводил руками.
Приближался рассвет, а две графы в длинном списке лиц, подлежащих аресту, так и оставались незаполненными. Полковник с трудом скрывал нервозность:
— Ротмистр, вы обеспечиваете наблюдение за вокзалом, все ли меры были приняты вами?
— Николай Сергеевич, — Щербович-Вечер еле сдерживал волнение, — поезда, следовавшие как в Петербург, так и в Москву, тщательно осматривались, все пассажиры, входившие в вагоны на станции Тверь, нашими людьми внимательно изучались. Никто по железной дороге улизнуть не мог.
Богом клялись городовые, что ни один подозрительный не проскользнул через московскую и петербургскую заставы, не ушел по трактам на Старицу, Тургиново, Волоколамск, Бежецк.
— Так где же они? — раздраженно спрашивал полковник.
Возвратилась группа, которая должна была арестовать Фому в доме Бородавкина. В кабинет вошел грузный, с толстыми щеками одетый в штатское мужчина лет сорока пяти. Уже по виноватому виду, склоненной голове, словно подготовленной к удару, все поняли: вестей добрых нет.
— Докладывай, Демидов, да поживей! — полковник нетерпеливо взял сигару.
— Упустили, ваше благородие. Выскользнул, как мыло из рук! — брякнул Демидов.
Уранов сощурил глаза и, еле сдерживая гнев, сквозь зубы процедил:
— Как же это случилось? Отвечайте!
— Петербургские филеры подвели, ваше благородие! Были неосторожны.
— При чем тут петербургские филеры? — злобно выкрикнул полковник. — У них своя задача, они нам не подчинены.
Демидов понемногу оправился от испуга.
— Всю ночь продежурили, а Фома ушел.
— Докладывайте по порядку!
— Глаз с дома не спускали. Заметили, в комнате погас свет. Мы насторожились. Видимо, вышел из дому. Мы согласно инструкции незаметно — за ним. Думали, он к Барышне, а он в казенку. Следим. Из казенки — домой. Снова лампу зажег. Мы ждем: авось и Барышня пожалует. Ждем час, другой. Нет. А свет в комнате горит. Замерзать стали. Рассвет уже забрезжил. Я говорю своим: пора брать. Стучим. Поднимаем хозяина. Заходим в комнату Фомы… — Демидов достал из кармана носовой платок, высморкался, посмотрел на Уранова.
— Что же дальше?
Демидов опустил голову:
— На столе лампа горит. Глядим под лавку, на печку, под кровать. Нет. Сени, чердак, двор обшарили. Нет его. Потом уж мы смекнули: он черным ходом — в огород, затем в соседний сад… В общем, удрал…
— Дубина ты, Демидов! — Уранов не стеснялся в выражениях. — Получаете жалованье унтер-офицера, а проку от вас, Демидов, меньше, чем от простого городового.
— Петербургские филеры помешали, — опять стал оправдываться Демидов.
— Чем же они вам помешали? — почти выкрикнул Уранов.
— Нахально действовали. Вот чем. Без всякой оглядки. Открыто ходили за Фомой. Я сам однажды видел и слышал, как он остановился, подождал агента и сказал ему прямо в лицо: «Хотя бы этого рыжего-то убрали!»
— Идите! Понадобитесь, позовем.
А утром всем уездным исправникам Тверской губернии, полицмейстерам городов под грифом «Секретно» было отправлено отношение, в котором предписывалось «задержать человека, могущего иметь документы на любое имя». Сообщались его приметы.
Ни с чем возвратилась и группа по задержанию Барышни. Уранов вызвал адъютанта управления и стал диктовать: «Срочно. Конфиденциально. Начальнику Московского охранного отделения…»
Звонил телефон. Полковник снял трубку, сказал:
— Слушаю. Да. С добрым утром! В основном успешно. Арестовали двадцать пять. Скрылись двое. Принимаем меры… Сразу доложу…
Полковник повесил трубку, сказал: «Губернатор интересуется», — и продолжал диктовку:
— «Покорнейше прошу разыскать, подвергнуть обыску, арестовать, затем препроводить в мое распоряжение… проживающая по паспорту, выданному из Иркутской Духовной консистории, которая, по нашим агентурным данным, выехала из Твери в Москву 10 ноября. Посланный унтер-офицер Рылков установит ее личность».
III
Когда к ротмистру привели Вагжанова, он первую минуту был вежлив с ним.
— Давайте, господин Вагжанов, знакомиться. Я являюсь ротмистром отдельного корпуса жандармов. Фамилия моя: Щербович-Вечер…
— Не разобрал, — сказал Вагжанов.
— Ще-р-бо-вич-Ве-чер, — растягивая слова, повторил ротмистр, — признаюсь, фамилия редкая. Сразу запомните, то, клянусь честью, долго будете помнить.
Конец фразы ротмистр произнес с особым ударением.
— А рядом со мной находится товарищ прокурора Тверского окружного суда господин Охышев. Мне поручено в его присутствии на основании 1035-й статьи устава уголовного судопроизводства с соблюдением 403-й статьи того же устава допросить вас в качестве обвиняемого по делу преступных кружков города Твери… Прошу отвечать по существу дела. Вы знакомы с Иваном Ивановичем Соколовым, ткачом фабрики Берга?
— Да, знаком.
Ротмистр не ожидал такого ответа и, словно боясь спугнуть выслеженную птицу, осторожно уточнил:
— А каков характер знакомства?
— Станок Соколова недалеко от входа в цех, мне запомнился парень.
— Вы встречались с ним кроме цеха?
— Не доводилось.
— Знаете ли вы Михаила Петрова?
— Как же не знать! Он работает на станке, который в пяти метрах от моего.
Ротмистр назвал еще два десятка фамилий членов «преступных кружков», но Вагжанов сказал, что их не знает. Щербович вынул из папки несколько фотографий и стал по одной подавать допрашиваемому.
— Узнаете?
— Знакомое обличье. Он похож…
— На кого?
— На Николая Алексеевича.
— Фамилия?
— Некрасов… Такого видел в «Ниве».
Ротмистр подавил вспыхнувшее раздражение:
— Вам, господин Вагжанов, не откажешь в наблюдательности. Это не фотография сочинителя Некрасова, а Фомы.
— Фомы? Не знаю такого.
— А вот не откажите в любезности взглянуть на эту, — ротмистр протянул другой снимок.
Вагжанов взял фото, с минуту смотрел, возвратил:
— Очаровательная барышня. Не знаком…
Щербович подал еще несколько снимков, но Вагжанов ни в одном из них не признал знакомых людей.
— Собирали ли у рабочих фабрики деньги?
— Как же! Собирали, и не раз!
Ротмистр оживился. Товарищ прокурор, не проронивший до сих пор ни слова, промычал что-то неопределенное.
— На что же собирали деньги? — мягко спросил Щербович.
Допрашиваемый выдержал длительную паузу, подогревая интерес к ответу, стал загибать пальцы правой руки:
— Кто только не собирал и на что только не собирали! Пожертвования на ремонт храма Покрова, на панихиду по убиенным воинам, на рождественские подарки обитателям приюта при Тверском доме трудолюбия. Собирали штрафы…
— Хватит! — резко перебил ротмистр. — В собраниях рабочих участвовали?
— Никто меня не приглашал.
— Что вы знаете об убийстве рабочего Павла Волнухина?
— Фамилию эту впервые слышу. А про убийство слыхал, во вторник на фабрике говорили, что какого-то барина прикончили.
Ротмистр стал писать, а Вагжанов обменялся не очень дружелюбным взглядом с товарищем прокурора, осмотрел следственную комнату, окинул внимательным взором стол, за которым оформлялись его показания, повернул голову вбок. Вагжанов заметил занавеску, закрывавшую вход в другую комнату, и ему показалось, что за ней кто-то спрятан. Ротмистр протянул ему исписанный лист:
— Если не найдете здесь отклонений от сути нашей беседы, то подпишите.
Вагжанов сначала прочитал протокол допроса про себя, а потом последний абзац вслух:
— «На предъявленное мне обвинение в том, что был участником в преступном сообществе, организованном среди рабочих фабрики и ставившем целью добиться перемены правления путем революции…» — вот вы меня в чем обвиняете!
Ротмистр взял лист в руки, посмотрел на подпись, произнес:
— Ну вот и хорошо, на сегодня пока все!
Потом вызвал жандарма и приказал ему:
— Сопроводите!
Когда дверь захлопнулась, Щербович, повернувшись к товарищу прокурора, значительным тоном сказал:
— Крупная птица!
IV
Первые допросы рабочих не дали никаких результатов. Никто не дрогнул, никто не выдал товарищей. Толстые стены тюрьмы не могли скрыть эту весть. Арестованные условными знаками из камеры в камеру передавали новости, подбадривали друг друга.
Перед вторым туром допроса прокурор Тверского окружного суда Николай Николаевич Киселев получил от Уранова такое отношение:
«Милостивый государь, Николай Николаевич! В интересах успешного хода расследования по делу о преступных кружках рабочих в г. Твери представляется весьма желательным совместное в одной тюремной камере содержание привлеченных к сему дознанию обвиняемых Михаила Швецова и Василия Кондратьева.
Прося о соответствующем с Вашей стороны распоряжении по губернской тюрьме, пользуюсь случаем засвидетельствовать Вам, милостивый государь, мое совершенное почтение.
Ваш покорный слуга Н. Уранов».Просьба была удовлетворена.
Михаил Швецов радостно встретил Василия Кондратьева, когда тот появился в дверях камеры. Арестанты обнялись.
— Будто в сорочках родились. Вместе на воле жили, вместе и в тюрьме очутились, — басил Кондратьев. — А ты, Мишка, похудел. — Кондратьев вгляделся в лицо товарища.
— На тюремных харчах, брат, не разжиреешь. А ты все, значит, такой же!.. Уж не подкармливает ли тебя казематное начальство?
— Подкармливает, подкармливает… Карцером! Отсидел трое суток.
— За что же?
— Мельнику через стену передал совет, чтоб молчал. А казематный узрел в глазок, как я стучал. Вот и схлопотал! А у тебя-то как дела? Не проговорился часом?
— За кого ты меня принимаешь? — В голосе Швецова прозвучала обида.
— Да ты не обижайся! Уж больно шакалы хитры и коварны. Не заметишь, как попадешь в ловушку.
Михаил сунул руку в карман, достал масленку, превращенную в табакерку, достал папиросную бумагу.
— Закуривай, значит.
Помолчали, пока делали самокрутки.
— Давно в этом нумере? — спросил Кондратьев.
— Вторую ночь. А ты где клопов кормил?
— С уголовниками. Не приведи господи сидеть со шпаной вместе!.. Тебя допрашивали?
— Дважды уже.
— Кто?
— Сначала пристав, потом ротмистр.
— Разбираешься в чинах! А для меня все они фараоны-кровопийцы… О чем спрашивали?
Михаил несколько раз затянулся дымом, стряхнул длинным почерневшим ногтем пепел с цигарки.
— О чем спрашивали… Понятное дело — о преступных кружках.
— Ну а ты?
— Что я! Никаких кружков не знаю.
— Молодец!.. А про Фому интересовались?
— Интересовались… И про Барышню спрашивали. Но я говорил, что не знаю ни Фомы, ни Еремы, ни барышни.
— Молодчина! — похвалил Кондратьев. — А об убийстве Павлухи?
Швецов сделал длинную затяжку, прокашлялся:
— С этого начали, значит.
— И что ты на это сказал?
— Но я ведь в самом деле ничего не знаю.
Двое суток просидели в одной камере Кондратьев и Швецов, о многом успели наговориться. Вспомнили прошлую жизнь, участие в тайных сходах, друзей-революционеров, вожаков, пропагандистов. Говорили шепотом, умолкали, заслышав шаги в тюремном коридоре. На третий день Швецова перевели в камеру к Петрову и Богатову.
Издерганные допросами, оба друга не скрывали радости, увидев входящего Швецова. Расспросам и воспоминаниям, казалось, не будет конца. Сизые клубы дымы плыли над головами трех арестантов.
— Мишка, — спросил Швецова Петров, — а почему же в ту ночь ты не пришел вместе с Павлухой на огород Буракова?
— Думаете, струсил? — Михаил посмотрел сначала на одного, потом на другого. — Нет, не испугался… Вот как дело было. Ждал Павлуху с фабрики, а подошел Митяй, школьный друг… И прилип как банный лист. Говорю ему: извини, дескать, жду, свиданье у нас. А он: «Посмотрю, что у тебя за краля». Вижу: Павлуха идет, а Митяй — чтоб ни дна ему ни покрышки — не отходит. Позвал Павлуху: вот, мол, дружка встретил, ты иди, а я с ним побалакаю немного и догоню. Павлуха пошел, а Митяй как клещ впился, хоть плачь. Я говорю ему: «Прости, спешу», а он: «Брось все к черту, пойдем в трактир, угощу». А время идет… Говорю Митяю: «В другой раз сходим в трактир», — и бегом от него. Он отстал. Подбегаю к валу, крик слышу. Понял, что мне там уже делать нечего. Бегом, значит, обратно. Пошел к сестре. А от нее домой…
Швецов сделал несколько крупных затяжек и виновато прибавил:
— Неловкость за себя чувствую… Могли подумать.
— Ничего не подумали, — успокоил его Богатов.
— За одно то, что ты раскусил Павлуху, мы все тебе благодарны.
— Да и твоей финкой сработали, — добавил Петров. — Так что можешь считать себя полным участником операции.
— «Соучастником»? — скривил рот в улыбке Швецов. — Кстати, а где финка?
— В Тьмаке отмывается…
Они провели одну ночь вместе, а утром Швецова вызвали на допрос, и он в эту камеру уже не возвращался.
В тот же вечер Щербович приказал дежурному жандарму доставить на допрос арестованного Соколова.
— Как чувствуете себя, господин Соколов? — с притворным участием поинтересовался ротмистр, когда тот вошел в кабинет. — Нет ли жалоб на условия содержания в тюремном замке?
— Холодно в камере, господин ротмистр, не топят.
— Э-э, мил человек. По свидетельству историков, даже Людовику XIV было холодно в Версальском дворце, а ведь у нас тюрьма, и вы, смею заметить, не король…
Соколов ничего нового не добавил. Тогда Щербович решил поразить его своей осведомленностью:
— А знаете, господин Соколов, ваши дружки по преступному сообществу, клянусь честью, оказались более разговорчивыми. Нам уже все известно.
Щербович смолк и, не увидев на лице допрашиваемого признаков растерянности (а на это он рассчитывал), сказал:
— Хотите, расскажу вам, как это было?
— Не интересуюсь, — равнодушно ответил Соколов.
— Нет уж вы послушайте!.. В 1902 году среди фабричных рабочих Товарищества Рождественской мануфактуры были образованы преступные кружки, цель которых состояла в том, чтобы сеять смуту на фабриках, отрицать религию и семью, пренебрегать законом, не повиноваться власти, глумиться над ней, готовить свержение законного правительства и государя. Кружки объединились под главенством Фомы. В одном из кружков верховодили вы. Преступные собрания проводились на Песках, в лесу у погоста Николы-Малицы, на квартире у мельника Гаврилы. Когда же один из членов кружка прозрел, увидел, в какую трясину его затягивают, пошел в полицию и обо всем рассказал, об этом стало известно вам, вы решили убить отступника.
Ротмистр неотрывно смотрел на Соколова. Тот ничем не выдавал душевного состояния. Щербович перелистал несколько страниц «Дела»:
— Совершалось убийство так. Подговорив Петрова, Богатова и Швецова, вы в ночь с 10 на 11 ноября устроили засаду Волнухину на огороде Буракова и там его убили. Получилось, как в евангелии от Марка. Помните: «А они возложили на него руки свои и взяли его… Один же из стоявших извлек меч, ударил раба первосвященникова, оставивши его, все бежали…»
Осведомленность ротмистра огнем обожгла воображение Соколова. Мелькнула мысль: «В кружке есть еще один шпион».
— «Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в царство небесное», — пошутил Соколов, процитировав евангелие.
Ротмистр про себя заметил: «Антихрист, а помнит евангелие!»
— А заповедь «не убий» вы все-таки нарушили, — заметил он.
Щербович еще раз пошуршал страницами:
— Первую-то скрипку в оркестре играли вы, финский нож-то был в вашей руке. Вы наносили удары, а Богатов и Петров жертву держали… Ну-с, что скажете?
— Я уже все сказал.
— Жаль! Очень жаль вас, — Щербович тяжело вздохнул. — Уведите! — крикнул он полицейскому.
Швецов не сразу услышал голос ротмистра, звавшего его.
— Вы не уснули там, голубчик? — с упреком проворчал Щербович.
Швецов коснулся рукою лба:
— Голова что-то закружилась.
— Да вы сядьте… Вот сюда. Мы благодарны вам за помощь. Субчики у нас в руках, клянусь честью, Сибирь им обеспечена. А вас еще попросим…
— Господин ротмистр! — осмелился перебить Швецов. — Не подсаживайте меня пока к ним…
— Да что с вами, голубчик? Не ипохондрия ли? Потерпите!
— Нет, нет! Не выпускайте меня из тюрьмы!
— Да успокойтесь! Что вы паникуете! Вам нечего бояться! Все, кого вы назвали в своих донесениях, — за решеткой.
— Посадите меня в отдельную камеру!
— Бог ты мой! Острог для вас стал как яблоко для червя: предохраняет от врагов. — И ротмистр закричал: — Уведите арестованного!
Утром следующего дня на стол полковника Уранова с грифом «Секретно» легло отношение начальника Тверской губернской тюрьмы. В нем говорилось:
«8 января около 6 часов вечера следственный арестант, содержащийся по требованию судебной власти и Тверского жандармского управления, Михаил Швецов покушался на самоубийство через повешение между нарами, но был своевременно усмотрен, вынут из петли и при опросе о причине заявил: жизнь надоела. При осмотре врачом того же числа Швецова никаких болезненных явлений; кроме малокровия, не обнаружено».
V
Полковник Уранов шел в путевой дворец на прием к губернатору в расстроенных чувствах. «Громкое дело», которое обещал генералу и о котором уже знали в Петербурге, оборачивалось громким скандалом. Вожаки «преступного сообщества», перехитрив жандармское управление, скрылись. В мельчайших деталях разработанный план уничтожения крамолы провалился. Автор плана оказался в роли звонаря, ударившего в колокола до наступления праздника.
— Чем порадуете, Николай Сергеевич? — обратился губернатор к Уранову, когда тот, поздоровавшись, сел в кресло, указанное хозяином кабинета.
— Приятных вестей нет, — с кислой гримасой ответил полковник. — Главных преступников до сих пор не удалось задержать.
— Нехорошо, Николай Сергеевич, целая рота специально обученных филеров, замечу, хорошо оплачиваемых, не могли обложить и схватить бунтовщиков!
— Мы арестовали пять десятков соучастников!
Губернатор прошелся по кабинету:
— В сети попала плотва, а щуки ускользнули.
— Мы задержали убийц рабочего Волнухина…
— Если бы Волнухин был только рабочим, — перебил губернатор. — Идея господина Зубатова — и вы это лучше меня знаете, Николай Сергеевич, — лишь в том случае дает свои положительные результаты, когда внедренные в преступные кружки агенты остаются неразоблаченными. А Волнухин был убит как завербованный вами секретный осведомитель. В каком свете будет выглядеть ваше почтенное учреждение? Жандармское управление — это еще не суд!
Губернатор остановился подле молчавшего Уранова:
— Тюрьмы империи переполнены. А вы еще пятьдесят дармоедов посадили на казенный харч!
— После допроса многие до суда будут выпущены, — пообещал Уранов.
— А суд когда?
— После завершения следствия… Меры к задержанию главарей приняты. Я проинформировал департамент полиции, который уже дал соответствующие инструкции на месте. Всем полицмейстерам губернии разосланы распоряжения. Просил бы вас разрешить нам в порядке дополнительной меры осуществить вот такую акцию, — Уранов вынул из папки лист бумаги и передал его губернатору.
Хозяин кабинета, водрузив пенсне на нос, стал читать:
«Ввиду состоявшегося постановления по делу обвиняемой в государственном преступлении дочери священника Конкордии Николаевны Громовой имею честь покорнейше просить Ваше высокоблагородие о задержании корреспонденции, адресуемой и получаемой в Твери на имя Конкордии Николаевой Громовой, Любови Петровой Громовой, смотрителя духовного училища священника Иннокентия Иннокентьевича Попова и его жены Натальи Николаевой…»
Закончив чтение, губернатор с кривой гримасой заметил:
— Даже девчонку, кисейную барышню не могли арестовать!
— Барышня из категории щук! — Уранов немного помолчал, добавил: — Ваше превосходительство, на карту поставлена честь возглавляемого мною ведомства и моя личная честь. Я сделаю все от себя зависящее…
— Будем надеяться, — примирительно сказал губернатор.
Уранов каждый день с нетерпением ждал сообщений о ходе розыска скрывшихся, лично прочитывал все донесения и перехватываемую почту, поступающую в адреса родных и знакомых Конкордии Громовой. Все полицейские службы Тверской губернии в течение двух недель отреагировали на запрос ГЖУ. Результаты, однако, были неутешительными.
В первых числах декабря 1903 года пришло донесение из крупного рабочего района России — из Иваново-Вознесенска. Уранов с волнением взял в руки листок и жадно впился глазами в текст. Начальник Владимирского ГЖУ сообщал:
«Честь имею доложить Вашему высокоблагородию, что Конкордия Николаевна Громова самым тщательным розыском в г. Иваново-Вознесенске до настоящего времени не обнаружена».
Через несколько дней пришел засургученный пакет из московской охранки. Начальник отделения по охране общественной безопасности и порядка в Москве информировал, что «дочь священника К. Н. Громова на жительстве в Москве не обнаружена».
Петербургское охранное отделение на урановский запрос ответило, что тщательное наблюдение за квартирой сестры К. Н. Громовой Софьи Громовой, проживающей по адресу — улица Глинки, дом № 1, квартира 4, не дало желаемого результата.
Отрицательный ответ был из Иркутска, где проживал отец Конкордии — священник Громов.
— Остолопы! — встретил Уранов появление в кабинете ротмистра. — Разучились работать. За целый месяц, ни одного ценного донесения! А на Французском заводе опять листовки преступного содержания! На Песках снова собиралась сходка фабричных. В ткацком цехе у Берга неизвестный подбивал рабочих к стачке.
— Николай Сергеевич, — выждав, когда Уранов закончит фразу, сказал Щербович, — у меня обнадеживающие данные. Вот открытка на имя смотрителя духовного училища священника Иннокентия Попова:
«Поздравляю Нату с днем рождения! Целую.
К.».— Конкордия Громова поздравляет свою сестру Наталью?
— Совершенно верно, Николай Сергеевич! Адреса обратного нет, но на штемпеле четко значится: Екатеринослав.
В жандармское управление города на Днепре срочно, полетела телеграмма: «По имеющимся в нашем распоряжении данным разыскиваемая по делу убийства Волнухина Громова Конкордия Николаевна находится в Екатеринославе. Просим принять меры к задержанию».
Уже 13 февраля 1904 года начальник Екатеринославского ГЖУ сообщал своим тверским коллегам:
«При сем имею честь препроводить в распоряжение Вашего величества арестованную в Екатеринославе в ночь с 11 на 12 февраля личность, по агентурным сведениям Конкордию Громову, скрывавшую свое настоящее имя».
А 17 февраля ротмистр Щербович вызвал на допрос девушку, встречи с которой ждал давно. Заготовленный бланк протокола допроса, однако, остался чистым. Задержанная сказала ротмистру:
— Я не буду отвечать на ваши вопросы.
Барышню увели. Вышедший из-за занавески Михаил Швецов подтвердил, что это та самая, которая вела занятия в кружке.
На следующий день Щербович начал разговор с барышней, мобилизовав все свои бархатные интонации:
— Госпожа Громова, мне хотелось бы оставить в стороне служебную официальность и поговорить с вами по душам.
Барышня иронически усмехнулась.
— Я потомственный дворянин, вы вышли из духовной среды, — продолжал Щербович. — Ваш отец — известный деятель русской православной церкви. Ему будет неприятно узнать, что дочь участвует в антиправительственной деятельности. А все можно уладить, клянусь честью. Да, вы виноваты. Но как? В какой мере? Ваши действия не столь порочны, сколь безрассудны. Пусть ваш глубокочтимый отец напишет на августейшее имя вдовствующей императрицы Марии Федоровны прошение. Поверьте мне, ее великодушие не знает границ…
Улыбка с уст барышни исчезла. Ротмистра это не смутило:
— Пусть отец напишет, что, будучи всецело поглощен службою, был лишен возможности следить за воспитанием дочери и охранять ее от пагубного влияния революционеров, что она вела антиправительственную пропаганду не вследствие испорченности, а исключительно под влиянием злонамеренных лиц, воспользовавшихся ее молодостью.
Громова смотрела на ротмистра уже с откровенным презрением:
— В таком случае беседу будем вести по всей форме, — сказал он строго.
— Ни в какой форме я с вами беседовать не желаю, — твердо заметила Громова.
Ротмистр вскипел:
— Нет! Вы заговорите! Уведите ее!
В протоколе появилась лаконичная запись:
«Виновной себя не признала, от дачи каких-либо показаний отказалась».
VI
Небольшой домик на окраине Сормова, в котором жил с семьей рабочий Виноградов, давно уже был под наблюдением секретных осведомителей Нижегородского жандармского управления. Поздним июльским вечером, когда шпик выследил, как в дом по одному, соблюдая осторожность, прошли пять неизвестных, квартал был оцеплен полицейскими и жандармами.
Резкий стук в дверь, и требовательный голос стражника нарушил тишину улицы.
— Отворите! — Рукоятка нагана забарабанила по дощатой двери сеней.
— Кто там? — поинтересовался мужской голос за дверью.
— Полиция! Немедленно открывайте!
— Сейчас, за фонарем схожу…
— К черту фонарь! Быстрее открывайте! — Стражник повернулся спиной к двери и стал бить но ней кованым сапогом.
В сенях послышался топот ног, звон падающего на пол ведра, какая-то непонятная возня. Стражник, позвав на помощь городовых, приказал ломать дверь. Чей-то голос умолял:
— Да подождите вы! Открою… Спички куда-то запропастились…
Дверь была сорвана с петель, в проем вбежали блюстители порядка.
— Зажгите лампу! Вздуть огонь! Хватайте всех! — повелевал исправник.
Вспыхнули язычки пламени на спичках. Женщина зажгла лампу. Гигантские уродливые тени метнулись по стене. Исправник осмотрелся. В доме посторонних не было.
— Убежали через черный ход! — доложил через несколько минут городовой.
— Догнать! Задержать!
Группа полицейских устремилась в огород. Тотчас же послышались револьверные выстрелы, крики, свистки. Исправник приказал своим помощникам:
— Обыскать! Все обыскать! Дом, сени, чулан, двор.
Полицейские принялись за дело. А через несколько минут в дом привели высокого крепкого сложения человека. Городовой доложил:
— Бежал из дома. Оказал сопротивление.
— Документы! — приказал стражник.
— Пожалуйста! — Задержанный достал из внутреннего кармана паспортную книжку и протянул ее исправнику. Тот взял паспорт, подошел к лампе и, низко наклонившись, прочитал вслух:
— Брюховецкий Василий Иванович. Документ выдан 11 января 1903 года Гродненской медицинской управой на пять лет.
— Знаете господина? — исправник повернул голову в сторону Виноградова.
— Впервые вижу.
— Обыскать!
Городовой ловко распахнул пиджак задержанного и стал извлекать из карманов содержимое, складывая все на стол.
— А это что? — не удержался исправник, беря в руки парик. — Ты что, клоун? Комедиянт?
Ответа не дождался. Положил парик на место, принял бумажку из руки городового, прочитал молча, сказал:
— Удостоверение конторы Киевского цементного завода «Фор» на имя того же Брюховецкого. Приобщить!
— Вот еще какие-то бумажки! — воскликнул городовой.
— А ну-ка давай сюда, — исправник принял их и опять наклонился к лампе. — Да тут сам черт не разберет! — Прочел по складам: — «Дол-го нам пришлось ждать де-ба-тов Плеха-нова…» — Заключил: — Явно политика! Приобщить!
Тем временем полицейские, производившие наружный обыск, принесли в дом сверток прокламаций, стопку брошюр, жестяную коробку с хранившимися в ней штемпелями.
— На дворе под деревянным настилом нашли, — сообщал жандарм.
— Прятали, значит, преступное, — исправник взял одну книгу из стопки, полистал, положил на стол. — Во всяком случае, не жития святых!..
Закончив обыск, непрошеные гости составили протокол на предмет обнаружения нелегальной литературы, арестовали Виноградова и человека с паспортом на имя Брюховецкого.
На другой день начался допрос арестованных. Виноградов твердил одно: Брюховецкого не знал, с ним не встречался. А Брюховецкий заявил протест против незаконного его ареста. Пристав Нижегородского ГЖУ, производивший допрос задержанных, прекрасно понимал, что перед ним члены «одного преступного сообщества». А как доказать?
— Господин Брюховецкий! — обратился пристав к арестованному. — Объясните, зачем носили с собой парик?
— Я имею удовольствие состоять в киевском любительском театральном кружке. В одной из лавок мне приглянулся парик для роли короля Лира.
— Короля?
— Да.
— Хорошо понимаю, русский человек по природе своей артист. Захотелось быть королем… При вас обнаружена рукопись, в которой читаем: «Долго нам пришлось ждать дебатов Плеханова…» Это не Шекспир! В рукописи содержится критика фельетона, опубликованного в 65-м номере «Искры». Для какой роли это предназначено?
— Эту рукопись я нашел на дороге. Не успел познакомиться с нею.
— Вас задержали при попытке бегства из дома Виноградова, который привлекается к дознанию по статье 127 Уголовного уложения за допущение у себя противозаконного сообщества…
— Господин пристав, я Виноградова не знаю и был схвачен жандармами незаконно. Требую немедленно освободить меня или вызвать прокурора!
Пристав негромко засмеялся:
— Мы с вами расстанемся, как только выясним, какую роль на сцене киевского любительского театра или в социал-демократической организации вы играете.
Прошел еще один день, и пристав получил сведения, что человек с паспортом Брюховецкого проживал в номерах Обжорина с 28 января по 7 февраля, а с 17 февраля по 4 июня в доме Тюриной на Телячьей улице. Вызванные для опознания служащие номеров Обжорина подтвердили факт проживания Брюховецкого, а Тюрина квартиранта не узнала. Догадка пристава, что задержанный выдает себя за другого человека, подтвердилась. Жандармы обратились к картотеке разыскиваемых. Внимательно всматривались они в фотографии лиц, которых жаждали видеть «в натуре» и полицейское и жандармское управления. Анфас и профиль, анфас и профиль. На столе ротмистра одна горка фотоснимков убывает, другая растет. Стоп! Ротмистр впивается глазами в фото. Высокий голый лоб, открытый взгляд, немного оттопыренные уши. Это же Брюховецкий! Но усы, борода… У Брюховецкого этого нет. Их легко отпустить! Лысину не спрячешь иначе как под париком. Кто же разыскиваемый? Ротмистр отыскал в делах секретный циркуляр департамента полиции, перечитал его:
«Г.г. губернаторам, градоначальникам, обер-полицмейстерам, начальникам жандармских губернских и железнодорожных полицейских управлений, начальникам охранных отделений и на все пограничные пункты.
Состоящий под особым надзором полиции в г. Твери крестьянин Тверской губернии Зубцовского уезда Игнатовской волости деревни Благуш Иван Иванов Егоров 12 сего ноября скрылся.
Принимая во внимание, что названный Егоров заподозрен в совершении убийства с политической целью и придавая задержанию его весьма серьезное значение, департамент полиции имеет честь покорнейше просить подлежащие власти принять зависящие меры к розыску Егорова и в случае его обнаружения подвергнуть обыску, арестовать и препроводить в распоряжение начальника Тверского ГЖУ, телеграфировав о сем в департамент.
Приметы Егорова: 29 лет, рост 2 аршина 7/8 вершка, телосложение среднее, волосы русые, на голове лысина, глаза серые, средней величины, зрение плохое, очков не носит, голова круглая, лоб большой, нос умеренный, уши продолговатые средней величины, на среднем пальце левой руки сустава нет, а также недостает одного коренного зуба.
К сему департамент полиции считает долгом добавить, что мать Егорова, Дарья Никитина, 61 года, и братья: Яков, 33 лет — мастеровой, электротехник, и Петр, 22 лет — проживают в С.-Петербурге, из коих последний содержится в доме предварительного заключения».
Через несколько дней под усиленным конвоем нижегородских жандармов Фома следовал в город на Верхней Волге. Он мало знал о положении дел в Твери и сейчас пытался представить, что ждет его там. С Тверью было связано много. Сюда был выслан под гласный надзор полиции после отсидки по петербургскому делу о «преступных кружках», где работал под кличкой Нил. В Твери удалось восстановить разгромленные полковником Урановым социал-демократические кружки и вести активную революционную пропаганду. Здесь действовали замечательные пропагандисты и организаторы — Наташа, Целия, Князь, Тетушка.
Воспоминания о прожитом, о былом волнуют душу и согревают сердце, А думы о грядущем тревожат. Что-то ждет впереди? Какую линию поведения выработать?.. Надо сначала по крупицам, деталям, известным фактам восстановить картину событий осени 1903 года. Как это было?
VII
…Фома уже давно привык к тому, что один шпик тенью следовал за ним повсюду, а другой постоянно прогуливался по Семинарскому переулку недалеко от квартиры, где он проживал. А в начале ноября он вдруг почувствовал, что слежка усилилась. Решил проверить. Придя днем домой, Фома, стараясь быть незамеченным, внимательно через кисею занавески посмотрел в окно по сторонам. Предчувствия не обманули. По соседнему Пречистенскому переулку со щегольской тростью, загребающей походкой, с явно определенными целями прогуливался третий.
«Что-то готовится», — подумал Фома и решил выйти на улицу, чтобы лучше оценить обстановку. Лишь он появился в калитке палисадника, как почувствовал оживление всех наблюдателей.
Фома широким шагом меряет улицы Затьмачья, потом через мост переходит Волгу, петляет по Заволжью, попадает на набережную Тверцы. До глубокого вечера водил жандармских фараонов Фома и, когда сгустились сумерки, на улицах зажглись фонари, возвратился на квартиру.
Не успел Фома раздеться, как услышал знакомый тихий условный стук в дверь черного входа. Это был Иван Соколов. Он из числа немногих, самых доверенных лиц знал место проживания Фомы и в редких, лишь необходимых случаях, при максимальной осторожности тайно через сад, прилегающий непосредственно к стене дома, приходил сюда.
Уже по возбужденному, встревоженному виду гостя Фома понял: что-то произошло, имеет прямую связь с оживленностью агентов возле его квартиры.
— В нашей организации Иуда, — сразу с порога сообщил Соколов. — Вам надо уходить!
— Спокойно, Ваня, — тихо сказал Фома, — что случилось?
— В мой кружок проник агент Уранова. Помните Волнухина? Такой губастый. Так он!.. Мерзавец!
— Откуда стало известно? — спросил Фома.
— Он живет с Кондратьевым и Мишкой Швецовым у мельника. Он по поручению Уранова вербовал в предатели Мишку.
— Кто сказал об этом?
— Сам Мишка.
— Может, напраслину возводит на парня?
— Сам проверил. Вчера вместе с Швецовым подкараулили, как он украдкой ходил к полковнику…
— Ясно, почему к моей персоне усиленное внимание, — усмехнулся Фома, — кто еще предупрежден о предательстве?
— Пока только Наташа.
— Оповести об этом всех наших. И как можно быстрее! Необходимо до ареста — а аресты наверняка будут! — подсказать товарищам, чтобы на допросах отрицали свою принадлежность к кружкам и организациям. Согласного стада и волк не берет.
— А Волнухина, разумеется, к ногтю?
— Ни в коем случае! — возразил Фома.
— Почему же? Из-за него сколько пострадает!
— Организация не признает никакой другой расправы с провокаторами, кроме как широкого оповещения об их предательстве.
— Жандармы переведут его в другой город, он и там будет выдавать товарищей!
— Позаботимся, чтобы во всех организациях узнали, что Волнухин провокатор.
— Ну и мягкосердечность! Он изменник! — горячился Соколов.
— За жизнь этого мерзавца можем ох как дорого заплатить! Нельзя его трогать! — Фома рукой коснулся плеча Соколова. — Все собрания, встречи отменяются. Передайте Вагжанову, чтобы спрятал литературу. Гектограф перенесите в более укромное место, свежие листовки с максимальной осторожностью распространите на фабриках. Наташе, Целии, Тетушке немедленно покинуть Тверь… Ко мне дорогу всем забыть! Ну, дружище, до лучших времен.
Фома протянул Ивану руку, Соколов как тисками сдавил его ладонь. Быстро исчез за дверью. Тем же путем через оголенные сады добрался до высокого забора, нашел в нем отбитую снизу доску, отодвинул ее, просунул в щель голову, осмотрелся, выждал подходящий момент, пролез через дыру и очутился в малолюдном переулке. Пройдя несколько шагов, Соколов заметил знакомую фигуру Мишки.
— А ты что тут делаешь? — удивился Соколов.
— Тебя поджидаю, — спокойно глядел Швецов.
— Откуда же ты знал, что я здесь?
— Догадался, что пойдешь к Фоме.
— А ты знаешь, где живет Фома? — еще больше удивился Соколов.
— Знаю, мне говорил Волнухин.
— Ну и ну, — в голосе Соколова послышались тревожные нотки, — да не останавливайся же, нас могут засечь!
Швецов убыстрил шаги:
— Больше того, Павлуха говорил, что Фома — ссыльный из Петербурга, а фамилия его Егоров, а звать Иван Иванович.
От неожиданности Соколов остановился.
— Это же провал всей организации!
Швецов согласился:
— Конечно!.. Он и про Наташу все знает. Она вовсе не Наташа, а Громова. Уранов ему сказал.
— Какой мерзавец! Что же нам делать?
— Убить, значит, гада! — с поразившей Соколова спокойностью ответил Швецов.
— Убить, говоришь? — Иван удивленно заглянул в лицо попутчика.
— Да, убить предателя!
— Пожалуй, — согласился в задумчивости Соколов и заметил, что они стоят, — идем, идем…
Швецов и Соколов быстро пошли по направлению к Тьмаке. Иван лихорадочно думал, что же предпринять. Возвратиться к Фоме и посоветоваться? Нет. Очень рискованно! При усиленной слежке сам попадешь в лапы жандармов. Надо немедленно выполнить поручение Фомы.
— Михаил! — обратился к Швецову. — Скажешь всем, кого только встретишь на фабрике, о предательстве Волнухина, передай Кондратьеву: собрания кружков отменяются.
— А Волнухина когда будем кончать? — Швецов был неукротим.
— Не спеши, — бросил Соколов. — Сейчас беги к Богатову и Петрову и скажи им, чтобы немедленно пришли к Нечаевскому валу, я там буду…
Фома выпустил Соколова в дверь, выходящую в сад, и остался стоять в сенях. Несколько минут он прислушивался к улице. Убедившись, что его гость ушел благополучно — ни полицейских свистков, ни слов команды, — вернулся в свою комнату. Мысль о предательстве Волнухина завладела Фомой. Теперь для него было совершенно очевидно, что Уранов будет брать его, петербургского политического ссыльного, возродившего Тверскую социал-демократическую организацию.
Фома разделся, взял журнал в руки, присел к столу. Подперев голову ладонью, невидящим взглядом уставился на журнальную страницу и погрузился в глубокое раздумье. Что же делать? Бежать сегодня? Но тут же другая мысль: «Раз мешкают, значит, плод еще не созрел. По-видимому, хотят накрыть всех на сходке или арестовать комитет у меня на явке. Ну что ж, господа фараоны!»
Фома лег спать. Рано утром он вышел из дома и весь день водил шпиков по мокрой осенней Твери. Несмотря на повышенную бдительность филеров, ему удалось возле ресторана «Фантазия» условленным знаком передать сигнал опасности типографам. Ради этого Фома и задержался в городе.
Вернувшись к себе в комнату, Егоров подошел к окну и через занавеску внимательно посмотрел на улицу. Филеры были на своих местах. «Да, теперь пора уходить. Завтра будет поздно».
Зажег лампу, выпустил фитиля — пусть ярче горит! — и снова тихо вышел в сени, открыл дверь, выходящую в сад, спустился с крыльца и растворился в темноте. В эту ночь Фома воспользовался конспиративной квартирой, оставленной им на самый последний случай; в ней он не был ни разу, и она была вне подозрений. Подобрав с помощью своего товарища подходящую одежду, в полночь направился к проходной Морозовской фабрики. В час ночи одна смена заканчивала работу, а другая ее начинала. Смешавшись с толпой, он вошел со стороны слободки в ворота фабрики и вышел из другой проходной с рабочими, закончившими смену и направлявшимися в сторону железной дороги. С ними Фома шагал уверенно, не вызывая ни у кого подозрения.
Сорок километров по заснеженным шпалам при крепком заморозке шел Фома в штиблетах без калош. В восемь часов утра, усталый и голодный, он постучал в дверь школьной пристройки, в которой жил учитель с семьей. Здание церковноприходской школы стояло поодаль от деревни, и в утренний час никто не заметил у Третьякова незнакомого человека.
Неделю жил Фома здесь как дома. Затем с документами на имя Брюховецкого под видом прасола, знакомого Третьякову, в модной поддевке на меху и шапке котелком отправился в крестьянских розвальнях на ближайшую железнодорожную станцию. «Прасол» без приключений добрался до станции Екатеринослав.
Затем — Москва, Женева, Нижний, Сормово. Полгода напряженнейшей работы сначала в местных комитетах партии, потом уполномоченным по подготовке III съезда партии. И вот снова Тверь…
VIII
Ротмистр Щербович с нетерпением ждал встречи с руководителем тверской социал-демократии. Дело о преступных кружках давно уже кисло из-за отсутствия главного обвиняемого — Фомы. Теперь он схвачен, и его можно судить не только как организатора кружков, но и как подстрекателя к политическому убийству.
— Ну вот и встретились! — Щербович оценивающим взглядом окинул Фому, приведенного стражниками на допрос. — Долгонько ждали мы этой встречи.
Фома промолчал. Ротмистр сел на стул и, продолжая сверлить глазами арестанта:
— Ваше исчезновение из Твери совпало с убийством рабочего Павла Волнухина. Было ли это случайным совпадением или тут есть какая-то связь?
— Господин ротмистр, — воспользовался паузой Фома, — я господина Волнухина не имел чести знать, о его убийстве мне ничего не известно.
— Господин Егоров, должен вас предупредить, год, который прошел со времени убийства, для нас не пропал даром, Нам все известно. Решительно все. И независимо от того, признаете вы себя виновным или нет.
Ротмистр не сводил глаз с Егорова, слушавшего с иронической усмешкой на губах.
— Все известно, стоит ли терять время на встречи со мной?
— Будь моя воля, я ограничился бы одним листом бумаги — приговором. Доказана вина — суд скорый и правый! Преступника в острог или на каторгу. Осмелюсь высказать крамольную мысль: если суждено погибнуть нашему строю, то он погибнет не от вашей революции, а от нашей российской любви к бумаге. Вот полюбуйтесь! — Щербович стал вынимать из ящиков стола папки. — Раз… два… три… четыре… пять… шесть… Что это? Как вы думаете? Это показания Соколова, Швецова, Богатова, Вагжанова, Кондратьева, Громовой!..
«Неужели и Наташу схватили?» — подумал Егоров.
А ротмистр продолжал:
— Записываем каждую мелочь. — Открыл одну, полистал, стал читать: — «Опись вещественных доказательств, приложенных к дознанию». Название вещей и бумаг, отобранных у обвиняемого Бусарова. Прокламации Российской социал-демократической рабочей партии под заголовком «Письмо товарища из Одессы по поводу последних событий», один экземпляр «Летучего листка» № 4 от 19 февраля. Один экземпляр брошюры «Листки жизни» № 10 от 20 сентября. Рукописное стихотворение «Невинно осужденный». А вот опись вещей, отобранных у обвиняемой Конкордии Громовой. Ну, это-то зачем? Тут вот «Список лиц, обвиняемых по дознанию о революционных кружках, организованных среди фабричных рабочих Твери Иваном Ивановичем Егоровым». Впрочем, этот документ нужен! Под номером первым значится Вагжанов Александр Петрович, 26 лет, содержится под стражей…
Ротмистр опять откинулся на спинку стула, посмотрел на допрашиваемого:
— Под 24-м номером ваша фамилия, господин Егоров. В графе «Где находится обвиняемый» тут значится: «Разыскивается». А вы перед нами.
— Я не думаю, — предупредил Егоров.
— Это почему же, смею спросить?
— Мне нечего сказать.
Щербович ястребом посмотрел на Фому.
— Рабочий Волнухин посещал один из преступных кружков, которые вы создали. Он раскаялся как грешник перед алтарем. Об этом стало известно вам. Боясь, что Волнухин выдаст вас всех, вы и приказали своим сообщникам убить его.
Щербович посмотрел в глаза допрашиваемого, но, встретив прямой суровый взгляд его, нахмурился.
— Будем, однако, продолжать допрос.
В двери появился дежурный полицейский, ротмистр приказал ему:
— Вводите!..
Конкордию Громову привели последней. «Все-таки ее схватили», — с сожалением подумал Иван Иванович.
— Вы знакомы с этой госпожой? — ротмистр уже понимал, очная ставка ничего не изменит в допросе.
Егоров долго смотрел на Наташу. И Наташа смотрела на Фому с нежностью и теплотой. Ротмистру было ясно, что в его кабинете встретились хорошо знакомые люди. Но они ему в этом не признаются.
Щербович посмотрел по очереди на допрашиваемых:
— Вы знаете друг друга?
— Нет, — замотали оба головами.
— Уведите, — ротмистр кивнул головой в сторону Громовой. — А с вами продолжим беседу.
Не получив никаких дополнительных сведений по существу дела, Щербович составил протокол. В документе говорилось:
«Прозвище Фома я не носил и не слыхал, чтобы меня так называли. На все остальные вопросы, как-то: пребывание мое в Твери, мой отъезд, дальнейшая моя жизнь и местопребывание, приезд в Сормово — я отвечать не желаю, равно не хочу сказать, откуда я достал паспорт на имя Брюховецкого. Задержан я был в Coрмове полицейским, когда шел ночью по улице, ни на каком собрании я в тот вечер не был. Задержали меня, видимо, случайно, разыскивая кого-то другого.
И. И. Егоров».IX
Прокурор Тверского окружного суда Николай Николаевич Киселев, внимательно ознакомившись с материалами дела, позвонил по телефону Уранову и пригласим его к себе.
— Николай Сергеевич, — сказал прокурор полковнику, — я пришел к прискорбному выводу, что вашего агента Михаила Швецова придется на суде открывать.
У полковника вытянулось лицо.
— Понимаю деликатность ситуации, но нам не обойтись без этого, — прокурор взял одну папку, — здесь тысячи страниц, сотни тысяч слов!
— Тут все доказано, — вставил Уранов.
— Согласен с вами, Николай Сергеевич! Но будем откровенны. На чем зиждется дело? На показаниях тайного агента Швецова. Он же, кстати, Антонов, он же Федоров. Уберите протоколы допросов его, и не за что будет зацепиться.
— Пусть проходит как соучастник преступных сборищ, — посоветовал полковник. — Он сам просится в кутузку. Смотрите том 1, страницу 41.
Прокурор открыл указанный том, нашел нужную страницу, вслух прочитал: «…Я весь проникся страхом за свою жизнь и убедительно прошу заключить меня под стражу. Большую перемену нашел я в себе после убийства…»
— Страх этот, Николай Сергеевич, теперь преследует Швецова. И я не уверен, что агент будет последователен, тверд в своих показаниях. Выгоднее сейчас, на предварительном следствии, сказать правду, пусть не всю, иначе она всплывет на суде. Найдется местный адвокат Плевако, который судебное заседание превратит в комедию.
— Я должен посоветоваться с Петербургом, — сказал на прощание Уранов.
А через несколько дней прокурор получил от департамента полиции с грифом «Конфиденциально» сообщение, в котором сообщалось:
«Милостивый государь Николай Николаевич! По делу об убийстве рабочего Павла Волнухина командирован в Тверь делопроизводитель департамента полиции коллежский советник Н. А. Макаров. Ввиду некоторых сведений, имеющихся в распоряжении Макарова, представляется весьма желательным ознакомление его с данным делом».
Вскоре появился и сам коллежский советник. Маленький, кругленький, в штатском платье, он походил скорее на коммерсанта, чем на полицейского чиновника. Коллежский советник не проронил ни слова на беседе прокурора с Урановым.
Оставшись один, прокурор стал читать написанные рукою полковника показания:
«Я, Николай Сергеевич Уранов, 45 лет, православный, начальник Тверского ГЖУ, не судим, посторонний…»
Прокурор скривил тонкие губы в усмешке, повторил! не без сарказма: «Посторонний». Читал дальше:
«В настоящее время, точно не помню, в конце ли августа или в начале сентября…»
Прокурор снова прервал чтение, подумал: «Каков пассаж! В одном случае он демонстрирует феноменальности памяти, указывая, на какой странице зафиксированы отдельные фразы показания Швецова, а в другом — «точно не помню».
Киселев продолжал чтение:
«…начальник Тверского отделения Щербович-Вечер при встрече со мною сказал мне, что к нему приходил какой-то молодой рабочий с Каулинской фабрики, желая сделать заявление по поводу тайного рабочего кружка, но что ротмистр сказал ему, чтобы он шел с этим заявлением ко мне. Спустя несколько дней, как-то вечером часов около девяти-десяти, точно не помню, ко мне в управление явился молодой человек, назвавшийся Швецовым и пожелавший сообщать о собраниях преступных кружков рабочих. Швецов несколько раз ко мне приходил один, а раза два-три с Волнухиным, последний же был у меня один, без Швецова, за несколько дней до его убийства. Мне было некогда, я позвал его к себе в столовую и спросил, какое он желает сделать сообщение. Волнухин мне объяснил, что во вторник к ним на квартиру должна прийти интеллигентка, и советовал за ней проследить. Я сказал Волнухину, что с таким неважным сообщением ему не следовало ко мне приходить, чтобы не рисковать лишний раз…»
Для прокурора было ясно, что Уранов многое недоговаривает, темнит. «Впрочем, бог ему судья», — подумал! Киселев.
На следующий день Уранов неожиданно позвонил по телефону прокурору и сказал, что у него есть дополнительные показания по делу.
— С ними знаком господин Макаров? — спросил Киселев.
— Нет. Я не успел познакомить. Он сегодня утром с курьерским поездом отбыл в Петербург.
— Что же, направьте материал мне.
Уранов дополнительно сообщал следующее:
«Волнухин однажды сказал мне, что какой-то молодой интеллигент, по виду и разговору похожий на еврея, очень горячо и убедительно говорил, что изменников, если таковые появятся в среде кружковцев рабочих, обязавшихся хранить тайну, нужно убивать… Предполагая предательство, Егоров лично или через кого-нибудь мог выследить Волнухина, когда он заходил ко мне в последний раз за несколько дней до убийства, хотя при посещении моей квартиры агентами я всегда предупреждал последних, чтобы они были как можно осторожнее при входе и выходе и проверяли себя всякий раз».
Молчаливый делопроизводитель из департамента полиции, оказалось, имел генеральские полномочия. Спустя две недели после его визита в Тверь прибыл новый начальник ГЖУ, а полковник Уранов был отозван в Петербург.
Следствие по делу было закончено, обвинительный акт составлен, существование «преступных кружков» доказано, виновные в убийстве Волнухина определены. Но прокурор не торопился передавать дело в окружной суд. И этим вызвал раздражение не только жандармского управления, но и губернатора. Когда в путевом дворце обсуждалось положение в губернии, новый начальник ГЖУ Александров в весьма энергичных выражениях требовал ускорения суда.
— Суд, — горячился Александров, — нужен как мера устрашающая, как красные флажки при облаве на волков.
— Красные флажки мы видим каждый день, — саркастически парировал прокурор, — они появляются над головами демонстрантов везде и даже на Миллионной!
— И будут появляться, — огрызнулся полковник, — пока люди не видят результатов нашей работы.
Прокурор усмехнулся:
— Если широкие круги общественности узнают о результатах работы вашего почтенного учреждения, поверьте мне, нам лучше не будет. Получится как при топке печи, сработанной неумелым печником: дым-то пойдет не в трубу, а в помещение.
— Но безнаказанность развращает чернь, вот послушайте. — Полковник открыл папку, взял лист бумаги, стал читать: — «В Твери создан совет рабочих депутатов, который единой истинной представительницей интересов всего угнетенного народа признает РСДРП…» Что вы скажете на это?.. На крестьянской сходке в селе Плосское Новоторжеского уезда вынесено решение — «упразднить земские учреждения, землю передать в общее пользование народа». В Мелковской земской школе Тверского уезда сборище крестьян требовало раздела помещичьей земли. Сход представителей всех волостей Старицкого уезда постановил добиваться уничтожения сословий и отдачи под суд вас, простите, — Александров посмотрел на губернатора, — да, вас, ваше превосходительство…
Губернатор словно ждал обращения к нему:
— Да, бесчинства творятся каждый день. И не только в нашей губернии. Вот послушайте, — губернатор взял со стола лист бумаги: — «Не прекращающиеся покушения и убийства должностных лиц и ежедневные дерзкие грабежи приводят страну в состояние полной анархии». Это, господа, я читаю послание государя! Император требует принятия экстренных, исключительных мер, пока не будет восстановлено спокойствие.
— Прошу прощения, ваше превосходительство, Волнухина нельзя отнести к категории должностных лиц, он был тайным агентом, — заметил прокурор.
— Он считался рабочим, — вставил полковник.
— Тайное, к сожалению, стало явным!
— Господа, — прервал губернатор, — главное не в том, был ли Волнухин должностным лицом или рабочим, тайным или явным агентом. Совершено беззаконие, виновные должны быть наказаны. Суд — это демонстрация силы государства… Враги царя и отечества не должны уйти от справедливой кары!
В начале апреля 1906 года Тверской окружной суд по уголовному отделению открыл судебное заседание по делу Соколова, Богатова, Петрова, Егорова.
Председатель суда Домашевский-Писляк, объявив, какое дело подлежит рассмотрению, приказал судебному приставу ввести подсудимых. По залу, заполненному до отказа, пронесся шумок. Дверь распахнулась, в проеме показалась фигура стражника, за ним шли обвиняемые. Их посадили на скамью перед судейским столом, возвышавшимся на высоких подмостках. Охранники встали по бокам.
Председательствующий взял колокольчик, потряс им над головой:
— Господа! Прежде чем открыть судебное заседание, я должен огласить телеграмму министра юстиции сенатора Акимова, полученную на мое имя. Вот ее полный текст:
«Тверь. Председателю окружного суда. На основании статьи 62 Устава уголовного судопроизводства предлагаю вашему превосходительству распорядиться закрытием дверей судебного заседания на все время слушания дела о крестьянах Соколове, Богатове, Петрове, Егорове и мещанине Швецове, обвиняемых в преступлении, предусмотренном статьями 13 и 1454 Уложения о наказаниях.
Министр юстиции и сенатор Акимов».В зале поднялся невероятный шум. Домашевский-Писляк отдал приставу распоряжение удалить постороннюю публику. С места поднялся присяжный поверенный Муравьев.
— Господин председатель, — сказал он, — прошу слова по процедурному вопросу!
— Говорите!
— Ввиду особого значения настоящего дела и в интересах правильного разрешения его я от имени защиты прошу передать по телеграфу министру юстиции нашу просьбу об открытии дверей заседания для посторонней публики.
— Я протестую, — вскочил с места прокурор. — Ходатайство защиты об отправлении телеграммы министру следует отклонить. Распоряжение министра основано на статье 621 УУС и является актом декретированном власти его.
Защитник парировал:
— Распоряжение министра лишено точно формулированной причины. Это, во-первых, а во-вторых, если наша просьба об открытии дверей заседания не будет удовлетворена, мы не находим для себя возможным участвовать в рассмотрении дела.
Председательствующий пошептался с членами суда и объявил:
— Заседание прерывается до шести часов пополудни.
Вечером была оглашена телеграмма министра, в которой он предоставлял решение вопроса на усмотрение суда. Суд постановил допустить в зал публику.
Председательствующий спросил подсудимых, выданы ли им копии с обвинительного акта, списки судей, лиц прокурорского надзора и присяжных заседателей. Получив утвердительный ответ, Домашевский-Писляк приступил к проверке свидетелей. Оказалось, что девятнадцать из них отсутствуют. Судебный пристав стал докладывать о причинах их неявки.
— Повестка на имя Суханова возвращена неврученной из-за нерозыска его. Жандармский унтер-офицер Михаил Демидов командирован в распоряжение командующего Петербургским жандармским дивизионом и отправлен на Дальний Восток. Его брат Павел Демидов умер. Унтер-офицеру Круглову вручена повестка лично, сведений о причинах неявки нет. Полицейский из Сормова также не явился.
Попросил слова защитник Муравьев:
— Господа! Поскольку в зале заседания отсутствуют очень важные свидетели от жандармерии, я вношу предложение вызвать в качестве свидетеля бывшего начальника Тверского жандармского управления полковника Уранова.
По залу прошел шепоток. Защитник продолжал:
— Полковник Уранов мог бы сообщить суду ценный материал о взаимных отношениях между потерпевшим Волнухиным и рабочими-конспираторами.
Ходатайство защиты было принято. Слушание дела отложили. В Петербург пошла повестка о вызове Уранова в суд.
Полковник Уранов, получив повестку, сразу же направился в Николаевский военный госпиталь и попросил у врача назначить ему стационарное лечение.
В Тверь повестка возвратилась с пометкой ординатора:
«Полковник Уранов по состоянию болезни явиться в назначенное число не может».
14 апреля Тверской окружной суд снова открыл свое заседание. Начало шло как в хорошо отрепетированном спектакле. Стражники ввели подсудимых, на столе разложили вещественные доказательства. Председательствующий огласил состав суда, защиты, прокурорского надзора, задал подсудимым процессуальные вопросы. Когда перешли к проверке явки свидетелей, оказалось, что на суд не явились прежние лица.
Прокурор предложил признать неявку свидетелей Уранова, братьев Демидовых законной и взысканию их не подвергать; других свидетелей оштрафовать, разбор дела начать.
Защитник Муравьев ходатайствовал перед судом слушание дела отложить до выздоровления Уранова.
— Прошу суд, — сказал Муравьев, — предупредить Уранова, что при неявке его к следующему заседанию к нему может применена статья 641 УУС о принудительном приводе.
Прокурор, не усматривая необходимости в принятии исключительных мер к вызову полковника, предложил, однако, признать явку его обязательной.
Николай Сергеевич Уранов, недавно выписавшийся из госпиталя, и его друг кавалерийский офицер князь Туманский сидели за отдельным столиком в ресторане петербургского сада «Неметти» и вели непринужденно беседу. Теплый майский вечер, доброе французское вино, гаванские сигары способствовали хорошему расположению духа. Друзья уже обменялись светскими новостями, когда мальчишка — разносчик газет звонким голосом сообщил:
— Вечерний выпуск «Биржевых ведомостей»…
Князь поманил пальцем газетчика и взял у него вечерку. Окинув взглядом первую страницу, заполненную рекламой и объявлениями, молвил:
— Где вы хотите развлечься, Николай Сергеевич? Какой огромный выбор зрелищ! Театр «Фарс»: «Первая ночь»… Ну как, подойдет? Или вот: «С рук на руки». Сад и театр «Буфф»: «Женское сердце», «Под пленительным небом Италии», «Болезнь столичного мужа», «Бедные овечки»… Репертуар, Николай Сергеевич, что надо! И это не все. Новый летний театр: «Фауст» с участием артиста императорских театров Федора Шаляпина. Крестовский сад: парижский дивертисмент знаменитостей, дебют красавицы Виолет Вегнер.
Князь поднял глаза на Уранова:
— Вы не хотите, полковник, видеть красавицу?
— Красавицы, князь, по вашей части.
— А может быть, вам известно, где лежит золотая цепочка с карандашом и ключами, утерянная 8 мая? 50 рублей тому, кто доставит ее на Галерную, дом 77… Парики-накладки, «невидимки» по умеренной цене… Хе-хе, — Туманский похлопал ладонью по собственной лысине и перевернул страницу газеты:
— А вот тут, послушайте, о нашей русской юной красавице: «18 мая в акушерском отделении одной из больниц сделалось матерью 14-летняя девица Александра К., ученица одной из белошвейных мастерских. Роды были тяжелые и потребовали вмешательства хирурга…» Бедняжка! «До появления ребенка родители и хозяйка ничего не знали о беременности девушки…» Вот это конспирация, полковник!
Уранов промолчал. Князь читал дальше:
— 14 мая со скорым поездом Варшавской железной дороги через Вержболово за границу отбыл статс-секретарь граф Витте с семейством, — Туманский, прочитав начало заметки, посмотрел на своего собеседника. — Как вы на это смотрите, Николай Сергеевич? Господин Витте покидает холодный и праздный Петербург.
— Скатертью дорога! — процедил Уранов. — Чем меньше будет таких деятелей в России, тем больше будет порядка.
— Вы несправедливы. Граф проводил гибкую политику. Ему мы обязаны манифестом 17 октября. Родилась партия кадетов.
— России нужен был не манифест! Вышедшего из повиновения лоботряса надо не пряником задабривать, а кнутом… Конституционная демократия — слишком слабый противовес социал-демократии.
— Применять и кнут и пряник. И поверьте, Витте это делал очень искусно. Кстати, у вас, Николай Сергеевич, есть любимая газета?
— Конечно.
— И какая же?
— «Биржовка».
— Интересная собеседница! Обратите внимание, какое обилие информации, разнообразие тем! «Подвиг корнета Мотева», «В одиночном заключении», «Заупокойная литургия и панихида по пяти тысячам погибших в Цусимском бою»… Я читаю только заголовки: «В рабочих кварталах и на окраинах Петербурга состоялось несколько митингов рабочих». «В Севастополе 14 мая во время парада в коменданта Неплюева брошены две бомбы»… Вот это фейерверчик! В тифлисского генерал-губернатора Тимофеева брошена бомба. Не пострадал, счастливчик!.. Читаю дальше: «По делу ограбления Душетского казначейства арестовано девять человек, при них найдено 50 тысяч рублей».
Туманский оторвал взор от газеты, посмотрел на Уранова, сказал:
— Согласитесь, Николай Сергеевич, это же зеркало нашей жизни. Господа социал-демократы твердят, что в России нет свободы слова, нет свободы печати. Тогда что же это? Все стороны нашей жизни охвачены! И тюрьма, и дума, и любовь, и убийства, и столица, и провинция…
Туманский отхлебнул из фужера глоток вина, глянул на последнюю колонку газеты, заметил информацию из Твери:
— Смотрите, тут даже сообщение из вашей родной Твери. «14 мая. Рабочие Верхневолжского завода, окрестные крестьяне и молодежь устроили в Николомалицкой роще митинг и прогулку с пением «Марсельезы». Казаки и стражники разогнали толпу. Арестованных освободили».
Туманский отпил еще несколько глотков вина, улыбнулся, шутливо произнес:
— С вашим отъездом из Твери там меньше стало порядка.
Уранов не смог оценить шутки, напоминание о Твери неприятной болью отозвалось в сердце. А Туманский в это время с еще большей заинтересованностью впился глазами в самый нижний угол газетной страницы. Через полминуты он уже воскликнул с сарказмом:
— Поздравляю, полковник, ваша любимая газета удостоила лично вас своим вниманием. Послушайте-ка, что пишут тут «Биржевые ведомости»: «Жандармский полковник занят. Тверь. 14 мая (РА). Громкое дело об убийстве фабричными рабочими сыщика Волнухина вторично откладывается Окружным судом по неявке свидетеля жандармского полковника Уранова, показания которого имеют существенное, важное значение. Прокурор и защитники настаивали на приводе Уранова через полицию. Дело перенесено на сентябрьскую сессию». Каково?
Уранов выхватил газету, перечитал заметку, зло выдавил из себя:
— Вот вам заслуги господина Витте! Вот вам последствия манифеста 17 октября! Рупор самого состоятельного сословия, газета, призванная быть на службе царя и отечества, поднимает руку на ее верных слуг, выбалтывает государственные тайны…
Тихий майский вечер для Уранова был уже испорчен. Полковник сразу же покинул ресторан «Неметти» и, придя домой, сел за стол, чтобы написать ответ в Тверской окружной суд.
X
4 апреля 1907 года, ровно через год, Тверской окружной суд возобновил разбор дела об убийстве Волнухина.
Дом тверской Фемиды правосудия заметно потускнел. Подошвы судей и подсудимых, присяжных поверенных и стражников, просителей и свидетелей выщербили ступени парадной лестницы. Снег и дождь, град и иней выбили и омыли краску с колонн портика, и он стал похожим на фасад заброшенной барской усадьбы. То там, то здесь штукатурка со стен зала отбилась, и обнаженные места напоминали решетку тюремных камер. Еще больше посерели лица тех, кого привели в зал и посадили (уже в который раз) на отполированную задами дубовую скамейку, стоящую перед судебным возвышением.
Заметно поубавилось свидетелей. Некоторые из тех, кто был призван помочь разбору дела, умерли своею смертью, другие, как сормовский рабочий Виноградов, во время революции пятого года были убиты, а третьи полегли под Мукденом и в Порт-Артуре «за царя и отечество».
Не теми уже были и оставшиеся в живых свидетели. Особое внимание привлекал к себе Александр Петрович Вагжанов. Арестованный по делу одним из первых, он отсидел несколько месяцев в Заволжском остроге, а потом за недостатком улик был выпущен на свободу и сразу же отправлен в солдаты. Его не сразила японская пуля, не сломил офицерский произвол. Отслужив положенный срок, Вагжанов вернулся в родную Тверь еще более зрелым революционером и снова включился в водоворот событий. Когда были объявлены выборы во II Государственную думу, рабочие избрали его своим депутатом. Он вошел в социал-демократическую фракцию.[2]
Пришлось выпустить на свободу и Барышню — Конкордию Громову. Доносов двух тайных агентов было недостаточно, чтобы посадить ее в тюрьму.[3]
И состав суда претерпел изменения. В председательском кресле восседал другой человек по фамилии Носович. Обвинение теперь представлял товарищ прокурора Кичеев. Сам господин прокурор за поддержку предложения о вызове Уранова в суд прослыл в петербургских кругах либералом и по этой причине был отстранен от участия в процессе.
И опять по мудро составленному сценарию, именовавшемуся Уставом уголовного судопроизводства, начался спектакль суда. Носович тихим бесстрастным голосом объявил состав судей, перечислил фамилии лиц присяжных заседателей и присяжных поверенных, задал дежурные вопросы подсудимым. Все шло гладко до того, как началась проверка свидетелей. На суд не явились представители жандармского управления и полиции. Товарищ прокурора предложил признать законной их неявку. Защитник Муравьев заявил, что показания Уранова и других жандармских и полицейских чинов являются исключительно важными для судебного заседания и поэтому слушание дела следует отложить до их явки.
Попросил слова подсудимый Михаил Швецов. Глухо, ни на кого не глядя, простуженным голосом сказал:
— Надо вызвать Уранова на суд.
Товарищ прокурора с удивлением посмотрел на Швецова.
Председатель Носович тут же за столом посовещался с членами суда и объявил:
— Согласно телеграмме из Севастополя свидетель полковник Уранов по служебным обстоятельствам явиться на заседание не может. Признать его неявку законной.
Затем Носович обратился к присяжным заседателям, не имеет ли кто-либо из них законных причин к отводу себя от участия в решении дела. Отвода не последовало. Носович подписал список и предъявил сторонам на рассмотрение. Товарищ прокурора отвел трех заседателей, защита отвела столько же.
Председатель объявил:
— Для составления присутствия вносятся кандидатуры 18 присяжных, — и опустил билеты с их именами в ящик. Затем, перемешав бумажки, Носович стал по одной вынимать их и читать вслух фамилии лиц, которые по воле жребия должны были составить присутствие присяжных.
Когда процедура, призванная показать обывателю «законность» суда, подошла к концу, председатель приступил к чтению обвинительного акта.
— Утром 11 ноября 1903 года в местности…
Долго читал Носович акт обвинения.
Закончив чтение, по очереди спросил подсудимых, признают ли они себя виновными. Арестованные отвечали «нет».
В зал ввели свидетелей, пригласили священника. Он привел к присяге по тексту клятвенного обещания приглашенных. Эксперты-врачи Абрамович и Данилович римско-католического вероисповедания согласились принять присягу от православного священника.
Носович напомнил свидетелям статью 716 Устава об обязанности их показывать правду и об ответственности за ложные показания. Затем все свидетели были удалены из зала за исключением одного — брата пострадавшего. С него начался допрос. Потом были оглашены протоколы осмотра места события, показания неявившихся полицейских чинов и умерших свидетелей.
Поздно ночью объявили перерыв до 10 часов утра. С согласия сторон свидетели были отпущены домой, а присяжных заседателей препроводили в особую комнату, к дверям которой приставили стражу. Здесь они и провели ночь под наблюдением судебного пристава.
Весь следующий день ушел на допрос свидетелей. Во время вечернего заседания товарищ прокурора предложил огласить протокол осмотра и судебно-медицинского вскрытия трупа потерпевшего. Врач Абрамович от имени всех экспертов огласил заключение и тут же заявил ходатайство о вознаграждении.
После этого Носович объявил судебное следствие оконченным, предоставил слово товарищу прокурора. Обвинительная речь Кичеева изобиловала громкими метафорами и звонкими эпитетами. Он обличал врагов царя и отечества, призывал сурово карать всех, кто распространяет крамолу и сеет беспорядки, он картинно выбрасывал руку вперед, указательным пальцем, словно пистолетом, нацеливался то на одного, то на другого подсудимого.
— Вот они, носители зла, сеятели смуты! — кричал на высокой ноте Кичеев. — Они призывают отнять у честных людей трудом и воздержанием нажитое добро и разделить его между теми, кто не желает честно работать, а хочет жить за чужой счет. Они проповедуют безнравственные, чуждые престолу и порядку начала, зовут к свержению законного правительства. По их вине в пятом году пылали усадьбы честных граждан отечества! Они сеют в народе злой дух вражды и ненависти. И вот жертвой этой вражды пал невинный рабочий Павел Волнухин.
Товарищ прокурора сделал паузу, отпил глоток воды, продолжал:
— Но уйти ему не удалось! Страшась, что Волнухин выдаст все преступное сообщество, главарь Егоров, он же Фома, он же Нил, решил убить отступника… Эту кровавую миссию он поручил Соколову, Богатову, Петрову.
Речь обвинителя звучала солидно и убедительно. В зале уже многие смотрели на Фому как на организатора убийства.
Оставим пока зал суда и вернемся к дням, предшествовавшим драме, разыгравшейся на огороде мещанина Буракова.
…Поздним осенним вечером, когда постепенно затухал шум городских кварталов, по главной улице Твери в числе немногочисленных прохожих шел, то и дело озираясь по сторонам, человек. Тайный агент Павел Волнухин не подозревал, что от встречи с полковником Урановым зависит его жизнь. Начальник управления, всегда внимательный и настороженный, на этот раз особенно пристально присматривался к своему филеру.
— Вас, надеюсь, никто не заметил? — настороженно спросил полковник агента.
— Кажется, нет, — сказал Волнухин.
Слово «кажется» не было в пользу сказавшего.
— Садитесь, Волнухин! — Уранов жестом указал на венский стул, стоявший у стола, взял из коробки сигару, откусил кончик, сплюнул, не торопясь зажег спичку, прикурил.
Волнухин понемногу оправился от робости, сел на указанный стул. Затем сунул руку в потайной карман изрядно поношенного ватника, достал какую-то бумажку, глянул в нее — не та, положил ее обратно, развернул вторую — она! Но полковник внимательно следил за каждым движением агента:
— Вы сколько уже сотрудничаете с нами?
Волнухин собрал гармошкой кожу на лбу, посмотрел на потолок:
— В покров день будет полгода, ваше благородие!
— Полгода, — повторил вслух Уранов и про себя закончил мысль: — «и не может запомнить десяток фамилий».
— Опять у мельника Гаврилы собирались… Были Соколов Иван, Богатов, Вагжанов, Александр…
Когда тот умолк, кладя бумажку обратно в карман, полковник сунул сигару в рот, протянул руку:
— Отдайте-ка, голубчик, свои записи мне, так будет лучше.
Волнухин немного поколебался, вынул записку и положил ее на стол.
Шеф жандармов взял ее, разгладил ладонью, приблизил к лицу, ухмыльнулся:
— Да вы, братец, поэт. Сам господин Мережковский позавидовал бы вам. Это же вирши! Просто гениальные! «Я девчонка молодая и не знала, что обман, а мальчишка разудалый раз завел меня в чулан… Соня, ты уже большая, и тебе семнадцать лет, для кого же сберегаешь неописанный секрет…» Рекомендую послать в «Ниву», получите хорошее авторское вознаграждение. — Полковник возвратил бумажку агенту. И, погасив на лице улыбку, уже другим тоном добавил: — Вы, Волнухин, не сказали главного, кто проводил беседу в преступном кружке.
— Фома опять приводил барышню…
— Имя, фамилия ее?
— Фома называл ее Наташей.
— Приметы? — спросил полковник.
— Одета, как все господские барышни, — с трудом выдавил Волнухин.
— Высокая или маленькая? Толстая? Тонкая? Цвет волос? Глаз? Курносая, длинноносая? Рябая, рыжая? Есть ли на лице бородавки?
Агент задумался. Посмотрел в глаза Уранову:
— Бородавок нет.
Полковник встал с кресла, вышел из-за стола, медленно походил по кабинету, напряженно думая о чем-то, опять занял место за столом, поднял глаза на Волнухина:
— Нет так нет. Не смею вас сегодня больше задерживать, Волнухин! Зайдите ко мне седьмого ноября, в пятницу, в десять часов вечера. Запомните?
Агент мотнул головой, поднялся со стула, но не спешил уходить. Уранов вопросительно посмотрел на Волнухина, воскликнул: «Ах да!» Достал из кармана бумажник, порылся в нем, вынул две ассигнации достоинством по рублю, немного подумал, одну сунул обратно, а другую подал агенту. Волнухин взял рубль, но продолжал стоять. Полковник воскликнул:
— Вы, Волнухин, или будете миллионером, или умрете молодым: уж больно деньги любите. — И дал ему еще один рубль и проводил филера до двери.
А на следующий день полковник Уранов принимал другого тайного агента — Михаила Швецова. Этот был полной противоположностью Волнухина. В нем все нравилось Уранову: и безвольный бабий подбородок, и бесцветный, ничего не выражающий взгляд пустых глаз, и тонкий длинный, немного скошенный в сторону нос, и узкая кисть с длинными шулеровскими пальцами рук, и блатная дежурная ухмылка. Этот убьет, продаст кого угодно.
Когда агент закончил свое донесение, полковник, тщательно подготовившийся к встрече, закурил:
— У меня, Швецов, к вам вопрос деликатного свойства. Необходимо уточнить ваше происхождение. Чистая формальность.
Агент насторожился. Полковник открыл папку и взял из нее лист:
— Вот справка, выданная по нашей просьбе протоиереем Владимирской церкви Криницким. Здесь говорится:
«В копиях метрических книг Тверской Владимирской церкви за 1887 год под номером 23 существует следующая запись: 22 октября родился, 25 дня крещен Михаил. Родители его 84-го резервного пехотного батальона штаб-горнист Эдуард Швед, лютеранского вероисповедания, и законная жена его Парасковея Тринова, православного исповедания. Воспреемниками были полковник Брондорф и жена статского советника Спирик».
Уранов положил бумажку на стол, а из папки взял другой лист.
— Читаем другую справку того же протоиерея Криницкого.
«В копии медицинских книг Владимирской церкви о родившихся за 1886 год написано: ноября первого родился, 11 дня крещен Михаил. Родительница его Осташковского уезда Талицкой волости дер. Кузнятино крестьянская жена Марфа Григорьевна православного вероисповедания. Воспреемниками были: Нижегородской губернии Сергачского уезда села Апраксина крестьянин Федор Антонов Юденков и девица Каролина Варфоломеевна Рукосова».
Полковник поднял глаза на Швецова:
— В каком документе идет речь о вашем рождении?
Агент сглотнул слюну:
— Во втором.
— Тут не обозначен отец!
Швецов помолчал, сухими губами промолвил:
— Я незаконнорожденный…
Полковник, искушенный в тонкостях государственного делопроизводства, понимал это сам, но ему надо было сейчас подчеркнуть неполноценность агента, уязвить его самолюбие. И он этого достиг.
— Не расстраивайтесь. У отца Леонардо да Винчи было десять сыновей и две дочери от четырех жен, а Леонардо был незаконнорожденным. Что же получилось? Все незаконнорожденные остались безвестными, лишь Леонардо стал знаменитым! Кстати, вы знаете, кто был Леонардо да Винчи?
— Тайный агент!
— Э-э, нет! А мог бы быть! Вы совсем молоды, у вас все впереди.
Уранов походил по кабинету, возвратился к столу, сел в кресло.
— Знаете, Швецов, ваш дружок Павел Волнухин полнее предоставил нам информацию.
Узкое лицо агента вытянулось, в глазах мелькнули злобные искры, глаза сузились. Швецов проглотил слюну, острый кадык его метнулся к подбородку и снова вернулся на место.
Уранов сквозь кольца сизого дыма внимательно наблюдал за филером.
— Я должен вам сообщить, — Уранов пускал в игру главные козыри, — тревожную новость.
Швецов еще сильнее насторожился, его тонкая лядащая фигура выдвинулась вперед.
— В преступный кружок, за которым вы наблюдаете, просочились сведения о вашей тайной агентурной работе.
Швецов вздрогнул. Он, подготовленный умелой игрой Уранова, готов был выслушать любую страшную весть, но не эту. Агент, словно после шока, сразу сник. Нижняя губа его отвисла, рот полуоткрылся, глаза расширились. Что-то хотел сказать, но не смог. Животный страх вгрызался в его сердце.
— Да что, братец, с вами! Вы белы, как пасхальная риза! Выпейте, — полковник налил из графина в стакан воды, подал Швецову. Тот взял трясущейся рукой стакан, поднес его ко рту, и слышно было, как громко стукнуло стекло о зубы, а потом забулькала вода в швецовской глотке.
— Мы же вас предупреждали, — Уранов снова начал измерять шагами кабинет, бросая исподлобья взгляды на расстроенного агента, — наша работа эффективна только в том случае, если она выполняется скрытно, в глубочайшей тайне. Один неосторожный шаг — и все летит к черту. — Уранов посмотрел на совсем расстроенного Швецова: — Слабым утешением является тот факт, что руководители преступных кружков не знают, кто из вас — вы или Волнухин — связаны с нами.
Говоря эти слова, Уранов неотрывно смотрел на своего собеседника и с удовлетворением отметил, что они «дошли» до агента. Швецов как-то сразу преобразился. Он вздохнул с облегчением. В бесцветных его глазах вспыхнули огоньки, но ним Уранов определил: в голове агента «зашевелились» нужные мысли.
— А Волнухин знает, что мы на подозрении?
— Нет, я с ним еще не говорил и прошу вас о нашей сегодняшней беседе ему не сообщать. — Уранов поднес указательный палец к своим жирным губам. — Он будет у меня в пятницу, седьмого ноября, в девять часов вечера.
Руководитель тверской жандармерии был неплохим психологом. Он хорошо изучил характер и способности своих агентов, за период совместной работы познал их привычки, слабости, пороки. И, как опытный режиссер в театре, в соответствии с возможностями исполнителей распределил роли в задуманной драме. Швецову отводилась главная роль. Теперь полковник все более и более убеждался, что не ошибся в выборе. Сидевший перед ним агент сделает все, что нужно ему, Уранову, достаточно лишь намека.
— В таком случае вы свободны, — Уранов подошел к агенту, театрально отечески потрепал его по плечу, с наигранным оптимизмом пробасил: — Да вы не вешайте голову! Все уладится. Вас в обиду мы не дадим… Пока к нам не приходите. Не исключена возможность, что за вами будут следить. Когда потребуетесь, мы найдем способ вас известить об этом.
— До свидания, господин полковник, — тихо произнес Швецов и быстро исчез за дверью.
Вернулся Швецов домой поздно. Чтобы не обращать на себя внимания, он не стал зажигать лампу, раздевался впотьмах, старался не шуметь. Но Волнухин тем не менее услышал о приходе товарища, тихо спросил:
— Это ты, Мишка?
— Да я, спи!
— Мы тебе картошки печеной оставили, в печке она, — сообщил Волнухин.
— Зря оставляли, не хочу, я поел у сестры, — еле сдерживая раздражение, ответил Швецов. Он прошел к своей кровати, лег на спину, подтянул одеяло к подбородку да так и пролежал до утра.
…Эту ночь Швецов не спал. Но зато он тщательно все взвесил, продумал и принял решение…
После того как фабричный гудок возвестил об окончании смены, Швецов одним из первых вышел из ворот фабрики. Он отошел в сторону, занял удобное для наблюдения место и стал цепким: взглядом прощупывать выходящих. Как только заметил Соколова, поспешил к нему и, подойдя сзади, прошептал: «Мне срочно нужно с тобой поговорить». Иван Соколов замедлил шаг, пропустил вперед говорившего и, узнав в нем Швецова, негромко сказал: «Понял. Следуй за мной!» Они спустились с пригорка, перешли мост через Тьмаку, незаметно свернули на тропинку, змейкой вившуюся по берегу, и скрылись в зарослях ивняка. Убедившись, что поблизости никого нет, Соколов спросил:
— Ну, что у тебя?
Швецов сразу выпалил:
— Павлуха нас предал!
— Что ты болтаешь! — тихо, но резко воскликнул Соколов.
— Не болтаю, а говорю правду!
— Откуда узнал?
— Он сам мне сказал! По заданию полковника Уранова он вербовал меня в шпионы!
— Ох, Мишка, если наговариваешь на товарища, нехорошо тебе будет.
— Зря наговаривать не стану. Можно ведь и проверить.
— Проверим. Сейчас же пойдем к нему, и ты все это расскажешь!
— Нет, нет, — забеспокоился Швецов.
— Почему же?
— Он, спасая свою шкуру, застрелит нас.
— У него есть револьвер?
— Да, жандармы ему дали!
— Обезоружим!
— Он расскажет Уранову, нас всех арестуют.
— Как же мы узнаем о его измене?
— Он собирается идти к полковнику.
— Когда?
— В пятницу вечером!
— Ну что ж, проверим. — Соколов понизил голос: — Прошу тебя, Мишка, об этом пока никому ни слова. Понимаешь, речь идет о судьбе человека!
— Понимаю, — согласился Швецов.
— Проверять будем вдвоем! — сказал Соколов.
На берегу тихой задумчивой Тьмаки они обсудили план проверки Волнухина.
В канун праздника Ивана Златоуста около девяти часов вечера два молодых человека незаметно зашли под арку дома, расположенного возле особняка полковника Уварова, и стали наблюдать. В этот поздний вечерний час улица была тихой и пустынной. Лишь одинокие прохожие, пряча лица от холодного ноябрьского ветра, спешили к своим очагам. Вскоре со стороны храма Воздвиженья показалась фигура человека в коротком пиджаке и серой кепке.
— Он, — шепотом произнес один из стоявших под аркой, когда пешеход приблизился и на него упал сноп света от уличного фонаря.
— Да, он, — прошептал другой. Между тем шедший по улице человек, подходя к дому Уранова, замедлил шаг и несколько раз оглянулся. Потом он остановился, снова посмотрел по сторонам и направился к двери особняка главного тверского жандарма.
— Ну, убедился? — произнес один из стоявших под аркой — это был Швецов.
— Сомнений нет, — ответил Иван Соколов. — Павлуха предатель!
— Когда будем кончать с Иудой? — Мишка достал ив кармана зачехленную финку, протянул ее Ивану.
— Финка! — воскликнул Соколов. — Предусмотрительный ты, Мишка!..
Фигуры двух молодых людей исчезли в темноте.
…После выступления защитников Носович по очереди предоставил последнее слово подсудимым. Все отказались выступать, кроме Егорова. Фома поднялся со скамьи, посмотрел на судей, перевел взор на кресло прокурора:
— Три с половиной года минуло с тех пор, когда господа прокуроры впервые познакомились с делом, которое разбирается в этом зале. За это время юристы, обладающие дипломами императорского университета и немалой практикой, не смогли дойти до сути и установить истину. Не странно ли, господа? Впрочем, странного тут ничего нет. Служители Фемиды употребили годы на то, чтобы скрыть истину, чтобы оградить виновников преступления…
Зал насторожился. Прокурор переводил взгляд с Фомы на судей, и этот взгляд кричал: «Что же вы, господа, позволяете?» Егоров[4] тем временем продолжал:
— Господин председатель сказал, что обвинительный акт — это план обвинения, подлежащий доказыванию. Этот план обвинения созрел в недрах жандармского управления задолго до трагедии, разыгравшейся на огороде Буракова. И главным режиссером трагедии был господин Уранов. Это я вам сейчас докажу. Уранов внедрил свою агентуру в рабочие кружки и хорошо знал обстановку в них. Уранов мог бы давно арестовать всех, кто посещал рабочие собрания. Но ему этого было мало. Идеи социал-демократии давно уже проникли в широкие слои русской общественности и завоевали симпатии тысяч людей. Попробуйте перекрыть Волгу — вода пойдет через плотину. Так нельзя остановить идеи освобождения народа от гнета и бесправия…
— Господин Егоров! — потряс председатель колокольчиком над головой. — Вы находитесь не на тайном сборище, а на суде. Извольте говорить по существу дела!
— Господин председатель, я как раз и говорю о сути дела. Господин Уранов намеревался к политическому делу подвести обыкновенную уголовщину. Он хотел потопить нас не только в крови, но и в грязи. Смотрите, мол, вот кто такие социал-демократы. Они убивают своих же товарищей! Но Уранов-режиссер просчитался, актер, на которого он возлагал надежды, плохо справился со своей ролью. Это был Швецов. В планы жандармского управления никак не входило, чтобы он был разоблачен как тайный агент. Он должен был играть роль рабочего.
Фома на секунду прервался и заговорил с новой страстью:
— Уранов, организовав убийство своего духовного брата агента Волнухина, предпочитает пребывать в скитаниях… — Фома говорил громко, четко выговаривая каждое слово: — О какой законности можно говорить в державе, где на главной площади столицы расстреливают рабочих, а с ними женщин и детей, стариков и старух, идущих к своему царю-батюшке…
Носович поднял колокольчик и яростно зазвонил.
— О какой законности может идти речь, если власти вешают тысячи людей без суда и следствия…
— Прекратите! — орал Носович. — Я лишаю вас слова!..
К Егорову подбежал пристав и тоже закричал:
— Прекратите! Вы лишены слова!..
Егоров сел на скамью; судебный пристав, гневно сверкнув глазами, пошел на свое место. Носович повертел головой по сторонам, посоветовался с членами суда:
— Объявляю прения сторон оконченными.
Суд приступил к постановке вопросов на решение присяжных заседателей.
Три дня при закрытых дверях совещались судьи, определяя степень вины обвиняемых. И вот 9 апреля ровно в полдень пристав поднялся на судейское возвышение и рявкнул:
— Суд идет! Прошу всех встать!
Дверь судейской комнаты раскрылась, к судейскому столу гуськом направились судьи.
Носович, заняв место возле председательского кресла, орлиным взором окинул зал, заполненный до отказа, привычно потряс колокольчиком над своей седой головой, призывая присутствующих к тишине, откашлялся и монотонным голосом псаломщика стал читать приговор:
— 1907 год апреля 4-го и 5-го дня по указу Его Императорского Величества Тверской окружной суд по уголовному отделению в судебном заседании в составе…
Носович долго перечислял фамилии председателя, членов и секретаря суда, товарища прокурора, присяжных заседателей, статьи установления уголовного судопроизводства, которое определяет порядок рассмотрения дела, и статьи уложения о наказании, по которым привлекались обвиняемые. И хотя все это мало интересовало сидящих в зале, они терпеливо слушали в ожидании главного.
Михаил Петров, Алексей Богатов и Иван Егоров признавались по суду оправданными. Суд мог признать виновными только двух подсудимых — Ивана Соколова и Михаила Швецова. Первый приговаривался к году тюремного заключения, а тайный агент получил полтора года тюрьмы. Сославшись на высочайший указ от 11 августа 1904 года, суд снизил наказание Соколову до четырех месяцев, Швецову — до шести месяцев. О Швецове была еще одна оговорка:
«Принимая во внимание, что в производстве судебного следователя первого участка Тверского уезда имеется дело по обвинению Швецова по статьям 1630 и 1632 Уложения о наказании, окружной суд находит, что согласно пятому пункту статьи 969 приговор по настоящему делу в отношении личной ответственности Швецова должен быть приостановлен до разрешения названного дела…»
В приговоре, однако, не сообщалось подробностей обвинения. Секретный осведомитель выпускался на волю по ходатайству ротмистра Щербовича, который мотивировал это «следственной необходимостью». Одних суток «свободы» Швецову было достаточно, чтобы совершить нападение на купца и обеспечить себе новый срок отсидки; тюрьма стала для него убежищем.
Опустел зал Тверского окружного суда. Поехали в каретах к своим особнякам судьи. Стражники повели в заволжский тюремный замок осужденных. Оправданные Петров и Богатов вместо с родными и друзьями направились домой.
Без стражи вышел из зала заседания и Фома. Улица встретила его звонкой капелью и ярким весенним солнцем. Апрельский ветер ударил в лицо, обнял, одурманил. Закружилась голова от свежего воздуха, потемнело в глазах от непривычного яркого света. Фома постоял на ступеньках лестницы, посмотрел по сторонам и неторопливо пошел в сторону Волги. Через некоторое время от толпы, провожавшей его глазами, стараясь не обращать на себя внимание, с разных сторон отделились два субъекта и последовали за ним.
А Волга после долгой зимней спячки просыпалась. Потемнел, набух лед в русле, то там, то здесь чернели разводья, по круче берега от таявшего снега сбегали вниз ручьи, вешние воды прибывали.
Близился ледоход…
Октем ЭМИНОВ Будь осторожен, Бекназар!
I
Дверь, единственная, конечно, здесь дверь — с окошечком, забранным решеткой, скрипнула и распахнулась.
Сержант, внешний вид которого выдавал, что ему совсем недолго осталось до пенсии, встал на пороге камеры и негромко позвал:
— Худдыков, выходи. Вызывают на допрос.
Высокого роста и мрачного облика обитатель камеры встал так быстро, как будто ждал этого приглашения с минуты на минуту. Старый милиционер пропустил его и пошел за ним твердым шагом, хотя и вразвалку. Все в его внешности свидетельствовало о действии бремени лет, о многих годах службы в милиции, а до того в армии — сержант прошел Отечественную. «Налево… Прямо… налево», — подсказывал он арестанту почти механически, невесело думая о нем! «Смотри, уже сник! Вчера наклонял голову в переходах, чтоб не задеть за косяк, а сегодня и нагибаться не надо. Потерял свободу и сломался. Что человеку требуется, кроме свободы и честной жизни? Ведь это такое богатство! А этот захотел другого, нечисто нажитого… Ради похлебки бросился в котел. Говорят, не так давно еще был человеком, а потом зазнался. Пока в знакомого лбом не упрется, не поздоровается… В автобусе перестал ездить, такси подавай. Лотерейные билеты с выигранными машинами скупал. Эх, герой! Каким ты вчера был и какой сегодня! Стыдно смотреть».
Если бы Худдыков мог угадать мысли своего стража, он удивился бы их некоторому сходству со своими: «Многого достиг… Все желания мои исполнялись, все счастливы были, если могли угодить мне… Багы Худдыкович, вам звонил такой-то, искал тот-то, интересовалась такая-то организация. Всем был нужен, все любили. А сейчас? Столько времени пасся, телок, где ж твой жир?.. Кто я теперь? Человек, находящийся под следствием, — вот кто. Интересно, а кто будет допрашивать? Много ли знают обо мне? В чем признаваться? От чего отпираться? Если признаюсь, какая в этом выгода? А дома сынишка, наверное, спрашивает мать: «Где папка?» Что же мать ему ответит? Все ж где я ошибку допустил?»
Он чуть не споткнулся, когда услышал шаги идущего навстречу человека, а потом увидел Гырмызу — одну из своих продавщиц. «Как она здесь очутилась? Вызывали?.. Не продала ли, стерва?»
Он не успел придумать ответ на свой же вопрос, как сержант приказал ему остановиться, потом распахнул одну из дверей:
— Войди.
«Что случилось с Гырмызой? Почему не поздоровалась?» — с этой назойливой мыслью ой вошел в кабинет и машинально сел на стул, а опомнившись, понял, что в этом крохотном кабинете сейчас для него сосредоточена вся вселенная, а сидящий напротив капитан — хозяин его судьбы.
Он узнал и кабинет, и его хозяина. Да, да, здесь ему приходилось бывать! По другому, конечно, поводу. Бывало, отрывали его от службы и приглашали сюда: окажется продавец нечист на руку — Багы Худдыковича зовут, и надо чесать затылок, думать, как изобрести тому «положительную характеристику» и сбагрить потом коллективу на поруки… Удавалось выгородить пройдоху, а потом приходилось выговаривать: «Спас тебя от решетки! Не знаешь, каких это мне стоило моральных и материальных затрат!..»
Капитан молчал, перекладывал папки, шелестел бумагами. Чувствовалось, что он «подыгрывает» допрашиваемому — дает возможность успокоиться, чтобы разобраться в мыслях, а может быть, и признаться сразу во всем.
Капитану Хаиткулы Мовламбердыеву не исполнилось еще тридцати (хотя пробилась уже седая прядь в его волосах), но он хорошо был известен как мастер оперативно-розыскной работы. Трезвый расчет плюс спокойный характер — все это обеспечивало ему успех. По поручению следователя ему разрешалось выполнять отдельные следственные действия, например, некоторые допросы. Умело выстраивал вокруг обвиняемого «стену» из неопровержимых фактов, не давал возможности ему лгать, потом и сам переходил в атаку.
Багы Худдыков не мог справиться с нервами. С надеждой, почти страдальчески смотрел на телефон. «Где ж, они, друзья-приятели, что не раз клялись: волос не упадет с твоей головы? Почему не звонят сюда, этому капитану?»
Но аппарат безмолвствовал. А капитан заговорил.
Он задавал Худдыкову те вопросы, которые задаются обычно в начале допроса: фамилия, имя, отчество, место и год рождения… должность.
Когда речь зашла о должности, Худдыков почувствовал в своем горле комок и выдавил через силу:
— Заведующим был… нескольких точек… А теперь я — никто!
…Произошло это вчера. Он сидел в своем кабинете, обедал, хлебнул даже немного, когда нагрянули вдруг несколько человек в штатском и опечатали магазин и склады. Сверили наличие товаров с документами — оказался излишек водки, двадцать пять ящиков. После этой проверки он и очутился здесь. Прошедшая ночь показалась ему самой длинной в его жизни. О чем он только не передумал в эти ночные часы, всю свою жизнь перебрал, все поступки и проступки, но все же больше всего думал о друзьях — верны они ему будут или нет?
Капитан между тем продолжал:
— Вчера вечером и сегодня сюда звонили ваши знакомые, не все называли себя… Интересовались вашей судьбой.
Он говорил таким бесстрастным тоном, что Худдыков понял: никакие звонки на капитана не окажут давления.
— Теперь к делу, — Хаиткулы перевернул страницу протокола допроса. — Двадцать пять ящиков — это пятьсот бутылок водки, так ведь? Если перевести на деньги…
Худдыков выпалил:
— Тысяча восемьсот десять рублей ноль-ноль копеек! Не тратьте чернил…
— Если прибавить к ним стоимость реализованной водки, сколько будет всего?
— Какой такой реализованной?
Хаиткулы извлек из ящика стола папиросу, прикурил от зажигалки и только потом достал из папки лист бумаги и начал читать:
— «Из привезенной партии я продала два ящика, а деньги отдала Багы Худдыковичу Худдыкову…»
— Клевета!
Капитан поднялся, открыл дверь и поманил кого-то рукой. Осторожной походкой в кабинет вошла Гырмыза. Она остановилась перед завмагом и прямо посмотрела ему в глаза. Она не сказала ему ни слова, не он сразу понял, что отпираться в этом положении — значит навредить себе.
— Расскажу все…
* * *
Худдыков признался в том, что присвоил двадцать семь ящиков водки, которые привез экспедитор горпищеторга Кузыбаев, обещавший ему за «реализацию» двести рублей. Успели продать только два ящика. На допросе Худдыков утверждал, что Кузыбаев раньше подобных сделок ему не предлагал, с друзьями Кузыбаева также дел не имел.
В камеру его провожал тот же сержант. Худдыков шел как побитый, еле передвигая ноги, и сердце его болело от сознания того, как просто его провели: «Глупая девчонка, не знаешь жизни… К тебе с добром… Как говорят в народе: нож свою рукоятку не режет, а ты…» Всегда ему везло с такими девчонками, а тут надо ж! Он помнит тот разговор Гырмызы с начальницей отдела кадров, свидетелем которого оказался. Девушку перевели к ним из другого магазина, не сработалась она там с директором, а перед этим у нее был конфликт еще в одном месте.
— Если они там нечисты на руку, как я могу быть равнодушной? — с жаром твердила девушка «кадровичке».
— Видно, у тебя неуживчивый характер, — говорила начальник отдела кадров, — Что, если перевести тебя на другую работу?
— Нет, буду работать только по своей специальности.
Багы Худдыкович вмешался:
— Направьте девушку ко мне старшим продавцом.
Начальник отдела кадров сомнительно покачала головой:
— Смотри, не сработаешься ты с ней, Багыджан.
— Будьте спокойны, все будет в порядке, сработаемся…
Как ошибся ты, Худдыков! Девушка оказалась не из тех, к каким ты привык. Стычка между ними произошла сразу же, лишь только Худдыков велел ей продать те два ящика. Она сразу смекнула, в чем дело, отказалась наотрез, да еще пригрозила:
— Лучше уберите из магазина эти ящики, не то сообщу куда следует. Не обижайтесь на меня.
Багы Худдыков тогда только рассмеялся, ему в голову не могло прийти, что девушка все это говорит всерьез. Надо же!
II
Выписка из документов:
№ 65
17 октября 197… г.
Городскому финансовому отделу.
В связи с экстренными обстоятельствами городской отдел внутренних дел городского Совета депутатов трудящихся просит Вас произвести безотлагательную ревизию склада спиртных напитков Горпищеторга. Результаты ревизии просим выслать срочно в письменном виде.
Начальник городского отдела внутренних дел Подпись: Д. Джуманазаров.III
После окончания оперативного совещания в кабинете начальника горотдела внутренних дел остались трое: его хозяин — Джоракулы Джуманазаров, начальник угрозыска Хаиткулы Мовламбердыев и начальник следственного отдела Каландаров, назначенный следователем по этому делу.
— Оно, по-видимому, не будет простым, — продолжал тему совещания полковник Джуманазаров. — Следы начинаются в магазине и ведут на винзавод. Думаю, что главных участников следует искать именно там. Худдыков наверняка не единственная ветвь, должны быть и другие. Сейчас, конечно же, узнав, что одна ветка срублена, временно перестанут красть.
— Или же будут продолжать, но с большей осторожностью, — заметил Хаиткулы. А Каландаров внос предложение:
— Пожалуй, что так. Аппетит у них все же большой. Есть у меня одна идея, которая может показаться рискованной, и если б удалась, то ускорила бы розыск мошенников. Хорошо бы пристроить на винзавод одного из сотрудников.
Джуманазаров помолчал некоторое время, потом ответил:
— Так сказать, вынужденная мера?.. Я согласен. Только пойдет ли кто из наших? Город небольшой, все друг друга в лицо знают. Нужен совсем новый человек.
— Такой есть. Хайдаров Бекназар. Направлен к нам но путевке комсомола. Закончил в Чарджоу пединститут, прошел специальный курс. Как говорится, рвется в бой. Думаю, что не откажется…
— Действуйте. Но соблюдайте во всем такт, не оскорбите ненароком людей, непричастных к махинациям.
IV
Выписки из документов:
1.
«Начальнику уголовного розыска
от старшей продавщицы Н-ского магазина
Сосниной Татьяны
Объяснение
Причиной моего ухода из магазина Худдыкова послужило то, что завмаг хотел толкнуть меня на преступление. Два месяца тому назад, 20 августа, в магазин привезли сверх фактуры 15 ящиков водки, которые он велел мне продать, а деньги вручить лично ему. Я отказалась, на что Худдыков заявил мне: «Все ревизоры в моих руках. Если не сделаешь то, о чем прошу тебя, мигом вылетишь не только из магазина, но и из этого города». Я испугалась, потому что у него действительно много друзей. За три дня продала эту водку, а выручку 1086 рублей отдала ему. Он хотел мне дать тридцать рублей, но я их не взяла. В тот же день подала заявление в отдел кадров о переводе меня в другой магазин. Меня задержали на два месяца, объяснив, что в других точках свободных мест нет. Что происходило в других сменах, не знаю. Объяснение написано собственноручно.
Т. Соснина. 22. Х.197… г.».2.
«…Полностью признаю сказанное Сосниной. Не признавался в этом раньше, потому что забыл о том случае. Вспомнить смог лишь при очной ставке со свидетелем. Кузыбаев тогда водку привез с винзавода. Оставил без фактуры пятнадцать ящиков, сказав: «Продашь — четвертая доля будет тебе, две — заводским». Кого он имел в виду, не знаю. 1086 рублей я передал Кузыбаеву. Взял и свою долю. Из своей доли хотел тридцать рублей отдать Сосниной, но она не взяла…
Худдыков Багы. 23. Х.197… г.».3. Выписка из официального письма КРУ.
«20 октября 197… г.
Начальнику отдела внутренних дел
Согласно Вашего письма от 17 октября с. г. произведена ревизия склада горпищеторга. Сообщаем, что на день ревизии излишков продуктов (спиртных напитков) не обнаружено. Установлено, что спиртные напитки завозятся на склад в том случае, когда в магазинах имеется достаточное их количество, в основном они прямо с завода доставляются в торговые точки, минуя склад. Первый экземпляр акта прилагаем к письму.
Начальник контрольно-ревизионного управления горфинотдела (подпись)».V
Ветер неистово гонял листья по двору, срывая и те, последние, что оставались еще на голых деревьях.
Мегерем метлой сгребал листья в кучу, но ветер раскидывал их, и он ругал его всеми ругательствами на всех языках, каким выучился за свои пятьдесят лет. Он был зол на ветер и на жену, которая пропадала неизвестно где. Он почти ослеп от ярости и не заметил жены, которая вдруг выросла перед ним.
— Ты меня позоришь, Миша. В каком виде ты ходишь?
Измученный, потный, но сразу же успокоившийся Мегерем-Миша смотрел на нее широкими глазами:
— Ты или с неба свалилась, или из-под земли вылезла, — и добавил на смешанном тюркско-российском наречии: — Ханум, мэн опускадаям лазым дейил лап якчи гейинимэк. Я же в отпуске, Ханум. Зачем мне одеваться прилично. Я прах у твоих ног…
— Хватит! Хватит! Не могу жить с таким разгильдяем! — Она кричала так громко, чтобы слышали все соседи. — Хватит!..
Мегерем немного растерялся от выходки жены, но, зная, что это не первый большой скандал у них в доме, который начинала именно она, и разглядев всю ее — элегантную и красивую, решил не спорить с ней. Он посмотрел на жену, на ее лакированные туфли, на которых не были и пылинки (на машине прибыла!), на ее новенький плащ и медленно, гневно сказал:
— Ханум, не хочу больше с тобой ссориться. Оставайся в этом доме одна, пользуйся имуществом, всем, что здесь есть. Живи здесь, как сова, без мужа. Я ухожу к сыну!
Мегерем не сдерживал своего гнева. Сбежавшиеся на шум соседи с их, Докторской, улицы давали какие-то советы, уговаривали, но он ничего не слышал. Повернувшись к дому спиной, вышел со двора на улицу…
VI
Выписки из документов:
«…Обстановка на заводе спокойная. Расхитителей, видимо, насторожил арест Худдыкова. Экспедитор Кузыбаев в дружеских отношениях с завскладом готовой продукции. Похоже, что главный бухгалтер тоже в их компании. Частенько остаются втроем. При посторонних разговоров не ведут…
Грузчик».Через несколько дней:
«…Чувствуется некоторое оживление. Привыкают и ко мне. Надо проверить работу лаборатории. На проходной слабо поставлена работа по проверке вывоза продукции… Ходят разговоры о том, что директор Ханум Акбасова разошлась с мужем, но отношения между ней и экспедитором, завскладом и бухгалтером сугубо официальные…
Грузчик. 30 октября».VII
Как часто вторгается в нашу жизнь случай, переворачивая ее всю до самого дна. Если бы этой встречи не произошло!..
После обеденного перерыва он помогал грузить ящики, передавая их напарнику в кузов грузовика, как услышал сзади знакомый голос:
— Бекназар?!
Ему бы уйти сразу же, не оглянувшись, не реагируя! Но какая-то властная сила заставила Бекназара обернуться, и ему ничего не оставалось, как сделать приветливое лицо…
— Здравствуй, Реджепбай, — Бекназар хотел, но не. мог сдвинуться с места. А надо, надо было увести Реджепбая подальше от стоявших рядом людей! Но тот уже навел на Бекназара объектив и щелкнул затвором фотоаппарата.
— Тебя что, уже выгнали из милиции? Что здесь делает работник следственных органов? Вот это новость! Я тебя сфотографировал, если захочешь иметь снимок, загляни ко мне завтра вечером. Если будет, конечно, желание… — Последние слова он произнес с каким-то особым смыслом и сразу отвернулся от Бекназара, чтобы продолжать свой разговор с директором, стоявшей рядом.
На окружающих слово «милиция» произвело впечатление, это было заметно. Но Бекназар сейчас думал не столько о них, сколько о фотографе, которого надо догнать и шепнуть только одну фразу! «Я вынужден так поступать, так выглядеть…» Поздно! Бекназар собрался с духом и, не обращая внимания на вопросительные взгляды экспедитора и завсклада, как на грех, тоже оказавшихся здесь, нашел в себе силы продолжать работу до тех пор, пока все машины не были нагружены и не покинули заводской двор. И тут же бойкая секретарша с «конским хвостом» на голове (когда-то у нее были пышные русые косы) позвала его к директору. «Ах, Реджепбай! Ну чего ты еще трепанул ей?!» — с этой тревогой он переступил порог директорского кабинета.
VIII
— Садитесь, молодой человек. — Акбасова вышла из-за стола и указала Бекназару на стул. Она была красива, и Бекназару было приятно на нее смотреть. Улыбаясь, она подошла к грузчику и, глядя ему прямо в глаза своим лучистым взглядом, доверительно заговорила:
— Ваш друг, корреспондент, рассказал мне о вас… Впрочем, я и раньше догадывалась о том, кто вы на самом деле и зачем пришли к нам работать. Знайте, молодой человек, что здесь, на заводе, вас никто не тронет без моего ведома. Я вызвала вас, чтобы сказать: работайте спокойно. И если нужно… я вам помогу. И пожалуйста, все-таки будьте впредь осторожны. Вы свободны!
Бекназар понял, что разговор окончен, потому что Ханум Акбасова стояла, не собираясь сесть в свое кресло. Он почувствовал, как ярость на себя, на друга, на директора поднимается в нем: «Нет, со мной так просто не выйдет. Я не уйду с завода, пока не размотаю все узлы, завязанные здесь. И если ты, ханум,[5] тоже к ним причастна, то берегись… Но сначала исправим ошибку, попробуем выскочить из капкана…»
— Товарищ директор, вы придумываете бог знает что, — Бекназар поднялся со стула. — Я простой рабочий и больше ничего. Я сейчас напишу заявление об уходе и прошу вас подписать его. Работу найду везде…
— Нет, работайте как работали. Никуда я вас не отпущу, вы хороший работник.
— Или вы мне поверите и я останусь у вас, или прошу все же не задерживать меня. — Бекназар притворился разгневанным, одновременно делая вид (он бросил нескромный взгляд в глубокий вырез ее платья), что его интересует внешность директора. Он не знал, куда ого заведет эта игра, но решил использовать все возможности и продолжал:
— Тот корреспондент — старший брат моей невесты (то была правда). Он, как вы знаете, работает спецкором в городской газете. Его брат — инженер. Отец возглавляет какую-то организацию. Все они мнят себя людьми «при должностях». Считают позором выдать сестру за простого рабочего, такого, как я. Когда наши пришли свататься, они поставили свои условия: во-первых, я должен устроиться на работу в приличное учреждение, например в милицию. Во-вторых, должен поступить учиться. (Я потом окончил пединститут.) В-третьих, одеваться прилично: черный костюм, черные туфли, такой же галстук и белая сорочка.
Директор неожиданно заинтересовалась и села за свой стол, положив белые полные руки на полотенце, расстеленное на нем.
— Садитесь и говорите спокойно.
— После института я твердо решил — иду в милицию! Растрезвонил об этом будущим родственникам, но в последнюю минуту призадумался: почему я должен это делать? Знаете, как опасно работать в милиции. Ну а корреспондент, конечно, помнил мои слова о будущей службе, вот и ляпнул: «Выгнали тебя?»
Лгать Бекназар не умел и потому покраснел от подбородка до кончиков ушей. Директор истолковала это по-своему: такие молодые ребята всегда заливаются краской от смущения в присутствии красивой женщины. «Если же врет, то пойдет далеко», — прибавила про себя.
— Значит, женитьба твоя теперь под вопросом? — спросила участливо, неожиданно перейдя на «ты».
— Выходит, что так, не вовремя Реджепбай явился к вам. Но цыплят по осени считают.
Ханум про себя сравнила все, что слышала от корреспондента о Бекназаре, и то, что он рассказал ей. Она не знала, кому из них больше верить, но исповедь Бекназара показалась ей искренней. «Молод, хорош собой. Надо его приблизить к себе, если… докажет свое алиби».
IX
Бекназар ушел, директор приняла следующего посетителя, но отпустила его очень быстро, нажала кнопку звонка. В окно ей виден был двор, по которому шел завскладом. Ханум так пристально следила за его перемещением, что не заметила вошедшую секретаршу и не обратила внимания на то, что палец ее изо всех сил нажимает кнопку и звонок пронзительно звенит на всю приемную.
— Скажи посетителям, что я занята. Позови завскладом и главбуха!
Те вошли так быстро, как будто знали, что их ждут, и, плотно прикрыв за собой дверь, без приглашения опустились на стулья.
Ханум озабоченно спросила:
— Новый грузчик на работе или ушел с завода?
Главбух посмотрел в окно:
— Там он… Непонятный какой-то тип…
В кабинете распространился легкий запах перегара. Ханум недовольно смотрела на обоих подчиненных, извлекла из стола бутылку гранатового сока, налила полстакана, выпила залпом. Увидев, что завскладом сглотнул слюну, строго произнесла:
— Просила же не пить на службе.
И тут же посыпались ее вопросы:
— Что слышно о Худдыкове? Что Кузыбаев? Что думаете делать дальше?
Вошла секретарша и принесла пиалы и чайники зеленого чая. Мужчины разлили себе и, прихлебывая, отвечали директору:
— Ханум, Худдыков в изоляторе. Кузыбаев как слепой, потерявший свою палку. Ревизия на складе горпищеторга прошла, но там все в порядке, — скороговоркой докладывал бухгалтер. После небольшой паузы он сказал просительным тоном: — Может, пока оставим все? Я совсем сон потерял. А?
Завскладом презрительно прищурился:
— Слабое у тебя сердце. Зачем тогда с самого начала согласился? Как копейку считать, так ты храбрый.
Директор не обращала внимания на обмен репликами:
— Худдыков не продал нас, значит, все в порядке. Кузыбаева так просто не возьмешь. Отбрешется. Скажите мне лучше: будем устраивать антракт или нет? — Она крутила золотое кольцо на указательном пальце: — Что, если использовать другие точки? Их много — ревизию во всех не проведешь, а мы бы избавились от излишков, и все надолго затихло бы.
Завскладом, человек решительный, не размышляя согласился:
— Обязательно! Пусть он сейчас же оформляет документы. Мешкать не следует.
У бухгалтера был растерянный вид, но неожиданно для самого себя он поторопился согласиться:
— Ладно, сделаю… Можно реализовать и декалитров сто спирта.
Ханум заинтересовалась:
— Каким образом?
— Сбавить градусы у части продукции. Не у той, что продается в городе или рядом с ним, а в отдаленных местах. Чистая прибыль с перевыполнением государственного плана.
Ханум на все была согласна. Завскладом достал из внутреннего кармана пачку банкнот.
— Осталось от последней партии. Надо поделить…
Он что-то подсчитывал, бухгалтер подозрительно косился на него, но принял кучу денег, не проверяя. То же сделала Ханум — она была уверена в честности завмага перед ней.
Из другого кармана он извлек вчетверо сложенный лист, развернул его и предложил бухгалтеру расписаться:
— Моя ведомость. Деньги счет любят.
Бухгалтер поморщился, но поставил подпись-закорючку. Директору поставить подпись завскладом не предложил.
Завскладом показал на стопку мелких купюр, оставшихся после дележа:
— Мелочь. Передам в лабораторию.
Он собрался было встать, решив, что беседа у директора окончена, но она задержала его и попросила бухгалтера:
— Набери-ка ноль-два — милицию — и спросите, как разыскать Бекназара Хайдарова, их работника.
Бухгалтер помедлил, потом трясущимся пальцем набрал номер, попросил Хайдарова.
В милиции тоже помедлили, потом ответили, что сотрудника с такой фамилией у них нет.
Ханум задумалась на минуту.
— Все же наблюдайте за ним. Мало ли что… И вообще узнайте, о чем судачит народ.
Завскладом сжал кулаки:
— Пусть кто-нибудь трепанет что попусту — в лепешку превращу!
Главбух про себя усмехнулся: «Это точно, тебе ж достается львиная доля».
Ханум смотрела на них и думала о своем: «Совсем совесть потеряли, завидуют, наверное, мне, а ведь знают, что отвечать-то буду в первую голову я. Сколько скрыли от меня прибыли, не проверить. Хорошо хоть праздники дома устраиваю — несут подарки».
Улыбнувшись приветливо, сказала:
— В субботу у меня день рождения. Приглашаю к себе.
Бухгалтера это приглашение как обухом по голове:
— Спасибо, ханум… Только, помнится, отмечали не так давно.
Директор шутливо упрекнула его:
— А тебе разве неприятно отметить мой день рождения еще раз?
X
Просьбу Бекназара проверить градусность водки приняли к сведению. Выборочная проверка установила, что в городе продается 40-градусная, но ревизия, произведенная в магазине Карабскаульского района, обнаружила, что трех градусов до нормативной крепости в напитке не хватает.
Получив акт торговой инспекции, Хаиткулы еще больше убедился, что нити преступления тянутся к заводу. Но не торопился приступать к решающим действиям — хотел собрать как можно больше неопровержимых фактов. Хаиткулы знал, что начальство ждет от него этих действий, но не мог изменить себе, своей методе вести следствие.
В глазах сослуживцев его, казалось бы, нерешительность выглядела слабостью. Он знал, что его темпы не совпадают с темпами работы коллег, занятых тем же делом. Это мучило его, но перебороть он себя не мог. Он был уверен, что идет в правильном направлении.
В размышлениях над этим и застал его начальник следственного отдела Каландаров, его старый оппонент. Он пришел к Хаиткулы для дружеской беседы:
— Хаиткулы, мои ребята работящие, они выжали из Худдыкова все, что можно, и не ждут, когда он поумнеет. Все его слабые стороны раскрыты, но хватит его уговаривать. Ясно, кто за ним. От тебя только зависит, чтобы он рассказал все до конца. Ты очень мягок, будь с ним построже.
Почувствовав, что Хаиткулы хотя и кивает головой в такт его речи, но слушает невнимательно, занятый своими мыслями, начальник следственного отдела умолк.
Хаиткулы посмотрел на него:
— Продолжай! Ты большой спорщик, я знаю, но всегда ли ты побеждал в спорах? Может быть, иногда и проигрывал? А? Или ты не споришь сейчас, а просто предпринимаешь психическую атаку?
Майор Каландаров, как всякий ретивый служака, был заядлым спорщиком, особенно на работе. Но спокойствие Хаиткулы всегда сбивало его с толку. После каждой фразы капитана он открывал рот, чтобы возразить ему, но сейчас ему почему-то не хватало на это духу. Из оппонента он превратился в слушателя.
Хаиткулы продолжал:
— Может быть, мне не хватает строгости, и это мой недостаток. У каждого человека есть свои недостатки… Ты все упрекаешь меня, но давай говорить конкретно. Что бы ты сделал сейчас на моем месте? Тем более ты старше меня и опыта у тебя больше. Не откажусь от доброго совета.
— Ты хочешь конкретности? Совета? Так слушай. На твоем месте я без промедления арестовал бы экспедитора и завскладом! Устроил бы им очную ставку с Худдыковым. Ему деваться некуда, заговорил бы еще раз и их заставил бы признаться. Вот что я сделал бы, если уж ты у меня просишь совета. Глубину реки лодочник не везде проверяет шестом, есть у него глазомер для этого.
Хаиткулы помолчал, потом ответил майору:
— По-моему, доказательств у нас еще нет, а предположениями и подозрениями не стоит руководствоваться. А если Худдыков отопрется от знакомства с заводскими и они тоже? Сразу потеряем все, чего добились за эти дни. Птицы боятся не пустой рогатки, а заряженной. Вот я и хочу, чтобы они летели не на холостой выстрел. Прости, прервусь. Должен позвонить…
Хаиткулы приложил к уху трубку, набрал номер:
— Алло! Марал, это я… Ты иди сразу домой… В садик зайду сам… Да-да… Сегодня вернусь вовремя.
— Жена, что ли? — спросил майор. — Боишься ее?
— Уважаю.
— А я не отчитываюсь перед женой, если и по неделям пропадаю. Привыкла к нашей службе.
— А я отчитываюсь, спрашивает она или не спрашивает. Это моя привычка.
Разговор этот происходил в тот день, когда Реджепбай опознал Бекназара. Два сослуживца продолжали свой психологический спор, а третий из них — «грузчик» — в это время сидел в окружении четырех своих товарищей по работе и вел с ними нехитрые беседы. Низенький, широкоплечий, с лицом, на котором сохранились следы оспы, был остроумным, разговорчивым человеком. (Его звали Юсуп-ага.) Чем-то располагал к себе Бекназара, и он охотно его слушал.
Когда грузчики пошли в сторожку пить чай, Бекназар задержал Юсуп-агу. Он кивнул в сторону одного завмага и задал несколько вопросов. Юсуп-ага ответил, прибавив: «Самый близкий друг завскладом». Сострив: «Приятное знакомство», Бекназар спросил:
— Юсуп-ага, а почему он не оформляет документы? Он же торопится?
Юсуп-ага буркнул только:
— Ждет дружка своего.
Они увидели, как завскладом появился в дверях конторы, а завмаг бросился ему навстречу. Перекинулись фразами и разошлись.
— В бухгалтерию пошел, — проговорил Юсуп-ага.
Завскладом скрылся в своей резиденции. Потом позвал грузчиков.
— Девяносто пять ящиков погрузите.
Приказ свой завскладом отдал коротко и как-то весело… Бекназар понял, что за этим неожиданно поднявшимся настроением обычно хмурого кладовщика что-то укрывалось, и почувствовал в себе напряжение охотника.
К складу подкатил ГАЗ-51, открыли задний борт…
А Бекназар думал о том, что между завскладом и директором все же должна быть связь — он видел, как тот выходил из ее кабинета сразу после визита к ней Бекназара. «Велика петля, но можно затягивать издалека…»
Грузовик они загрузили быстро, но к концу Бекназар выдохся, хотя не слабый он был человек, сказывалось напряжение этого необычного дня. Он не знал еще, что дома его тоже ждут новости.
XI
Рабочий день кончился. Не переубедив друг друга, Хаиткулы и майор Каландаров вместе покинули здание милиции. Хаиткулы решился пройти пешком до детского сада, но майор чуть не силой усадил его в свою машину. Проехав метров пятьдесят по улице ВЛКСМ, свернули на проспект Ленина…
Всего два месяца Хаиткулы жил в Чарджоу, переехав с семьей из Ашхабада. После того как в августе 1969 года он раскрыл тяжелое преступление в Халаче, капитан на всю жизнь связал свою судьбу с Марал. Старики после всех событий отказались устраивать в селе свадьбу. Той[6] происходил в Ашхабаде.
Начальник Хаиткулы — Ходжа Назарович Назаров, — долго не веривший в успех расследования, разумеется, пожинал вместе с подчиненным лавры победителя. Он стал гораздо добрее к Хаиткулы, частенько стараясь завязать разговор и о том деле, и о диссертации капитана, приглашал Хаиткулы и Марал в гости, но между ними все же легла пропасть, и мост через нее некому было строить.
Защита диссертации прошла успешно, и тогда-то Хаиткулы пришел к своему другу Аннамамеду Геллиеву, который тоже после халачского дела заработал новую звездочку на погон, и сказал ему: «Мы решили ехать в Чарджоу!» Расстроенному Аннамамеду он объяснил, как мог, чтобы тот его понял:
— Не думай, что я не сработался с Ходжой Назаровичем. Просто я всегда мечтал о делах практических. После приезда из Халача я стал здорово скучать в министерстве. Здесь должны работать люди с солидным стажем, накопившие большой опыт, который они будут передавать другим. Может быть, я ошибаюсь, но, честное слово, я не хочу ждать, когда мне поручат какую-нибудь операцию, я хочу работать практически все время, хочу всегда чувствовать, что у меня засучены рукава. Когда, как не сейчас, в моем именно возрасте, браться за сложные, головоломные задания. Вот какие дела… Парторг, ты знаешь, согласился с этими доводами. Ходжа Назарович тоже не против.
— Как же мы расстанемся с тобой, Хаиткулы?! — все еще не мог скрыть огорчения Аннамамед.
— Расстояние близкое — будешь приезжать ко мне в командировки. Да и я не должен пропускать министерских совещаний. Будем видеться.
Друг задал последний вопрос:
— Уходишь из министерства, но разве не найдется тебе дела в Ашхабаде? Кто тебя отсюда гонит?
— Я и Марал дали слово ее родителям, что заберем ее мать к себе. Сюда она не хочет ехать ни за что. А это так хорошо, что мать будет вместе с нами!
Когда так любовно говорят о матерях, то противоречить становится невозможным, и Аннамамед согласился с другом.
…Машина остановилась у ворот детского сада. Майор смотрел, как бережно Хаиткулы несет на руках ребенка, и снова подумал об их споре и о самом капитане: «Удивительный человек. Рассудительный, никуда не суется первым, но и не бывает последним, нет у него врагов, и все его одинаково любят. Есть в нем та твердость, от которой, может быть, зависят какие-то главные вещи в жизни. Неторопливый, но пойдет далеко». Весело он сказал Хаиткулы:
— Поворачиваю машину к вам!
— Если не откажетесь от чая, поворачивайте, — в тон ему ответил Хаиткулы, аккуратно подсаживая дочь в машину.
А в 11 вечера за ним заехал служебный «Москвич», чтобы отвезти его, как было условлено, к «грузчику». Против окон Бекназара шофер дал сигнал, и вот он уже рядом с Хаиткулы. Машина двинулась дальше.
Бекназар старался не дышать в лицо Хаиткулы:
— Простите, капитан, пришлось с ними промочить горло. Н-скому магазину отвезли сегодня девяносто пять ящиков водки. Увозил сам завмаг. Один грузчик говорит, что завмаг дружит с завскладом. По тому, как завмаг вел себя, видно, что вор.
Чистосердечно он рассказал и о том, что произошло на заводе днем. Хаиткулы сначала расстроил этот эпизод, но находчивость Бекназара немного успокоила, он одобрил его план и в конце концов даже похвалил:
— Похоже, что выкрутился. Но будь начеку. Сейчас главное — накрыть экспедитора.
Машина, сделав несколько кругов по городу, вернулась к дому Бекназара. Прощаясь, Хаиткулы, человек наблюдательный, спросил:
— Мне кажется, что произошло что-то еще. Уж очень мрачный у тебя вид. Выкладывай!
Смущенный Бекназар поведал ему о том, что встреча с братом невесты не осталась без последствий: вернувшись с завода, дома он нашел все свои подарки, подаренные невесте за время сватовства, и записку ее родителей: «Не хотим породниться с обманщиком».
— Бекназар, я очень сочувствую тебе. Подумай, как лучше поступить. Я не возражаю, если ты откроешься родителям невесты. Можно довериться им?
— Товарищ капитан, они люди сознательные. Считаю, что все поймут. Но ответственность, конечно, целиком ложится на меня.
— Дело не только в твоей ответственности, но в успехе всего дела. Так что решай!
XII
Такси, на следующий день остановившееся возле универмага одного из дальних колхозов Чарджоуского района, не обратило на себя ничьего внимания. Таксомоторов сколько угодно в любой точке республики. Снуют люди туда-сюда. Два пассажира, выйдя из машины, направились в продовольственный отдел универмага и там справились у продавщицы:
— Где нам найти заведующего, девушка?
Она ответила равнодушно:
— Сейчас был здесь. Может быть, он во дворе, посмотрите там.
Пройдя через проем двери, занавешенный занавеской, они оказались на захламленном дворе. Там и сям валялись ящики, мешки, стояли аккуратно бутылки всех калибров и бочки всевозможных размеров. Чуть дальше помещение, по-видимому, склад. Оттуда доносился стук костяшек — кто-то считал на счетах. Они вошли и поздоровались.
На счетах считал тот самый завмаг, что вчера на заводе торопился погрузить ящики с водкой.
Один из приезжих показал удостоверение и спросил:
— Вы завмаг Шериклиев? Мы из милиции.
Завмаг улыбнулся им:
— А… Моя милиция меня бережет?
Проговорив это, он, не обращая внимания на гостей, отошел к окну, позвал кого-то:
— Из города дорогие гости приехали.
За окном его, видимо, сразу поняли — послышались удаляющиеся шаги.
— Кого бережет, а кого и разыскивает, — с опозданием, но не без нажима ответил Хаиткулы. — Придется торговлю прекратить на час, Шериклиев. Сейчас покупателей не так много. Дольше не задержим.
— Если и есть кто, попросим уйти — санитарный час объявим. Председатель вечно недоволен, что днем торгуем. Хлопкоуборочная кампания. Он обязательно план перевыполнит, а до моего плана ему и дела нет… Сейчас обо всем распоряжусь.
Он исчез за дверью так стремительно, что приезжие и глазом не успели моргнуть. Они поняли свою оплошность — не надо было отпускать завмага ни на шаг, а он успел даже при них отдать какое-то распоряжение.
Минут через десять тот вернулся и пригласил в магазин. За прилавком оставалась одна продавщица, которая от смущения не знала, куда девать руки. Шериклиев смотрел на работников угрозыска, машинально протирая носовым платком засиженное мухами стекло прилавка. Платок был таким грязным, что стекло грязнилось еще больше. Но завмаг не видел этого. Он лишь подносил платок ко рту, слюнявил его и снова тер стекло.
Назвав себя и своего спутника — эксперта, Хаиткулы записал фамилию продавщицы, стал задавать ей вопросы:
— Вы приняли смену три дня назад, сколько оставалось от предыдущей смены водки?
Хаиткулы спрашивал, а эксперт записывал ответы в блокнот.
Продавщица достала из-под прилавка листок и, заглядывая в него, называла цифры:
— Два ящика коньяка, одиннадцать ящиков вина, сто пятнадцать бутылок водки.
Данные не расходились с приемо-сдаточным актом.
— Сколько же примерно бутылок продано из этих ста пятнадцати?
— Немного, пятнадцать.
— Шериклиев, вчера с завода вы привозили вино?
— Не вино, а водку. Сорок пять ящиков.
— Где они?
— Все сдал, как положено, продавщице. Акт в конторке.
Продавщица утвердительно кивнула.
— Значит, с учетом проданных бутылок у вас должно быть всего пятьдесят ящиков.
Продавщица снова кивнула:
— Да, пятьдесят. Один здесь, остальные в подсобке. Пересчитать в подсобке ящики не составляло никакого труда. Ни одного лишнего ящика, ни одной лишней бутылки.
Завмаг, не отстававший от Хаиткулы ни на шаг, бормотал за его спиной:
— Понимаю… Анонимка на нас поступила? Сколько ни работай, никому не угодить. Чуть что покажется не так, бежит домой и строчит. Бумага все терпит. Но вас я понимаю — ваша служба государственная. Вот видите — все в полном порядке. Теперь прошу ко мне в кабинетик.
Но в кабинетик они не пошли, а вернулись во двор. «Сорок пять ящиков, — думал Хаиткулы. — Сорок пять. Куда же он их дел? Отвез домой? Едва ли — опять надо перевозить сюда, слишком заметно. Во дворе хлам, машине не развернуться». На одной пристройке заметил два висячих замка. Не оборачиваясь (чувствовал, что завмаг идет по пятам), спросил:
— Попрошу открыть это помещение… Что там?
Угодливый голос произнес за спиной:
— Сию минуту. Что там? Товары, что в магазине негде держать. Сразу смотреть будете или после чая?
— Сразу.
Они вошли внутрь. Продавщица осталась у входа на улице. Завмаг теперь уже шел впереди Хаиткулы и его товарища и давал объяснения:
— В этих ящиках зеленый чай, здесь макароны и вермишель… Много всякого товару. И гёк-чай найдется, самый лучший, девяносто пятый.
Подозрительного ничего не было — склад как склад, все на месте, все аккуратно расставлено. Направо громоздятся ящики с чаем — до самого потолка в виде полукруга. Слева, смыкаясь с ящиками, — мешки с макаронами и вермишелью, о которых говорил завмаг. Что за ящиками и мешками, разглядеть трудно.
Беспорядок во дворе и идеальный порядок на складе не соответствовали друг другу. Хаиткулы сразу почувствовал это. Он взял табуретку, поставил ее перед баррикадой из мешков, влез на нее. Эксперт, вмиг понявший действия шефа, бросился помогать. Хаиткулы стаскивал верхние мешки, помощник их принимал. Сняв три-четыре мешка, оба увидели… ящики с водкой.
Даже продавщице, стоявшей у двери, они были видны. Она взвизгнула неизвестно почему — от удивления, наверно.
А Шериклиев сразу же потерял свою браваду. Его буквально прошибло потом, так что бакенбарды превратились в мокрые венички. Он едва держался на ногах и не мог выдавить из себя ни слова. На вопрос Хаиткулы: «Все сорок пять ящиков здесь?» — ответил кивком головы.
Эксперт снял пробы на крепость водки из разных бутылок и разных ящиков. Вместо сорока градусов оказалось тридцать пять — тридцать семь. Составив необходимые протоколы и опечатав дверь склада, милиционеры отправились обратно в Чарджоу. Шериклиева взяли с собой.
XIII
На центральной улице города на деревьях и на стенах домов расклеено объявление:
«Продается дом по адресу — Докторская №… Дом кирпичный, пять жилых комнат, кухня, баня на участке, сад, отопительная система. Справляться ежедневно после пяти вечера».
XIV
Тревога не покидала Бекназара. Все у него из рук вон плохо. Задание под угрозой. Невеста вот-вот откажет ему. И с собственными родителями нелады.
Будучи человеком очень твердым, он чувствовал, что поручение выполнит, несмотря ни на что. Если не подведет еще какая-нибудь случайность. Поддержка и доброта Хаиткулы его окрылили. Сейчас надо хорошо все взвесить, собрать волю в кулак и раскрыть перед старшими товарищами свои способности. И даже если случится опять что-нибудь непредвиденное, не зависящее от тебя, то они легче простят срыв, если ты будешь активным, чем если бы растерялся и проявил бездеятельность.
Полчаса назад Бекназар всерьез поговорил с родителями. Ох и тяжелый был разговор! Родители невесты посеяли в семье смуту: «Ваш сын — обманщик…» Ну, конечно, посыпались на Бекназара попреки и жалобы: «Пятнадцать лет учился, получил хорошую работу и вот все бросил, пошел на завод грузчиком. Кто тебя научил обманывать родителей? Учителя? Или в армии этому научился? Такого испокон не было в нашем роду… Позор, позор…»
Старики действительно были расстроены сверх меры. А что, если люди уже прослышали про то, каков их сын, и что свахи и родители невесты вернули ему подарки, и что свадебный той приходится отменить? А сколько небылиц приплетут!.. Не жалко свадьбы, не жалко купленных подарков, которые хоть выбрасывай, а жалко сына, его чести.
Бекназар ходил из угла в угол своей комнаты и думал, думал, думал. Бедные старики! Этого им не хватало на закате жизни. Есть же пословица: «Скорбь, как муравей, поедает дерево жизни», И он, Бекназар, причина их; скорби. Надо опять идти к ним…
Услышав шаги, отец вышел навстречу, обнял. Волнуясь, Бекназар стал рассказывать сбивчиво, не вдаваясь в подробности, но по всему было видно, что он говорит правду, и хмурые лица родителей просветлели. Единственное, о чем просил их сын, — пока ничего не говорить родителям невесты. Много ушей — много языков, а дело слишком важное, чтобы поставить его в зависимость от эмоций даже очень дорогих ему людей.
Старики облегченно вздохнули, оказывается, их Бекназар не связался с дурной компанией. Мать всплакнула, потом обняла сына: «Завтра же, завтра пойду к свахам, что-нибудь придумаю, объясню им, а ты, сынок, зайди к Лале, ей ведь тоже, поди, наговорили про тебя всякого».
…На следующий день с самого раннего утра Бекназар работал, как всегда, и это был обыкновенный трудовой день для всех. Грузили продукцию для городских и районных магазинов, работа шла ритмично. Часов в десять на завод прибыл какой-то незнакомый ранее Бекназару человек, и атмосфера на заводе вдруг как-то разом изменилась. Бекназар не то чтобы заметил это, но почувствовал шестым чувством. Маленький человек как колобок носился по территории завода, и ощущалось, что его здесь хорошо знают и относятся к нему по-особенному.
— Кто это? — спросил Бекназар одного из грузчиков, таскавших с ними ящики.
— Кузыбаев — экспедитор горпищеторга…
«Так вот ты какой, голубчик», — подумал Бекназар. Он слыхал об экспедиторе от Хаиткулы, но не думал, что так скоро его увидит. Хаиткулы предупредил, что после ареста Худдыкова Кузыбаев «заболел», сидит дома на бюллетене. А вот приехал!
Бекназару хотелось побольше узнать о личности экспедитора, хотя бы самую общую характеристику получить о нем, но рабочие отмалчивались — их мало интересовал чиновник горпищеторга…
Кончив смену, Бекназар, не торопясь, пошел домой, жалея, что день прошел почти что зря — ничего нового он не мог сообщить Хаиткулы. Но домой он не пошел. Свернул к вокзалу, там шашлычная, где довольно много всякого народу после работы собирается перекусить, выпить кружку пива.
Первым, кого увидел, был Юсуп-ага. «Э, дядя, — подумал Бекназар, — ты мне и нужен… На ловца и зверь бежит».
Взяв несколько полных кружек, Бекназар расположился рядом со старцем, и после нескольких, ничего не значащих фраз быстро перевел разговор на дела, которые «якобы» творятся на заводе, что он-де слышал… Бекназар знал, что поступает рискованно, заведя об этом речь сразу, без разведки и «прощупывания» старого грузчика, но он почему-то доверял Юсуп-аге.
Юсуп-ага нисколько не был смущен его вопросами и рьяно поддержал разговор. Не обращая внимания на толпившийся вокруг народ, он громко начал рассуждать:
— Вот ты о чем! Да это всем известно, что директорша махинациями занимается. Как же, такое у нее дело… водка!
Он вдруг поднял одну руку и стал загибать свои толстые волосатые пальцы:
— Директорша — р-раз… Кузыбаев — два, главбух — три, старик сторож — четыре. Целая шайка, — он засмеялся едким смехом. — Да еще завмаги, как стервятники на падаль, на эту водку. Не все, конечно, но три-четыре — точно. Никто ничего не хочет знать, а я уверен — шайка.
Он сжал пальцы в кулак, они плотно соединились вместе, Бекназар и подумал, что вот и та шайка хочет быть такой же неразделимой и крепкой.
Старик продолжал:
— Не найдется храбреца, который поднял бы руку на мошенников. Вот ты молодой, тебя поддержат — много хорошего народу на заводе. Комсомолец ведь ты, не поддавайся мерзавцам… Народ про все знает, но не пойман — не вор.
Чтобы не показаться навязчивым, Бекназар перевел разговор на другие темы, взяли еще по кружке, а расстались и вовсе закадычными друзьями. Правда, Бекназар не допускал фамильярности, знал свое место — как-никак в сыновья годился Юсуп-аге.
На следующее утро Бекназар встал не так рано, как обычно. Была суббота. Раздумывал, что предпринять для спокойствия родителей невесты и самой Лалы. (Он не знал еще, что мать успела побывать в семье невесты.) «Не стоит от них таиться, надо хотя бы навестить и постараться дать понять, что нынешнее его занятие временное…» Он вышел во дворик своего дома и с удивлением увидел, что все в природе за одну ночь изменилось. Легкий морозец сковал землю. Проехавшая мимо машина: не подняла пыль столбом, как обычно, и не разбрызгивала грязь из подмерзшей колеи. Небо прозрачное, воздух свежий и терпкий.
Бекназар с удовольствием потянулся и сделал несколько силовых упражнений — как-никак он же неплохой самбист, а форму потерять, несмотря на все заботы, было бы стыдно. Он почувствовал, как радостное оживление прокатилось по всему его телу, это оживление передалось и внутрь. Настроение стало великолепным. Он поднялся в дом, приготовил праздничную одежду, был полон решимости встретиться с невестой и был уверен в успехе этой встречи.
Он стоял на крыльце и счищал вчерашнюю грязь со своих ботинок, когда шум подъехавшей машины отвлек его от этого дела и от радостных, полных надежды мыслей. «Волга» остановилась у калитки, и Бекназар увидел двух незнакомых людей, вылезавших из нее. «Ко мне… Наверное, Хаиткулы хочет видеть… Ах, жалко откладывать встречу с Лалой…»
Но неожиданные визитеры не были сослуживцами Хаиткулы.
— Бекназар, Бекназар! — донеслось с улицы, и он вышел к ним навстречу.
— Дорогой Бекназар, будемте знакомы. Мы о тебе знаем. Привет тебе от Ханум. Привет и приглашение. Сегодня ее день рождения, и она послала нас за тобой. Спасибо, спасибо… Даже в дом заходить не будем… Едемте.
Приглашение было настолько неожиданным, что Бекназар растерялся. Первой мыслью было: «Отказаться! Лала ждет…» Но эту мысль заглушала другая: «А может быть, это как раз то, что надо? Вдруг Кузыбаев придет? О, многое можно будет услышать и узнать. Ханум, пожалуй, решила всерьез, что я неравнодушен к ее прелестям. Ну что ж, момент подходящий для дела!»
— Ладно, друзья, событие замечательное! Я мигом!
Он быстро переоделся, прихватил что-то из подарков, которые вернули ему родители Лалы, и примостился в машине среди молодых людей, которых было явно больше, чем полагается быть в легковой машине. «Гости…» — подумал он, втискиваясь в нее. Но вдруг необъяснимое чувство тревоги проникло в его душу.
XV
…Он силился вспомнить, сколько времени прошло с тех пор, как он оказался в этом доме, и не мог… Глаза, казалось, вот-вот выскочат из глазниц. «Почему же глаза так болят?..» Он скоро понял, что только глаза у него свободны и именно с их помощью он ищет выхода из того стесненного положения, в котором оказался. Но перед глазами был только потолок, потому что шея крепко притянута и прихвачена к спинке кресла. Потолок, казалось, ходил вниз-вверх, то опускался, то уплывал далеко-далеко вверх, и Бекназар тогда терял ощущение пространства и вместе с ним надежду на освобождение.
Голова нестерпимо болела от сильного удара чем-то металлическим, а кисти рук онемели от веревок, которыми были прихвачены к подлокотникам. «Черт знает что! Вот и самбо не пригодилось. И никого нет вокруг… Друзья только в кино да в книгах оказываются рядом в таких пиковых ситуациях».
Как бы отвечая его мыслям (но не опровергая их), в помещение кто-то вошел. Бекназар не мог его видеть, по скоро понял, что это не друг, идущий на выручку. Он услышал звуки музыки и голоса, ворвавшиеся к нему из соседней комнаты. Человек притворил дверь, и наступила тишина. Затем вошедший опустил шторы, и Бекназар почувствовал себя совсем одиноким. Нет, ему не было страшно, но полная беспомощность выводила его из себя. «Это не я, не Бекназар, самбист второго разряда, не студент, веселый и сообразительный… Я просто никто». Усилием он подавил в себе это мерзкое чувство униженности и на мгновение даже забыл о присутствии второго лица.
Тот дал о себе знать движениями пальцев вокруг шеи Бекназара; он отвязывал ее от кресла. Бекназар не видел того, кто манипулировал с его головой, было слишком темно. Он почувствовал, что шея его свободна, но и тут же понял, что не совсем. Он хотел наклонить ее, чтобы она заняла нормальное положение, но уколол горло, да так сильно, что рывком вернул голову в прежнее положение. «Нож!»
Раздался голос, неожиданно тонкий, почти девичий, хотя Бекназар знал, что его мучитель (а кто же это мог быть еще?) большой, грузный человек — по походке, звуку шагов можно почти все узнать о внешнем облике человека.
— Говори только правду — деваться тебе все равно некуда. Ты ведь легавый? Признавайся и проси прощения!.. Знаю, что ты заложил Худдыкова, а теперь хочешь ногу подставить другим. Выкладывай все, и я тебя отпущу. Иначе глотка твоя захлебнется твоей собачьей кровью. Тебя найдут в Амударье, но никто не узнает, что это ты. Сознавайся, палван![7]
Бекназар молчал. Он не собирался снова опустить голову, не хватало напороться на лезвие ножа. Ему даже приятно было лежать вот так раскованно, шея больше не болела, голова становилась ясней, он чувствовал, что силы возвращаются к нему. Он даже узнал по голосу, кто перед ним — завскладом Нерзи Кулов.
— Молчишь? Знаю — в других местах умеешь хорошо болтать, а здесь не хочешь и полслова вымолвить…
Он несколько раз принимался за свой монолог, насыщенный одними и теми же угрозами, но Бекназар уже сообразил, что собеседник не очень ждет от него ответов, он скорее делает ему внушение, и запугивание постепенно принимает какой-то бесстрастный характер. Он решил тянуть время, зная, что в конце концов оно работает на него.
Монотонный голос завскладом доносился до него издалека — Бекназар стал вспоминать, что же произошло. Теперь он понял, что времени с того момента, как его заманили в эту комнату, прошло не так много. Вечеринка была в разгаре, значит, он провалялся без сознания в кресле не больше часа. А что было перед этим?
Ханум не встречала его у входной двери. Как и полагается виновнице торжества, она находилась в той комнате, где начался праздничный пир. Оказывается, гости уже собрались. Их было не очень много. «Знакомые все лица», — подумал Бекназар, оценив обстановку: рядом с Ханум сидел главный бухгалтер завода и, конечно же, завскладом. Ну, это в порядке вещей — сослуживцы. А вот по какому праву находится здесь Кузыбаев? Не рискуешь ли, Ханум, выдавая себя таким образом? Ведь экспедитор — постороннее лицо, не родственник и не друг дома, что об этом скажут такие гости, как Бекназар? Но таких, видно, больше не было… Сидело несколько дам, разгоряченных вином и музыкой, которую изрыгал японский магнитофон.
Комната в общем-то казалась пустой. Кроме необходимой мебели и дорогого магнитофона, никакой роскоши. Это удивило Бекназара.
Главный бухгалтер, единственный трезвый человек из всей компании, в одиночку пил чай. Кивком головы он приветствовал грузчика. Остальные встретили нового гостя так шумно, как будто именно его и поджидали, что без него и веселье не веселье. Магнитофон включили еще громче. Бешеные поп-ритмы, от которых молодежь, казалось, вот-вот должна была потерять рассудок, сплошным потоком заполнили комнату. «Ну и ну!» — про себя воскликнул Бекназар, не любивший подобной музыки в чрезмерном количестве.
Ему налили штрафной фужер — стараясь не морщиться, выпил. А вот и сама хозяйка уже сидит рядом, облокотившись на его колено. Аромат духов кружит голову… Бекназар сразу заметил, что каждая гостья так или иначе имеет отношение к одному из мужчин — танцует только с ним, сидит рядом с ним. У Ханум не было пары. «Ага, вот оно что! — думал Бекназар, — вербовка всеми средствами, даже самыми изощренными. Ханум действует наверняка».
Бухгалтер тоже был без дамы. Бекназар видел, как он что-то говорил экспедитору. Тот хохотал, и Бекназар услышал только обрывок его ответа: «Ты и в молодости, думаю, не ахти какой был мужчина». Наверно, это было очень остроумно, потому что бухгалтер тоже засмеялся, а у экспедитора и вовсе глаза потерялись в жирных щеках. Завскладом разлил вино в бокалы, поднялся, все примолкли (чувствовалось, что дисциплину здесь знают хорошо).
— Дорогая Ханум, сегодня день вашего рождения — счастливый день для вас и для всех ваших друзей. Мы все пришли поздравить вас от чистого сердца.
Неожиданно его речь прервалась, как будто ему не хватило слов, и он стал шарить у себя за пазухой. Все замерли в ожидании, потом увидели в его руках маленькую коробочку. Завскладом открыл ее, и невольный возглас восхищения (или зависти?) пронесся над столом. Бриллиантовый камешек заговорщически подмигнул всем, как бы торжествуя: «Видите, кому я достался!» Никто, видимо, не оценил тот факт, что кольцо было золотое, так всех к себе приковало зрелище драгоценного камня.
— Ханум! Пальчик! Ваш пальчик! — в экстазе крикнул завскладом.
Она протянула ему руку царственным жестом, пальцы были сомкнуты. Она как бы предлагала подносителю самому выбрать палец, достойный носить такое богатство. Кольцо нашло своего владельца. Завскладом поднял бокал над головой, взвизгнув: «Пусть Ханум живет сто лет!» — опрокинул содержимое в глотку. Остальные последовали его примеру, со всех сторон раздавалось: «Ханум… Дорогая Ханум…»
Снова загремела музыка. Гости пустились в пляс, который был похож не на танец, а на спортивную борьбу.
Бекназар ничем не подчеркивал, что он чувствует себя на равных с другими гостями. Он пил умеренно, всячески давая понять, что он пуще всего на свете ценит гостеприимство и пусть хозяйка и ее друзья не примут его, незнакомого человека, за нахала или просто невоспитанного человека. Он не танцевал, так как Ханум была занята разговорами.
С трудом он мог различить содержание этих разговоров. То, что ему удалось услышать, разумеется, не было связано с работой, тем более с общими делами директора и ее подчиненных. Но разговоры были характерными. Говорили о тряпках — конечно заграничных — и о машинах — конечно, наших, но рангом не ниже «Волги». Даже о кино зашла речь, но Бекназар скоро понял, что кино всех интересовало только с точки зрения того, кто как одет и как хорошо было бы очутиться на вилле, показанной в том или другом арабском или французском фильме. Но вот главный бухгалтер, который все же пригубил водки в момент подношения кольца и сразу же захмелел, спросил:
— Ханум, дом ваш совсем пуст. Это правда, что говорит народ: хотите продать его?
Весело отвечала Ханум:
— Да, мужики, решила продать. Это правда. Покупайте! Дешево отдам. Зачем мне эти хоромы? Ухода требует дом, а я ведь одна сейчас. Муженек мой пропал. Думаю, что исполком даст мне квартиру, и буду жить, как все, в своем гнездышке, со своими мечтами. Ах, найти бы мне парня, что любил бы меня, была бы ему предана! Стал бы повелителем в доме. Где ж мне найти такого пригожего, чтоб совсем был мне по душе? А?
Все растерянно смотрели на нее, не зная, что сказать, ибо никого из мужчин, старых ее друзей, никак не назовешь пригожим, да и женаты были многие, хотя и забыли взять своих жен в дом Ханум Акбасовой.
Свою романтическую тираду директор кончила практичным добавлением:
— Дом продам и куплю себе и своему милому «Жигули».
Она рассеянно переводила взгляд с каждого, кто был рядом, пока не задержала его на Бекназаре. Улыбнулась ему. Бекназар весь подобрался. Он не мог решить, что же ему сейчас делать? Ему хотелось хотя бы предположить, что произойдет в следующую минуту, чтобы сейчас вести себя правильно. На всякий случай решил придать своему лицу выражение самое преданное, ждущее успеха у этой шикарной особы.
Дамы первыми поняли, что происходит, и радостно захихикали, поощряя Бекназара улыбками, шутками и даже подталкиванием его ноги под скатертью.
Одна из них, та, что положила голову на плечо экспедитору, томным голосом протянула:
— Главное — успеть отведать все удовольствия, которые может нам дать жизнь. Все ведь умрем.
Она опрокинула в рот полный бокал шампанского и захлопала в такт музыке.
В какую-то минуту Бекназар сообразил, что внимание присутствующих направлено в его сторону и нужно что-то делать. Ну, разумеется, надо показать, что он ценит их доброту, их внимание. Он встал и начал говорить тост:
— Творец всем наградил Ханум: умом, красотой, богатством. Пусть сбудутся все желания Ханум! Одна ее улыбка, один ее взгляд равны улыбкам и взгляду тысячи женщин, сотни девушек…
Он понимал, что несет какую-то чепуху, но общий восторг покрыл его тост. Он снова сел, пригубил шампанского и услыхал, как чей-то саркастический голос произнес над его ухом: «И все же лучше сказать «тысяча девушек»… Почему только сто девушек?» Бекназар оглянулся, недалеко от него сидел завмаг… Это он-то и произнес, наверное, эти слова. Что-то недоброе послышалось Бекназару в его голосе, и то чувство тревоги, что он испытал, садясь в машину, на миг пронеслось в его душе и… снова растворилось в общем гаме и в бойкой музыке.
Но эта музыка, лишенная какого-либо аромата, внезапно смолкла. Бекназар увидел, что Ханум стоит у магнитофона. Это ее рука повернула выключатель.
— Тихо! — голос Ханум прозвучал властно. — Еще успеете повеселиться! Давайте послушаем, что нам приготовил сегодня Кузыбаев.
Бекназар с удивлением посмотрел на экспедитора, который проворно сорвался со своего стула, как будто знал, что приказ этот рано или поздно прозвучит, и побежал в другую комнату.
Вот он появился снова, держа в руках тар.[8] Зазвучал аккомпанемент, и, вторя звукам, которые издавали его тонкие пальцы, Кузыбаев запел. Он пел старинную песню о любви, о девушке, которая дразнит влюбленного, скрывая ответное чувство, пел о тех чувствах, которые всегда понятны всем сразу, хотя и не всегда бывают разделены…
Голос Кузыбаева, мягкий, приятный, стучался в сердце каждого слушавшего. Лишь захмелевшие девицы позевывали, с нетерпением ожидая окончания «концерта». А Кузыбаев вдруг отдался весь вдохновению, и Бекназар подумал с горечью о том, как легко уживаются в человеке любовь к прекрасному с тягой к безобразному. Один и тот же человек способен очаровать искусством других и одновременно совершает великие подлости.
Легкий толчок в спину вывел Бекназара из задумчивости. Он обернулся — завмаг манил его за собой пальцем. «Для разговора», — дремотно подумалось Бекназару. Он нехотя встал и пошел к завмагу, который пятился к двери, знаками давая понять, что Бекназар должен идти за ним. В коридоре он обратил внимание, что завмаг одет не так, как другие мужчины, — в наглухо застегнутый пиджак, был весь какой-то строгий. Лицо завмага покраснело от выпитого вина, но походка не выдавала, что он здорово пьян. По коридору они прошли в другую комнату. Завмаг плотно закрыл дверь:
— Есть один разговор, палван.
Бекназар увидел перед собой большое мягкое кресло, двинулся к нему, чтобы блаженно вытянуться в нем, как вдруг громовой удар в затылок пошатнул его…
* * *
Хаиткулы в это субботнее утро тоже проснулся позже обычного, но это не было радостное пробуждение. Ему казалось, что в этот день не может быть отдыха, хотя это и была суббота. Он чувствовал, чувствовал очень остро, что в то время, как он и его сотрудники должны отдыхать два дня, преступники давать себе отдыха не станут, что за эти два дня они постараются сделать так много, что это задержит или сорвет раскрытие их шайки. В эти два дня время работало на них. Хаиткулы не знал, как оно будет работать на них, но то, что время себя будет «вести» именно так, он чувствовал почти физически.
Он слонялся по дому, помогал Марал заниматься хозяйством, поскучал у телевизора и вдруг подошел к телефону, вызвал служебную машину и решительно направился к выходу. Надел плащ, поцеловал жену:
— Надо идти. Извини, надо…
Марал понимающе смотрела на него, и никакой досады на мужа у нее не было. Она даже ни слова не сказала ему, лишь поцеловала. Правда, когда он уже взялся за ручку двери, она бросилась к нему:
— Нельзя идти без шляпы — сегодня холодно. Подожди, сейчас принесу.
Сбегала за шляпой. Хаиткулы еще раз чмокнул ее:
— Сегодня не задержусь!
Он сел в машину, которая уже ждала его, и попросил шофера ехать к дому Бекназара. «Надо бы побыть с ним вместе. Наверное, парню нелегко. Заварилась каша. Может, к родителям невесты и мне зайти?..»
У самого дома они едва не столкнулись с «Волгой», которая стояла впритирку к забору. Хаиткулы успел заметить Бекназара, вылезавшего из нее, и тут же шепнул шоферу:
— Быстро объезжай их. Ну дела — чуть не нарвались! Не заметил, кто там был?
— Как не заметить, заметил! Впереди толстяк, сзади две женщины и еще один — здоровый такой, а этот, который вышел, значит, сидел впереди. Что, догонять-то будем?
— Нет.
— Остановиться? Посмотрим, куда двинутся?
— Нет! Нет! Гони дальше, чтобы никаких подозрений у них не было.
Минут двадцать они кружили по городу. Потом проехали разок мимо дома Бекназара и, убедившись, что рядом нет никого, кто наблюдал бы за домом, вернулись еще раз. Хаиткулы вышел из машины, почти бегом взбежал на крыльцо. Постучал. Вышел Бекназар. Обрадовался гостю. Но Хаиткулы, не дав ему слова сказать, потащил за собой к машине.
И, только отъехав подальше, Хаиткулы спросил:
— Ну, старина, как чувствуешь себя? По тебе вижу, что опять что-то было.
— Вот что произошло, товарищ капитан, меня избили…
Он подробно рассказал все события дня, но при этом не жаловался, не выставлял себя героем, а поделился с Хаиткулы соображениями о действиях преступников. Ничего существенно нового, правда, он не мог сообщить капитану, такого, что дало бы новые улики, но сообщничество директора и экспедитора было очевидным…
Хаиткулы внимательно слушал его, прервав только один раз:
— Негодяи! Сговорились заранее. Но как тебе удалось вырваться?
— Вы не знаете еще финала, товарищ капитан. Действительно, сговорились и ловко все подстроили. Но цели у них были другие, чем могло нам с вами показаться… Я сначала и правда растерялся, но потом, когда завскладом стал меня допрашивать, я понял, что он умышленно тянет время, с какой целью, не знаю. Успокоился. Потом почувствовал, что нож уже не колет мне горло. В комнате было темно, хоть глаза выколи, и это помогло мне, а может быть, и спасло. Свет из коридора пробивался под дверь, и я хорошо различал этого человека. Я ждал, когда он станет у кресла, напротив меня. Ноги мои были не связаны, я выждал момент и, оттолкнувшись спиной от спинки кресла, изо всех сил ударил его ногами в живот. Я рисковал, что промахнусь или удар окажется слабым, я же был привязан к креслу… Но я не промахнулся. Он скорчился от боли, но почему-то не закричал. Я думал, что закричит и сбегутся остальные, но, видимо, не все были посвящены… Тут я почувствовал, что веревки на руках почти не держатся. Завмаг, конечно, в спешке не мог меня привязать как следует. Так я освободился. Ух и зол же я был на них, товарищ капитан. Чуть все не испортил. Хотел кинуться прямо туда, к Ханум и всей шайке, разметать их во все стороны… Завмаг меня и охладил. Я ему дал еще пару затрещин, так что он перегородку чуть не пробил насквозь. Потом слышу, просит: «Палван! Палван! Что ты делаешь? Мы же разыграли тебя! Ты думаешь, вход в этот дом, где брильянты дарятся, бесплатный? Вот ты, новичок, и заплатил за вход! Вижу теперь — свой парень. Другой на твоем месте давно уж раскололся бы — ты же понял, что я не шутил. Это, ей-богу, правда…» Ну, мы немного отряхнулись и пошли к Ханум выпить, потом я попросился домой. Она держать не стала, все поняла… Думаю, товарищ капитан, что они сейчас поделили большой куш и теперь сделают антракт. Но это только мои соображения.
— Антракт, антракт… Что-то с трудом верится, Бекназар. Будь внимателен в эти дни. Если удастся с поличным накрыть экспедитора, то конец операции близок… Будь внимателен и осторожен, Бекназар!
XVI
В понедельник в полуденное время в кабинете начальника угрозыска зазвонил телефон. Хаиткулы услыхал его уже в коридоре, когда шел обедать. Телефон настойчиво звонил, поэтому он вернулся, поднял трубку. Человек, звонивший в милицию, видимо, очень волновался, потому что Хаиткулы с трудом понимал его. Попросил повторить все сначала:
— Говорите громче… Откуда звоните?
Голос в трубке теперь уже отчетливо произнес:
— От Бекназара… с завода. Товарищ начальник, приехали они… Машина незнакомая, номер (такой-то)… Он просил меня позвонить — приезжайте немедленно!
Человек повесил трубку.
Если бы Хаиткулы знал, что это звонит Юсуп-ага, он не просто поблагодарил бы старика, он высказал бы ему все свои сыновние чувства. Но сейчас он как вихрь носился по кабинетам — куда девалась его медлительность — и через десять минут поднял на ноги всю опергруппу. Одна из машин помчалась к заводу. Вторая, в которой сидел Хаиткулы, ехала медленней, держа связь с первой по радио, готовая совершить любые необходимые маневры.
Хаиткулы вспомнил свой позавчерашний разговор с Бекназаром об «антракте». Кто бы мог подумать, что он кончится так быстро. Вот мерзавцы, и время-то как подгадали — к обеденному перерыву, знают, что нас можно не застать, хотели выиграть час. А звонившему просто повезло. Да и мне тоже.
ГАЗ-69, в котором находился Хаиткулы, перевалил через мост Дерябаша, выехал на улицу, в конце которой видны были металлические ворота винзавода. Машина не стала подъезжать к ним, а невдалеке свернула в сторону, скрытая от завода соседними строениями. Хаиткулы взял микрофон, чтобы соединиться с первой машиной, но милиционеры из той машины опередили его, и он услышал:
— Товарищ первый, докладывает второй: вижу «грузчика» — он во дворе, курит, идет к конторе, вошел. Кепки на нем нет, значит, тревогу поднял правильно…
— Наблюдайте. Если покажется машина с указанным номером, проследуйте за ней. Держите дистанцию, чтоб вас не видели, но и не потеряйте ее. Буду следовать за вами.
В машине наступила тишина. Шофер, уткнувшись в «Огонек», не проронил ни слова. «Замечательный служака», — подумал Хаиткулы. Он не только не выносил болтливых водителей, но и не терпел с их стороны вопросов или советов. Этот шофер обладал тактом и потому в деле был незаменим.
Прошел час, пока ГАЗ-51, которого они ждали, не выехал из ворот комбината. Он промчался мимо «газика» Хаиткулы на высокой скорости, и капитан с беспокойством смотрел на дорогу, не видя дежурного «Москвича». Но вот и он показался, и Хаиткулы с удовлетворением отметил, что «Москвич» выбрал точно ту дистанцию, какая необходима, чтобы остаться не замеченным из грузовика, но и не потерять его из виду. Минут через десять тронулся и «газик».
Они поехали другой дорогой, которая шла вдоль территории завода, и знали, что выедут на трассу, выбранную похитителями. В случае неожиданных изменений маршрута рация сразу предупредит капитана. Но неожиданность пришла не оттуда, откуда ее ждал Хаиткулы.
На дороге перед самой машиной вдруг выросла фигура Бекназара, неизвестно откуда взявшегося… Притормозили.
— ЧП, начальник! Они подменили машины… Юсуп-ага заметил это вовремя. Чудом каким-то понял, где вы.
Хаиткулы быстро нашелся:
— Возвращайся к завскладом, как бы он не уничтожил нужную фактуру. Вторую машину мы перехватим тоже, но без накладной трудно будет доказать кражу. Будь осторожен!
Оставив Бекназара, машина вернулась к заводу на перехват второго грузовика. Хаиткулы скомандовал по рации:
— Преследование прекратить! Возвращайтесь на завод, войдите в контакт с «грузчиком».
У самого завода Хаиткулы только успел увидеть задок удалявшегося грузовика. «Газик» догнал его уже далеко, на перекрестке двух улиц: той, которая ведет с винзавода, и главной магистрали города, вовремя. Светофор был зеленый, и тяжело нагруженный грузовик — тот самый, присутствие которого на заводе сразу же учел Бекназар, мог легко проскочить перекресток, чтобы потом быстро уйти от преследования или заманить их в сеть маленьких улиц, где неизвестно что могло бы произойти.
Почти на ходу Хаиткулы выскочил из машины, слегка опередившей грузовик, и на ходу вспрыгнул на подножку, одновременно резко рванув дверцу кабины. От неожиданности шофер нажал тормоз. Грузовик замер, а экспедитор Кузыбаев (это он сидел рядом с шофером), пихнув в грудь Хаиткулы, заорал:
— Что надо?! Куда лезешь, аварию захотел сделать?!
— Быстро вылезай! — в голосе Хаиткулы послышался металл. — Быстро!
Экспедитор секунду помешкал, потом подался к Хаиткулы, нерешительно вылез из кабины.
Хаиткулы сунул ему под нос красную книжку:
— Форме не доверяешь? Ну-ка быстро, что в карманах?
— Что в карманах? Документы…
— Где накладные?
— Пожалуйте… Накладной интересуетесь — вот она. А может быть, на месте, у торга, ящики посчитаем? Зачем задерживаться?
— Не в ящиках дело. Давайте накладную. Так… Хаиткулы понял, что накладная в порядке — ящики можно не считать.
— А теперь быстро, что в других карманах?
Кузыбаев не знал, подчиниться команде или нет.
— Вынимайте все из карманов.
Экспедитор полез во внутренний карман, в брючные и вынул содержимое: платок, ключи, деньги, несколько замусоленных бумажек. Одна из них была поновее. Хаиткулы понял: то, что он ищет. Накладная!.. Сличил с той, что ему сразу отдал Кузыбаев. Ага, номер тот же, а количество ящиков указано другое — втрое больше!
Они уже много времени потратили на выяснение отношений, и заметно стало, что мешают нормальному движению, тем более что наиболее из любопытных пешеходов не поленились выйти на мостовую, с риском для себя пытаясь узнать, что же происходит. Вокруг грузовика образовалось живое кольцо. «Тише, товарищи, расходитесь, вы мешаете», — это просьба Хаиткулы, которая повторялась им несколько раз, ни к чему не привела. Он пытался сердиться на толпу, но и это не дало результатов. Пришлось прибегнуть к известному способу. Хаиткулы вытащил из кармана блокнот и карандаш, бросил взгляд поверх голов и громко произнес:
— Мне нужны свидетели происшествия!.. А ну-ка вы, как ваша фамилия?..
Не прошло и двух минут, как вокруг машины стало пусто. Пусто, но не совсем — остались экспедитор, с мольбой смотревший на Хаиткулы, и Хаиткулы, строго взиравший на экспедитора. И еще два милиционера. Капитан понимал, что здесь, у светофора, завершается часть событий, другие имеют продолжение там, где остался Бекназар…
XVII
Расставшись с капитаном, Бекназар почти бегом пересек двор и, стараясь сохранять спокойствие, без стука вошел в кабинет завскладом.
Тот сидел за своим столом в хорошем настроении и даже напевал веселый мотивчик. Его нисколько не удивил приход Бекназара: грузчики сплошь и рядом заглядывали к нему, кто с чем — кто с шуткой, кто с претензией. Он посмотрел на вошедшего:
— А, палван! Здорово! Как живешь? Неплохо, да?.. Ну и мы ничего. Ответь мне: отчего бывает так, что человека тянет к песне? Угадаешь — бутылка за мной.
— Это просто. Когда человек не в духе, смех любимой девушки кажется ему хуже собачьего лая, а когда он в духе, то и лай собаки напоминает ему смех любимой.
— Молодец, палван, молодец! Бутылка с меня. Достань-ка из нижнего ящика. Угощаю. Если пить, так пить армянский коньяк.
Бекназар понял, что сейчас ему крупно повезло, завскладом нечаянно позволил ему действовать в зоне его стола. Рядом с креслом завскладом к стене были приколоты накладные. Бросив молниеносный взгляд на стену, Бекназар сразу же увидел, что последней была приколота фактура на двадцать ящиков водки. То ли это, что ему надо?..
Он наклонился к полу, открывая ящик стола, но видел все, что сейчас делал завскладом. А тот, уверенный, что Бекназар занят поиском бутылки, лениво разрывал на части какую-то бумагу. Швырнул ее в корзину.
Бекназар сделал одновременно два движения. Достал бутылку армянского коньяка и сразу же сделал шаг к корзине.
— Выпить есть чего, но успеем ли, дорогой?
На лице завскладом появились первые признаки беспокойства:
— Шутишь, палван? С тобой и выпьем.
Но когда рука Бекназара опустилась в корзину, нащупывая там гладкие бумажные лоскуты, завскладом понял, что происходит что-то такое, чего он не предусмотрел…
— Ах ты, тихушник!..
Бекназар едва успел наклонить голову, как над ней просвистела чугунная пепельница, врезалась в мягкую штукатурку, да так и осталась в ней торчать.
Бекназар поднял бутылку армянского, как гранату (знал, что это дешевый прием):
— Только шевельнись!
Дверь тихо приоткрылась, и в комнате появился «второй» — помощник Хаиткулы. Завскладом сразу же потерял волю к сопротивлению. Бекназар поручил «второму» препроводить Нерзи Кулова в милицию, сам же направился к главбуху. Нужная накладная, хотя и порванная, была с ним. Ни слова не говоря, потребовал от оторопевшего бухгалтера его накладные. Тот сразу все понял, он даже не потребовал от Бекназара документов, удостоверяющих право на эти действия. Бекназар поспел вовремя: все накладные, и настоящие и «липовые», оказались на месте. Он спрятал их в свой карман и предложил бухгалтеру:
— Пройдемте.
Бухгалтер все же не торопился. Он собрал со стола все бумаги, аккуратно их сложил и запер в ящик стола. Ключ положил сверху, на видном месте. Его сослуживцы молча наблюдали эту сцену: бухгалтер уходит задолго до конца рабочего дня, да еще в сопровождении незнакомого человека… Их взгляды сверлили ему спину.
XVIII
Хаиткулы в последние годы научился курить. А в эти дни он вовсе не расставался с «Беломором», вызывая беспокойство Марал. А наблюдательные люди, его друзья, только качали головами: «Вот какой ценой достается ему выдержка и спокойствие!» Он сидел в своем кабинете, просматривая новые документы дела. Их теперь было достаточно, чтобы наверняка знать «кто есть кто?», чтобы в открытую, без риска сделать ошибку, предъявлять обвинения виновникам злоупотреблений на винзаводе.
Экспедитора, главного бухгалтера и сторожа завода после короткого опроса отпустили по домам, взяв с них подписку о невыезде. Главный разговор с ними еще предстоял. Собственно, их не допрашивали, а лишь попросили дать письменные объяснения.
Серьезней дело обстояло с завскладом: кроме обвинения в хищении, ему предъявлялось обвинение в сопротивлении представителю власти.
Хаиткулы послал в прокуратуру одного из инспекторов, участвовавших в операции, для получения санкции на арест завскладом и проведение обыска в его доме.
За последние несколько дней в деле прибавился еще один документ.
Выписка из протокола допроса:
«…20 ноября я, Шериклиев, привез из винзавода 90 ящиков водки. Половина из них — излишек сверх того, что указано в фактуре. Главбух выписал мне две накладные под одним и тем же номером. В одной было указано 45, в другой 90 ящиков. Нерзи Кулов, завскладом, и главбух должны были «большую» фактуру уничтожить, а к документации завода подколоть другую. Вот как мы договорились: час мне давался для того, чтобы добраться до магазина, а еще час — ждать вестей от них, не произошло ли ЧП. В случае провала в течение этого часа я должен был бы сохранить фактуру на 90 ящиков и продавать их как обычно. Если же сразу ничего плохого не происходило, мне надо было уничтожить фактуру на 90 ящиков. Так и произошло.
…Из денег, вырученных за проданные 45 ящиков водки, у себя я должен был оставить 150 рублей, а остальные передать завскладом. С кем он делил прибыль, я не знаю. Продавщицы моего магазина тоже ничего не знали. Излишек водки быстрее всего можно реализовать оптом, то есть сплавить эти бутылки тем, кто справляет свадьбу. Так я и собирался поступить. О том, что водка не имеет положенных сорока градусов, узнал лишь после экспертизы, проведенной работниками милиции. Вывозил бесфактурную продукцию с завода впервые…
Показания написаны собственноручно.
Подпись (Шериклиев) 27. XI.197…».Хаиткулы придавал большое значение этим показаниям. Они сыграют большую роль на очной ставке. Капитан заполнил и подписал бланки трех повесток трем наиболее важным фигурам, замешанным в этом деле.
XIX
Хаиткулы, несмотря на его в общем-то молодой возраст, отличало прекрасное свойство — в нем была педагогическая жилка. Он не стремился всегда все брать на себя, а поручать часть работы, причем немаловажную, ответственную, подчиненным. Вот и сейчас ему было интересно, как проведет свою первую беседу один из его молодых помощников. Лейтенант Талхат Засянов хорошо зарекомендовал себя, работая в ОБХСС, но опыта у него было мало.
Хаиткулы знал об этом и все же был уверен, что парень не испортит дела. Ведь и он, Хаиткулы, будет рядом, и если у Талхата возникнут ошибки, они будут полезны и ему, Хаиткулы.
Он расположился в углу кабинета, листая свежий номер журнала «Человек и закон», а Талхат приступил к опросу главного бухгалтера, которого вызвали первым. Вопреки ожиданиям Хаиткулы беседа получилась очень короткой.
Талхат четко задавал вопросы. Бухгалтер, казалось, давно был готов к ним, поднял низко опущенную голову:
— Если проигравший игрок не признается в том, что проиграл, он плохой игрок и конченый человек… Ты прав, сынок. Спрашивай обо всем. О чем знаю — расскажу, а если не знаю — отвечу «нет». И не обижайся на это, сынок. Руки у меня нечисты, признаю, но язык еще чист… Да и не хочу быть похожим на человека, который просыпается, когда солнце уже в зените.
Он выглядел таким беспомощным, что Хаиткулы боялся, что ему станет дурно, и был рад, что Талхат быстро задавал вопросы и быстро записывал показания. Бухгалтер вел себя так, будто находится не в милиции, а в компании за пиалой доброго кок-чая.
Сведения, полученные от бухгалтера, должны помочь отомкнуть другие уста.
Место бухгалтера сразу же занял сторож завода. Когда он вошел в кабинет, Хаиткулы про себя произнес: «Глаза его блуждали, кровь от лица отхлынула…» — перед ним и правда как бы возник персонаж из эпоса «Юсуп-Ахмет». И на этот раз капитан решил остаться наблюдателем, поручив Талхату задать вопросы. Талхат, человек темпераментный, начал:
— Вы, Ышан Ымамкулыев, забыв ваш священный долг, допустили разбазаривание государственной собственности. Хуже того — вы не просто человек беспечный, вы соучастник мошенничества. Без вас воры не смогли бы вывезти излишки продукции с территории завода. Вы стояли на проходной, и что ж вы делали?!! Отбирали у экспедиторов сразу две накладных на один и тот же груз. Нам все известно, не отпирайтесь. И конечно, одну из накладных вы оставляли, а другую уничтожали. Эта услуга вам хорошо оплачивалась. Хотите, назову, сколько вы получили от мошенников, которым вы помогали? Назову с точностью до рубля. Это ведь ваша подпись в ведомости?
Талхат пододвинул в сторону сидящего против него сторожа лист бумаги — ту самую ведомость, в которой завскладом учитывал распределение «доходов». Она была найдена у него дома.
— Итак, не стоит терять времени, — продолжал Талхат. — Кто предложил вам участвовать в расхищении продукции?.. Не отпирайтесь, Ышан, этим вы только усугубите ваше нелегкое положение.
Сторож ответил:
— Завскладом.
— Его имя?
— Нерзи… Кулов.
— Когда? При каких обстоятельствах?
— Не помню точно, когда это было. Однажды после работы, когда все разошлись по домам, в проходную пришел завскладом, поставил передо мной бутылку: «Ышан, — говорит, — устали мы после таких трудов, давай раздавим ее…» Пока опорожняли бутылку, он интересовался, как я живу, сколько получаю. Вскружил он мне голову своими посулами, сам не знаю, как оказался в его сетях.
— Когда это было?
— В позапрошлом году, летом,
— Значит, вы согласились добровольно? Давления на вас не было?
— Не было… Сам я…
— Кто распределял доход?
— Нерзи. Он выдавал деньги и каждого заставлял расписываться в ведомости.
— Зачем он это делал?
— Ему хотелось, чтоб все мы были повязаны и никто не мог бы отпереться в случае разоблачения.
— Кто вывозил ворованную продукцию?
— Кузыбаев.
— Только он один?
— Он. И один раз этот… Шериклиев.
Хаиткулы не пришлось вмешиваться, чтобы помочь лейтенанту. Когда сторожа увели, он похвалил Талхата:
— Как ты быстро находишь с ними общий язык! Молодец, Талхат… Быстро распознаешь, с кем имеешь дело. Как ты научился этому?
— Стаж у меня уже есть, товарищ капитан. Потом, знаете, книжки все же надо читать.
— Ну, открыл Америку.
— Нет, серьезно. Есть такие запутанные дела, что черт в них ногу сломает. И в каждом деле свой ключ. Чаще всего он связан с типом человека, его характером, поэтому, мне кажется, надо уметь разбираться в людях. Почти все авторы самых серьезных книг так поступают. Мало знания фактов. Надо видеть и чувствовать, что у человека скрыто за душой. Помните исключительное дело — «Дело Штерна»? Не зная психологии таких людей, нелегко бывает обнаружить и обезвредить их.
— Читал, читал… Но это случай, этому преступнику надо было иметь совсем черную душу, чтобы так действовать. Это дело грязное, но сравнительно простое. А читал ли ты?..
— «Преступление и наказание» спросите? Читал, конечно. Ну, это вещь идеальная, что ли… Преступник высшего ранга, совестливый…
Телефон прозвонил как сигнал вернуться от интересных разговоров к продолжению дел. Дежурный милиционер сообщил, что пришел с повесткой экспедитор Кузыбаев. «Пусть идет сюда», — попросил Хаиткулы.
Дверь открылась, и в кабинет сначала проникла голова экспедитора, а затем и все его туловище. Он вошел в кабинет довольно бодрой походкой. Подошел к каждому из следователей и протянул им руку. Обоих милиционеров покоробила его фамильярность. Хаиткулы, чтобы разрядить напряжение, подыграл экспедитору:
— Ну, друг любезный, что-то раненько вы стали появляться на миру. В другой день вас в это время и не встретишь, а сейчас чуть свет на ногах…
— Ах, начальник, начальник, зачем напраслину возводишь?.. Не сижу я дома и не таюсь никогда. Что ж мне попусту людям глаза мозолить и бегать по улицам, как паршивому псу. Торговое дело бойкое, крутись и крутись с утра до вечера, и все меж недовольных людей. Этому не то привез и этому не такой товар, как он хотел. Вдобавок смотрят многие на тебя так, будто ты не государственным, а своим распоряжаешься.
Хаиткулы изобразил на лице жалость:
— Да, работа нелегкая. Но и платят за нее, наверное, вдвое.
— Что вы, что вы! Обыкновенная зарплата. А трудов сколько, а хлопот… а подводных камней.
— Говорят, что и правда на этой должности надо быть хлопотливым, как курица-наседка.
— Да, да…
— …И клевать везде — то слева, то справа.
— Что вы, что вы… Чем клевать?! Для этого надо крепкий клюв иметь и землю уметь загребать когтями.
— Это правда. Но я думаю, и вы не из слабых людей.
Толстяк экспедитор затрясся от смеха, казалось, ножки стула не выдержат его тяжести — они качались, как соломинки на ветру.
— Товарищ начальник, я удивляюсь, откуда ты знаешь сердечные тайны? Верно, что я не из слабых, хотя люди говорят — вот добряк, широкая натура. С кем-то я бываю добрым, а с кем и суровым. Как хорошо вы все подмечаете. Жаль, что на должность директора горпищеторга не берут таких славных парней… Бросай свою милицию. Я с тобой до самой пенсии работать соглашусь.
Талхат обратил внимание на то, как быстро меняется настроение Кузыбаева, от состояния полного покоя он быстро переходил к почти неистовости.
Как бы невзначай он спросил:
— Семья у вас большая, Кузыбаев?
Он и сам не знал, почему задал именно такой вопрос, но вопрос подействовал на экспедитора, как выстрел.
— Семья?.. Большая… Всех кормить надо…
Кузыбаев сник и лепетал несвязные слова, и Талхат был почти в восторге, что его «психологический» метод оказался эффективным и на этот раз — вот-вот сознается в преступлениях напуганный Кузыбаев.
Но экспедитор не собирался ни в чем признаваться.
На вопрос Хаиткулы, почему в машине оказалось лишних сорок ящиков, Кузыбаев ответил шуткой:
— Большой той предстоит, вот и взял больше, чем думал сначала. Сначала взял двадцать, потом передумал и попросил добавить. Накладные? Бухгалтер, видно, забыл ее у себя оставить, а я в спешке не уничтожил. Это правда, клянусь жизнью моих трех детей…
Ему дали прослушать магнитозапись показаний бухгалтера, но он и ухом не повел. Хаиткулы протянул ведомость, по которой Кузыбаев получал «левый заработок», но экспедитор рассмеялся ему в лицо — не моя, мол, подпись, и денег этих в глаза не видел.
Зачитали показания сторожа. Кузыбаев вспыхнул:
— Сын ишака!.. Я покажу ему…
Но тут же заставил себя успокоиться.
Хаиткулы не хотелось кончать беседу с экспедитором, не добившись результата. Предложил Кузыбаеву сигарету. Экспедитор курил только в компании, да и то когда выпьет изрядно. Обычно носил с собой наскади — маленькую полую тыковку, — в которой хранился насвай — табак, особо обработанный. Наскади был изящно инкрустирован, и Кузыбаев гордился этой вещицей, с ней ему было спокойней чувствовать себя. Достаточно положить под язык щепотку насвая, и какое от этого наслаждение! А сейчас он едва не выхватил сигарету у Хаиткулы. Жадно затянулся.
Капитан за пять лет своей работы имел дело с преступниками, наделенными самыми разными чертами характера. Он, казалось ему, изучил природу этих людей и их повадки и делил их иронически по «звериному» принципу: одни с птичьим сердцем, другие с лисьей ухваткой, третьи бешеные, как разъяренные тигры. Труднее всего было иметь дело со вторыми.
Экспедитор, бесспорно, относился ко второй категории. Хаиткулы знал, что заставить признаться экспедитора, припертого к стенке, задача трудная, но все же стремился к этому. Ведь признание часто оборачивается не только в пользу дела, но и к выгоде самого преступника. Нередко ведь это бывает движением совести, а значит, залогом исправления человека. Способен ли этот человек возродиться к честной жизни?
Надежда Хаиткулы не сбывалась, ибо Кузыбаев отрицал все. Он не слышал реплик пришедшего Бекназара, который напомнил ему о дне рождения Ханум, и о некоторых их личных разговорах.
Оставалась последняя надежда на Талхата, которого Хаиткулы час назад отправил с поручением. Оно должно было пролить некоторый свет на роль экспедитора и других лиц в этом деле.
Кузыбаев снова, казалось, обрел силы для борьбы. Упорно твердил о своей невиновности.
«Пожалуй, это все-таки не агония. За этим упрямством что-то кроется… Но что?» — ломал голову Хаиткулы. В этот момент вошел Талхат, он кивнул капитану, а тот, не задавая вопросов, подождал, когда Талхат займет свое место.
Талхат с улыбкой посмотрел на Кузыбаева и задал ему вопрос:
— Кузыбаев, нам еще раз интересно узнать, большая у вас семья?
Экспедитор насторожился, лицо его помертвело:
— Я вам уже сказал…
Талхат протянул Хаиткулы два листка бумаги:
— Вот показания его двух жен. — Он сделал ударение на слове «двух».
Хаиткулы сначала сам прочитал объяснения этих женщин, потом попросил Талхата прочитать их вслух.
Объяснение Зыбы Кузыбаевой, жены экспедитора:
«С Кузыбаевым состою в браке 20 лет. Имеем двух сыновей и дочь. Старшему сыну 18 лет, в этом году он заканчивает среднюю школу, младшему 15, учится в 8-м классе. Дочери 10 лет, учится в 3-м классе. В учебе не отставали. Моя мать живет отдельно от нас, свекровь проживает с нами. До рождения дочери работала уборщицей в школе, потом муж запретил работать. О ежемесячном заработке мужа ничего не знаю, но в деньгах мы не нуждались никогда. Все необходимое имеем. Из сослуживцев мужа у нас часто бывал Нерзи Кулов. Приходили и другие. Меня муж ни к кому не брал. Приходивших не знаю, кто они и чем занимаются, и муж об этом никогда не говорил. «Какое дело лисе до городского базара?» — так он отвечал на мои вопросы о гостях…
Объяснение записано собственноручно.
Зыба Кузыбаева».Объяснение Зерхал А…
«…Кузыбаев не является моим мужем, я знаю, что у него есть законная жена и трое детей. В связи мы находимся четыре года. Регулярно встречаемся, он постоянно живет у меня. Детей у нас нет. Мой сын от первого брака живет у моей матери в Денау. Дочь, тоже от первого мужа, живет здесь, Кузыбаев относится к ней, как родной отец. Нас познакомили на одной свадьбе. Он играл на таре, а я пела и танцевала под его аккомпанемент. Он проводил меня домой, и с тех пор мы стали жить вместе. Часто приносит подарки и ежемесячно 150 рублей. Ни в чем поэтому не нуждаюсь, я ведь и сама работаю и получаю 100 рублей в месяц. Всего у меня с избытком… За четыре года нашей жизни я получила в подарок от Кузыбаева ковер, гарнитур, два золотых кольца… У директора винзавода бывали дома довольно часто, в основном по праздникам и в компаниях.
Объяснение написано собственноручно.
Зерхал А…».— Ну что? У вас и правда крепкий клюв и острые когти, Кузыбаев, — тихо сказал Хаиткулы.
Кузыбаев опустил голову и промямлил:
— Признаюсь. Были излишки водки, были фиктивные накладные.
Хаиткулы обрадовался его словам, но в то же время он знал, что это еще не конец всего дела.
Завскладом, уже находившийся в следственном изоляторе, дважды отказался давать какие-либо показания. Было очевидно, что он сознается последним, после разоблачения всех преступников. Его соседями теперь стали Кузыбаев и сторож. Бухгалтера по состоянию здоровья временно отпустили домой.
XX
Бекназар до сих пор так и не встретился с невестой. Что она о нем думала и думала ли вообще, он этого не знал. Приход его матери в дом невесты был встречен благожелательно, с ней говорили почтительно, но говорить о Бекназаре уклонились. Глаза Лалы все же выдали жадное любопытство к делам жениха, и, оставшись с ней наедине, мать Бекназара шепнула ей: «Он с тобой, он на задании». — «Ах, вот как! — хлопнула в ладоши Лала. — Но мог все же прийти ко мне». Родителям невесты мать ничего не сказала, но намекнула, что Реджепбай ошибся в тот день. Ошибся, и все! Ошибся, что сын стал грузчиком… А старой женщине надо верить больше, чем журналисту, даже способному. Итак, Бекназар, дальше отступать некуда… Но все же прошла еще неделя с того момента, как он снова надел милицейскую форму, пока он навестил невесту. Завершение дела шло такими темпами, что требовало от Бекназара полной отдачи сил. За один день иногда приходилось выполнять обычную тройную норму.
Он был в восторге от Хаиткулы, который подавал им пример трудолюбия и аккуратности в работе. Капитан работал в поте лица, не пренебрегая ничем, выполняя частенько и ту работу, которую можно было бы поручить инспектору. К тому же он занят был не только делом на винзаводе, успевал отдавать распоряжения и по другим делам, во все вникал, обо всем имел мнение.
Хаиткулы действительно был в курсе всех дел, ни о чем не забывал. Оказывается, помнил и о сердечных делах Бекназара. Он несколько раз в течение последней, самой загруженной недели спрашивал: «Сходил ли к невесте?»
И вот наконец этот день настал.
Появление Бекназара на пороге невестиного дома вызвало переполох. По всему видно было, что его не ждали, но почувствовал, что не все еще потеряно. Он не чувствовал отчуждения со стороны взрослых, видно, неизвестность уже тяготила их, и сами были рады избавиться от нее. Мать девушки улыбнулась ему приветливо и пригласила войти. Бекназар понял, что теплота ее приема никак не определялась тем, что он пришел к ним в форме, новенькой и свежей, которая, пожалуй, производила внушительное впечатление. Радость матери была бескорыстной, как и чувства отца. Он только хмуро посмотрел в сторону Реджепбая, появившегося на шум из другой комнаты с кипой журналов под мышкой.
Тот сразу оценил положение и первым бросился навстречу Бекназару:
— Ого, каков ты! Орел! Здравствуй! Это я виноват — чуть не расстроил свадьбу. Вот моя шея, хочешь — руби!
Но вместо шеи он протянул Бекназару руку, и тому ничего другого не оставалось, как крепко пожать ее. Он чувствовал, что его гнев на Реджепбая прошел. Радушие фоторепортера было неподдельным.
А вот появилась и невеста. Как хороша! Она, разумеется, ничего не знала о приходе Бекназара, поэтому вся вспыхнула, увидев его, мирно беседующего с родителями и братом. Смущение быстро сменилось приветливостью. Родители ласковы с Бекназаром, значит, нечего бояться за жениха. Впрочем, она никогда не боялась. Молодость и скромность Бекназара навсегда заняли место в ее сердце.
Встреча была короткой — так полагалось на этот раз, после серьезного недоразумения.
Бекназар хотел подольше остаться наедине с Лалой, но не знал, как это лучше сделать. Выручил, конечно, находчивый Реджепбай:
— Пойдешь в кино, Бекназар? Нет, не в кино, а на концерт — сегодня выступают хорошие артисты.
— Конечно, идем.
— Прекрасно! И сестра тоже не прочь пойти с братом и женихом, а? — Он метнул лукавый взгляд на Лалу.
Та бросила такой же взгляд на родителей и по едва уловимым движениям материнской руки поняла, что ей можно идти.
Они быстро собрались и вышли на улицу. Душа Бекназара ликовала. Будто тяжесть спала с нее. Теперь дело за небольшим, но тоже нелегким — надо договариваться о свадьбе. Но это уже сделает его мама, и сделает все очень хорошо.
Реджепбай, следуя за влюбленной парой, недолго сопровождал их. Полуобняв обоих за плечи, он слегка подтолкнул их вперед:
— Ну, молодежь, прогуляйтесь пешком до клуба, а я поеду на автобусе и возьму билеты. Времени до начала много, так что не спешите.
Бекназар тоже знал, что время еще есть, но знал также, что его меньше, чем хотелось бы, оно летело неудержимо. Первый вопрос задала Лала:
— Ну как выполнил задание?
Бекназар слегка удивился, что и Лала, видимо, кое-что знает, шутливо ответил:
— Еще не до конца… Ведь главное мое задание — это ты.
…А после концерта, проводив Лалу и Реджепбая, Бекназар не мог пойти домой, чтобы отдаться мечтам о невесте, задание и правда еще не было выполнено до конца. Даже в этот поздний час ему надо наведаться на городской телеграф с поручением, санкционированным прокурором.
XXI
Утром, придя на службу, Хаиткулы получил еще один документ — изложение телефонного разговора Ханум Акбасовой с Махачкалой, вернее, с неустановленным лицом, позвонившим ей из этого города. Вот как выглядел этот диалог:
Х а н у м: Переехала в замечательную квартиру (райисполком действительно недавно выдал ей ордер как разведенной).
М а х а ч к а л а: За сколько продала шапку?
Х а н у м: За 16 рублей.
М а х а ч к а л а: Дешево. Надо было за 20. Когда приедешь?
Х а н у м: Через месяц. Заявление подала. Но сначала жду тебя.
М а х а ч к а л а: Зачем?
Х а н у м: Дети больны, лежат в больнице. Одна я не увезу чемодан с вещами. Устроишься в гостинице, позвони на работу. Как у тебя дела? Купил себе шляпу?
М а х а ч к а л а: Погода замечательная. Купил прекрасную шляпу за двадцатку, можно ходить в ней и летом и зимой. Живу в центре, как в раю. А ты не заразилась от детей?
Х а н у м: Нет, нет… Ребята оказались крепкие.
В этом диалоге опущены некоторые бытовые подробности, и выглядел он обычным частным разговором.
Хаиткулы в этой беседе было ясно почти все, но все это требовало подтверждения. Неизвестным оставался и звонивший директору винзавода.
Он вызвал Бекназара и Талхата, попросил проверить, продан ли дом Ханум. Бекназару для выяснения не понадобилось и двадцати минут. Он не стал звонить в ЖЭК, а не поленился сходить на место. Да, у дома теперь новый владелец. Супруги Акбасовы развелись, муж живет теперь у сына. Ханум получила хорошую однокомнатную квартиру. Дом перед этим был продан.
Выслушав, Хаиткулы сказал:
— На воре шапка горит, шапка, которая продана за 16 рублей. Наверняка стоит дописать три нуля. А в Махачкале куплена шляпа подороже — за 20 тысяч. Кто там ее купил, к кому рвется наша Ханум?
— Это узнать труднее всего, товарищ капитан, думаю, что мы это сможем узнать или от самой Ханум, или от того, кто приедет к ней. Зачем все же она вызывает того?
— Не понял, что ли, чемодан донести до самолета?
— Шутите, товарищ капитан.
— Не до шуток. «Дети в больнице». Это она, конечно, про своих бывших коллег. Собирается смыться. Строго наблюдайте за ней. Поручаю Талхату. Она его не знает. Вот-вот и нагрянет из Махачкалы гость. Чемодан ему нужен. Думаю, что в нем будет груз серьезный. Деньги она могла бы переслать по почте, а тут что-то другое. Возможно, что деньги она обратила в золото. Помнишь, сколько на ней всяких побрякушек?
— Товарищ капитан, а начальство нас торопит. Говорит: все настолько ясно, что нечего тянуть.
Как бы отзываясь на слова Бекназара, дверь отворилась, и в кабинете появился майор Каландаров. Дружески пожал им руки, сел в кресло, и… Хаиткулы знал наперед, что он будет говорить.
— Нет, нет, капитан. — Майор молитвенно поднял руки над головой. — Так дальше нельзя. Я недоволен вами. Вы все уже сделали замечательно. Вы вырастили урожай, наше дело — его собрать…
Хаиткулы молча смотрел на витийствующего начальника следственного отдела, слушал и не возражал. А тот продолжал:
— Съешь мясо, а кость зарой. Пора вам зарыть кость. Берите немедленно директора, обыщите ее квартиру. Ей-богу, если она, просидев ночку в КПЗ, не расскажет все о своих делишках, я сниму с себя звездочки. Капитан, вы ведете себя так, как будто все еще находитесь в институте и проходите практику. Кого вы ждете из Махачкалы? Может, он приедет через неделю или месяц. Если возьмешь Акбасову, то будем о нем знать уже завтра.
Хаиткулы спокойно выслушал эту тираду. Он чувствовал себя сегодня как никогда уверенно, он знал, что завершение расследования должно пройти как хорошо разыгранный шахматный эндшпиль.
— Постарайтесь понять природу этих людей. — Хаиткулы направил в сторону майора остро отточенный карандаш, будто собираясь им, как копьем, пронзить его доводы. — Человек, с которым должна встретиться Ханум, наверняка не сомкнул глаз этой ночью. Шестнадцать тысяч его ждут, а кроме них, еще одиннадцать, которые Акбасова накопила и которые тоже должны достаться ему. Двадцать семь тысяч! Да он наверняка уже в пути.
— Не прозевайте только. Они все хитры, как шакалы и лисы. Директор уже подала заявление об увольнении, ее не станут удерживать, слишком много шума вокруг порядков на винзаводе. Как следователь настаиваю на завершении дела.
Майор поднялся и вышел из кабинета, не закрыв за собой дверь. По всему его облику было видно, что он обижен на своих младших товарищей.
Талхат, свидетель диалога, подал реплику:
— Чем больше стареет человек, тем больше стареет его душа. Какой сердитый!
Он встал и закрыл дверь за майором. Хаиткулы поправил его:
— Каландаров нас многому может научить. Стар дуб, да корень свеж. Ты иногда наблюдай, как он работает, немногие так могут. А это дело, что ж, действительно, не очень красивое. Всем хочется его побыстрее завершить, и Каландарову тоже…
XXII
Как долго происходили хищения на заводе? Сколько раз вывозили расхитители готовую продукцию? Вот два основных вопроса, на которые Хаиткулы еще не получил точных ответов, а только эти ответы могли определить общие размеры хищения. Очевидно, что первое хищение совершилось три года назад. Об этом говорил сторож, и Хаиткулы ему верил. Но завскладом упорно это отрицал. На очной ставке сторож повторил все, что сказал в первый раз, но Нерзи Кулов пришел в страшный гнев: «Не сумасшедший ли я? Чтобы с тобой пить водку? Да такое и во сне не могло бы мне присниться», — и раскаявшемуся сторожу он бросал бранные слова: «Нет, это не я сумасшедший, это у тебя помутилась голова, собака!» В его доме при обыске была найдена злополучная ведомость с подписями главбуха, сторожа и других членов шайки, но даты передачи денег отсутствовали. Худдыков, Шериклиев, экспедитор Кузыбаев, главбух и завскладом как будто сговорились и стояли на одном: все, что с ним произошло, произошло «случайно», «один-единственный» раз (в крайнем случае — два-три раза) и т. д. Шериклиев вообще оправдывал себя: «Хотел воспользоваться излишком, но не успел его реализовать…»
На душе у Хаиткулы было неспокойно, и порой он начинал мысленно соглашаться с майором Каландаровым: «Прав он — надо было сразу же взять под стражу Кузыбаева и Нерзи Кулова, сразу, как был задержан Худдыков. Результат на сегодняшний день мог быть лучше. И Бекназару меньше хлопот досталось бы, уже давно сыграл бы свадьбу». Но и предостерегал себя Хаиткулы от разъедавшей его раздвоенности: «Нет-нет, пожалуй, все идет как надо. Пусть медленнее идет расследование, чем это бывает обычно, зато мы не упускаем ни одного звена, фактов накопилось столько, что достаточно еще одного-двух, как картина станет абсолютно понятной». Хаиткулы много думал о той роли, которую играла Ханум Акбасова в этом деле. Очевидно, что она не была запевалой — эта роль досталась экспедитору, но она многое знала. Ни одного факта против нее пока не было выставлено, никто не называл ее. Она оставалась все еще в тени.
«Ну что ж, дождемся разворота событий, — думал Хаиткулы, — а сейчас пора на собрание и на свадьбу к Бекназару».
XXIII
Общее собрание на винзаводе началось за час до окончания работы. Собрались все — не только начальники цехов, но и рабочие, занятые на производстве, и грузчики. Пришли многие, почти все, потому что на повестке стоял серьезный вопрос: случаи хищений на предприятии и меры борьбы с ними.
Открыла собрание директор:
— Дорогие товарищи! По рекомендации райкома партии и отдела внутренних дел мы проводим сегодня собрание, посвященное весьма серьезным событиям, которые произошли в нашем коллективе.
Она поправила прическу. Сверкнув золотыми серьгами и сделав легкий поклон в сторону сидящих в президиуме представителей райкома и милиции, продолжала:
— События, прямо скажем, ужасные, проступки ряда работников важнейших звеньев производства вопиющие. Еще недавно мы хвалили и нашего бухгалтера, и Нерзи Кулова, они были удостоены права висеть на доске Почета, а теперь вот я должна краснеть и перед вами, товарищи, и перед ответственными партийными работниками (кивок в их сторону), и перед органами милиции (скорбная улыбка в направлении Хаиткулы, представлявшего на собрании милицию)… Теперь, товарищи, пришло время поговорить о причинах случившегося, о тех предпосылках, которые создали возможность расхитителям действовать безнаказанно. Возьмем, к примеру, нашего сторожа. Он взят под стражу. Давно я догадывалась, что этому человеку не во всем можно доверять.
Ханум долго и красноречиво распиналась, каялась в попустительстве. Высказала ряд запоздалых мыслей по вопросам производственным — видно было, что в заводских делах она разбиралась.
Она говорила долго, но в какой-то момент почувствовала, что ее речь не зажгла аудиторию, что ее плохо слушают и хуже того — ей не верят. А на некоторых лицах она прочитала как бы написанное на них осуждение: «Ты виновата больше всех, потому что ты знала о порядках, творимых на заводе. Ты их сама и завела, эти порядки».
Когда она кончила говорить, то поднялись руки с просьбой выступить, а также с вопросами к директору. Ханум боялась этой минуты, но вместе с тем интуитивно понимала, что любое осуждение ее как руководителя предприятия окажется ей выгодным.
Выступавшие гневно осудили тех, кто, пользуясь недостаточно строгой охраной, присваивал себе средства, вырученные от незаконной продажи излишков продукции. Они прямо не обвиняли директора, но она почувствовала изоляцию, в которой оказалась. Выступления были разные — и острокритические, и сумбурные, некоторые внесли ряд предложений по проблемам организационным и даже технологическим. На собрании, разумеется, не ставился вопрос, почему часть продукции имела заниженную против нормы крепость. Никто, кроме директора и Хаиткулы, об этом не знал. Заведующий лабораторией отмалчивался, он лишь один раз вызывался в прокуратуру, где на заданный ему вопрос о качестве продукции сослался на низкий уровень лабораторного оборудования, на то, что работать приходится почти «на глазок». Хаиткулы заинтересовался, будет ли Акбасова обвинять и лабораторию. Она ни слова не произнесла в их адрес. Здесь, следовательно, был или сговор, или Акбасова не придавала значения порядкам в лаборатории… Халатность, мол, и все.
Хаиткулы поднялся из-за стола президиума, вышел на трибуну и произнес небольшую речь. Выступление его было коротким, но веским. Он был уверен, чувство ответственности за сохранность народного добра присуще подавляющему большинству собравшихся. Высказал серьезный упрек руководству завода, выразил надежду, что заводской коллектив будет всегда пресекать любые попытки разбазаривания народного достояния.
Представитель райкома говорил об ослаблении бдительности и снижении трудовой дисциплины, о задачах, стоящих перед коллективом, и о тех уроках, которые следует извлечь из этого события.
Парторг завода выступил обстоятельно, но сбивчиво. Для него все случившееся на заводе было как ушат холодной воды на голову, он заверил и коллектив, и представителей райкома, милиции, что подобные случаи никогда не повторятся в их коллективе.
Последней снова выступила Ханум Акбасова. Она еще раз покаялась во всех ошибках, просчетах и упущениях. Вину старалась полностью взять на себя, со слезами на глазах сообщила собравшимся о том, что вынуждена, как несправившаяся, покинуть свой пост ради должности более скромной, и даже… поблагодарила коллектив за доверие к ней на протяжении четырех лет ее деятельности.
После собрания она некоторое время провела в обществе коллег, потом направилась в кабинет. И тут ее настиг телефонный звонок. Он был таким пронзительным, что ей показалось — звонят из другого города. Но звонили из того же города. Ханум не ждала этого звонка и была ошеломлена. Почти шепотом заговорила в трубку:
— Когда приехал? Ты же обещал дать телеграмму. Что? Домой не заходил? Правильно. Скоро буду, не задержусь.
На ходу накинула пальто на плечи, бросив секретарше: «Пока. Ушла совсем». Долго не могла найти своего шофера, а найдя, приказала:
— Гони домой.
Поднялась на свой этаж (шоферу велела ждать), несколько минут пробыла там, потом быстро вернулась, снова села в машину, велела как можно быстрее ехать на окраину. Шофер не знал, зачем она туда едет, но беспрекословно выполнял ее приказы. Машину она попросила остановить недалеко от торговых и административных точек района, почти бегом отправилась туда. Шофер издалека не видел, куда она шла. Ханум же, сделав несколько маневров, чтобы шофер не понял ее намерений, оказалась у сберкассы. Успела! Дверь ей еще открыли, но она была сегодня последней посетительницей. Ее здесь знали, и долго ей не пришлось уговаривать кассира выдать ей всю сумму. А сумма была немалая.
Сложив деньги в сумку, Ханум в отчаянии поняла, что сегодня ей никак не успеть в поселок Комсомольск, чтобы получить и там в сберкассе деньги. «Придется приехать специально», — с сожалением подумала она об оставшихся там тысячах. Шофер обратно ехал медленней. У своего дома Ханум велела остановиться. Выходя из машины, сказала:
— В девять ноль-ноль жду тебя на этом месте. Поедем в аэропорт, поэтому не опаздывай.
Отъезжая через несколько минут от автозаправочной станции, шофер недалеко увидел Юсуп-агу, поднявшего руку. Притормозил, Юсуп-ага обрадовался, увидев знакомого:
— Ну, мне повезло. Бекназар сегодня женится и просил меня быть на свадьбе. Говорит: возьми своих друзей. А у меня друзей не осталось в живых. Пойдем со мной. Он обрадуется, тебя тоже звал.
— Поедем. Только времени у меня маловато. Директор просила заехать за ней в девять.
* * *
Когда Юсуп-ага вместе с шофером протиснулись к краешку стола, уже вовсю звучали тосты:
— …Пусть долго живут, пусть вместе состарятся. Пусть будет у них девять дочерей и столько же сыновей!
Юсуп-ага, как все, аплодировал каждому тосту. Он чокнулся с соседями по столу и выпил свой бокал с отвращением, закрыв глаза, будто ему дали отраву. Он пил в лучшем случае только пиво.
Старик разглядывал гостей. Как хорошо выглядит сегодня Бекназар: в черном костюме, в белой сорочке с черным галстуком… Прическа как у киноактера… А невеста — что за прелесть! Фата просто сказочная, и столько цветов вокруг нее…
Он многих не знал: не знал Марал, жену Хаиткулы, которая сидела по правую руку от жениха. Не знал в лицо и сидевшего слева от невесты Хаиткулы.
Шофер хлопнул его по плечу:
— Юсуп-ага, мне надо ехать. Скоро девять.
— Подожди, посиди еще…
— Нет, должен быть там ровно в девять.
Шофер уехал. После его ухода старик услышал, как тамада произнес:
— …А теперь слово скажет начальник отдела, в котором работает Бекназар, Хаиткулы Мовламбердыев…
Юсуп-ага несколько раз слышал это имя от Бекназара, и теперь ему захотелось увидеть этого человека.
Хаиткулы говорил о Бекназаре как о человеке и как о работнике милиции. Юсуп-ага с одобрением слушал его, и скоро в его мозгу слова Хаиткулы смешались с его собственными мыслями.
— Бекназар — молодой работник. Всего прошло каких-нибудь четыре-пять месяцев, как мы знаем его… («Я должен быть в 9 часов там…») Несмотря на небольшой срок, мы убедились в его прекрасных деловых качествах. Работа милиции подобна полю битвы («Ехать в аэропорт… в аэропорт»), которое требует от каждого человека находчивости и бесстрашия… («С директором…») Давайте поднимем этот тост за Бекназара, как хорошего сотрудника, как будущего хорошего отца, и за то, чтобы он был предан своей любимой до конца жизни… («Ну, пора ехать в аэропорт!»)
В одно мгновение слова шофера вдруг обрели для Юсуп-аги подлинный смысл: «С директором я должен встретиться в 9 часов и ехать в аэропорт. Значит, директор улетает. Но почему так внезапно? Все это, конечно, неспроста».
За тостами и однообразными пожеланиями счастья и хорошей жизни последовали песни и музыка. Взволнованный своими мыслями, Юсуп-ага приподнял край брезента и вышел на свежий воздух. Крик и шум детворы, стремившихся сюда, где так хорошо пели и раздавалась музыка, непринужденные беседы гостей, беготня юношей, сновавших с чайниками, отвлекали его от навязчивых мыслей.
Ему захотелось пойти к старикам, выпить пиалу зеленого чая и поговорить с ними возле очага. Но Юсуп-ага вернулся с полпути. Нерешительно подошел к Бекназару. Чтобы поздороваться со стариком, Бекназар встал со своего места, протянул ему обе руки. С одного взгляда понял, что тот пришел не только затем, чтобы его поздравить:
— Вы что-то хотите мне сообщить, Юсуп-ага?! Отойдем в сторонку.
Старик, посмотрев на свои часы, начал быстро говорить:
— Ханум куда-то ездила с шофером… Сказала ему, что в девять поедет в аэропорт.
В одно мгновение Бекназар очутился рядом с Хаиткулы:
— Может быть, за ней приехал тот тип, товарищ капитан? Последний рейс из Чарджоу в десять. Через полчаса.
— Будь спокоен, Бекназар! За эти тридцать минут мы не успеем туда, а Талхат должен был проводить Ханум после собрания.
Хаиткулы поднялся в дом хозяев свадьбы и по телефону связался с дежурным, попросил проверить, где Талхат. Лейтенант уже был на пути в аэропорт.
Свадьба продолжалась.
* * *
Объявили посадку на самолет, вылетающий десятичасовым рейсом. На аэровокзале было многолюдно и суетливо. Целующиеся пары, старавшиеся продлить минуты расставания, долгие рукопожатия… Улетавшие все прибывали и прибывали, проходили на посадку, показывая билеты дежурному. Мегерем, судорожно сжимавший свой билет в кармане, тоже медленно продвигался в порядке очереди. Пробившись сквозь толпу провожавших, Ханум бросилась к Мегерему.
— Наконец-то! А я уже начала волноваться.
— Где ты был эти два дня?
— У приятеля, он и купил мне билет. К сыну не пошел, пусть ничего не знает. Хорошо, что ты у него не спрашивала обо мне. Итак, жена, когда тебя ждать?
— Осталось отработать два дня в этом гадюшнике. Видишь, как удачно успела. Будь осторожен с чемоданом.
Она пододвинула к нему тяжелый черный чемодан. Когда их руки скрестились на металлической ручке чемодана, они услышали спокойный голос:
— Ханум, вы забыли взвесить свой чемодан.
Она была уверена, что кто-то из знакомых узнал ее и решил подшутить, с улыбкой обернулась назад, и тут же ее улыбка погасла. Ей показалось, что тяжесть чемодана пригнула ее к плитам аэровокзала. Она потеряла опору, и все куда-то поплыло… Только услыхала протестующий голос мужа:
— В чем дело? Я же должен лететь…
* * *
Один из последних документов дела.
«Опись найденных вещей при личном обыске Ханум Акбасовой и ее бывшего мужа Мегерема:
1. Деньги в сумме 27 тысяч рублей.
2. 200 штук золотых монет царской чеканки, достоинством в 10 рублей каждая.
3. Золотые женские украшения с драгоценными камнями (серьги, кольца, браслеты)».
Золотые монеты и украшения особо заинтересовали следствие.
Перевод с туркменского А. Кузнецова
Вадим ПЕУНОВ Дело принял адвокат
I
Анатолий Васильевич Семериков понимал, что иного приговора по делу его подзащитного Геннадия Грабаря областной суд вынести и не мог: «высшая мера».
Скоро областная газета даст короткую информацию «из зала суда».
«Заслуженное наказание
Долгие годы бесчинствовал на поселке шахты «Семь-бис» хулиган Геннадий Грабарь. Трехкратное пребывание в местах заключения не образумило его. Отбывая наказание, он совершил одно из самых тяжких преступлений. На днях выездная сессия областного суда приговорила Г. И. Грабаря к высшей мере наказания».
* * *
Поселок шахты «Семь-бис» — это часть молодого, недавно родившегося города Углеграда. Построили шахту-гигант, а при ней — городок. Он впитал в себя соседние поселки других шахт, в том числе бывшей «Яруги», ныне закрытой, где прошло детство Анатолия Васильевича. От «Яруги» до «Семь-бис» километров двадцать с лишним, в старое время это было непреодолимое расстояние, так что мальчишкой Анатолий Васильевич там не бывал. Но так ли, эдак ли, а выходило, что Геннадий Грабарь его земляк.
Анатолий Васильевич — адвокат на пенсии. Он расстался было с работой в прошлом году. Но сидеть дома, находясь в вечном подчинении у жены, на должности: «Ты сходил бы туда-то», «ты бы принес то-то», было невмоготу. Анатолий Васильевич с трудом дождался срока, позволявшего ему вернуться хотя бы на два месяца к привычному положению человека, в котором остро нуждаются люди. Было время летних отпусков, многие из сотрудников юридической консультации находились в отъезде. Увидев Анатолия Васильевича, его давний друг, председатель коллегии адвокатов Иван Фадеевич Яковенко, обрадовался.
— Разгрузи-ка нас, дружище.
Семерикову предложили несколько дел, в общем-то не очень интересных. Разведенные супруги делили дом — тут все ясно; женщина просила признать отцом своей дочери одного из близких знакомых. Нерасписанные. У каждого своя квартира. Но в общем-то оба считали, что дело не в формальностях. Ездили в гости к ее родственникам и к его, летом вместе отдыхали. А дочка родилась — отец на попятную. Смазливенький мужичок, из сладеньких до приторности. Побеседовал с ним Анатолий Васильевич и решил: «Любил кататься — люби и саночки возить».
А третьим из предложенных Анатолию Васильевичу было дело Грабаря: отбывал наказание после четвертой судимости — убил в колонии напарника по заключению Комарова и ранил второго заключенного Абашева.
Ознакомившись бегло с делом земляка, Анатолий Васильевич понял, что оно из породы «дохлых», то есть абсолютно безнадежных. И вообще защищать отпетого негодяя — дело всегда не только трудное, но и неприятное. Конечно, любой, даже матерый преступник, в конце концов, тоже человек и имеет законное право на защиту своих интересов. Но вести такое дело можно лишь по обязанности.
Анатолий Васильевич отказался:
— Уж увольте.
Иван Фадеевич на правах друга начал было его уговаривать:
— Ты же опытнейший адвокат…
— Именно поэтому и не возьмусь. Хватит! Тридцать с лишним лет защищал всех подряд: и пострадавших, и ответчиков. Я теперь пенсионер, поэтому пользуюсь правом выбора. Отныне я прихожу на помощь только пострадавшим от насилия, жестокости, несправедливости. А виновные пусть поищут себе защитников среди молодых. Вот мы и посостязаемся в выявлении правды.
Анатолий Васильевич считал свою позицию непоколебимой. Но Яковенко попытался разубедить его в этом.
— Вину доказывает суд, — не без иронии заметил он.
— Ты меня, Иван Фадеевич, на слове не лови, — запротестовал Семериков. — Суд доказывает вину лишь с точки зрения закона. А я сейчас говорю о моральной стороне. Для меня Геннадий Грабарь — преступник по самой своей сути. Ты с данными знакомился? — Он развязал тесемки на папке и начал докладывать: — Грабарь Геннадий Изотович. Тридцати четырех лет. Образование семь классов. Первая судимость по статье 206-й, часть третья УК Украинской республики. Пять лет за нанесение тяжелых телесных повреждений. Освобожден условно-досрочно.
Яковенко оживился:
— За примерное поведение, надо полагать?
Анатолий Васильевич не стал реагировать на реплику друга, он продолжал выкладывать неопровержимые доводы.
— Не прошло десяти месяцев — вторая судимость по той же статье. Получил четыре года. Освободился — и вновь совершил преступление. На сей раз его судят уже по трем статьям: за хулиганство в общественном месте, за избиение милиционера, находящегося при исполнении служебных обязанностей, за кражу оружия.
Яковенко крякнул, будто поднял что-то тяжелое.
— Кража оружия у избитого милиционера? Что-то припоминаю. Кажется, в Углеграде…
Из райотдела сообщили: у молодого участкового инспектора какой-то тип забрал пистолет, при этом жестоко избил. Лейтенант милиции госпитализирован.
На ноги подняли всю оперативную службу. Лейтенант-неудачник ничего толком рассказать не мог. Он новичок, жителей поселка в лицо не знал. Шел вечером по улице, видит, двое пьяных пристают к девушке. Она закричала, позвала на помощь. Вчерашний выпускник школы милиции решил действовать быстро и решительно. Но его избили, вернее, избивал один, а второй стоял рядом. Девушка убежала. Позвонила в райотдел. Когда приехала оперативная машина, преступники скрылись.
Старший лейтенант, работавший в поселке участковым до новичка, сразу назвал фамилию возможного преступника: «Грабарь». Геннадий был дома. Он утверждал, что с обеда «поддал газу», то есть напился до свинского положения и спал после этого беспробудно.
Обыск в доме и во дворе Грабаря никаких результатов не дал. Тогда прежний участковый посоветовал наведаться к любушке Грабаря. Там-то пистолет и нашли. Завернутый в пленку, густо смазанный солидолом, он был спрятан в саду под яблоней. Вначале Грабарь отпирался: нашли-де не у меня. Но девушка, к которой он приставал на улице, опознала обидчика, а экспертиза обнаружила на пистолете под слоем солидола отпечатки его пальцев.
— Четвертая судимость, — продолжал как можно спокойнее комментировать личное дело Грабаря Анатолий Васильевич, — за преступление, совершенное в колонии: нанесение телесных повреждений должностному лицу. Ну а пятое — убийство и покушение на убийство. — Он захлопнул папку. И этим резким хлопком была им поставлена точка в разговоре с председателем коллегии адвокатов.
Тот помолчал, понянчил в руках пухлое дело Грабаря. Затем сказал:
— Черт бы его побрал! Ты третий из тех, кто отказался. Но в соответствии с законом кто-то должен его защищать!
На этом, в общем-то, разговор и закончился.
Позже, придя домой, Анатолий Васильевич без видимой причины стал снова думать о Геннадии Грабаре. Интересная фамилия: Грабарь — от слова грабарка — подборочная широкая лопата, которой шахтеры «мантулят» уголь. Фамилия сродни Кузнецовым, Орачам, Плотниковым, Долотовым, Столяренко, одним словом, добротная рабочая фамилия.
Анатолий Васильевич ужинал, смотрел с внучкой телевизор, читал газету, а в голове все время звучала фамилия: «Грабарь… Грабарь».
И… вспомнил далекий 1942-й, кавказскую эпопею. В то время Анатолий Васильевич был начальником штаба пехотного полка, который оседлал дорогу через главные кавказские перевалы. Он помнил ревущую от ярости горную реку Пшеху, горы Оплепен, Красную Кручу, Шупсе, на которых держали оборону роты.
В сентябре сорок второго против полка, занимавшего ряд высот, ринулась в атаку дивизия баварских горных егерей. Гитлеровцы рвались к Туапсе. Они учились ходить по горным тропам с детства. А в полку у Семерикова — степняки.
Бои шли за каждую высотку, за каждый камень, за каждую тропу. В течение двух дней отчаянных боев полк потерял тысячу двести двадцать человек. Во взводах осталось по пять-шесть бойцов, в ротах — по двадцать.
И вот прибегает на НП полка командир орудия Грабарь. Полковая знаменитость: артиллерист-снайпер, специалист по уничтожению пулеметных гнезд и других огневых точек противника. Прибегает: «Рота попала в окружение. Навалилось до батальона егерей». Семериков взял последний резерв полка: автоматчиков, разведчиков и писарей. Хотел пойти вдоль железнодорожного полотна, а Грабарь говорит: «Отсюда автоматчики нас ждут. Давайте с тыла… Проберемся через завал».
А завал наш километра полтора длиною. Заминирован. Сучья торчком, все переплелись. Одним словом, сделано на совесть. Грабарь и говорит: «У меня там своя тропа… Ходил в разведку, когда за фрицевскими пулеметами охотился».
И точно, провел. Продрались, хоть гимнастерки кое-кто и оставил на колючем сушняке. Ворвались на Разъезд. Завязалась рукопашная. Егеря засели в окопах. Семериков со своими — туда. Из-за поворота на него здоровенный гитлеровец. Карабин за дуло держит. В окопе узко. Стоит Семериков с саперной лопаткой в руке, перезарядить пистолет нет времени. А егерь уже прикладом замахнулся. Намерился со всего плеча. Анатолий Васильевич — к нему навстречу. Ткнул с ходу лопаткой под каску, затем рубанул. Гитлеровец выпустил карабин. Ничего не видит, кровь залила физиономию. Но ручищи протянул, повалил. Уселся сверху, до горла добрался. Анатолий Васильевич пытался развести его руки — где там! Это сейчас он набрал тела, раздобрел, а тогда тридцатилетний капитан выглядел мальчишкой. Казалось бы, тут и конец Семерикову. Но вдруг егерь как-то весь обмяк. Пальцы еще на горле русского капитана, а уже не давят. Налился тяжестью. Анатолий Васильевич увидел, что сзади гитлеровца стоит артиллерист Грабарь, пытается свалить здоровенного егеря с командира, уперся плечом в его спину. Но трудно в тесном, глубоком окопе. Анатолий Васильевич начал терять сознание: такая тяжесть на груди — не продохнуть. Все-таки егерь свалился. Анатолий Васильевич сел. В глазах — многоцветный, радужный туман, а сквозь него проступала неясная фигура артиллериста с тяжелым трофейным ножом в руке.
Вечером того же дня Анатолия Васильевича ранило осколком гранаты. Из госпиталя в полк он вернулся поздней весной сорок третьего, когда часть находилась на отдыхе. Грабарь к тому времени погиб. Где-то в горах. Один взвод… Взвод тех времен — человек пятнадцать от силы, держал оборону на какой-то высоте. Егеря их атаковали. Наши держались до последнего патрона. А потом взорвали себя вместе с врагом. Для организации завала саперы приготовили фугас, но заложить его не успели. Так вот, на этом фугасе… Живых свидетелей тому бою не осталось.
Воспоминания, видимо, были острыми. Ночью Анатолию Васильевичу приснился сон, будто он вновь вместе с артиллеристом продирается сквозь густой сушняк. Артиллерист — впереди. Анатолий Васильевич несколько раз окликал его, все надеялся, что тот обернется, уж очень хотелось увидеть и запомнить лицо шахтера-артиллериста. Нет, не обернулся…
По дороге в консультацию продолжал думать о Грабаре. «Его» Грабарь погиб, хотя на фронте всякое случалось, и из мертвых воскресали… «Этот» Грабарь молод, родился в сорок первом и вполне мог быть сыном того артиллериста. А если не сыном, то просто родственником. Ну, к примеру, племянник… Грабарь-герой — из Донбасса. Шахтер. Грабарь-преступник тоже из шахтерского поселка.
* * *
На работе Яковенко вновь пытался уговорить друга взять на себя защиту Грабаря.
— Ну ради меня, Анатолий Васильевич. Некому! Дело, конечно, «дохлое». Но ты найдешь какие-нибудь обстоятельства, если не оправдывающие совершенно, то хотя бы объясняющие, как человек докатился до такого состояния.
Анатолий Васильевич на уговоры не поддался.
Вечером только подсел к телевизору — в дверях мелодично пропел звонок. «Кто-то из посторонних», — определил Анатолий Васильевич. Уж очень робко нажал пришедший кнопку и один раз.
Жена зовет:
— Анатолий, к тебе…
Он вышел навстречу. В коридоре стояла небольшого роста, сухощавая женщина, явно убитая горем. Смотрит на Анатолия Васильевича. Глаза влажные. Бескровные губы подрагивают.
— Я… к вам. Мне в Углеграде сказали: «Если кто и сможет тебе помочь, то это Анатолий Васильевич Семериков. Наш земляк. Обратись к нему…»
У посетительницы от усталости и волнения подгибались ноги. Анатолий Васильевич провел ее в свой кабинет.
— Кто вы? — спросил он, усаживая ее в кресло и уже догадываясь, кто она такая. — Что вас привело ко мне?
Говорить нежданная гостья не могла. Вся дрожит, словно ее одолела лихорадка. Анатолий Васильевич дал ей валерьянки.
Она выпила лекарство, но успокоилась не сразу,
— Я все понимаю… но Гена — моя плоть. Уж вы простите старую неразумную женщину. Если бы можно было не расстреливать его, а поместить в какую-то особую тюрьму, где бы он работал по пятнадцать часов… До конца жизни… Мы бы с мужем платили державе на его содержание…
«Мать Геннадия Грабаря!»
— Нет у нас пожизненного заключения, — ответил ей Анатолий Васильевич. — Пятнадцать лет — самый большой срок. А если преступление вопиющее — расстрел.
Она кивнула, согласилась. Но глаза по-прежнему молили пощады.
— Мне сказали, что вы хороший адвокат…
«Хороший»! Ну и что из этого? Хороший для хороших людей. А для плохих…»
— Мне нечем вас утешить.
Она засуетилась. Вытащила из кармана какой-то плоский сверток. Анатолий Васильевич подумал: «Сейчас начнет совать деньги». И это сразу уничтожило то чувство сострадания, которое появилось у него в душе при виде острого горя матери, теряющей сына.
Но он ошибся. В свертке были фотокарточки Геннадия Грабаря. Мать стала показывать их одну за другой. Она ни о чем больше не просила.
В этих фотографиях, порой выцветших, была вся жизнь ее сына, лет с четырех. Анатолий Васильевич не мог их не смотреть. А посмотрев и вернув матери, понял, что взял какое-то моральное обязательство облегчить ее муку.
Он ничего не обещал, она больше ничего не просила, но ушла и унесла надежду.
На следующий день, придя в консультацию, он сказал Яковенко:
— Черт бы побрал этого Грабаря! Давай его дело.
* * *
Конечно, можно было бы подойти к своим неприятным обязанностям чисто формально: проштудировать дело, поговорить с осужденным, подготовить дежурные вопросы, которые следует задать подсудимому во время судебного следствия, затем выступить с прочувственной речью на тему: «Мой подзащитный заслуживает сурового наказания, однако…» Ну и развить это самое «однако» до гипертрофических размеров. Прокурор при этом будет морщиться, а члены суда с трудом изобразят на своих лицах беспристрастность.
Анатолий Васильевич когда-то читал рассказ югославского юмориста Нушича «Главный свидетель». Попал на тот свет матерый преступник и предстал перед судом, который должен определить, куда направить новоприбывшего: в рай или в ад. Новоприбывший все начисто отрицал: «На земле меня судили — ничего не доказали». Тогда суд вызывает главного свидетеля — бога. Тот говорит: «Я-то все прекрасно знаю. Ты убил старуху-ростовщицу. Знаю я и другое, почему ты это сделал». И выкладывает причины: бедность, больная жена, умирающие с голоду дети. Преступник удивляется: «Боже, но почему ты не судья?» Тот отвечает: «Судить — это значит осуждать. А я знаю истину, поэтому сочувствую».
«Вот и адвокат, — думал Анатолий Васильевич, — должен стать для своего подзащитного главным свидетелем и помочь суду выяснить истину».
* * *
Оформив необходимые документы, Анатолий Васильевич отправился на свидание к своему подзащитному.
Следственный изолятор навевает на человека тревогу. Привыкнуть к ней почти невозможно. Анатолий Васильевич молча шел вслед за сопровождающим. Коридоры и переходы гулко вторили их шагам.
Вот и сто тринадцатая камера. Тяжелая дверь с громоздким запором…
Осужденный стоял в углу и ждал. Небольшого роста, мускулистый. Прижал к груди кулаки, будто приготовился к последней смертельной схватке. Правильный овал лица… Высокий, чистый лоб, прямой нос с маленькой горбинкой, широкие черные брови и длинные «девичьи» ресницы. Если бы не злобность, застывшая в этих глазах, да не мелкие, старческие складки в уголках маленького рта, Геннадия Грабаря можно было бы назвать красивым, вернее, мужественным.
Сопровождающий сказал осужденному:
— Ваш защитник.
Грабарь хмыкнул. Видимо, этот звук выражал сложную гамму чувств.
Он сделал шаг вперед. Камера была маленькая, и осужденный очутился почти перед Анатолием Васильевичем. Сжатые кулаки по-прежнему на груди. В больших глазах появилась какая-то мысль. Злая. Взгляд просветлел.
— И вы хотите меня защитить? От чего? — спросил Грабарь. — От справедливого советского закона?
Он был настроен иронически — превосходно понимал, что его ждет в будущем.
— Я буду защищать вас как адвокат, исходя из советских законов и понимания совести гражданина Советского Союза.
Вообще-то не стоило говорить с подзащитным в таком тоне. Семерикову нужно доверие Грабаря, его откровенность. А если они начнут обмениваться подобными любезностями…
— Балаган задумали! — выкрикнул осужденный. Он рванул воротник куртки. Полетели в разные стороны обломки пуговиц. — Мне «вышка» обеспечена. Чего разводить тягомотину — к стенке Генку Грабаря!
Он уже извелся в этой мрачноватой комнате. Официально ее называли изолятором, а в быту — тринадцатой камерой.
Первая встреча с подзащитным не дала адвокату нужного материала и вообще произвела на Анатолия Васильевича удручающее впечатление. Он расстался с Грабарем и почувствовал невольное облегчение. «Угораздило же меня!» — ругал он себя за то, что поддался острому чувству жалости к матери, теряющей сына. Но назвался груздем…
«Побываю в доме родителей, — решил он. — Поговорю с теми, кто знал Геннадия в обычной жизни».
* * *
Дом родителей Геннадия Грабаря был добротным. Высокий фундамент. Широкие современные окна. Шиферная крыша. Когда-то к крышам крепились скворечники, сейчас вошли в моду телевизионные антенны, а птичьи домики переселились в сады. Забор — в рост человека, Каждая планочка аккуратно выкрашена зеленой краской.
На Анатолия Васильевича, открывшего легкую калитку, весело затявкала маленькая собачонка. Пушистая, юркая. «Тяв, тяв! Где вы там, хозяева!»
Распахнулась стеклянная дверь, ведущая с веранды, сплошь повитой виноградником, на котором начали чернеть большие гроздья. На крыльцо вышла мать Грабаря Ольга Андреевна. Первое, что бросилось в глаза Анатолию Васильевичу, ее седина. Короткие, совершенно белые, как степной ковыль, волосы. Она машинально поправила их. Прищурилась, так как солнце било прямо в глаза. Увидев адвоката, разволновалась, засуетилась. По-старчески шаркая шлепанцами, которые были чересчур свободны, трусцой сбежала с крыльца.
— Проходите, Анатолий Васильевич, проходите. Только в доме у меня не прибрано, — захлопотала Ольга Андреевна. — Уж ежели что, не судите строго.
Но это было сказано скорее в соблюдение какого-то обряда. И на веранде, превращенной в летнюю комнату для приятного отдыха, и в широком коридоре, и в горнице, куда хозяйка хлопотуша привела гостей, все было аккуратно прибрано, обставлено добротно, густо мебелью. Много цветов. Кактусы, фикус великан, финиковая пальма, плющ, распустивший свои длинные зеленые усища со стены до самого пола, застланного домотканой пестрой дорожкой. Каждый листочек цветов поблескивал первозданной чистотой, будто его натерли свежей вощиной и отполировали. Окна прикрыты широкими занавесами, умело вышитыми гладью. В помещении жила приятная прохлада. Она была частью той здоровой, добротной патриархальности, которая порою еще живет в уютных одноэтажных домах где-нибудь на окраине города или в небольших рабочих поселках. Высокий старинный комод с фирменными медными ручками на ящиках. Буфет во всю стену, похожий на макет старинного замка: башенки, висячие мостики. На стенах в рамках и без рамок — вышивки крестом.
Одна из стен была отдана большим фотографиям. За долгие годы они повыцвели. На фотографиях по-семейному в плотном, многоярусном окружении жен, девчонок-матрешек, горбоносых парней-ухарей и бесчисленной детворы-мелкоты восседали лихие усачи и бородатые мудрецы.
В этом доме чтили память об отцах, дедах, прадедах, которые добывали уголек.
— Жаль, что моего Изота Кондратьевича нет, — суетилась хозяйка. Не зная, как справиться с нахлынувшим волнением, чем занять свои руки, она выдвигала стулья из-за стола, занимавшего всю центральную часть просторной комнаты, сделала вид, будто смахивает с дивана несуществующую пыль.
Анатолий Васильевич подсел к столу.
— Я приехал поговорить еще раз с вами, познакомиться с вашей семьей.
Ольга Андреевна закивала головой.
— Изот Кондратьевич поехал в город, надо соседского мальчонку устроить в ГПТУ. Отец у него забулдыга. Нажрется зелья и гоняет всех. Он в дом, жена и дети из дому через окна выскакивают. Старший ушел от родителей, чуть в дурную компанию не попал. Изот Кондратьевич устроил его в ремесло. Уже кончает. Будет машинистом шахтных машин и механизмов. — Она доверчиво посмотрела на адвоката. Потужила молча и закончила: — Ну чего бы таких горе-отцов не отправлять на принудительный труд? — Вздохнула. — Взыскивали бы с них да учили детей.
Она ждала от собеседника поддержки. Анатолий Васильевич закивал головой. Он хотел сказать, что за воспитание надо действительно построже взыскивать с нерадивых родителей. Но вспомнил Геннадия Грабаря… И ничего подобного отзывчивой Ольге Андреевне не сказал.
Ольга Андреевна пояснила:
— Право, не знаю, когда вернется Изот Кондратьевич. Позвонить директору ГПТУ, он предупредит, что Изота Кондратьевича дома ждут…
— Пусть занимается своими делами, — остановил Анатолий Васильевич хозяйку. — А я тем временем познакомлюсь с вашей семьей.
— Наши дети разлетелись. Подросли скворцы — и фьють из родного гнезда, — начала рассказывать Ольга Андреевна. — Только старшая дочь Клава живет на нашем поселке, через два дома. Рукоятчица на людском стволе. Сейчас она на смене. А муж отдыхает. С ночной. У них в кровле — вода, вторую неделю мучаются.
Хозяйка, шаркая шлепанцами, подошла к почерневшему комоду. Выдвинула верхний ящик. Взяла альбом. Старинный, в сафьяновом переплете, с металлическими застежками.
Бережно держа обеими руками, словно это была хрупкая вещь, Ольга Андреевна положила альбом на стол.
— Моя старшая. Клава.
В объемистом альбоме вся семья Грабарей: от деда-прадеда до внуков. Молодая Ольга Андреевна с Изотом Кондратьевичем, щуплым, горбоносым молодцом, смахивавшем на стрепета. Но больше всего места в альбоме было отведено детям. Каждому из пятерых — по развороту. С купели. И свадебные, и крестинные. А после крестин новые странички — для внуков.
О детях и внуках Ольга Андреевна говорила с женской гордостью. А вот младшего и не вспомнила. Почему? Только ли потому, что он, неприкаянный, не создал настоящей семьи?
На какое-то мгновение у Анатолия Васильевича родилось ощущение, что он попал не по адресу. Где-то есть другой Изот Кондратьевич Грабарь. Без роду, без племени. Он и породил преступника. А муж Ольги Андреевны — заслуженный шахтер, пенсионер республиканского значения, награжденный за свой труд орденом Ленина и орденом Трудового Красного Знамени.
На пороге появилась хорошенькая девчушка лет трех-четырех. Милая мордашка, огромные серые глаза. Русые волосы украшает голубой, в белый горошек бант.
— Бабуля, я пришла.
Ольга Андреевна вмиг забыла о госте, устремилась к внучке. Подняла ее на руки, приголубила. Целовала осторожно, нежно.
«Видать, соскучилась…»
— А вот наша Леля, сиротинушка, — сказала она адвокату. И задрожал ее голос.
«Дочь Геннадия», — подумал Анатолий Васильевич…
А в это время на пороге появилась еще одна гостья — женщина лет сорока. Шелковое голубое платье плотно облегало рыхлое, полное тело. Глянула на Анатолия Васильевича, будто приценивалась к нему.
— Поселковые сказывали: «До Грабарей кто-то из области приехал». Вот я и пришла пожалиться. Глуха я стала. — Она говорила слишком громко, будто ей надо было перекричать какой-то невероятный гам и лязг. — Глухою меня сделал Генка Грабарь. Я работала в «Скорой помощи». Он звонит: «Райка рожает». Это ее мать, — показала она на девочку с бантом в русых волосах. Леля улыбнулась ей приветливо, как доброй старой знакомой. — А Рая — моя соседка. На девятом месяце ходила, все бегала ко мне на консультацию. Уж я-то знала, что ей рожать еще не срок. И машины были на вызовах. Одна помчалась к пенсионеру. Инфаркт приключился! Успокаиваю Генку: «Бабье дело затяжное, а твоя Рая еще пообождет немного». Он меня — матом. Минут через пятнадцать вновь звонит: «Она тут от крику задыхается! Если сейчас врач не приедет, я ваши души в рай отправлю». Знаю его дурную натуру, объясняю ласково: «Нет машины». Он примчался к нам в «Скорую» сам. Налетел как туча. Бил меня по-всякому. Я кричала, кричала… Помочь было некому. Может, от того надрывного крику и оглохла. Совсем ничего не слышу. А у меня муж молодой. Мне — сорок, ему — тридцать четыре. Двоих деток прижили. Не хочу его терять. А он мне претензию: «Глухая тетеря, тебе теперь и ласкового слова не скажешь». Мы с ним не разговариваем, переписываемся. И вы, ежели захотите мне что ответить, вот вам тетрадка и ручка.
«Анна Ильинична Сагайдачная — вторая судимость Грабаря, — понял Анатолий Васильевич. — Вот она, жертва дикой выходки…» Он взял у женщины ручку и написал: «Что вы хотите?»
— Я получала семьдесят три рубля восемьдесят копеек. Пенсию мне назначили в тридцать два рубля. А кто будет выплачивать регресс?
Регресс — разница между пенсией и средним заработком, которую выплачивает горняку шахта, если увечье произошло по вине производства. Эта глухая женщина тоже претендовала на регресс.
— С Генки взятки гладки, — тараторила громко Сагайдачная. — Его на этот раз не помилуют. А мне как теперь жить! И мужа молодого я теряю.
Трагедия Анны Ильиничны действительно была глубокой. Но чем помочь ей?
Анатолий Васильевич обратил внимание на Ольгу Андреевну. Она сидела на краешке дивана, малышку держала на коленях. Прижимала к груди, будто опасалась, что у нее отберут внучку, гладила ее по голове. Длинные волнистые волосы струились по коротким пальцам, изъеденным в свое время тяжелым бутовым камнем, из которого она восемь лет выкладывала в шахте особые охранные стенки — буты.
«Так чем вам можно помочь?» — написал еще раз Анатолий Васильевич.
И тут же ему стало стыдно за свой вопрос. Риторический. Такие задают для успокоения собственной совести.
Пострадавшая тоже не знала, чем ей можно помочь.
— Я на Ольгу Андреевну не в претензии, — сказала она, перехватив взгляд адвоката. — И на Изота Кондратьевича тоже. Никто на всем поселке против них дурного слова не скажет. Мне от души помогают, чем могут. Да вот при двух малых детках терять мужа мне нет расчета. Я глухая. А он себе при нынешнем дефиците на мужиков двадцатилетнюю найдет… Может, вы помогли бы мне до какого профессора? А? — Она просительно посмотрела в лицо гостя из областного центра. — Со своими врачами я советовалась. Они не берутся помочь. А вот какой-нибудь профессор…
Она не была уверена, что есть на белом свете такой человек — Айболит, который вернет ей слух. Видимо, уже не раз консультировалась у специалистов — и ничего утешительного. Но ей очень хотелось стать нормальным человеком, вернуть себе право на любовь, на полнокровное счастье. И жила она надеждой на чудо.
Но Анатолий Васильевич при всем своем желании не мог совершить этого чуда. И все-таки он написал: «Вот мой номер телефона. Приедете в Донецк, позвоните, я организую вам консультацию у хорошего специалиста».
Сагайдачная ушла, Анатолий Васильевич спросил хозяйку:
— Ольга Андреевна, а ваш младший когда-то, наверно, любил Лелину маму?
Серые глаза матери подернулись слезой. Она смотрела куда-то мимо адвоката. Вся сжалась, затаилась. Может быть, она перенеслась мыслями в тот день, перед самой войной, когда своему Изоту Кондратьевичу родила третьего сына?
Младшенький, Геннадий, рос беда бедою. На тощее его тело (чем кормить-то в оккупацию?) каких только болячек не кидалось! Корь выедала глаза. Душил коклюш. Струпы на голове, да такие, что ничем не одолеешь. И в ромашке купала, и столетником обкладывала… В год с лишним первое слово сказал, а уж думала, что немой будет. В два — заковылял на рахитичных ножках. Вот и обливалось кровью материнское сердце. Даже потом, когда наладилась жизнь, вернулся в семью достаток, Ольга Андреевна продолжала в душе оплакивать горькую долю младшенького. В первом классе он получил грамоту. Отличник. Во втором стал учиться похуже, хорошист. Говорили ей соседки: «Уж больно он у тебя зол». Обижались на него сверстники. «Эко дело! — утешала она себя. — Подрались мальчишки — на то они и мальчишки».
Себе отказывала, все ему. Отец поругивался, старший сын Степан укорял:
— Ох, мама, наплачетесь с ним, с таким.
Не верила.
— Он так много пережил. Пусть потешится.
А однажды, когда Гена вывел ее из себя (пырнул соседа по парте пером, заржавевшим от чернил), она отхлестала его по щекам. Мальчишка упал на пол и от обиды стал биться головой. Разбил в кровь и губы, и нос, и лоб.
Она плакала над ним, виня себя.
В шестом Геннадия уже исключили из школы. Но-таки дотянул до седьмого. И все. Стали появляться у него деньги.
— Где взял? — допрашивал отец.
— В карты выиграл.
Отец сжигал карты, отбирал деньги.
— У нас в роду зарабатывают только честным трудом.
— На дураках воду возят, — отвечал сын.
Отец драл его нещадно. Мать старалась отобрать ребенка.
— Осатанел! Запорешь до смерти! Успокойся.
Однажды под горячую руку он наотмашь ударил ремнем и ее. Потом просил прощения, а сына с тех пор пальцем не трогал. Но Геннадий вскоре исчез из дома. Год его не было. Бродяжничал. Искали через милицию. Вернулся сам. С месяц побыл в родительском доме, забрал отцову зарплату, которую тот принес накануне, и был таков. О деньгах мать отцу ничего не сказала. Было стыдно. Заняла у дочери, так и выкрутилась.
Вернулся после первого заключения, кажется, остепенился. Встретил Раю и прикипел к ней сердцем. Взяла его норовистая девчонка в руки. Она на работу — он провожает. Она с работы — он встречает. Живет в ее доме на правах мужа. Но и в этом как-то не по-людски. Мать с отцом не раз докоряли ему:
— Не работаешь — это одно. А зачем позоришь хорошую девчонку? Распишитесь. Свадьбу справим.
Он одно:
— Родит мне сына — распишусь.
— А у всех Грабарей первыми рождались девчонки, — усовещевала мать беспутного сына.
Он лишь посмеивался в ответ.
— Девка — чужому мужику утеха, отцу с матерью — срам.
Рая родила девочку. Но уже без него. Он сел в тюрьму второй раз.
* * *
«Любил ли ее младший сын мать своего ребенка?»
Ольга Андреевна ничего не ответила на этот вопрос адвоката.
Анатолий Васильевич понял ее по-своему и сказал:
— Мне бы хотелось встретиться с Лелиной мамой.
Хозяйка поднялась.
Вернулась Ольга Андреевна вместе с загорелой маленькой, стройной женщиной, похожей на подростка. И эту «похожесть» еще больше усугубляли короткая прическа и короткое, выше колен, платье. Летнее, оно по плечи обнажало худенькие руки.
И только позднее Анатолий Васильевич рассмотрел синие подглазины, выдававшие огромную, нечеловеческую усталость. Под карими грустными глазами загустела сетка морщинок.
Рая вошла. Сказала «здравствуйте» и остановилась у порога. Ждала первых вопросов.
Анатолий Васильевич глянул на Лелю, с любопытством ожидавшую чего-то интересного, необычного, и тихонько попросил ее бабушку:
— Погулять бы девочке, пока мы беседуем с ее мамой.
Ольга Андреевна подхватила внучку на руки и засеменила к выходу.
— Присаживайтесь, Рая, — предложил Анатолий Васильевич. — Извините за то, что возвращаемся к вашему трудному прошлому. Но мне это необходимо. Я адвокат, мне поручено вести дело Геннадия Грабаря. У вас такая хорошая девчурка, Рая… Я уж вас так, по-простому, как свою дочь. Расскажите мне что-нибудь хорошее о Лелином отце.
«Хорошее…» Как это трудно сейчас!
— Он был ласковый. А в ласке смирный. И я думала, что смогу переломить его натуру. На все пошла. Ребенка родила. С родителями перессорилась. Мама до сих пор считает, что я виновата в смерти папы. Вскоре после того, как Гена избил дежурную «Скорой помощи»… нашу соседку, Анну Ильиничну Сагайдачную. У нас на поселке все друг о друге всё знают. Бабы чесали языком: «Из-за Райки покалечил младший Грабарь женщину…» С папой в то время случился инфаркт.
Ей было трудно, но она, повинуясь просьбе, заставляла себя вспоминать то хорошее, что было в ее короткой совместной жизни с Лелиным отцом.
* * *
Геннадий любил ее. Любил! Об этом говорили его глаза, его руки. Побегут они сильные и ловкие, очень нежные, побегут по плечу, замрут на щеке… И она вся замрет, затаится, подчиняясь неведомой ей доселе радости.
Рая привела любимого в дом и сказала родителям:
— У меня будет ребенок. Вот его отец.
Геннадий остался в ее доме. Работал в автопарке слесарем. Несколько раз приносил зарплату и отдавал ей все до копейки. Так было заведено в доме его родителей. А потом просил «на сигареты и вообще…».
Он мечтал стать шофером на дальних рейсах. Получил права. И ему обещали: «Переведем». Но не перевели, уж слишком цветастой была у Геннадия Грабаря биография, уж слишком неуравновешенным был его характер. Предложили восстановить старенький мусоровоз. Но запчастями не обеспечили. Механик гаража, любитель выпить за чужой счет, сказал: «Чего нет — того нет, расстарайся где-нибудь, не мне тебя учить». — «А где? — стоял на своем Геннадий. — У завскладом? Он получил государственное, а мне продает! А деньги с тобою пополам!» Механику такая «критика снизу» пришлась не по душе. Запчасти для мусоровоза — «газона» он дал, но когда машина была готова, посадил на нее другого. «На тебя, Грабарь, милиция санкции не дает. Еще накуролесишь, сидя за баранкой». Геннадий съездил механику по физиономии. Тот вызвал участкового, ну и, само собой, бывший хулиган-рецидивист остался во всем виноват. Поверили механику, четко и последовательно излагавшему события: «На тралер посадить Грабаря не мог, нет опыта, а на мусоровоз стажером он отказался». Грабарь кипел злобой, обещал «свернуть механику башку или выпустить кишки». Все это легло в протокол. Геннадия «еще раз строго предупредили». Позже пьяницу я вымогателя механика исключили из партии, разжаловали в слесари. Но это случилось тогда, когда Грабарь сел в очередной раз. Тогда же, обиженный не только на механика, но и «на весь мир», он бросил работу.
Геннадий стал приходить домой пьяным. А то и совсем исчезал на несколько дней.
Рая все надеялась: «Образумится». Сходила к парторгу автопарка, рассказала ему историю с мусоровозом. Парторг принял все близко к сердцу, вызвал завскладом и механика. Отобрал у них объяснительную. Попросил Раю прийти к нему вместе с мужем. Но… произошла эта история с дежурной по «Скорой помощи» Сагайдачной. Геннадия арестовали. И как-то само собою получилось, что механик оказался «пророком»: «Грабарь — преступник, доверять ему было нельзя».
А Рая верила — можно! Можно! Только не стоило так с ним обращаться: толкать на преступление, заставлять покупать у вора завскладом запчасти. Его бы согреть доверием. От ласки, от человеческой доброты со временем он бы оттаял, а злость полиняла бы, выцвела.
Рая боролась за любимого до самого конца.
Отец и мать обо всем происходящем думали иначе. Убеждали: «Пока не совсем поздно, сделай аборт». Она не хотела слушать никаких советов. Она любила Геннадия, надеялась, что ребенок станет ее союзником. Проснутся в Геннадии отцовские чувства, вернут его в семью, укротят буйный нрав.
Говорят: любовь слепа. Но разве от этого она становится менее нужной, менее желанной? Когда он метался но ночному поселку в поисках машины, чтобы отвезти будущую мать своего ребенка в роддом, а не найдя «частника» и не дождавшись «Скорой помощи», побежал чуть ли не в центр Углеграда. Рая была… почти счастлива. Она во всем этом видела доказательства его любви! «Любит!» Только из этого слова в то время и состоял для нее весь мир с его радостями и огорчениями, с его находками и потерями.
Геннадий отбывал срок, а она писала ему по четыре письма в неделю. Намажет чернилами дочкин палец и приложит выше подписи: «Нашему папке — от доченьки».
А он — ни строчки в ответ. «Почему? Почему!!!» Ей так нужен был его привет, его одобрение, его слова, которыми она отгородилась бы от упреков близких: «Ты ему не нужна». — «Нужна!»
Она написала замполиту колонии, в которой Геннадий отбывал наказание (адрес взяла у Ольги Андреевны). Ей уклончиво ответили: «Видимо, вам придется воспитывать дочь без отца». Но она не поверила в это вежливое предупреждение.
Его ждали зимою, он вернулся осенью. Пьяный. Буквально ворвался в дом. Схватил Раю, кинул в постель. Не постеснялся ее матери. Рая чуть не умерла от стыда.
Хорошего ничего не сказал, только одно:
— Кого ты родила? Сучку!
И этим убил все, что еще оставалось к нему в ее душе.
— Уходи! — сказала она. — И не возвращайся.
Он расхохотался ей в лицо.
Раиного отца уже не было в живых, так что заступиться за женщин было некому. Раина мать однажды было пожаловалась участковому. Тот пришел, долго беседовал с хмурым, злым с похмелья Геннадием Грабарем. Но в чем можно было обвинить Грабаря? Пьет? Так за свои: работает слесарем на шахте. По-хамски относится к теще? Но в чем это выражается? Бьет у нее на голове посуду? Нет. Грубит. Дал обидную, позорную для женщины кличку. Денег не приносит, а ест за двоих. Но это дело частное, тут прямого преступления нет. Не любит ребенка? Относится к жене как насильник? Да, это уголовно наказуемый момент. Стоит подать в суд… Вопрос щепетильный. Но десять лет могут дать.
Геннадий выслушал участкового, дал подписку прекратить безобразия. А когда тот ушел, схватил Раину мать:
— Выпотрошу!
Мать потеряла сознание. Рая кинулась на хулигана. Откуда в сухонькой, маленькой женщине силы взялись! Вышвырнула Грабаря из дома. Но через два дня он пришел пьяный и привел с собой целую компанию таких же забулдыг. И все началось с самого начала.
У Раи в душе росла и множилась ненависть. И уже удивлялась сама себе, как это она могла быть с ним счастлива…
А потом Геннадия посадили в третий раз. С тех пор она его уже не видела.
Так что же она могла сказать адвокату хорошего об отце своего ребенка? Искала в душе хоть какие-то теплые слова. Но не находила. Сидела, молчала.
* * *
Анатолий Васильевич не стал мучить ее вопросами.
— Вас на работе ждут дети.
Изот Кондратьевич пришел часа в три, деловит и молчалив. Поздоровался с адвокатом за руку. Маленький, сухонький. Выбрит гладко. Короткие с сединой волосы.
— Устроил Ваню? — спросила Ольга Андреевна.
— Устроил. Прямо в общежитие и отвел. Надо будет на воскресенье пригласить его к нам, чтобы в свободное-то время на первых порах куда не свернул.
— Пироги замешу. Пригласим, — охотно ответила хозяйка.
— В доме гость, а ты, мать, мешкаешь, — напомнил Изот Кондратьевич жене. — Свернула бы хохлатке голову да угостила нас юшкой.
Она понимающе кивнула и вышла.
Анатолий Васильевич внимательно присматривался к хозяину дома. «Грабарь!»
Изот Кондратьевич перехватил его взгляд, полный любопытства. Почувствовал себя неловко. Кхекнул и спросил адвоката:
— Прямо из Донецка? Сейчас дорога — стеклышко. А бывало, пока до нас доберешься — всю душу вынет на ухабах. А чуть задождило — пересаживайся на трактор.
— Изот Кондратьевич, — заговорил Анатолий Васильевич, — смотрю я на вас… До чего вы мне напоминаете моего фронтового побратима. На Кавказе вам не доводилось?
Хозяин вмиг преобразился. Молодо заблестели исчерна-карие глаза.
— Сорвал нас немец с Миус-фронта, и попятились мы через ростовские земли, через Кубань до самого Кавказа. Едва зацепились за главные перевалы.
У Анатолия Васильевича вдруг затеплилась надежда: «Может…»
— Не в артиллерии доводилось?
— Так точно, сорокапяточка. Пистолет на колесах, как ее называла матушка-пехота.
— Девяносто пятый полк! — воскликнул Анатолий Васильевич. — Группа генерала Гайдаева!
«Грабарь! Знаменитый сорокапяточник! Он! Нашелся! Не погиб тогда в горах!»
Изот Кондратьевич стоял растерянный. Глянул на адвоката, покачал головой.
— Нет… Шахтерская дивизия полковника Провалова… До последнего в забое уголек рубал, а когда немец к Донбассу стал выходить, тут уж душа не выдержала, врубовку на сорокапятку поменял.
Анатолий Васильевич знал, что «его» Грабарь погиб, но сердце еще не хотело с этим мириться.
— Как же! Кавказские перевалы… Оплепен — высота 1010,3, Маратуки, село Рожет…
— У нас была своя горка: «Два брата». Немецкий генерал Ланц двинул от Гунайки на Георгиевское…
Анатолий Васильевич тяжко вздохнул, подошел к стене, на которой висели фотокарточки. Вновь принялся их рассматривать.
— Что-то ваших военных не вижу.
— Не довелось фотографироваться. Зимою сорок второго в плен попал. Семнадцать гнезд вражеских разорил своей сорокапяткой. Написали обо мне в дивизионной газете. Может, от нее пошло, а скорее немец и так заприметил. Но только я с пушечкой на огневую, а за меня и снайперы берутся и минометчики. Однажды накрыли залпом из шестиствольного… Я с горки-то скатился прямо к, врагу в лапы. Помяло всего, камешками пообтерло… Но не до смерти. Подлечился чуток в лагере для военнопленных. И отправили донецкого горняка в Рур на ихние шахты. Там французы, вольнонаемные, помогли: драпанул. Попал во Франции к партизанам. До конца войны у них и пробавлялся.
— А я смотрю, откуда у вас французский орден, — проговорил Анатолий Васильевич, внимательно слушавший старого шахтера.
— В позапрошлом году нашел меня… Да и наш-то, Красная Звезда, тоже двадцать с лишним лет был со мною в разлуке. Им за Кавказ наградили. Посмертно. А я вот, оказывается, жив…
Наступила пауза. Люди узнали друг о друге нечто очень важное. Вот как в разговоре с Ольгой Андреевной адвоката и мать подзащитного воедино связала девчушечка Леля, так сейчас мужчин объединило воспоминание о войне. Там осталась их молодость.
Теперь надо было переводить разговор на иную тему: трудную для всех, одинаково неприятную. И вмиг между отцом и адвокатом выросла какая-то невидимая стена отчуждения.
— Я буду вести дело вашего младшего сына, — пояснил Анатолий Васильевич.
Изот Кондратьевич настороженно глянул на Семерикова.
— Не его, — сказал Изот Кондратьевич, — нас с матерью к уголовной-то ответственности привлекли. Ходим по поселку, а люди глазами расстреливают за то, что вырастили преступника. Ольга Андреевна первое время носа со двора не показывала…
После недолгого разговора Анатолий Васильевич ушел на дома шахтера-пенсионера Изота Кондратьевича Грабаря с похоронным настроением; погибла мечта этих милых людей вырастить младшего, чтобы могли скоротать при нем свои последние годы. Их не в чем упрекнуть. Они сделали все, что могли.
II
Высшая мера…
Суд проходил при полупустом зале. Сидело несколько завсегдатаев да пяток случайных людей, которые пришли в областной суд по каким-то своим, не очень веселым делам. Из Углеграда приехали мать с отцом и Рая.
На один ряд сзади Ольги Андреевны сидела мать Евгения Комарова, которого убил в колонии Геннадий Грабарь. Интеллигентная женщина с правильными чертами лица. На вид ей было лет сорок. На голове траурная черная шаль. И это в августовскую жару! Мать Евгения не плакала, хотя и комкала судорожно в руках носовой платок. Она в упор смотрела на убийцу своего сына. А тот ни разу не обернулся в зал, хотя там сидели его мать, отец и женщина, которая родила ему дочку.
Речь Анатолия Васильевича как защитника была небольшой, почти без эмоций. Ни один из приведенных на суде фактов нельзя было поставить под сомнение: их подтвердили свидетели, их не отрицал подсудимый.
Во время своего выступления Анатолий Васильевич все время думал об Ольге Андреевне. Она сидела в третьем ряду — первые два были пустые, этого требовали правила охраны особо опасного преступника. Анатолий Васильевич, обращавшийся к членам суда, видел ее боковым зрением. Перед ним неотступно стояли ее пропитавшиеся слезами глаза. Поэтому он и говорил довольно убедительно о горе матери, вырастившей пятерых детей, о заслугах отца — почетного шахтера, о том, что у Геннадия Грабаря остается ребенок, нуждающийся в родительском внимании. О самом Геннадии еще более сдержанно, никакие цветистые фразы помочь не могли, да они бы прозвучали фальшиво, а быть неискренним Анатолий Васильевич не мог. Он говорил о том, что его подзащитный — крайне неуравновешенный человек. Во всех он видел личных врагов. Раздражительный, злобный. И таким его сделала чужая жестокость. Ребенок в трудные для страны послевоенные годы сталкивался с проявлениями грубой силы, а то и жестокостью, сам уверовал в то, что сила решает все. Еще мальчишкой применял силу при решении своих детских вопросов: бил сверстников и принуждал их к подчинению, обижал девчонок — и это сходило ему с рук. По соломинке, по веточке вила жестокость свое гнездо в его сердце. А близкие, а друзья, а любящие не заметили этого вовремя. Не до того было: шла война-разлучница, разорительница… Приходили похоронки: «Ваш муж… Ваш отец…» А порою и похоронок не было. Месяц, второй, третий… Полгода… Год! Четыре года и всю остальную жизнь — ни ответа, ни привета. Сохнет сердце, как земля в долгий зной, глубокие трещины — раны… Кровоточат, ноют. А мальчишка живет по своим законам жестокого детства. И вот постепенно Гена Грабарь приобретает вкус к насилию. Оно становится главной, доминирующей чертой его характера.
Таким было его детство. А отрочество? Юность?
Грязненькие проулочки-закоулочки шахтерского поселка, поросшие лебедой и лопухом, к июлю месяцу становились пустынно-желтыми от повилики, душившей собою все зеленое, живое. Горьковато-солоноватую воду носили ведрами из нескольких колонок, возле которых торчали вечные «хвостики». Верх совершенства канализации — выгребной колодец. Самым «культурным» мероприятием тех лет было посещение ресторана.
Где уж тут учиться благородству, рыцарству…
Наши дети — наша копия, этакий слегка модернизированный слепок наших взглядов, привычек, наклонностей, вкусов. Они учатся у нас всему: плохому и хорошему, великому и подлому. «Не пеняй на зеркало, коль рожа крива».
Говорил Анатолий Васильевич и о ненормальной обстановке в автопарке, где работал Грабарь. У Анатолия Васильевича были на руках экземпляры районной газеты, выписки из протокола рабочего собрания автоколонны и из материалов товарищеского суда, который разбирал дело бывшего механика-пьяницы и завскладом-вора. Он хотел, чтобы суд приобщил эти документы к делу. Защитник Семериков просил суд вынести в отношении бывших руководителей автоколонны, виновных в том, что на предприятии сложилась ненормальная обстановка, частное определение.
Грабарь, внимательно слушавший речь защитника, лишь хмыкал, не поймешь: понравилась — не понравилась?
Но когда взял слово для реплики прокурор, Геннадий опять затаился, сжался в комок. Прокурор говорил в общем о том же самом, о чем и защитник — о тяжелом детстве подсудимого, о трудных годах войны, которые формировали характер Геннадия. Но у него на все была своя, чисто прокурорская точка зрения.
Рядом с мальчонкой Геной испытание войною проходили сотни его сверстников. Они видели те же ужасы, испытали на себе те же зверства оккупантов, но… став взрослыми, не стали преступниками. Почему? Варварство оккупантов вызывало у них не желание стать таким же грубо-властным, а чувство протеста. Сжались кулачонки крохи мальчугана, налетел на обидчика: «Не смей трогать мою маму! Не смей!»
И позже, уже в отрочестве, в юности… Грабарь жил в глухом поселке, волею судьбы оказавшегося на задворках большой жизни… Но те, обмывавшие зарплату в ресторане, были героями у себя в шахте. Шахтер — герой по природе, таков характер его труда. Вот этого Грабарь в своих соседях-земляках и не разглядел, а другие — родители, школа, общественность — не помогли ему это увидеть и понять.
Гена Грабарь взрослел. Рядом с ним взрослела, менялась к лучшему вся наша жизнь. Лет двадцать тому назад коммунисты шахтерского города выбрали секретарем горкома партии главного инженера шахты «Семь-бис», человека энергичного и настойчивого.
Здесь никогда никаких деревьев не росло. Городок вырос на камне. Лунку для столба выбивали кайлами и ломами. При этом летели искры — хоть прикуривай. Но секретарь горкома сказал: «Будем сажать сады. Заложим в городе парк, а вокруг — зеленый пояс». Он был упрям и гнул свое. Бурили в скальном грунте шпуры, закладывали в них аммонит. Взрывали. Потом широкие ямы с рваными краями заполняли черноземом. Его возили машинами из степных посадок, с полей.
С первым же зеленым листом к людям пришла вера. Это она и помогла первое время, пока не появились специальные машины, таскать воду ведрами из далеких колонок. Летом в донецкой степи порою по двести пятьдесят дней не выпадает капли дождя, земля прогревается до пятидесяти пяти и более градусов, каменеет метра на полтора в глубину. Одолели вековое безводье. Зашумели вдоль проложенных дорог пирамидальные тополя, широколиственные клены и густые, тенистые акации. По весне закипали бледно-лиловым цветом за шахтерскими домами сады, наполняя округу тонким, нежным ароматом, который манил к себе влюбленных и возвращал надежду потерявшим ее на своем жизненном пути.
Умели здесь люди трудиться. Городок рос, хорошел. Построили шахту-гигант «Россия». К ней приписывались окраинные поселки. Чтобы «приблизить» их к центру, строились хорошие дороги, а пустыри превращались в зеленые рощи. Так забытый богом уголок стал городом-парком.
Душа Геннадия Грабаря оставалась к этому абсолютно глухой. В то время его одолевал скепсис: «Нашли чем удивить!»
Не удивился, не обрадовался, не порадовался вместе со всеми. Почему? Да потому, что Геннадий Грабарь — выродыш. Пословица гласит: «В семье не без урода».
Единственное, в чем прокурор согласился с защитником, это в том, что и бывший завскладом автоколонны, где работал Геннадий Грабарь, и бывший механик — люди, чуждые духу нашей жизни. И хотя одного из них совсем уволили с работы, а другого исключили из партии и понизили в должности, но это наказание ни в коей мере не соответствует тому преступлению, которое они вполне осмысленно совершали у всех на глазах в течение ряда лет. Нужно частное определение областного суда по этим личностям. И не только по ним, но и по тем, кто держал их на такой работе, кого их крохоборствующий стиль работы вполне устраивал.
Анатолий Васильевич понимал, что прокурор абсолютно прав. Он, защитник, обнажил одну сторону истины, а прокурор — другую, более весомую, более важную для всех присутствующих на этом судебном процессе.
Геннадий Грабарь от последнего слова отказался, лишь пробурчал:
— Мое последнее — еще впереди.
И вот приговор: «Высшая мера…»
* * *
На вынесении приговора для защитника дело подзащитного не кончается.
После того как суд приговорит преступника к высшей мере, осужденный (а на практике его адвокат) подает в Верховный Суд кассацию о пересмотре дела, в которой перечисляются смягчающие вину обстоятельства, в Президиум Верховного Совета просьбу о помиловании.
На следующий день после суда Анатолий Васильевич составил оба эти документа, в общем-то очень похожие друг на друга. Он просил учесть те обстоятельства, которые оттенил в защитной речи. Как смягчающее вину обстоятельство, Анатолий Васильевич упомянул и горе матери, вырастившей пятерых детей, четверо из них горняки, инженеры, военные, а вот пятый, младший… Не обошел Анатолий Васильевич вниманием и заслуг отца — почетного шахтера, уважаемого в поселке человека, участника Отечественной войны, помянул и о том, что у Геннадия Грабаря остается ребенок, нуждающийся в родительском внимании. Написал и о роли в жизни подзащитного проходимцев из автоколонны.
Все это было правдой, но по-прежнему неполной, однобокой, а значит, малоценной. И восставала против такой полуправды совесть Анатолия Васильевича, коммуниста, бывшего воина, протестовал весь его жизненный опыт. Семериков невольно примерял все поступки Геннадия Грабаря к себе. Если бы он, Анатолий Васильевич, очутился бы на месте медсестры Сагайдачной, которую изуродовал в гневе Геннадий Грабарь, или в положении молоденького милиционера, у которого отобрали пистолет и жестоко избили, искалечили всю жизнь, всю судьбу? О Евгении Комарове и говорить не приходится — удар ножом в сердце. Какие бы слова в этом случае подобрал Анатолий Васильевич, чтобы определить истину? Уж конечно, не те, ныне уложенные в прошение о помиловании. Мы сердобольны и гуманны, пока беда не придет к нам на порог, и становимся «ужасно» непримиримыми, как только сами оказываемся жертвами дикой выходки хулигана.
Под прошением о помиловании должна была стоять подпись просителя. Анатолий Васильевич отправился в тюрьму.
Геннадий Грабарь встретил своего защитника не очень-то приветливо.
— Покажите, покажите, — сказал он, — какую муру вы там насочиняли.
Кассацию он читать не стал, а вот просьбу о помиловании проштудировал внимательно, он прекрасно понимал, что только она может даровать, ему жизнь.
От той нервозности, с которой он встретил адвоката во время прошлого свидания, ничего не осталось. Перед Анатолием Васильевичем был неглупый, хотя и злой человек. В карих с прищуром глазах Геннадия Грабаря жила холодная, расчетливая мысль. Он был весь сжат как пружина: движения скупые, сдержанные, говорил короткими фразами.
— Мура! — вернул он адвокату прошение. — По такой липе никто не помилует. Я сам напишу. Бумага есть?
Он взял три листа бумаги и тут же в присутствии Анатолия Васильевича быстро, почти без запинки, написал свое прошение. По всей вероятности, оно у него было обдумано до последнего слова.
Написал, сложил листы вчетверо и, передав адвокату, жестко предупредил:
— Перепишите мои каракули! Но ничего своего! Только мое!
Анатолий Васильевич хотел посмотреть, что же там насочинял его подзащитный, но Геннадий Грабарь перехватил руку, пытавшуюся развернуть прошение.
— Не здесь!
Прошение Геннадия Грабаря о помиловании он прочитал уже у себя дома. Прочитал и остолбенел.
«Я, Геннадий Изотович Грабарь, приговоренный областным судом к расстрелу, обращаюсь к вам, гражданин Председатель Президиума Верховного Совета, с просьбой о помиловании.
Однажды осужденный Евгений Комаров завел со мною речь о побеге. Я вначале не понял, что к чему, и не возражал, дескать, можно было бы уйти, если подвернется случай. Комаров сказал, что у них есть боевая группа. Вооружены ножами и самодельными «стволами» — наганами по четыре выстрела каждый. Надо захватить машины, разоружить охрану и уйти на Кавказ. А там захватить самолет и перелететь границу. Я сказал, что такая буза пахнет вышкой. Потом ко мне два раза подходил наш бригадир Ибрагим Абашев и грозил: если я продам, то мне «заделают вышку» прямо в колонии. «Голову под пресс, а потом доказывай, что это не несчастный случай». Я ответил, что сам любому откручу башку и скажу, что так и было. Потом друзья меня предупредили: «Тебя хотят пришить». Тогда я сделал себе нож. У нас в колонии на металлообрабатывающем заводе это не так уж трудно, лишь бы не засекли. Однажды в воскресенье во время кино ко мне подошли Комаров и Абашев. У Абашева в руке блеснул нож. Я понял все. Их было двое, но я оказался ловчее. Хотел пырнуть ножом Абашева, но подвернулся Комаров. Абашев бросился на меня. Я сумел и его подрезать. Про то, что Абашев и Комаров подговаривали меня уйти с ними за границу, во время следствия и на суде никто не обмолвился, а мне доказать свою правоту было нечем, никаких вещдоков я предъявить не мог.
Геннадий Грабарь, бывший заключенный колонии».Анатолий Васильевич прочитал прошение и вдруг почувствовал себя совершенно беспомощным. Глянул еще раз на размашистую, показавшуюся почему-то нагловатой подпись, и все похолодело внутри. Не оттого, что «несчастненького по ошибке приговорили к высшей мере», нет — даже за четыре прошлых преступления по совокупности этого субчика стоило расстрелять. Поразило до глубины души другое: «Группа заключенных готовила побег. Массовый. С далеко идущими целями: разоружить охрану, добраться до границы».
По разумению Анатолия Васильевича надо было немедленно, принять какие-то меры. Но какие именно? Позвонить! Предупредить! Пусть поднимают тревогу, пока не поздно. Может быть, сейчас все дело решают минуты и секунды.
Он бросился к телефону, еще не зная, куда позвонит и что скажет. Схватил трубку. И только тогда начал приходить в себя.
«Ну чего я порю горячку! С момента, как Геннадий Грабарь совершил свое последнее преступление — убил Евгения Комарова и ранил Абашева, прошло почти два месяца. И в этой колонии — никаких эксцессов. И потом допустим невероятное, заключенные изготовили оружие. Если верить заявлению Геннадия Грабаря, целый арсенал. Где-то его надо хранить. И уж, само собою, после случая с Грабарем, который изготовил нож и убил им заключенного, перетрясли всю колонию, заглянули во все закоулки, обшарили самые невероятные, стоявшие вне подозрения места.
Анатолий Васильевич взял себя в руки: «Надо все толком обмозговать, иначе станешь паникером, пособником преступника».
Он положил на место телефонную трубку, вернулся в кабинет. Еще раз прочитал прошение о помиловании, сочиненное Грабарем.
Ни во время следствия, ни на суде подзащитный Семерикова даже не заикнулся об оружии или о возможной попытке группового побега. Почему? Он пишет: «Не мог предъявить вещественных доказательств». А сейчас они у него появились? Откуда? На суде в качестве свидетеля присутствовал бывший заключенный этой колонии Ибрагим Абашев, которого Грабарь в свое время ранил ножом. Других контактов у Геннадия с колонией не было. Впрочем, Абашев после госпиталя отбывал наказание уже не в этой колонии, а в другой.
Семериков продолжал вчитываться в сочинение Грабаря: «Надеется оттянуть время. Начнутся проверки, перепроверки. А там, глядишь, придет юбилей — тридцатилетие Победы над фашизмом. Будет амнистия. Кого она коснется? Одних помилуют, другим скостят срок».
И все-таки какое-то сомнение в душе Анатолия Васильевича жило. Его подзащитный отказался от последнего слова, заявив суду, что для его «последнего» еще не приспело время. Выходит, Грабарь уже во время судебного разбирательства знал, что именно он напишет просьбе о помиловании.
«Так что же предпринять защитнику, к которому пришли столь необычные сведения? Как их проверить, чтобы выработать свое непредвзятое мнение?»
В областном управлении исправительно-трудовых колоний работал начальником политотдела Николай Константинович Добрынин, давний приятель Семерикова. Тоже из фронтовиков. Демобилизовался подполковник, его пригласили на работу в органы. И вот без малого четверть века он возглавляет отдел политико-воспитательной работы УИТУ.
Но какой номер его телефона? «Приятель. А лет пять, поди, не виделись», — попрекнул себя в этот момент Анатолий Васильевич.
Он набрал коммутатор областного управления МВД, осторожно попросил телефонистку:
— Пожалуйста, Николая Константиновича Добрынина.
Несколько длинных безответных звонков убедили Анатолия Васильевича, что его приятеля на месте нет.
И опять им овладела тревога. Он понимал всю ее безосновательность, но ничего с собой поделать не мог. Чтобы как-то справиться с охватившим его волнением, успокоить нервы, он отправился в свой ежедневный поход: пять километров до парка и назад. Для моциона. Ничего не сделаешь, в сорок пятом году подполковнику А. В. Семерикову впору был сорок восьмой размер, а пенсионеру Анатолию Васильевичу за последнее время и пятьдесят шестой тесен. Десятикилометровый кросс не очень-то помогает.
Впрочем, для нервов — это отличная укрепляющая гимнастика.
Прогулка по городу успокоила Анатолия Васильевича.
Он — на порог, а удача уже ждет его.
— Вот он, вернулся, — сказала жена кому-то в телефонную трубку. — Анатолий, тебя.
Он снял туфли и поспешил на зов. Звонил Добрынин.
— Телефонистки предупредили, что меня срочно разыскивал фронтовой товарищ по фамилии Семериков. Пять лет не звонил, а тут я ему потребовался. Думаю, не иначе, как по важному делу.
Они оба фронтовики, но не фронтовые товарищи. Телефонистки напутали.
Анатолий Васильевич вкратце объяснил Николаю Константиновичу свое дело. Но Добрынин тревог адвоката не разделял:
— Твой Грабарь — артист. После ЧП в этой колонии все закоулочки проверили, ничего не обнаружили. И оперативные данные не дают права предположить групповой вооруженный побег. Какие-нибудь концы должны были выплыть наружу.
— А вдруг! — продолжал сомневаться Анатолий Васильевич. — Может быть, стоит исключить самую маленькую возможность? Завтра я должен отправить просьбу Грабаря о помиловании в адрес Президиума Верховного Совета…
— Давай завтра и встретимся. Девять утра для тебя не рано?
* * *
Николай Константинович прочитал просьбу Геннадия Грабаря. Задумался.
— А убедительно написано. Башковитый парень. «Обращаюсь к Вам (с большой буквы), гражданин Председатель Президиума Верховного Совета…» И словечки из тюремного жаргона: «вещдоки», «стволы», «заделать вышку» — довольно действенный литературный прием. Не знай я положения дел в этой колонии, где начальником опытнейший работник майор Артемьев, мог бы и поверить этому литературному сочинению на свободную тему. И потом сама идея: заговор обезглавлен Грабарем! Чувствуешь, какой парадокс? Давай доведем эту идею до логического конца. Если заговор обезглавлен Грабарем, то его надо не только помиловать, но и представить к правительственной награде.
Анатолий Васильевич фыркнул:
— Насчет награды — явный абсурд. Но поступки вопреки явной логике — тоже логика. А все-таки лучше исключить даже невозможное, — упорствовал Анатолий Васильевич.
— Ну что ж, — согласился начальник политотдела НТК, — приглашаю в маленькое путешествие; пройдем в первую колонию. Когда все увидишь воочию, страхи и опасения исчезнут.
* * *
Машина остановилась у трехэтажного здания, одиноко стоящего в степи. Где-то вдали виднелись терриконы, подернутые голубоватой дымкой, — это перетлевала порода, выданная из шахты. Еще дальше за терриконами — две высокие трубы: шахтерский поселок. Здесь, в степи, на каменистом выходе песчаных пород древнего кряжа, построили трехэтажное здание — контору первой колонии. Сама колония — по ту сторону шоссе. Несведущий человек, мчась мимо на машине, примет многоярусные корпуса за высоким серым забором за обыкновенный завод. И будет прав. Вот только перед каменным забором — еще один, из колючей проволоки, да двухметровая, вспаханная между ними полоса. По углам дыбятся четырехногие вышки. На них — солдаты с автоматами. То, что по ту сторону заборов, называется «зоной», то, что по эту, — «волей».
Подполковника Добрынина и юриста Семерикова встретил начальник колонии майор Артемьев, высокий, плечистый мужчина, обладавший густым «михайловским» басом.
Поздоровались. Добрынин передал начальнику колонии копию прошения Геннадия Грабаря. Артемьев внимательно прочитал:
— Я думаю, что это очередная выходка Грабаря, этакий последний плевок людям в душу. Уж он нам подсыпал перцу — и не однажды! Но чем черт не шутит…
Нажал кнопку селектора:
— Капитана Сорвиголову — ко мне.
Через несколько минут пришел поджарый капитан. Откозырял Добрынину.
Капитан Сорвиголова — заместитель начальника колонии по режиму. Анатолий Васильевич знал, какая это сложная работа. Весь порядок колонии строгого режима, где содержится, более трехсот человек особо опасных преступников, лежит на нем. Он — недреманное око колонии. Заместитель начальника колонии по режиму должен заранее предугадывать возможные эксцессы на территории колонии, с тем чтобы предупредить их. Он тщательно изучает не только биографии заключенных, пухлые, порою многотомные дела, но и характеры, связи с внешним миром, взаимоотношения друг с другом. Капитан Сорвиголова, вне сомнения, превосходно знал, кто из его поднадзорных на что способен, какой выходки и от кого можно ждать.
Майор Артемьев показал капитану прошение Грабаря.
— Проверить! Самым тщательным образом. Всюду. Особенно кочегарку, пищеблок. Загляните в топки котлов.
— Котлы у нас на газе, топок как таковых нет, — пояснил капитан начальнику колонии.
— Вот эти «не таковые» и проверьте, — строго сказал начальник колонии. — Снимите форсунки, загляните в котлы. На заводе обратите внимание на места, где долгое время лежат без движения заготовки и отходы.
Капитан Сорвиголова ушел, Анатолий Васильевич с Добрыниным и Артемьевым остались.
— Результаты будут часа через два, не раньше, — сказал майор. — Чем вас занять?
Кабинет был просторным, удобным. Еще пахло свежей краской, пол поблескивал первозданной чистотой. Скромная мебель, скромные шторы на широких окнах.
— Могу предложить кофе, — басил майор Артемьев.
Ему было тесно в этой комнате. Он двигался как-то осторожно, почти боком, стараясь чего-нибудь из мебели не задеть.
Кофеварка и кофе были здесь же, в шкафу. Он извлек необходимое, начал колдовать над угощением.
Анатолий Васильевич, по-прежнему мучимый своими сомнениями, усилившимися в связи с тем, что начальник колонии и его заместитель по режиму отнеслись к фактам, изложенным Грабарем в прошении, не в пример Добрынину, более серьезно, спросил:
— А ваше-то личное мнение по этому поводу? — Он показал на прошение Грабаря. — Если предположить невероятное: о Комарове и Абашеве Геннадий Грабарь написал хотя бы полуправду, и один из них, а может, и оба, что-то знали об изготовлении ну… если не огнестрельного оружия, то холодного. Был же у Грабаря нож.
— Был, — согласился майор Артемьев. — Заточил железку с двух сторон — вот тебе и нож. Его изготовление — вполне в характере Грабаря. Неуравновешенный, вечно обозленный, очень агрессивный, он постоянно сталкивался с окружающими, со всеми конфликтовал. Иногда закипал по самому пустяковому поводу, ему, видите ли, показалось, что на него не так взглянули. Болезненная подозрительность и привела его к последнему преступлению.
— А что вы можете сказать о Комарове как о личности? — спросил Анатолий Васильевич. — Не мог он быть, как утверждает Грабарь, организатором коллективного побега?
— Исключено! — убежденно ответил майор Артемьев.
Он разлил кофе по чашечкам, в каждую положил по два кусочка сахара. Во всех его действиях было нечто магическое, будто он совершал обряд волшебства.
Анатолий Васильевич подумал, что этот громоздкий человек по-своему ловок и сноровист. Он, видимо, является закоперщиком разных выездов на лоно природы, где, к удовольствию женщин, сам варит уху из петуха или карпа, купленного в магазине, не позволяя никому прикоснуться ни к ножу, ни к топору, ни к продуктам. Майор Артемьев все больше и больше нравился Семерикову. Такому человеку хотелось верить на слово.
— Евгений был самым порядочным среди заключенных нашей колонии, — продолжал басить майор Артемьев. Но осекся, видимо, решил, что слово «порядочный» в применении к заключенному колонии строгого режима будет неправильно понято защитником Геннадия Грабаря. — К нам попадают в основном по двум причинам, — пояснил он свои слова, — преступники по наклонностям и жертвы диких обстоятельств. Комаров как раз из второй категории. Он порядочный человек в полном смысле этого слова, — негромко, но убежденно повторил майор. — Конечно, Комаров в свое время совершил тяжелое преступление, поэтому и попал к нам. Но понять причину его поведения легко. Я даже затрудняюсь сказать, как бы мы с вами вели себя на его месте. Может быть, точно так же. Он совершил преступление, защищая честь любимой. Как не имевшему восемнадцати лет, но совершившему преступление в состоянии нервного потрясения, вызванного оскорблением, полученным от пострадавшего, ему дали пять лет. Пока шло следствие, Евгению исполнилось восемнадцать, и он попал к нам. Считал, что мера наказания справедливая. Был самый дисциплинированный в колонии. Много читал. Отсидел две трети срока. Администрация уже подала документы на его досрочное освобождение.
Анатолий Васильевич задумался. Подсел к столу. Выбивают пальцы беспокойную дробь: все громче, все настойчивее. Сомнения! Сомнения!
— А Комаров знал, что вы подготовили такие документы?
Майор Артемьев замялся. Глянул на Добрынина. «Как ответить?» Николай Константинович пришел ему на помощь:
— Официально Комарову не объявляли… Но колония… Это что-то вроде корабля в океане. Долгими годами вместе. Локальное местожительство, локальные интересы… Все друг о друге почти все знают. Ничего не скроешь: обо всем доведаются, догадаются. И потом условно-досрочное освобождение тех, кто дисциплинирован, хорошо работает, — один из важных моментов гуманизма, заложенного в нашем законодательстве. Человек осознал свое преступление, раскаялся, зарекся на будущее — зачем держать его за колючей проволокой? Пусть трудится на благо Родины. Заключенные преотлично знают условия, при которых происходит условно-досрочное освобождение. И Комаров, вне сомнения, догадывался, что он — первый кандидат.
— Не одолеешь сомнений — не придешь к истине, — сказал Добрынину и начальнику колонии Анатолий Васильевич. — Вы меня в отношении Комарова убедили. И все-таки… Не мог здесь сработать психологический срыв? Бывает: крепится человек, душу и волю — под запор. Нацелился на что-то. И… не дошел двух шагов, одной ступеньки не одолел — сорвался. Все — в тартарары!
Николай Константинович возразил:
— Все дело в деталях… За годы моей службы в органах МВД доводилось видеть таких: ему осталось досидеть две недели, а он делает попытку к бегству. Этакое затмение мозгов, вызванное неожиданно сложившейся ситуацией. Увидел — из зоны вывозят ящики, спрятался в один из них. А его, субчика, при досмотре и обнаружили. Спрашиваешь: «О чем думал? За побег три года добавят». Он плачет горькими слезами: «Ум за разум зашел. Простите!» А в прошении Грабаря речь идет о многомесячной подготовке к коллективному побегу. Комарову такое уж совсем ни к чему.
Анатолий Васильевич согласился:
— Убедили и в этом. А что можете сказать об Абашеве?
Майор Артемьев начал пространно рассказывать:
— Есть среди заключенных такие натуры, которые живут уж как-то очень легко: приплясывая да припеваючи. Абашев из них. Шахтер, если верить характеристике, хороший. Одиннадцать лет подземного стажа. В его доме, этажом выше, жил один парикмахер, человек крайне неаккуратный. Он, да и все у него в семье, постоянно забывали закрывать краны. Абашеву надоело и ругаться и делать ремонт. Он уговорил знакомого из столярной мастерской изготовить гроб. Покрасил черной краской. На крышке нарисовал череп. Позвонил по телефону на квартиру своему обидчику: «К вам сейчас прибудут из похоронного бюро». Занесли гроб в дом. Теща парикмахера, женщина на склоне лет, мучаясь в догадках, сидела над гробом до вечера, не спускала глаз с черепа, нарисованного на крышке. В результате — инфаркт. Едва отходили ее. Абашев получил первый срок. На шахте у них был какой-то нормировщик забулдыга, брал с горняков мелкие взятки выпивкой. У них там даже черед установился: кому и когда вести взяточника в забегаловку. Абашев как-то напоил его до неприличия, потом раздел донага, обмазал смолой и посыпал сверху песком. А одежду отнес жене и сказал, что ее милый утопился и завещал ей выходить замуж за другого. Это была причина для второй судимости. А третий раз за то, что продал шахтный электровоз.
— Как можно у нас продать шахтный электровоз? Кому?
— Другой шахте, — пояснил майор Артемьев. — Друг Абашева работал в соседнем тресте сквозным бригадиром машинистов электровозов. Он как-то пожаловался: «Замучились со старьем. Шахта на выработке, трест ничего не дает, говорят, на том, что есть, свое доработаете». Абашев вызвался помочь. «А у нас второй год прямо под открытым небом стоят ржавеют три новенькие машины. Пропадает государственное добро, надо его пристроить к делу». Где-то под вечер пришла бортовая машина и подъемный кран. Все видели, как грузят шахтный электровоз, никому в голову не пришло, что его воруют.
Спохватились через полгода. Видать, Абашев на шахте кому-то из начальства порядком насолил своими вечными выходками. Когда доведались, что он всему виною, судили. А третья судимость — это уж строгий режим. Он у нас был бригадиром. Работу любил. И она его взаимно.
Анатолий Васильевич подивился и усомнился:
— А нет в вашем рассказе… романтизации преступления?
Ответить майор Артемьев не успел, вернулся капитан Сорвиголова. Озадаченный. Он развернул солдатское полотенце, в котором были два стальных бруска. Один размер, одна толщина, одинаково тускло, свинцово поблескивали при свете, льющемся из окон.
— Вот, — доложил он, — перетряхивали ящик с металлической стружкой… К сожалению, вопреки инструкции его до дна не опорожняли, зачастую оставался какой-то мусор.
Майор Артемьев прихватил один из брусков носовым платком и начал рассматривать. Оказывается, в торце бруска было просверлено отверстие. Но неудачно, закосили и просверлили стенку.
Бережно держа металлическую болванку в сильных пальцах, ловко перевернул ее. На другой стороне кто-то напильником или шабером по-детски неумело нацарапал контуры маузера: квадратный магазин и косая, с утолщением на конце рукоятка.
Металлическая доска. Из таких, только деревянных, мальчишки вырезают и выпиливают пистолеты системы «маузер». Любят они это устаревшее, но грозное по виду оружие.
Анатолий Васильевич потянулся было к находке, майор Артемьев отвел руку с болванкой в сторону.
— Не стоит оставлять лишние отпечатки, усложнять работу розыска. — Он кивнул заместителю начальника колонии по режиму: — Распорядитесь, товарищ капитан, насчет криминалиста.
Уложив на место этот брусок, майор Артемьев, все так же осторожно прихватив платком, поднял второй. Осмотрел. Никаких следов чертежей или обработки.
Сам по себе этот брусок не представлял бы интереса. Но в паре с первым!
— Убежден, — хмуро обратился майор к заместителю начальника колонии по режиму, который стоял чуть в стороне по стойке смирно, — хозяин болванок-заготовок знал, что стружку до дна ящика никогда не выбирают. Здесь и прятал свое изделие.
Добрынин, понимая состояние майора Артемьева, сказал:
— Подождем результатов криминалистического исследования, поговорим по душам с хозяином брусков, потом будем делать выводы.
* * *
На каждом из брусков были отпечатки пальцев нескольких человек, видать, заготовки гуляли по цеху. Но на обеих повторялись отпечатки только одного заключенного: Анатолия Зубаренко.
Его и пригласили на первое собеседование.
Анатолий Зубаренко — колхозный бульдозерист, сельский бузотер. Тридцати пяти лет. Проиграв в карты солидную сумму, он решил поправить свои финансовые дела самым быстрым, по его мнению, способом. Нашел себе напарника с мотоциклом, такого же отпетого пьяницу, как сам. Они ограбили три универмага в трех шахтерских поселках. «Брали» те магазины, которые охранялись с помощью сигнализации. Рассчитали по секундомеру время, необходимое милиции для того, чтобы явиться на место происшествия, и укладывались в него. Разбивали стекло, врывались в магазин, хватали, что под руку подвернется, и быстро исчезали на мотоцикле. Два раза успели. На третий — попались на месте преступления. Зубаренко сидел четвертый год, впереди у него было еще шесть с лишним.
Его привели в кабинет начальника колонии. Черная форменная куртка застегнута наспех: вторая петля — за верхнюю пуговицу.
Увидев собравшихся, Зубаренко почувствовал беду и оробел.
— Застегните куртку по-человечески, — сказал Добрынин.
Когда Зубаренко застегивал пуговицы, худые, в ссадинах, с болезненно вздувшимися суставами пальцы мелко дрожали. Глаза остекленели, не спускает их с начальника политотдела ИТК.
— Какие специальности освоили в заключении? — спросил Добрынин.
— Первый год слесарил, потом закончил здесь, в колонии, ПТУ, и на сверлильный поставили.
Голос у Зубаренко был неприятный, с хрипотцой. Тонкие синеватые губы, подвижные, как у зайца, обнажали щербатый рот с мелкими зубами.
— Начальник тебя не нахвалит, — кивнул Добрынин на майора Артемьева, — говорит: «Наш Зубаренко — рационализатор, придумал простое, но вместе с тем оригинальное приспособление для точного глубокого сверления».
Зубаренко проглотил вязкую слюну. Он превосходно понимал, что начальник политотдела ИТК с человеком в гражданском приехал не для того, чтобы поблагодарить его за рационализаторское приспособление.
— Придумал, — прохрипел он, не отрицая и не утверждая, будто не знал: похвалят его за это «придумал» или отругают.
Добрынин протянул ему брусок с высверленным отверстием.
— Что же вы, такой мастер, а болванку запороли?
Зубаренко взял заготовку из рук Николая Константиновича. Побледнел. И эта бледность была особенно поразительна потому, что он был из «цыганской» породы: солнце и ветер задубили кожу, вычернили ее, навели шоколадный глянец.
Зубаренко опустил руку с заготовкой, а сам не сводит глаз с начальника политотдела ИТК. Молчит.
Пауза затянулась. Чрезмерно. Наступившая тишина начала нервировать присутствующих, заряжать их каким-то отрицательным зарядом. И все это было чревато взрывом.
— Ну! — прикрикнул на заключенного майор Артемьев.
Зубаренко продолжал молчать, уставившись в пол.
— Зачем это вам было нужно? — спросил Добрынин.
Он помнил Зубаренко по одному из посещений колонии. Заключенный жаловался, что в ларьке нет хороших сигарет, только папиросы, причем дорогие. «Казбек» винницкой фабрики. Хуже не бывает. «Если мы зеки, то нам можно совать всякую дрянь?»
В соответствии с утвержденным перечнем товаров сигареты в специализированных магазинах должны были быть. Добрынин потом распекал замполита колонии: «Почему не контролируете работников торговли?» Сигареты в магазине появились.
Зубаренко глянул на Николая Константиновича, но так ничего и не ответил. К нему подошел капитан Сорвиголова.
— Законы ты знаешь: ведь за изготовление оружия в условиях строгого режима — пять лет тюрьмы. Без права переписки, без права свидания. В твоем положении, Зубаренко, лучший выход — откровенность.
Но Зубаренко, видимо, считал, что надежнее отмалчиваться. Поковырял худым длинным пальцем в просверленном отверстии. И ни гугу.
Начальник колонии сказал громко:
— Придется назначить дело к следствию. И по всей строгости…
Зубаренко от этих слов передернуло, будто холодной воды налили за шиворот. «Пять лет добавят».
Но что-то мешало ему говорить. Добрынин решил помочь заключенному наводящими вопросами. Не хочет вести речь об оружии, пусть вначале о чем-то другом, косвенном.
— Вы Грабаря знали?
Зубаренко перестал сутулиться, поднял голову, глянул на подполковника. Добрынина звали в колонии «политикой», к нему обращались со всеми жалобами. По табели о рангах у заключенных начальник политотдела ИТК был на особом положении.
— Соседи по койке, — выдавил из себя Зубаренко.
— Какие у него были отношения с Комаровым и Абашевым?
— Генка Грабарь — сачок. Он всем болтал, что за всю жизнь, кроме карт и ложки, никаких других орудиев производства в руки не брал. А Комаров и Абашев — работяги. Спросите начальника колонии, сколько они заработали грошей. У Комарова, поди, тысячи две. Он уже досиживал срок. У Абашева — поменьше. Ну и взялись они за Грабаря, все хотели из сачка работягу сделать. Комаров у нас был культурником. За свою денежку выписывал до двадцати газет и журналов. Так он все на сознательность давил. Но разве Грабаря хорошими словами прошибешь? Взялся за него Абашев, бригадир. Веселый человек. Слово скажет, рожу скорчит, и все от смеха лопаются. Он и говорит Грабарю: «В твоей башке пустоты много. Вот мы ее под прессом обожмем, дурости и негде будет квартировать». Грабарь на него с кулаками: «У, татарская харя, я тебя и без пресса на блины раскатаю». Когда говорил Абашев, всем было смешно. А Грабарю чудилось, что это над ним смеются. Затрясется — и к Абашеву. Но тот здоров, словно Алексеев или Жаботинский. Крутанет Генку, руки его прижмет к себе, спиной повернет и шепчет на ухо: «Труд сделал из обезьяны человека. А ты что, дурнее обезьяны?» Грабарь головой бьет, лягается, а Абашев только зубы скалит.
Анатолия Васильевича поразило совпадение фактов у Грабаря в послании: «Абашев мне пригрозил: «Голову под пресс, а потом доказывай, что это не несчастный случай» и в показаниях Зубаренко: «В твоей башке много пустоты, — сказал Абашев Грабарю. — Вот мы ее под прессом обожмем…»
Анатолий Васильевич обратил внимание и на то, что Зубаренко называет Грабаря по имени. Из одной бригады. Койки рядом. «Корешки». Конечно, Зубаренко многое знает о Грабаре, вон какую точную дал ему характеристику. Но и Грабарь знал о Зубаренко порядочно. Видать по всему, как личность, Грабарь был сильнее Зубаренко. Уж не по его ли заданию тот и сверлил стволы для самопалов? Грабарь знал, что при первом же сигнале об изготовлении оружия в колонии произведут тщательный обыск. И если что-то найдут, то подтвердится его правота. «Самопал — это вещдоки». А под них сочиняй любую легенду, води за нос следствие, тяни время. И побольше, побольше впутывай в грязную историю разных людей. «Группа заключенных готовила вооруженный побег». И в этой поднятой мути ты, Геннадий Грабарь, сам станешь светлее. «Не убил, а лишь превысил меру обороны». Иная статья, иное наказание. Не высшая мера, помягче.
— Когда к вам пришла мысль изготовить самопал? — спросил Анатолий Васильевич.
Зубаренко пожал плечами, мол, черт его знает когда.
— По глупости, — прохрипел он.
Как ему не хотелось касаться этой темы! Даже на лбу выступила испарина, вот какую внутреннюю борьбу он вел с собою.
— А Грабарь знал об этих ваших сверлильных экспериментах?
Зубаренко на вопрос не ответил, опять замкнулся. И как его ни расспрашивали — ни слова. «Да ведь он боится Грабаря!» — понял Анатолий Васильевич.
К этому же выводу пришел и Добрынин.
— Грабарь приговорен к высшей мере, — сказал он Зубаренко. — А вы с ним до сих пор в поддавки играете. Пора бы понять ситуацию.
Зубаренко понял. По-своему.
— Кто же не знает, что «вышкой» теперь только пугают. Вот сидел один в колонии, по пьяному делу родную мать на куски порубил только за то, что она вовремя не набрала травы для кролей: возилась с его больными детьми. Вначале дали «вышку», а потом в Киеве или в Москве скостили на пятнадцать. Он тут приболел. Так восстанавливать его драгоценное здоровье отправили в санаторную колонию. И вы все приехали, чтобы найти смягчение Грабарю. Я же это вижу.
Слова Зубаренко острее всего поразили Анатолия Васильевича. Если отбросить словесную шелуху, вроде «разбора просьбы о помиловании», то останется вот это: «Защитник приехал, чтобы отыскать обстоятельства, позволяющие смотреть на преступление Грабаря чуточку под иным углом, более гуманным…»
Поняв, что от Зубаренко больше не добьешься ничего, начальник колонии распорядился:
— В интересах следствия — изолируйте.
Когда заключенного увели, наступило молчание. Уже никто ничего говорить не хотел и не мог. Анатолий Васильевич, выражая общее состояние, вздохнул: «Уф!»
— Какие же нужны нервы, чтобы работать с такими…
Он подумал сразу и о Зубаренко, и о Грабаре, и о том, поднявшем руку на мать.
— Об убийце матери — это правда? Пятнадцать лет, а теперь санаторная колония…
— Увы… — сожалея о случившемся, ответил Добрынин.
— Но где-то должен быть разумный предел нашей гуманности! — подосадовал Семериков. — За что ему такая милость?
— Первая судимость… Во-вторых — положительная характеристика с работы… И еще что-то из обстоятельств, смягчающих вину: больная жена, маленькие дети… Одним словом, суд нашел возможным…
— А мне лично, — сказал запальчиво Анатолий Васильевич, — больше по душе индивидуальная ответственность перед законом. Это самое «недовоспитатели», виноваты папы, мамы, учителя, сослуживцы по работе — одним словом, все, кроме самого преступника, ведет к обезличке. Все — значит, никто конкретно. Нянчимся-нянчимся… А они самые обыкновенные, этакие выродыши, мутанты. Кстати, сейчас в печати начали появляться материалы, которые позволяют на теорию сверхиндивидуализма взглянуть несколько иначе. Не так давно в газете «За рубежом» перепечатали статью из одного американского журнала. В какой-то клинике под руководством известного светила в области судебной медицины провели серию исследовательских работ над группой особо опасных преступников. И выяснили такую деталь. Обычный мужской ген имеет формулу икс-игрек — «ХУ». Но попадаются особи с геном икс-игрек-игрек — «ХУУ». Оказывается, эта скрытая патология имеет прямое отношение к формированию характера. Человек, имеющий ген «ХУУ», неуравновешен. Легко возбудим. У него отсутствуют «тормоза», которые, собственно, и позволяют нам постоянно помнить, что мы живем не на необитаемом острове, а в обществе, рядом с такими же, как мы, индивидуумами, у которых есть свой характер, свои вкусы, свои интересы.
Начальник политотдела был не согласен с адвокатом: он покачивал головой:
— Я не берусь опровергать, Анатолий Васильевич, ваш тезис о том, что наука о наследственности стоит на пороге новых открытий и через пятнадцать лет преступниками будет заниматься не милиция, а здравоохранение. А пока жизнь вам как адвокату на решение проблемы «Генины гены» отпустила трое суток. За это время вы, защитник, обязаны отправить в адрес Президиума Верховного Совета прошение о помиловании.
— Я как-то читал, — после раздумий ответил Добрынину Анатолий Васильевич, — в одной из европейских стран лет сто пятьдесят тому, а может, больше, решили сэкономить на тюрьмах. Упразднили все, оставили только одну, и ту очень маленькую. Сроки наказания, даже за самое тяжкое преступление, были небольшими: три недели — предел. И условия содержания превосходные. Конечно, по тем временам. Но… если кто-то и где-то совершил преступление, то, освобождая место для очередного преступника, предыдущего вешали напротив окна. Легенда утверждает, что столь веский довод в пользу хорошего поведения действовал безотказно.
— История борьбы с преступностью уходит в века, — согласился начальник политотдела НТК. — Методы борьбы особым разнообразием не отличались, в их основе всегда лежала жестокость. Злодею, вору отрубали руки, рвали ноздри и уши, сажали на кол, распинали на кресте, гноили в ямах. Но это не искореняло преступности, а лишь усложняло ее формы. Советское правосудие отвергает жестокость как единственную меру борьбы с преступностью, — поставил Добрынин точку в этом споре. — Только за исключительно тяжкие преступления, тогда, когда уже все меры воздействия оказываются бессильными, для преступника определяется высшая мера социальной защиты — смертная казнь.
Анатолий Васильевич соглашался и не соглашался с Добрыниным. Он как адвокат мучительно искал правду. Он уже не мог сказать, что в просьбе его подзащитного о помиловании все выдумка, хотя и понимал, что Грабарь из мухи вылепил слона и теперь пытается продавать слоновую кость. Но проклятые болванки! На одной из них шабером нацарапан какой-то маузер или наган. И потом просверленное отверстие… Кто-то пытался изготовить самопал. И нет доказательств, что попытка не увенчалась успехом. Продолжая и углубляя версию о болванке, можно рассуждать так: заготовили с десяток — из восьми сделали самопалы, а эти две бросили за ненадобностью.
— Предположим такое: Грабарь убил и в поисках причины для смягчения меры наказания выдал, выболтал то, что знал: подготовка побега, изготовление оружия. И потом этот дурацкий разговор между Абашевым и Грабарем, мол, голову под пресс, чтобы умнее стал. Пусть не с тем внутренним содержанием, как указано в письме, но был! Как он трансформировался в восприятии Грабаря? Не мог Грабарь понять его в буквальном смысле?
— Мог, — согласился Добрынин. — И нам предстоит доказать или опровергнуть эти версии.
— А как же мне быть с прошением, сочиненным Грабарем? — с горечью воскликнул Анатолий Васильевич.
— Отправлять по назначению, — спокойно посоветовал Добрынин. — Сроки обязывают. А мы тем временем постараемся выяснить, какой процент лжи в правде Геннадия Грабаря.
В тот же день вечером, когда Анатолий Васильевич вместе с Добрыниным вернулись в Донецк, просьба о помиловании, сочиненная Грабарем и перепечатанная его защитником на машинке, ушла в Киев.
* * *
Два дня Анатолий Васильевич ходил сам не свой, все думал о проклятых болванках, подготовленных Зубаренко для изготовления самопала. «И молчит! Молчит! — думал он о дружке Грабаря. — Понимает, что факты против него, и все-таки берет всю ответственность на себя». Среди уголовников существует такое выражение: «паровоз» — это значит тянуть все и за всех. «Боится Грабаря! Не верит, что того могут расстрелять, то есть привести приговор в исполнение».
И уже в этом внутреннем сопротивлении Зубаренко для Анатолия Васильевича был некий упрек и вызов. «Законы должны выполняться неукоснительно, невзирая на лица. Неотвратимость наказания — одна из важнейших сторон правового воспитания».
Как трудно порою при всей кажущейся очевидности отделить правду от вымысла, провести между ними нерушимую границу!
В пятницу поздним вечером, когда Анатолий Васильевич уже готовился завалиться в постель, позвонил Добрынин:
— Анатолий Васильевич, есть кое-что для вас неожиданное.
— По Грабарю? — насторожился Семериков.
И в тот же миг понял, что ждал вот такого неожиданного, которое должно было или опровергнуть все собранные адвокатом факты, или как-то иначе выстроить их, по-иному обосновать.
Услышав восклицание Семерикова и по тону поняв, как возбужден защитник Грабаря, Добрынин ответил довольно уклончиво:
— Я бы не сказал сейчас: «по Грабарю». Пока это лишь параллель. Подходите в управление к начальнику УИТУ. Его звать Виталием Афанасьевичем Ивановым. Я буду там.
От дома, где жил Анатолий Васильевич, до областного управления минут семь пешком.
Семериков, отдуваясь, поднялся на шестой этаж.
И вот он в просторном, выглядевшем квадратным кабинете. Управление исправительно-трудовых колоний недавно справило новоселье. Здесь все еще пахло краской, пластиком, клеем…
В кабинете сидело пятеро. Четверо из них незнакомы Семерикову.
Навстречу адвокату поднялся высокий худощавый полковник. Глаза мудрые, как у школьного учителя, который давно работает в старших классах, любит и понимает своих озорных, находчивых воспитанников.
— Виталий Афанасьевич, — протянул он руку адвокату. — Начальник УИТУ. Вот, Анатолий Васильевич, решили задачку с тремя неизвестными, которую вы сочинили с Грабарем.
Посреди широкого полированного стола на белом листе писчей бумаги лежал… самодельный наган, вернее, самопал. Именно самопал. Рукоятка утолщенная, обработана грубо. Барабан «пузатый», — пришло сравнение Семерикову. Словом, большой, смахивающий на шар. Самопал опирался всей тяжестью на барабан, задирая кверху ствол, словно бы прицеливался к какой-то метке на стене. Металл, из которого когда-то смастерили оружие, успел потускнеть.
Полковник пододвинул Семерикову самопал вместе с листом бумаги, на котором лежало оружие.
— Год назад из этой штуки были убиты трое, в том числе милиционер. Его — из-за оружия.
— Но Грабарь в это время уже сидел! — воскликнул Анатолий Васильевич, пораженный тем, что узнал об очередном преступлении. «Трое…»
— И милиционера и работников сберкассы убил Алтынов-Задонский, — пояснил полковник. — Мы порою в своих учреждениях коллекционируем таких отпетых… А этот и среди них особый. Выпускали его после седьмого срока, знали, что вернется вскоре к нам… Совершит очередной грабеж и вернется… Но держать не имели нрава: отбыл человек наказание…
Полковник тяжко передохнул, пощупал взглядом оружие, лежавшее на столе, и как бы подытожил:
— Смертный приговор в отношении Алтынова-Задонского приведен в исполнение. Но на следствии Алтынов утверждал, что купил «ствол» у неизвестного ему человека. Но вот что примечательно: Алтынов последнее наказание отбывал в первой колонии. И вот теперь в связи с заявлением Грабаря и результатами обыска там же созрела идея сличить с помощью спектрального анализа самопал Алтынова и зубаревские болванки. Оказывается, то и другое из одной марки металла.
Первой реакцией Семерикова была досада: «Грабарь прав: оружие в колонии так-таки изготовлялось».
Анатолий Васильевич поймал себя на мысли, что ему совсем не хочется видеть Грабаря правым даже в самых незначительных деталях. А тут такое — оружие.
Семериков еще не знал, что этот факт даст ему как адвокату, но в том, что теперь все написанное Грабарем в прошении на помилование приобретет особое звучание, не сомневался.
— По всей вероятности, револьвер изготовлял Зубаренко, — сказал адвокату полковник. — Кстати, вы ему понравились, и после вашего отъезда из колонии он настаивает на свидании. Он заявил капитану Сорвиголове: «У меня есть важные сведения об изготовлении оружия». Среди таких, как он, это популярно: «Своим» ничего не скажу, подайте мне того пожилого…» Поедете в колонию?
— Само собой! — вырвалось у Семерикова. — Мне крайне необходимо знать, какое отношение ко всему этому имел мой подзащитный.
— Нас это интересует в не меньшей мере, — заметил начальник УИТУ. — И другое: не было бы дубликатов у этой штуки, — показал полковник на самопал, который по-прежнему лежал посреди большого полированного стола на листе бумаги.
На следующий день около девяти часов полковник Иванов, его заместитель по режиму, огненно-рыжий, в пегих, веселых веснушках майор Сыромятников вместе с Добрыниным и Семериковым были уже в первой колонии.
— Вы с Добрыниным начинайте беседу, — наставлял начальник управления. — Зубаренко добивался права исповедоваться именно перед вами обоими. А мы с майором Сыромятниковым подключимся позже, когда в этом вызреет необходимость.
На первой беседе с Зубаренко, кроме гостей, присутствовал еще капитан Сорвиголова. Хмурый, недобрый, он оседлал стул и, положив тяжелые, сильные руки на спинку стула, старался не смотреть на заключенного: заместитель начальника колонии по режиму уже знал всю историю с самопалом и превосходно понимал, чем это обернется для него.
Зубаренко, сидя в изоляторе, зарос. Глаза еще больше ввалились. Осунулся. По всему, нелегко далось ему решение быть откровенным. Он стоял посреди комнаты, настороженный, ожидающий самого худшего. Что-то сказать хочет, да мешает застрявшая в горле вязкая слюна.
— Я вас слушаю, — напомнил о себе Добрынин.
— Ну… про болванки… — начал хрипло Зубаренко. — Грабарь мне приказал сделать для него ствол на четыре заряда. И металл он нашел… Говорил: «Оборвусь, добуду самолет — и в Турцию, на американскую базу. Уж те не выдадут». И меня с собою тянул. Но я отказался: «Такая буза пахнет вышкой, это измена Родине. Какой бы я сволочью ни был, а на такое не пойду».
«Буза пахнет вышкой», — так вот откуда взял Грабарь слова для своей просьбы о помиловании», — подумал Анатолий Васильевич, слушая Зубаренко.
И вдруг рассердился на себя за то, что в какой-то мере поверил своему подзащитному, вернее, не усомнился в его словах, не опротестовал их, а воспринял как должное.
Зубаренко продолжал:
— Грабарь пригрозил мне: «Выдашь — из-под земли достану и опять туда закопаю!» А дырку в болванке наискосок я засверлил специально. Думаю, далеко с самодельным стволом не уйдет: возьмут и доведаются, кто делал. За то, что я испортил болванку, Грабарь едва меня не убил, не поверил, что я ошибся. «Такой мастер, как ты, — говорит, — не ошибается». Но уж лучше пострадать от него, чем от закона…
Зубаренко замолчал, настороженно ожидая вопросов или выводов, еще не зная: поверили — не поверили.
Спрашивать Зубаренко о самопале, из которого убиты трое, адвокат Грабаря не имел права. Об этом спросят другие. А он — лишь о болванках.
— Грабарю было известно, где вы хранили заготовки?
Зубаренко передохнул с облегчением, решив, что ему так-таки поверили, отвечал бойко:
— Генка и указал место. «Ящик глубокий и тяжелый, До конца стружку не выбирают, неудобно. Положи на самое дно, притруси мусором».
— Почему же все-таки вы не выбросили болванку, когда Грабаря перевели из колонии в тюрьму после убийства Комарова? — поинтересовался Добрынин.
Зубаренко пожал плечами:
— Грабарь наказал их не трогать. «Это мои козыри». Я не понял, о чем он. Ну и на всякий случай оставил. Я же не подумал, что их будут искать.
«Козыри»! Как тщательно Грабарь готовился к убийству! Все продумал до мельчайших подробностей. И не исключено, что, зная характер Зубаренко, специально рассказал о возможном вооруженном побеге, о попытке уйти в Турцию, рассчитывая, что тот струсит и примет меры, чтобы «заговор» не удался. Зубаренко умышленно запорол ствол, чего и добивался Грабарь. Геннадий избил дружка. Ну и само собою, тот все это запомнил в деталях. И вот сейчас их выложил, невольно помогая Грабарю отвратить неминуемую кару за тяжкое преступление. И еще одна деталь свидетельствовала в пользу этой версии Анатолия Васильевича. Зубаренко говорил, что обе болванки ему дал Грабарь. Но на них не оказалось ни одного отпечатка его пальцев. Ловок! Он знал, что убийство в колонии чревато тяжелыми последствиями. И вот приготовил «вещдоки». И совершил нападение только после того, как убедился, что задуманная, выпестованная им система защиты готова к действию. Все в строку уложил: и разговор с Абашевым насчет пресса и обжима головы (эту стычку видели многие, могут подтвердить, и, уж конечно, Зубаренко первым), и мысли Зубаренко о том, что попытка уйти за границу — это измена Родине. На все был готов! А какова выдержка! Ждал, когда закончится суд, когда приговорят к высшей мере, когда появится возможность обратиться с просьбой о помиловании в Президиум Верховного Совета. Он был уверен, что его доводы о заговоре подтвердятся и тогда приговор Выездной сессии областного суда отменят.
Капитан Сорвиголова, упорно озиравший двор, разбитый высокими решетками на секции, понял, что Зубаренко «высох» и ничего уже не скажет. Резко повернулся к заключенному. Пока тот ловко исповедовался, пытаясь выдать за червонную, золотую правду ложь, сплетенную из достоверных, но вывернутых наизнанку фактов, капитан все время думал о том, что самопал не миновал умелых рук этого типа, который сейчас об изготовлении оружия даже не обмолвился.
Взорвался человек: сдали нервы.
— И это все?
Зубаренко невольно попятился от него, вобрал голову в плечи:
— А что еще? — В его маленьких темных глазках вновь поселился страх. Но уже не тайный, как в начале исповеди (поверят — не поверят), а явный (что «им» еще известно обо мне?). «Неужели что-то…» Он даже про себя, мысленно не называл самопал, суеверно опасаясь всуе повторить ставшее страшным имя преступления. Впрочем, он мог и не знать, что его изготовка принесла смерть троим.
— Тебе лучше знать! — громыхнул на него капитан. Но под пристальным взглядом Добрынина присмирел.
Однако Зубаренко почувствовал, что трое, которых он хотел «удивить» признанием, знают о нем и о его делах гораздо больше. «Номер не прошел» — было явно написано на его физиономии.
Ему дали бумагу, ручку и пригласили к столу:
— Напишите все, что вы рассказали.
Он долго топтался у стола, рассматривая авторучку. А сев, старательно мостился на стуле, укладывал поудобнее бумагу. Он явно ждал каких-то слов: может быть, напоминания, может, повторного приказа. Но никто из троих не проронил ни слова: молча ждали.
Семериков, как ни странно, верил тому, что рассказал Зубаренко о попытке увильнуть от изготовления самопала. Но не верил в другое, что Грабарь так легко с этим примирился: попугал дружка-уклониста — и все. «Не тот человек…»
Зубаренко написал «С повинной» — признание о том, как его принуждали изготовить «ствол» и как он героически сопротивлялся этому.
Добрынин принял от Зубаренко написанное, бегло пробежал глазами и передал Сорвиголове. Тот прочитал. И вновь рассердился:
— Уж не выдать ли тебе награду за доблесть, — бросил он заключенному и направился в кабинет начальника колонии, где результатов первой беседы с Зубаренко поджидали полковник Иванов и майор Сыромятников — прямой начальник капитана.
В комнату вошли четверо. И в скромном кабинетике заместителя начальника колонии по режиму стало тесно. Семериков обратил внимание на майора Артемьева — лицо серое, землистое, словно бы человек не спал неделю, занимаясь чем-то трудным: может, уголь в мешках таскал или подвал после весны вычищал.
«Случай!» — посочувствовал Анатолий Васильевич начальнику колонии.
Зубаренко при виде начальства встал. Вся его согбенная фигура выражала ожидание.
— Я прочитал ваше «С повинной», — ровным голосом, словно бы это говорил автомат, сказал полковник осужденному. — Что-нибудь вы хотели бы еще добавить?
Зубаренко смотрел на полковника Иванова широко распахнутыми глазами и ни гугу в ответ.
— Зубаренко! — напомнил ему Добрынин.
Но заключенный уже лишился дара речи, он лишь покачал головой: «Нет, ему добавить нечего».
— Покажите, — попросил начальник УИТУ своего заместителя по режиму.
Майор Сыромятников вынул из кармана и осторожно положил самопал на краешек небольшого стола, покрытого голубоватой масляной краской.
Зубаренко остолбенел. Никто ничего ему не говорил, но самопал — это «вещдоки», причем неопровержимые.
В одно мгновение Зубаренко превратился в дряхлого старика. Иссекли лицо морщины-овраги, глаза помутнели, как придорожная лужа, по которой всеми четырьмя прогромыхала телега. Задыхается человек. Нев-мо-го-ту! Рука жалко дрожит, спешит расстегнуть воротник куртки и не может. Наконец справилась, просунула большую пластмассовую пуговицу сквозь петлю.
— Вот! Вот! — по-бабьи визгливо заголосил Зубаренко, демонстрируя широкий рваный шрам под подбородком. — Это мне Грабарь оставил метку, когда я накосо засверлил ствол. И доконал бы! Ему человека, как мне муху в столовке прихлопнуть.
— А почему вы об этом не сообщили? Вас бы с Грабарем развели по разным колониям, — сказал полковник Иванов.
Зубаренко затряс головой: «Нет и нет!»
— Уж я Грабаря знаю… Гнить на тюремном кладбище — желания нету.
— А из вашей самоделки убили двух работников сберкассы и милиционера… Молодой паренек, только что сын у него родился, жена еще из роддома вернуться не успела, — сдерживая себя, пояснил полковник Иванов.
Он был старшим среди присутствующих, и всякая инициатива исходила от него.
У Зубаренко подогнулись ноги. Он сел прямо на пол и… заплакал. Он не вытирал слез, руки были заняты, он опирался ими за спиною о пол, и слезы катились по морщинистым, жестким щекам тяжелыми горошинами, словцо бы они были из ртути.
* * *
От колонии до Углеграда всего восемнадцать километров. Семериков попросил полковника Иванова подвезти его до шахтерского городка.
— Загляну к родителям Грабаря.
— Хотите выразить соболезнование? — поинтересовался начальник УИТУ.
— Нет. Намерен поговорить о защите их сына.
Полковник подивился:
— Стоит ли? Через неделю придет ответ на прошение о помиловании и ваша миссия адвоката будет завершена.
— Пока она не завершена — я хочу… Конечно, я буду защищать, но смогу ли чем-то помочь… Понимаете, Виталий Афанасьевич, чтобы защищать, надо хотя бы понимать логику поступков подзащитного. Я, видимо, выдохся. А может, постарел…
Как и в прошлый раз, едва Семериков приоткрыл штакетную калитку, у крыльца тявкнула озорная собачонка, взъерошенная, словно второклассник, спешащий на урок после большой перемены.
На порог вышла Ольга Андреевна. Увидев адвоката, ахнула:
— Уже?! — И вмиг посерела с лица, вот так сворачивается кровь от капли густого марганца.
«Уже…» Она тягостно ждала ответа из Президиума Верховного Совета, она жила этим ожиданием.
— Нет-нет, — ответил Семериков. — Ответ на прошение о помиловании придет через неделю, не раньше.
И в тот же миг Анатолий Васильевич понял, что, невзирая на самое жестокое требование совести и сердца, не так-то легко будет ему сказать этой живущей надеждами на чудо женщине, что он, адвокат Семериков, не имеет сил для защиты ее грешного сына.
— Был в колонии, завернул по дороге.
— Изот Кондратьевич! Изот Кондратьевич! — позвала Ольга Андреевна, повернувшись к открытой двери. — Анатолий Васильевич к нам.
Скрючило во время суда непосильное бремя Изота Грабаря и уже не смог выпрямиться во весь рост почетный шахтер, кавалер четырех орденов и шести медалей, бывший солдат-артиллерист.
Подал правую руку адвокату, а левой в бедро упирается, вот так подточенный временем домишко подпирают слегой.
Они прошли в зал, стены которого были заселены фотокарточками родственников.
Ольга Андреевна суетливо хлопотала на кухне, готовя угощение, мужчины подсели к столу.
— В колонию-то по Генкиным делам ездили? — спросил отец.
Семериков кивнул.
— Нет от него покою… — выразил свое отношение к происходящему Изот Кондратьевич. — Что, еще нашлось?
Анатолий Васильевич поразился прозорливости старого шахтера: «так-таки нашлось…»
— По заказу Геннадия его дружок по заключению изготовил четырехзарядный наган. Из того нагана один матерый преступник застрелил троих…
Может быть, не стоило говорить этого отцу подзащитного? Но Изот Кондратьевич, по мысли Семерикова, заслужил право на откровенность, на доверие.
Старый шахтер окончательно завял, словно лист клена, сбитый августовским суховеем. Сидел, уронив руки на колени. Молчал: думал тяжелую думу, а может, просто от обременительной душевной усталости впал в забытье.
Прошла минута, вторая…
Привлеченная неожиданной тишиной, в комнату заглянула Ольга Андреевна. Увидев неподвижного мужа, всполошилась:
— Отец, ты что? Сердце?
Изот Кондратьевич покачал головой: «Не то». Встал, доплелся до комода, почерневшего от времени, выдвинул верхний ящик. Извлек черную коленкоровую папку. Вернулся с нею на свое место, положил на стол и прикрыл рукой.
— Младшие — они всегда любимые. Как мы с Ольгой Андреевной гадали? Старшие на крыло поднимутся и уйдут. А мы, что же, бобылями бездетными? Вот и связали надежды с младшим, мол, уж он-то при нас останется.
Изот Кондратьевич раскрыл папку. Достал газету. На сгибах она пообтерлась.
— Вот, — он пододвинул газету адвокату.
Анатолий Васильевич быстро пробежал глазами небольшую, в общем-то, известную ему заметку: «Заслуженное наказание…»
— Когда газета про Генку-то напечатала… У нас на поселке вмиг поутихли хулиганы. А то ведь уёму им не было, — как бы самому себе сказал старый горняк.
Он убрал газету в папку, завязал тесемками. Волновался. Перетянул. Лопнула одна…
Потом был обед. Но не было больше разговоров о Геннадии Грабаре.
А коль не было разговоров, то не нашлось и предлога сказать старикам, что он, адвокат Семериков, не имеет фактов, чтобы уменьшить меру наказания подзащитного.
Анатолий Васильевич для своей бунтующей совести придумал такое оправдание: «Ну хорошо, по заказу Грабаря изготовили самопал. Но стрелял-то в людей другой. И совершенно неизвестно, как попало оружие к Алтынову-Задонскому. Возможно, тот его просто отобрал у связчика…»
Но это была всего лишь оговорка и отговорка…
Словом, Семериков остался адвокатом Геннадия Грабаря.
* * *
Последняя встреча с подзащитным.
Следственный изолятор… «Тринадцатая»… Место, где содержат особо опасных преступников после вынесения судом приговора.
Адвокат хотел задать подзащитному всего один вопрос: как тот передал оружие своему связчику Алтынову-Задонскому. Семериков в общих чертах знал; Грабарь перебросил «ствол» через все системы защиты и охраны, в том числе и через высокий забор. Сделал он это, по всей вероятности, ночью в условленном месте в условленное время, где поджидал Алтынов-Задонский. Зубаренко о передаче самопала точно не знал, Грабарь его в такие дела не посвящал, но предположение высказал: «Если бы мне надо было…»
И вот теперь Анатолию Васильевичу важно было увидеть, как отреагирует Геннадий Грабарь на неожиданный вопрос, который практически перечеркивал все доводы, выдвинутые им в свое оправдание в прошении на помилование.
Семериков попросил начальника тюрьмы, чтобы тот выделил сопровождающего. Почему он это сделал? Опасался злой выходки со стороны подзащитного, которому теперь уже совершенно нечего было терять? Скорее Анатолию Васильевичу нужен был свидетель разговора.
* * *
Родила своего меньшого Ольга Андреевна и подарила ему огромный мир по имени «жизнь». Миллиарды лет все силы мироздания работали на то, чтобы побагровевшая от натуги, от страстности желания сделать первый вздох, сипловато вскрикнула кроха. Пришел на землю Человек, и дали ему имя Геннадий. Его запросто могло не быть: не каждая икринка становится рыбой, не каждая спора прорастает папоротником. Но Геннадий Грабарь все же родился, судьба отдала предпочтение именно ему, выбрав именно его из миллионов возможных, позволив именно ему вплести в тугую косу существования человечества свою ниточку.
Грабарь ссучил короткий замызганный недопрядок и пристроил его к тугой косе человеческого бытия. Ничего-то он людям после себя не оставит, ничего, кроме горечи и короткого протокола: «Приговор приведен в исполнение». Да и тот затеряется где-то в пыльных архивах. Положат его судебные служащие в папку, даже взгляда на листке не задержат, не прочитают, что в нем. А в нем — человеческая жизнь, которая могла бы быть трижды длиннее и в тысячу раз богаче.
РАССКАЗЫ
Владимир РЫБИН Севастопольцы
ПАНОРАМА
У коменданта города майора Старушкина были свои представления о нравах и обязанностях частей и подразделении гарнизона.
— Хорошо живете, — с укоризной говорил он комиссару курсов средних командиров Карявину. — Люди на передовой кровь проливают, а вы банкеты устраиваете.
— Так ведь по случаю выпуска.
— А торты? Говорят, с кремом и розовыми цветочками. Это как понять?
— Есть у нас мастерица, заведующая кают-компанией Казарян. Не поверите — сообразила все сделать из сгущенного молока, яиц и… губной помады. И надпись сверху: «Привет молодым командирам»…
— И выпивка была?
— Так ведь наркомовские, положено.
Они стояли на полого сбегающей к площади аллее Исторического бульвара и походили на встретившихся после долгой разлуки пожилых дружков.
— А елка под Новый год? Ни у кого нет, а на курсах — пожалуйста.
— Уметь надо. Из-под самого носа у немцев елку уволокли. С Лысой горы. Старшина Сухомлинов с курсантами постарался.
— Из-за елки рисковали?
— Из-за радости. Сколько у нас детишек на той елке перебывало! Я уж думал, что дети в Севастополе вовсе смеяться разучились, ан нет… — Он помолчал и добавил задумчиво: — Я, грешным делом, иногда думаю, что эти елки да банкеты воодушевляют людей не хуже успешных контратак на фронте.
— Не сравнивайте несравнимое… Парад опять же на Первое мая, — не унимался Старушкин, хотя знал, что парад проводился по приказу командующего. — Красиво, конечно, парад в осажденном Севастополе. Но ведь никто не удостоился, только курсы средних командиров.
— Так ведь мы единственная севастопольская «академия». Самим приятно, и командованию, и местным жителям тоже.
— Ага… — хитро усмехнулся Старушкин. — А как караульную службу по городу нести, так вас нету.
— У нас все по минутам расписано. Известно же — краткосрочные курсы.
— От внутренней службы никого не будем освобождать.
— А у нас послезавтра выпуск.
Комендант покачал головой, добродушно погрозил пальцем.
— Опять меня обдурили? Смотрите, я еще до вас доберусь.
И он пошел по аллее Исторического бульвара, как всегда, подтянутый. Карявин задумчиво почесал ус и, сгорбленный, пошагал в обратную сторону, поправляя на ходу сползающий ремень.
Карявин был из питерских рабочих, довелось ему и в «словесных битвах» участвовать, как они называли дискуссии семнадцатого года, и в Октябрьском перевороте. Да и долгая жизнь немалому научила. И по званию своему — батальонного комиссара — и просто по-человечески верил он в великую вдохновляющую силу праздничных торжеств, таких вроде бы неуместных среди ужасов севастопольской обороны. Ведь праздники эти устраивают для себя сами люди. А если они считают нужным таким образом оглядываться на мирное прошлое, вспоминать и сравнивать, чего лишил их враг, и наливаться ненавистью к захватчикам, готовностью умереть за Родину, так быть посему, и он, батальонный комиссар, обязан способствовать этому.
Он остановился передохнуть, посмотрел на темневший в просвете между деревьями купол Севастопольской панорамы, возле которой располагались курсы. И подумал о том, что оставшаяся в осажденном городе удивительная картина, рассказывающая о матросах, героически дравшихся здесь, на бастионах, без малого девяносто лет назад, тоже воспринимается людьми как праздник, как частица того величественного, что защищают они на своем, перерытом снарядами и бомбами, обильно политом кровью севастопольском рубеже. Бойцы приходят смотреть панораму, как в мирное время, зачарованно слушают экскурсовода и восхищаются мужеству тех давних защитников Севастополя. Восхищаются обороной, которую Энгельс назвал единственной в своем роде в военной истории. Хотя все самые легендарные подвиги того времени повторены и переповторены на высотах Балаклавы, на Мекензиевых горах, на оборонительных рубежах у Ялтинского шоссе.
Нет, не мог он, батальонный комиссар Карявин, все эти атрибуты мирных времен — праздники, парады, экскурсии — считать ненужными в осажденном Севастополе. Жизнь человека — величайшая ценность. Но лично он не поставил бы свою жизнь выше реликвий и традиций, в которых виделось ему воплощение самой души народа. И знал — любой из севастопольцев, включая того же майора Старушкина, умер бы здесь, на пороге панорамы, но не позволил уничтожить ее.
Неподалеку стоял памятник Тотлебену. Бронзовые скульптуры матросов, стоявших у подножия памятника, были изранены.
— Ничего, браток, — сказал Карявин, обращаясь к одному из них, словно к живому. — Потерпи, залечим.
Он прошел к зданию панорамы, с болью в сердце отметил новые следы осколков. С северной стороны были сбиты пилоны, зияла глубокая ниша от прямого попадания снаряда. Видно, фашисты тоже поняли, какую роль играет панорама в обороне города, и решили с нею разделаться. Снять бы бесценную картину. Но не ему решать вопрос. Да и как это сделать? Гигантское полотно высотой в четырнадцать метров и длиной в сто пятнадцать не свернешь, не уложишь. Сколько уж раз приезжали комиссии и говорили: снимать нельзя…
По дорожке, усыпанной белесо-желтой щебенкой инкерманского камня, комиссар обошел панораму, постоял у невысокого холмика — могилы курсанта Крючкова. Он был убит на посту. Осколком в грудь.
Далеко внизу поблескивал тупичок Южной бухты, за ней что-то горело, и дальше по склону, там и тут, поднимались дымы. Пожары в Севастополе давно стали привычны, они уже не останавливали на себе внимание. Огромные всхолмленные пространства лежали по ту сторону глубокой балки. От горизонта доносился непрекращающийся гул боя.
Сзади ухнул снаряд. Он ударил далеко внизу, но комиссар поспешил спуститься в ров, вырытый возле бывшей батареи Костомарова, той самой, на которой бывал когда-то Лев Толстой. На валу, прислонившись к старой корабельной пушке времен той обороны, сидел у телефона курсант Кислых. В кубриках, оборудованных в старых штольнях и пороховых погребах, как обычно, шли занятия: преподаватель топографии капитан Пучко вел свои объяснения у макета, изображающего район Мекензиевых гор.
Затем Карявин направился в штаб — небольшой закуток, отделенный от общей штольни перегородкой. Едва вошел, почувствовал знакомое подрагивание грунта — так бывает, когда вблизи рвутся снаряды и бомбы, и вслед за этим услышал частое постукивание зениток находившейся неподалеку батареи. Снова дрогнула земля, теперь уже от близких разрывов. И едва опал этот гул, как на столе зазуммерил телефон.
— Товарищ комиссар! — В трубке бился высокий взволнованный голос, и Карявин не сразу узнал курсанта Кислых. — Панорама горит!
Еще не положив трубки, только повернув голову, Карявин громко крикнул в глубину штольни:
— Боевая тревога!
И первый кинулся к выходу. Над куполом панорамы клубился рыжий дым, какой всегда бывает в начале пожара.
Толпой курсанты и командиры бежали к горящему зданию.
— Сволочи! — кричал кто-то истошным голосом.
Возле панорамы приостановились, оглядываясь на начальника. И тот поднял руку, крикнул, срываясь на фальцет:
— Построиться!
Это многим показалось странным — строиться вместо того, чтобы скорее бежать тушить. Но комиссар знал: это единственно правильное, что нужно делать. Толпой тушить — не потушишь, в таком деле больше чем в каком-либо нужна четкая организация. И, быстро распределив людей, первый кинулся в дым. Пробежал узкими коридорами и оказался на срединном помосте. Задохнулся на мгновение, вновь испытав необычное ощущение близости к великому, какое всегда охватывало его при посещении панорамы. В большую дыру в куполе лился солнечный свет, неестественно багровый, колеблющийся в дыму. Горел каркас панорамы, полотно над изображением английских редутов лизали языки пламени. Казалось, что ожила сама картина, что дым сражения отделился от полотна и пожары, нарисованные пожары, вдруг стали настоящими.
По помосту стучали сапоги: в здание панорамы вбегали курсанты с противопожарными крюками и топорами.
«Не потушить! — подумал Карявин. — Снимать надо, спасать картину».
Он кинулся к ней, толкнулся руками о туго натянутое полотно и с ужасом почувствовал свою беспомощность: снять полотно казалось совершенно невозможным. Выхватив у кого-то топор, хотел подрезать полотно, чтобы хоть как ухватиться за него, но толстый слой окаменевшей краски не поддавался. И тогда, испытывая отчаянное чувство боли и ужаса, Карявин ударил топором. И отшатнулся, услышав треск, почему-то напомнивший никогда не слышанный им хруст ломаемых костей.
Кто-то принес огнетушитель, залил занявшееся полотно. Но оно все, сверху донизу, становилось горячим, готовым вот-вот вспыхнуть. В дыму уже не видно было противоположной стены. Откуда-то сыпались искры, слышались крики, удары, треск.
Оторвав с помощью курсантов большой кусок, Карявин словно открыл дверь в топку: за полотном горели деревянные переплетения балок. Подбежали еще несколько человек и, ухватившись за выскальзывавшие края, попытались потащить полотно к выходу. Но сразу стало ясно, что, даже дотащив до дверей, они не смогут вынести его и, торопясь, задыхаясь, принялись скатывать длинный рулон.
Дневной свет показался ослепительным, а воздух обжигающим. Комиссар закашлялся. Кто-то плеснул ему в лицо холодной водой. Оглянувшись, он увидел рядом испуганное лицо Маши Казарян.
— У вас усы сгорели!
И только тут комиссар разглядел женщин с ведрами, и дымящиеся бушлаты курсантов, и цепочку людей, которые, передавая из рук в руки, несли куда-то спасенный ими кусок картины.
— Во-оздух! — послышался крик.
Кто-то упал на землю, кто-то побежал в ров, а многие кинулись к дымящемуся зданию панорамы, словно там было самое безопасное место.
Пятерка «юнкерсов» прошлась низко над головой, сбросила бомбы. Они разорвались ниже по склону, никого не задев. И снова тут же образовалась живая цепь, и поплыл по ней новый кусок полотна, вынесенный из горящего здания. Комиссар увидел бегущих на помощь зенитчиков, пожарников местной ПВО, женщин из расположенных неподалеку домов.
Панорама горит!..
Когда был вынесен последний кусок полотна и когда курсант Кислых последним выбежал из горящего здания, таща сорванные со стен портреты, среди которых комиссар успел разглядеть портрет автора панорамы Ф. Рубо, рухнула внутрь обшивка купола, взметнув сноп искр и высокий столб дыма.
Израненная, разъятая на десятки кусков, но все же спасенная картина, свернутая в отдельные рулоны и распластанная большими полотнищами, лежала на дне рва под акациями. Нарисованные матросы спокойно смотрели в небо, задымленное пожарами второй севастопольской обороны. А вокруг стояли курсанты в обгорелых бушлатах, с обожженными лицами и подпаленными волосами, смотрели на матросов, на пушки и редуты, на истерзанную взрывами землю восторженно и жалостливо, как смотрят на раненых героев, до конца выполнивших свой долг. Толпа росла, ко рву подходили все новые и новые люди, военные и гражданские, здоровые и раненые в серых перевязях бинтов, спрашивали, что можно сделать для спасения панорамы, чем помочь. И словно повторяя эпизод, написанный на полотне, с ведром воды обходила обожженных людей военфельдшер Надя Очакова.
Был вечер, солнце спадало к дымам горящего города. «Что теперь делать? — подумал комиссар. И спохватился: — Упаковывать надо. В одеяла, какие есть…»
Спасенных кусков картины было много: тридцать четыре крупных — по десять и больше метров — и пятьдесят два сравнительно мелких. Их свертывали в огромные тугие рулоны, заворачивали в одеяла, завязывали, сшивали. Сворачивали курсанты — слишком тяжелы и жестки были куски полотна, сшивали женщины, служившие при школе, — Надя Очакова, Полина Проуторова, Маша Казарян, Ирина Миронова…
Вечером из штаба пришел приказ, подписанный командующим вице-адмиралом Октябрьским и дивизионным комиссаром Кулаковым: «…К 2.00 приготовить панораму к отправке на Большую землю. Капитану третьего ранга Ерошенко принять на борт Севастопольскую панораму».
Комиссар похлопал по тюку, возле которого стоял: — Значит, правильно решили — упаковывать. Иначе бы не успели. — И подумал: надо еще бирки заготовить, написать: «Севастопольская панорама. Получатель — Академия художеств СССР. Отправитель…» И письмо в Академию художеств. И надо выделить сопровождающих…
Во втором часу ночи рулоны были погружены на машины. Никто не спал в эту ночь. Курсанты без команды выстроились вдоль дороги двумя длинными шеренгами, и когда машины тронулись, над старыми редутами, над новыми окопами покатилось долгое «Ура!»…
СТОЯТЬ ДО ПОСЛЕДНЕГО
В ночь на 10 июня 1942 года командующему сухопутными войсками Севастопольского оборонительного района генералу Ивану Ефимовичу Петрову не удалось уснуть ни на одну минуту. Вернувшись на командный пункт с передовой, куда, особенно в последнее время, он выбирался часто, Иван Ефимович встал над картой и долго стоял в задумчивости. Нет, он не искал в паутине линий, условных знаков и обозначений ответа на тревоживший всех вопрос: как ответить ударом на обрушенный немцами удар. Он даже вовсе и не смотрел на карту, поскольку помнил ее наизусть, он думал о неожиданно тяжелых боях, навязанных немцами. Но даже не вообще о боях думал он, — было первое наступление — отбили, было еще более ожесточенное второе наступление — тоже отбили. Беспокоила его небывалая массированность бомбардировок и обстрелов. Вот уже почти десять суток, начиная со 2 июня, немцы сбрасывают на севастопольские рубежи и на город по пять тысяч бомб в день и выпускают столько же снарядов.
Обстрелы и бомбежки приводят к потерям людей и разрушениям, но сами по себе они не могут решить хода сражения. Петров знал, что это лишь громовая увертюра к чему-то большому, всего скорей к третьему штурму. И не ошибся: седьмого немцы перешли в наступление. Приблизительно знал Петров и соотношение сил: у немцев в два раза больше солдат, в два раза больше пушек, в десять раз больше самолетов, в тридцать раз больше танков. При таком неравенстве трудно устоять, но Иван Ефимович упорно заставлял себя верить — можно устоять. Мужества и стойкости севастопольцам не занимать. Но было еще одно неравенство, которое с каждым днем беспокоило его все больше. Пока оно не очень сказывалось. Но командующий обязан предвидеть будущее. И в том будущем, совсем недалеком, Петров видел нечто катастрофическое. Поэтому все думы его были не на Мекензиевых горах, где с рассветом снова начнутся отчаянные бои, а в темных и пока что относительно тихих севастопольских бухтах.
— Пришел эсминец «Бдительный», — доложили ему в час ночи, — доставил пополнение, боезапас, авиамоторы, продовольствие.
— Сколько? — спросил он.
— Чего именно?
— Сколько боезапаса?
— Двести шестьдесят пять тонн.
Он кивнул и остался стоять, думая о том, что снова надо будет собрать подробные сведения о наличии боеприпасов. Недавно ему докладывали, что не испытывают перебоев со снарядами только сорокапятки, а полковые пушки, гаубицы и вся дивизионная артиллерия сидят на голодном пайке. По полтора боекомплекта на орудие — это же слезы. Еще неделя таких боев, какие навязывают немцы, и пушкам нечем будет стрелять.
— Вы бы поспали, товарищ генерал, — жалостливо сказал ему адъютант.
— Да-да, — машинально ответил он. Снял пенсне, протер, неторопливо надел, постоял, задумавшись, и стал выбираться к выходу из КП. Ночь гудела поредевшими, но все же непрекратившимися орудийными раскатами передовой. Звезды казались особенно крупными, и мерцали они необычно, словно это были раздутые за день угли, которые теперь кто-то усиленно ворошил невидимой кочергой.
— Поспите, товарищ генерал. Днем-то не удастся.
— Мне и сейчас не удастся…
Около трех часов ночи ему доложили, что к Сухарной балке пришвартовался теплоход «Абхазия». А потом об эсминце «Свободном».
— Сколько боеприпасов?
— Триста шестьдесят одна тонна.
Петров кивнул, ничего не ответив, и было непонятно, удовлетворен он этой цифрой или недоволен. Он думал о том, что вчера и позавчера приходило только по одной подводной лодке, а сегодня корабли пришли поздно, и, стало быть, им придется остаться в бухте на весь день. А что это будет за день?.. Поползли несусветные мысли о том, что вот если бы совсем не было дня, а только ночь. Он понял, что бессонница даром не проходит, потер лоб и стал прикидывать, как бы так сделать, чтобы прикрыть сверху пришвартовавшиеся корабли. Прикрыть можно было только дымзавесой. Но ведь немцы тоже не дураки, раз дымзавеса — значит под ней что-то есть…
Маленький катер крутился по бухте, стараясь поймать ветер. Дым, разноцветный в лучах зари, вырывался мощными клубами и растекался, застилая все непроглядной пеленой. Дым стлался и над берегом, вырываясь из кузовов специально подогнанных машин такими плотными столбами, словно это были не кузова, а подвижные жерла оживших вулканов.
Там, где была «Абхазия», стоял многоголосый гул от криков и команд. Кашляя и ругаясь, бойцы сбегали по трапам на берег, суетливо строились в стороне. Сновали над бортом, призрачные в дыму, грузовые стрелы, подвешенные ящики. Их тотчас оттаскивали, грузили в автомашины, которые тут же и срывались с места, уезжали к передовой. Шоферы знали: только и пути — до восхода солнца, пока не повисли над головой фашистские самолеты.
Первая тройка «юнкерсов» появилась в посветлевшем небе, когда под холмами Севастополя еще лежали ночные тени. Самолеты прошли над дымами, наугад сбросили бомбы и исчезли за холмами.
— Давай раненых! — закричали с мостика «Абхазии».
Штольни были тут же, из них потянулась вереница носилок, словно санитары давно уже стояли наготове у выходов. Раненые извивались, заходились в кашле, ругали немцев, кто как мог, — шепотом и выкрикивая в голос. Сходни качались, но по ним все шли и шли люди, гуда, на теплоход. Торопились: грузов много, раненых много, а времени очень мало. И только один человек, тот, что был на мостике «Абхазии», стоял неподвижно, с беспокойством вглядываясь в светлеющую с каждой минутой пелену дыма. Он лучше многих других знал, что погрузка и разгрузка — это лишь одна и не самая главная половина дела. Выходить в море до темноты было бессмысленно, это все равно что выйти на расстрел. А день такой длинный — не меньше пятнадцати часов. А в каждом часе по шестьдесят минут…
Над дымом послышалось прерывистое гудение «хейнкелей». Бомбы с треском разорвались на причалах, на склонах горы, взметнули белые столбы воды в бухте, оттолкнув суетившийся под бортом «Абхазии» швартовый катер, увешанный кранцами.
И снова ушли самолеты, снова наступила тишина. Но вскоре в воздухе послышался характерный шелест снарядов, и взрывы стеной встали посередине бухты: немцы тачали обстрел из тяжелых орудий. И снова в небе загудели самолеты. По ним дружно ударили береговые зенитки, зачастили пулеметы. Самолеты не задерживались, сбросив бомбы с горизонтального полета, наугад, они исчезали за слоями клубящегося дыма.
А катерок, постановщик дымзавесы, все суетился, то проносясь под берегом, то выскакивая чуть ли не на середину бухты, ловил просветы, стараясь прикрыть их новыми дымами. Водяные смерчи вставали вокруг, но они словно бы никак не беспокоили его.
Самолеты шли волна за волной, бомбы падали то далеко, то близко, то совсем под бортами «Абхазии» и «Свободного». Бомбы, сброшенные наугад, те, каких севастопольцы умели не бояться, теперь представляли страшную опасность. Потому что их было много. Десять взорвутся в стороне, сто. А сто первая?..
— Неси назад! — закричал человек с мостика. — Раненых назад, в штольню!
Вереницы людей заскользили по сходням в обратном направлении: вверх — с пустыми носилками, вниз — с ранеными. Многие шли сами, опираясь на плечи санитаров, набежавших откуда-то бойцов, матросов «Абхазии».
Серия разрывов оглушающе рванула причал. Сквозь грохот прорвался душераздирающий скрежет металла. «Абхазия» вздрогнула, словно живая, завибрировала, начала крениться. Беззвучно лопнули толстые швартовые канаты, соскользнули с борта мостки. Вот уже весь правый борт теплохода ушел под воду, и над плавающими в маслянистой воде людьми, ящиками, обломками, над швартовыми катерами, бесстрашно снующими рядом, нависли надстройки и мачты. Высоко взметнувшееся пламя горящего судна рассеяло дымовую завесу. Теплоход кренился, а кормовые пулеметы умирающего судна все били и били в небо, торопясь хоть на последней минуте достать врага.
Вереница самолетов заскользила к другой стороне бухты, где под дымовой завесой стоял эсминец «Свободный». Здесь зенитный огонь был плотнее. Один «хейнкель» взорвался в воздухе, другой, клюнув тупым носом, нырнул в бухту. Остальные ушли. Но тотчас появились другие. Как горох из пригоршней, они высыпали в дым бомбы и тоже исчезли за холмами. Высыпали точно: стена белопенных смерчей окружила корабль. Эсминец поднял якорь и, прикрываясь дымзавесой, перешел к Павловскому мысу.
Наступила тишина. По бухте сновали катера, подбирали плавающих в воде людей. Грохотал фронт. В городе ухали разрывы тяжелых снарядов и стлался над домами густой черный дым. Пыль и дым затянули и всю северную сторону.
Снова из-за холмов вынырнули самолеты. Пятнадцать «юнкерсов» направлялись точно в то место, где под прикрытием поредевшей от поднявшегося ветра дымовой завесы стоял «Свободный». Снова грохот бомб и зениток оглушил бухту. Корабль отстреливался из всех орудий. Один самолет так и не вышел из пике, врезался в воду неподалеку от эсминца. Но другие все заходили на корабль, опрокидывались через крыло, сбрасывали бомбы.
И вдруг невероятный грохот перекрыл все: бомба угодила в торпедные аппараты. Огромный столб огня и дыма закрыл развороченную палубу. Не обращая внимания на преследующие их самолеты, несколько катеров через всю бухту помчались к «Свободному». Но спасать было некого: вокруг охваченного пламенем быстро оседающего в воду корабля растекался горящий мазут. Самолеты сделали круг над бухтой, прошли над Минной пристанью, оставив на причалах торжествующий фейерверк — вереницу запылавших повсюду зажигательных бомб…
— Та-ак! — сказал генерал Петров, когда ему доложили итоги дня. — Можно делать выводы.
Но никаких своих особых соображений он не высказал, встал, молча прошелся вдоль разостланной на столе карты.
Наверное, это был самый тяжелый день из всех, что пережил Севастополь. С утра на третий и четвертый секторы обороны немцы бросили больше ста танков. Двадцать пять из них остались на поле боя. Пост Мекензиевы горы три раза переходил из рук в руки и все же был оставлен. Как и в предыдущие дни, немцы не жалели бомб и снарядов, израсходовали не меньше одиннадцати тысяч. Число убитых и раненых наших бойцов и командиров за день перевалило за две с половиной тысячи… Тяжелые итоги.
Но тяжелей всего воспринималась потеря «Абхазии» и «Свободного». Это не просто гибель двух кораблей, это могло означать прекращение регулярного снабжения Севастополя подкреплениями, боеприпасами, продовольствием. Коротки летние ночи, ни одно транспортное судно не сможет успеть в темные часы незаметно достичь берега, войти в бухту, разгрузиться, взять раненых и уйти на безопасное расстояние. Транспортному судну нужно оставаться на день в бухте. А господствующая в воздухе немецкая авиация не позволит дождаться следующей ночи. Теперь немцы, как никогда прежде, знают, что можно перерезать зыбкую ниточку, связывающую осажденный Севастополь с Большой землей, теперь враги воодушевлены.
Конечно, Родина не оставит в беде. По-прежнему будут приходить транспорты. И будут гибнуть. И рано или поздно последний красноармеец скажет себе: уж лучше бы они вовсе не приходили.
Что же останется? Подводные лодки? Да, только подводные лодки. Но много ли их, лодок, на всем Черном море? Много ли доставят боеприпасов?!
Генерал Петров походил вдоль стола, устланного картой, резко остановился.
— Однако хватит считать потери. Не для того насмерть встал Севастополь, чтобы думать о своем спасении. Немцы за этот день потеряли в три раза больше людей. И значит, мы этот день выиграли. Севастополь удерживает возле себя огромную армию, которая по планам весеннего наступления Гитлера уже давно должна была маршировать по полям России. Вот в чем победа Севастополя!
Есть такой маневр в военном деле — отвлекающий удар. Когда подразделения, части и даже целые армии переходят в наступление на второстепенном направлении. Они принимают удар на себя, чтобы помочь победе на другом участке фронта. Но если есть отвлекающий удар, то почему не быть отвлекающей обороне? Севастополь выстоял целый день и, значит, победил. Задача в том, чтобы выстоять как можно дольше. И умереть, сражаясь, удерживая врага, истощая его. Значит, чем сильней противник, тем лучше?!
Ничего нового для себя не придумал генерал Петров, все это он знал и раньше. Но раньше, когда жила надежда выстоять до конца, не было мыслей о смерти. Теперь он знал: выстоять до конца не удастся. Значит, надо стоять до последнего. И этим выполнить задачу, которую поставили перед Севастополем не только Ставка, не только партия и правительство, эту задачу поставил сам народ. Погибнуть для того, чтобы жила страна…
На Мекензиевых горах, на высотах Балаклавы начинался новый день. День обороны, которую не с чем сравнить во всей предыдущей военной истории.
МИРАЖИ
На двенадцатый день Павел Иванович по-настоящему испугался. Раньше думал — пуганый, дальше того света попадать некуда. Да и столько насмотрелся и натерпелся за 250 дней обороны Севастополя, что вроде и не было такого пугала, которого можно было бы испугаться. А тут не ночью во сне, днем, словно исчезло вдруг море, и увидел он перед собой водокачку в Инкермане, тяжелую струю прозрачной, только что прохлорированной воды. И потянулся к ней ладонями, сложенными ковшиком. И вдруг услышал строгий голос:
— Военврач третьего ранга товарищ Ересько!
Оглянулся, увидел командира своей бригады морской пехоты полковника Горпищенко, нехотя распрямился.
— Пробу надо снять, товарищ полковник.
— А без пробы пить нельзя?
— Можно, но…
— Вот и пейте.
Павел Иванович нетерпеливо повернулся к воде, но ее уже не было, а чернел перед ним Херсонесский маяк на фоне белого раскаленного неба. Под ним, в глубокой воронке, вывороченной бомбой, поблескивало коричневое зеркальце небольшой лужи. Он опустил туда флягу, терпеливо дождался, когда перестанет булькать у горлышка, завинтил крышку и уж наклонился, потянулся губами к этой луже. Но тут скользнула перед ним тень фашистского пикировщика, с сухим треском рванули перед глазами разрывные пули, ударило в лицо горячей пылью. Он отшатнулся, скатился с обрыва к морю. Там, по колено в воде, стоял худой и черный пехотинец, проволокой привязывал колесо к оторванному борту от автомашины. Сначала Павел Иванович подумал — сумасшедший, но, присмотревшись, понял: деревянный борт да колесо, которое тоже не тонет, вместе могут составить хоть какой-никакой плот. А на плоту не то что вплавь, можно долго продержаться, дождаться, когда наши катера подберут. И побежал к солдату прямо по воде. Брызги падали на лицо, приятно смачивали горячие растрескавшиеся губы…
Павел Иванович очнулся, снова увидел пустое море и белое, нестерпимо горячее солнце над головой. Трое его товарищей по несчастью неподвижно лежали на дне шлюпки. Плащ-палатка, приспособленная вместо паруса, висела складками, и казалось, что это стоит часовой, иссушенный солнцем и голодом, осматривает зеркально гладкую штилевую поверхность моря.
Они покинули Севастополь одними из последних — на рассвете 3 июля 1942 года. Плот так и недоделали, увидели за камнями двоих красноармейцев, откачивавших воду из шлюпки, и присоединились к ним. Считали в тот миг, что им повезло: шлюпка почти корабль. Гребли изо всех сил, стараясь отойти подальше от занятого врагами берега. Когда засветилось небо над херсонесскими обрывами, увидели силуэты вражеских танков, услышали разрозненную перестрелку: кто-то, не успевший уйти в море, шел в последнюю отчаянную контратаку.
И тут они заметили, что шлюпку сносит на северо-восток — к городу. Разглядели в волнах буек, подгребли к нему, уцепились и замерли, пережидая время. Отдохнув немного, снова взялись за весла, по их догнала с берега пулеметная очередь. Пули вспенили волны у самого борта. Затем неподалеку начали рваться снаряды. Столб воды едва не перевернул шлюпку. Один из четверых, раненный, упал на скамью.
— Ничего, ребята, доктор с вами, — сказал Павел Иванович.
Перевязав раненого, он взялся за доски, заменявшие весла.
Втроем они гребли целый день, стараясь отойти подальше. Когда снова потемнело над морем, подытожили свое положение: на четверых нашлось три банки рыбных консервов да единственная фляга с водой, которую Ересько набрал в луже у Херсонесского маяка. С такими припасами нечего было и думать дойти до Кавказских берегов. Решили высадиться где-нибудь за Балаклавой и пробраться в горы к партизанам.
К тому времени переменившийся ветер вынес шлюпку за Херсонесский мыс, и они принялись грести к берегу. С рассветом увидели на севере гористую кромку, но была она так далека, что ничего не оставалось, как, не подавая признаков жизни, чтобы не привлечь внимания летавших над морем вражеских самолетов, дожидаться следующей ночи.
Но, обессиленным, им не хватило и другой ночи. А потом совсем пропала из виду темная черточка берега, и спасшимся от неминуемого плена пришлось уповать только на случай: авось заметят с какого-нибудь катера, которые, как они знали, подходили ночами к севастопольским берегам, подбирали таких, как они, севастопольцев.
Закрепив вертикально доску и пристроив плащ-палатку вместо паруса, они попытались использовать попутный ветер. Но и ветер обманул. Разгладилось море до самого горизонта, принялось разукрашиваться лунными бликами, многоцветьем утренних и вечерних зорь, солнечным сиянием. Помнил Павел Иванович, как он радовался такому морю в бесконечно далекую довоенную пору, когда по выходным окунался в веселое столпотворение пляжей, и не мог понять, чему тогда радовался, И еще никак он не мог постичь этой ужасающей пустоты и тишины после месяцев непрерывного грохота боев, после кровавой толкотни медсанслужбы. Оказывалось, что это близко — от грохота до тишины. Как от жизни до смерти…
— Теперь нам надо лежать и не двигаться, — на правах старшего наставлял Павел Иванович свою небольшую команду. — Когда будет невмоготу, можно омыть лицо морской водой, прополоскать горло. Но лучше не пить: проглотишь раз, потом не удержишься.
Взрезанные ножами консервные банки давно уже, отмытые добела, лежали на дне шлюпки: ими черпали забортную воду. Павел Иванович копался в своей обессилевшей памяти, пытаясь вспомнить различные поучительные случаи, когда люди после кораблекрушения вынуждены были подолгу мучиться наедине с морем. Вспоминалось все больше трагичное, и он сердился на авторов, описывавших те случаи. Когда сидишь на берегу, может, естественно думать о трагичном. Но теперь, оказавшись в положении потерпевшего кораблекрушение, он хотел бы вспоминать не о том, как погибали, а как спасались.
— Человек без пищи может жить очень долго, — набравшись сил, рассказывал он красноармейцам. — Известен случай, когда человек ничего не ел сорок три дня.
— И ничего не пил? — спросили его.
Павел Иванович промолчал. Он знал: без воды долго не прожить. И все больше склонялся к мысли, что надо хотя бы понемногу пить морскую воду. А может, потому и склонялся к этой мысли, что видел: бойцы не только полощут горло, а и глотают. И он тоже зачерпнул банкой забортной воды, стал пить. Полежал, прислушиваясь к себе, и понял, что в этом если не спасение, то, во всяком случае, продление жизни.
Однажды они услышали гул самолета.
— Не двигаться! — приказал Ересько. — Вдруг не наш.
— А вдруг наш? — сказал раненый шепотом. И приподнялся, принялся махать полотенцем.
Самолет развернулся, и вдруг в застоявшейся тишине штиля прогремела пулеметная очередь. Всплески проскочили вдоль борта, не задев шлюпки.
— У, гад! — прохрипел раненый.
Выстрелы и этот знакомый по медсанбату хрип вернули память к севастопольским берегам, на которых была жизнь, борьба. Там было опасно, но не опаснее, чем теперь в голодном одиночестве, страшно, но не страшнее этого поединка с убивающей пустотой.
Когда самолет прошелся над шлюпкой еще раз и снова под бортом заплясали фонтанчики от пулеметных очередей, Павлу Ивановичу захотелось, чтобы он сбросил бомбу. После взрыва всплыла бы кверху брюхом хоть одна рыбина. Но летчик пожалел бомбу на обреченных людей, скрылся за белой тучей, и снова могильная тишина обволокла море…
Шли дни, иссякали силы, но страха Павел Иванович еще не испытывал ни разу. Испугался лишь на двенадцатый день, когда понял, что не во сне увидел тугую струю хлорированной воды у Инкерманской водокачки. Это не было просто воспоминанием. Это была галлюцинация, означавшая близость конца.
После этого он потерял счет дням. Как-то, очнувшись на рассвете, увидел раненого бойца мертвым. За неимением традиционного колосника, привязал к его ногам винтовку с разбитым затвором и с помощью товарищей, по флотскому обычаю, похоронил в море.
Через несколько дней так же без слов, без жалоб затих другой боец. Смутным сознанием Ересько еще смог отметить про себя, что севастопольцы в любой обстановке остаются севастопольцами — умирают молча. Остались они вдвоем в шлюпке. Дни и ночи лежали неподвижно, ни о чем не думая, не разговаривая. Только однажды, вспомнив о своем долге военврача, Павел Иванович сказал несколько утешительных слов:
— Главное — верить, — медленно выдавливал он слова. — Люди голодали побольше нашего и оставались живы. По-моему, до берега уже недалеко.
— Если бы знать, — после долгого молчания так же тихо произнес боец. И даже приподнялся, посмотрел через борт на пустое море. И добавил отрешенно: — Никого. Словно война кончилась.
Это были его последние слова. В тот же день по опустевшим раскрытым глазам, по шевелящимся губам Ересько понял: последний его спутник уже во власти галлюцинаций.
Казалось бы, все равно, как умирать — одному или вдвоем. Но, оставшись в одиночестве, Павел Иванович понял — не все равно. Теперь он точно знал: и его время сочтено.
На другой день, когда только порозовели от восхода пологие волны, Павел Иванович увидел катер. Он приближался быстро, словно и не касаясь воды. На палубе стоял сам полковник Горпищенко, держа в руках миску, полную флотских макарон с мясом и огромную стеклянную банку компота. Приблизившись, Горпищенко наклонился, поставил еду на нос шлюпки, и катер тотчас же отвалил, скрылся в розовой морской дали.
Павел Иванович прополз к носу, ощупал сухие доски. Не хотелось верить, что это лишь видение, так ясно ощущал он дразнящий запах макарон.
Целый день мучило его воспоминание об этом запахе. Даже морская вода, которую он пил уже без расчета, пахла макаронами.
А ночью шлюпку качнуло особенно резко. Павел Иванович приподнялся над бортом, увидел каменистый обрыв, залитый лунным светом. На обрыве стоял красивый особняк — морской госпиталь. Павел Иванович помахал рукой, крикнул что-то хриплым голосом. Его услышали. Люди в белых халатах сбежали к морю, вытащили его из шлюпки, понесли по крутой земляной лестнице.
— Трое умерли, а я вот выжил, — говорил он радостно.
— Кто эти трое? — спросили его.
— Одного звали Валерием, другого Сергеем, а третьего, как меня, Павлом.
— А фамилии?
Фамилии? Фамилий друг друга они не знали, не спрашивали.
— Потерпи, — сказала ему миловидная медсестра. — Сейчас мы тебя накормим, напоим чаем.
Санитары положили его на землю на кромке обрыва, откуда хорошо было видно море, залитое лунным светом, и белевший за деревьями особняк госпиталя. Прошел час, другой, никто к нему не подходил. Стал звать — никто не отозвался. И тогда он понял, что о нем забыли, что санитары и миловидная медсестра спят теперь спокойным сном сытых, здоровых людей. Очень он обиделся на их бессердечие, спустился с обрыва, сел в свою шлюпку, оттолкнулся от камней и уснул с надеждой, что к рассвету волны вынесут его в другое место, к более чутким людям.
Когда проснулся, увидел вокруг все то же пустое море. И очень пожалел, что не остался на берегу. Он нисколько не сомневался, что все было наяву. И, только обдумав, пришел к заключению — опять галлюцинация. Иначе бы его ни за что не пустили обратно в море. Иначе так быстро он не потерял бы берег из виду.
И новая тоска нахлынула на него. Захотелось теперь же перевалиться через борт и разом прекратить мучения. И он собрался сделать это, по тут увидел идущего прямо по воде полковника Горпищенко, перевязанного, с автоматом на груди, и устыдился своего намерения: война еще не кончилась, враги еще топчут родную землю, и надо, пересилив все, добраться до берега, вернуться в строй.
А потом появились чайки. Крикливые, они проносились низко, рождая бешеную надежду, что хоть одна сядет на шлюпку. Павел Иванович лежал на спине и ждал. Думал: опять галлюцинации, но ждал. Вспомнил, что чайки — верный признак близости берега, приподнялся, посмотрел через борт, увидел на горизонте туманную дымку. Он снова лег на дно и стал смотреть на чаек, боясь выглянуть из-за борта еще раз. Все же выглянул. Туманная дымка исчезла, горизонт снова был пуст и далек.
Прошла еще одна ночь. На шлюпках и просто так, шлепая по воде, приходили к нему друзья и знакомые, приносили еду. Очнувшись утром, Павел Иванович опять увидел на горизонте берег. Теперь ясно различались темная гора и белый, высвеченный солнцем обрыв. Смотрел, не отрываясь, боялся поверить, что это точно берег, а не очередное видение.
Ночью ему снова привиделся корабль, скользивший по лунной дорожке, делавший круг за кругом. Увидел и шлюпку, отвалившую от корабля. Павла Ивановича подняли, понесли куда-то, легкого передавали из рук в руки. В кубрике, куда его положили, остро пахло съестным. Он принюхивался и не мог определить, чем это пахнет. А потом увидел стакан чаю с не растворившимся до конца сахаром на дне. Кто-то поднес его к губам, Павел Иванович мелкими частыми глотками выпил чай, откинулся головой на подушку и закрыл глаза. Боялся, что и это видение исчезнет, что, открыв глаза, снова увидит вокруг одно только море и море. Но чай, он это чувствовал, был уже в нем, приятно грел изнутри, придавал сил.
— Откуда, браток? — спросили его.
— Из Севастополя.
— Из плена, что ли, бежал?
Вокруг зашумели:
— Что он со знаками различия в плену-то был?
Павел Иванович помотал головой:
— Не-ет, я из Севастополя.
— Один?
— Нас четверо было.
— Где же остальные?
— Умерли они… Не моряки, не выдержали… Валерий, Сергей, Павел…
— А фамилии? Может, знакомый кто?
— Не знаю фамилий…
Ему вдруг вспомнилось, что уже отвечал однажды точно на такие вопросы. А наутро вновь увидел вокруг одно только море. И открыл глаза, принялся трогать койку, робы стоявших рядом матросов.
— Братцы, вы на самом деле?.. Или это мне опять… кажется?
— Мы-то на самом деле, а тебя не поймем. Давно, что ли, в море?
— Не знаю.
— Как это не знаешь? Откуда отплыл, когда?
— Из Севастополя…
Он схватил другой стакан чаю, протянутый ему, захлебываясь, выпил и снова закрыл глаза. И вдруг приподнялся.
— А что сегодня? Какое число?
— Девятое августа.
— Августа? А мы отплыли… третьего июля.
Снова откинувшись на подушку, Павел Иванович принялся считать, сколько дней прошло с того дня, и никак не мог сосчитать.
Кто-то недоверчиво присвистнул:
— Тридцать шесть суток?! Давно без еды-то?
— Тридцать шесть суток? — переспросил он. — А еды у нас вовсе не было… Ни еды, ни воды… Знаете, как из Севастополя пришлось уходить?
— А у нас Генка из Севастополя. Он рассказывал.
Откуда-то из глубины кубрика приблизился к нему небольшого роста матрос, присел на койку.
— Шлюпку достали? Это вам еще повезло. А я просто так поплыл. Думал: лучше потонуть, чем плен. Катера ночью подобрали.
Павел Иванович смотрел на матроса Генку, в чистой робе, веселого, совсем не исхудавшего, и не верил, что он тоже из Севастополя.
— Как же ты, браток, выжил-то? — жалостливо спросил матрос.
— Не знаю, — устало ответил Павел Иванович. — Наверное, надо было, вот и выжил…
ШТУРМ
— Повезло тебе, Ваня, ой повезло! Сколько раз со смертью за руку здоровался, а вот жив остался. И снова у тебя пулемет, о котором мечтал целых два года. И не где-нибудь ты, а под Севастополем. Уходил отсюда побитым, а возвращаешься победителем…
Человек сидел за камнем, улыбаясь, гладил неновое, местами вытертое до белизны, черное тело дегтяревского пулемета и разговаривал сам с собой.
— Ты что его, как невесту, гладишь? — послышался из кустов чей-то голос.
— Оружие любит ласку, — ответил он старой солдатской поговоркой. И добавил сердито: — А ты помытарься с мое… без оружия-то…
Согнувшись, подбежал командир взвода.
— Ну как, Иван, готов?
— Так точно!
— Смотри, не подкачай.
— Я как все.
Взводный высунулся из-за камня, оглядел вздрагивающую, шевелящуюся в черных разрывах, словно бы выросшую гору. Дымную шапку прорезали огненные молнии, и казалось, что это не просто гора перед ними, а настоящий вулкан. Камень дрожал мелкой дрожью, тяжелый пульсирующий гул закладывал уши.
— Ничего себе горушка! — сказал Иван. — На нее в мирный день забраться — дух вон, а тут под огнем…
— Под огнем! — как эхо, отозвался взводный. — Сапун-гора называется. Запомни: Сапун-гора.
Он побежал дальше по цепи, а Иван снова поудобней уселся за камнем. Он знал: артподготовка не на пять минут, можно наотдыхаться.
Война не баловала его разнообразием впечатлений. Почти три года войне, а он все в Крыму. Крутился вокруг Симферополя, играл в жмурки со смертью.
Впервые взял в руки винтовку восемнадцатилетним, когда в сорок первом немцы подходили к Перекопу. В ту осень кинули их, молодых и необстрелянных, останавливать немцев. Недолго пришлось держать оборону, поступил приказ отходить на Севастополь. Но они не пробились и ушли в горы. Нападали на отставшие немецкие повозки и автомашины и все надеялись пробиться-таки к Севастополю, о котором уже тогда, осенью сорок первого, каждый встречный говорил с особым уважением.
Не пришлось пробиться. Заметил их в лесу какой-то предатель привел немцев. И случилось так: вечером уснули они бойцами, проснулись военнопленными.
Двенадцать дней просидел Иван в лагере и бежал. Его выдал местный, которому он по неопытности доверился. Затем был какой-то страшный этап. Гнали их немцы в неизвестном направлении, расстреливали по дороге больных, раненых, просто хромавших. С этапа ему снова удалось бежать. И снова неудачно.
Сколько было этих побегов? Иван отставил пулемет, принялся считать, загибая пальцы. И задумался: почему выжил? И решил, что просто повезло. Бывает на войне слепое везение, вот оно ему и досталось.
В середине апреля сорок четвертого года, в тот самый день, как увидел первого советского солдата, непривычного, с погонами, Иван пошел проситься, чтобы снова взяли в армию.
«Три недели прошло? — изумился он. — Всего три недели?!» Ему казалось, что уже давным-давно воюет, что кошмары частых побегов, плена, поминутного ожидания смерти были в невозможном далеке. На фронте смерть тоже ходит рядом, но это совсем другая смерть, которой он почему-то не страшился…
Сапун-гора все дымилась, хищно рокотала сплошными разрывами. Солнце застилала серая пелена, и в ней стремительными птицами проносились стайки самолетов, ныряли в дымное марево.
— …После быстрого броска за гранатою врываться прямо в логово врага… — послышался из-под соседнего куста громкий монотонный голос.
Это была популярная в части «Песня о гранате». Сначала ему подумалось, что сосед за кустом просто рехнулся, принявшись читать стихи в такую минуту. Но понял: каждый, как умеет, коротает время перед атакой. Один воспоминаниями, другой стихами.
— …И не зря, врага штурмуя, точно в уличном бою, ты пускаешь в ход ручную артиллерию свою. За ее нежданным громом, под немецкий вой и крик, по траншейным по изломам смело ходит русский штык…
Иван вспомнил о своих гранатах, похлопал себя по карманам, посчитал. Гранат было четыре. Маловато, да где теперь их достанешь? С минуты на минуту затихнет «гром небесный», и придется, как есть, взбираться на эту горушку.
Он подумал, что зря старшина поотбирал все имущество. Сказал: чтоб легче было взбираться. Может, и так, только своя-то ноша не тянет. В вещмешок он бы уж наложил гранат, не то что в карманы.
Грохот разрывов внезапно оборвался. Иван подобрался весь, готовый вскочить и бежать через голое поле к склону, круто уходящему вверх. Но вместо команды «вперед» застучали по кустам немецкие мины, и кто-то, раненный, закричал надрывно. Вершина горы светлела, начала проглядываться. И тут снова загудело небо, и новый, еще более мощный шквал обрушился на немецкие позиции. Теперь он был другим, словно бы утюжил гору, то перекатываясь куда-то в глубину, то снова вгрызаясь в самую кромку.
Снизу казалось, что наверху уж ничего и не осталось, ни живого, ни мертвого, только пыль да прах. Думалось, что наши генералы просто хотят избавиться от положенного количества снарядов и бомб, бьют и бьют, чтоб все было наверняка…
Генералы и в самом деле хотели, чтоб наверняка. Только они знали побольше рядовых солдат. Знали, что эти естественные рубежи немцы укрепили так, что сами уверовали в их неприступность. Знали они и о категорическом приказе Гитлера ни в коем случае не сдавать Севастополь. Гитлер говорил, что конечной целью удержания Севастополя является не выигрыш времени, а сковывание на продолжительное время крупных сил советских войск и нанесение им возможно больших потерь. Видно, фюреру не давала покоя память о героической обороне, когда у стен города надолго были скованы огромные немецкие силы, и из-за этого оказалось сорванным задуманное весеннее наступление сорок второго года. Упорство Севастополя заставило отодвинуть сроки наступления на Сталинград и Кавказ на вторую половину лета. И оно затянулось до зимы.
Командующий немецкой армией генерал-полковник Альмендингер отдал войскам жесткий приказ: «Именем фюрера я требую, чтобы все оборонялись в полном смысле этого слова, чтобы никто не отходил, удерживал бы каждую траншею, каждый окоп, каждую воронку… Напоминаю, что мой приказ расстрела на месте тех, кто оставил свои позиции, сохраняет полную силу».
«Я получил приказ защищать каждую пядь Севастопольского плацдарма, — писал Альмендингер в воззвании к войскам. — Его значение вы понимаете. Ни одно имя в России не произносится с бо́льшим благоговением, чем Севастополь…» Тут он был прав, немецкий командующий отдавал себе отчет, что драться за освобождение Севастополя советские войска будут с небывалой решимостью, с невиданным героизмом…
Снова затихла канонада. И тогда над изготовившейся к броску пехотой, бесшумные после грохота артподготовки, вскинулись высокие дуги красных ракет.
Первое, что испытал Иван, карабкаясь по зеленеющему склону подножия горы, — это недоумение: кто еще может стрелять сверху после такой артподготовки? Но стреляли, казалось, со всех сторон, пули, рикошетируя, выли над головой, стучали о камни с таким звуком и так часто, словно их главной задачей было передробить камни все до единого. Кто-то обгонял его, кого-то обгонял он, одни падали и вскакивали, бежали дальше и выше, другие падали и уже больше не вставали. Но кто это был, он не замечал, словно все стали вдруг одинаковыми — своими и только. Иногда он падал за камни, втыкал сошники и бил короткими очередями, иногда стрелял, не втыкая сошников, с ходу, куда-то вверх, где был враг. И мучился оттого, что не видел ни единой цели. Это невидимое, скрытое за гребнем пугало, как всякая неизвестность.
И вдруг он увидел то, что все время искал глазами, — частые всплески пламени в тени большого камня. Обрадовался какой-то незнакомой злобной радостью, сильно ударил сошниками пулемета о землю, прицелился. Пули хлестнули воздух у самого уха, и он понял, что немецкие пулеметчики тоже заметили его и теперь ведут огонь по нему, только по нему. Это не испугало, скорее обрадовало: если стреляют по нему, значит, не стреляют по другим, значит, другие успеют пробежать еще несколько метров. Он понимал, что надо успеть раньше, но сдерживал себя, целился старательно, как на стрельбище. И с бешеной радостью увидел, что попал. Немец привстал резко и повалился куда-то вбок, опрокидывая пулемет. И тогда Иван бросился вперед, за своими.
В какой-то миг он с удивлением заметил, что солдат, бегущий в стороне, тащит большую палку. Решил, что, наверное, так надо при штурме горы, что он чего-то не усвоил при тренировках. Но тут же и забыл о палке, потому что почувствовал вдруг сильный удар, едва не выбивший у него из рук пулемет, кинулся в ближайшую воронку, в последний миг почувствовал хлесткий удар над головой, сбивший пилотку. И упал на кого-то, изогнувшегося, застонавшего.
— Ранен? — крикнул он, не видя лица солдата, а только кровь, сочившуюся из-под пальцев, прижатых к груди под горлом.
Раненый кивнул и закашлялся. Иван подполз к краю воронки, чтобы высмотреть, куда перебегать дальше, но вдруг увидел, что ствольная коробка его пулемета погнута. Подергал заклиненную пулей рукоятку и впервые за эти минуты атаки испугался: что он будет делать без пулемета? И потянулся за автоматом, лежавшим рядом с раненым. Но тот свободной рукой ловко ухватил его, не дал.
— Дура голова! — заорал на него Иван. — Тебе тут санитаров дожидаться, а мне вперед надо. Мне оружие надо!
Раненый упрямо мотал головой.
— Я тебе пулемет оставлю. Вот…
— А если немцы? — прохрипел раненый.
— Дура! Какие немцы! Мы ж вперед пошли!
Он дернул автомат на себя, не спрашивая, снял с раненого сумку с диском. И снова пополз к краю воронки. И почувствовал, что его дергают за ногу.
— Ты чего?
— А-а! — сказал раненый, протягивая ему пилотку.
— Спасибо!
Он выпрыгнул из воронки и тут снова увидел впереди солдата с палкой. И понял, что это вовсе не палка, а флаг с навернутым на древко полотнищем. Что-то радостное полоснуло по горлу: если флаг впереди, значит, там уже наши, отвоеванные, камни, и там вроде как бы даже безопасней. Он кинулся к солдату с флагом. Очередь взбила пыль у него под ногами, он перепрыгнул через эту пыль, словно через препятствие на учебно-штурмовой полосе. Когда снова поднял глаза, то увидел, что солдат с флагом стоит на месте и наклоняется, словно ищет что-то потерянное. Подбежал к нему, упал рядом. Заметил погон старшего сержанта с полуоторванной лычкой.
— Водрузи… знамя! — сказал старший сержант.
— Где?
— Там… наверху!
Иван подхватил древко, показавшееся необыкновенно легким, кинулся вверх по склону, лавируя меж каменных глыб, скользя по осыпям. На бегу перекинул ремень автомата через голову, выхватил из кармана гранату, зубами вырвал чеку. И вдруг у подножия той самой глыбы на гребне горы, к которой стремился, увидел немецких автоматчиков. Упал на острый щебень, отполз в сторону, метнул гранату. И сразу же выхватил другую, тоже метнул туда, за камень. Гора гудела разрывами мин и гранат, пулеметной и автоматной трескотней, нестройными разноголосыми криками. Но из-под камня уже не стреляли. Иван подполз ближе, бросил еще одну гранату, взбил автоматной очередью пыль в тех местах, где только что видел немцев, и, цепляясь за острые кромки скалы, полез наверх. Воткнул знамя в щель, расправил полотнище, чтоб реяло на ветру, и залег рядом, впервые за всю атаку оглянулся назад. И ужаснулся крутизне и высоте склона.
Внизу на многие километры простиралась серо-зеленая залитая солнцем долина. По круто изогнувшейся дороге ползли коробочки танков. У дальних высот густо клубился дым, словно там бушевал пожар, специально раздуваемый гигантскими мехами. Из дыма часто-часто выскальзывали крохотные белые ниточки, — это били «катюши». И огонь батарей был виден сверху — там залпами вскидывались и гасли багровые в дыму вспышки. По белым паутинкам дорог вроде бы бестолково, в разных направлениях, скользили машины. К ним тянулось несколько черных дымков сбитых самолетов…
Все это Иван охватил одним взглядом. А в следующий миг машинально закрыл глаза, потому что по камням, по древку, по развевающемуся полотнищу хлестнула пулеметная очередь. Флаг наклонился. Прикрываясь камнями, Иван подполз, глубже засунул древко в расщелину скалы. И еще рядом вбил камень, чтоб стояло, не колыхалось. Пулемет умолк, но тотчас неподалеку взорвалась мина, затем другая. Было ясно, что немцы не успокоятся, пока не собьют флаг. Иван решил подождать чуточку, посторожить: вдруг упадет, и его надо будет вновь устанавливать. Но вышло иначе: близкий взрыв мины разбросал камни, одним ударило Ивана по голове, и он потерял сознание.
Очнулся вскоре. Тонкое в реве боя солдатское «ура» стонало справа и слева. Несколько солдат и матросов были уже впереди, бежали, согнувшись, по склону. Флаг стоял не месте и, залитый солнцем, казался ослепительно ярким. Иван вскочил, собираясь бежать, и едва не упал: закружилась голова.
Потом к нему подбежал незнакомый офицер, хлопнул по плечу:
— Жив? Ходить можешь? Шагай на КП.
— Куда?
— На КП. Видишь зеленый бугор?
— Зачем?
— Я разрешаю.
— А мне не надо.
— Тогда приказываю.
— Надо командиру взвода доложиться. — Ему показалось никак невозможным идти в тыл, когда весь взвод, те, что живы, идут вперед, атакуют следующие позиции врага.
— Иди, тебе говорят. Я сам скажу взводному. — Офицер раскрыл планшетку, что-то написал на листке, вырванном из блокнота. — Иди, отнесешь это.
Иван пошел, боясь, как бы не упасть от подступавшего головокружения. Под горку не шлось — бежалось, и скоро Иван дошагал до зеленого бугра, отдал записку первому попавшемуся офицеру. Тот как-то странно осмотрел его с ног до головы, словно проверяя внешний вид, велел идти за собой. По земляным ступенькам спустились в широкий и глубокий окоп. И тут Иван увидел перед собой генерала, и сам невольно оглядел себя: больно был грязный и запыленный рядом с чистыми штабниками.
— Поздравляю, — сказал генерал.
Иван молчал, не зная, что отвечать, чувствуя во всем происходящем какой-то подвох.
— Ну?
— Слушаю, товарищ генерал.
— Отвечайте, как положено, — служу Советскому Союзу. — Он вдруг настороженно посмотрел на солдата. — Вы разве не знали?
— О чем, товарищ генерал?
— О приказе. — Он помедлил и сказал торжественно: — Тому, кто водрузит знамя на Сапун-горе, присуждается звание Героя Советскою Союза.
— Так я… Так это мне… — растерялся Иван и вытянулся под строгим взглядом начальника. — Служу Советскому Союзу!
— Что так безрадостно?
— Так я что. Там ребят столько полегло.
— Ясно, солдат. Я вас понимаю. Все герои, кто штурмовал эту гору. Но приказ есть приказ. — Он по-отечески подтолкнул Ивана к выходу. — Бегите, догоняйте взвод. Бой за Сапун-гору хоть и главный, но не последний. Еще надо освободить Севастополь…
Михаил БЕЛЯЕВ Пожар
— Ну что, Ксюша? С прибавлением семейства поздравить можно? — громко, с улыбкой сказал Василий Михайлович, бывший гвардеец, рослый бородатый мужчина, у которого не было обеих рук. — Каких хлопцев добыл! Одной тебе таких орлов доверить могу. Ты хозяйка добрая. Согрей их. И печью теплою, и едой жаркою. В общем, сама знаешь как. Бери! — и пропустил в хату двух парнишек. — Вьюга! Дыхнуть нечем. И дорога какая! Шагу ступить нельзя. А тут они вот, красавцы. Вижу: идут — не идут, стоят — не стоят…
— Э-э! Правда! Не знали, что и делать, — вошла в хату вместе с ребятами Сандра, молодая цыганка. Это она приютила еще на руднике ребят, Тимку и Семку, потерявших своих матерей во время облавы, увела их с собою. Шла с ними неизвестно куда. Лишь бы подальше от мест, где ее знали. — Ни крови, ни духу в теле. Два дня идем.
— Умаялись, бедолаги! — всплеснула руками Оксана Ивановна, пожилая дородная хозяйка уютной, натопленной хаты. — Теперь вы у нас. Будьте как дома, — и стала быстро снимать с ребят задубевшие пальтишки.
А когда наконец, раздевшись, ребята пристроились спинами к печи и почувствовали, что живы, то перемигнулись друг с другом от радости.
— Ну, сынки, дальше жить будем? — спросил их Василий Михайлович и сам ответил: — Назло врагам не умрем! Не умрем — и все тут. Знаете, — обратился он к Сандре, которая тоже подошла к печи и села на табуретку, — нет, вы не знаете, какие сыны у Оксаны Ивановны, нашей хозяйки, выросли. Бравые ребята. Один — кавалерист, а другой — танкист. Видите вон знаменитую картину на стене? — кивнул он головой на скачущего в бурке Чапаева. — Кавалеристу подарили, когда в школе учился. Между прочим, нынешний староста приказывал мне снять Чапаева. Да только не мне снимать картину. Сивый службист! Знаем: оттого сив мерин, что дорогу мерил. Хоть и бледнеет он, как взглянет на Чапаева, но оставил картину в покое. Хитрит, хитрит что-то…
— Да как же ему не хитрить? — гневно отозвалась Оксана Ивановна. — У него в жилах не кровь, а хитрость одна. Тутошний он. С малолетства только языком и глазами работает. Насмотрелась я…
— Тутэшний. Из Клэшни! — с легкой усмешкой подчеркнул Василий Михайлович. — Так говорят селяне.
— Вот зародился человек! — воскликнула Оксана Ивановна, поставив табуретку для Василия Михайловича. — С ума сойдешь — не поймешь. А батька у него совсем другой был. Из богатых вроде, а ветеринаром стал. Коней врачевал, всякую там живность, какая только есть на белом свете. Столько болестей знал. Все его родичи поразбежались кто куда, а он новую власть принял. Нашу, Советскую. Дрожки ему дали. Такие бегучие. Как же! Нужный лекарь. Один на три колхоза был.
— Не из цыган ли? — поинтересовалась Сандра.
— Куда ему до цыгана! Два слова связать не мог. Занедужит какая скотина — вылечит, а чтобы поговорить — лучше и не трогай. То ли не любил говорить, то ли стеснялся. Бог его знает. Пригласишь к столу, а он книжку достает. Просит послушать. Уважу, послушаю. Ох, мамо моя! Силюсь, силюсь понять — ничего не разберу. А складно и ладно так читает. И что за книги у него водились? Туман и туман в них. Уже у меня голова болит, а ему одно удовольствие.
— Потом сына стал прихватывать с собой, — заметил Василий Михайлович. — Хотел, чтобы и он ветеринаром был. И ухом не повел! Не по нутру отцова профессия оказалась.
— А ну его к бесу! — вдруг заявила Оксана Ивановна. — Такой елейный, такой липкий. Ну чисто тот самый туман из книжек. Отец работает, а он себе сядет за столом и говорит и говорит. Не унять. Все выпытывает, все выпытывает. Я от него, а он за мной. Мы почти одногодки с ним.
— Влюбился! — догадалась Сандра. — Сердце разговором унимал.
— Да что вы? Я уже замужем была. Дочка бегала. И сынов успела найти. Вертелись под ногами, тормошили. А он оттеснит меня в угол, терзает и терзает речами. Ничего не дает сделать, сбежал он от отца. В город. В артисты подался. А в войну вот объявился. Старостой стал. — Оксана Ивановна досадливо оборвала себя: — Да что это я? А ну садитесь за стол. Вечерять будем.
И конечно, повечеряли. Вкусно, сладко. Досыта наелись ребята. Так что им сразу спать захотелось. И не держали их. На печь отправили, положили рядышком под старыми дедовскими кожухами, в которых в каждом рукаве по тыще снов спрятано. Как не уснуть крепким сном под такими кожухами? И ребята уснули. Когда под утро третий раз прокричал в наглухо закрытой кладовой Оксаны Ивановны один-единственный уцелевший от частых полицейских поборов петух, ребята улыбнулись во сне и уснули еще крепче.
— Что с хлопцами делать? Обедать скоро, а они спят. Уморились бедолажки, — сквозь сон услышал Семка негромкий голос Оксаны Ивановны.
— На руднике все дети подолгу спят. Голод научил, — послышался в ответ такой же приглушенный голос Сандры.
Потом долго шаркали шаги по кухне, стучала под руками посуда, ходил веник у порога, хлюпали капли воды, падая из прохудившегося ведра в подставленную миску, вскрикивал петух в сенях, когда сенная дверь вздрагивала от сквозняков.
— Никак метель не уймется. Ровно скаженная! — вздохнула Оксана Ивановна. — Стихнет и снова зашмыгает. Из хаты выйти нельзя.
— Если б но вы с Василием Михайловичем, замерзать бы нашему табору, — отозвалась Сандра. — Куда деваться в такую метель? — И, помолчав, засмеялась: — Спала как влюбленная! Давно так не спала. Тело аж горело от жары. Рукам место не найду… Кидаю, кидаю их… Жору, мужа своего, вспомнила. Э-э! Это он меня от цыган увел. Женился на мне. Сына ему родила и русской стала!.. Но, матерь божья, кто я теперь? Сын помер, Жора воюет. Карты себе купила. Нету у цыганки дома, а дорог много.
— Да будет еще дом, будет, — заверила Оксана Ивановна. — Война бы только поскорей сдохла. Такое натворила! Свету белого не видно.
Хлопнула тяжело дверь. Оксана Ивановна выскочила в сени и скоро снова вбежала в хату.
— К нам староста идет! Да входи же, — позвала она кого-то. И вот прыгнула на печку холодная кошка. Она уселась между разбросанных ног Семки и принялась облизываться, поднимая то одну ледяную лапу, то другую, к отчего по ногам Семки густо побежали мурашки. И сон пропал. — Вот бестия, староста этот! — сказала в сердцах Оксана Ивановна. — Что-то будет. Задумал что-нибудь… Горе какое! И Василий Михайлович ушел. Он с этим старостой строго разговаривает, — пояснила она Сандре. — А я боюсь его. Как напугал меня еще молодой, так и не прошло. Силюсь, силюсь взять себя в руки. И не придумаю, как. Пуганая. Глаз его боюсь. Такие голубые, как у соромливой девицы. И не хочешь — в сердце заглядывают. Так и трогают сердце, так и щупают нутро. Прямо-таки выворачивают его. И противлюсь, а руки его по душе ходят. Отдается ему сердце — и все тут. Совсем не могу с ним говорить. Не могу. Только одна и защита: он ко мне глазами, а я к нему спиной. Ох, боже мой… — спохватилась Оксана Ивановна, — да где же он? — и прильнула к белому, запушенному морозом окну. — А вы идите к ребятам, — посоветовала она Сандре.
Со двора донесся резкий скрип шагов. Вот они приблизились к хате, потолклись, оббивая снег, потом шаги послышались в сенях.
— Тим, — подкатился Семка к Тимке и толкнул его в бок. — Староста идет! Да проснись ты! — толкнул он еще сильнее.
— Ребята, просыпайтесь скорей! — подбежала к ним Сандра и, схватив подушку из-под ног Тимки, села на лежанке.
— Доброе утро, Оксана Ивановна! — вежливо, с приятной хрипотцой в голосе сказал староста, переступая порог. — Как спалось в такую завихренцию? Во! Свежая да румяная, как палехская красавица! — остановился староста в дверях, не отводя от нее глаз. — Вы меня удивляете, Оксана Ивановна. Как на гулянье собрались! А я думал, замело вас тут, — шмыгнул он глазами по хате. — Снега какие! Глянешь на сугроб — шапка падает. Решил зайти. Не надо ли чего… На самом краю села живете. А время сами знаете какое. О, простите бога ради! — глянул он себе под ноги. — Снег забыл обмести. Знаю, знаю. Ноги мои смутили. Вы всегда были хорошей хозяйкой и не любили гостей, которые за своими ногами не присматривают. И верно! Неряшество с ног начинается.
— Ничего, ничего, — отозвалась Оксана Ивановна, стараясь казаться спокойной и даже радушной. — У порога всегда снег.
— О нет, нет, дражайшая Оксана Ивановна. Обмету, обмету. Не убудет меня. Я не привык со снегом проходить. Дайте, пожалуйста, веничек. Посидеть у вас хочу. А как же? Нельзя иначе. Добрые люди не могут жить без добрых бесед. Да у вас уже есть гости?! — воскликнул он, увидев Сандру, которая снимала с печи подушки — Ну, совсем, значит, вовремя пришел! Может, по этому поводу рюмочкой обогреете? А? Шучу, шучу. Конечно, шучу! — видя растерянность Оксаны Ивановны, сказал староста и, нашарив под лавкою веник, вышел в сени.
— Ой, что будет!.. — всплеснула руками Оксана Ивановна, не зная в отчаянии, за что ей взяться.
Между тем дверь снова отворилась, и староста, водворив веник под лавку, прошел к столу.
— Оксана Ивановна! Да что же вы не представляете меня вашей гостье? — в изумлении вскинув толстые короткие брови, глянул на нее староста, соединяя на лице улыбку и приказание, и глаза его при этом, обычно слегка прикрытые бровями, словно увеличились вдвое, делая голубизну глаз неотразимо ясной и доверчивой. — Прошу вас, прошу вас, окажите милость, познакомьте своего старосту Юхима Семеновича с этой, как увиделось моим очам, замечательно пригожей женщиной! Слава богу, войне красота не помеха, и, я думаю, знакомству тоже… — слащаво сузив глаза, подошел к Оксане Ивановне и поцеловал ей руку. Все невольно поглядели на его ноги: на старосте поблескивали обшитые черной кожей новенькие белые валенки.
— Так я и говорю вам, знакомьтесь. Знакомьтесь, Юхим Семенович! Вы всех нас знаете и нашу гостью знать должны, — заговорила распевным голосом Оксана Ивановна, как будто она не знакомила, а сватала двух ей милых, хорошо известных людей. — Мы хотели утречком сами к вам идти, да дела, Юхим Семенович, будь они неладны, так-таки и цепляются…
— Ох, кому вы говорите, Оксана Ивановна, — подстраиваясь под ее распевную речь, грустно вздохнул староста. — Да разве я не в селе родился?
— На селе, на селе… — поспешила согласиться Оксана Ивановна, теряя напевность речи и выдавая свое волнение. — В деловой семье… Все помнят. Ваш батя работящий такой… А вы потом артистом были. В городе…
— Не надо дальше, не надо, — остановил староста. — В прошлом мы только родились, — продолжал он уже небрежным тоном. — Что, конечно, для каждого из нас есть великое жизненное благо. Однако жизнь свою мы и по сей день устраиваем. Вот вам ирония судьбы: кто был ничем, стал всем, а кто стал всем, становится ничем. А? Слышите, какая сила жизни в этом! Вы как считаете? — обратился он вдруг к Сандре, которую он наконец достиг, продвигаясь к ней во время разговора с Оксаной Ивановной зигзагами. — Фу! Совсем одичал без хороших женщин. Пардон. Я все еще не знаю, как вас величать, — обнажил он голову перед Сандрой и поклонился ей.
— Александра, — подсказала Оксана Ивановна.
— Саша, значит, — воскликнул староста.
— Сандра, — поправила его, отозвавшись, Сандра и внимательно посмотрела на старосту. Она стояла перед ним, сложив руки на груди и опершись спиной о доску переборки. — Цыганка я, — все так же, не сводя с него затаенно вспыхнувших глаз, гордо сказала она и прошла мимо него, глядя через плечо и покачивая станом.
— Великолепно! — снова воскликнул староста. — Живая мадонна! Хотя, знаете, — шагнул он к Сандре и, взяв ее за плечи, повернул к себе, — я бы не хотел, чтобы о вас узнали в немецкой комендатуре. Немцы! — произнес он благоговейно, — наши великие заступники, — подчеркнул, следя за глазами Сандры. — Слышите? Заступники! Они не очень обожают цыган. И такое бывает: в тюрьмы заключают, в лагеря отправляют… Но на меня положитесь, — провел он рукой по волосам Сандры и отпустил ее. — Я свой староста, как все селяне. Никакой разницы нет! Спросите Оксану Ивановну. Разве не так? Что я для людей делаю? — обратился он к Оксане Ивановне, обволакивая ее голубыми глазами.
— Известное дело… — запнулась она. — Вы, Юхим Семенович, весь на людях. И батько ваш таким был. В каждый дом, бывало, зайдет…
— Не надо, не надо, Оксана Ивановна, о батьке, — отмахнулся староста и сел за стол. — Он помер, батька. А нам с вами жить приходится, и не как-то, а чтобы и за жизнью присматривать. Ведь жизнь ускользнуть может.
«Я-то при чем? — насторожилась Оксана Ивановна. — О чем это он? С тобой за жизнью присматривать? Еще чего не хватало!..» — и собралась возразить старосте, но тут же подумала, что говорить ему — это все равно что бить о стену горохом, и принялась вытирать о передник и без того сухие руки.
— С меня многое спрашивают. Но, заметьте, это же спрашивают и с вас, — продолжал между тем староста. — Мы, как говорится, из одной миски хлебаем. Потому и друзья. И с вами, красавица, я хотел бы другом стать. Ну что вы на меня свет очей льете? Я же влюблюсь в вас. Перед вашими юными очами и староста не устоит.
— А вы отвернитесь, — косо блеснула взглядом Сандра. — На цыганок нельзя смотреть — кровь испортится.
— Пускай портится! Можно и рискнуть ради этого. А чем черт не шутит? Быть может, ради этого случая по земле хожу: вас увидеть, влюбиться — и жизни конец! Ну что скажете, Оксана Ивановна? Я ведь перед вами, как на духу. О боже! Опять смутилась, румянцем залилась. Вот, Саша, какая она: соромливая, пригожая, хлебосольная и добрая, добра всем желает. И вам, и мне тоже. И еще я скажу: мастерица песни петь. Талантов у нее скрыто видимо-невидимо. Ах, уважаемая Оксана Ивановна, вы даже стесняться не разучились!
— Юхим Семенович, грех вам обижать меня, — совсем не зная, как принимать слова старосты, отозвалась Оксана Ивановна. — Вы меня как невесту расписали, а мне уже пятьдесят годков.
— Нет, Оксана Ивановна, не обижаю я вас, — возразил староста. — Разве ж худо о красоте женской говорить? Почитайте книги — во всех веках люди женщину, как божество, возвышали. Чтобы она всегда оставалась для нас, грешных мужчин, и таинственной и недоступной. И в школах этому учат, — нравоучительно подчеркнул он. — Вот вы часто про акацию рассказываете, которая у вас под окном лютою зимой загинула…
«Вот, нечистый! — ругнулась в душе Оксана Ивановна. — Изведет. И акацию в покое не оставил. Неужели я сама ему про акацию рассказывала?..»
— Что такое акация? Всего-навсего колючее дерево, — продолжал говорить староста. — Не спорю: красивейшее дерево! Пусть бы оно, конечно, цвело. И пчел медом поило, и детей цветами радовало. Но засохла — и геть акацию! Срубила… Как же тогда не говорить о женщине? О том самом первейшем и нужнейшем человеке на земле, который всю красоту земную в себе заключает и создан для того, чтобы в первую очередь эту красоту земную в своем потомстве продлить. И можно ли тут спорить: лучше женщине, когда о ней плохое говорят и совсем замечать перестают, или когда ей говорят, что она красива и что своим присутствием на земле она делает земную красоту еще божественней, неотразимей, способной поднимать нас, грешных мужчин, погрязших в войнах и черствости, на великие подвиги? Вот вы и ответьте мне, что для вашей души ближе? — Радуясь сказанному и видя, что женщины растерялись, он пристально смотрел то на Оксану Ивановну, то на Сандру, хитро прищурясь, и во взгляде его, казалось, запрыгали какие-то дьявольские огоньки.
— Что ближе? — лукаво, как бы вступая с ним в игру, переспросила Сандра. — А то ближе, что обнять хочется! — тут же выкрикнула она, почти поддаваясь голубому наваждению глаз старосты и его ласковых слов.
— Это женщина! — обрадованно сказал староста, тряхнув густыми седыми волосами, которые тоже отдавали голубизной. Причесывая их, он дважды провел по ним пятернею, и волосы, приподнявшись на голове, завились тонкими колечками. — Вот вам, Оксана Ивановна! Чуете? — бросил он на Оксану Ивановну торжествующий взгляд. — Вот вам истинные слова истинной женской красоты! Нет, вы только посмотрите на свою гостью, ну не дар ли это божий? Разве пристойно на нее смотреть, не испытывая волнения? Да я бы тому мужчине вообще не позволил на свет появляться, который не может уразуметь женскую красоту! О, это несчастные люди! Пройдут по земле и не поймут, что женщина от рождения своего и до последнего часа своей жизни — неисчерпаемое земное благо, — громко говорил староста. Он начал прохаживаться по хате, мягко, словно бы по ковру, и, прохаживаясь, он уже скользил взглядом не только по лицам женщин, но и по всей хате, будто он все тут давным-давно знал, а теперь лишь оглядывал: на своем ли месте все? Нет ли здесь чего-то нового? — и продолжал: — Сколько женщин в России и во всем мире берегут верность этим мужчинам! Страшно подумать. Их мужья воюют, не зная за что, и можно сказать, по своей глупости воюют. А брошенные ими жены хранят им верность. Но почему? Что за дикая несуразица человеческих страстей? Быть может, милые женщины дождутся благодарностей? Откуда, с какого края может появиться мужняя благодарность, если сами мужья бесконечными толпами идут в братские могилы? Не презирать ли себя будете потом всю жизнь? Всю, всю, до скончания, до той самой последней отметки за свою откровенную гордую, и, конечно, верную, и, конечно, благородную, и, конечно, вами дарованную павшим мужьям любовь? И не назовете ли жизнь без них, да, без них! Не назовете ли не тронутые мужской лаской годы вздором и бессмысленностью, заблуждением и пакостным колдовством верности, смутой ни к чему не обязывающей, томящей и иссушающей?! От такой верности для вас одно погубление. Да, да! Я не преувеличиваю, я просто обращаю ваше внимание, просто хочу, чтобы ваши добрые души опомнились от чар уже загубленной вашими мужьями верности и вздохнули настоящей жизнью. Решительно уладили свои судьбы, не позволили бы им чахнуть и посыхать. Вот о чем я думаю, милые женщины, глядя на вас! Хранительницы очага, добрых инстинктов, перемена только оживит вас. Только возвысит.
— Ну что вы такое говорите?! — воскликнула хозяйка, внутренне сопротивляясь его красивым, дурманным словам.
— О, добрая Оксана Ивановна, зачем дрожать над старым, когда все наполнено новым! Земля — и та по весне содрогается и переворачивается. Стремится лежать не так, как она лежала прежде. Преобразование и переворот — вот что несут немцы. На Россию подуло свежим ветром. Пришло то самое необходимое для нее. И мы, ангелы ее, почувствовали у себя крылья. Разве не так? Разве в вашей семье, Оксана Ивановна, не случилось это новое, когда у вас появился наш общий друг Василий Михайлович? И разве захотите вы теперь жизни без него? Не отвечайте. Вопрос деликатный, и никому, кроме вас, недоступный для понимания. Но будьте счастливы! А ваша добрая гостья еще не понимает этого…
«Злыдень! И как язык не отнимется! Как язык поворачивается говорить такое? — ужаснулась Оксана Ивановна, и слезы покатились по щекам. — И Василия Михайловича под себя перекрестил… Счастьем его любуется!.. А кто ему руки обломал? Кто его тело изрубил в клочья?.. Ирод, ирод!.. Тебе бы всех людей безрукими по миру пустить, чтоб тебе не мешал никто о своем сатанинском счастье говорить. О таком счастье, что людские души пустыми сделает…»
— Я понимаю вас, — обратился он к Оксане Ивановне, словно угадав ее слова, которые она, плача, с ненавистью произнесла в душе. — Если вы даже бранитесь, так и в этом прошлое виновато. Вы, так сказать, по инерции бранитесь. Кто-то может не понять вас, плохо отзываться о вас и даже пристегнуть вас к букве закона… Тем хуже для такого законодателя. Но я вам говорю: ругайте меня, Оксана Ивановна, браните меня самыми последними на земле словами, изобретенными в логовищах ненавистников добра и справедливости! Как это я посмел говорить о муках женских, когда вся земля от огня корчится? А я посмел. Слышите? Говорю — и все тут! Ибо не будет у вас больше такого случая, чтобы услышать в жизни выстраданную в муках, подлинную правду о женской доле. Плачьте! Плачьте! Вы, может, сегодня за всех наших грешных женщин плачете, за все их загубленные, зачерствевшие в тоске и в житейских неправдах души плачете!
— Не так все! Не так! Совсем о другом я плачу! — не сдержав своего молчания, запротестовала она.
— Конечно, о другом! Вот в этом-то и вся ваша сила! — обрадованно воскликнул староста. — Спасибо вам за ваше истинно женское, истинно благородное, истинно жемчужное откровение! Границам моей нежности к вам нет предела! Склоняю голову перед вашим пониманием женского счастья. Славная наша хозяйка, вы остерегаетесь выстраданное вами счастье называть таковым. По странности своих прежних привычек вы прежде отругаете свое счастье, чтоб оно на всякий случай было застраховано как бы от черного глаза, чтобы оно не портилось и не плесневело. Но вам ли нас опасаться? Не бойтесь, Оксана Ивановна, и себя не бойтесь. Вот вам, Саша, пример человека, запуганного предрассудками, — обратился староста за сочувствием к Сандре.
«Совсем меня глупой сделал! Слова сказать не дает. Любое мое слово перевернет и растопчет!..» — поняла Оксана Ивановна поведение старосты, на самой себе ощущая, как можно истязать человеческую душу самыми святыми словами, и еще больше насторожилась.
— Не советую вам изнурять душу боязнями и оглядками, — говорил между тем он Сандре, оттеснив ее к кровати, подальше от Оксаны Ивановны. — Ну их к бесу, те оглядки! Нам с вами о любви думать надо. Вы и на землю сошли для этого мадонной, — взял он обе руки Сандры, которая не противилась ему, позволяя их целовать, удивленно разглядывая его словно бы поголубевшую от сладких речей седину.
— Э не-не, хватит! — отняла руки Сандра, чувствуя, как в ней разгорается кровь. — А вы любовь ищите или только женщин?..
— Красоту ищу, красоту! — схватил он за плечи Сандру, приблизившись к ней так, что она откинула голову назад. — Пусть даже цыганскую. Умру, но скажу: вся красота мира в женщинах!
— В молодых женщинах, — засмеялась Сандра и резко повернулась к нему плечом.
«О любви заговорила, — с испугом посмотрела на Сандру Оксана Ивановна. — Запутает ее, черт не нашего бога! Надо выручать…»
— В молодости мы все красивые, Юхим Семенович, — начала Оксана Ивановна, совсем оправившись от смущения и сознания своей беспомощности. — Все! Но откуда кривые старухи берутся? Смотреть страшно! Как подумаю, что старость с людьми делает, — сны пропадают.
— Ах, Оксана Ивановна! — внезапно отстранившись от Сандры, подошел к ней староста. — Я знаю. Да, да! Я знаю, почему вы так говорите. Вы не можете простить той старушке, которая поносила меня всякими отвратными словами. Я ценю ваше сочувствие, Оксана Ивановна, вы для меня всегда были настоящей русской женщиной, которая не переносит в своем щедром сердце никакого душевного уродства. Ваше участие в моих горестях помогает мне служить великому, искоренять зло. Но старушку, позорившую меня, я простил. Я даже пытался ей помочь. Увы! Пан немецкий офицер сказал мне, что она красная. И тут, извините, ничего не поделаешь… Война есть война!
— Ах ты, господи! — растерянно произнесла Оксана Ивановна, и сердце ее опять похолодело от слов старосты. Ухватив из-под лавки веник, она скрылась с ним в кухне: «И тут перевернул! И тут в глаза насмехается! — ужаснулась она, видя весь обман его слов. — Неужели и вправду он забрал себе в голову, что могу осуждать ту замученную катами женщину? Она, сердешная, хотела проткнуть его вилами… И за дело! Не уводи корову! Не обирай сирот! Последнего куска хлеба не лишай! А он что такое понес?.. Обо мне?.. Господи, ты мой свидетель! Не говорила я бесу голубоглазому ничего о женщине, которую он отдал катам на растерзание. Никогда не говорила. Ни раньше, ни теперь. И в голове не держала такое! Я же другое хотела сказать… Хотела сказать, чтобы он не морочил голову дивчине, не захапывал ее, если даже у него не руки, а лапы, — мятусилась Оксана Ивановна по кухне, не зная, за что взяться и что делать с веником. — Так тебе и надо, старая квашня, — отругала она себя. — Не выпрыгивай из кухни. Или не видишь: его певучая речь страшней топора разбойника? Не лезь выкручивать рога дьяволу… Как не лезь? А Саша? Сашу одну бросить? Да она от его слов кровью изойдет и не заметит, что крови лишилась, беса напоила. Насытится ею — и геть своим собакам бросит! Не отстану! Как ни ломай меня, а не сдамся. Поперек горла встану! Чтоб неповадно было вражине добрые души губить», — твердо решила Оксана Ивановна и веник запулила за печь, чтобы не занимал ее руки и не мешал ей слушать старосту.
— Печальный кунштюк, Оксана Ивановна, печальный… — грустно сказал староста, видя, что она скрылась на кухне, ошарашенная его словами. — Но кто старое помянет, тому глаз вон! — улыбнулся староста и, решив, что Оксана Ивановна окончательно им убита, ушел к Сандре: — А вы одни приехали или еще с кем-нибудь?
И опять Сандре вопрос старосты не показался странным. Только на мгновение заметила, как голубизна его глаз подернулась стальным отливом и как бы помертвела.
— С кем же? С ребятами и приехала, — торопливо за Сандру сказала Оксана Ивановна. — Двое хлопчиков у нее.
— А где же ваши хлопчики? Наверное, милые дети?.. — метнул он недовольный взгляд на Оксану Ивановну.
— Спят еще. Завалились с вечера да и спят себе. Сами видели, Юхим Семенович, какая пурга была. Ревела как оглашенная. В хате жутко стало. А хлопьята — совсем дети. Как им в такую пропасть идти? Ноги повыдергивало снегом. Никак в себя не придут. И поднимать жалко… Дети ведь…
— Вот и хорошо, что объяснили мне, — сказал староста. — Слышу, кто-то посапывает на печке у вас. Кто бы такой, думаю, может быть?.. Когда чужие люди в селе, сами знаете… Всякие мысли в голову приходят. Время военное.
— Они совсем хлопчики, — начала снова объяснять Оксана Ивановна. — Можете на печь заглянуть. Пройдемте. Саша только начала их постель убирать, а вы и явились.
— Верю вам, Оксана Ивановна, — совсем отстав от Сандры, сказал староста. — Вот видите, как ваши хлопцы полюбились хозяйке, не даст в обиду, — обернулся он к Сандре, которая к тому времени села на лежанку. — Пусть себе спят. Ну разве должно это вас волновать? Дело молодое, вот и спится. Когда и поспать, как не в детстве! Да еще в гостях, да еще после сатанинской метели. Так залепляет снегом, что свое дитя с чужим спутаешь. А вы, Оксана Ивановна, и не можете не пожалеть добрых людей. С вашим материнским сердцем, ну как но дать хлопцам хорошо отоспаться! Печь у вас тоже добрая: пятерых от непогоды укроет.
— Хлопцев-то всего двое, — напомнила Оксана Ивановна, угадывая в словах старосты строгое предупреждение за такое самовольное решение обогревать незнакомых спутников.
— Хотя бы и все пять к вам зашли — всех бы теплом и лаской одарили. А как же? Уж такая вы от рождения. Вот и хорошо, что Украина богата добрыми людьми. Иначе бы она и не славилась на целый свет…
«Что он еще такое мелет? — но доверяя ни одному слову старосты, не переставая беспокоиться, думала между тем Оксана Ивановна. — Снова какую-нибудь пакость сотворить задумал! Да где же Василий Михайлович застрял?..»
— Вот и Василий Михайлович, хоть он и русский, но очень его душа на вашу похожа, — словно подслушав, о ком думает Оксана Ивановна, продолжал подкатываться к ней староста, намереваясь что-то сказать. — С его характером взаперти не усидишь. Такой общительный, вечно занятый разными делами, заботами. Государственный деятель! То он на одном краю села беседует, то на другом. А сегодня у деда Прокопа видел. По его желтой шапке угадал. В сенях сидят. Вот ведь какие заядлые товарищи: на сквозняке сидят и беседуют. Дед Прокоп ему цигарку крутит. Ну понятно, естественное дело: метель долгая была, соскучились, а новости — они и в метель приходят. И у меня объявилась…
«Так и знала, что неспроста зашел», — оборвалось сердце у Оксаны Ивановны.
— Да говорите уж, — сказала она, — куда нам деваться.
— Войдите в мое положение, — прикинулся староста робким и стеснительным, — дела так и наваливаются. Хлопочешь, хлопочешь, а душа не на месте. Ах, трудна! Ах, трудна моя должность. Не хотел вас беспокоить, да, видимо, не обойтись. Вот и Василия Михайловича не дождался, а просил его подойти. Все-таки он солдат… сразу бы понял меня. Да ладно уж, принимайте свою новость: пана немца к вам на квартиру порекомендовал, — сказал он, надевая шапку. — Замечательный человек! Солдат великой армии! Награды имеет. Вот и примите его, любимая Оксана Ивановна. Создайте отменные условия для отдыха. Оберегайте. Впрочем, в таких делах вы лучше моего знаете. И о душевной щедрости не позабудьте, и вообще одарите всем, чем располагаете. Обещаю вам внимание. В любой день, в любой час найду возможность заглянуть к вам. И Александра, надеюсь, приласкает его, — подмигнул староста. — Но и меня не забывайте, а то я знаю вас, цыган… Признаюсь в своей слабости: что бы на земле ни творилось, красивые женщины — моя смерть. Не могу без них земное счастье понять. И день не день, и ночь не ночь, когда о красоте думаю. И, Оксана Ивановна, уговор: рюмочку в следующий раз с радостью выпью, — молодецки щелкнув пальцами, он всем телом отворил дверь и нырнул в клубы холодного воздуха, который рванулся из-под его ног и помчался распластываться по всей хате.
— Слыхали, что староста сказал? — растерянно обратилась Оксана Ивановна к Сандре. — Немца поселит! Да как же мы с ним жить будем? С врагом? — в изнеможении от переживаний, которые доставил ей староста, Оксана Ивановна едва не села на кошку, дремавшую на табуретке. — Что я вам говорила? Сами увидели, какой у нас староста. Я женщина не злая, но его голубые глаза я бы пеплом засыпала. Такое горе от них людям идет! — уже ничуть не опасаясь, высказала она свою давнишнюю неприязнь к старосте. — Ирод, чистый ирод! И что придумал еще: придет к Катерине — говорит, как сама Катерина, к деду Прокопу зайдет и опять же ну чисто сам дед Прокоп начинает шамкать и головой трясти. Ко мне явится — моими словами со мной объясняется. Перевертень какой-то! Боюсь его! Он чужое так и перехватывает. Вот и объясните мне, зачем он чужой речью с таким усердием пользуется?
— Артист он, Оксана Ивановна, — улыбнувшись, ответила Сандра. — Вот и рисуется перед народом. Дружбу заводит.
— Чтобы тому же народу больше зла причинить, — с досадой сказала Оксана Ивановна.
Вскоре пришел Василий Михайлович. Он сказал, что от партизан принесли белье постирать.
— У нас глухо, никто не заметит.
— Василий Михайлович, — грустно посмотрела на него Оксана Ивановна, помогая ему раздеться, — ты знаешь, от белья никогда не отказывалась. Мне одно удовольствие для своих стирать. Боюсь, проклятый фашист заметит: белье-то не ребячье. И много.
— Какой фашист? — не понял Василий Михайлович.
— А такой… Староста приходил и поставил нам немца. На постой. Вот лихо, так лихо! — с горечью воскликнула Оксана Ивановна. — Совсем, злодей, дыхнуть не дает. То дороги чистить гонит, то посуду, ложки да тарелки, велит отдавать для раненых офицеров, то картошку из подвалов тащит для полицаев, а теперь и совсем закабалил — фашиста подсунул. Чтоб тебе трижды на день голову перекручивало!
— Ты, Ксюша, главное, вида не подавай, что тебе староста не нравится, — посоветовал Василий Михайлович. — А немец… — призадумался он, — не страшен. Неудобство, конечно, определенное будет… Но разве он разберется в том, что мы дома делаем? Не поймет, и не его это дело, — заверил он, садясь, как обычно, за стол. — Мы и белье фрица постираем! И старосте скажем. Надо же, чтобы их воин в чистоте жил да в тепле. Нехай ведет! Нехай думает, что мы на великую Германию работаем! Ты еще что-то сказать хочешь? — спросил Василий Михайлович, видя, что Оксана Ивановна задумалась и смотрит мимо него в окно.
— Он такие слова говорил, что голова кругом пойдет, — отозвалась Оксана Ивановна, — все ждала тебя, чтоб хоть приходом своим ты расстроил его вражьи речи. Никакой защиты от этих речей не нашла. Слушаем да слушаем. А он, как бес, куражится над нами.
— Что же такое он говорил? — заинтересовался Василий Михайлович.
— И поверить трудно! О женской красоте говорил, — отвела в сторону глаза Оксана Ивановна. — Ну чисто книгу читает! И слова такие голубые пускает, прямо на небо несет… Но я-то насквозь беса вижу. Меня не проведешь… И он понимает это. В хитрость ударился: меня убивает словами, а Сашу поднимает. Слушаю и немею от страха: до чего же можно слова испортить! И очам своим не верю. Как вошел староста, так Саша на него и уставилась. Она хоть и цыганка, а с ним, как малое дитя, распахнула очи — летит незнамо куда. Всерьез заинтересоваться может. Душа у нее полыхучая. Это не мы с тобой, — обронила она деликатное замечание и вздохнула. — Не перенесу такой пытки, чтобы она погибать стала.
— Я подумаю, Ксюша, как лучше поступить, — выслушав Оксану Ивановну, сказал он и тут же посоветовал: — Упроси ее к твоей сестре в Тризименку уйти. А хлопцы с нами побудут. И ей поспокойней, и нам с ребятами веселее.
И к вечеру Сандра ушла в Тризименку. Пожить, сколько сможет, у сестры Оксаны Ивановны. А там видно будет.
Так закончилась эта первая тревожная встреча со старостой. И так закончился тревожный день.
Уже давно была ночь. Спали ребята. Крепко. Но хозяева, Оксана Ивановна и Василий Михайлович, не спали. Оксана Ивановна еще одну новость узнала: Василий Михайлович теперь будет дежурить в немецком госпитале, который появился в селе после недавней ночной бомбежки.
Русские самолеты, прорвавшись через фронт, разбили на отдыхе большую воинскую часть. Но что за мысль странная: взять Василия Михайловича на службу! Так хочет староста, так хочет немецкая комендатура, в которой знали о бывшем советском солдате.
Госпиталь обосновался в сельской школе. Староста со всего села собрал кровати и матрацы. Парты приказал выбросить на улицу.
По установленному графику сельские женщины приходили в госпиталь колоть дрова и топить печи, сделанные из железных бочек. Вскоре в новый госпиталь немцы понавезли раненых.
Для убитых во время бомбежки фашисты разрыхлили мерзлую землю около здания сельского Совета, на самом видном месте в селе. Немцы надеялись со временем возвести здесь своим солдатам памятник. Прогремел не один десяток взрывов. В каждую воронку положили по трупу. И над каждым поставили тщательно выструганный березовый крест. Эти кресты фашисты возили за собой, как снаряды и продукты. Впрочем, крестов всегда было в достатке. Немецкие тыловые части были верткими: успевали провозить их мимо партизанских засад. Стройные белые ряды крестов заполонили в селе Юрлове место бывших праздничных митингов и массовых гуляний.
— Прошел я мимо этих рядов, — рассказывал Василий Михайлович Оксане Ивановне той бессонной ночью, — затошнило, замутило меня. Так и потянуло повыдирать эти кресты. Что сделали с площадью? С селом что сделали? В немецкое кладбище превратили. Такую нам жизнь фашисты готовят: живите, но только на их кладбищах. Вроде кладбищенских сторожей будем. Вот, думаю, какой новый подарок придумал Гитлер! Расселить всех своих мертвецов по всей нашей земле, чтобы они землю немецкой сделали! Потом подумал: а все-таки мы их неплохо бьем, если они своими трупами нашу землю удобрять собрались. Но напрасно стараетесь! Придут наши, мы эти кладбища заровняем и асфальтом зальем… Гляжу на кресты, а сердце как бы говорит: не тужи, Василий Михайлович, земля наша и не такое помнила. Сколько в ней врагов похоронено, а где их имена? И что кресты на новых врагах поставлены — тоже совсем неплохо. Сами враги показывают, как мы их в землю загоняем.
Долго в эту ночь говорил Василий Михайлович с Оксаной Ивановной, которая слова не проронила, слушая его. Чувствовала и понимала, что в душе Василия Михайловича поднимается какая-то пугающая ее решимость, которую она не в силах ни остановить, ни сгладить, и что все слова Василия Михайловича к одному устремлены: сильней ощутить в себе то особенное, то единственно важное, что позволит ему высоко нести свою голову, даже там, среди фашистов, предложивших коварную затею: испытать его службой. И не сломиться, не подчиниться им, остаться русским солдатом с неимоверно великой любовью к Родине, к ее оружию. Она понимала, что должна прослушать его мысли и чувства. Он доверялся ей, как дорогому человеку, согревшему его, израненного солдата, с уже омертвелыми руками. Это она вместе с дочерью Галиной, молодой медицинской сестрой, ампутировала ему руки и спасла его от верной смерти. Даже немцы, увидев его, посиневшего, с роковым налетом смерти на лице, только и сказали: «Капут!» Оно бы так и случилось, если б не мужество и не материнская ласка Оксаны Ивановны. Покалеченный в жестоком бою, Василий Михайлович полз напропалую через снега, надеясь встретить своих солдат или санитаров. Нашла его Оксана Ивановна, вышедшая в поле за соломой. Вместо соломы тащила домой на себе. Не минула фашистов. К ее великому удивлению, они не убили раненого. И вот выходила.
Если его приглашает староста на службу к врагам, то кем он стал, Василий Михайлович, теперь? Что изменилось в нем? В боевом солдате гвардейского стрелкового полка? Зачем он вступал в партию, когда шел в последний для себя бой? Почему о нем так хорошо, дорожа им, говорили и командир полка, и парторг, и боевые товарищи? Разве только за крепкие руки, которые уложили в рукопашных боях многих фашистов и которые теперь навсегда потеряны? И неужели товарищи не заглянули ему в душу, не взвесили силу его души и красоты? И если они видели в нем, Изжогине Василии Михайловиче, машинисте врубовой машины, донецком шахтере, достойного защитника Родины, то почему он вчера дал согласие старосте и военному коменданту идти дежурить в госпиталь? Охранять покой битых фашистов?
Вникая в слова Василия Михайловича и в то, что стояло за ними, Оксана Ивановна приходила к мысли, что те неимоверно жестокие муки, которые она перенесла и продолжает нести в себе, не оградили ее семью от новой беды. Эта беда уже рядом, сотрясает и разламывает все собранное хлопотливыми трудами Оксаны Ивановны, все сбереженное ее любовью. И не за что ухватиться, чтобы отодвинуть грозящее ей несчастье.
«Что за дикое желание видеть меня дежурным в фашистском госпитале? Что это? Месть? — стучало в голове Василия Михайловича. — Нужно ли мне вообще выходить на эту службу? И как поступать на ней?.. Ловчить со своей душой, делать вид, что ничего не случилось? Обычная работа — и все? Терпеливо ждать чего-то. Конца войны? Своих товарищей? Помощи со стороны? А сам… а сам-то, что мертвецом стал?»
Мысли текли и текли. И нужно было их рассмотреть и понять: чего порой стоят мысли, возникающие от душевного расстройства, от слабости, от опасности, нависающей над человеком, от игры с тобою тех, кто забавляется тобою, как кошка пойманной мышью.
Василию Михайловичу было ясно одно: применяться к обстановке не будет. Он решительно пойдет навстречу тому, что замыслили сделать с ним враги. И чем открытей он будет, свободней от сомнений, тем больше он сможет преподнести им такого, чего они не ожидают. Ну а не слишком ли ты хватил? Ну пойдешь ты к ним, ну будешь ты на них смотреть свысока. Ну и что из того? А рук-то нету… Руки-то они оторвали! Так оторвали, что вроде бы петрушкой тебя сделали. Какой уж у тебя вид гордеца получится, когда ты ничто? Ходи, ходи к ним, Василий Михайлович, а они вдоволь надсмеются над тобой. Вот как смеяться будут, видя тебя не в окопе, а прямо, как есть, у кроватей. Тут уж каждый фашист увидит, каких он русаков лупил, и лишний раз полюбуется своей работой. Вот как оно все выходит: посмеяние, и только! Скверно, скверно. Хотят доконать не железом, так насмешкой.
Но не таков был Василий Михайлович, чтобы поступаться совестью, превращаться перед врагами в забаву, в никчемного человечка. Он и ходил широко и любил преданно. И если он погрузился в раздумья, то, значит, такое время, когда на каждом шагу отчет перед совестью держишь. Когда ты среди своих, когда все кругом свои, когда сама человеческая совесть вершит делами — это одно дело. Тут только одна дума: не опозориться перед товарищами. А когда вместо совести смерть устанавливает свои законы, то пусть презрение к ней станет наивысшей его совестью. И если он идет на посмеяние, то пусть и оно станет оружием в его ненависти к врагам. Совесть его не перевернулась. Надо кончать свой разговор и с врагами. Кончить — и разом!
Началось утро. Зимний рассвет. Запоздалый, невзрачный и словно бы виноватый. Без той торжественности и многоцветий, молодой запальчивости, с какой он охватывает землю весной и летом. Крик петуха на этот раз показался Оксане Ивановне картавым, не таким, как обычно. Он не кричал, а бормотал спросонья. Пенье несколько раз обрывалось и начиналось снова. И совсем неуклюже, безразлично упало в холодную тишину его последнее заключительное «ку-у». Как будто его утреннее пенье неожиданно завершилось смертоубийством.
«С петухом надо поспешить… — подумала Оксана Ивановна. — Все равно староста заберет. Врагам достанется. Сегодня надо же…» — и грузно поднялась, чтобы приготовиться к работе по хозяйству. Встал и Василий Михайлович.
Утренним светом побелило снег. Староста Юхим Семенович Малюночек направлялся к Оксане Ивановне, когда увидел на площади перед немецким кладбищем Василия Михайловича.
— Вот, вот! Так, так! Василий Михайлович, — сузив глаза, начал вместо обычного приветствия староста. — Я тоже теперь подолгу стою у этого скорбного места. Горько знать, как много сынов великой Германии отдали здесь свои жизни. И где погибли? В нашем селе, тут и земли подобающей нет, чтобы схоронить их по-рыцарски. Да и та, что была, смерзлась. По горсточке собирали, лишь бы укрыть гробы до первой оттепели. А то ведь снегом только и означены могилы. И мы после этого говорим о справедливости жизни! Нет, уважаемый Василий Михайлович, вот постоишь у печальных крестов рыцарей и лишний раз подумаешь о том, как мы неповоротливы в жизни, как нам не хватало этих солдат, чтобы оживить нашу кровь. Вернуть нам наше достоинство!
Налетал ветер. Ночью он ослабел, но к обеду разъярился снова. Снеговая крупка забивалась в складки пальто. Василий Михайлович, ненавидяще глядя на кладбище, глубоко и сильно выдыхал в сотрясавшуюся на холодном ветру бороду. Были бы руки, наверное, не устоял бы от искушения заткнуть источающий елей рот старосты.
— Нам доверили заботу о наших солдатах, — продолжал Малюночек. — Креста христианского не посрамим, не позволим, чтоб на земле нашего села впредь умирали такие рыцари! И дикость невообразимая, если позволить себе представить, от чего могут умереть: от случайных ран! — взвился на цыпочки староста, жестикулируя сразу двумя руками. — Я полагаюсь на тебя, Василий Михайлович, старого солдата, хотя и большевистского. Но глаз тому вон, кто помянет прошлое! Ты наказан за войну с твоими освободителями. И думы твои понимаю: сами могилы панов солдат будут укором и твоей и моей совести. Они пришли спасти нас, а мы не уберегли, не заслонили их. Вечный укор нам! Что нас ждет? Презрение потомков!.. Итак, идемте, Василий Михайлович, в комендатуру.
В комендатуре Василия Михайловича встретил немецкий офицер в очках, в кожаных галифе. На кителе Железный крест. Офицер встал из-за стола, затянулся папиросой. Держа левую руку за спиной, он сделал два твердых шага навстречу Василию Михайловичу.
— Прошу, — сказал он по-русски, указав папиросой на свободный стул у стола. — Вам говорили о важности вашей работы? — и, не получив ответа, продолжал: — Вы будете дежурить в госпитале. Смотреть. Когда надо — звать сестру. Дел много. Наши врачи и сестры очень заняты. Мало отдыхают. Вы будете смотреть за ранеными. Следить за порядком. В госпитале должна быть тишина. Строгость! Но! — Он вскинул вверх указательный палец и блеснул очками, вдвинув ладонь между пуговиц кителя на впалой груди, продолжал: — Мы не будем вас одевать в немецкую униформу. Дадим форму русского солдата, — и круто, как на стержне, повернулся у стола: — Это очень важно! Понимаете? — и пояснил: — Местные жители будут знать, что большевистские солдаты идут в германскую армию, и будут лучше уважать своих спасителей. Прошу! — вежливо-холодно приказал он Василию Михайловичу подойти к столу и выдвинул ящик. — Ваши награды, — он достал орден Красной Звезды и медаль «За отвагу». — Мы ценим вашу храбрость. Ценим награды, которыми наградило большевистское командование за эту храбрость. Нашим солдатам будет приятно видеть. Понимаете? Чтоб награды были на груди. Мы не хотим вас унижать. — Достав новую папиросу и прикурив ее, он снова блеснул очками. Голос его, все более наливающийся металлом, стал вызывать дребезжание крышки графина: — Великая Германия надеется, полагается на вас, героический русский солдат. Верим, вы будете ей служить преданно. Великие цели фюрера требуют от вас подчинения строгой дисциплине германской армии. Каждый шаг на службе должен доказывать, что вы честный солдат. Мы ждем вашу храбрость — и вы получите ордена Германии. Хайль, Гитлер! — щелкнул он каблуками и выбросил вперед сухую острую руку.
Офицер, посмотрев укоризненно на неподвижно стоящего Василия Михайловича, зачем-то крутнул крышку на графине. Потом прикрепил награды к пиджаку Василия Михайловича. Подумав, извлек из стола значок «Гвардия» и тоже прикрепил его к пиджаку.
— Староста! — крикнул он, и Малюночек появился в дверях. — Прошу оформить гвардейцу солдатский паек.
«И у этого фашиста голубые глаза!» — изумился Василий Михайлович.
В пот ударило его, бросило в озноб. Уходя от врага, ему казалось, что голубые глаза преследуют его.
«Господи! — встреча с фашистом в кабинете потрясла Василия Михайловича, будь у него руки — против воли бы перекрестился. — Встретить такое чудовище!»
Вернувшись к Оксане Ивановне, он рассказал ей о том, что произошло в том кабинете.
— Да зачем же он все это придумал, Ксюша? Я же не поддамся, как фашист ни хитри.
— Да откуда я знаю, зачем? Хомут тебе надевает. Пользу хочет иметь.
Когда со двора в хату вбежали ребята, Василий Михайлович велел им не отлучаться далеко от дома.
Они помогли ему снять пальто и ахнули: на пиджаке Василия Михайловича были награды. Настоящие, советские!
— Фашист повесил награды, — тяжело сдвинув брови, глубоко вздохнул Василий Михайлович. — Но вот что никак не пойму: откуда он взял именно те, что были у меня. И орден Красной Звезды был, и медаль «За отвагу» была, и полк наш гвардейский. Вот теперь и соображай: откуда фашист узнал про орден и медаль? Ведь я их вместе с документами парторгу сдал, когда к разведке боем готовились! Неладное что-то случилось… если он про такие тонкости, как мои награды, знает. Повесил мне и как бы намек сделал: от нас не отвертеться! Получай их и поскорей отдавай нам душу. Фюреру некогда с тобой лясы точить. Вот как начинаю понимать провокацию с наградами. За намеком и еще что-то кроется… А вот что, разве поймешь?.. — говорил Василий Михайлович с горькой тихой улыбкой на лице, которая не скрывала расстройства его души. — А ну, хлопцы, — окликнул он притихших в недоумении ребят, — снимите с меня награды. На номера посмотрю.
Семка снял и положил их на стол, поворачивая перед Василием Михайловичем, который разглядывал на них номера. Ребята впервые держали в руках неподдельные, настоящие советские орден и медаль. Со звездами на них.
— Номера большие, — наконец сказал Василий Михайлович и с досадою добавил: — Нет, не вспомню. Как ветром повымело номера из головы! Вот беда… — хмуро пожаловался он. — Говорил же командир: товарищи, запоминайте номера наград, паспортов, красноармейских книжек и других ваших ценных документов. И вот — как вышибло из головы! А помнил… Сейчас бы эти номера и подсказали что-нибудь важное. Помогли бы разобраться во всей чертовщине, какую немцы со мной затеяли. Ах, чтоб тебя пополам изломило! — обругал он свою голову, шумно встал и попросил у Оксаны Ивановны, чтоб она ему приготовила трубку с табаком. Потом он то останавливался у окна, то у кровати, то возле ребят, приникших к разложенным на столе наградам.
— Дядя Вася, а если бы вы номера вспомнили, то как бы они вам пригодились? — спросил Семка.
— Как? — отяжелело опустился на табурет Василий Михайлович. — Вопрос важный. Я бы и тебе мог его задать, чтобы ты сам подумал. Тут, конечно, ничего разумного заранее не скажешь. Можно только догадываться. Все мраком покрыто. А распутывать клубок надо. Иначе нам ничего не поделать с фашистами. Одно останется: поднимай руки вверх — и шагай на их скотный двор. Об этом фашисты и во сне мечтают. — Василий Михайлович закинул ногу на ногу, и сейчас же ему на колени прыгнул рыжий котенок, попытался поиграть с ним, постучал лапкой по бороде — перебежал к Тимке. — Если бы, скажем, я вспомнил номера наград, то я бы точно сказал: мои это награды или нет. Если они действительно мои, — что и представить себе не могу! — значит, немцы в самом деле про меня многое знают и затевают со мной что-то… Но сомневаться не приходится: закинут сильный крючок. Фашисты ничего случайного разводить не станут. У них все продумано до точки. Возможно, стряслась беда: мой полк разбит, и разбит он в том самом бою, когда и меня покалечило, и наши документы попали к фашистам. По ним и установили, кто я такой. Можно предположить другое: объявился знающий меня предатель. Случается подобное: свои люди и своих же предают. — Василий Михайлович внезапно наклонился к ордену Красной Звезды и, осененный какой-то мыслью, долго с прищуром глядел на его номер. — Нет, хоть убей, не упомню, — заключил Василий Михайлович.
— Что ж вы теперь с ними делать будете? — спросил растерянно, все время молчаливо слушавший Василия Михайловича Семка.
— Как что? — взглянул на него Василий Михайлович. — Оставлю их там, где мне их повесили! — твердо ответил он. — Мне своих наград нечего стыдиться. И хотя они через руки фашистов прошли, но заслужил я их в честных боях. Хлопцы, — живо и ласково сказал он, — вы, пожалуйста, почистите орден. Суконочкой, с мелом. Чтоб огнем засиял!
Василий Михайлович сидел в прихожей госпиталя.
За стенами в бывших классных комнатах слышались голоса раненых гитлеровцев. Стремясь не слушать чужую речь, Василий Михайлович подошел к окну, стекла в котором были косо перечеркнуты бумажными наклейками. Посвистывал ветер, бил по стеклам, густо исполосованным трещинами. «От ночной бомбежки полопались, — догадался Василий Михайлович, глядя на наклейки, которые с трудом удерживали от выпадания многочисленные стеклянные клинышки, мелко и часто вздрагивавшие от порывов ветра. — Для себя мы клеили, а, выходит, немцам помогли. Стекла сохранили. Повертелись бы они без стекла… — и закрыл глаза от нахлынувшей усталости. — Тьфу ты! Ни одна бомба не угодила», — недовольно взглянул он на рамы и, как когда-то в детстве, подышал на обросшие снегом стекла. Затянутые изморозью, стали отчетливее трещинки у самого рта. Он дышал и дышал, пока не закашлялся.
— Балуешься? — услышал Василий Михайлович недовольно-резкий голос старосты, который выскользнул из кабинета начальника госпиталя. — Вот… серьезное дело поручено, — ткнул он желтую бумагу чуть ли не в глаза Василию Михайловичу. — Катастрофа! Раненым крови не хватает. У тебя какой группы кровь? — быстро осведомился он.
Василий Михайлович, словно бы не поняв старосту и не заметив его раздражения, прислонился плечом к стене. Помолчал и принялся снова сосредоточенно дуть на стекло.
— Ты что? Не слышишь? Какой группы кровь?! — дернул его за пустой рукав староста. — У тебя самого? Дело, говорю, серьезное.
— Какой группы? — переспросил Василий Михайлович и глянул на бумагу, которую снова сунул к его лицу староста, и для пущей важности побарабанил по ней пальцем, потом, спохватившись, он бережно сложил бумагу вчетверо и засунул ее куда-то в карман. — А шут ее знает, какой… — видя нервную торопливость старосты, с улыбкой ответил Василий Михайлович. — Кровь она и есть кровь.
— Надо знать! — отрезал староста. — Село перевернем, а нужную кровь найдем, — добавил он и смерил Василия Михайловича невидящим взглядом. В его голубых глазах сверкнули не отраженные в них заиндевевшие окна, а словно бы полыхнула своя изнутри проступившая изморозь.
— Зачем село тревожить? — вдруг понял опасность фашистской затеи Василий Михайлович. — Надо как-то…
— А затем, — оборвал его староста, — что на нас лежит обязанность спасать германских солдат. Понимаешь? Не кого-то, а самих арийцев! Так сказать, незамутненный родник, никем не испорченный. Вот ты не знаешь, какой группы у тебя кровь. Другой не знает, третий. Не веришь? Спроси вот уборщицу — не знает! Тебе врачи никогда не говорили? — раздраженно говорил староста, запахиваясь перед выходом на улицу. — Со мной пойдешь! — отрывисто и зло бросил он. — Проверим всех жителей села. Кто не назовет свою группу крови, пригоним в больницу. Всех, всех! Кроме стариков и старух, разумеется…
— И детей, — добавил Василий Михайлович.
Староста, как ужаленный, крутнулся.
— Ничто, ничто и еще раз повторяю: ничто так не восстанавливает здоровье, как детская кровь! — Глаза его неожиданно сузились: — С детей мы и начнем. Твоя мысль дельная… Впрочем, времени у нас нет. Раненый полковник скоро будет здесь. Нужно немедленно и как можно порасторопнее, без всяких проволочек собрать в больнице детей. Понимаешь? — Голубые глаза расширились, лицо залила радость. — Соберем детей. Всех! А ты своих веди. Понимаешь? Первыми. Пример нужен, — он снял с вешалки пальто Василия Михайловича, помог ему одеться. — Никак скис? Понимаю тебя. Дети ведь все-таки. Будут колоть, больно и тому подобное. Но — на войне как на войне. Переживут. Еще веселей станут. Будущие солдаты. Через час встретимся, — и староста пропал за дверью. — В госпитале встретимся! — уже с улицы донесся его голос.
Василий Михайлович медленно сошел с крыльца. Он был подавлен, но гнев поднимался в нем. Никуда не ходить. Вернуться в госпиталь. С этого места — ни шагу. Но, значит, отдать детей в руки старосты? Уж он постарается выпить их кровь!.. Шел как оглушенный. Останавливался и снова шел. Что-то нужно сделать. Что? И вдруг Василий Михайлович поднял голову. Мелькнула нужная мысль. Еще неясная. Но и она освежила. А что, если не вести ребят? А что, если староста, придумавший эту проклятую идею, потеряет ее?.. Потеряет вместе с проклятой головой!.. Нужно… Да! Нужно, чтоб он пришел к нему в хату! Вот не вернусь в госпиталь — так и прискачет! И хата Оксаны Ивановны предстала ему тем последним рубежом, на котором надо стоять до конца. Итак — последняя схватка? Да, пожалуй, так оно и есть.
И окончательное решение ему явилось само собой.
Он попросит Оксану Ивановну уйти к сестре в Тризименку с детьми. Поймет ли его? Поймет. Она все хорошо понимает! И Василий Михайлович ускорил шаги.
Теперь дорога́ каждая минута. До появления старосты Оксана Ивановна и дети должны скрыться. Уйти как можно дальше от села. Только бы Оксана Ивановна не расплакалась, не загубила жалостью к нему и к родному крову его замыслы. Он решил, что не стоит ее посвящать в задуманное, надо лишь убедить ее увести ребят. И не возвращаться домой, как и Саша. Так нужно. И все. А в остальном он разберется сам.
Василий Михайлович свернул к первому на пути дому и рассказал хозяйке Евдокии о беде, нависшей над детьми.
— Спрячь ребят. И другим накажи. Пока староста не объявился. Он уже пошел по дворам.
Заскочил в другой дом.
— Будут кровь брать. А сколько они этой крови детской выпьют — и богу неизвестно, — заметил он благочестивой, всегда покорной Марии Платоновне.
— Бог не позволит! — перекрестилась та.
— Позволит! — жестко произнес Василий Михайлович. — И не такое позволяет. Вон в Германии дети в печах горят. Спеши. Времени их перекрестить не останется. Прощай. И прячь хлопцев. Где только можно. Если не успеешь, объяви их больными, заразными. Может, отступятся…
Почти бегом он направился к хате Оксаны Ивановны. Оглядел еще раз хату и двор, вишни, сарай. Все, что было понастроено в той, мирной жизни. Матовая белизна снега придавала всему особую красоту. Прочное хозяйство, которое теперь не было нужно.
Оксана Ивановна, почуяв неладное по его шибкой ходьбе, вышла к нему. И калитку открыла.
— Вот и добре, что вышла, — сказал, переводя дыхание, Василий Михайлович, — спасай детей от немецких лекарей… В общем, так: возьми еду на дорогу, потеплее оденься. И скорей, скорей в поле. Идите в Тризименку. Да ребятам адрес скажи. На всякий случай. Чтоб, если что случится, знали, куда путь держать. Фамилию сестры пусть запомнят. Об остальном детям знать не следует. Сейчас не следует. Потом, когда скроетесь за полями, скажи. Еще лучше, когда придете в Тризименку. Мне с тобою идти нельзя. Увидят. Сначала ты с ребятами. А я догоню. Ксюша, — попросил он совсем тихо, — покличь ко мне ребят, — и вошел в сарай.
Прибежали Тимка и Семка.
— Сема, найди в кухне трубку, — попросил Василий Михайлович. — Оксана Ивановна на шкаф положила. И сюда с нею. Чтоб Оксана Ивановна не заметила. Махорку захвати. Набить чубук надо. Тима, а ты в другом помоги. Значит, вот какое дело: в собачьей конуре бензин в бутылках имеется. Давно поставили и стоит. Ты осторожно так расплещи его в сенях по соломе и в подполе. Да смотри! Оксане Ивановне на глаза не попадайся! Понял? Только быстро надо. Ну, кати! Это солдатское дело, — заметил он Тимке.
В хате Оксана Ивановна связывала узлы.
— Ничего из барахла не берите, — решительно потребовал Василий Михайлович. — Не донесете и в поле увязнете. И пропадете с ним! А вот одеться следует получше. Поплотнее. Шерстяную кофту. Шерстяной платок. Ну еще там что… Тебе виднее. Так. Так. Так, — оценивал он скорые дела Оксаны Ивановны. И как бы поторапливал ее. — Ну, идите. Идите. Ребята за изгородью ждут. У них все в порядке. Я догоню вас. Не беспокойтесь. Даже если не сразу догоню. Тоже ничего. Буду идти по адресу: на Тризименку. Такое время, Ксюша, — сказал Василий Михайлович, выходя за нею из хаты, — гуртом маячить не рекомендуется.
Едва они все трое выкатились за изгородь, Тимка метнулся назад. Заскочил в хату, как попросил его Василий Михайлович, открыл подпол, влез в него и там по соломе расплескал две бутылки бензина. Оставив подпол открытым, умчался к Оксане Ивановне.
Василий Михайлович сел за стол. Теперь можно и раскурить трубку.
Староста пришел к нему не так скоро, как ожидал Василий Михайлович. Часа через два.
— Почему не ведешь детвору?! — раздался его крик из сеней.
Василий Михайлович не ответил, ждал, когда староста войдет в хату.
— Почему не ведешь, спрашиваю? — шагнул тот к столу.
— Как их вести, видишь: без рук я. Подогнать нечем.
— Оксана Ивановна! — крикнул староста на всю хату.
— Да не кричи, — остановил его Василий Михайлович. — Нет ее. В гостях засиделась. Уж эти бабы. Война, а им бы только по гостям расхаживать, — пожаловался он.
— А ребята где? — нетерпеливо спросил староста.
— Да где ж им быть? Конечно, дома, — вяло ответил Василий Михайлович. — Их, стервецов, давно пороть надо. От рук отбились. Не слушаются — и все, — опять как бы пожаловался Василий Михайлович.
Староста прислушался к тишине в хате, осмотрелся. Безмолвие не нарушалось ни одним шорохом.
— Не услал ли ты и детей в гости, а? Мозги затуманиваешь!
— Да что ты так, Юхим Семенович?! — Василий Михайлович встал из-за стола. — В подполе они. В подполе попрятались — и сидят. Ну как их мне вытаскивать оттуда? Вот загляни, Юхим Семенович, какой подпол. Страсть какой! И зачем такой подпол деды копали?! А детям что? Забрались туда — и не выковырнешь. Что тут с ними поделаешь! Одно слово: дети. Вот если только ждать, когда они сами вылезут…
— Что за подпол? — настороженно и подозрительно спросил староста, проходя в кухню за Василием Михайловичем.
— Этому подполу сто лет. Тут раньше, пока хата еще не была выстроена, погреб был, — начал объяснять Василий Михайлович. — Просто чудно как-то, что ты про него не знал. Ну, слава богу, хоть теперь посмотришь. А то мало ли что сказать захочется. Да, да. Про меня же и скажешь. Служу Германии, а в хате тайный подпол. Я думаю, недоброе это дело от властей тайны хранить. Ну вот и случай представился всю хату, как другу показать. Смотри, смотри. Я весь как на ладони. Мне таиться не к чему. Хлопцы, слышите? Выходите! — крикнул Василий Михайлович в глухую темноту подвала. — Не то худо будет.
— Выбирайтесь, выбирайтесь, хлопцы! — стараясь быть ласковым, поддакнул староста Василию Михайловичу. — Хуже будет, если придется силой вытаскивать. Слышите? Сам полезу, найду, — пригрозил он.
— Вот, вот! От Юхима Семеновича и темнота не спасет, хлопцы. Зря надеетесь! Выбирайтесь — так оно лучше будет.
— У меня и свет найдется! — похвалился Юхим Семенович и достал зажигалку. Для пущей важности чиркнул ею. Бледно-голубой огонек вспорхнул на фитиле.
— Ото машина! — удивленно воскликнул Василий Михайлович, увидев зажигалку в виде пистолетика. — А ну-ка, дай прикурить. Совсем трубка загасла. Не трубка, а чистая беда, — говорил Василий Михайлович, перекатывая трубку во рту. — Если не секрет, где такую зажигалку достал?
— Долго рассказывать, — отмахнулся от него староста, но был польщен. — Диковина в самом деле непростая. Однако мы на службе, оставим брехню. — Он поднес огонек к плотно набитому чубуку.
— Да, да, Юхим Семенович, — поспешил согласиться Василий Михайлович. — А тут еще проклятый подпол! Хлопцы! — крикнул он в черноту лаза. — Побаловались и хватит. Сам пан староста пришел за вами. Как бы худа не случилось, хлопцы. Вами уже германские власти интересуются. И чего вы, глупые, боитесь? Ну, осмотрят вас доктора и отпустят. Здоровьем вашим интересуются. Выходите, не подводите меня. Доктора ждут не дождутся…
— Верно, хлопцы, — слова Василия Михайловича растрогали старосту, — чего жметесь. По глупости своей жметесь. Айда встречаться с врачами. Покажетесь — и гуляйте себе на здоровье. Ну кто вас держать станет. Дело для вас самое пустячное. Плевое, я бы сказал. Сейчас вот выходите — и со мной вместе к самому начальнику и прибудете. За послушание наградят отменным шоколадом.
— Молчат, — прислушиваясь, огорченно сказал Василий Михайлович. — Как воды в рот набрали. Ну что вот с ними делать?! Сидят и молчат. Как будто их и нету. Горе, горе, хлопцы. Мы-то, взрослые люди, понимаем, что вы там. Кончайте играть, кончайте. И того… к нам. Тьфу ты! Ругаться хочется, Юхим Семенович! Что за дети пошли! Полез бы за ради большого дела, да как лезть в эту проклятую дыру?!
— Глубок ли подпол? — поинтересовался Юхим Семенович, прицеливаясь глазами в пахнущую бензином дыру. Поводил носом, принюхиваясь и что-то про себя решая.
— Не очень, только мне, безрукому, не справиться, — ответил Василий Михайлович. — Хлопцы туда легко, словно картошка, скачут. И хоть бы что!
Юхим Семенович встал на колени и заглянул в подпол.
— Посвети, посвети, может, и заметишь, в каком углу тычутся, — осторожно посоветовал Василий Михайлович, приближаясь вплотную к старосте.
Щелкнула зажигалка. Синеватое пламя тускло осветило навал соломы на дне подпола. Поводил зажигалкой в провале.
— Нет, не вижу, — сказал Юхим Семенович, вставая с колен. — Придется лезть.
— Да удобно ли в такую затхлость забираться? А? — Василий Михайлович уже чуть ли не касался бородой плеча старосты. — Еще какой плесенью измажешься. Или ударишься, или зацепишься… Гвозди там торчат. Мало ли что может случиться. Конфуз какой…
— Кунштюки для солдата не страшны. Сам знаешь.
— Ну, гляди, гляди, — вздохнул Василий Михайлович, отступая от старосты. — Кунштюк?! Вот еще слово какое. Грамотный ты, Юхим Семенович, потому и смелый. Куда нам до тебя.
Староста снял пальто и с зажигалкою в руках спрыгнул в подпол.
Сделал там два-три шага, и внезапно подпол взорвался буйным густым пламенем. Дохнуло жаром и дымом.
Василий Михайлович оглянулся. В хате никого больше не было. Дверь крепко закрыл сам староста. Рванувшийся из подпола дым наполнил хату. Из подпола показались руки Юхима Семеновича. Судорожно ухватились за край лаза. Оскользнулись — и снова ухватились. Вот вынырнула из дыма голова.
Василий Михайлович что было силы ударил ногой.
Староста вскрикнул, но продолжал висеть на руках, тужась выбраться из пламени.
Новый удар ногой — и староста ухнул в гудящий подпол. Крик — и молчание.
— Вот и сгорай там, чертова душа! — с облегчением выругался Василий Михайлович и принялся запихивать ногами в подпол все, что было в кухне: вниз полетели чугуны, ведра, миски, тарелки, табуретки. Обрушил туда и кухонную дверь и несколько легко отлетевших от удара плечом досок переборки. Пригнал к лазу и стол. Наполовину затолкал его навстречу пламени. Потом выбежал в сени. Выплюнул трубку на солому, политую бензином. И там рванулось пламя. В кладовой закудахтали беспризорные куры.
Василий Михайлович вышел во двор и торопливо зашагал к оврагу. Оглянулся лишь на звук застучавших по селу автоматов. И вдруг увидел, как возле его ног часто запрыгали резкие снежные фонтанчики.
Снежные брызги — последнее, что увидел Василий Михайлович в своей жизни.
Иван ЧЕРНЫХ Портрет
С майором Кречетовым мы познакомились в гостинице.
Как-то вечером, когда я уже лежал в постели, Кречетов разбирал свой чемодан. Вместе с книгами он выложил небольшой портрет в плексигласовой рамке. Вглядевшись в лицо на портрете, я узнал Кречетова. Черты лица майора были переданы с удивительной точностью. Его высокий лоб, упрямый подбородок.
— Сами делали? — спросил я.
Кречетов взглянул на портрет, лицо его помрачнело.
— Нет, — глухо ответил он. — Друг подарил…
— Давно это было?
— В 1942 году…
Майор поставил портрет на тумбочку, закурил и, выключив свет, стал раздеваться. Несколько минут мы лежали молча, а потом Кречетов заговорил:
— В январе 1942 года меня ранило, почти полгода провалялся в госпитале. С заключением врачебной комиссии «годен в легкомоторную авиацию» поехал в свой полк. По пути заскочил домой, но еще на вокзале узнал, что у жены есть другой. Известие не особенно расстроило меня, я был готов к этому: жена не прислала мне в госпиталь ни одного письма. Уже тогда я догадывался о причине. Видеть ее расхотелось, и я со следующим поездом уехал в часть.
Командир встретил меня радостно.
— Наконец-то вернулся! — сказал он, крепко пожимая мне руку. — А мы, признаться, думали, не бывать тебе больше летчиком. Ну, рассказывай.
Я достал командировочное предписание и историю болезни. Командир прочитал их, посмотрел на меня.
— Да, положеньице неважное. Ну, ничего, есть для тебя хорошее дело. У нас женскую эскадрилью организовали, на По-2 летают. Нужно готовить их к ночным полетам, а инструкторов, сам знаешь… — он развел руками.
— Что вы, товарищ командир? — взмолился я. — Куда угодно, только не к женщинам. — После истории с женой я их возненавидел.
— Ты самая подходящая кандидатура. Пойми — это важное дело. Да не тебе рассказывать о преимуществе полетов ночью. В общем, завтра отправишься в эскадрилью, — закончил он строго.
Так после боевого бомбардировщика я стал летчиком на По-2.
Кречетов вздохнул, немного помолчал.
— Девушки в эскадрилье оказались толковые, имели не по одному десятку боевых вылетов. Но были среди них и зеленые, только прибывшие из школ.
Отношение мое к ним, к женщинам, оставалось строго деловым, а порою грубоватым. Лишь одной я делал исключение, скромной, застенчивой девушке лет девятнадцати, с нежным, как у ребенка, лицом, с ясными голубыми глазами и русыми волосами. Когда я с ней говорил, она опускала бархатные ресницы, и румянец густо заливал ее щеки. Относился к ней, как учитель к послушному и милому первокласснику. В летном деле она действительно была первоклассницей: до войны занималась в художественном училище, а в конце 1941 года поступила в летную школу. Шесть месяцев учебы — и фронт. Мне предстояло сделать из нее ночного летчика.
Первые полеты разочаровали меня. Летала она плохо, неуверенно, когда я делал ей замечания — терялась. Бывало, слетаю с ней по кругу, начну разбирать ошибки и рассказывать, как их устранить, она опускает глаза. И не поймешь, слушает она или о чем-то своем думает.
— Сержант Обозова, вы меня слушаете?
— Слушаю, товарищ младший лейтенант, — тихо ответит она.
А полетим — снова и снова ошибки.
«Нет, не выйдет из нее летчика, — думал я. — И зачем только она пошла в авиацию? Сидела бы дома да малевала себе картины».
Все летчицы уже летали на задания, а я ее еще не мог выпустить. Как-то мне потребовалась летная книжка Обозовой, чтобы записать результаты последней проверки. В землянке Обозовой не оказалось. Я попросил дежурную принести книжку. Перевернув сразу несколько листов, застыл от удивления: передо мной лежала не летная книжка, а дневник. В глаза бросились слова: «Теперь я окончательно убедилась, что люблю его». Дальше шли стихи.
«Так вот что кроется под этой скромностью, — с возмущением подумал я. — Она и в полете, наверное, думает только о нем».
Я негодовал. Во мне заговорило чувство ревности. Хотелось бросить эту чертову эскадрилью и уйти рядовым в пехоту… Но долг есть долг.
На аэродроме вызвал Обозову к себе.
— Сержант Обозова, — начал строго, — вам известно, что в армии не положено заводить дневники?
Лицо ее вспыхнуло, глаза заблестели, на них навернулись слезы. Она опустила голову.
— За что вы меня так… не любите? — чуть слышно спросила она.
— Мы здесь не для того, чтобы влюбляться, — резко ответил я. — Вы совсем не думаете о полетах. Кончится война, влюбляйтесь сколько угодно.
— Дайте мне другого инструктора! — она вскинула голову.
Впервые я услышал ее решительный голос.
— Что ж, сегодня полетите с командиром звена, — согласился я. — А за дневник на первый раз объявляю два наряда. Идите.
Ночью с ней полетела командир звена. Неожиданно для меня она выпустила ее самостоятельно. Вначале я волновался, а когда девушка возвратилась из полета и посадила самолет, удивился чистоте посадки. Обозова стала летать, и летать не хуже других. Меня она избегала, а если нам приходилось встречаться, старалась побыстрее уйти.
Прошло лето. Наступили хмурые осенние дни. Мы летали в любых метеорологических условиях и в любое время суток.
Приближался праздник годовщины Октября. Мы в это время стояли недалеко от Урюпинска, обстановка была сложная. Наша авиация день и ночь бомбила передний край врага, скопления техники, аэродромы, эшелоны. В ночь с шестого на седьмое ноября меня вызвал командир полка. Подойдя к большой географической карте, он нацелился указкой в зеленое пятнышко и сказал:
— Вот здесь расположен аэродром и штаб тридцать второй воздушной армии врага. Его нужно уничтожить. Полетите вы, в напарники возьмите экипаж с хорошим штурманом. Удар нанесете ровно в шесть тридцать вот по этому зданию, — командир протянул мне большой фотопланшет и указал на один из серых квадратов. — Учтите — подходы сложные: кругом зенитные орудия и истребители противника. Задание выполнить во что бы то ни стало!
В три часа утра я приказал поднять своего штурмана Белову и экипаж Обозовой. В напарники пришлось взять ее — штурман Малинина была у нее настоящим снайпером.
В просторной землянке, освещенной маленькой лампочкой, рассказал экипажу о задании, вместе обсудили маршрут полета. Рассчитали курсы, время прибытия на цель. Обозова заметно волновалась, но глаза ее сияли радостью и благодарностью.
Ночь была непроглядная. Моросил мелкий осенний дождик. Где-то в стороне вспыхивал прожектор, и его луч расплывался в желтое пятно: рваные облака плыли над самой землей. Мы шли на аэродром. Впереди — девушки-штурманы, немного позади — я и Обозова. Молчали. Слышно было, как шумели деревья, с которых ветер срывал последние желтые листья. На сердце было тревожно и тоскливо. Я изредка посматривал на темный силуэт соседки и думал: «Наверное, не раз помянула меня недобрым словом за случай с дневником». Чувствовал, что виноват перед нею. Может быть, действительно, тот, кого она любила, был радостью и счастьем в ее жизни, а я пытался помешать ей.
Переходя канаву, Обозова поскользнулась и чуть не упала, я подхватил ее под руку. Хотелось заговорить, чем-то смягчить свою вину перед ней. Но мысли путались, я не находил подходящих слов. Снова вспомнилась запись в дневнике, наш разговор с ней и ее решительный голос.
«Да, она сильно любит его», — подумал я, и мне стало еще тоскливее. Вздохнул глубоко.
— О чем это вы? — Она повернула ко мне голову.
— Просто так, — спохватился я. — Темно очень. Помолчали.
— А правда, что ваша жена замуж вышла? — вдруг тихо спросила девушка.
— Откуда вам это известно?
— Случайно услышала.
Я промолчал.
— Вы ее любите? — снова спросила она.
— Не знаю, — откровенно признался я. — Так все было мимолетно. Встречались мы с ней редко — у курсанта свободного времени почти не бывает. Потом поженились. Пожили два месяца — и война. Может быть, она и не виновата…
Разговор прекратился. Мы пересекли лесную полосу и вышли к стоянке самолетов.
— Итак, счастливо, — я пожал своей спутнице руку. — Ни пуха ни пера.
— И вам также.
Мы постояли еще немного и пошли к самолетам.
Я вылетел первым. Спустя две минуты должна была взлететь Обозова. Кромешная тьма не позволяла разглядеть ни одного ориентира. Подлетая к линии фронта, я набрал высоту 400 метров и пошел в облаках. Тихо и черно было вокруг, лишь монотонный гул мотора да зеленоватые стрелки приборов напоминали о жизни и об опасности.
Летели немного более двух часов. Пора снижаться. Я убрал газ и отдал от себя ручку. На высоте 350 метров пелена облаков спала. Дождя здесь не было. Впереди, справа, увидел зарево. Это мои бывшие однополчане бомбили скопление фашистской техники на станции Михайловка.
Белова покачала крыльями: означало — подходим к цели. Самолет будто затаил дыхание. Только глухие хлопки вырывающегося из цилиндра сжатого воздуха били по обшивке. Казалось, это стучит сердце.
Внизу вспыхнул свет: загорелась осветительная бомба, брошенная штурманом. Сразу же по небу хлестнули лучи прожекторов. Недалеко от самолета пробежала тонкая дорожка трассирующих пуль. Заполыхали разрывы. Я взглянул вниз, отыскивая вытянутую сапожком поляну. Она оказалась немного левее. У самой опушки леса виднелись домики, среди них и тот, который был нужен нам.
Развернул самолет и направил его прямо на здание. «Где же Обозова? — думал я. — Неужели отстала?» В это время увидел пламя. Удар был точный. Малинина и на этот раз оправдала надежды.
Светящаяся авиабомба еще горела. Я видел, как из домиков начали выскакивать фашисты. Они заметались среди редких деревьев.
— Давай, Валя, бей! — закричал я Беловой, хотя и знал, что она не услышит.
Наши бомбы тоже полетели вниз, огненные смерчи охватили и другие здания, разнося их в щепки и смешивая с землей.
— Это вам октябрьский подарок! — крикнул я и стал выводить самолет из пикирования. Прожекторы, зенитки и пулеметы продолжали гвоздить небо, но мы шли над самой землей, и вреда они нам никакого не причиняли.
Возвращались домой по прежнему маршруту, также под нижней кромкой облаков. Все пока шло благополучно. Начало светать. Мне обычно казалось, что рассвет наступает очень медленно. Но в то утро земля выплыла из темноты неожиданно быстро. До фронта оставалось около пятидесяти километров. И тут произошло такое, чего никто из нас не предвидел.
Кречетов замолчал. Вспыхнувшее пламя спички осветило его суровое задумчивое лицо.
— Обозова летела впереди, — заговорил он снова, и голос его стал еще глуше. — Я видел ее самолет и старался все время держать его в поле зрения. Внезапно ударили зенитки. От первого же залпа самолет мой вздрогнул. Сразу же мотор начал давать перебои. Я попытался было изменить обороты, но мотор чихнул еще пару раз и заглох. «Вот и отвоевался», — мгновенно пронеслось в голове. Обиднее всего было то, что до линии фронта остались считанные километры. Самолет упрямо шел к земле. Внизу виднелись небольшие полоски леса. Я выбрал место поровнее, поближе к опушке, и пошел на посадку.
Как только самолет остановился, я отстегнул парашют и бросился к мотору. Еще в воздухе у меня мелькнула догадка, что перебит провод магнето. Но не успел я осмотреть мотор, услышал крик Беловой: «Фашисты!»
От леса бежало примерно пятьдесят вражеских солдат.
— Хальт, хальт! — горланили они.
— Пулемет! — крикнул я Беловой.
Она дала длинную очередь. Враги залегли. Началась перестрелка.
В это время Обозова снизилась и, заложив самолет в левый вираж, открыла огонь. Фрицы, оставив человек двадцать убитыми, скрылись в лесу. Оттуда они снова начали стрельбу. Пули дырявили наш самолет, вздымали вокруг него облачка пыли. Желтые струйки потянулись и вверх, к самолету Обозовой.
Но она держалась молодцом. Почти над самой землей проносилась ее машина; как только она шла вдоль опушки, фашисты замолкали.
Говорят, утопающий хватается за соломинку. Понимая всю бесполезность своей затеи, я все же стал копаться в изуродованном моторе. Неожиданно пулемет Беловой замолчал. Бросился к кабине. Там, уткнувшись головой в борт, лежал мой безжизненный штурман. Выбившиеся из-под шлема черные волосы смешались с кровью. Пуля попала в висок.
Я склонился над пулеметом. Но враг почему-то прекратил стрельбу. Все стихло, лишь издалека доносился рокот самолета Обозовой. Вот шум его начал заметно нарастать. И как только По-2 скользнул вдоль опушки, дробь пулеметов и хлопки малокалиберных пушек заглушили все. Теперь враг обрушил огонь только на Обозову. Фашисты поняли, что я от них никуда не уйду.
Обозова сделала еще круг и еще. Это был поединок. Но долго он продолжаться не мог: боеприпасы у нее кончатся, и она ничем мне не сможет помочь. «Напрасно Обозова рискует, — думал я, — видно, конец мне». Достал пистолет, перезарядил его и сунул за пазуху.
Обозова продолжала кружить. Но не стреляла. Я несколько раз махал ей шлемом, показывая на восток, но она не покидала меня.
Вдруг ее самолет зашел подальше от опушки и, снизившись, коснулся колесами земли. Он пробежал и остановился почти рядом с моим. К нам, стреляя и горланя, устремились фашисты. Я дал по ним очередь, они залегли. Обозова поднялась в кабине и махнула мне рукой, но тут же я увидел, как она покачнулась и опустилась.
Я бросился к самолету. В тот момент мыслей об опасности уже не было. Душу заполнили ненависть и отчаяние. В одно мгновение я забрался на плоскость машины и увидел бледное лицо девушки.
— Скорее, — прошептали ее губы.
Я метнулся к задней кабине. На какое-то мгновение увидел мчащихся на мотоциклах вражеских солдат.
— Ко мне в кабину, быстро! — крикнула Малинина.
Раздумывать было некогда. Перевалившись через борт, я сам дал газ. Самолет устремился вперед, взлетел. Я выжимал из мотора все, что он мог дать. «Быстрее бы линия фронта», — твердил мысленно, беспокоясь за Обозову, не подававшую никаких признаков жизни. Голова ее с золотистыми волосами склонилась на грудь.
Наконец внизу показалась река. За ней начиналась наша территория. Садиться пришлось в чистом поле. Здесь по-прежнему шел дождь. Самолет, пробороздив полосу, остановился у небольшого холмика. Я выключил мотор и бросился к Обозовой. Мы вместе с Малининой осторожно вынесли ее и положили на землю. Она была без сознания. Комбинезон, пробитый на груди, пропитался кровью. Я дрожащими руками расстегнул его.
— Пакет! — крикнул Малининой.
Когда она принесла бинт и я стал вытирать рану, Обозова застонала. Дождь, по-видимому, освежил ее и привел в чувство.
— Саша, — тихо позвала она.
Впервые Обозова назвала меня по имени. Я приподнял ей голову. Она смотрела на меня помутневшими голубыми глазами.
— Сейчас мы перевяжем рану, и тебе станет легче, — успокаивал я.
Она попыталась улыбнуться, а потом чуть слышно сказала:
— Нет… я умру… Все горит.
— Что ты, Катя, ты будешь жить, — наклонилась над ней Малинина. Обозова посмотрела на подругу, и по щекам у нее покатились слезы.
Малинина осторожно перевязала рану. Катя нащупала своей холодной рукой мою:
— Возьми… тебе подарить хотела… стеснялась, — прошептала она, показывая на карман гимнастерки.
Я расстегнул пуговицу и вынул этот портрет. Только в тот момент мелькнула догадка, что в дневнике писалось обо мне.
— Катя! — Я склонился к ней и прижался губами к мокрому лбу.
На какое-то мгновение глаза ее вспыхнули. Затем тяжелый стон вырвался из груди, и она затихла. Дыхания уже не было.
Майор раскурил потухшую папиросу, затянулся несколько раз подряд и закончил:
— Вот и вся история с портретом.
В комнате стало тихо. Лишь часы отстукивали время равномерно и монотонно.
Олег ТУМАНОВ Соловей
Нас было трое — я, она и музыка.
Когда мы познакомились, Дейе и мне было по девять лет, музыке — вечность.
Девчонка сидела на корточках за углом киоска на базарной площади, поглядывая в сторону торговых рядов со сладостями. На прилавках серебристыми пирамидами, издавая аромат восточных пряностей, покоилось бесчисленное количество халвы, а между ними — как молочные оазисы — огромные блюда с приторно-сладкой сметанно густой мишалдой и горы золотистых лепешек, хрустящих и пахнувших даже на расстоянии жаром углей.
Продавцы, засучив рукава, черпают мишалду огромной деревянной ложкой и, подняв, сливают обратно. Бесшумно стекая, она образует на поверхности небольшую дюну, которая тут же расплывается по зеркально-молочной глади.
Во всем ощущается разморенная жарой медлительность, приглашающая разлечься в тени арыка, и черпать куском лепешки мишалду, как это время от времени делает кто-нибудь из торговцев. Сытостью и покоем веет от этих рядов.
Я стою за углом противоположного киоска и не испытываю ничего, кроме подкатывающей и заполняющей меня злости и голодной тоски.
Вот уже полгода, как я сбежал из дома и скитаюсь по стране в надежде встретить цирк шапито. Что будет дальше, я не знаю. Просто я должен летать под куполом цирка. Я уверен! Папа с мамой были против, и потому я сбежал. А сейчас я хочу есть, не ел целые сутки. Черт меня дернул пробираться в эту Среднюю Азию. Может, «Ташкент город хлебный» Неверова, читанный дома? Но это было давно, и дома было еды навалом. Здесь — тоже. Все сыты, а я хочу есть.
Неужели людям непонятно, что я хочу есть? Наверное, понятно, и даже очень, поэтому я не смотрю им в глаза. А тут еще эта девчонка! С самого утра торчит у киоска, а из-под него по арыку ход под прилавок… и все в порядке. Может, ее посадили сторожить этот лаз? Скорее всего так оно и есть… Иначе чего бы ей здесь торчать?!
Когда никого нет, она еле слышно посвистывает, кто-нибудь проходит — замолкает и поглядывает на продавцов. «Вот зараза! Дать бы ей… Улетела бы за сто километров». На ней длинное рваное платье и черный такой же рваный платок, закрывающий лицо до самых глаз. Сидя на корточках, она продолжает поглядывать на прилавки, шевеля грязной ногой в арыке.
На Востоке говорят: «Человек, ты мыслишь? Ты живешь!» Я мыслил, но не отвлеченными понятиями, а сиюсекундошными: как из этого, цветущего красками Востока, сада-пищи спереть хоть одну лепешку или кусок халвы и тем самым решить для себя извечный вопрос человеческого бытия.
Свист, пронзающий как длинная тонкая игла, проникающий через перепонки даже в мозг и на какое-то мгновение парализующий его, пронесся над базаром. Все оцепенело, как цепенеет насекомое, наколотое булавкой: люди, лошади, арбы, продавцы. И казалось, даже мишалда, как будто неожиданно схваченная морозом, повисла в воздухе. В застывшей тишине, между рядами сладостей, стремительно неслось маленькое гибкое, похожее на ласточку существо. В одно мгновение оно как бы слегка несколько раз коснулось прилавков и исчезло, оставив после себя в воздухе неясно тающий силуэт. Оцепенение прошло, и базар с новой силой вспыхнул красками голосов и чувств.
Девчонки у киоска не было.
Продавцы сладостей, встрепенувшись, стали подозрительней, и я, поняв бесплодность попыток что-нибудь спереть, пошел слоняться по базару в надежде на слепой случай, который чаще, чем этого бы хотелось, оказывается зрячим.
Не знаю как теперь, с тех пор прошло много лет и я больше в Средней Азии не был, не считая госпиталя во время войны в Сталинабаде, а тогда среднеазиатские базары, окруженные дувалами,[9] а в ряде случаев крытые, как в Бухаре, были похожи на живую оранжерею цветов, двигающуюся и издающую густой, тягучий аромат. Тела несут свои цвета и запахи навстречу друг другу и, смешавшись, превращаются в пестрый ковер красок, напоминая картину экспрессиониста, написанную густыми мазками.
Ты попадаешь в этот бесконечный поток и двигаешься вместе с ним помимо своей воли. Поток выносит тебя к месту продажи фруктов и овощей. Их горы! Они начинают кружить вокруг тебя (или ты вокруг них), и невозможно понять, ты или они — центр этой маленькой вселенной: оранжевые гуляби,[10] зовущие благоуханным ароматом; сахарный бахарман[11] до полуметра длиной, с кожурой, напоминающей цветом кору березы и вкус ее сока; арбузы почти черные, как будто загоревшие на солнце, дразнящие скрытой кровавой прохладой своей мякоти; длинные, с кожицей прозрачной, как вода горной реки, гроздья «дамских пальчиков»; помидоры, надувшиеся и покрасневшие от собственной важности; сливы «султанки», похожие на тысячи маленьких лун; яблоки, алыча, гранаты, готовые разорваться и обрызгать тебя своей кровью. И наконец, персики — их чуть-чуть тронутые загаром плоды, покрытые золотистым пушком, слегка подернулись румянцем от ощущения доступности чужим взорам. Все сверкает и переливается в лучах прямо надо всем этим стоящего солнца. Оно как бы любуется тем, чему само дало жизнь: плоды персиков — любимое ее детище. Они это знают, поэтому так изнежены и капризны.
Какое же и чье детище я?
Солнце жарит меня сверху, а голод сушит изнутри.
Человеческие тела носят меня по базару, и я, подчиняясь общему движению, плыву с ними — маленький, ненужный и, как все голодные, — злой.
Кто-то теребит меня за рукав, я оборачиваюсь, Дейя! Я еще не знаю ее имени. Но это та самая девчонка, которая сидела у киоска: лицо закутано платком, видны только глаза, большие и влажные. Она кивает: «Пойдем!»
Я не знаю — куда и потому стою, а люди проходят, толкают то слева, то справа. «Пойдем», — повторяет она жестом. Иду. Зачем? Не знаю. Просто иду.
Голод лишил меня воли, и я иду. Черная фигурка мелькает в людском потоке. Еле успевая расталкивать человеческие тела, я то и дело натыкаюсь на различные их части: спины, бедра, руки: они отшвыривают меня как случайный камень на дороге. Что-то непонятное тянет за Дейей, и я начинаю энергичней работать локтями. Наконец, ворота базара. Дейя уже там.
— Ты чего? — спрашиваю я.
— Пойдем, — опять кивает она.
Какое-то странное чувство владеет мною, я не хочу идти, но иду. Внутреннее сопротивление слабо, желание идти сильней — и я иду. Она двигается впереди легкой, чуть пританцовывающей походкой, из-под рваной бахромы платья мелькают голые пятки, то и дело погружаясь в толстый ковер бархатистой пыли. Такое ощущение, что нас связывает молчание.
Я и сейчас уверен, что молчание связывает сильней любых слов. Бывает так, что слова не нужны, они мешают. В таких случаях они кажутся хламом. У каждого человека бывает чувство, когда весь словесный хлам он хочет выбросить на помойку. Нам не надо было ничего выбрасывать — мы не успели им обзавестись.
Дейя чуть слышно свистит, что-то легкое и в то же время уверенно-сильное. Было немного странно, что она свистит. Девчонка — свистит?! Я подумал об этом еще на базаре. Свист ее не был похож на обыкновенный свист мальчишек при бездельничанье. Это была какая-то определенная мелодия, отражавшая внутреннее состояние автора.
Вскоре начались сады. Мы подходили к огромной глинобитной стене, окружавшей город еще со времен расцвета Хорезма, продолжавшей и сейчас своими развалинами напоминать о великой эпохе. Дейя скользнула в один из проломов, махнув мне рукой и повелительно свистнув.
Поднимаясь на стену, срываясь и хватаясь за выступы, я удивлялся, как быстро и легко проделала это она. Со стены были видны сады, окруженные полями. Поля до ломоты в глазах сверкали снеговой белизной хлопка, над которым плыло марево, там и сям, как муравьи, копошились люди.
Если эти люди видели нас, мы им, вероятно, казались далекими, маленькими и чужими. На таком расстоянии между людьми рвется духовная нить и люди перестают чувствовать извечную взаимосвязывающую необходимость друг в друге.
Чуть сбоку в стене виднелась щель, из которой показалась сперва рука, затем голова Дейи, приглашающая меня следовать за ней. Это был узкий лаз, в который могло протиснуться только детское тело; он привел в довольно обширную пещеру, освещенную двумя узкими, сантиметров по пятнадцать-двадцать в диаметре, отверстиями, расположенными под небольшим углом, играющими роль окон и вытяжных труб.
Дейя улыбнулась, блеснув в темноте зубами, и подвинула ко мне огромную деревянную миску, наполненную теми самыми хрустящими лепешками и халвой, при виде и недоступности которых у меня еще совсем недавно возникало чувство злости и голодной тоски. Глупо было бы о чем-нибудь спрашивать, когда перед тобой лежал клад, стоило только протянуть руку.
Не знаю, трудно об этом сказать сейчас, а тем более тогда, вкусным ли было то, что мне предложила Дейя, ибо пустой желудок требовал только одного…
Когда я покончил с едой, Дейя, опять улыбнувшись, подала мне медный кувшин с водой. Поев за эти долгие дни, я почувствовал настоящую сытость: все подернулось, как говорят, розовой дымкой… Я уткнулся в подсунутые мне Дейей под голову какие-то тряпки…
Снилось, что я опять еду в поезде «зайцем» и без конца должен убегать от контролера. Контролер появляется всегда с одной и той же стороны вагона. Я быстро иду в противоположный конец, лишь бы не была занята уборная, она — мое спасение. Открыв окно в уборной, вылезаю на его карниз и прыгаю на подножку, это совсем не страшно, я проделывал это тысячи раз во время своих скитаний.
Ну вот, теперь все в порядке. Дверь, ведущая из вагона к подножке, закрыта, и ревизор, убедившись в этом, никогда не станет ее открывать, а если и попытается, ничего не увидит: я буду висеть на вытянутых руках между подножкой и буферами.
Все выглядит увлекательной игрой в «казаки-разбойники», в которой разбойник — я. И когда это удается, а пока так и было, все ликует от ощущения ловкости и неуязвимости.
Под ногами мелькает земля, превращаясь в мгновенно расстилающуюся домотканую дорожку. Свистит ветер, мешаясь с трах-тах, трах-тах — звуками перекликающихся между собой колес. В небе, несмотря на эту бешеную скачку, медленно плывут звезды.
И сколько раз, повиснув на подножке и раскачиваясь в такт вагону, я думал о мирах, которые там существуют. Наверное, и там люди, и ходят поезда, и есть мальчишки, так же раскачивающиеся на подножках, и, наверное, им так же радостно, как и мне. Только очень жаль, что мы не видим друг друга. А может, они видят? Тогда жаль, что не вижу я.
Звезды, звезды! Впервые увидев их, человек начинает думать о неведомом мире, манящем своей неизвестностью и недоступностью, и умирает, так и не познав его. А познав, вероятно, умрет от разочарования.
Проснувшись и открыв глаза, через одно из отверстий в пещере я продолжал видеть все те же звезды, только теперь они были неподвижны, и не было шума стукающих и перекликающихся между собой колес. Мир застыл в тишине и неподвижности. Такой или почти такой в те поры представлялась мне смерть — безболезненной и тихой: все видишь, чувствуешь, ощущаешь, только ни во что не можешь вмешаться.
Постепенно, с уходом сна тишина стала оживать звуками. Где-то звучала музыка. Она исполнялась на инструменте, которого я раньше никогда не слышал. Странная это была музыка… Думаю, это была импровизация. Прошло пять, а может, десять минут, а я слушал и слушал, боясь пошевелиться.
Вначале звуки лились робко, неуверенно. Они словно искали чего-то. Не мелодией приковывали они к себе внимание, а именно этим исканием. Изредка мелькало в них что-то, чего я и сейчас не могу объяснить. Казалось, вот-вот будет схвачена тема и разольется торжественной неземной песней.
Но проходила одна, другая минута… Неожиданно раздался резкий аккорд, другой, третий — и бешеные звуки полились, перебивая друг друга, как будто кто-то скованный старался разорвать держащие его цепи, что-то продолжало отчаянно бороться.
Я слушал. Ночь молчала и тоже, казалось, прислушивалась к этому вихрю страстных негодующих звуков. Теперь побледневшие звезды мигали реже. Все замерло и притихло. Над всем, проникая в пещеру, царили звуки маленького, слабого, незнакомого мне инструмента, и они словно бы гремели над землею, как раскаты грома.
Внезапно все смолкло. И, точно проснувшись, неистово затрещали цикады. «Значит, взошла луна, — подумал я, — сколько спал? Когда мы встретились, было за полдень, теперь уже ночь. В пещере пусто, никого. Где же девчонка? Кто она, что за добрая фея, приютившая и таинственно исчезнувшая? А если не придет вовсе?»
От такой мысли начинало щемить внутри. Мы не успели сказать ни одного слова, но нас уже что-то связывало. Я начал мысленно тормошить невидимую паутину, протянувшуюся от меня к ней. Действительно ли существуют такие паутинки? Не знаю, наверное, да!
Послышался шорох, и рядом появилась Дейя.
— Ты звал? — спросила она на ломаном русском языке. В темноте были видны только зубы и белки глаз.
— Да! Я хочу пить!
— Пойдем.
— Как тебя звать?
— Дейя, — сказала она почти неслышно, так же неслышно коснувшись своей рукой моего лица, как бы не доверяя словам и передавая мне свое имя через прикосновение, и я не только услышал, но и осязаемо почувствовал, как это имя, которому до конца моих дней суждено остаться в памяти, вошло в меня, облагораживая и очищая, как кусочек серебра, погруженный в сосуд с водой. И если есть во мне что-нибудь хорошее, то им я обязан ей, Дейе, всегда незримо напоминающей о себе.
— Алешка, — ответил я, и мы поползли наверх.
С этого дня и начались наши заботы друг о друге.
Она оказалась осетинкой, сбежавшей, как и я, из дома, не понятой своими сородичами из-за страсти воспроизводить все услышанное свистом. Патриархальный склад осетинской семьи того времени не прощал женщине столь необыкновенного проявления своих чувств (если он вообще позволял проявление их в какой-либо форме), а она не могла заставить убить в себе то, что, по существу, не принадлежало ей и, накапливаясь, вырывалось наружу помимо ее воли.
С одной стороны, был закон, пытающийся подчинить себе дух, с другой — дух, не вмещающийся в рамки закона. И как бы искусственно человек ни укреплял эти рамки, они не могли выдержать естества природы. И теперь в образе Дейи дух наслаждался полнотой своего освобождения. Она не могла не свистеть, как не может не петь соловей.
Свистела она поистине волшебно. Свистела услышанные но радио оперные арии и целые оперы, редко — песенки. Свистом она рассказывала мне о бурном прозрачном Тереке, прыгающем по камням, о снежной, золотящейся в багровом отсвете зарева вершине Казбека, у подножия которого расположилось ее родное селение, о подругах, об отце и матери, о песнях, которые поет ее народ, и о веселой нежной осетинской гармошке. И все со своим отношением к услышанному, развивая и дополняя своей — не боюсь этого слова — виртуозной техникой. Рисуемые ею картины зримо вставали перед моими глазами. Она не подражала никаким инструментам, у нее был свой — в зависимости от настроения и темы.
Музыка, переполнявшая ее, звучала днем и ночью: в поездах, садах, куда мы забирались воровать фрукты, вокзалах и угольных ящиках, наших персональных железнодорожных плацкартах. Она была всюду, когда мы спали или уплетали скудную пищу, доставшуюся нам по случаю.
Пищи было мало, музыки много. Мы не знали и не думали, что важнее: вероятно, жизнь, питающая нас в изобилии одним и скудно другим. Но это было совсем неважно. Была жизнь в созвучных ее нашим детским душам проявлениях. Она входила в нас концентратом своих соков и, пройдя неведомый ни для кого процесс брожения и купажирования, превращалась у Дейи в музыкальные звуки, полные тайн и откровений, до конца понятных только самой природе.
Я больше впитывал, она — отдавала. И хотя она была ребенком, как и я, отдавала наполнявшее ее с щедростью женщины. Все окружающие были для Дейи детьми, лишенными того, что переполняло ее, — музыки, и она одаривала ею каждого встречного. Если никого не было, она отдавала тем, у кого взяла: ветру, деревьям или просто тишине… Вероятно, поэтому любимыми у Дейи были импровизации. В эти моменты никто и ничто не могло с ней соперничать: все замолкало, даже сама природа, наградившая ее этим чудом… Только деревья в секундные паузы заходились шелестом задохнувшейся от восторга листвы.
Обычно, утром, проснувшись, мы умывались в арыке и шли на промысел. Наш дух требовал материального подкрепления, которое мы могли добыть только на базаре, разумеется, с наибольшей вероятностью и наименьшей опасностью для наших тощих тел.
Мы давно перестали полагаться на слепой случай и выработали целую систему «отводов». «Отвод» — это то, что называется «отвести глаза». Но попробуйте отвести, когда частнособственнический инстинкт продавцов горит в них недремлющим огнем возмездия. Помогало искусство Дейи.
Она пряталась где-нибудь за киоском или прилавком и начинала импровизировать, каким-то только ей известным двадцатым или сороковым чувством, угадывая настроение базара. Обычно она начинала исподволь, еле слышно, пробуя и проверяя «инструмент», а может быть, прощупывая этими звуками как пункционной иглой чувства, владеющие сегодня людьми.
Всякий раз импровизации были совершенно разными, непохожими на предыдущие. Но не было случая, чтобы они, развернувшись во всю далеко не детскую силу, не заставляли базар двигаться медленней и медленней, пока люди не застывали в каком-то пьянящем оцепенении, напоминая змей, послушных дудочке факира.
Сейчас, вспоминая эти далекие дни, мне кажется, что это был какой-то массовый гипноз. Были случаи, когда я, как и все, попадал на этот крючок, и тогда Дейя точным, как удар хлыста, свистом выводила меня из этого состояния, призывая к действию. Мне — как мужчине (это звание я присвоил себе сам), надлежало в самый кульминационный момент, когда люди забывали себя, тихо пройти мимо прилавков и не видящих ничего глаз продавцов, завороженных звуками (ни ранее, ни теперь мною больше не слышанных), собрать дань и неслышно исчезнуть. После моего исчезновения, а со мной и необходимых для нашего пропитания продуктов Дейя тоже прекращала свист и незаметно уходила.
Как только замолкали эхом повторенные последние ноты, продавцы, выйдя из оцепенения и заметив исчезнувшие товары, начинали такой «базар» незлобного удивления, что от их пораженных непонятным чудом возгласов «дым становился коромыслом».
Издали мы иногда наблюдали за их больше удивленным, чем возмущенным красноречием. Было ясно, что им не жаль украденного. Они восторгались искусством, с каким это сделано. Вспоминали прошлые случаи и клялись, что в следующий раз их не поймают на эту удочку.
Но неизменно вновь и вновь попадали под действие Дейиного гипноза.
Расстались мы через месяц.
Из Бухары, перекочевывая в угольном ящике в Красноводск к морю, мы попали на глаза железнодорожной милиции. Несмотря на наши протесты, нас направили в разные детские приемники. Вскоре нашлись мои родители, и я был водворен домой. Артист цирка из меня не получился.
Больше Дейю я никогда не встречал.
Во время войны мне попала в руки фронтовая газета с заметкой, написанной солдатом. Статья была озаглавлена «Соловей».
«Когда нам объявили, — говорилось в ней, — что вечером для уходящих на передовую будет дан концерт под названием: «Художественный свист», весь день солдаты острили по этому поводу: «художественных свистов» мы наслышались от наших интендантов. Но когда на сцену вышла худенькая, одетая в огромную, не по росту, солдатскую шинель с торчащим из нее словно игрушечным смуглым лицом и иссиня-черными распущенными до плеч волнистыми волосами девушка, и засвистела…
Огромные черные глаза ее засветились каким-то внутренним обжигающим нас огнем. Звуки темы свободно, изящно полились, озаряя неожиданно ясным и успокоительным свистом внутренний мир каждого солдата.
Ни один ложный или неумеренный звук не нарушил общей гармонии произведения, все звуки были ясными, изящными и значительными. Все молча, с трепетом, с какой-то неясной надеждой следили за их развитием.
Шумное солдатское рассеяние улеглось. Солдаты вдруг, незаметно для себя перенеслись в совершенно другой, забытый ими мир. В душе их то возникало чувство тихого созерцания прошлого, то страстное воспоминание чего-то счастливого, то безграничная потребность неудовлетворенной любви и грусти.
Грустно-нежные, порывисто-отчаянные звуки свободно перемешивались между собой, лились и лились друг за другом так изящно, так сильно и, порой казалось, так бессознательно, что не звуки слышны были, а сам собой лился в душу каждого солдата какой-то прекрасный поток давно знакомой, но в первый раз высказанной вслух поэзии…»
От этих строк память бросила меня в детство: может быть, это было написано про нее, про мою маленькую Дейю — друга моих незабываемых детских скитаний с хрупким, маленьким телом и талантом, величину которого невозможно соизмерить ни с чем видимым или слышанным мною за всю последующую жизнь.
Силой и красотой своего искусства она подчиняла себе одновременно сотни людей. Как увлекла, заставила подняться на высоту забвения измерзших, измученных войной солдат, вложив в руки одного из них карандаш, слюнявя который он, сидя в окопной грязи под проливным дождем, примостившись в изгибе траншеи, на колене написал эту заметку.
Писал солдат, ставший впоследствии известным советским писателем. Читая статью, я почти реально слышал неповторимый, чарующий, забирающийся в самую душу свист Дейи.
И даже сейчас, когда прошло столько лет, я иногда во сне слышу эти звуки и, проснувшись, пытаюсь нащупать когда-то так крепко связывавшую нас паутинку, но в темноте никак не могу найти ее — и Дейя не приходит.
Я не знаю, что разорвало эту незримую, связывающую нас нить — возможно, война, но нас по-прежнему трое: я, она и музыка.
НЕОБЫКНОВЕННЫЕ СУДЬБЫ, СОБЫТИЯ, ПРОИСШЕСТВИЯ
Иван КОНОНЕНКО Бюро Янке
В настоящей повести освещается один из многочисленных аппаратов гитлеровской разведки, так называемое «Бюро Янке», показывается его подрывная деятельность с момента появления и до бесславного конца, его коварные и жестокие методы работы.
Главарь этого «бюро» Курт Янке верой в правдой служил своим хозяевам, которыми были попеременно то канцлер и министр иностранных дел Штреземан, то заместитель фюрера Гесс, то глава абвера Канарис, то рейхсмаршал Геринг…
Когда советские войска подошли к границам Германии, этот матерый волк почувствовал, что фашистским заправилам не до него, он хотел бежать в западном направлении, навстречу американцам. Он прихватил с собой картотеки и документы на свою многочисленную агентуру: к новым хозяевам нужно было явиться не с пустыми руками…
Замысел Янке провалился. Его «бюро», как и все гитлеровские спецслужбы, потерпело полное поражение. Советским органам госбезопасности оказалась по плечу задача противоборства с коричневым чудищем. Они с честью выполнили стоящие перед ними задачи.
Повесть написана на документальной основе, но в последних разделах некоторые обстоятельства и имена действующих лиц по определенным соображениям изменены.
ПРОТЕЖЕ АЛЬДИНГЕРА
Янке завербовал Гельмута Альдингера давно, будучи еще в Мексике, где в то время тот работал третьим секретарем германского посольства, занимался вопросами экономики страны пребывания и ее соседей, располагал довольно широким кругом знакомств, а следовательно, и возможностями получения информации. После Мексики Альдингер ряд лет находился в Парагвае и Аргентине, продолжал снабжать «Бюро Янке» шпионскими сведениями и высоко котировался у своего шефа. Потом он возвратился в Германию и последние шесть лет служил в ведомстве иностранных дел в Берлине, но по каким-то причинам высоко не поднялся по служебной лестнице. Ему, по всей видимости, доверяли, поскольку он имел касательство к секретным документам, главным образом к их рассылке, регистрации, приобщению к делам, уничтожению, но вверх не продвигали. Так он и остался почти рядовым, малозаметным чиновником.
Работа министерства иностранных дел как таковая, естественно, Янке не интересовала, но Альдингер был ему нужен. Через него Янке поддерживал свои старые связи с иностранцами, от которых поступала нужная информация. А знакомых среди иностранцев даже в Берлине у Альдингера было много, особенно из тех стран, где он раньше работал. К этому времени некоторые из этих иностранцев занимали видные посты в посольствах своих стран в Берлине.
Среди связей Альдингера был и Эрвин Маркус, по национальности немец, а по паспорту парагвайский гражданин. Интересным человеком был этот Маркус. Он, выходец из семьи состоятельного чиновника, в свое время учился в миссионерском колледже, собирался стать ксендзом, но потом колледж почему-то бросил. К тому времени, о котором идет речь, Маркус уже три года учился в Берлинском университете, изучал сначала юридические науки, а затем философию. Человеком был он способным: играл на многих инструментах, пел, рисовал, увлекался спортом, в особенности теннисом. И вообще, за какую бы работу ни брался, все в его руках кипело.
Но Янке об этом знакомом Альдингера ничего не знал…
Альдингер не афишировал своей связи с Эрвином Маркусом, что нетрудно объяснить. Пожилой чиновник министерства иностранных дел и сравнительно молодой человек — в то время Маркусу едва перевалило за тридцать, — тем более студент, человек без семьи и без положения в обществе, конечно, не пара. Что их могло связывать? На чем зиждилась их дружба? Никто не знал. А если бы связь эта обнаружилась, то Альдингер мог бы объяснить ее интересами бюро. Обычно они встречались подальше от центра города, подальше от любопытных глаз, в кафе или баре, за кружкой пива, любителем которого был Альдингер.
На сей раз Альдингер предложил зоопарк. Было воскресенье. Чудесный теплый день второй половины мая. Весна в тот год выдалась ранней и дружной. В мае уже бушевала зелень, на бульварах и в парках цвела сирень, зажгли свои свечи каштаны. По-летнему припекало солнце. Берлин в такие дни не казался слишком мрачным и серым, каким он был в действительности. Ни зверей, ни другую живность в зоопарке созерцать Альдингер и Маркус не стали, а прошли по безлюдной боковой аллее и расположились в тени роскошного каштана, на самой дальней, свободной скамейке.
Столица Германии в то время начинала жить угрюмой, тревожной, напряженно-зловещей жизнью. Вступили в права тридцатые годы, хотя многие еще не знали и не догадывались, что годы эти уже были предвоенными. Тем не менее это было так.
По улицам военные и полувоенные колонны, громя барабанами и подковами солдатских сапог, двигались с утра до поздней ночи. А часто и по ночам с факелами маршировали в коричневой форме и ярко начищенных сапогах штурмовики Рема, которому вскоре вместе со своими приближенными эсэсовцы Гиммлера перерезали горло. Это не изменило существа происходившего в Германии.
Фашистские газеты «Фолькишер беобахтер», «Ангриф» и другие, которые отличались одна от другой только по формату и названию, изощрялись в ругани коммунистов и евреев. Печатались «труды» теоретиков расизма, в которых преподносились с «научных» позиций отличительные признаки арийцев: продолговатый череп, светлые волосы, длинный нос, а также доказывалось, что люди иной, неарийской, расы ближе к животному, чем человеку.
Лучшие представители немецкой культуры покидали Германию, землю и могилы предков на ней, лишались немецкого гражданства. Другие попадали в концлагеря или оказывались на виселице.
Вскормленная миллиардными займами капиталистов, своих и заграничных, германская промышленность перестраивалась на военный лад, развертывалась и набирала невиданные до этого темпы и масштабы, как того требовали новые правители Германии. Гитлер начал подготовку к войне, к походу на восток.
Альдингер курил и молчал. Он был чем-то озабочен, но не торопился начинать беседу. Выжидал и Маркус. У них уже было заведено: первым начинал говорить Альдингер, поскольку человеком он был разговорчивым и за словом в карман никогда не лез. Да и по возрасту был старше. Маркус обычно выслушивал своего коллегу, изредка вставлял замечания или пожелания, затем незаметно для собеседника подводил итог разговору и ставил задачу в виде просьбы. Они договаривались, когда и где встретятся вновь, и, пожав друг другу руки, расставались как давние добрые друзья. Сегодня же Альдингер был явно не в своей тарелке, и этого не мог не заметить Маркус.
— Что случилось, старина? — прервал затянувшуюся паузу Маркус, стараясь выглядеть, как всегда, спокойным и ровным. Альдингер вскинул на него мохнатые брови и бросил в урну папиросу.
— Страшного ничего, если не считать того, что я выхожу на пенсию. А это совсем не страшно, только немного грустно…
— Да… Вроде вы еще не собирались на пенсию. Во всяком случае, у нас с вами беседы на эту тему, помнится, не было. — Маркус был явно удивлен.
— Верно. Ничего необычного. Время, возраст берут свое, мой молодой друг.
— И какие же планы на будущее?
— Хм, планы, — улыбнулся Альдингер. — Уезжаю в Эберсвальде. Там у меня дом. Займусь выращиванием цветов. Люблю это дело.
— Цветы — хорошо, — задумчиво произнес Маркус. — А как же Янке?
— С Янке тоже все. Имел уже с ним разговор. Он не задерживает. Да и зачем ему меня держать? Он хоть и свинья, между нами говоря, но понимает, что выжал из меня все, что мог. А нынче какая ему от меня польза? Я буду в Эберсвальде выращивать цветы.
— Это так, но все же жаль, герр Альдингер. Мы с вами неплохо работали.
— Да, да, — кивнул Альдингер. — Но, знаете, герр Маркус, у меня есть идея. Янке нужен надежный человек, помощник или адъютант, что ли. И вы могли бы подойти ему. Как вы смотрите на это?
— Любопытно, — улыбнулся Маркус. — Но без вашей помощи тут мне не обойтись.
— Разумеется, герр Маркус.
Прошло лето. Только в конце сентября, когда в саду у Альдингера осыпались осенние цветы, Эрвин Маркус был зачислен в штат конторы Янке, которая размещалась в Берлине, на Седанштрассе. Позже Янке отвел ему там и квартиру.
Шеф бюро не спешил все полностью доверять Маркусу. Сперва он поручил ему заниматься техническими вопросами, порой даже такими, которые не касались непосредственно работы бюро, а скорее входили в круг обязанностей прислуги. Не обошлось без всевозможной проверки. Маркус все это видел и смиренно со всем соглашался. Испытания эти были для Маркуса сущим пустяком. Постепенно, убедившись в абсолютной верности протеже Альдингера, оценив по достоинству способности Маркуса, Янке начал приобщать нового работника к святая святых своей конторы. Не догадывался Янке только о том, что многое из его святая святых Маркусу было уже давно известно…
НА СЛУЖБЕ У ГЕССА
В начале февраля 1933 года Янке пригласили в гестапо. В течение суток он отчитывался о своей прежней деятельности. Утаивать и скрывать он ничего не собирался, поскольку власть Адольфа Гитлера и «новый порядок» принимал полностью. В апартаментах гестапо он встретил своего бывшего подчиненного Пфеффера, который был уже обергруппенфюрером и одним из главарей фашистских штурмовых отрядов СА. При содействии Пфеффера вскоре Янке был представлен самому Герману Герингу, занимавшему в то время должность руководителя государственной тайной полиции (гестапо). Во время приема у шефа гестапо Янке присягнул на верность новым правителям Германии и связал свою дальнейшую судьбу с гитлеровской разведкой. Он поступил в распоряжение нового хозяина — заместителя фюрера по партии — Рудольфа Гесса и начал свою деятельность в так называемом «штабе связи» (фербиндунгсштаб) в качестве руководителя «Бюро Пфеффера». Фактически это было то же «Бюро Янке», с теми же функциями агентурной разведки за границей, а имя Пфеффера избрали в данном случае с целью маскировки.
В штабе Гесса выдали Янке удостоверение:
«Изображенный на прилагаемой фотокарточке штабс-директор Янке Курт, проживающий Берлин — Шталиц, Седанштрассе, 26, работает на вверенном мне участке.
Прошу все военные и полицейские органы и партийные инстанции оказывать ему содействие и помощь.
Мюнхен,
27 февраля 1934 г.
Зам. Фюрера рейхсминистр Рудольф Гесс».Янке от радости был на десятом небе. Его распирало от сознания своей значительности, и, не скрывая, он гордился принадлежностью к партии фюрера, новым титулом штабс-директора и удостоверением, которое подписал сам Рудольф Гесс.
Янке получил указание активизировать работу имеющейся агентуры и принять меры к приобретению агентов в тех странах, где по тем или иным причинам их не было. Вскоре в бюро стала стекаться информация из Англии, Франции, Испании, Чехословакии, Венгрии, Швейцарии, Бельгии, Голландии, США, Японии и Китая.
Как правило, в каждой из названных стран бюро имело квалифицированного агента-резидента, обеспечивающего поступление информации от агентуры в данной стране. Янке учил своих помощников придерживаться принципа: один хороший агент может заменить целый аппарат. Практиковалась вербовка официальных сотрудников разведорганов этих стран, что давало возможность быть в курсе работы данной разведки и использовать ее достижения для своих целей. В то время в правительственных кругах Германии считали Лондон центром международной политики. Янке имел там двух ценных агентов: сотрудника разведки Эллиса и капитана английской армии Керлина, которые давали необходимые сведения о состоянии и перспективах развития политики английского правительства. В 1934 году один из сотрудников бюро завербовал корреспондента немецкой газеты «Фоссишенцайтунг» Эриха Зальцмана, который много лет жил в Лондоне и имел там обширные связи в политических и военных кругах. Его возможности в отношении добывания политической и военной информации были весьма значительны. Янке получал от Зальцмана данные о политическом и экономическом положении Англии, а также кое-что об английской армии.
Гесс и Геринг ценили Янке как крупного немецкого разведчика, длительное время подвизавшегося на этом поприще, и всячески ему покровительствовали. Он вел активную шпионскую работу против Англии, Франции и США. А разведку против СССР он контактировал с I отделом абвера, во главе которого до 1943 года стояли полковник Пикенброк и капитаны военно-морского флота Пацир и Арпс. О Советском Союзе Янке получал донесения от английских, японских, французских и других агентов. Но у него давно была для этих целей и своя немецкая агентура. Особенно ценным был агент Оберлендер, которого во время войны пришлось передать абверу — лично на связь полковнику Пикенброку.
В 1928 году фирма ДРУЗАГ (Дойче-руссише Саатбау А. Г.), являвшаяся собственностью Круппа, командировала Теодора Оберлендера в Советский Союз как специалиста по сельскому хозяйству. Янке не упустил удобного момента и перед отъездом молодого профессора в Советскую Россию привлек его к сотрудничеству с немецкой разведкой. Оберлендер был как нельзя кстати. Еще бы! Первый и пока единственный агент, работавший непосредственно по Советскому Союзу. А Янке ненавидел Советский Союз.
В СССР Оберлендер провел полгода. Он аккуратно сообщал в «Бюро Янке» политическую и экономическую информацию, а возвратившись в Германию, составил для Янке подробный отчет о своем пребывании в нашей стране.
Весной 1930 года Оберлендер вместе с Э. Кох-Вессером под видом специалиста по «рационализации методики сельского хозяйства» совершает кругосветное путешествие по маршруту СССР — Китай — Япония — Канада — СССР с разведывательными целями.
Оберлендер приезжал в СССР в 1932 году, а затем — в 1934 году, каждый раз выполняя шпионские задания Янке в контакте с пресс-атташе германского посольства в Москве Баумом, будущим шефом известного во время войны разведывательного штаба абвера «Валли I» в Сулеевке. В 1940 году Оберлендер дважды приезжал в Львов якобы по делам «репатриации немцев из Волыни и Галиции в рейх», а фактически занимался шпионажем вместе с другими разведчиками — шефом репатриационной миссии Гансом Кохом и полковником Альфредом Бизанцом.
Все эти визиты Теодора Оберлендера под «невинной крышей» специалиста по сельскому хозяйству и репатриации имели своей целью подготовиться к тому, чтобы во время войны пожаловать на территорию СССР в военном мундире гитлеровского вермахта.
ПОД НАЧАЛОМ КАНАРИСА
После первой мировой войны, несмотря на поражение и известные ограничения в области вооруженных сил, Германии удалось сохранить разведывательные аппараты в сухопутной армии и военно-морском флоте. В 1923–1924 годах эти аппараты были объединены под названием «Отдел абвера министерства рейхсвера».
При министерстве внутренних дел был так называемый рейхскомиссариат общественного порядка, который занимался политическим сыском внутри страны и вел внешнеполитическую разведку. С 1924 по 1930 год имелся, как говорилось выше, специальный аппарат политической и дипломатической разведки при министерстве иностранных дел. Его-то и возглавлял Янке.
Этот аппарат находился в непосредственном подчинении у министра Штреземана и был его любимым детищем.
Наряду с названными органами разведки существовали отдельные частные, полуофициальные разведывательные и контрразведывательные бюро, деятельность которых контролировалась тоже аппаратом Штреземана, абвером или рейхскомиссариатом. Кроме «Бюро Янке», были «Бюро Вицемана» (его называли еще «Заокеанской службой»), «Бюро Лизера и Pay», «Бюро Ламетцана», эмигрантские разведывательные бюро Орлова, Нелидова, Сиверта и других.
Особое положение в секретной разведывательной службе занимало официальное учреждение — германское информационное бюро (ДНЕ), в котором был отдел заграницы капитана Ритгена. Это бюро имело своих представителей во многих странах. Под «крышей» представителей бюро в некоторых странах работали сотрудники отдела Ритгена, они вербовали себе агентуру и собирали секретную информацию. Лучшими среди них Ритген считал Арио и Гильденбранда в Прибалтике, Райхерта в Риме, а затем в Стамбуле.
С захватом власти Гитлером органы разведки и контрразведки в Германии приобрели тенденцию к концентрации. Главари гитлеровского рейха стали прибирать к рукам все эти аппараты и бюро, со временем создав огромный концерн шпионажа, диверсий и террора.
К концу второй мировой войны политический сыск и внешнеполитическая разведка были сосредоточены в руках Гиммлера, который объединил управление тайной государственной полиции (гестапо) и внешнеполитическую секретную службу в Главное управление имперской безопасности. Более того, к концу бесславной истории своего существования Гиммлер и его управление подмяли под себя и некогда могущественный абвер — военную разведку и контрразведку. Но это было потом…
Во время первой мировой войны немецкую военную разведку возглавлял небезызвестный Вальтер Николаи. Затем на этом посту побывали Гемп, Швантес, Патцик. Гитлер поставил во главе абвера адмирала Канариса.
С Канарисом познакомился Янке в Берлине еще в 1924 году. Заехав однажды к корвет-капитану Эргардту. чтобы согласовать один чисто служебный вопрос, Янке встретил в его кабинете незнакомого ему морского офицера в чине тоже корвет-капитана. Эргардт познакомил их. Это был еще мало кому знакомый Канарис. Недавно он был отозван из Испании, где в течение нескольких лет занимался нелегальной деятельностью по организации строительства баз подводных лодок.
Позже Канарис, бывая в Берлине, приезжал к Янке домой. В 1930–1931 годах Канарис командовал крейсером, получил чин капитана флота. В 1934 году он с флота отозван, приглашен на беседу с Гитлером. От фюрера он вышел шефом военной разведки и контрразведки. Для многих назначение на этот пост малоизвестного морского офицера было неожиданным и непонятным. Но это для многих. А главари рейха учли при назначении наличие у Канариса солидного опыта нелегальной работы за границей, преданность его идеалам фашизма, а также то, что он неплохо справился с выполнением ряда специальных заданий секретного характера, которые раньше ему поручались.
Канарис по-прежнему поддерживал контакт с Янке, встречался с ним, советовался, приглашал на совещания.
«Бюро Янке» работало в тесном контакте с абвером, обменивалось информацией, агентурой, согласовывало некоторые мероприятия. Янке преклонялся перед Канарисом, считая его человеком умным и неутомимым. В то же время он замечал, что шеф абвера, несмотря на широкий политический кругозор, всегда держал нос по ветру, приспосабливался к политической обстановке, поддавался влиянию обстановки и не всегда был в состоянии сохранить свое собственное мнение.
Запомнился Янке один разговор с Канарисом. После совещания, на котором присутствовали Пикенброк, Бамлер и другие руководящие работники абвера, Канарис пригласил Янке к себе в кабинет, где они за рюмкой доброго коньяка продолжили деловую беседу. Говорили о перспективах подрывной работы против СССР и США, о возможности использования Ирландии как базы разведывательно-диверсионной работы против Англии. Янке настаивал на том, что германское влияние в Ирландии еще достаточно велико, он предложил абверу установить связь с ирландцами, братьями Ховен, которые раньше работали на него.
Во время беседы Канарис был чем-то очень озабочен и вдруг разоткровенничался.
— Дорогой Янке, — сказал он, — мы стоим перед жестокими событиями. Через некоторое время начнутся военные действия, и наша армия первое время будет побеждать. Вероятно, нам удастся нанести поражение Англии и Франции. Но мне кажется, что через определенный промежуток времени побежденные страны сумеют восстановить против Германии весь мир и в конце концов нас задушат так же, как задушили в 1918 году.
Янке был озадачен и, как бы боясь, чтобы кто-нибудь не подслушал их разговора, тихо заметил:
— Если это искреннее мнение господина адмирала, то вам, как руководителю германской военной разведки, следовало бы прямо заявить об этом фюреру, предотвратить большое несчастье, которое ожидает Германию.
Канарис криво ухмыльнулся:
— Я еще хочу носить голову на плечах.
В беседе был затронут вопрос о силе и мощи Советской России, но Канарис уклонился от ясных суждений, высказался сдержанно, что этот вопрос еще недостаточно изучен и абвер не располагает необходимыми данными о России и ее вооруженных силах…
Готовясь к развязыванию второй мировой войны, гитлеровцы лихорадочно усиливали ведомство адмирала Канариса — немецкую военную разведку и контрразведку. Штаты ведомства были значительно расширены за счет создания новых отделов и бюро, придания ему имевшихся к тому времени органов разведки.
Летом 1939 года «Бюро Янке» также было переподчинено управлению военной разведки и контрразведки (абверу) при верховном главнокомандовании немецкой армии. Янке получил чин зондерфюрера — «Б» (соответствовало званию майора) и работал при отделе абвер-2, возглавлял который полковник Пахузен. В функции отдела входили организации и руководство диверсиями и террором в тыловых районах войск противника.
К этому времени относится создание по инициативе Канариса подразделения специального назначения, которое впоследствии получило название «Батальон особого назначения Бранденбург-800». Этот батальон назывался также «передовым отрядом» и предназначался для использования во время войны небольшими группами в интересах разведки и контрразведки, захватывать переправы, аэродромы, железнодорожные узлы и другие важные объекты, удерживать их до подхода сил армии. Группы батальона должны были проникать в тыловые районы войск противника, вести разведку, совершать диверсии и террористические акты. Секретная служба батальона занималась так называемой агентурной подготовкой районов предполагаемого действия немецкой армии. С этой целью перед вторжением войск в страну, которая была намечена очередной жертвой гитлеровской агрессии, направлялись специально подготовленные разведчики и диверсанты. Они проникали в наиболее важные районы и насаждали там свою агентуру из числа местных жителей или специально засланных туда людей.
Зондерфюрер Янке и майор Хиппель, который впоследствии командовал батальоном «Бранденбург-800», непосредственно занимались формированием этой части и созданием ее секретной службы. Поручая это дело Янке, руководители абвера, безусловно, учитывали его опыт в организации диверсионно-подрывных акций в Рурской области в 1923 году. Янке организовал секретную службу при батальоне и осуществлял агентурную подготовку для нападения в таких странах, как Бельгия, Голландия, Франция и Польша. Канарис был весьма доволен Янке, так как его агентура оказала неоценимую помощь армии во время вторжения в эти страны. Действия батальона в указанных странах были высоко оценены командованием гитлеровской армии. Вскоре было создано еще несколько таких батальонов, которые были объединены в полк «Бранденбург-800». Гитлер готовился к нападению на СССР, и одного батальона особого назначения ему, надо полагать, было недостаточно.
К числу заслуг адмирала Канариса перед фашистской разведкой Янке относил то, что шефу абвера удалось расширить деятельность своего ведомства, поднять его авторитет и включить в него разведки, которые до него действовали раздельно. Кроме того, он поставил дело так, что немецкие фирмы и организации, работавшие за границей, представляли в абвер весьма солидную информацию. За счет использования служащих этих организаций в шпионских целях возможности абвера резко возросли.
Активизация деятельности абвера, расширение сферы его действия, рост его количественно привели вначале к соперничеству, а затем к конфликту с ведомством Гиммлера. В этом конфликте Гиммлеру удалось одержать верх. Предлогом послужил заговор против Гитлера 20 июля 1944 года, в котором был замешан ряд офицеров и руководящих чинов абвера. В августе был арестован Канарис, которому также инкриминировали соучастие в заговоре. Абвер перешел в подчинение главному управлению имперской безопасности.
Но недолго оставалось абверу и СД делить власть между собой. Советская Армия в то время вела бои на территории Польши и приближалась к границам Германии. Судьба гитлеровской государственной машины и ее атрибутов уже была решена. Впрочем, мы опять несколько забежали вперед…
ХОЗЯЕВА НОВЫЕ — ДЕЛА СТАРЫЕ
Под началом Канариса Янке находился недолго. Весной 1940 года он со своим бюро переходит в ведение 6-го (иностранного) отдела управления имперской безопасности. Собственно, эти переходы из одного подчинения в другое для самого Янке не имели особого значения. Он был давно связан с СД и абвером, его знали в высших правительственных кругах, а кому докладывать — было не столь важным. Задачи оставались прежними. Сотрудники принимали агентуру, получали шпионские сведения, а Янке докладывал бригаденфюреру Иосту — шефу иностранного отдела. Иоста затем сменил Шеленберг. С Иостом и Шеленбергом у Янке были неплохие отношения. Он ходил к ним на доклады, служебные совещания. Они часто приезжали к нему в имение на охоту. От управления безопасности Янке имел документы, дававшие ему право находиться в Берлине или в имении Любрассен и обязывавшие полицейские власти оказывать ему в случае необходимости помощь и защиту. Ему было разрешено постоянно иметь при себе личного секретаря и адъютанта. К этому времени Эрвин Маркус стал отличным адъютантом, правой рукой шефа бюро. Он ведал всей перепиской Янке, принимал агентуру, обрабатывал донесения.
Личным секретарем Янке была Шарлотта Аксхаузен, двадцати восьми лет, блондинка недурной наружности. Супруга Янке фрау Иоганна-Доротея имела основания быть недовольной личной секретаршей мужа и весьма настойчиво советовала сменить ее. Но Янке был глух к этим глупым советам. Фрейлейн Шарлотта его вполне устраивала, она имела преподавательское образование, владела английским, французским и испанским языками и отлично справлялась со своими обязанностями. Только когда русские приблизились к Германии, она заметно охладела к шефу и однажды уехала из Берлина без разрешения. Янке вспомнил, что у Шарлотты была тетка, которая проживала в Фрейбурге, но там уже были американцы.
Кроме адъютанта и личного секретаря, у Янке было еще семь-восемь человек постоянных сотрудников бюро. На всех официальных документах, исходивших из бюро и поступавших в него, ставился штамп «Бюро Янке».
Во время войны «Бюро Янке» пыталось вести шпионскую работу против СССР, продолжало поддерживать связь с абвером, которому передавало военную информацию, получаемую от своей агентуры и, в частности, от агента Касселя, авантюриста международного класса, работавшего в японской военной фирме «Мицу-мицубиси», имевшего родственные связи в Англии. От Касселя Янке получил сведения о формировании в СССР новых дивизий в 1943 году, а также клеветническую информацию о жизни советского народа.
Кроме того, что он руководил бюро, Янке выполнял отдельные поручения и задания, привлекался в качестве консультанта по некоторым вопросам. К примеру, после убийства Гейдриха в Чехословакии Янке был вызван к группенфюреру СС Бергеру, с которым по личному заданию Гиммлера работал над созданием из войск СС специальных формирований по типу «Бранденбург-800» для борьбы с партизанами на оккупированной гитлеровскими войсками территории.
ОСОБОУПОЛНОМОЧЕННЫЙ ЧАН КАЙ-ШИ
Советника по культурным вопросам китайского посольства в Германии Линя знал Янке давно, встречался с ним на приемах, время от времени приглашал его к себе домой, чтобы побеседовать за чашкой кофе или за рюмкой французского коньяка. Дружба эта не афишировалась, поскольку Китай воевал с союзником Германии — Японией. Во время таких встреч в доверительной обстановке Янке получал от Линя довольно ценную информацию.
Несмотря на продолжавшуюся агрессию Японии против китайского народа, Гитлер поддерживал связи с Чан Кай-ши. Последний тоже заигрывал с фашистскими главарями. Германия имела в то время некоторые экономические связи с гоминдановским Китаем, в частности, она продолжала получать из Китая редкие металлы, которых у нее не имелось и которые ей были очень нужны для производства оружия и боеприпасов. Чан Кай-ши настойчиво добивался заключения с Гитлером военного союза, неоднократно обращался с просьбой направить в Китай немецких военных экспертов, отозванных незадолго до этого из Китая в связи с протестом Японии.
Гитлер, подготавливая нападение на Советский Союз, естественно, не хотел испортить отношения с империалистической Японией и в то же время, мечтая о мировом господстве, в частности о завоевании стран Среднего Востока и Индии, не исключал возможности использования людских ресурсов Китая и не желал отталкивать от себя Чан Кай-ши.
Таким образом, между фюрером и генералиссимусом шла своеобразная игра, в которой обычные дипломатические каналы были непригодны. Поэтому та и другая стороны использовали своих «уполномоченных» и «особоуполномоченных».
В один из вечеров в июне 1940 года советник Линь заехал к Янке на Седанштрассе. Выразив сперва восхищение победами великой Германии и отдав дань уважения личности Янке, он сказал, что в скором времени в Берлин должен приехать личный особоуполномоченный Чан Кай-ши генерал Куи Юн-чинь, которому необходимо встретиться с руководителями рейха для предварительного обсуждения очень важных государственных вопросов. Китайский дипломат просил Янке как старого знакомого и даже друга оказать ему содействие в организации встреч «особоуполномоченного» с Гитлером или Герингом. В ходе дальнейшего разговора Янке уловил, что речь идет о намерении Чан Кай-ши предложить его фюреру заключить военный союз. Раскланиваясь с Янке, Линь, между прочим, заметил, что поскольку поездка генерала в Берлин является неофициальной, то его посольство намерено держать это в секрете. Шеф бюро понимающе улыбнулся и, дружески пожимая советнику руку, пообещал сделать все от него зависящее.
На другой день Янке доложил о своей встрече Гейдриху, который заинтересовался этим делом, поручил поддерживать с Линем постоянный контакт и доложить ему немедленно, когда Куи Юн-чинь будет в Берлине.
По приезде «личного особоуполномоченного» в Берлин Янке через Линя познакомился с ним лично и сразу же организовал ему встречу с Гейдрихом.
Спустя несколько дней Куи Юн-чиня принял Геринг. На встрече во дворце рейхсмаршала были Гейдрих, Линь и Янке. Когда они вошли в огромный кабинет, из-за стола поднялся тучный Геринг. Он поприветствовал Куи Юн-чиня несколькими обычными для такого случая фразами. Генерал поблагодарил и затем поздравил рейхсмаршала с успехами немецкой армии на фронте и особенно авиации, действия которой, по словам личного представителя Чан Кай-ши, произвели в Китае огромное впечатление.
В ходе беседы Геринг произнес не без иронии:
— Господин генерал, японцы наносят китайцам сравнительно сильные удары. Если так будет продолжаться, то не лучше ли для вас заключить мирный договор с Японией?
Куи Юн-чинь вкрадчиво ответил:
— Господину рейхсмаршалу, несомненно, известно, что японская армия лучше вооружена, но нет сомнения, что эти успехи будут только вначале, в конечном же итоге мы их победим.
Геринг продолжал:
— Война, которую вы ведете с японцами, по методам больше напоминает партизанскую, таким способом вы вряд ли победите Японию.
Куи Юн-чинь мягко продолжал, делая вид, что он настаивает на своем:
— Метод ведения войны зависит от имеющихся средств, но как раз метод партизанской войны японцам очень неприятен. Несмотря на трудности, в Китае все уверены, что японцы будут изгнаны.
Геринг не без апломба произнес, что Германия, несомненно, в скором времени разгромит Англию, добьется заслуженной победы, и Китаю следовало бы ориентироваться на Германию. Затем Геринг поднялся и предложил генералу Куи Юн-чиню пройтись, и они в сопровождении переводчика прошли в оранжерею, где продолжили разговор. Гейдрих, Янке и Линь возвратились в приемную. Через час «особоуполномоченный» вышел от рейхсмаршала.
Приблизительно через месяц Геринг вторично принял представителя Чан Кай-ши в том же самом дворце. Встреча проходила в присутствии только переводчика. Во время беседы генерал Куи передал Герингу письмо Чан Кай-ши, заявив при этом, что он имеет полномочия сообщить о намерении китайского правительства заключить с Германией военный союз и хотел бы знать точку зрения по этому вопросу германского правительства. Геринг от прямого ответа на вопрос уклонился, пообещав о намерении китайской стороны доложить фюреру, но подчеркнул, что Китаю прежде всего следовало бы заключить мирный договор с Японией, поскольку последняя является союзницей Германии. Геринг дал понять, что Германия готова оказать помощь в урегулировании японо-китайского вопроса и использует свое влияние с тем, чтобы японцы признали Чан Кай-ши главой китайского государства при соответствующих уступках со стороны китайцев, не исключая в последующем возможности заключения германо-японо-китайского военного союза.
В письме, которое передал генерал Куи Герингу, Чан Кай-ши писал, что в соответствии с желанием китайского народа он хочет заключить с Германией военный союз, а также стремится укреплять и расширять с ней политические и хозяйственные отношения. При этом Чан Кай-ши жаловался, что Англия и США тормозят политическое и культурное развитие Китая, что представляет для него большую опасность.
«Бюро Янке» получило задание уделять китайцам максимум внимания, а лично шеф бюро должен был установить с генералом Куи самые близкие отношения и оказывать ему необходимую поддержку и содействие. С этого момента Янке и его адъютант Маркус часто бывали вместе с «особоуполномоченным». Встречались они обычно в китайском ресторане на Контштрассе в Шарлотенбурге или в ресторане «Хорхер». Несколько раз Янке приглашал генерала Куи к себе на Седанштрассе или в загородную виллу, навещал его дома. В беседах Куи настойчиво проводил мысль о необходимости сотрудничества между Китаем и Германией в хозяйственном, политическом и военном отношениях, а также о желании его правительства заключить с Германией военный союз. Янке расхваливал на все лады политические и военные успехи Германии в Европе, так как обсуждать интересующие китайцев проблемы он полномочий не имел.
Вскоре Янке и генерал Куи стали настоящими друзьями. Оказалось, что находившийся в Китае немецкий военный советник при Чан Кай-ши генерал фон Фалькенхаузен, которого хорошо знал генерал Куи, был другом Янке.
Иногда во время их беседы присутствовали советник Линь и Маркус, которые тоже стали друзьями. Маркус обычно договаривался о месте и времени встреч, занимался организационной стороной. Линь везде сопровождал «личного особоуполномоченного» и всячески старался ему угодить. К Янке он обращался не иначе как «мастер», чем хотел подчеркнуть свое особое уважение к нему.
О своих встречах с Герингом и Гейдрихом генерал Куи говорил сдержанно, хотя и считал Янке высокопоставленным лицом, приближенным к правительственным кругам. Янке не был в беседах назойлив, умел расположить к себе собеседника и построить разговор так, что собеседник невольно кое-что выбалтывал. «Личный особоуполномоченный» был доволен приемом и не мог не похвастаться перед Янке тем, что Геринг был с ним очень приветлив и даже дружески настроен, он очень внимательно прочел послание Чан Кай-ши и обещал немедленно доложить его Гитлеру.
Переговоры затянулись до 1941 года. Чан Кай-ши не давал прямого ответа на предложение Германии заключить мир с Японией и воспользоваться при этом посредничеством Германии. Геринг, Гейдрих и Янке в беседах с «особоуполномоченным» пытались убедить его, что Германия стремится к установлению военного союза с Китаем, и настаивали на заключении мира между Китаем и Японией. Геринг прямо заявил Куи Юн-чиню, что это необходимо для военных планов Гитлера и что фюрер весьма сожалеет о том, что китайское правительство медлит с этим вопросом. Фюрер, мол, питает большие симпатии к Китаю, но политические и военные соображения для него важнее.
В период переговоров генерал Куи Юн-чинь совершал поездки по Германии, побывал на Западном фронте. К тому времени он уже официально числился китайским военным атташе в Берлине.
Между тем Гитлер, не ожидая заключения военного союза с Чан Кай-ши, вероломно развязал войну против Советского Союза. Япония вступила в войну с США и Англией. Китай был вынужден объявить войну Германии.
«Особоуполномоченному» пришлось оставить гостеприимный для него Берлин и выехать в Швейцарию. Однако закулисная возня между заправилами рейха и Чан Кай-ши продолжалась. Идея о заключении военного союза между Германией и Китаем и совместной вооруженной борьбе против СССР для обеих сторон была слишком заманчивой, чтобы они от нее быстро отказались.
Сношения между немецким имперским маршалом Герингом и генералиссимусом Китая Чан Кай-ши были строго засекречены и теперь осуществлялись только через Янке и генерала Куи Юн-чиня.
По приезде в Берн генерал Куи сразу же отправил письмо адъютанту шефа бюро Маркусу, в котором он писал, что временно остановился в отеле «Швейцергоф», около главного вокзала, что погода, природа и климат его покорили и что он не может забыть своих хороших берлинских друзей. Приветствуя господина Маркуса и его шефа, он сердечно благодарил за любезность, которую они постоянно проявляли к нему, а также за прекрасно проведенное совместно время, о чем он сохранил наилучшие воспоминания. Спустя некоторое время Янке лично получил письмо от генерала Куи. Тот писал:
«Многоуважаемый старый друг!
В прошлом месяце и несколько дней тому назад я отправил в адрес г-на Маркуса два письма, но не знаю, получил ли он их. От своей родины я получил указание, чтобы в этом году я еще остался в Швейцарии. Я очень желаю, чтобы восстановились дружественные отношения между нами. Поэтому я очень прошу срочно выслать ко ко мне в Швейцарию уполномоченного, и, если этого сделать в настоящее время невозможно, указать ваше доверенное лицо, находящееся в Швейцарии, через которое я снова смог бы с вами связаться, так как я должен вам сообщить кое-что очень важное.
В надежде в скором времени вновь получить известие от вас. Сердечно приветствую вас и господина Маркуса.
С глубоким уважением, всегда вам преданный
Куи Юн-чинь, генерал. 18 сентября 1941 года. Берн, Шейеррайн, 7, Китайское посольство».Определенные круги в Германии стремились расширить контакты с «особоуполномоченным» Чан Кай-ши, хотя и делали вид, что им торопиться некуда. Они набивали себе цену. Им казалось, что дела у них идут неплохо, армии фюрера наступают на Москву, а союзная Япония готовится нанести удар по американцам в Пирл-Харборе.
В декабре 1941 года Янке снова получил письмо от генерала Куи, отпечатанное на бланке китайского посольства в Швейцарии. Куи приглашал Янке в Берн для продолжения переговоров, прерванных несколько месяцев назад. В январе 1942 года «особоуполномоченный» устно, через доверенное лицо, передал в «Бюро Янке» предложение о военном сотрудничестве, хотя Китай уже находился в состоянии войны с Германией.
В конце января 1942 года Янке в сопровождении своего адъютанта Маркуса отправился в Берн. Они остановились в отеле «Дес Бергес» и пробыли в Швейцарии десять дней. Хотя в их карманах лежали документы на коммерсантов из Швеции, они старались меньше появляться в общественных местах и на улице, где Янке кто-нибудь мог узнать. Встречи с генералом Куи тщательно маскировались. Обычно на одной из безлюдных улиц города Янке и Маркус прогуливались, около них останавливалась машина, за рулем которой восседал советник Линь, немцы молча садились в машину и, немного поколесив по городу, сворачивали в ворота виллы «Мезон Рогаль», где проживал «особоуполномоченный». Там Янке и Куи вели долгие «деловые разговоры». Иногда они вместе совершали поездку за город и там, прогуливаясь, продолжали обсуждение «деловых вопросов». Генерал Куи заверял Янке, что Чан Кай-ши по-прежнему твердо намерен заключить с Германией военный союз, что Чан Кай-ши выразил готовность даже направить часть своих войск против Индии, это в том случае, если фюрер вторгнется в Азию. При этом Китай надеялся на поддержку Германии в мирных переговорах с Японией. Для немецких правителей при их аппетитах и нехватке людских резервов это предложение Чан Кай-ши выставить свои войска под знаменем немецкого фашизма было очень заманчивым, так как речь шла о китайских войсках численностью в несколько миллионов человек. Колебание со стороны немцев можно объяснить только опасением потерять своего союзника — Японию.
Янке продолжал склонять Куи к тому, чтобы он повлиял на Чан Кай-ши и убедил его в необходимости пойти на заключение мирного договора с Японией. Кроме того, Янке предложил Куи установить контакт между немецкой и китайской разведками и выразил принципиальное согласие при соответствующей санкции своего начальства выехать в Китай для координации действий двух разведок.
Спустя несколько дней Куи Юн-чинь сообщил Янке, что Чан Кай-ши не возражает против установления контакта с немецкой разведкой, приглашает его в Китай в качестве советника по разведывательной работе и готов выделить на это дело полтора миллиона марок.
Еще будучи в Швейцарии, Янке получил от Гейдриха указание выяснить у генерала Куи Юн-чиня, действительно ли Чан Кай-ши, как об этом сообщали японцы, направил в СССР до 4 миллионов китайских рабочих для использования их на различных работах. Это сообщение японцев сильно беспокоило немцев. Оно не увязывалось с дружественным расположением Чан Кай-ши к Гитлеру.
На следующий день сияющий генерал Куи поспешил заверить Янке, что слухи о помощи китайцев Советскому Союзу — японская провокация.
В Германии Янке подробно доложил Гейдриху о своих встречах с «особоуполномоченным» и попросил разрешить ему выехать в Китай для контактирования работы с китайской разведкой. Янке рвался в Китай, его поддерживали Гейдрих и Гиммлер, которые хотели внедрить своего подручного в китайскую разведку. Но поездка Янке откладывалась. Геринг счел нужным дать указание, чтобы Янке продолжал поддерживать связь с «особоуполномоченным».
Вскоре Янке лишился своего шефа и покровителя. Фюрер назначил Гейдриха своим наместником в Чехословакии, где его прикончили патриоты.
Янке оставался в Берлине, продолжая руководить своим бюро, он готовился к очередной поездке в Швейцарию на встречу с «особоуполномоченным». Это случилось в ноябре 1942 года. Янке остановился в маленьком, неприметном особняке, расположенном на окраине Берна. Теперь Янке познакомился у генерала Куи с китайским послом при Ватикане. Это был «полезный» человек. До назначения в Ватикан он был послом во Франции при правительстве Виши и был явно прогерманской ориентации. Янке быстро нашел с ним общий язык. Он начал разговор о той деятельности, которую до войны проводили японцы в союзе с Ватиканом среди исламского населения Китая и Индии, о чем шли в свое время возбужденные дебаты в английском комитете обороны. Об этом Янке получил подробные данные в 1939 году от капитана английской армии Эллиса, сотрудничавшего в то время с «Бюро Янке». Говорили о Ватикане, о его политических интригах, которые, казалось бы, несвойственны деятельности святой церкви. Посол сетовал, что до него в Ватикане был только старый китайский епископ и не было политических представителей от Китая. Янке не мог не согласиться с мыслью посла о том, что при Ватикане целесообразно иметь дипломатическое представительство хотя бы в интересах разведки.
Расстались китайский посол при Ватикане и шеф «Бюро Янке» друзьями. Посол пригласил Янке посетить его резиденцию в Риме.
В эту поездку Янке выполнил просьбу генерала Куи и привез ему небольшую библиотечку военной литературы, куда вошли главным образом воинские уставы, наставления, учебные пособия и журналы тех армий, с которыми гитлеровская армия воевала или готовилась воевать.
ПОРУЧЕНИЕ ШЕФА
В связи с ухудшением международного положения Германии и положения гитлеровских войск на Восточном фронте фашистское правительство Германии в начале 1944 года решило вновь направить Янке в Швейцарию для переговоров с Куи Юн-чинем о заключении военного союза между фашистской Германией и гоминдановским Китаем, рассчитывая теперь вовлечь последний в войну против СССР.
В марте 1944 года Янке был вызван к Герингу. Теряясь в догадках, Янке вошел в приемную рейхсмаршала в его дворце. Ждать пришлось недолго. Из-за массивных дверей вышел какой-то генерал, и адъютант пригласил Янке войти. Геринг указал Янке на кресло, разрешая ему сесть, попросил кратко изложить результаты встреч с «особоуполномоченным» Чан Кай-ши.
Внимательно выслушав Янке, Геринг сказал:
— Господин Янке, вам следует в ближайшее время выехать в Берн. Нужно встретиться с этим Куи. Будете встречаться с ним столько, сколько найдете нужным. Не скупитесь изливать свои чувства и чувства немецкого народа к Китаю. Необходимо выяснить позицию в настоящее время китайского правительства и лично Чан Кай-ши в отношении Германии и Японии, особенно в отношении заключения мирного договора с Японией.
Геринг тяжело поднялся, подошел к стоящему в углу глобусу, повращал его и продолжал:
— Главное, фюрер хочет знать, не согласится ли Чан Кай-ши при каких-либо условиях направить часть своих войск против России. Это очень важно, господин Янке, и конфиденциально. Вас, надеюсь, учить не надо, что эти вопросы нужно ставить не в лоб. Жду вашего доклада мне лично.
Янке поднялся и, сделав поклон головой, вышел.
Через несколько дней генерал Куи Юн-чинь принимал Янке в своей вилле «Мезон Рогаль». Генерал был, как всегда, очень любезен со своим берлинским коллегой. Он охотно поделился имевшейся у него информацией и немедленно запросил Чан Кай-ши по всем интересовавшим Янке вопросам. Ответ пришел не сразу. Наконец на одной из встреч генерал Куи извиняющимся голосом начал убеждать Янке, что китайский генералиссимус и его народ питают искренние чувства дружбы к Германии, но теперь обстановка в Китае и во всей Азии настолько сложная, что не позволяет осуществить любезные предложения господина Янке.
Шеф «Бюро» покинул гостеприимного генерала Куи ни с чем. У правителей фашистской Германии рушились последние надежды использовать симпатии к ним Чан Кай-ши и его людские ресурсы в войне против СССР.
Гиммлер все-таки добился, чтобы генерал Куи Юн-чинь посылал одному из его ведомств секретную информацию, но полностью внедрить Янке в разведывательную службу Китая не удалось. Мечте Янке о поездке в Китай с тем, чтобы там возглавить разведку против стран антигитлеровской коалиции и прежде всего против СССР, тоже не суждено было сбыться.
После этой поездки Янке в Берн интерес Геринга и Гитлера к Чан Кай-ши значительно ослаб. Фюреру было уже не до Чан Кай-ши. Да и сам генералиссимус Китая начал, видимо, понимать, что дальнейшее заигрывание с главарями «третьего рейха» опасно.
В июле Янке направил в Швейцарию своего адъютанта Маркуса. Тот несколько раз встречался с Куи и Линем, получил некоторую информацию, но не мог не заметить, что отношения китайцев становятся еще более прохладными, чем были прежде. Куи передал для Янке письмо личного характера и сказал, что он получил назначение на должность военного атташе при китайском посольстве в Англии.
ПОСЛЕ ВЫЗОВА К ШЕЛЕНБЕРГУ
Проезжая мимо Тиргартена, Янке приказал шоферу остановиться: ему вдруг захотелось пройтись, успокоиться и привести мысли в порядок. Он вышел из машины и медленно пошел вдоль длинной пустынной аллеи. Взволновало его, конечно, не само по себе посещение шефа. У Шеленберга он бывал и раньше, да и шефов повидал на своем веку предостаточно. Шеленберга он не уважал, считал счастливчиком и дилетантом в делах разведки. Но разговор с Шеленбергом убедил его окончательно, что дело идет к развязке, надеяться больше не на что, надо решать… Никогда ему не приходилось так задумываться над своей судьбой, хотя прожил он уже порядочно, давно разменял шестой десяток. Жизнь, казалось, сложилась совсем неплохо. Совсем недавно трудно было предположить, что его судьба может круто измениться. Сколько было побед, какие надежды! И все рушится, все идет к черту! Надо же было ввязываться в эту проклятую войну с Россией! Что будет?
Прав оказался Канарис, черт бы его побрал, когда говорил, что вначале у нас будут победы, может быть, много побед, но потом весь мир поднимется против нас, и Германию раздавят. Да, русские уже в Восточной Пруссии и Померании. При таких темпах через месяц они будут в Берлине. Тогда конец. Никакая сила не сможет их остановить. Фашистский режим в Германии погибнет…
Он не замечал, что стоит у знаменитой статуи, символизирующей победу немецкой армии, смотрит на нее и ничего не видит. Не замечал, что идет мокрый снег, небо забито тучами.
Ощутив падающий за воротник снег, Янке как бы очнулся, удивленно посмотрел по сторонам и, подняв воротник, пошел, еле передвигая ноги, обратно к ожидавшей его вдали машине. Под ногами чавкала снежная кашица, и за ним в следу от ботинок проступала талая вода. Шофер открыл дверцу, и Янке, не отряхнув облепивший пальто и шляпу снег и не опустив воротника, плюхнулся на заднее сиденье, велев ехать в Любрассен.
Шеленберг позвонил ему вчера поздно вечером, попросил к 11 часам утра быть у него. В назначенное время Янке вошел в кабинет начальника шестого (иностранного) управления Главного управления имперской безопасности. Бригаденфюрер Шеленберг, который давно знал Янке и не раз приезжал к нему в Любрассен поохотиться и поговорить о делах, встретил его приветливо, но был явно угнетен. Янке успел заметить, что у шефа разведки СД на длинном лице подергивается правая щека и гладко зачесанные назад белесые волосы заметно покрылись сединой.
Беседа подходила к концу, когда Шеленберг спросил, как смотрит коллега Янке на то, чтобы остаться на занятой советскими войсками территории для выполнения ответственного задания в интересах Германии. Просто остаться и жить, может быть, год, может быть, десять, до получения указаний.
Янке, конечно, понимал, о чем идет речь. В эти дни многие работники гестапо и абвера получали задание остаться в Берлине и других городах Германии на случай, если туда придут войска Советской Армии. Формировались группы «вервольфов» (оборотней) для террористических и диверсионных акций. Янке подумал немного для приличия и ответил, что его заветной мечтой является посвятить остаток своей жизни борьбе с русскими, но он в свое время специализировался в основном по англо-американским странам и предпочел бы оставаться на территории, занятой войсками этих стран.
На прощание, тряся руку Янке, Шеленберг улыбнулся и заметил:
— Я думал, коллега Янке не пожелает оставить такое прекрасное место, как свое имение Любрассен.
Янке, прищелкнув по-военному каблуками, ответил:
— Господин бригаденфюрер знает, что Янке за Германию и фюрера готов отдать не только имение, но и жизнь.
Возвратившись в Любрассен, Янке в тот же день начал готовиться к бегству на запад.
На сборы ушла целая неделя. С тяжелым сердцем Янке покидал имение. Всю ночь перед отъездом не спал, шагал по кабинету, выходил во двор. Это его Любрассен, его имение, завещанное отцом, а обстоятельства, против которых он был бессилен, вынуждали бросить имение. Жизнь сложилась так, что он до войны здесь почти не жил. Бывал наездами, приезжал на охоту, посмотреть, как управляющий ведет хозяйство. А хозяйство большое: 255 гектаров земли, из них половина — пахотная, остальное — лес и озера. Был трактор, десяток лошадей, несколько десятков коров, сотня овец. Все обрабатывали, за всем ухаживали батраки. Во время войны в имении работали десять военнопленных и пятнадцать угнанных поляков. Кроме имения, Янке владел домами в Кольберге и Берлине. В апреле 1943 года дом в Штеглице бомбежками был разрушен, и Янке переехал в Любрассен. «Дальше надеяться на то, что русских остановят у границ Померании, по меньшей мере наивно», — рассуждал он вслух.
За последние дни он осунулся, очень постарел и сейчас чем-то напоминал облезлого, старого, но еще крепкого волка. Даже хорошо знакомые не могли бы сразу узнать в этом опустившемся господине с покрасневшими глазами, вислым носом и оттопыренной нижней губой прежнего, безукоризненно одетого, напыщенного Янке.
Но Янке был себе на уме. Волк не склонен был сдаваться.
В кабинете стояли упакованные чемоданы. Янке отобрал только самые важные, по его мнению, необходимые документы, которые уложил в объемистый кожаный чемодан. Туда вошла и картотека. В другой чемодан положил кое-что из драгоценностей, две пары белья, костюм и туалетные принадлежности.
Остальные бумаги, а их было много, были отправлены в печку, которая топилась бумагами все это время.
Поздно вечером, после ужина, Янке позвал к себе в кабинет управляющего имением Тецке и, дав ему необходимые распоряжения по ведению хозяйства, сказал, что уезжает в Берлин, возможно надолго, и надеется, что в его отсутствие в имении все будет идти своим чередом.
В свои планы он, конечно, никого не посвящал. Жена остается в имении. Маркус едет с ним в Берлин, оттуда — на фронт.
В Берлине необходимо будет подготовить несколько вариантов документов для себя, кое с кем встретиться и обговорить некоторые весьма важные для своего будущего вопросы. После этого — на запад. Там найти общий язык с американцами. А у него есть чем заинтересовать их. Они поймут его. Только в союзе с ними… Только с ними против Советов… Этому он посвятит остаток своей жизни. Он еще покажет себя.
КАК ПОСТУПИТЬ МАРКУСУ?
Не сомкнул глаз в эту ночь и Эрвин Маркус. Не спал он не потому, что ему было жаль расставаться с имением Любрассен или что его волновала судьба фашистского рейха, и не потому, что заботили его мысли о том, как и с чем переметнуться к новым хозяевам. На фронте умирать за гитлеровскую империю и ее фюрера он тем более не собирался. Он, конечно, сказал Янке, что уйдет на фронт, но — так от него требовалось.
Маркус-Усов последнее время не имел связи с Центром. В декабре к нему никто не пришел на явку, никто не пришел и позже. Все попытки Усова связаться с Москвой не увенчались успехом. Это его волновало и беспокоило, и не только потому, что человек, который должен был с ним встретиться, мог попасть в руки гестаповцев, а гестаповцы могли нащупать его след. Это, конечно, тревожило. Но беспокоило Усова другое. Война близилась к своему концу, участь гитлеровской Германии была решена. Советская Армия освободила Польшу, вступила в Померанию, завершала разгром восточно-прусской группировки фашистских войск. Ну, месяц еще, от силы два, — и П о б е д а. Конец войне. Конец его длительной, очень затянувшейся командировке. Маркус-Усов неплохо поработал. Но дело нужно довести до конца. У него скопилось немало ценной информации, и не только ценной, но и срочной. Сам Янке, его материалы, картотека представляли немалый интерес. Маркус-Усов последнее время был у него помощником, так сказать, правой рукой. Янке ему почти все доверял. Почти все, но не все. Янке имел документы, к которым никого не допускал, он знал больше, чем Маркус. Информация устареет и станет никому не нужной. Документы и картотека могут погибнуть или исчезнуть. Сам Янке тоже сбежит. Вероятнее всего, он постарается удрать на запад.
В начале марта связь неожиданно, как иногда случается, была восстановлена. Встреча состоялась в Бернау, на запасной явке. С Усовым через одного из участников Сопротивления, местных патриотов, встретился человек, который всего три дня тому назад был в Москве. Человек, назвавший себя Виктором, оказался командиром разведгруппы, которая была выброшена в район Нейруппина командованием Второго Белорусского фронта. Группа имела рацию, и срочные сведения Маркуса-Усова были переданы командованию.
Это была только часть дела, которое Усов стремился осуществить. Как быть с документами и самим Янке? Как быть?! Захватить Янке с его багажом, переправить на базу группы, вызвать самолет и отправить на Большую землю! Хорошо бы! Но это нереально. Там, где находилась разведгруппа, не было условий ни для базы, ни для приема самолета. Лес небольшой, кругом населенные пункты, дороги, войска. В группе пять человек вместе с командиром, из них девушка-радист, разведчик с вывихнутой ногой, два разведчика находились в другом районе, километров за тридцать. Вот и все наличные силы. Со знанием языка в группе было слабо. Командир группы знал немецкий, но знал так, что любой немец после нескольких произнесенных им слов мог сказать, что он иностранец. Могла объясняться и радистка, но только объясняться, а не сойти за немку. Поэтому проводить операцию по захвату Янке, доставке его в район Нейруппина и прочее нечего было и думать.
Усов все-таки думал. Он советовался с Виктором, просил его радировать об этом командованию. Договорились встретиться через две недели. Раньше никак не получалось. У Виктора свое задание сложное и большое, да и обстановка непростая. Везде военные патрули, контрольные пункты, разумеется, действует контрразведка, везде проверка документов, при малейшем подозрении хватают. Гитлеровцы чуют свою погибель и неистовствуют.
Янке никому, даже Маркусу не говорил о своей поездке к Шеленбергу. По приезде в Любрассен на следующий день начал готовиться к отъезду. Сегодня вызвал Маркуса в кабинет. Начал издалека. Поинтересовался самочувствием, делами, полученной информацией, новостями. Сделал небольшой экскурс в прошлое. Затем без перехода сказал:
— Мне очень жаль, коллега Маркус, но нам, по-видимому, придется расстаться. — Усов сделал удивленное лицо. — Да, да, вы не ослышались.
— Что случилось? Шеф, вы мною недовольны?
— Ну что вы! Я вами доволен, даже очень, но обстоятельства складываются так, что я вынужден буду надолго уехать в Берлин, ближе к начальству.
— Не понимаю. Мы работали с вами и в Берлине.
— Я поступаю в распоряжение «большого шефа» для выполнения особого задания. — Под «большим шефом» Янке имел в виду Гиммлера, это Усов знал. Янке затянулся папиросой и помолчал. — Я должен буду работать над одной проблемой, один, без помощников.
— Насколько я понял, шеф, я свободен поступать в дальнейшем по своему усмотрению?
— Разумеется.
— В таком случае я уеду на фронт.
Янке согласился взять Маркуса с собой в Берлин. Там они должны расстаться. Маркус может поступить, как он найдет нужным. В его услугах Янке больше не нуждался. Он попросту сматывал удочки, и этого не мог не понимать Усов. Хитер! Боится, чтоб не опоздать. Быстрее, нежели мог предполагать Усов. Завтра только пятница, а встреча с Виктором — во вторник. На помощь Виктора рассчитывать не приходится. Что делать? Как поступить? Усов не спал всю ночь.
…Многое вспомнилось ему в эту ночь. Вспомнилась Москва, хотя о Москве он думал всегда и везде. Думал как о столице своей страны и как о городе, где родился и вырос, где живут его мать и сестренка Люба. Как они там? Он рос и воспитывался без отца. Отец погиб в начале революционных событий в бою с юнкерами у Никитских ворот. Остались они одни: Люба совсем маленькая — годик с небольшим, он был второклассником. Мать работала на текстильной фабрике в Хамовниках. Сколько сил и здоровья стоило ей поднять на ноги малолетних детей! Работал инженером на заводе. Потом партия направила его для работы в органы госбезопасности. Люба окончила медтехникум, работает медсестрой в Боткинской.
Усов встречался до этого с комиссаром раза два или три. Был у него в кабинете в самом начале, когда перешел на работу в это учреждение, затем, когда проходил подготовку. Комиссар приезжал к ним в школу. Встретив Усова в коридоре и поздоровавшись с ним за руку, спросил, как идет учеба и не скучает ли по заводу.
Комиссар был известным человеком в чекистской среде. Он пришел в органы ВЧК в восемнадцатом, работал под руководством Петерса. Его лично знал Феликс Эдмундович Дзержинский. Человеком он был простым и доступным, но строгим и требовательным. Излагал мысли без выкрутасов, говорил всегда то, что думал. Никогда не кривил душой ни перед начальством, ни перед подчиненными. Это знали все. Усов знал также и то, что, если комиссар не будет уверен в человеке, то в командировку не пошлет, и никто не поможет — ни кадровики, никто другой. Поэтому, когда его вызвали к комиссару перед поездкой за границу, он волновался. В конце разговора комиссар вдруг сказал:
— Есть у тебя, Усов, один недостаток. Извини меня, что обращаюсь на «ты», мы с тобой выходцы из простого люду, из рабочих.
Усов вздрогнул и насторожился. Никаких «грехов» он за собой не замечал, да и другие ни о чем таком ему до сих пор не говорили.
— Да ты, пожалуй, и сам об этом знаешь. — Комиссар остановился и, улыбнувшись глазами, спросил: — Знаешь, какой недостаток?
— Нет, не знаю, товарищ комиссар, — честно признался Усов.
— Иногда нахальства недостает. Да, да, нахальства или, деликатно выражаясь, смелости. У вас, у интеллигентных людей, в хорошем, конечно, смысле слова, есть это. А разведчику, случается, необходимо проявить в различных пределах и нахальство.
Усов не знал, что и думать. Все кончено. Если разведчику не хватает смелости, то куда же его посылать?
— А так ты парень во всех отношениях неплох, — продолжал комиссар как ни в чем не бывало. — Думаю, дело у тебя дойдет. Все в идеальном виде бывает только в плохом фильме. Там разведчик и красив, и умен, и ловок, и силен, и смел, и находчив. В жизни все несколько сложнее. Ну, если обстановка потребует приобрести и то качество, которого у тебя, по-моему, не хватает, ты, надеюсь, приобретешь его для пользы дела.
— Постараюсь, — облегченно вздохнул Усов. Он заметил, что у комиссара совсем седые волосы, землистого цвета лицо и добрые усталые глаза. На прощание комиссар, провожая его до двери, сказал:
— На советскую разведку возложена почетная и очень ответственная задача. Вести активную борьбу за безопасность первого в мире социалистического государства, за мир и делать все возможное и порой невозможное, чтобы вскрывать замыслы поджигателей войны, вскрывать их планы, разоблачать их махинации.
Усов раньше бывал за границей, но поездки были кратковременные и несложные. Сейчас другое дело.
Поступило указание включиться в работу. В один из августовских дней ему предстояло встретиться с человеком и продолжить с ним работу. Тех, кто работал с этим человеком раньше, Усов не знал, да и знать ему было не положено. О самом человеке Усову сообщили минимум необходимого, из которого он понял, что коллега в его будущей работе человек солидный, давно работает в этой области и в Москве его ценят. И еще Усов понял, что на него ложится немалая ответственность.
Встретились они под вечер после условного знака Усова на службу. Усов, конечно, знал основные приметы этого человека, знал, что он является членом СС и иногда надевает форму, но, когда на берегу озера, где они должны были встретиться, к нему направился высокий пожилой мужчина в эсэсовской форме, ему стало не по себе. После обмена паролями и нескольких обычных при знакомстве фраз Усов хотел было завладеть инициативой разговора. Он в данной ситуации был старшим по отношению к этому эсэсовцу. Но не успел Усов открыть рта, как тот развязно сказал:
— Ну что ж, рад с вами познакомиться, герр Маркус. Готов продолжить с вами вместе наше довольно опасное, скажу вам, предприятие.
Усову было известно, что его будущий коллега по характеру человек грубый, в отношениях с людьми ведет себя фамильярно, порой покровительственно, но сразу, при первом знакомстве, такого обращения он, естественно, не ожидал.
Новым знакомым Усова был Гельмут Альдингер. Работал Альдингер за деньги, человеком был надежным, проверенным на деле, и ему верили. Имел немалый круг знакомств, быстро сходился с людьми и умел использовать свои знакомства в интересах дела. Но главный интерес заключался в том, что он работал в министерстве иностранных дел и передавал документы всякие, какие только попадали ему в руки.
МАРКУС-УСОВ ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ
На следующее утро машина уже ждала у подъезда. Тецке вынес чемоданы, уложил их в багажник и услужливо открыл перед хозяином дверцу. Маркус нажал на стартер. Янке подошел к машине, нагнулся, чтобы сесть, но выпрямился, еще раз посмотрел на дом, где на втором этаже в окне его кабинета горел свет, дотронулся до плеча управляющего в тихо проговорил:
— Даст бог все обойдется благополучно, Тецке. Все будет хорошо. До свидания.
Тецке только заморгал слезящимися глазами и ничего не успел ответить. Хлопнула дверца, и машина тут же тронулась с места.
Янке торопился и, когда машина свернула на автостраду Кенигсберг — Берлин, попросил Маркуса ехать быстрее. На автостраде, несмотря на ранний час, движение было оживленным. Навстречу шло много автомашин с солдатами и военными грузами, к некоторым автомашинам сзади были прицеплены артиллерийские орудия, двигались, лязгая гусеницами, танки. К Берлину спешили автомашины с ранеными, на обочинах много было беженцев, которые тащили свои пожитки на повозках, велосипедах и просто в рюкзаках. В том и другом направлениях сновали легковые автомобили. Все это задерживало, мешало ехать быстро, и Янке заметно нервничал. Ему очень не хотелось задерживаться и ехать в дневное время. Было начало марта. Советские войска стремительно продвигались на запад, не сегодня-завтра они могли появиться здесь, на Одере. Самолеты с красными звездами господствовали в воздухе, и днем на автострадах можно было угодить под бомбежку. Только когда свернули в сторону от автострады, Янке успокоился. За эти дни он совсем выбился из сил. В машине плавно покачивало. Клонило ко сну. Начал мысленно восстанавливать все, что произошло в последние дни, особенно после ночного звонка Шеленберга. Все было правильно. День-два в Берлине для более близкого ознакомления с общей обстановкой, минимум самых необходимых встреч, а затем на запад…
Совсем рассвело, когда въезжали в Берлин. Город лежал, окутанный утренним туманом, ощетинившийся множеством заграждений, зениток, укреплений. По обе стороны улицы были заметны развалины — следы бомбежек. На каждом шагу патрули, контрольно-пропускные пункты, проверки. Маркус обратился к Янке:
— Шеф, если вы не возражаете, заедем на Фонтанненштрассе, я когда-то жил на этой улице, и думаю остановиться пока здесь.
Янке молчал, хотя Маркус видел в зеркало, что тот не спал. Только, когда машина круто свернула влево, на Фонтанненштрассе, Янке что-то буркнул в знак согласия.
Был ли это лучший или, как теперь говорят, оптимальный, вариант, Маркус сам не знал. Но он не видел другого выхода. Более того, в данном случае Маркус шел на определенный риск. Дело в том, что на Фонтанненштрассе он никогда не жил. Это мог знать Янке, который в свое время довольно долго проверял его. На этой улице жил Курт Оттер. Старый добрый друг Курт, которого Маркус знал давно и которому полностью доверял. Курт, несмотря на свой преклонный возраст и плохое здоровье, активно участвовал в сопротивлении фашизму. До войны за участие в гамбургских событиях познал, что такое гитлеровские тюрьмы и концентрационные лагеря. Воевал против фашизма в Испании, а когда возвратился в Германию, жил на нелегальном положении.
Небольшой домик Курта Оттера на дальней окраине Берлина стоял особняком, за высоким, потемневшим от времени забором, вдали от других домов. Хозяйкой дома фактически была старшая сестра Курта — Урсула, до войны она пускала квартирантов и на эти средства жила. Теперь квартирантов не было, Урсула обитала в доме одна. Изредка в доме появлялся Курт. «Только бы Курт был дома», — подумал Маркус, въезжая во двор Оттеров. Достав свой чемодан из багажника и поставив его у входа, Маркус возвратился к машине.
— Чашечку кофе, шеф, зайдемте в дом на минуту, — Маркус нагнулся к сидевшему в прежней позе на заднем сиденье Янке. Тот пошевелился и, вылезая из машины, недовольно ответил:
— Благодарю. У меня совершенно нет времени.
Он взялся рукой за ручку передней дверцы. Маркус шагнул вплотную к Янке и, приставив ему к боку «вальтер», тихо сказал:
— Спокойно, шеф… Следуйте в дом…
— В чем дело, черт побери? Что за шутки? — дернулся Янке.
— Спокойно, Янке. Предупреждать не буду. — Янке, увидев в руках Маркуса пистолет, открыл от удивления рот. Но затем до него, по-видимому, дошло, он сразу сник и, тяжело ступая, направился к дому. Маркус шел рядом, держа в прежнем положении оружие. Когда они подошли к двери, Маркус постучал раз, затем другой. «Что делать, если Курта нет?» Этот вопрос встал перед Маркусом вплотную. Послышались в доме шаги, щелкнул замок, и на пороге появился Курт.
— О, Маркус! Что случилось? — произнес он.
— Курт, пропусти, пожалуйста, нас в дом, — попросил Маркус.
— Да, да. Прошу, проходите, — сказал Курт и отступил в сторону.
Янке шагнул в открытую дверь и в то же мгновение дернул к выходу Курта. Тот, не ожидая такой выходки от незнакомого человека, потерял равновесие и буквально повис на Маркусе, едва не сбив его с ног. Но Маркус, отстранив от себя Курта, выскочил за Янке в переднюю. Грохнул выстрел, и Маркус, падая, успел только увидеть, как Янке бросился дальше в гостиную…
…О том, что было дальше, Усов узнал позже, когда пришел в сознание и врач разрешил Курту и его другу Хорсту поговорить с ним. Увидев Курта, он сразу же спросил:
— Как Янке? Ушел?
— Какой Янке? — в один голос переспросили Курт и Хорст.
— Как какой? Который ехал со мной?
— А-а, — протянул Курт, — лежи спокойно, все в порядке.
Курт и Хорст были не только друзьями, но и товарищами по борьбе с фашизмом. Усов случайно застал их в доме Оттеров. Они зашли, чтобы взять белье и продуктов. Поскольку встреча с гестапо им была крайне нежелательна, стук в дверь их, конечно, встревожил. Но Курт, посмотрев в окно и увидев Усова, сказал: «Все в порядке» — и пошел открывать. Хорст ушел в другую комнату. Когда послышался шум и крик Курта: «Хорст, на помощь!», а затем и выстрел, Хорст бросился в гостиную. Он еще подумал, что стреляли в Курта, и увидел незнакомого мужчину на подоконнике. Хорст выхватил свой пистолет и дважды выстрелил в незнакомца в тот момент, когда он собирался выпрыгнуть в окно.
Перевязав Усова, они устроили его в надежном месте, нашли врача, который оказал раненому первую помощь и лечил его до прихода в Берлин советских войск. Когда в Берлине закончились бои, Усов улетел долечиваться в Москву. Вместе с ним был отправлен в Москву и объемистый кожаный чемодан Янке с документами и картотекой…
Виктор ПРОНИН Самоубийство
День начинался в полном смысле слова мерзко. Соседняя котельная то ли от избытка тепла и пара, то ли от недостатка слесарей начала спозаранку продувать трубы и так окуталась паром, что совсем исчезла из виду. А гул при этом стоял такой, будто где-то рядом набирала высоту пара реактивных самолетов. Гул продолжался десять минут, пятнадцать — спать было совершенно невозможно, и Демин, почувствовав, что уже начинает вибрировать в такт гулу, поднялся. Он босиком прошлепал по линолеуму в соседнюю комнату, нащупал выключатель и уже при ярком свете направился к окну, чтобы взглянуть на термометр. Красный столбик заканчивался где-то возле нуля. Подоконник покрывал мокрый снег, тяжелые хлопья сползали по стеклу, а редкие следы первых прохожих четко отпечатывались внизу на асфальте.
Демин открыл форточку, зябко поежился, охваченный холодным, сырым воздухом. В котельной все еще что-то шипело, гудело, и он смотрел на клубы пара уже без недовольства. Только страдание можно было увидеть на его лице.
— Нет, это никогда не кончится, — пробормотал он беспомощно и отправился в ванную бриться.
— Пельмени в холодильнике, — не открывая глаз, сонно сказала жена.
— Ха! В холодильнике… Не в гардеробе же…
— И посади Анку на горшок. А то будет горе и беда.
— Посажу, не привыкать сажать-то…
Нет, день все-таки начался по-дурацки. Сажая дочку на горшок, Демин забыл снять с нее штанишки, а когда спохватился, было уже поздно. Сделав нехитрые свои дела, она продолжала спать прямо на горшке, и он опять уложил ее в кроватку. А потом, уже в ванной, вставил в станочек новое лезвие и, конечно, порезался, обжегся бульоном, когда ел пельмени, и, спускаясь по лестнице, водил языком по небу, пытаясь оторвать обожженную кожицу.
На улице Демин облегченно вздохнул — котельная наконец-то угомонилась, и он услышал шлепанье капель с крыши дома, гул электрички в трех километрах, собственное дыхание. До станции решил идти пешком, но не успел сделать и нескольких шагов, как грохочущий, еще издали ставший ненавистным грузовик обдал его грязным снежным месивом. Демин даже не чертыхнулся. Он успокоился.
— Все ясно, — проговорил он вслух. — Намек понял. Что-то будет… Благодарю за предупреждение.
На перроне ему повезло — двери вагона распахнулись прямо перед ним. Демин быстро вошел и сел на свободное место у окна. И здесь мокрые хлопья стекали по стеклу, и даже в несущемся поезде чувствовался запах тающего снега, коры деревьев и многих других неуловимых вещей, которые твердо обещали — скоро тепло. Из полумрака вагона лучше были видны поля, перелески, дороги с ожидающими машинами на переездах. А потом, когда электричка въехала в город, Демин с приятной грустью рассматривал мокнущих на платформах людей, светлые окна в просыпающихся домах, отражение фар на дорогах, автобусных стоянках, железнодорожных платформах…
Подходя к управлению, Демин сразу понял, что пришел первым — весь ряд окон в коридоре, где размещались маленькие кабинетики следователей прокуратуры, был еще темным. Светилось только окно в кабинете начальника отдела.
«Чего это он? — спросил себя Демин. — Тоже котельная разбудила?» Он усмехнулся, но чувство настороженности не прошло. И, открывая тяжелую дверь в здание управления, остро ощутил и холод мокрой металлической ручки, и то, что болталась она на проржавевших шурупах, увидел, что лампочка на площадке явно мала, перила разболтаны, хотя поправить — минутное, копеечное дело.
— Привет! — буркнул Демин, проходя мимо дежурного — тот за большим витринным стеклом разговаривал с кем-то по телефону.
— Погоди! — крикнул дежурный. — Срочно к начальнику следственного отдела!
— Даже так… — Демин озабоченно ссутулился и, сунув руки в карманы намокшего плаща, медленно зашагал по длинному узкому коридору — кабинет начальника находился в самом конце. Он с сожалением прошел мимо своего кабинета, искоса глянув на номерок, приколоченный к двери. «Нулевой день, это уж точно», — удовлетворенно подумал Демин и решительно постучал в кабинет Рожнова.
— Давай входи, кто там есть? — Начальник был лыс, красен, толстоват и добродушен. — Ну, Демин, никак не думал, что ты сегодня первым придешь!
— Нулевой день, Иван Константинович, — Демин вздохнул и сел, не раздеваясь, к теплой батарее.
— Глупости, — Рожнов широко махнул крупной, мясистой ладонью. — Какой к черту нулевой день? Работа есть работа. И дух наш молод, а? Молод?
— Молод, — уныло согласился Демин и вытер ладонью мокрое от растаявшего снега лицо. — Что там случилось-то?
— А! — небрежно обронил Рожнов. — Простая формальность. Девушка из окна вывалилась. «Скорая» увезла. По дороге скончалась.
— Девушка?
— Ну не «скорая» же! Вот адрес… Звали ее Наташа Селиванова.
— Тоже, видно, нулевой день… Как же она вывалилась-то? На улице не лето… Да и время не такое, чтоб комнату проветривать…
— Участковый был на месте происшествия через несколько минут. В квартире, где она жила, ничего не знали. Не перебивай… Да, ничего не знали или делали вид. Квартира коммунальная. Три хозяина. Ее комната была заперта.
— Изнутри?
— Да. Изнутри. Подняли остальных жильцов, привлекли понятых, взломали дверь… Окно распахнуто, в комнате холод, на подоконнике снег и все такое прочее.
— Какой этаж? — спросил Демин.
— Пятый. Но дом старый. Там комнаты по три метра в высоту… Так что пятого этажа оказалось вполне достаточно… Машина во дворе. Там тебя два оперативника и фотограф ждут. Наверно, уже спорят, кто подойдет. На тебя никто не поставит, уверен! — Рожнов довольно засмеялся.
— А медэксперт?
— На кой он тебе? Ведь ее там уже нет. Но ты не беспокойся — как только он появится, я его отправлю в морг. Заключение будет. И потом, Валя, девяносто процентов за то, что она все-таки сама выбросилась. Подхватила какую-нибудь хворь, потом влюбилась или в нее кто влюбился… И будь здоров! Много ли надо. Но если заподозришь что-то неладное, немедленно выноси постановление о возбуждении уголовного дела, понял? Сегодня же. Не тяни, понял?
— Как не понять, — Демин встал, натянул на голову беретку.
Мокрый снег шел сильнее, когда Демин вышел из управления, и он невольно замешкался на несколько секунд под бетонным козырьком, не решаясь выйти сразу. Машина стояла у самого подъезда. Ветровое стекло было залеплено снегом, но водитель не включал «дворники», чтобы не нарушить уют маленького, отгороженного от внешнего мира уголка.
— Привет! — бросил Демин, усаживаясь рядом с водителем.
— Привет! — охотно ответил фотограф — молодой длинный парень, который никак не мог усвоить законы субординации и одинаково радушно приветствовал и дежурного старшину, и прокурора. — А мы-то думаем-гадаем — кого сейчас принесет, — продолжал фотограф. — Про тебя, Валька, никто не подумал… Не могли допустить, что ты так оплошаешь.
— Нулевой день, ребята, ничего не поделаешь… Вот адрес, — Демин показал водителю бумажку. — Улица Северная. Знаешь?
Водитель мельком взглянул на адрес, молча кивнул и включил мотор.
— А что случилось, Валентин Сергеевич? — спросил оперативник, небольшого роста румяный крепыш, который все еще волновался перед каждым выездом и, кажется, даже просыпался по утрам с учащенно бьющимся сердцем.
— По слухам, девчонка из окна выпала.
— А откуда слухи?
— От начальства.
— Значит, не слухи, а информация, — с робким возмущением проговорил оперативник.
— Можно и так сказать, — равнодушно согласился Демин. — Во погодка, а, Володя! — повернулся он к водителю.
— Хуже не бывает! Сколько добра сегодня на дорогах пропадет, сколько машин разобьется, сколько ребят хороших…
— Заткнись, Володя, — спокойно проговорил Демин. — Без нас посчитают.
Это был старый, дореволюционной постройки дом, один из тех, которые называли доходными. Пятый этаж вполне соответствовал нынешним седьмым. «Снега маловато, жалко, сошел снег, — подумал Демин, прикидывая высоту дома. — Если бы внизу были сугробы…» Двор оказался под стать дому — высокий, тесный, огражденный со всех сторон столь же унылыми домами из темно-красного кирпича.
— Ну так что? — спросил фотограф. — Можно начинать?
Демин задумчиво посмотрел на него, отметив и снежинки на непокрытой голове, и сигарету, небрежно зажатую в уголке рта, и распахнутое короткое пальто, и фотоаппарат, болтающийся на животе. «Кавалерист, — подумал Демин. — Все легко и просто, все с налету, с повороту, по цепи врагов густой…»
— Начинай, — сказал он.
— А что начинать-то?
— Вот и я думаю, с чего начинать? Думал, может, ты знаешь, — Демин усмехнулся. — Участковый вон идет, он нам все скажет и покажет. Ты, Славик, его слушай. И вообще тебе совет — внимательно слушай участковых. Они много чего знают. Привет, Гена! — поздоровался Демин с подошедшим участковым.
— А, Валя! Вот здо́рово, что ты приехал… Здоро́во, ребята! Видите окно на пятом этаже? Третье слева, видите?
— Со шторами?
— Да, самое красивое… А упала она вон там, я два кирпича положил. Их, правда, уже снегом припорошило. Тот кирпич, что на ребре, отмечает, где голова лежала…
Все подошли к двум кирпичам, примерно в полутора метрах друг от друга. Никто не решался нарушить молчание, будто девушка все еще лежала здесь, на асфальте. Фотограф нагнулся и перевернул кирпичи, чтобы они лучше выделялись на снегу. Отойдя, он брезгливо отряхнул руки, и вдруг всю его медлительность, величавость в движениях как ветром сдуло — фотограф увидел, что следы, только что оставленные им на снегу, наполнились красноватой подтаявшей влагой.
— Да, это кровь, — невозмутимо объяснил участковый. — Не успели подчистить. Да я и не позволил. Мало ли что, вдруг следователю такая чистоплотность не понравится.
— Гена, а ведь она далековато от стены упала, — сказал Демин.
— Далековато. Я тоже об этом думал. Понимаешь, Валя, будто сзади ее кто-то подтолкнул или напугал… Но она и сама могла оттолкнуться в момент прыжка.
— Могла, — с сомнением сказал Демин.
— Я прибежал в квартиру, когда там еще все спали.
— Или делали вид, что спят, — подхватил румяный оперативник.
— Как начали замки открывать, щеколды откидывать, запоры снимать… Я думал, что кончусь там, на площадке.
— Значит, чужой не мог попасть? — спросил Демин.
— Без помощи хозяев ни за что! А ты думал! Коммунальная квартира, три хозяина. У них не то что на входной двери, внутри все двери в замках, как в орденах! Коммунальная квартира, — повторил участковый, будто это все объясняло. — В одной комнате жила Селиванова, во второй старушка обитает, в третьей два парня. Братья, между прочим. Лет по тридцати. Холостые.
— А Селивановой сколько было?
— Двадцать. Или около того. Ты прав, для братьев она, конечно, представляла интерес… Это неизбежно.
— Братья были дома?
— Да, собирались на работу. Тяжело собирались, с похмелья. Открывала старушка. Сутарихина. Фамилия ее такая. А братья — Пересоловы.
— Как все началось?
— Ее дворничиха нашла. Под утро. Вышла подметать и нашла. Она еще живая была. Дворничиха тут же ко мне. Двор глухой, народу нет, рань, так что почти никто ничего и не видел. Только когда «скорая» подъехала, собралось человек пять. Но в свидетели они не годятся, подошли, когда машина уже стояла здесь…
— А дверь в комнату Селивановой была заперта?
— Да. Изнутри. Это точно. Тут можешь не сомневаться. На замке есть такая небольшая никелированная кнопочка, когда ее опускаешь, замковое устройство блокируется, и открыть снаружи невозможно, понимаешь? Так вот, эта кнопочка была опущена.
— А из окна никто не мог спуститься?
— Смотри сам, — усмехнулся участковый. — Братишки Пересоловы помогли мне дверь высадить. В комнате порядок. Только постель не разобрана, как если бы хозяйка не ложилась спать, понимаешь? Не разобрана, но смята. Много окурков. Бутылка есть. В таких случаях всегда есть бутылка. На этот раз — виски.
— Братья ушли на работу?
— Нет, я их на свой страх и риск дома оставил. Думаю, вдруг пригодятся. Ты уж отметь им повестку, а?
— Отмечу. Комнату опечатал?
— За кого ты меня принимаешь, Валя?!
— Как братья отнеслись к тому, что ты их дома оставил?
— По-моему, обрадовались. Как я понимаю, головы у братишек так трещат, что с третьего этажа треск слышен.
— Ну пошли. Да, позови дворничиху, слесаря, кого-нибудь… Понятые нужны. Следователь без понятых — это все равно, что рюкзак без ремней.
— А вон они стоят… Я уже давно их позвал.
— Ну ты, Гена, даешь! — восхищенно сказал Демин и усмехнулся, показав свои не очень правильные, но крепкие белые зубы, и первым вышел из-под арки — длинный, слегка сутулый, глубоко сунув руки в карманы плаща, в своем знаменитом на всю прокуратуру берете, в туфлях на толстой подошве, в узковатых брюках. Демин терпеть не мог расклешенных и мужественно ждал наступления времен, когда узкие брюки снова войдут в моду.
Дверь открыла Сутарихина. Увидев среди вошедших участкового, повернулась и засеменила по темному коридору к себе в комнату.
— Одну минутку! — остановил ее Демин.
Сутарихина остановилась и, не оборачиваясь, искоса, из-за спины, посмотрела в сторону вошедших.
— Простите, — Демин подошел к ней поближе, — вы здесь живете?
— Ну? — настороженность, чуть ли не враждебность прозвучала в этом не то вопросе, не то утверждении. Замусоленный передник, платье с очень короткими рукавами, обнажавшими крупные жилистые руки, узел волос на затылке, клеенчатые шлепанцы…
Видик у бабули еще тот, подумал Демин. Тяжелый разговор будет. Опустившиеся люди обычно неохотно общаются с незнакомыми, неохотно говорят о себе и стараются побыстрее скрыться от взглядов, от внимания чужих людей. Типичная обитательница коммунальной квартиры, где никто не чувствует себя хозяином, каждый считает и себя и соседей временными, чужими, нежеланными. Квартирка тоже еще та… Коридор, заставленный тумбочками, шкафчиками, старыми кроватными сетками, всем тем, что не помещается в комнате и что жалко выбросить на свалку. На длинном, мохнатом от копоти шнуре висела маленькая лампочка, выключатель, вырванный из гнезда, болтался на проводах, двери провисли от тяжести окаменевших слоев краски и запоров…
— В какой комнате жила девушка? — спросил Демин.
— А вот, — Сутарихина, не глядя, кивнула на высокую двустворчатую дверь и тут же снова бросилась в темноту коридора.
— Гражданка Сутарихина! — громко и властно сказал участковый таким голосом, каким никто здесь никогда, наверно, не разговаривал — будто команду отдал. Сутарихина не только остановилась, она распрямилась и послушно повернулась ко всем лицом. — Вот этот товарищ, — участковый говорил все тем же зычным голосом, — хочет с вами поговорить. У него к вам вопросы, касающиеся смерти вашей соседки Натальи Селивановой. Вам все понятно?
— А чего ж тут понимать… Все как есть понятно. А вопросы… Чего ж не ответить, отвечу… — Сутарихина сделала приглашающее движение рукой. Заходите, мол, если уж это так необходимо.
— Вот что, ребята, — повернулся Демин к оперативникам. — Особое внимание — не было ли у нее гостя? Ну и, конечно, телефоны, адреса, переписка и так далее. Понятые здесь? Отлично.
Демин подождал, пока участковый откроет дверь, тоже вошел, огляделся. Кроме нескольких щепок, оставшихся после того, как утром пришлось взламывать дверь, в комнате не было заметно никакого беспорядка. Толстая накидка на диван-кровати, полированный стол, на котором стояла начатая бутылка виски, тяжелые шторы на окне, пол закрывал красный синтетический ковер.
— Ничего гнездышко, а, Валя? — заметил участковый.
— Да, вполне ничего, — согласился Демин. — Ладно, ребята, вы трудитесь, а я с соседкой побеседую.
Сутарихина стояла посредине комнаты и смотрела на Демина с явной растерянностью. Ну вот, ты хотел войти, посмотреть, как я живу, смотри, — говорил весь ее вид. Старая кровать с никелированными шариками, с наспех наброшенным потертым одеялом, деревянная рама с множеством фотографий под стеклом, стол, накрытый выцветшей, изрезанной клеенкой… Все говорило о нужде, невеселой жизни, может быть, доживании.
— Проходите, коли вошли, — проговорила Сутарихина и как-то неумело улыбнулась. — В дверях-то чего стоять… — Она подхватила полотенце, протерла табуретку, пододвинула ее Демину. Он сел, еще раз оглядел комнату, и Сутарихина невольно проследила за его взглядом. — Небогато живем, но не жалуемся, — твердо сказала она. — Чего узнать-то хотели?
— Сами знаете… Соседка ваша, похоже, из окна выбросилась. Вот и хотел узнать — сама или кто помог?
— Ой, не знаю, — глаза Сутарихиной сразу стали красными, больными. — Скромница, умница, красавица… Комнату ведь родители для нее снимают, а она училась в институте, иностранные языки изучала. Родители живут в Воронеже… Я уж телеграмму утром дала…
— Она давно здесь жила?
— Третий год пошел… Как поступила в институт, так и поселилась.
— А вчера поздно пришла?
— Ну как поздно… Темно уже было. Часов в девять, наверно.
— Она всегда дома ночевала?
— Ох, и не знаю как сказать…
— Значит, не всегда? — уточнил Демин.
— Не всегда, — горестно согласилась Сутарихина. — Конечно, будь я ей матерью, строже бы спросила, а так что — соседка. Но и беды большой я не видела. У подружек засидится — чего ей через весь город тащиться? А если не приходит ночевать, всегда позвонит, предупредит, так и так, уважаемая Вера Афанасьевна, сегодня меня не ждите. И училась она хорошо, отметки мне свои показывала, все пятерки, четверки, других и не было. Грамота у нее из института за самодеятельность…
— Так, — сказал Демин. — А последнее время вы стали замечать за Наташей что-то неладное?
— Да, что-то с девкой твориться начало… — Сутарихина поддалась его тону. — Месяца три, почитай… И знаете, однажды, — Сутарихина понизила голос, словно собиралась сказать нечто невероятное, — однажды я от нее даже запах вина слышала. Веселой пришла, говорунья, все болтала, да нескладно, невпопад, будто самое себя заговорить хотела. Говорит, у подружки на именинах была. Спрашиваю: а ребята были? Были, говорит. И улыбнулась… Нехорошо так улыбнулась, будто о чем плохом подумала.
Демин внимательно посмотрел в скорбные заплаканные глаза старой женщины и мысленно выругал себя — от надо же так ошибиться в человеке! Он шел в эту комнату, заранее готовя себя к разговору с замкнутой, недовольной всем белым светом старухой, а познакомился с человеком, может быть, не очень счастливым, но сохранившим в себе чуткость к чужой жизни. Это ведь заметить надо — пришла веселее обычного, непривычно много болтала, а улыбалась нехорошо, будто о чем-то плохом вспоминала…
— А парень у нее был?
Сутарихина быстро взглянула на Демина, опустила глаза, помолчала, наматывая на палец тесемку от передника.
— Наверно, все-таки был… Захожу как-то к ней, а у нее на столе фотка… Парнишка. Молоденький, худенький. Симпатичный молодой человек, видно, с пониманием о жизни… Я не удержалась, спросила все-таки… Но, видно, вопрос мой не понравился Наташе, любопытство мое она осадила. Не то чтобы резко или грубо… Нет, просто сделала вид, что не услышала.
— А эти… соседи ваши, Пересоловы? Как они к ней?
— Ну что сказать… Пересоловы, и все тут. Другие люди. Они неплохие ребята, не ворюги, не пропойцы, не скандалисты, помогут всегда, когда попросишь… И друг дружку чтут, никогда драк у них промежду собой не бывает или ругани какой. Но вот как-то интересу у них к жизни нет. Стремления у них нету. Заработать, поесть, попить, покуралесить, песни попеть, похохотать — и все тут. А к Наташе… Нет, не забижали они ее, гостинцы иногда приносили, когда праздник какой. Новый год, к примеру, или женский день. Хоть выпимши придут, а гостинцы принесут.
— Какие? — спросил Демин, вспомнив про виски.
— Господи, какие у них могут быть гостинцы… Конфетки, цветочки, игрушку какую-нибудь, не то медведя, не то зайца. Попробовали они было к ней с мужским интересом, но… Другие люди. Я уж набралась наглости, пошла к ним. Уж так отчитывала, так отчитывала… — Женщина вдруг расплакалась.
— Вера Афанасьевна, а теперь скажите мне — в квартире этой ночью чужих не было?
Сутарихина тыльной стороной ладони вытерла слезы на щеках и настороженно посмотрела на Демина, пытаясь понять скрытый смысл его вопроса.
— Я вам вот что скажу… Ежели вы кого подозревать надумаете, подозревайте жильцов. Никого, кроме нас, в доме не было. И быть не могло.
— Может, у Наташи в комнате кто был? Она, к примеру, впустила…
— Не было у нее никого. Чай я у нее пила вечером. И потом опять к ней в комнату заходила — чаю она мне купила где-то в центре. За чаем и зашла.
Заметив, что Демин смотрит на нее с подозрением, женщина поднялась, подошла к шкафчику, достала из него несколько пачек индийского чая и положила на стол.
— Вот. Сказывала, что в Елисеевском магазине брала. Проверить можно. Там ведь тоже не всегда хороший чай бывает.
— Верю, Вера Афанасьевна, — улыбнулся Демин. — А ночью никто не мог зайти? Может, еще у кого ключи есть?
Сутарихина, не говоря ни слова, поднялась и вышла из комнаты. Вернувшись через минуту, она молча протянула Демину небольшой ломик с раздвоенным концом для выдергивания гвоздей.
— Вот, — сказала она. — Гвоздодер. Кроме замка, мы еще дверь на гвоздодер запираем. Хоть бульдозером открывай — ничего не получится.
— А из жильцов никто не мог впустить постороннего?
— Нет, — терпеливо сказала Сутарихина. — У меня такой сон… У меня и нет его, сна-то. Забудешься на часок-другой, и опять лежишь, в потолок смотришь. Кто воды выйдет попить, или, прости господи, по нужде в отхожее место…
— Наташа эту ночь спала?
— Плохо спала. Как чувствовала, — Сутарихина вытерла слезы углом передника. — Я уж думала, не чаем ли крепким напоила, что заснуть не может. А потом звонок был. Телефонный. Трубку поднял Анатолий… Да, Толька первым подошел, это младшой, он как раз на кухне был. Как я поняла, Наташу спрашивали. Толька положил трубку на тумбочку и пошел к ее двери. Несколько раз постучал. Знак у нас такой — к телефону, мол, иди. А о чем говорили, я не слышала.
Демин медленно разогнулся, поднялся. Взял в руки гвоздодер, подбросил, как бы прикидывая его надежность, осторожно положил на стол между чашек и, озадаченно ссутулившись, вышел.
Оробевшие братья Пересоловы маялись на кухне, курили, не решаясь ни уйти к себе, ни заглянуть в комнату к Селивановой. Время от времени они переглядывались, как бы говоря — вот так-то, брат, такие вот дела пошли… И, уже не чувствуя себя здесь хозяевами, в своей квартире, курили как гости — выпуская дым в открытую форточку и стряхивая пепел в ладошки.
— Ну, что скажете, братья-разбойники? — приветствовал их Демин.
— А что сказать — беда! — ответил, видимо, старший брат. Он был покрупнее, с розовым лицом, слегка, правда, помятым после вечернего возлияния, с четко намеченным, крепким и упругим животиком. Взгляд его маленьких острых глаз был подозрителен.
— Давайте знакомиться, — Демин протянул руку. — Валентин.
— Василий, — и рука у старшего брата была крепкая, плотная. — А его Анатолькой дразнят, — он показал на младшего брата.
— Пусть Анатолька, — согласился Демин, пожимая руку младшему. Тот польщенно улыбался, смущался, чувствуя на себе внимание чужого человека. «Этот послабее, — подумал Демин, — и, судя по всему, у брата на побегушках. Ладошка пожиже, характер, видно, тоже. Типичный характер младшего брата». — Ну а теперь, ребята, расскажите мне, что у вас тут произошло.
Анатолий быстро взглянул на Василия, как бы спрашивая разрешения заговорить, но тот сделал вид, что не заметил беспокойства брата, и Анатолий сник, промолчал.
— Это, как я полагаю, вы нам должны рассказать, что произошло, — значительно и в то же время с подковыркой сказал Василий. — Мы спали, мы ничего не видели, мы люди простые…
— Кто из вас подзывал Селиванову к телефону этой ночью?
— Я звал, — неуверенно сказал Анатолий и опять посмотрел на брата. Василий оставался невозмутимым, и в его спокойствии, невнимании к словам брата сквозило неодобрение поспешности Анатолия.
— В котором часу?
— Около часу, — ответил Василий.
— В котором часу это было? — спокойно повторил Демин, глядя в глаза Анатолию.
— Минут пятнадцать второго, — негромко ответил Анатолий.
— О чем говорили?
— Я не слушал, — ответил Анатолий и покраснел.
— Ну а все же?
— Говорит ведь человек — не слушал! — вмешался Василий. — Придумывать ему, что ли?! Мы тут такого напридумаем…
Демин помолчал, разглядывая Василия с недоумением.
— Вы упрекнули меня в том, что я не могу рассказать, как погибла Наташа, — заговорил Демин размеренно и холодно. — А теперь, когда я выясняю обстоятельства ее смерти, вы затеяли какие-то непонятные игры. Что, собственно, вам не нравится? Я вам не нравлюсь?
— Нет, почему же… — смутился Василий.
— А раз так, то будьте добры, пройдите к себе в комнату. И посидите там, пока я поговорю со свидетелем.
— Это что же получается…
— Я тороплюсь. И вас прошу поторопиться. Закон запрещает допрашивать свидетелей пачками. Свидетелей должно допрашивать по одному. Чтобы они не мешали друг другу, не сбивали друг друга с толку и не вмешивались в расследование. Статья сто пятьдесят восьмая уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации.
Василий, прищурившись, протяжно посмотрел на Демина, показывая, что тот здорово рискует, разговаривая с ним таким тоном. Потом нарочито медленно подошел к форточке, положил на согнутый палец окурок и щелчком отправил его на улицу. Неторопливыми, дразнящими действиями он будто хотел оградить свое достоинство, независимость в поступках.
Демин плотно закрыл дверь за Василием и сел на табуретку напротив Анатолия.
— Тяжело быть младшим братом? — спросил он, улыбаясь.
— Бывает, — смутился Анатолий. — Васька — ничего парень, с ним жить можно. Он боится, что мы из-за всей этой истории попадем в передрягу.
— Авось не попадете, — успокоил его Демин. — Итак, мы остановились на том, что ты позвал Наташу к телефону. Сам остался у двери. Это ясно. О чем она говорила? С кем?
Анатолий помялся, искоса поглядывая на дверь, за которой только что скрылся Василий, и наконец заговорил, сжав коленями сцепленные пальцы.
— Чудной какой-то разговор. Наташа больше молчала. Иногда будто успокаивала кого-то… Ничего, дескать, не волнуйся, я слушаю, я у телефона. Видно было, что ей неприятен этот разговор и она побыстрее хочет закончить его. Потом такая у нее фраза проскочила: «Давай вываливай, что там у тебя еще припасено, вываливай все сразу». Минут через пять снова звонок. Наташа еще не ушла к себе и трубку подняла сама. И, не слушая, сразу выдала… Ты, говорит, все сказала, и я все сказала. И бросила трубку.
— Значит, она разговаривала с женщиной?
— Почему? — удивился Анатолий.
— Но ведь ты сам только что произнес ее фразу: «Ты все с к а з а л а…»
— Вообще-то да… Получается, что с женщиной.
— Твой брат ее не любил?
Анатолий вздохнул, оглянулся на дверь и отвернулся, стараясь не встретиться взглядом с Деминым. Но все-таки поднял глаза и посмотрел жалко и беспомощно.
— Наверно, не без этого… Я как-то подкатился к ней. Ну, а почему бы и нет? Я неженатый, она тоже свободная. Девушка красивая. С красивыми всегда все и случается — и хорошее и плохое. А с дурнушками — никогда ничего. Живут всю жизнь спокойно, сплетничают, завидуют, толстеют и все.
— Влюбился? — спросил Демин.
— А куда деваться? Тут никуда не денешься… Под одной крышей живем, как семья, можно сказать. Не очень дружная, но семья…
— И ничего у тебя не вышло?
— Не вышло, — Анатолий растерянно улыбнулся. — Сказала она мне вроде того, что, мол, надо свой шесток знать. Да я и сам понимал, что Наташка не моего пошиба девка. А чем, думаю, черт не шутит, и попер… В общем, получил от ворот поворот.
— Послушай, Толя, Селиванова никогда не давала тебе никаких поручений?
— А почему вы решили, что она…
— Нет-нет, погоди. Я ничего не решал. Я спрашиваю. Возможно, она тебя предупредила, чтобы ты никому не говорил, поскольку это для нее очень важно… Моя задача — найти причину самоубийства, если оно действительно было, найти людей, которые довели ее до такого состояния, когда самоубийство кажется лучшим выходом…
— Я понимаю, — перебил Анатолий. — Поручения были. Несложные, нетрудные. Просила она меня не то два, не то три раза коробки отвезти по одному адресу.
— Какие? С чем?
— Магнитофоны. Запакованы они были, фабричная упаковка. Дорогие игрушки. Японские, западногерманские. В комиссионках они по полторы тыщи.
— А куда отвозил?
— Мужику одному…
— Адрес помнишь?
— Нет, не помню. Но показать могу. И как звать его, помню — Григорий Семенович. Маленький, шустрый, суетливый такой… Все лебезит, лебезит, а потом вдруг возьмет да и нахамит. Манера у него такая. Дескать, я вон какими делами ворочаю, а ты, мразь вонючая, получай трешку за услуги. А уж радости у него при виде этих коробок! Как-то рюмочку поднес за работу. Оказалось — самогонка. Тыщами ворочает, а самогоночкой балуется. Но, как я понял, держит ее для угощения не очень почетных гостей. Стоит у него там в шкафчике и кой-чего поприличнее.
Демин ссутулился на кухонной табуретке, зажав, как и Анатолий, ладони коленями. Значит, проявляется некий Григорий Семенович, самодовольный человечек, балующийся самогонкой и импортными магнитофонами…
— Послушай, Толя, а кто привозил коробки сюда? Наташа?
— Не знаю, не видел.
— А этого любителя сивухи узнаешь?
— Почти лысый, животик выпирает, брюхатенький мужичок, и моргает, будто веки у него снизу вверх ходят, как у петуха. И уши…
Внезапно дверь распахнулась, и на кухню вошел Василий. Лицо его от возмущения пошло красными пятнами, а дышал он так, будто на пятый этаж бегом взбежал.
— Что?! — заорал он, остановившись перед Деминым. — Расколол пацана, да?! Расколол! Так и знал!.. Ах, твою мать, ты ведь упекешь его! Толька! Я ли тебе, дураку, не говорил? Посидеть захотелось?
— Заткнись, — тихо сказал Анатолий.
— Расколол? — повернулся Василий опять к Демину. — Доволен?
— Очень, — Демин поднялся. — Да, я очень доволен вашим братом. Честный и порядочный человек. И, как я понял, эти качества не вы ему привили. Или лучше сказать иначе — вы из него эти качества еще не вытравили. Трусоват твой старшой-то, — сказал Демин Анатолию. — Ишь запаниковал. Ну ладно, братишки, не скучайте. Из дому не уходите пока, вдруг понадобитесь.
Обыск в комнате Селивановой продолжался. Фотограф в творческом волнении расставлял на столе американские сигареты, японский зонтик, открытую бутылку шотландского виски, стакан с тяжелым литым дном… Понятые сидели на диванчике. Им давно наскучили нехитрые обязанности; слесарь с дворничихой вполголоса толковали о ремонте системы парового отопления, о лифте, начальнике ЖЭКа, которому ничего не стоит человека обидеть…
— Странная была студентка эта Селиванова, тебе не кажется? — участковый кивнул на раскрытый шкаф, в котором висели две дубленки, небрежно брошенные, лежали заморские сапоги, ондатровая шапка…
— Благосостояние растет, — пожал плечами Демин.
— Если все начнут такими темпами свое благосостояние повышать, — хмуро сказал оперативник, — мы не будем поспевать с выездами…
— Что отпечатки? — спросил Демин у эксперта.
— Вроде чужих нету. Точно отвечу завтра утром.
Оперативник протянул Демину большую папку с фотографиями. Да, Селиванова любила сниматься и явно нравилась себе. Он отобрал из пачки несколько снимков и сунул их в карман.
— А вот это, Валя, тебе не покажется интересным? — Оперативник положил перед Деминым коробку, наполненную всевозможными женскими побрякушками, колечками, сережками, квитанциями, нитками… — Посмотри, здесь почти десяток этикеток из «Березки». Ну из магазинов, которые за валюту торгуют. Для иностранцев в основном.
Демин взял коробку, вытряхнул ее содержимое на диван. Несколько минут внимательно рассматривал этикетки, квитанции.
— Ну вот, это уже интересно, — проговорил он. — Квитанция на денежный перевод. Мамаша высылает Селивановой двадцать пять рублей и заранее извиняется, что больше в ближайший месяц выслать не сможет. Слышь, Гена! — подозвал он участкового. — Картошку купили родители Наташи. На зиму запаслись. И эта покупка серьезно вышибла их из колеи.
— Ну и что?
— А то, что благополучия Наташа достигла своими силами. Старики ее, как я понял, не самые состоятельные в Воронеже люди. Покупка нескольких мешков картошки всерьез нарушает все их финансовые обязательства. А у Наташи две дубленки. Если я не ошибаюсь, общей стоимостью порядка тысячи рублей.
— Мать честная! — в волнении зажала рот руками дворничиха, услышав эти, совершенно невероятные, с ее точки зрения, цифры. — Это где же взять их?! Такие-то деньги…
— Дочку красивую иметь надо, мамаша! — засмеялся фотограф. — Нынче красивые дочки в цене!
— Нет уж, сынок, — строго проговорила женщина. — Тогда и денег этих не надо. Господь с ними, с деньгами-то… Вот так-то. Не ужилась, видно, девка с деньгами в одной комнате, выжили они ее, в окно вытолкнули, во как! С большими деньгами не каждый уживается. Они, деньги-то, с норовом!
Демин открыл окно и посмотрел вниз. В нескольких метрах от него раскачивались верхушки высоких деревьев, внизу, на асфальте, все еще лежали кирпичи, припорошенные мокрым снегом. Выбросилась Селиванова рано утром, почти ночью, в темноте. Надо же, нашлась у девчонки бутылка виски… А не будь ее, кто знает, и сейчас была бы жива. Поревела бы, пообижалась бы на кого-то, но осталась бы жива… Выпила примерно стакан. Количество вполне достаточное, чтобы любая неприятность превратилась в трагедию. Говорят, правда, что, наоборот, пьяному море по колено… Не знаю, подумал Демин, не знаю… Большинство преступлений совершается по пьянке не потому, что кое-кому становится безразличной собственная судьба… Скорее наоборот — болезненно обостряется чувствительность, преувеличенно воспринимается любое случайно брошенное слово, безобидное замечание кажется смертельным оскорблением, терпимое положение воспринимается как безвыходное.
Ну что ж, доложим начальству все как есть, думал Демин, перелистывая маленькую записную книжечку Селивановой. Книжка была необычной — в алом сафьяновом переплете, с прекрасной бумагой. Такую не купишь в канцелярском магазине, скорее всего тоже из «Березки»…
Дверь в комнату резко, без стука открылась — на пороге стояла бледная Сутарихина.
— Там звонят, — проговорила она почти шепотом. — По телефону… Наташу просят… Я сказала, чтоб подождали…
— Валера, — Демин повернулся к одному из оперативников, — беги быстро в соседнюю квартиру. Позвони оттуда — пусть засекут… А вы, Вера Афанасьевна, возьмите трубку и скажите, чтоб подождали.
— Господи, как же это? — Глаза старой женщины наполнились слезами. — А ну как не смогу?
— Сможете! — жестко сказал Демин. — Идите!
Своей резкостью он хотел возмутить женщину и тем придать ей силы. Сутарихина испуганно взглянула на него и вышла. Видя, что она все еще не решается взять трубку, Демин сам взял ее, прислушался, дав знак всем замолчать. «Соседка пошла звать…» — услышал он низкий женский голос. «Придет, никуда не денется», — произнес тот же голос через несколько секунд. После этого раздался смех, не радостный, а какой-то угрюмый, торжествующий смех человека, который добился своего, сумел доказать свою силу. «Ничего, побесится, перестанет… Через это надо пройти. Ну что там?!» — последние слова прозвучали четче, ближе других. Видно, неизвестная собеседница крикнула их прямо в трубку.
Демин передал трубку Сутарихиной.
— Алло! Алло! — зачастила Сутарихина. — Вы меня слышите? Алло?
— Да слышу, слышу, чего вы орете, как будто вас…
— Подождите минутку… Алло!
В конце коридора, насупившись, стояли братья Пересоловы, и во всем их облике было неодобрение. Демин навис над Сутарихиной, пытаясь разобрать, что говорит сипловатая собеседница. Понятые робко выглядывали из комнаты Селивановой — они, кажется, так и не поняли, что происходит.
— Хорошо, я позвоню через пять минут, — сказала женщина и, не дослушав Сутарихину, повесила трубку.
— Низкий нагловатый голос? — вдруг спросил молчавший до сих пор младший Пересолов.
— Да, наверно, его можно назвать таким, — озадаченно проговорил Демин. — Ты ее знаешь?
— Она звонит иногда. Не так чтобы часто, но и не первый раз. Кстати, этой ночью она звонила. Ее зовут Ирина.
— А отчество, фамилия? — спросил Демин.
— Не знаю, Наташа не говорила.
— Напрасно, — проворчал Демин.
— Я могу подойти к телефону… Она иногда передает через меня кое-что для Селивановой… То есть передавала.
Демин задумчиво посмотрел на младшего Пересолова, на Сутарихину, в глазах у которой засветилась надежда на избавление от такой неприятной роли.
— Хорошо. Подойдешь ты.
— Толик, будь добр, кликни Натали́, а? — спросила трубка.
— А что я буду за это иметь?
Демин молча пожал парню локоть — правильно, мол, так держать. Тяни время, болтай не торопясь.
— Что будешь иметь? — переспросила женщина. — Это ты уже с Натали́ договаривайся, — она хрипло засмеялась.
— С ней договоришься, как же! Держи карман шире!
— С Натали? Можно, Толя, можно. Заверяю тебя, что с ней очень несложно договориться. Видно, ты не с того конца начал.
— С какого же конца нужно начинать?
— Ха! Я бы тебе сказала, но рядом люди. Они могут неправильно меня понять.
Демин увидел на лбу у парня маленькие капельки пота. Он только сейчас понял — каково было тому вести этот вроде бы шутливый разговор.
— Ну, ты что замолчал-то? Смотался бы за соседкой-то!
— Ладно, подожди, — пробурчал Анатолий и передал трубку Демину. Некоторое время в трубке не раздавалось ни звука. Полная тишина. Только мелкие шорохи, писки. Потом вдруг четко и громко прозвучали слова: «Конечно, придет, никуда не денется». Все тот же низкий женский голос. И Демин даже на расстоянии чувствовал, что принадлежит он человеку агрессивному, хваткому, энергичному.
В дверях появился оперативник.
— Все в порядке, — проговорил он шепотом. — Засекли.
— Спроси, может, чего передать, — сказал Демин Анатолию, отдавая ему трубку.
— Алло! Ира! Может, что передать?
— Слушай, ну и копуха она стала! Все еще не оделась? Как у нее настроение?
— По-моему, неважное.
— Я думаю, — удовлетворенно засмеялась женщина. — Толя, скажи ей, чтоб сегодня обязательно была в «Интуристе». Понял? Она знает. И еще скажи, чтоб не валяла дурака. Ну будь!
Анатолий положил трубку и некоторое время стоял молча. Потом вопросительно посмотрел на Демина.
— Ты ее знаешь? — спросил Демин. — Кто это был?
— А черт ее знает! — с неожиданной злостью сказал Анатолий. — Ира, и все. Судя по голосу, эта Ира немало выпила на своем веку. И не только водки.
— Что же еще она, по-твоему, пила? — спросил Демин.
— Крови она достаточно попила у людей. По голосу чувствую, по тону. Этакой хозяйкой себя воображает. Видно, нравится ей быть хозяйкой, давать распоряжения, поощрять и наказывать.
— Ладно, — тихо проговорил Демин, и в его голосе в первый раз за все утро прозвучала угроза. — Ладно. Пусть так. Что у тебя? — повернулся он к оперативнику.
— Из автомата звонили. С улицы Горького.
— Ладно, — повторил Демин. — Пусть так. Хозяйка так хозяйка. Я не против. Будем заканчивать. Подписываем протоколы, собираем манатки, опечатываем жилплощадь и отбываем. А вас я попрошу вот о чем, — Демин повернулся к жильцам, — если кто будет спрашивать Селиванову, отвечайте, что ее нету. Нету, и все тут. Пусть думают что хотят. Такая вот к вам просьба.
Демин оглянулся в последний раз, словно проверяя — не забыл ли чего, и вдруг взгляд его упал на новенький портфель с блестящими медными пряжками. Он был явно чужой в этом полутемном коридоре, на пыльном полу, между старой кухонной тумбочкой и продавленным креслом. Демин поднял его, внимательно осмотрел.
— Наташин, — сказал Анатолий. — Она часто оставляла его в коридоре. А утром брала — и сразу в институт.
Демин, не говоря ни слова, внес портфель в комнату Селивановой и вытряхнул его содержимое на диван. Это был обычный студенческий портфель. Из него высыпались тетради, конспекты, зеркальце, несколько шариковых ручек. Раскрыв одну из книг, Демин увидел, как из нее выпал небольшой синий листок бумаги и, раскачиваясь из стороны в сторону, полетел на пол. Демин поднял его, внимательно осмотрел, и все увидели, как его хмурое лицо осветилось чуть ли не счастливой улыбкой.
— Ну вот, — сказал он. — Лира. Самая настоящая итальянская лира, которую гражданка Селиванова использовала в качестве книжной закладки. Правда, стоит она пятак, не больше. — Демин подмигнул младшему Пересолову. — Уж поскольку я освободил тебя сегодня от работы, пойдем немного покатаемся? А?
— Если хотите…
— Тогда одевайся. Поехали. А снег, снег-то валит. Эх, Наташа, такого снега лишить себя, такой погоды! Зачем было так торопиться?
И опять машина мчалась по заснеженным улицам. С пощелкиванием неутомимо работали «дворники», сгребая с ветрового стекла мокрое месиво, и чертыхался водитель, глядя, как скользят на переходах прохожие, как шарахаются они в сторону, увидев возникающую совсем рядом машину, и молчал, вжавшись в заднее сиденье, Демин, поглядывая на дорогу, на размытые контуры домов, на тусклые, словно плавающие в снегу огни светофоров.
— А этот… Григорий Семенович, звонил Селивановой? — спросил вдруг Демин.
— При мне нет, — ответил Анатолий. — Вы хотите сейчас зайти к нему?
— Нет. И тебе не стоит. Уточним номер дома, квартиру, фамилию и отчалим.
— А, черт! — вскрикнул водитель, выравнивая машину. — Заносит.
— Не торопись, Володя. Успеем. Уж теперь-то мы должны успеть. Насколько я понимаю, Григорий Семенович не из тех людей, которые выбрасываются из окон, а, Толя?
— Нет, он не выбросится.
— А других? Выбросит?
— Мешать, во всяком случае, не станет.
— Представляешь, Толя, живут среди нас некие существа, тоже по две ноги имеют, голову в верхней части туловища, разговаривают по-нашему, нас понимают, может быть, даже лучше, чем мы сами себя понимаем. Со стороны посмотришь — вроде люди как люди. Ан нет. Они совсем не люди. Я не говорю, что они плохие люди, они вообще не люди. Они только притворяются, прикидываются, иногда долго и весьма успешно.
— Что-то, Валя, я смотрю, ты в философию ударился, — усмехнулся водитель.
— Что ты, Володя! Никакой философии. Жизнь. Я иногда ловлю себя на мысли, что разыскиваю не человека, совершившего преступление, а просто чужое, враждебное существо, которое замаскировалось под человека и шкодит ему, использует его в своих темных целях и вообще смотрит на человека как на некое животное, которое можно использовать на тяжелых работах, в пищу, да, и в пищу! А вечером, после дневной суеты, сняв маскировку, оно, это существо, будет сидеть на мягком, теплом диване, поглаживать брюшко и смеяться над человеком же. Нет, ты понимаешь, что происходит, — продолжал Демин, — эти существа не прочь считать себя людьми, более того, только себя-то они и считают людьми. У остальных, видите ли, манеры не столь изысканны, словами они не могут играть так ловко, блажью, видите ли, мучаются — то про совесть вспомнят, то про порядочность, то им принципиальность поперек дороги станет. А у этих существ все до ужаса просто, все в конце концов сводится к купле-продаже. И больше всего они опасаются обнаружить смысл своей жизни…
— В чем же он у них, этот смысл? — спросил Анатолий.
— Прежде всего навар. Ты понимаешь, все эти разговоры о жалости, сочувствии, великодушии, честности — все это только смешит их и еще больше убеждает в собственном превосходстве. Все это, мол, разговоры недоумков, которые пытаются оправдать свою слабость. Прибыль — вот козырь, которым они работают. Человеческая жизнь не козырь. Закон не козырь, он попросту не для них. И вот, разговаривая с кем-то, я прежде всего пытаюсь определить — человек сидит передо мной или то самое замаскированное существо.
— Вы думаете… что Наташа из них? — спросил Анатолий.
— Селиванова? Вряд ли… Эти существа не кончают самоубийством, они просто находят наиболее целесообразный вариант. Они слишком рассудочны, чтобы поддаваться таким эмоциональным порывам. Они не способны на подобное… И в этом их сила. А вообще-то, ребята, сейчас отличная погода, вы только посмотрите!
— Куда лучше! — иронически бросил водитель. — Только жить да радоваться.
— Вот здесь, — сказал Анатолий, показывая на смутную, расплывчатую громаду дома, которая неожиданно проступила в снегопаде.
Машина вильнула к тротуару, брызнув в стороны мокрым снегом, и остановилась. Демин приблизил лицо к самому стеклу, пытаясь прикинуть высоту дома, но не увидел верхних этажей — снегопад скрывал их.
— Ну ладно, — проговорил он без огорчения. — Улицу мы знаем, номер дома тоже знаем, остановка за квартирой и фамилией. Толя, ты свою задачу понял? Заходить и тревожить Гришу не следует. Уточни квартиру и фамилию. И все.
Анатолий молча вышел, оглянулся по сторонам, поднял воротник плаща и, ссутулившись, побежал к подъезду. В мокром, насыщенном снежинками воздухе даже не слышно было, как хлопнула дверь.
— А ничего домик, — протянул водитель. — Я бы не отказался.
— Я тоже, — согласился Демин.
Через несколько минут на пороге показался Пересолов. Найдя взглядом машину, он побежал к ней напрямик, прижав к ушам уголки воротника. Водитель предусмотрительно открыл дверцу, и Анатолий с разбега упал на сиденье.
— Татлин. Его фамилия Татлин. А квартира — шестьдесят седьмая. Представляете, я поднялся на девятый этаж и остановился перед его квартирой, чтобы уже наверняка убедиться, а в это время распахивается дверь, и на площадку вываливается его мамаша. Она, видно, меня в глазок рассмотрела.
— Так, — протянул Демин. — Она спустила тебя с лестницы?
— Во всяком случае, ей этого очень хотелось. Но это неважно. Дело в том, что сынка ее, Григория Семеновича Татлина, дома сегодня нет и в скором времени не будет. В данный момент он находится под следствием.
— Даже так! — удивился Демин. — Даже так… И давно?
— Около недели.
— За что?
— Она говорила что-то об обмане, предательстве, неблагодарности и так далее. Никогда не думал, что в такой обходительной женщине столько матерщины может скопиться, — озадаченно сказал Пересолов. — Она приняла меня за дружка Григория Семеновича, одного из тех, кто предал его.
Все так же валил снег. Водитель выключил «дворники», и ветровое стекло уже через несколько минут было занесено. В машине установилась тишина, тепло и уют настраивали на благодушное настроение. Рядом с мягким шорохом проносились машины, слышались голоса прохожих. Демин молчал. Ему надо было срочно принять решение — идти к Татлиной или не следует? Конечно, по всем законам и канонам идти не стоило. Ведь он ничего не знает. Он не готов к разговору. Он не в состоянии даже четко ответить на вопрос — что ему нужно от Татлиной. Кто-то уже ведет следствие, Татлин дает показания, где-то уже есть протоколы допроса свидетелей, справки, характеристики… И конечно же, познакомившись со всеми материалами следствия, поговорить с Татлиной можно гораздо увереннее. Но Демину нестерпимо хотелось повидать Татлину, побывать у нее на квартире, переброситься незначащими словами — иногда они оказываются самыми значащими. Да, он ничего не знает, но позиция полного невежды очень удобна. Судя по рассказу Пересолова, Татлина принадлежала к тому типу людей, которым приятно видеть перед собой невежд, просвещать их с высот своей образованности и, таким образом, утверждаться, утверждаться хотя бы в собственных глазах. Ну что ж, подумал Демин, пусть она меня просветит. А кроме того, уже твердо решил он, мне нужны основания, чтобы вынести постановление о возбуждении уголовного дела… Как того и требует столь любимая мною статья номер сто двенадцать.
— А знаешь, Толя, — медленно проговорил он, — я все-таки схожу к твоей подружке… Как ты на это смотришь?
— Оружие с собой?
— Авось! — рассмеялся Демин, чувствуя легкость от принятого решения. — Если через полчаса не вернусь — взламывайте дверь.
К подъезду он шел не торопясь, наслаждаясь падавшим на лицо снегом. После неподвижной духоты машины воздух казался особенно свежим. Так же медленно Демин поднялся по ступенькам к лифту, вошел в него, аккуратно прикрыл дверь. А на девятом этаже, уже чувствуя готовность к разговору и нетерпение побыстрее увидеть Татлину, он позвонил в шестьдесят седьмую квартиру. Сверкающая точка глаза, врезанного в дверь, померкла. Кто-то внимательно, ему даже показалось — затаив дыхание — рассматривал его. Демин оставался невозмутимым, хотя ему очень хотелось подмигнуть этому стеклянному глазу. Наконец мягко щелкнули зажимы замков, дверь слегка приоткрылась, и он увидел расплывшееся лицо, маленькие настороженные глазки, нечесаные волосы, падающие на уши. Татлина, видно, еще не остыла после разговора с Пересоловым…
— Простите, пожалуйста, — начал Демин. — Здесь живет Григорий Семенович Татлин?
— А вы кто такой будете?
— Моя фамилия Демин. Я работаю следователем. Я бы хотел видеть Григория Семеновича… Мне надо поговорить с ним.
— На Бутырке Григорий Семенович! — вдруг тонко выкрикнула женщина. — Надеюсь, следователи знают, что это такое?! Они должны знать, что Бутырка — это не Сочи и не Одесса!
— Он на Бутырке? — ужаснулся Демин и понял, что это получилось у него неплохо, потому что Татлина, поколебавшись, все же пропустила его в квартиру.
Демин сдернул с головы заснеженный берет, отряхнул его и повесил на вешалку. Затем как бы в растерянности прошел в переднюю и, продолжая отступать, пятиться, оказался в большой комнате. Окинув комнату быстрым взглядом, сразу понял, что здесь совсем недавно произошли большие перемены. Светлые квадраты на стенах ясно говорили о том, что мебели в комнате было гораздо больше. Квадраты поменьше, в полутора метрах от пола, свидетельствовали: здесь висели картины, и уж если сочли за лучшее их убрать, это были отнюдь не репродукции. А на одной стене он заметил целую россыпь небольших светлых прямоугольников. Иконками, видно, тоже баловался Григорий Семенович…
— Вот мои документы, — он показал удостоверение. — Понимаете, у одной девушки большие неприятности, а она знала Григория Семеновича. Вот и хотелось бы поговорить с ним.
— Ах, вот оно что, — Татлина медленно поднялась со стула. Слова Демина всколыхнули в ней что-то болезненно уязвимое. — Так говорите, у вашей девушки неприятности? И вы сразу к Григорию Семеновичу? Так? Помогите, Григорий Семенович, у моей девушки неприятности! Да?
— Я вовсе не хотел сказать, что речь идет о моей девушке…
Но Татлина его не слышала.
— Вот так всегда, — проговорила она, подняв голову к потолку и закрыв глаза, словно бы взывая к высшим силам, к высшей справедливости. — Вот так всегда! — четко повторила она, и Демин увидел, что на него в упор смотрят два маленьких, горящих ненавистью глаза. — Вот так всегда! — в третий раз повторила Татлина. — Когда у кого-то неприятности, все бегут к Григорию Семеновичу! А когда неприятности у Григория Семеновича, все бегут от него как от заразы! Вот вы! У какой-то девушки неприятности, а вы уж поскорее к Григорию Семеновичу! И правильно! Все так делали. И никто не уходил из этого дома не утешившись, никто не уходил без помощи!
— За что же все-таки арестовали вашего сына?
— А! — Татлина досадливо махнула рукой. — За валюту замели!
— Валюта? — переспросил Демин, сразу вспомнив синий прямоугольничек итальянской лиры, который выпал из книжки Селивановой, и отметил про себя, что Татлина не чурается жаргонных словечек и знает, очевидно, не только это «замели».
— А! — еще более досадливо бросила рукой Татлина. — Попросила его одна, прости господи, дама продать несколько долларов, потому что ей, видите ли, кушать нечего! Представляете себе даму, которая продает доллары, потому что ей нечего кушать! — Татлина презрительно хмыкнула. — И он согласился. А теперь, когда она уже имеет что кушать, имеет на чем спать и с кем спать, хотя в этом у нее никогда недостатка не было, он сидит на Бутырке и размачивает сухари в железной кружке!
— А эту женщину тоже задержали?
— Не смешите меня! — поморщилась Татлина. — Ведь он из порядочности не решается даже назвать ее. Она доверилась ему, и он не хочет обмануть ее доверие. Скажите, разве он не святой человек?
— А кто эта женщина? — наивно спросил Демин. Он даже не надеялся на успех, прекрасно понимая, что все сказанное «прокручено» не один раз, не одному слушателю, и, ясно же, толстуха не так проста, как хочет показаться. И действительно, поняв, что сболтнула лишнее, Татлина сразу замкнулась, подобралась, недобро глянула на Демина и промолчала. Сделала вид, что вообще не слышала его вопроса. — Ведь так нельзя, — продолжал Демин. — Насколько я понимаю, ваш сын может получить пять лет, во всяком случае, это не исключено.
— Пять?! — ужаснулась Татлина.
— Да. Если его действительно задержали с валютой. И конфискация имущества не исключена.
Демин с удовлетворением отметил, как метнулся по опустевшей квартире взгляд Татлиной. Она словно бы еще раз проверила — не забыла ли чего, не оставила ли впопыхах.
— А эта женщина… — начал было Демин, но Татлина перебила его.
— Да не знаю я ее, господи ты боже мой! — Она в досаде грохнула кулаком по столу и тут же этим кулаком подперла щеку. — Если бы знала, за шиворот приволокла бы эту дрянь и без расписки сдала бы первому милиционеру! Тьфу! — Она плюнула на пол, не в силах сдержать презрения к неизвестной даме.
Знает, подумал Демин. Прекрасно знает. И не выдаст. Будет молчать. И ее можно понять. Видно, уже побегала по юристам, консультантам. Знает, что второй участник может только усугубить вину Гриши — групповщинкой запахнет. Ха, да ведь она и диван куда-то свезла! На чем же она, бедолага, спит? Никак на раскладушке? Ну-ну…
Демин поднялся.
— Прошу простить меня за беспокойство… Я не знал, что ваш сын задержан. Я, очевидно, его увижу… Может быть, передать что?
Татлина резко повернулась к Демину и в упор, испытующе посмотрела на него.
— Скажите Грише… Скажите ему, чтоб он не беспокоился. У меня все в порядке. Пусть не волнуется. Пусть ведет себя так, как подсказывает ему его совесть.
Демин мог поклясться, что в голосе ее явственно прозвучала ирония. Ну что ж, и на том спасибо, подумал он. Хорошо хотя бы то, что она упомянула ту женщину. Глядишь, и я полезным окажусь своему коллеге.
Татлина проводила его в прихожую и, не скрывая облегчения, плотно закрыла дверь.
Несмотря на обеденное время, начальник следственного отделения Рожнов был на месте. Обычно обедать он никогда не ходил, довольствуясь бутербродами с домашними котлетами и чаем, который заваривал здесь же, у себя в кабинете. Демин застал своего начальника в чисто купеческой позе — тот прихлебывал чай из блюдца, поднятого высоко, к самому лицу. Чай Рожнов пил с сахаром вприкуску, раздобывая где-то головки рафинада.
— Садись, Валя, вместе чаевничать будем, — Рожнова разморило, и он больше обычного был красен и доброжелателен.
— Может, у тебя и котлета осталась? — спросил Демин, садясь к батарее.
— Котлета? — Рожнов помолчал, прихлебывая чай, вздохнул. — Ладно, отдам тебе котлету. Я ее на вечер берег, но тебе отдам. Чувствую — заслужил ты сегодня котлету. А?
— Не исключено, — усмехнулся Демин.
— Смотри, оправдай мое доверие, окупи мои жертвы, — Рожнов развернул целлофановый пакет и вынул из него громадную, в ладонь величиной котлету. — Лопай. И рассказывай.
— Валютой запахло, Иван Константинович.
— Ишь ты! — глаза Рожнова сверкнули любопытством. — Наш пострел везде поспел, да? Ну хорошо, а что девушка? Сама? Или кто посодействовал?
— И то и другое, если я не ошибаюсь. Выпрыгнула сама, но и не без содействия.
— Не понял.
— Косвенное содействие. Мне так кажется. Кроме соседей, в квартире никого не было. Дверь в ее комнату заперта изнутри. Взламывать ребятам пришлось. Уйти через окно невозможно — совершенно отвесная стена. В квартире, кроме нее, — бабуля и два брата-акробата. Вечером все было нормально. Чай с вареньем, мирный разговор с соседкой, а где-то в час ночи телефонный звонок. Если верить показаниям, кто-то чего-то от Селивановой хотел, к чему-то склонял, она отказывалась, ей грозили… Такой вот разговор был. Дальше все просто. Бессонная ночь, стакан виски под утро и головой вниз в распахнутое окно. Очень эмоциональная девушка была, видно, эта Селиванова.
— Так, — крякнул Рожнов, отставляя стакан в сторону. Он смахнул крошки со стола и положил ладони на холодное чистое стекло. И мгновенно из его голоса исчезли благодушные, купечески-самоуверенные нотки. Перед Деминым опять сидел человек, которого он хорошо знал — жесткий, безжалостный к себе и сотрудникам. — Так, — повторил Рожнов, и в одном только этом слове почувствовалась готовность немедленно бросить все силы на разгадку утреннего самоубийства. — Что обыск?
— Находки интересные. Виски, который продается только в магазинах для иностранцев. Сигареты того же пошиба. В наших ширпотребовских торговых точках таких нет. Две дубленки в шкафу.
— Так.
— И вот бумажка, — Демин вынул из кармана синий прямоугольничек. — Лира. Служила покойной в качестве книжной закладки. А в коробке из-под обуви около десятка этикеток из «Березки». Парнишка, сосед, иногда выполнял поручения Селивановой — относил некоему Татлину, задержанному неделю назад, коробки с магнитофонами. Симпатичные, небольших размеров коробки с западногерманскими и японскими магнитофонами, транзисторами и так далее. Так я вышел на Татлина. Был у него дома. Не беспокойся, все правильно. Я пошел уже после того, как узнал, что он задержан. Ошибки не было. Познакомился с евойной мамашей. Она сказала, что Татлина задержали при попытке продать валюту. Надо бы уточнить, кто им занимается?
— Я знаю о нем, — нахмурившись, сказал Рожнов. — У него нашли при задержании доллары канадские, американские, голландские гульдены, франки, фунты, кроны, марки… В общем, не Татлин, а небольшой швейцарский банк. Случай уникальный. Подожди минут десять, я сейчас приду. Уточню кое-что.
Несмотря на грузность, Рожнов поднялся легко, вышел энергично и через десять минут вернулся, прошел к своему столу, сел. Задумчиво постучал пальцами по стеклу.
— Есть новости? — спросил Демин.
— Так, — Рожнов повертел в воздухе растопыренными пальцами. — Всю эту валюту нашли при нем в женской косметической сумочке.
— Он что, дурак?
— Очевидно, не без этого. Но по мне, он больше наглец, нежели дурак. Потерял бдительность. Видно, не один раз сходило с рук. Обыск ничего не дал. Как я понимаю, старуха, мать его, успела принять меры. Порнографию нашли, но это к делу не относится.
— Интересно, — заметил Демин.
— Ничего интересного, — пренебрежительно сказал Рожнов. — Любительские снимки, пошлость. Ну ладно, — Рожнов положил ладони на холодное стекло стола. — Подобьем бабки. Как я понимаю, дело надо заводить. Сегодня же выносим постановление. Основания у нас есть?
— Больше, чем нужно.
— Отлично. Прямо сейчас садись и пиши. Протокол осмотра у нас в наличии, показания свидетелей, я смотрю, у тебя по всей форме, уже, наверно, можешь повестки назавтра выписывать?
— Могу.
— Напрасно только ты вот к этой Татлиной ходил… Баба скандальная, врезала бы тебе сковородкой по темечку и превратился бы ты сразу из следователя в потерпевшего. Понял? Учти. Статья сто пятьдесят седьмая о чем нас предупреждает? О том, что свидетель допрашивается в месте производства следствия. Понял?
— Да, но та же статья дает следователю право произвести допрос в месте нахождения свидетеля, — усмехнулся Демин.
— Знаю, знаю я твою нелюбовь к кабинетным допросам, — досадливо махнул тяжелой рукой Рожнов. — Знаю. И потому предупреждаю. И замечание тебе делаю. Не выговор, а замечание.
— Но ведь, Иван Константинович, — начал было Демин, но Рожнов перебил его.
— Много слов говоришь. Нехорошо это. Кроме меня, ни один начальник не сможет выдержать такого количества слов от своего подчиненного. Продолжим. Как ты смотришь на то, чтобы дела по обвинению Татлина в спекуляции валютой и о самоубийстве гражданки Селивановой объединить? Право имеем? Татлин и Селиванова были знакомы, у них были общие дела, так или иначе связанные с валютными операциями… В общем, ясно. Тебе надо срочно встретиться с Колей Кувакиным. Он ведет дело Татлина. Понял?
— Иван Константинович, а как вообще валютные дела по городу?
— А! Ничего особенного. Затишье. Дешевые пижоны к иностранцам пристают, клянчат, срамятся… Крупных дел не замечено. Хотя постой… Появилась какая-то блондинка, по слухам, довольно приятной наружности, немолодая. Кличка — Щука. Очень осторожная, в контакт ни с кем не вступает, обычно выходит сразу на иностранца, без посредников работает. Она, конечно, не из этой компании. Класс совершенно другой. Ну что, ни пуха? Давай. Вперед без страха и сомнений. Постоянно держи меня в курсе дела. Я умнее, понял? Умнее, потому что больше знаю, потому что пальцы держу вот на этих кнопках, — Рожнов показал на селектор. — Ладно, шутки шутками, а без меня ничего не предпринимай.
Кувакин сидел один в маленьком кабинетике, где совершенно непостижимо размещались еще три письменных стола, пишущая машинка на какой-то несуразной тумбе, встроенный в проем шкаф, в углу стояла вешалка, на которой сиротливо висело пальтишко Кувакина.
— Привет, Коля! — поздоровался Демин.
— А, это ты! Меня уже предупредили, чтобы никуда не уходил. Намечается что-то интересное?
Кувакин был немного ниже Демина, немного старше, чуть усталее.
— Коля, на тебя вся надежда, — сказал Демин, втискиваясь в угол.
— Труп?
— Точно. Девушка. Прекрасная, молодая девушка, которая могла бы осчастливить кого угодно.
— За что же ее?
— Сама, Коля. В том-то все и дело, что сама.
— Прекрасные девушки, насколько мне известно, редко идут на столь крайние меры. У них всегда есть несколько запасных выходов, жизнь великодушна к прекрасным девушкам, если они не очень капризны.
— Очевидно, были крайние обстоятельства, — Демин любил разговаривать с Кувакиным, слушать его житейские мудрости.
— Крайние обстоятельства всегда есть. Важно лишь то, считаешь ли ты их крайними… Или лягаешь левой ногой.
— Ты сейчас работаешь с Татлиным?
— Мне иногда, Валя, кажется, что он со мной работает. Неделю голову морочит — и ни с места. Но вроде начинает созревать. Он что, к твоей девушке руку приложил?
— Что это за тип?
— Спекулянт. «Работал» в комиссионках по эту сторону прилавка. Магнитофоны, транзисторы, магнитолы и так далее. Дорогие игрушки. Скупка, перепродажа, в общем, освоил все смежные специальности. Давно знали, чем он занимается, но поймать с поличным не могли. Но однажды он в магазине вроде столковался с кем-то, локотком одного гражданина к выходу подталкивает, в сторонку оттирает, в подворотню манит. Там вынимает наш Григорий Семенович женскую сумочку, раскрывает ее, а у «клиента» глаза начинают медленно вылезать из орбит. Решили наши ребята помочь человеку, подходят. Татлин, как начинающий фокусник, небрежным движением сунул сумочку за мусорный ящик: я не я, и сумка не моя. Но гражданин клиент оказался человеком принципиальным. Чтоб никто, не дай бог, не подумал, будто сумка его, он клятвенно всех заверил, что хозяин ее Татлин. Открывают ребята сумку и чувствуют, что у них тоже глаза начинают потихонечку из орбит вылезать…
— Я знаю, — сказал Демин. — Валюта всех стран и народов.
— Валюты, между прочим, не так уж и много в пересчете на рубли, но разнообразие уникальное. Ребята со всех этажей приходили полюбоваться…
— Сколько в общей сложности?
— Тысячи на две.
— А по профессии он кто?
Кувакин досадливо махнул рукой.
— Ничего особенного. Малограмотный проходимец, и больше ничего. Когда-то учился в радиотехническом техникуме, но не закончил. Выгнали за спекуляцию. Устроился в передвижную механизированную колонну диспетчером… Выписывал путевки, брал взятки у водителей. Понемногу, но брал постоянно. Водители мне рассказывали, что к нему в окошко без трояка не суйся, даже если хочешь время узнать. Что его всегда подводило, так это нетерпение. Очень нетерпеливым оказался. Никак не мог смириться с тем, что кто-то живет лучше его. При его комплексе превосходства это было настоящее мучение. И он ударился в спекуляцию магнитофонами, транзисторами… Остатки радиотехнического образования позволяли ему весьма значительно рассуждать о достоинствах той или иной модели, преимуществах — среди спекулянтов большим спецом прослыл. Мужик на пятом десятке, но не женат. Думаю, что не женится он из экономии. Живет с мамашей.
— С его мамашей я сегодня утром беседу имел.
— Ага… По моим следам, значит, идешь.
— Кстати, она упомянула какую-то женщину… Ну, которая его якобы на это дело подбила…
— Ха! — рассмеялся Кувакин. — Ты, Валя, даешь! Он мне каждый день женщин называет, с адресами, именами и прочими опознавательными знаками.
— И сколько уже назвал?
— Четырех.
— Селиванова есть среди них?
Кувакин выдвинул ящик стола, достал тоненькую серую папку и начал медленно, страница за страницей, переворачивать листки.
— Есть и Селиванова, — наконец сказал он. — Но мы пока ее не отрабатывали.
— Вам не придется ее отрабатывать, — сказал Демин. — Сегодня утром она выбросилась из окна.
— Ого! — присвистнул Кувакин. — Значит, и у меня труп.
— Один на двоих, Коля. Так что дела придется объединять. Вместе будем работать. Скажи, в какой связи он называл женщин?
— Он говорил, что это люди, которые дали ему валюту для продажи. Но каждый раз оказывалось, что названная кандидатура не имеет никакого отношения к валюте. Что еще… В сумочке, кроме денег, мы нашли клочок газеты, и там, на полях, записан курс валют — сколько стоит, к примеру, фунт, доллар, гульден и так далее. Список составлен не Татлиным. Мы взяли образец его почерка и сопоставили. И ни одна из названных женщин тоже не писала этой записки. Отсюда вывод — он назвал не тех. Вот эта записка.
Демин осторожно взял клочок газеты и начал внимательно рассматривать его. Записка была написана красной пастой, шариковой ручкой. Остроголовые корявые буквы к краю листка становились все мельче, мельче и опускались вниз — человек, писавший записку, видно, не любил переносов и все слова втискивал до края листка.
— Ну что скажешь? — спросил Кувакин.
— Много чего можно сказать. Почерк интересный. Скорее всего женский. Но писала не Селиванова. Ее почерк я уже знаю. Писал, видимо, человек с высшим образованием — почерк испорчен конспектами. Когда во что бы то ни стало нужно поспеть за преподавателем записывать, когда это приходится делать часто, много, долго, несколько лет, почерк превращается вот в такие каракули. И заметь, автор не признает заглавных букв. Все большие буквы — это просто крупно написанные обычные. Грамотный человек… Доллары написаны с двумя «л», названия стран тоже без ошибок, причем иностранные слова знакомы автору, они написаны с ходу, легко. Когда слова неизвестны, их по буквам переписывают, а здесь — с этакой небрежностью. Что еще… Автору, вполне возможно, приходится пользоваться пишущей машинкой или услугами машинисток.
— С чего ты взял? — с сомнением проговорил Кувакин.
— Очень четкие абзацы. Отбивка, красная строка, абзац — все это ярко выражено. Почерк некрасивый и в то же время очень разборчивый. Машинистки не любят копаться в каракулях. Написана записка на стекле или на полированном столе.
— Боже, а это ты с чего взял?
— Смотри, бумага газетная, плохая бумага, ручка пишет неважно, некоторые слова приходилось обводить, давить на бумагу больше, чем нужно, но на оборотной стороне нет ни одной вмятины, не проступила ни одна буква, гладким остался листок.
— Ты что, экспертом работал? — спросил Кувакин.
— Нет, Коля, я был прилежным студентом. Ну ладно, какие твои прикидки, откуда у Татлина столько валюты и в таком разнообразии?
— Понимаешь, Татлин назвал только женские имена. Троих я допрашивал, записал показания. Они все неплохо разбираются в ресторанах, знают, например, что такое «Интурист». И Селиванова твоя, очевидно, знала.
— Установлено, чья сумочка была у Татлина?
— Нет. Он называет хозяек одну за другой, но… лукавит, темнит.
— Едем к нему? — спросил Демин.
— Как, сейчас?
— У меня машина… Скучает небось мужик в Бутырке. Сегодня мы можем прижать его трупом. Завтра, глядишь, будет поздно. А следы ведут к нему. Он хорохорится, потому что, кроме валюты, кроме этой дурацкой сумки, у нас ничего нет. И справедливо считает, что ухватить его не за что… А мы постараемся доказать ему, что он ошибается. По-моему, самое разумное, что мы можем сделать, и самое необходимое, что мы должны сделать, — это посетить Татлина.
— И машина есть? — улыбнулся Кувакин.
— Прекрасная, теплая, уютная машина! А какой идет снег, Коля! Боюсь, что это последний снег в этом году! Да, чуть не забыл — шеф сказал, что Татлин порнографией баловался?
— При обыске нашли несколько снимков. Знаешь, что он мне сказал, когда я ему об этих снимках напомнил? Вы говорит, хотите меня пристыдить? Да, мне стыдно, мне неловко, но это самое большое наказание, которого я заслуживаю. Считайте, говорит, что вы меня уже наказали. Вот так-то… Хочешь посмотреть?
— С удовольствием.
— Удовольствия мало, — Кувакин полез в стол, снова достал серую папку и принялся осторожно переворачивать страницы. Добравшись до зеленоватого конверта, он вынул из него пачку снимков и, не глядя, протянул Демину. — К делу эти снимки отношение вряд ли имеют, скорее характеризуют личность Татлина. А как продукция — полная фигня.
— Это меня и настораживает, — проговорил Демин, рассматривая снимки. Он взял один из них, долго вертел перед глазами, потом протяжно вздохнул и ссутулился.
— Ну? Ты что? — забеспокоился Кувакин.
— Это Селиванова, — Демин бросил снимок на стол.
Кувакин как-то диковато глянул на Демина, схватил снимок. А Демин тем временем вынул из кармана фотографии Селивановой, прихваченные им во время обыска.
— Это она же… Из ее альбома.
— Точно, она, — хрипло сказал Кувакин. — Выходит… Постой, постой. Выходит… А ну-ка брось мне остальные снимки! Черт! Это же надо! Вот эту даму, которая здесь в чем мать родила, я вчера допрашивал.
— Ее Татлин назвал?
— Да.
— Видишь, Коля, теперь-то мы уж обязательно должны проведать Григория Семеновича, теперь нам уж и деваться некуда. А адрес этой квартирки, — Демин постучал пальцем по фотографии, — он назовет. Убей меня бог, назовет. И еще кой-чего расскажет.
— Валя, по снимкам можно установить — именно в квартире происходили события или нет? — Кувакин вопросительно взглянул на Демина. — Смотри, здесь виден узор обоев, какое-то пятно, вот нечто вроде гвоздя…
— Этого вполне достаточно, — сказал Демин, еще раз взглянув на снимки. — Более, чем достаточно. И скажу тебе, Коля, если появится в деле фотоаппарат, мы можем наверняка сказать — этим аппаратом снимали или нет, эти кассеты использовали или нет.
— Валя, когда ты говорил о почерке, тебя было интересно слушать, но когда ты понес эту ахинею про кассеты…
— Не веришь? — удивился Демин. — Посмотри на этот снимок… Не туда смотришь, смотри на срез снимка. Негатив отпечатан полностью, то есть снимок не кадрировался, лишнее не обрезалось, и вот пожалуйста — отпечаталась даже бахрома от кассеты. Этот кадр, видно, расположен у самого края пленки. По узору бахромы можно наверняка установить — использовалась ли имеющаяся кассета.
— Все понятно, потребуется экспертиза.
— Для экспертизы нужно найти фотоаппарат, кассеты, квартиру… Послушай, при обыске у Татлина, у женщин, которых он назвал, фотоаппарат не попадался?
— Попадался, — кивнул Кувакин. — У Татлина. И негативы нашли. Они тоже в деле.
— Ну вот, видишь, как все хорошо складывается… Не у него ли и снимки эти делали?
— Нет, — уверенно сказал Кувакин. — У Татлина обои другие. И потом, Валя, Татлин не дурак. Далеко не дурак. Просто ему хочется, чтобы его принимали за такового.
— Ладно-ладно, нашел кого защищать. Ты вот скажи лучше, у Татлина дома не нашлось какой-нибудь записной книжки?
— Нашлось. Только не дома, прямо при нем.
— Она в деле?
— Конечно. А что?
— У меня блокнотик Селивановой с собой. Давай-ка перекрестную сверку устроим, выявим, так сказать, общих знакомых. Доставай его блокнот. Ха! — Демин не смог сдержать радостного удивления. — Да у них и блокноты одинаковые! Прямо не блокноты, а пароль какой-то. Смотри, у Селивановой точно такой же… Длинный, тонкий, с отличной бумагой, в мягкой сафьяновой обложке… Надо же, давно ищу приличный блокнот, а тут уже второй за одно утро… Ты спроси у своего приятеля Татлина, может, удружит, а?
— А думаешь, нет? Ну ладно, поехали.
Через пять минут сверка закончилась. Телефонов в книжках было немного, и некоторые совпадали. В обеих книжках были номера трех женщин, которых назвал Татлин. Правда, у него они были помечены только одной буквой, а Селиванова имена записывала полностью — Зинаида, Галина, Лариса. Была и Ирина.
— Не она ли звонила Селивановой сегодня утром и прошлой ночью? — спросил Демин. — Во всяком случае, других Ирин в блокноте нет. Пошли, Коля. По коням! В Бутырку, к Григорию Семеновичу!
Машина осторожно пробиралась в снегопаде, тихонько, уже привычно ворчал водитель, а Демин сидел на заднем сиденье, вжавшись в угол, и сквозь прижмуренные веки безучастно смотрел на судорожно работающие «дворники», сдвигающие хлопья снега с ветрового стекла. Огни светофоров светились мягко и празднично.
— Приехали, — сказал наконец водитель.
— Ну что ж, будем надеяться, что Григорий Семенович не откажется принять нас в своей новой резиденции, — хмыкнул Демин.
Громадное серое здание как бы растворялось в мокром снегу и от этого казалось почти бесконечным. Все звуки были приглушенные, люди будто старались тише говорить, мягче ходить, будто готовились к чему-то важному. Демин поймал себя на мысли, что он сейчас притихший, сосредоточенный и встречи с Татлиным ждет с нетерпением и опаской.
Кувакин предъявлял документы, согласовывал технические детали, а Демин стоял в сторонке и думал о том, что день у него все-таки нулевой и забывать об этом не следует, что Татлин, судя по всему, орешек непростой и добиться от него чего-нибудь дельного будет нелегко.
— Пошли, — сказал Кувакин. — Все в порядке. Сейчас его приведут.
— Начинаешь ты, — сказал Демин, когда они вошли в небольшую комнатку, где, кроме стола и нескольких стульев, ничего не было. — И ведешь обычный разговор — продолжение всех предыдущих. Я молчу. Я темная лошадка, раздражающий фактор. Не дразни его, не пужай, пусть он будет благодушен и расслаблен. Пусть почувствует свою неуязвимость, свое превосходство, если ему угодно.
— Превосходство он чувствует в любом случае. Это прекрасное душевное состояние не покидает его ни на минуту. Ну ладно, кажется, идет.
Дверь неохотно, со скрипом, будто через силу приоткрылась, и конвойный ввел маленького человечка с брюшком, с шустрым взглядом, в помятой одежде, небритого. Во всем его облике была некая готовность шутить, говорить много, долго и запутанно.
«Игрунчик», — сразу решил про себя Демин.
— О, кого я вижу! — радостно воскликнул Татлин, протянув руки навстречу Кувакину. — Сколько лет, сколько зим! Здравствуйте, Коля! — И тут он увидел Демина, сидевшего в углу.
— Здравствуйте, Татлин, — холодно сказал Кувакин.
— Добрый день, Николай Петрович, — подчеркнуто официально ответил тот, бросив взгляд на Демина.
— У меня к вам опять вопросы, Григорий Семенович, — сказал Кувакин.
— Я весь внимание. Я готов. Прошу.
— Григорий Семенович, не могли бы вы нам сказать, откуда валюта, которую вы пытались продать?
— Валюта?! — несказанно удивился Татлин, и его брови поднялись так высоко, что, казалось, вот-вот нырнут за уши. — Ах, валюта, — он обмяк, и его круглое брюшко стало особенно заметным. — Вы опять о том же… Далась вам эта валюта… Неужели мы не можем поговорить о чем-то другом, более приятном?
— С удовольствием, — ответил Кувакин. — Но вначале — дело.
— На чем мы остановились прошлый раз? — деловито спросил Татлин. — Если мне не изменяет память… — Он задумался, приложив несвежий указательный палец к небритой щеке, — если мне не изменяет память…
— На Селивановой, — подсказал Кувакин. — Вы утверждали, что валюту для продажи вам дала Селиванова.
— Я так сказал?! — ужаснулся Татлин. — И вы мне поверили? Николай Петрович, — укоризненно покачал головой Татлин. — Как можно? Такая невинная девушка, студентка, и вдруг — валюта… Как я мог сказать вам о Селивановой — ума не приложу. — Татлин хлопнул себя маленькой ладошкой по морщинистому лбу.
— Итак? — напомнил Кувакин. — Не обессудьте, Григорий Семенович, я опять о валюте. Такая работа. Заставляет быть настырным.
— А вы знаете, — оживился Татлин, — не только ваша, всякая работа заставляет человека быть настырным, если вы уж употребили это слово. — Татлин быстро взглянул на Демина, словно бы извиняясь за столь неприличное выражение. — Всякая работа заставляет человека быть, я бы сказал, настойчивее, целеустремленнее…
Бедный Коля, подумал Демин. Он уже неделю бьется с этим прохвостом. Представляю, что он наговорил во время прошлых допросов. Мы здесь сидим уже минут пятнадцать, а в протокол заносить нечего. Откуда такая уверенность у этого типа? А может, ее и нет, уверенности-то? Может, это все, что ему остается? И он давно уже смирился с годом-двумя заключения и теперь просто тянет время, понимая, что оно зачтется ему в общий срок…
— Григорий Семенович, — перебил Татлина Кувакин. — Вы уже назвали Ларису Шубейкину, Зинаиду Тищенко, Галину Новожилову, Наталью Селиванову. Давайте, что у вас на сегодня приготовлено?
— Пора уже и Ирину назвать, мне кажется, — негромко обронил в своем углу Демин.
Улыбка на лице Татлина как бы остановилась, но он тут же сделал вид, что не слышал вопроса, который прозвучал за его спиной. Однако восстановить игривое настроение не смог.
— Вы что-то сказали? — повернулся Татлин к Демину.
— Да, — спокойно подтвердил тот. — Я сказал, что вам, очевидно, уже пора назвать Ирину.
— Какую? — любознательно спросил Татлин.
— Назовите всех. Вы многих Ирин знаете?
— Хм… Вы так поставили вопрос, что, право же, я затрудняюсь сказать. Действительно, откуда мне знать, кого именно вы имеете в виду.
— Григорий Семенович, скажите откровенно, неужели мы с Кувакиным производим на вас впечатление круглых дураков?
— Что вы! — в ужасе замахал руками Татлин. — Вы оба кажетесь мне очень грамотными, интеллигентными людьми, с вами приятно беседовать… С вами даже здесь приятно беседовать, — он обвел взглядом унылые серые стены. — Скажу больше…
— Григорий Семенович, остановитесь на минутку, позвольте мне сказать вам несколько слов, прошу вас! — Демин был спокоен, даже благодушен. — Прежде всего меня удивляет ваше легкомыслие, ваше столь пренебрежительное отношение к собственной судьбе…
Татлин вопросительно посмотрел на Кувакина, как бы спрашивая: чего хочет этот товарищ, расположившийся у него за спиной?
— Скажите, Григорий Семенович, кому принадлежит сумочка, с которой вас задержали? — спросил Демин.
— Она давно валялась у меня дома и сказать, откуда она…
— Григорий Семенович, — продолжал Демин. — Хотите, я вам изложу ваши прикидки, назову факторы, которые вы учли, выбрав вот такую шаловливую манеру поведения?
— Я не знаю, что вы имеете в виду, но мне любопытно…
— Знаете, — холодно перебил его Демин. — Вы прекрасно все знаете. Вы считаете, что обвинение может быть предъявлено довольно простое — попытка продать валюту. До сих пор вы не судились, на работе претензий нет, характеристика вполне терпимая. И грозит вам год или около того, причем каждый день, проведенный здесь, уже идет в общий, скажем, стаж. Так?
— Примерно… Ситуацию вы объяснили верно.
— Григорий Семенович, знаете, почему я здесь? Я занимаюсь расследованием обстоятельств смерти Селивановой.
— Что?! Вы хотите сказать, что… Простите, но я вам не верю, — сказал Татлин. И остро взглянул на Демина. — Я не верю, что Селиванова умерла.
— Она не умерла, — поправил Кувакин. — Она погибла.
— Как?
— Григорий Семенович, скажите, будьте любезны, вы нас одновременно будете допрашивать или по одному? — осведомился Демин.
— Простите, но я хотел бы удостовериться… Вы мне разрешите позвонить к Селивановой домой?
— А когда вам скажут, что она действительно погибла, вы решите, что мы подговорили соседей и все это организовано.
— Вообще-то… В этом что-то есть.
— Продолжим, — сказал Демин. Он вытащил пачку снимков, аккуратно положил их на стол перед Татлиным. — Эти снимки, Григорий Семенович, найдены у вас в квартире. Об этом составлен протокол, его подписали многие люди. Теперь он имеет законную юридическую силу доказательства.
Татлин с минуту смотрел на снимки, потом, видимо, решившись, быстро повернулся к Демину.
— Знаете, вполне возможно, что эти снимки действительно вы нашли у меня. Может быть, они завалялись среди бумаг, и я перевез их со старой квартиры вместе с хламом.
— Не надо, Григорий Семенович… На этом снимке Наташа Селиванова. Та самая, которую вы назвали вчера как хозяйку сумочки, как человека, который дал вам валюту. А сегодня утром Селиванову находят мертвой. В записной книжке Селивановой есть ваш телефон. Доказано, что вы с Селивановой имели деловые отношения.
— Никогда!
— Что к вам иногда приходил от нее посыльный с коробками…
— Ложь!
— Этот посыльный уже дал показания, он живет с Селивановой в одной квартире. Благодаря ему я смог сегодня побеседовать с вашей мамой.
— Но ведь я был здесь! — Татлин вскочил и с горящими глазами подбежал к Кувакину. — Николай Петрович! Вы подтвердите, что я был здесь, когда погибла Селиванова?! Значит, я никак не мог содействовать ее смерти! Я ни при чем! Я не виновен! И ваши намеки, ваши вопросы говорят об одном…
— О чем же? — спросил Демин.
— О том, что вы хотите навесить на меня это дело по чисто формальным признакам, по косвенным, ничего не значащим, случайным совпадениям. Вот!
— Григорий Семенович, сядьте и постарайтесь спокойно меня выслушать. Не спешите отвечать. Не надо мне ничего отвечать. Я просто предлагаю вам подумать над положением, в котором вы оказались. Только помолчите, ради бога, и не сбивайте меня с мысли, — попросил Демин. — Так вот, находится человек, который показывает, что он передавал вам коробки от Селивановой. Коробки с магнитофонами и транзисторами знаменитых фирм «Сони» и «Грюндиг». Идем дальше. Во время обыска в вашей квартире найдены снимки. На одном из них та же Селиванова, и не только она…
— Они мне их подарили!
— Вам? Эти женщины подарили вам свои снимки, где они сняты в столь недвусмысленном виде?
— Да ну вас в самом деле! — спохватился Татлин. — Уж и пошутить нельзя!
— Должен сказать, что время для шуток вы выбрали не очень подходящее. Но продолжим. В вашей квартире найдена также пленка, где эти снимки в негативном, так сказать, исполнении. Ведь вы не будете утверждать, что и пленку вам подарили? Нет? И правильно. Не надо. Это такая глупость, что ни в какие ворота не пролезет.
— Мне стыдно, поверьте! Но что делать, приходится хвататься и за соломинку, зная заранее, что она не спасет.
— У меня к вам вопрос, — сказал Демин. — Но должен предупредить… Если ответите сегодня, ваш ответ можно будет истолковать как чистосердечное раскаяние. Если ответите на этот вопрос завтра, то чистосердечного раскаяния уже не будет, а для суда это важно. Оттянув ответ на одну ночь, вы на год оттянете свое возвращение к людям. К свободным людям. Поэтому я советую ответить сейчас.
Татлин обхватил лицо руками и сидел несколько минут, скорчившись, словно боялся, будто по его лицу можно что-то узнать, о чем-то догадаться. Он сидел неподвижно, только крупные оттопыренные уши, торчащие между пальцами, время от времени тихонько вздрагивали. Наконец он медленно распрямился, затравленно посмотрел на Демина, на Кувакина.
— Какой вопрос? — спросил он чуть слышно.
— Чья сумочка?
Татлин снова согнулся, положив лицо в маленькие ладони.
— Я понимаю ваши колебания, — сказал Демин. — И готов помочь. Не говорите, давно ли у вас эта сумочка, просто скажите, чья она. Хозяйка ведь всегда может заявить, что она ее выбросила, или что вы ее взяли давно, и хозяйка даже не знает об этом…
— Хм, — горько усмехнулся Татлин. — Не в лоб, так по лбу… Какая разница… Что умер Данило, что болячка задавила, как говорят в Одессе.
— Итак, ее фамилия?
— Знаете, я чувствую себя предателем. Ужасно неприятное ощущение.
— Селиванова уже ничего не чувствует. И, очевидно, ее ощущения перед смертью были не лучше ваших. Вы один хотите отвечать за ее смерть?
— Что вы?! Просто мне хотелось…
— Фамилия, имя, отчество, — перебил его Демин.
— Ирина Аркадьевна Равская.
— Валюта тоже ее?
— Да. Понимаете…
— Это ее телефон в вашей записной книжке?
— Да.
— Адрес?
— Видите ли…
— Адрес мы можем узнать в ближайшем справочном бюро. Итак?
— Улица Парковая, двадцать седьмой дом… квартира шестая.
Выйдя из здания, Демин и Кувакин невольно замедлили шаг, вдыхая холодный воздух. Машина, занесенная снегом, была почти не видна на фоне серого здания. Подойдя к ней, оба остановились.
— Ну, — проговорил Кувакин. — Что скажешь? Татлин — главарь?
— Непохоже… Суетлив, трусоват… И сам знает об этом. В общем, игрунчик. Какой из него главарь!
— Показания Татлина, по-моему, дают нам основания допросить Равскую по существу. Спросим, откуда у нее валюта… Да и так ли уж важно, что она скажет, — Кувакин открыл дверцу. — Поехали, Валя, не будем терять времени.
И опять они с трудом пробирались в потоке машин, стояли на перекрестках, ожидая зеленого света. Мокрый снег, покрывающий дорогу, превратился в жидкую грязно-серую кашицу, и прохожие старались идти подальше от проезжей части.
— Пообедать бы, — обронил водитель. — Кушать хочется.
— Да, неплохо бы, — поддакнул Демин, думая о своем. — А знаешь, Коля, не верю я этому Татлину. Больно легко он раскололся.
— Легко?! А пять допросов до сегодняшнего, во время которых он измотал меня до последней степени, ты учитываешь?
— И все же, и все же… — с сомнением пробормотал Демин. — Я вот думаю — не Равская ли звонила сегодня утром Селивановой? Та назвалась Ириной, Равская тоже Ирина, других Ирин нет в блокнотах Селивановой и Татлина…
— Хочешь проверить? — усмехнулся Кувакин. — Остановимся у первого же автомата, и ты позвони ей.
— Предупредить о нашем приезде?
— Спроси — не диспетчерская ли… Скажи, что ошибся номером.
— А что, можно попробовать.
Через минуту машина вильнула к тротуару и остановилась. Демин, согнувшись под падающим снегом, быстро пробежал к телефонной будке. Кувакин из машины с любопытством наблюдал, как он, сверяясь по блокнотику Татлина, набирает номер, ждет соединения, что-то говорит… Наконец Демин повесил трубку и вернулся в машину.
— Так и есть — она. У нее очень характерный голос — низкий, сипловатый. И манера разговора этакая… вызывающая. Будто она заранее знает, что разговаривает с человеком малодостойным, который ниже ее и по развитию и по положению. Значит, делаем вывод: и ночью и утром Селивановой на квартиру звонила Ирина Аркадьевна Равская.
— Много, оказывается, можно узнать по двум словам в телефонной трубке, — иронически обронил водитель.
— Могу еще добавить, что ей около сорока лет, у нее высшее образование и неважное воспитание, — вызывающе добавил Демин.
— А как насчет ножек, талии? — засмеялся водитель.
— Она худощавая, ножки суховаты… Но это смотря на чей вкус. Курит. Пьет. И то и другое — в меру. Правда, иногда не прочь напиться всерьез.
— Ну ты, Валя, даешь! — уже не сдерживаясь, захохотал водитель.
— Все очень просто, — невозмутимо продолжал Демин. — Низкий сипловатый голос у женщины — ясно, что она пьет и курит. Такой голос — большая редкость у людей полных, рыхлых. Несмотря на возраст, она явно чувствует себя женщиной в полном смысле слова. Нравится себе. Значит, нравится и другим. Это дает ей право на пренебрежительный тон с собеседником… Ну и так далее. И что-то еще у нее есть, что дает ей право на пренебрежение… Круг знакомых, деньги, красота, род занятий — этого я сказать пока не могу. Она охотно смеется по телефону, умеет одновременно говорить и в трубку, и рядом сидящему собеседнику. О чем это говорит? У нее большой опыт общения с людьми, она прекрасно контролирует ситуацию, привыкла ощущать свое превосходство, в чем бы оно ни заключалось…
— Слушай, я начинаю опасаться этой дамы, — сказал Кувакин.
— Это неплохо, это даже полезно. Скажи, а женщины, которых Татлин называл до сегодняшнего дня, что они собой являют?
— Ничего общего с тем, что ты только что нарисовал. Секретарша, парикмахерша, студентка… Они не глупы, но не больше.
— Они красивые? — спросил Демин как бы между прочим.
— Не сказал бы.
— А возраст?
— К тридцати дело идет.
— Значит, Селиванова самая молодая из них и самая красивая?
— Судя по фотографии — да.
— Володя, — Демин положил руку на плечо водителю, — будь добр, соедини меня с шефом. Прямо сейчас.
Водитель кивнул, не отрывая взгляда от дороги, нащупал нужные тумблеры, и машина наполнилась писком и визгом городского эфира. Пока стояли перед светофором, водитель вызвал дежурного, через него соединился с Рожновым и протянул трубку Демину.
— Иван Константинович? — спросил Демин, стараясь говорить отчетливее. — Демин беспокоит. Выполняю указание — докладываю обстановку. У нас все в порядке. Отработали Татлина. Да, можно и так сказать. Раскололся. Вроде бы… Потом, Иван Константинович, потом. Дело вот в чем — нужен ордер на обыск. Записывайте… Ирина Аркадьевна Равская. Оснований больше, чем достаточно. Она звонила ночью Селивановой, она звонила к ней и утром. Ее назвал Татлин. Вот еще что… Обыск можно и завтра, прямо с утра… Да, подготовить группу и сделать все наилучшим образом. Но допросить ее нужно сегодня. Откладывать нельзя. Многое может сорваться. Она еще не знает о смерти Селивановой. Если ее вызвать повесткой, допрос отложится на несколько дней… Нельзя, Иван Константинович. Мое предложение? Мы с Кувакиным едем сейчас к ней. Да, поговорим у нее, закон позволяет, когда время не терпит. Вы потолкуйте с прокурором, а? Хорошо, я свяжусь с вами. Ну все. Что? К черту!
Дом на Парковой двадцать семь оказался старым и приземистым. К подъезду можно было пройти лишь через гулкие квадратные арки, в которые когда-то, видимо, проезжали конные экипажи.
— Если будут обедом угощать, не забудьте бутерброд прихватить, — напомнил водитель.
— Боюсь, не тот случай, — усмехнулся Кувакин.
Шестая квартира была на втором этаже. Еще не позвонив, Демин почувствовал настороженность. Что-то ему не понравилось, заставило подумать о том, что приехали они напрасно, во всяком случае, нажимая кнопку звонка, он уже наверняка знал, что вряд ли кто-нибудь откликнется. Так и случилось. Он хорошо слышал звонок в квартире, но дверь никто не открывал.
— Там никого нет, — проговорил Кувакин.
— Чего гадать, — и Демин, не раздумывая, позвонил в соседнюю дверь. Открыл парень. Тощий, лохматый, в растянутом, обвисшем свитере. Сквозь толстые очки на Демина смотрели насмешливые глаза.
— Простите, — сказал Демин, — ваших соседей нет дома?
— Этих, что ли? — Парень ткнул острым подбородком в сторону шестой квартиры. — Не вовремя пришли. Днем там никого не бывает.
— Только ночевать приходят?
— Если это называется ночевкой.
— Послушай, товарищ дорогой, кроссворды я люблю решать в электричке, когда делать нечего. А сейчас прошу тебя, будь добр, выражайся яснее. Ответь мне для начала — здесь живет Равская?
— Да, эта квартира принадлежит Равской. Но она живет у матери. А мать ее живет в больнице.
— Живет в больнице?
— Хворает потому что. А кто вы, собственно, такие? — Парень прислонился к косяку двери и скрестил на груди руки.
Демин привычно протянул удостоверение.
— Доигрались, значит, шалуны, — удовлетворенно хмыкнул парень. — Ну что ж, рано или поздно этим должно было все кончиться.
— Что вы имеете в виду?
— Кутежи, разноязычная речь на этой площадке, полуночные песни и пляски, бутылки из окон, и не только бутылки…
— А что еще? — быстро спросил Демин.
— Предметы первой необходимости. Если вас действительно интересует, что именно иногда выпадает из окон этой квартиры, спросите у дворника. Он может говорить об этом долго, подробно и со знанием дела.
— Если я правильно понял, мы можем попасть в эту квартиру только после полуночи?
— Нет, почему же, — улыбнулся парень. — Вот здесь рядом живет бабуля. У нее есть ключ. Но дает она его не всем.
— Попробуем, Валя? — спросил Кувакин.
— Где наша не пропадала! — ответил Демин. Он нажал кнопку, и за дверью раздался мелодичный перезвон, послышались шаги, движение. Было слышно, как у самой двери кто-то остановился.
— Открывай, бабуля! — крикнул парень. — Свои!
Дверь открылась. Пожилая женщина строго осмотрела всех троих, холодно кивнула Демину и Кувакину.
— В чем дело, Саша? — спросила она строго.
— Эти вот товарищи из прокуратуры, — сказал Саша. — Им нужна наша соседка, Равская. Я сказал, что, может быть, вы знаете, когда она будет.
— Она мне не докладает, — в лице женщины не дрогнула ни одна жилка.
— В таком случае я прошу вас ознакомиться с нашими документами. Моя фамилия Демин. Нам известно, что у вас ключ от этой квартиры. Я прошу открыть.
Женщина некоторое время сосредоточенно молчала, потом повернулась к Саше, как бы спрашивая его совета.
— Ничего не поделаешь, Клавдия Яковлевна.
— А с Иринкой… случилось чего? — спросила женщина.
— Насколько мне известно, с ней ничего не случилось, — честно и твердо сказал Демин.
Женщина недоверчиво посмотрела на Демина и, не закрывая двери, направилась в глубину своей квартиры, к вешалке, где на одном из крючков висел ключ. Выйдя на площадку, она не без колебаний протянула ключ соседу, словно желая этим заранее снять с себя возможные обвинения. Саша тут же передал ключ Демину.
— У вас есть телефон? — спросил Демин у женщины.
— Есть, а как же.
— Разрешите позвонить?
— Отчего же не позволить? Звоните, коли надо.
Демин прошел в переднюю и, увидев на тумбочке телефон, быстро набрал номер начальника следственного отдела. Чем нравился начальник Демину — до него всегда можно было дозвониться, он всегда был на месте, понимая, что за своим столом полезнее, нежели на выезде, на обыске, на задержании или допросе.
— Иван Константинович, Демин говорит. Мне нужен точный адрес квартиры, телефон которой… — Демин назвал телефон Равской, записанный в блокноте у Селивановой.
— Записал, — сказал Рожнов. — Еще что-нибудь нужно?
— Что ордер?
— Есть ордер. Но тебе придется самому сходить за ним к прокурору.
— Добро. Позвоню через полчаса.
Демин попытался представить, что сейчас квартира расскажет ему о своей хозяйке. Но то, что он увидел, было, пожалуй, самым удивительным за весь день. Квартира оказалась пустая, необжитая, захламленная. Грубо прибитая простая вешалка с алюминиевыми крючьями, продавленный, замусоленный диван, круглый стол, из тех, которые выбрасывают при переезде, несколько стульев с облезлой обивкой. На подоконнике — немытые рюмки, фужеры с подсохшими остатками питья, газовая плитка, залитая кофе, еще один лежак на трех ножках — вместо четвертой пристроили кирпичи… На стенах висело несколько картинок, выдранных из настенных календарей. Загорелые красавицы с распущенными волосами хвастались незатейливыми нарядами, состоящими из одной-двух полосок ткани. Единственно, что было добротным в квартире, — это плотные шторы на окнах.
— Дела, — протянул Демин.
— Вот уж чего я не ожидал, так это увидеть такую конюшню, — озадаченно проговорил Саша.
Кувакин лишь языком прищелкнул.
Гулко ступая по несвежему полу, Демин обошел одну комнату, вторую. Кувакин тем временем с любопытством рассматривал небольшую дверцу, которая вела в кладовочку. Замка на двери не было, но тем не менее она не открывалась. Кувакин подергал за ручку, зачем-то постучал по двери, огорченно хмыкнул.
— Закрыта, — сказал он. — У вас ничего нет? — спросил он у Саши. — Вроде топора, гвоздодера, отвертки, а?
— Минутку, — Саша быстро вышел и через минуту принес небольшой топорик для разделки мяса.
— О! — воскликнул Кувакин. — В самый раз! Как ты думаешь, — повернулся он к Демину, — что мы сейчас увидим?
— Ничего, — хмуро сказал Демин.
— Посмотрим, — Кувакин заложил лезвие топора в щель, легонько надавил, и дверь тут же открылась. Она была прихвачена одним небольшим гвоздем. Кладовочка действительно оказалась пустой. Мусор на полу, какие-то бумажки, простая некрашеная табуретка… Кувакин присел на корточки и принялся внимательно рассматривать каждый клочок бумаги. Он развернул смятую фольгу, повертел в пальцах, подняв голову, встретился взглядом с Деминым.
— Обертки от фотопленки, — сказал тот.
— Точно, — согласился Кувакин. — Смотри, а вот коробочка и черная бумага… Пленка чувствительностью в двести пятьдесят единиц, максимальная, которую можно достать в магазинах.
Кувакин распрямился, осмотрел стены кладовочки, слуховое окно на высоте вытянутой руки.
— Посмотри, на табуретке есть отпечатки подошв? — спросил Демин.
— Знаешь, вполне приличные следы… Кто-то, видно, вначале в этой пыли потоптался, а потом на табуретку влез. Следы, Валя, хоть на экспертизу.
— Будет и экспертиза, — пообещал Демин. — Надеюсь, мамаша у Татлина не столь предусмотрительна, чтобы даже туфли своего сынка родне отнести.
— Ты думаешь, здесь был Татлин?
— Чего думать, Коля! Это ведь его берлога. Его закрывали здесь или он сам закрывался, становился на табуретку и через слуховое окно делал снимки. Посмотри, и диванчик стоит как раз напротив, и обои совпадают, а вот и гвоздь, который ты на снимке видел…
— Елки-палки, — как-то оцепенело проговорил Кувакин. — Это какой же мразью надо быть, чтобы заниматься этим делом! Сидеть в конуре с фотоаппаратом на изготовку и ждать, пока люди разденутся… Кошмар!
— Пошли, Коля, отсюда. Вряд ли мы здесь еще что-нибудь найдем. Клавдия Яковлевна, мы закончили. Ключ я забираю. Квартиру опечатываем. Вопросы есть?
— Что мне сказать Равской?
— Мы постараемся избавить вас от объяснений с ней, сами скажем ей все как есть. Счастливо, Саша! Благодарим за содействие. И вам, Клавдия Яковлевна, спасибо. Коля, дай товарищам понятым подписать протокол осмотра, а я тем временем шефу позвоню. Вообще-то мы должны были сразу сообразить — коммутатор ее телефона из другого района. Ее номер начинается с цифры 278, а здесь, в этом районе, все телефоны начинаются со 132. Маленько оплошали…
Середина дня осталась далеко позади, начало темнеть, улицы постепенно наполнялись густой, вязкой синевой. Снегопад не утихал. Опустив стекло, Демин с удовольствием вдыхал холодный свежий воздух, врывающийся в машину острой струей.
Ехали по новому адресу Равской, который дал им Рожнов. И Демин и Кувакин готовились к разговору, понимая, что это будет не просто встреча еще с одним статистом, которого им подсунул изобретательный Татлин. Но были и сомнения. Вдруг окажется, что Равская — такая же невинная жертва оговора, какими были все предыдущие?
— А что, если она откажется с нами разговаривать? — спросил Кувакин.
— Что ты, Коля! Она будет счастлива поговорить с нами. Ведь наш приезд ей в чем-то и на руку — предоставляется возможность снять с себя возможные обвинения, не проявляя поспешности, подозрительной навязчивости… Ее спрашивают — она отвечает. Согласись, эта роль довольно привлекательна.
— Приехали, — хмуро сказал водитель.
— Раз приехали, надо выходить, — вздохнул Демин. — Пошли, Коля.
Они остановились перед дверью, переглянулись. Черный блестящий дерматин, неизменный глазок, сверкающие ряды обивочных гвоздей, львиная морда с медным кольцом в зубах вместо ручки.
— Слушай! — удивился Кувакин. — Никак из музея кто-то спер! — Он показал на львиную морду.
— А! — пренебрежительно махнул рукой Демин. — Ширпотреб. В любой скобяной лавке. Два с полтиной вместе с упаковкой.
И он решительно нажал кнопку звонка.
Яркая точка глазка потускнела. Их кто-то рассматривал. Демин, не сдержавшись, подмигнул неизвестному глазу, уставившемуся на него. Дверь открылась. Лицо, которое он увидел, разочаровало его. Широкие скулы, маленькие глазки, причудливая высокая прическа и нос, вздернутый так высоко, что прямо на него смотрели черные дырки ноздрей. На женщине почему-то был не очень свежий белый халат.
— Ирина Аркадьевна?
— Нет… Ирина Аркадьевна занята. Может быть…
— Да, конечно, не беспокойтесь, — вежливо сказал Демин, широко перешагнув через порог. Он пропустил мимо себя Кувакина и запер дверь. — Я с ней разговаривал сегодня по телефону, даже не один раз… Поэтому она, возможно, ждет меня, — сказал он, улыбаясь невинной лжи, которую, в общем-то, и ложью назвать было трудно: он действительно разговаривал сегодня с Равской по телефону, и если она его не ждала, то это, право же, не его вина.
— Тогда, конечно, — сразу успокоилась женщина, и с ее лица исчезла настороженность. — Сюда, — показала она на дверь, ведущую в большую комнату. — Ира, к тебе!
Сняв в прихожей плащ и берет, Демин вошел. Да, теперь он был уверен — перед ним Ирина Аркадьевна Равская. Сидя к нему спиной, она рассматривала его в большое зеркало, не торопясь повернуться. В руке она держала кисточку для нанесения лака, прическа Ирины Аркадьевны являла собой законченное произведение искусства.
Оглянувшись на женщину в белом халате, Демин увидел в ее руке большую алюминиевую расческу и понял, что это парикмахерша.
— Простите? — вопросительно проговорила Ирина Аркадьевна, предлагая Демину представиться. Она так и не повернулась к нему, разглядывая гостя в зеркало. И, только увидев появившегося Кувакина, который спешно приглаживал ладонью взмокшие под шапкой волосы, она повернулась наконец лицом к вошедшим.
Демин с любопытством посмотрел на хозяйку. У нее была тяжеловатая челюсть, узкое лицо, правильный нос, а в глазах… Нет, он не мог ошибиться… Она играла. Играла хозяйку, была в ее взгляде и готовность говорить с кем угодно, о чем угодно, каким угодно тоном. Трезвость, цепкость, непритязательность. «Вот-вот, — удовлетворенно подумал Демин, — это человек, которого почти невозможно оскорбить. Она может разыгрывать оскорбленность, но не больше».
— С кем имею честь? — спросила Равская, быстро окинув взглядом Демина и Кувакина. И те сразу, как бы внове, увидели, что одеты неважно, что вид у них довольно помятый, туфли намокли, потеряли свою форму. Равская дала им понять, что разговаривать с ней на равных они не могут, не имеют права. — Итак? — уже сердясь, сказала Ирина Аркадьевна. Она, видимо, только что покрыла ногти ярким, кроваво-красным лаком и пальцы держала врастопырку, чтобы не повредить маникюр. Но Демину, взглянувшему на ее руки, почему-то показалось, что она похожа на человека, который недавно драл этими ногтями кого-то в кровь, что кровь до сих пор капает с пальцев…
— Моя фамилия Демин.
— Очень приятно.
— Я работаю следователем.
— Даже так? — Равская удивленно вскинула брови. — Это мой товарищ. Его фамилия Кувакин. Он тоже следователь.
— Два следователя на одну женщину? — усмехнулась Равская.
— Почему же, — Демин пожал плечами. — По-моему, по женщине на следователя. Или вы ее не считаете…
— Да нет, что вы! Она ведь здесь не живет. Ты можешь идти, Лариса, — сказала она. — Я, наверно, задержусь. У товарищей, как я понимаю, вопросы. Они даже разделись, не ожидая приглашения.
— Мы очень культурные люди, — улыбнулся Кувакин. — Не входить же в плащах, запорошенных снегом.
— Одну минутку, — остановил Демин метнувшуюся к выходу женщину в белом халате. — Вас зовут Лариса?
— Да, — настороженно ответила та, косясь на Равскую и как бы спрашивая, что отвечать. — Я парикмахер, а Ирина Аркадьевна иногда приглашает меня сделать прическу…
— Не надо, Валя, — сказал Кувакин, рассматривая на стене чеканку, изображавшую красавицу с тонкой талией на фоне камней и решеток. — Пусть идет. Ее показания у меня уже есть. Это Тищенко. Одна из подружек Григория Семеновича.
— Да какая подружка, что вы! — возмущенно воскликнула женщина.
— Вы и Татлина причесываете? — спросил Демин.
— Кого? — хохотнула женщина. — Да там причесывать нечего. Сам справится.
— Ну, счастливо, — сказал Демин, усаживаясь в кресло. Он помолчал, ожидая, пока затихнет возня в прихожей, пока захлопнется за Тищенко входная дверь. И, дождавшись полной тишины, повернулся к Равской.
— Ирина Аркадьевна, — тщательно подбирая слова, начал Демин, — вы, очевидно, знаете, что недавно задержан некий Татлин Григорий Семенович, задержан при попытке продажи крупной суммы иностранных денег.
— Да, я слышала об этом.
— Татлин — ваш друг, приятель, знакомый… Не знаю, что из этих определений вы предпочтете…
— Я бы, с вашего позволения, остановилась на последнем.
— Знакомый? Отлично.
— Опять этот Татлин, — досадливо поморщилась Ирина Аркадьевна. — Вечно он оказывается замешанным в какую-то идиотскую историю, не в одну, так в другую, в третью. Знаете, есть, наверное, люди, призвание которых — доставлять неприятности своим знакомым! Вы часто встречаетесь с разными людьми, скажите — есть такая категория?
— Есть, — подтвердил Кувакин. — И довольно многочисленная.
— Вот видите! — непонятно чему обрадовалась Равская. Она поднялась с круглого пуфика, прошла к стенке, взяла пачку сигарет. Проводив ее взглядом, Демин отметил и покрой брюк, и стройность ног, и вполне приличную в ее возрасте талию. Зад, правда, тяжеловат, подумал он и тут же опустил глаза, будто боясь, что она прочтет его мысли. — Закурите? — спросила Равская. — «Аполлон», между прочим.
— Спасибо, не курю, — ответил Демин.
— А я не откажусь, — Кувакин взял пачку, не заметив ни английских букв, ни космических объектов на обертке. Он просто вытряхнул сигарету и сунул ее в рот.
— Может быть, кофе? — спросила Равская.
— А вот это с удовольствием! — искренне обрадовался Демин.
— Знаете, у меня есть прекрасный кофе «Арабика». Сейчас его достать трудно, все какую-то гадость в банках продают… Знаете, по нынешним временам даже кофе без нужных людей не достанешь… Могу удружить. Так что вы со мной связи не теряйте…
— Не будем, — пообещал Демин.
Равская вышла легкой танцующей походкой.
— Зачем ты отпустил ее? — тихо спросил Кувакин. — Теперь она мозгами пораскинет, что к чему сообразит, а потом лови мышку-норушку.
— А ты обо мне подумал? — спросил Демин. — У меня от голода голова кружится.
В дверях появилась Равская.
— Не скучаете? Умницы! Пока греется вода для кофе, я, с вашего позволения, позвоню по телефону. Звонок пустяковый, но чтобы не терять времени…
— Если пустяковый, то, право же, не стоит, — беззаботно ответил Демин. — Тем более вы торопитесь. Давайте лучше продолжим нашу беседу. — И, не ожидая ни согласия, ни возражения, вынул из кармана пиджака косметическую сумочку, с которой был задержан Татлин. — Ваша?
— Эта? — Равская брезгливо двумя пальцами взяла сумочку, повертела ее, вернула Демину. — Откуда она у вас?
— Татлин утверждает, что эта сумочка ваша, — невозмутимо сказал Кувакин, разглядывая узоры ковра под ногами.
— Ну и что из этого? Вы спрашиваете, моя ли это сумочка? Отвечаю — нет. Хотя когда-то у меня была точно такая сумочка. Может быть, даже эта самая.
— Посмотрите внимательней. Это очень важно. Ну, пожалуйста, — протянул Демин. — В конце концов, вы ничем не рискуете, ведь с сумочкой задержали не вас.
— У моей внутри была отпорота подкладка и я сама подшивала ее, — ответила Равская, помолчав.
Демин не спеша открыл сумочку, заглянул внутрь.
— Да, здесь есть самодельный шов.
— А что случилось? Откуда она у него? Ах да, ведь я сама дала ему эту сумочку года полтора назад. Вот человек, а! Я тогда купила себе новую, и он выпросил у меня. Зачем, не пойму. Ему бы на свалке работать, вечно всякий хлам подбирает! — с ненавистью сказала Равская.
— В этой сумочке у Татлина была валюта, — сказал Кувакин.
— И много?
— Да, — ответил Демин. — Он сказал, что эту валюту дали ему вы. Для продажи. Это так?
— Господи, какая чушь! — Щеки Ирины Аркадьевны даже побелели от возмущения. — Это ведь придумать надо! Он что, ошалел у вас там от страха? Вот только что у меня была Лариса, она мне рассказала, что он и ее оговорил — сказал вам, будто валюту ему дала она. А теперь, выходит, я? Какая мерзость! — воскликнула Равская. И Демин увидел, как дрогнули и напряглись ее ноздри.
— Таким образом, — проговорил Демин, не спуская с нее глаз, — вы утверждаете, что сумочка эта ваша, но вы дали ее Татлину года полтора назад без какой бы то ни было цели, так?
— Совершенно верно.
— Начинай, Коля.
— Что начинать? — с опаской спросила Равская.
— Я предложил ему начинать протокол допроса.
— Допроса?! — ужаснулась Равская.
— Да. Мы оформим наш разговор в форме допроса, вы подпишете свои показания, и они лягут в дело по обвинению гражданина Татлина в незаконной спекуляции валютой. Вот и все. Вам не о чем беспокоиться. Правда, я должен предупредить, что за свои показания вы несете уголовную ответственность.
— Это как понимать?
— Это надо понимать так: если вы умышленно попытаетесь ввести меня в заблуждение или дадите ложные показания, то можете быть привлечены к уголовной ответственности.
— И что мне грозит в таком случае? — нервно усмехнулась Равская.
— Не так уж много, — проговорил Кувакин, заполняя бланк протокола. — Два года — максимум.
— Условно?
— Условно — это минимум, — ответил Демин. — Простите, но вода уже, по-моему, должна закипеть.
— Ах да! — воскликнула Равская и убежала на кухню.
Демин медленно прошел вдоль стенки, внимательно рассматривая картинки, безделушки, статуэтки. И вдруг остановился. Воровато оглянулся на дверь. Прислушался. Потом быстро отодвинул стекло книжной полки, взял небольшую, открыточного размера фотографию хозяйки и быстро сунул ее в карман.
— Не помешает, — одобрил Кувакин.
Задвинув стекло, Демин чуть ли не отпрыгнул от стенки и с размаху упал в кресло, чувствуя, как часто колотится сердце, будто он только что совершил нечто отчаянное.
Вошла Равская, держа на вытянутых руках поднос, уставленный чашечками кофе. На отдельной тарелочке были разложены небольшие бутербродики с темно-коричневой сухой колбасой. По размеру бутербродов можно было судить о радушии хозяйки и в то же время понять, что предстоит деловой разговор, а уж никак не банкет.
— Прошу, гости дорогие! — сказала Равская беззаботно. — Угощайтесь.
— О, Ирина Аркадьевна! — радостно воскликнул Демин, понимая, что у него это получилось лучше, естественнее. — Вы спасли мне жизнь.
— Ха! Я сделала это с удовольствием, — быстро ответила Равская. — И надеюсь на взаимность.
В ответ Демин промычал что-то невнятное, поскольку успел уже два бутерброда сунуть себе в рот одновременно. Потом он отхлебнул кофе и застонал от наслаждения.
— Нет, это не кофе! — сказал он твердо. — Это не кофе, — повторил он, прихлебывая. — Это нектар. А может быть, даже амброзия. Ирина Аркадьевна, вы должны дать мне рецепт.
— О чем речь! С большим удовольствием! Мне нечего скрывать от вас!
— Приятно слышать. — Демин тут же вынул из кармана большой блокнот, отыскал чистую страницу и протянул Равской. — Прошу вас! Количество воды, кофе, сахара, секрет заварки и… прочее. Равская усмехнулась.
— Я вижу, вы не любите откладывать дело в долгий ящик. С одной стороны, это хорошо… — Она склонилась над журнальным столиком, но, увидев, что ручки ей не предложили, сходила в переднюю. Демин видел, что ручку она взяла в своей сумочке. — Так вот, с одной стороны, это хорошо, но, с другой стороны… у нас не будет повода для следующей встречи? — Она испытующе глянула Демину в глаза.
— Будет, — благодушно заверил ее Демин. — Это я вам обещаю. А откладывать в долгий ящик я действительно не люблю. Поэтому мы сегодня у вас. Поэтому мы не вызвали вас повесткой для допроса, понимая, что время дорого. — Демин взял блокнот, внимательно прочел написанное, склонил голову набок, окинув взглядом всю страницу.
— Простите меня, пожалуйста, — проговорила Равская, — я унесу поднос. Не могу разговаривать, когда передо мной стоит немытая посуда.
— Клюнула? — тихо спросил Кувакин, когда женщина вышла.
— Как видишь. Прекрасный образец почерка. Вот полюбуйся, — он показал страницу, исписанную только что Равской. — Эта красная паста, эти остроголовые буквы ничего не напоминают?
— Да ведь та записка на газетном клочке… С перечислением курса валют… Значит, она?! — восторженно прошептал Кувакин.
— Если эксперты подтвердят, — невозмутимо ответил Демин, пряча блокнот. — Тсс! Идет! — Демин приложил палец к губам.
Равская еще у двери внимательно окинула взглядом обоих, но, не заметив ничего подозрительного, легко прошла в комнату и уселась в кресло.
— Ну, молодые люди, — сказала она игриво, — продолжим наши игры. Я вас слушаю. С сумочкой мы все выяснили. Кофе тоже снят с повестки дня. Что вас еще интересует?
— Вы замужем? — спросил Демин невинным голосом.
— Ого! У вас темпы, я скажу!
— У нас очень невысокие темпы. Анкетные данные положено выяснять в самом начале допроса. Но поскольку мы гости, то не решились начать с этого. Закон, надеюсь, нас простит, да и вы тоже, возможно, не будете в обиде… Итак, вы замужем?
— Была. Сейчас — нет.
— Развелись?
— Да, — сказала Равская отчужденно, давая понять, что не ожидала столь бесцеремонных вопросов. — Могу заверить, что данные в моих документах полностью соответствуют реальному положению вещей.
— У вас есть дети?
— Да. Дочь. Она в интернате. Я беру ее на выходные дни.
— У вас есть еще родные? — спросил Кувакин.
— Мать. Она очень больна. Сейчас лежит в больнице. Сердце. Кстати, это ее квартира. Поэтому меня несколько удивляет… и настораживает то обстоятельство, что вы решили искать меня здесь.
— Сколько вам лет? — спросил Демин.
Равская помолчала, несколько раз затянулась сигаретой, выпуская дым вверх, к потолку, к режущей глаза острыми бликами хрустальной люстре. Потом ткнула сигарету опять же в хрустальную пепельницу и жестко, по-мужски, раздавила ее.
— Боже, какой приятный разговор был. И вдруг — сколько лет… Сколько бы мне ни было, все равно это не является уличающим фактором. Неужели вы не могло удержаться от столь неприятного вопроса?
— Не мог, — вздохнул Демин. — Товарищу Кувакину, который в данный момент записывает ответы в протокол, положено занести туда и дату вашего рождения, и место работы, и семейное положение… Там, в бланке протокола, специальные графы нарисованы, — спокойно произнес Демин.
— Мне сорок пять лет, — без выражения сказала Равская.
— Сорок пять?! — удивился Кувакин.
— А сколько бы вы дали?
— Ну… Тридцать пять, — покраснел тот.
— Спасибо, — горделиво улыбнулась Равская и, невольно скосив глаза, посмотрела на себя в зеркало.
— Кто живет в вашей квартире?
— Никто. Она временно пустует. Это ведь не преступление? Мы с мамой собираемся обменять две наши квартиры на одну большую, но мама болеет, а мне сейчас некогда.
— Понятно. Вашей квартирой кто-нибудь пользуется?
Равская некоторое время молчала, удивленно глядя на Демина, как бы совершенно не понимая вопроса. А Демин не торопился повторять вопрос.
— Ах, вы об этом! — Равская вынула из пачки еще одну сигарету, не торопясь прикурила, запрокинула голову и пустила дым к потолку. — Боюсь, что мне опять придется сказать несколько нехороших слов об этом недоумке. Я имею в виду Татлина. Дело в том, что он как-то попросил у меня ключ от той квартиры. К нему, видите ли, приехали гости, а разместить их негде. Ведь вы знаете, поселиться в гостиницу в наше время — дело совершенно невозможное. Не в Европе живем.
— Татлин часто пользовался вашей квартирой?
— Один раз, насколько мне известно, — она пожала плечами. — Правда, его родственники жили там около недели. А что, разве он… — Равская не решилась закончить вопрос.
— У вас настолько дружественные отношения с Татлиным, что вы можете дать ему ключ от собственной квартиры?
— Нет, конечно, не настолько близкие. У меня этот случай выпал из головы.
— Татлин утверждает, что вы дали ему валюту для продажи, это верно? — спросил Демин.
— Что верно? — засмеялась Равская. — Вполне возможно, что он действительно так утверждает.
— А если всерьез?
— Откуда у меня валюта, товарищи дорогие?! У меня ставка сто сорок рублей.
— Сто сорок? — Демин невольно обвел комнату взглядом.
— Ах, не смотрите на меня с упреком! — воскликнула Равская. — Это все мамины сбережения. Если бы вы видели мою квартиру, то знали бы, как можно обставить ее, получая сто сорок рублей.
— Мы ее видели.
— Вы?! Уже?! Господи… Я туда не заглядывала с полгода, а то и побольше.
— Соседи утверждают, что вы были там совсем недавно.
— Ну, если соседи утверждают, — Равская не смогла скрыть брезгливой гримасы. — Им виднее.
— В таком случае потребуется очная ставка, — сказал Демин больше Кувакину, нежели Равской. — Ты, Коля, отметь расхождение в показаниях Ирины Аркадьевны и соседей.
— Очная ставка? Боже, сколько формальностей! Знаете, чтобы избавить и себя и вас от ненужных хлопот, идиотских формальностей, я готова признать, вернее, готова просто согласиться с тем, что я была в своей квартире недавно! Дожили! Дожили! Приходится уже отвечать властям на вопрос о том, когда ты был в своей собственной квартире, зачем ты приходил в свою собственную квартиру, чем ты занимался в своей собственной квартире!
— О том, чем вы там занимались и чем там занимались вообще, мы поговорим позже, — пробормотал себе под нос Демин. — При обыске в доме Татлина были найдены порнографические снимки.
— И этим он занимался?! — Равская вскочила. — Боже милостивый! Я считала, что он просто дурак. Ведь, между нами, он дурак, вы не могли этого не заметить. Но порнография! Это же грязь!
— Совершенно с вами согласен, — сказал Демин. — По предварительным данным, снимки сделаны в вашей квартире. Как вы это объясните?
— Я наказана за свою доверчивость. И поделом. Он приходил сюда, этот прохвост, кретин, и… и чуть ли не ползал в ногах. Есть у него лакейская привычка падать на колени, когда просит что-нибудь… Он стоял на коленях, у него дрожали руки, в глазах сверкали слезы, он просил у меня ключ, и я всерьез испугалась, что если этого ключа не дать, то он покончит с собой здесь, на ковре. А когда я дала ему ключ, то он устроил в моей квартире, простите, бордельеро, как сейчас говорят! Какая мразь! Как я его ненавижу!
Ноздри у Равской трепетали от возмущения, грудь поднималась высоко и часто, сигарету она курила не выпуская изо рта, по комнате ходила взволнованно, забыв о сохнущем лаке на ногтях. Но Демин, внимательно наблюдая за ней, не мог не заметить, как Равская, каждый раз проходя мимо зеркала, быстро окидывала себя взглядом, как бы проверяя — все ли в порядке, достаточно ли она взволнована, возмущена, в меру ли потеряла власть над собой.
— Послушайте, — Равская неожиданно остановилась перед Деминым, — а вы не ошибаетесь?! Ведь не может этот кривоногий, пузатый, глупый и тщеславный человек настолько заинтересовать женщину, чтобы она согласилась сфотографироваться… Вы меня понимаете… Нет, я не верю в это.
И Равская обессиленно упала в кресло. Пепел от сигареты рассыпался по коленям, но Ирина Аркадьевна, убедившись, что искры не прожгли материал, сделала вид, что ничего не заметила.
— Вы знакомы с Селивановой? — спросил Демин, помолчав.
— С кем? — равнодушно и устало проговорила Равская.
— Наташа Селиванова.
— Позвольте-позвольте… Что-то знакомое… Ах да, вспомнила. Эта девушка учится в институте иностранных языков. Правда, языков она и не знает, и вряд ли она когда-нибудь будет их знать. Я иногда давала ей возможность заработать десятку-другую на переводах. Сама я работаю в рекламе, и мне бывает нужно кое-что перевести из иностранных журналов. Боже, что там переводить! Текст донельзя простой — купите, возьмите, закажите… Конечно, после нее приходилось самой дорабатывать…
— Как вы с ней познакомились?
— Через Ларису. Ту самую, которую вы недавно здесь видели… парикмахерша. Они живут где-то рядом. Хотя нет, парикмахерская, где работает Лариса, находится рядом с домом, где живет Селиванова. Кажется, так. Лариса обмолвилась, что знакома с девушкой из института иностранных языков. Я попросила свести нас. Вот, пожалуй, и все.
— Вы давно видели Селиванову?
— Месяц назад, если не больше.
— Зачем вы звонили ей сегодня утром?
— Простите?
— Я спросил, какая надобность была у вас звонить Селивановой сегодня утром?
— А вы уверены в том, что я звонила ей сегодня утром? — Равская снисходительно улыбнулась. Она готова была принять вызов, очевидно, уверенная в том, что уж с этой-то стороны ей ничего не грозит.
— Вы не ответили на мой вопрос.
— Вопрос? Какой?
— Я спросил у вас, зачем вы звонили Селивановой сегодня утром. Если вы не можете ответить сразу — подумайте, только не надо больше переспрашивать и тянуть время — это так скучно. Вы подумайте и тогда отвечайте. А мы подождем. Если вы не хотите отвечать на этот вопрос, так и скажите — мол, на этот вопрос отвечать отказываюсь.
— Да нет, зачем же… Возможно, я звонила ей, но, честно говоря, не помню. Знаете, как бывает… Садишься к телефону, болтаешь час-второй по десятку номеров — разве потом упомнишь, с кем говорила, с кем хотела поговорить? Тем более если ничего существенного сказано не было…
— Ночью тоже не было сказано ничего существенного? — спросил Демин, уверенный, что сейчас опять последует вопрос-уточнение. Равская отвечала грамотно, почти неуязвимо, но время, чтобы сориентироваться, ей требовалось.
— Простите, я не поняла?
— Подумайте. Мы подождем.
— Нет, я действительно не понимаю, о чем вы меня спрашиваете.
— Я согласен с тем, что утром можно поговорить по телефону с десятком знакомых и тут же забыть об этом. Но я не могу поверить, что так легко забыть, о чем говоришь с человеком в час ночи. Особенно если разговор состоялся ближайшей ночью.
— Хм, ребята, боюсь, что вы зря теряете время. Сегодня ночью я была слегка подшофе́, — она улыбнулась, как бы прося прощения за столь непривычное словечко. — Только не спрашивайте у меня, ради бога, где я была, с кем, что пила и что было потом. Звонила ли я Селивановой? Нет, не могу припомнить такого события прошлой ночи.
Кувакин сочувственно посмотрел на Демина и, не сдержавшись, щелкнул языком — надо же, выскальзывает, и все тут. Квартира сорвалась, сумочкой тоже из колеи выбить не удалось, ночной звонок к Селивановой, похоже, не произвел никакого впечатления. Что там у Демина осталось?
— Уточним, — спокойно проговорил Демин. — Если я правильно понял, в принципе вы не отрицаете, что могли звонить Селивановой ночью и утром? Не отрицаете, но и не помните, так?
— Да, приблизительно что-то такое.
— Запиши, Коля, эту фразу поточнее.
— Как, он все еще пишет? — удивилась Равская.
— Да, а потом вам под всеми страничками придется поставить свою подпись.
— А если я с чем-то не согласна?
— Со своими же показаниями? Разве вы нам говорили неправду? Но тогда в конце протокола вы напишете, с чем именно не согласны и как следует понимать то или иное ваше заявление.
— Знаете, ребята, у меня такое ощущение, будто я попала в мясорубку.
— Очень сожалею, — виновато улыбнулся Демин. — У меня еще несколько вопросов, весьма незначительных. Но, если вы торопитесь, завтра к девяти ноль-ноль вам, Ирина Аркадьевна, придется прийти к нам в гости, в районную прокуратуру, — медленно, негромко проговорил Демин, прекрасно понимая, какое впечатление могут произвести эти безобидные слова на человека с нечистой совестью. — Дежурный проведет вас в коридор следственного отдела, а там каждый покажет двенадцатый кабинет, где вы и найдете следователя товарища Демина, то есть меня. И мы продолжим наши игры, как вы недавно выразились.
— Задержание этого маразматика, этого подонка Татлина с женским косметическим кошельком у вас считается настолько важным делом, что этим занимается бригада следователей? — Равская расхохоталась. — Неужели у вас столь значительные успехи по борьбе с преступностью, что вы позволяете себе эту канитель с вызовами, допросами, очными ставками из-за дела, которое и выеденного яйца не стоит?
Подождав, пока Равская успокоится, Демин заговорил негромко и терпеливо:
— Отвечаю на ваш вопрос. Задержание гражданина Татлина для нас не очень важное дело. Говоря о важном деле, я имел в виду смерть Селивановой.
Равская не произнесла ни одного внятного слова. Только хриплый гортанный звук исторгся из ее раззолоченного хохочущего рта, и она судорожно прикрыла его ладонями с ярко-красными ногтями, которые так напоминали падающие капли крови.
— Продолжим, — невозмутимо произнес Демин. Он отодвинулся от спинки диванчика, ссутулился, поставив локти на колени, и опустил голову, так что в поле его зрения остались только узоры ковра да лакированные туфли Ирины Аркадьевны на несуразно толстых подошвах. А ведь она, должно быть, очень невысокого роста, подумал он. И повторил: — Продолжим. Во время задержания гражданина Татлина, о котором вы отзываетесь столь неуважительно, в его сумочке, то есть в вашей сумочке, помимо тугриков-шмугриков, нашли написанный от руки курс иностранной валюты. Написан на клочке газеты. Так вот…
— Ну нет! — вскочила Равская. — Со мной у вас этот номер не пройдет. Я не могу терпеть, вы слышите, не буду терпеть, чтобы вы испытывали на мне свои профессиональные приемы допроса! Я не могу, вы слышите?! Не могу, узнав о смерти знакомого мне человека, говорить как ни в чем не бывало о посторонних вещах!
— Очень хорошо, — сдержанно сказал Демин. — Вы не можете вспомнить о своих звонках к Селивановой, вообще с трудом вспомнили, кто это такая… А, узнав о ее смерти, вдруг разволновались, причем настолько, что не можете даже говорить о посторонних вещах… Хорошо, будем говорить только о том, что имеет самое непосредственное отношение к смерти Селивановой. Вас это устраивает? Отлично. Коля, ты готов?
— Все в порядке, — ответил Кувакин.
— Поехали. Так вот, на клочке газеты, я уже говорил вам об этом, был написан курс иностранной валюты. Франки, доллары, гульдены и прочее подобное. Чуть ли не дюжину различных валют изъяли у Григория Семеновича Татлина.
— Я вас поздравляю, — холодно сказала Равская.
— Спасибо. Скажите, пожалуйста, Ирина Аркадьевна, зачем человеку, занимающемуся перепродажей валюты, этот список с указаниями, сколько рублей, к примеру, стоит франк или крона?
— Понятия не имею.
— Я тоже, — улыбнулся Демин. — Ума не приложу, зачем ему понадобился этот список. Остается предположить только одно — Татлин нечасто занимался перепродажей, а валюту в таком разнообразии вообще, возможно, первый раз держал в руках. Татлин — опытный комиссионный спекулянт. Но валюта — его новая специальность. Он ее только осваивал. И попался.
— Ближе к делу, — сказала Равская. — Я тороплюсь. У меня важные дела.
— Вряд ли у вас есть дела важнее собственной судьбы, — сказал Кувакин, не поднимая головы от протокола.
— По-моему, до сих пор мы обсуждали судьбу Татлина.
— Только до сих пор, — сказал Демин. — Теперь мы перешли к вашей судьбе. Дело вот в чем: курс валют, о котором мы столько толкуем, написан вашей рукой. Как вы это объясните?
— Вы уверены, что он написан моей рукой? — усмехнулась Равская. Но усмешка у нее на этот раз не получилась. Только гримаса искривила ее лицо, и тяжелая нижняя челюсть как бы вышла из повиновения, обнажив желтоватые от курева зубы.
— Нет, я в этом не уверен, — беззаботно сказал Демин. — Я спросил на всякий случай для протокола. Чтобы потом во время суда ни у кого не возникло недоумения, чтобы всем сразу стало ясно — разговор об этом был и ответ от вас получен в первый же день следствия. Вот и все. Остальное — мои предположения.
— А вы не злоупотребляете своим положением, так легко выдвигая обвинения, которые ровным счетом ни на чем не держатся, ничем не обоснованы? Или это профессиональные шутки?
— Нет, Ирина Аркадьевна, это не шутки. Курс валют написан довольно своеобразным почерком — все буквы разной величины, все какие-то остроголовые, а запись сделана очень грамотно с точки зрения машинописи — абзацы, отступления, отбивки и так далее. Есть в записке еще одна особенность — автор не любит переносов и старается во что бы то ни стало втиснуть слово до конца строки. И последнее — запись сделана красной пастой шариковой ручки. Общий вид примерно вот такой… — Демин вынул блокнот и показал Равской страницу, на которой она совсем недавно записала рецепт приготовления кофе.
— Боже, в какие руки я попала! — только и проговорила она.
— Итак, повторяю — это только предположение. Но завтра в десять ноль-ноль на моем рабочем столе будет лежать заключение экспертов с печатями, научными выкладками, обоснованиями, подробным анализом характерных особенностей почерка, химическим анализом пасты…
— Не утруждайте себя, — перебила его Равская. — Все это я знаю. Но должна вас разочаровать… Не исключено, что записку, которую вы нашли у Татлина, действительно написала я… Понимаете, около полутора лет назад мне как-то позвонил Татлин и спросил, нет ли у меня под рукой курса валют…
— А почему он решил, что у вас может быть такой курс?
— Потому что я подписана на «Известия», где эти данные публикуются, а он — на «Комсомолку», где эти данные не публикуются. Татлин обожает молодежные издания. Я написала ему все, что он просил, на первом попавшемся клочке бумаги.
— Тогда, пожалуй, все, — сказал Демин, поднимаясь. — Коля, дай Ирине Аркадьевне прочесть протокол.
Надев очки в тяжелой оправе, Равская откинулась в кресле и углубилась в чтение. Время от времени она с интересом взглядывала на Демина, на Кувакина, хмыкала, видно, припоминая детали разговора.
— У вас прекрасный стиль, — сказала она Кувакину, закончив читать. — Вы никогда не писали заметок в газету?
— Как же, писал, — охотно ответил Кувакин. — И сейчас пописываю… Когда дело, которое я уже расследовал, рассмотрено судом и вынесен приговор. Иначе, Ирина Аркадьевна, нельзя, чтобы самим фактом публикации не давить на судей, на народных заседателей. Понимаете?
— Вполне, — ответила Равская и жестом попросила у Демина ручку, не обращая внимания на ту, которую протягивал ей Кувакин. Этим она хотела слегка унизить того, поставить на место. Ей не хотелось подписывать протокол той самой ручкой, которой этот протокол писался. Взять свою, с красной пастой, она тоже не решалась. Демин с любопытством наблюдал — что же будет дальше. Он смотрел на ручку, протянутую Кувакиным, Равская смотрела на Демина, нетерпеливо и требовательно, а Кувакин с улыбкой наблюдал за Равской. Наконец Ирина Аркадьевна не выдержала. — Ах, простите, — проговорила она, вспыхнув. Взяв дешевую, тридцатикопеечную ручку, она быстро подписала протокол и тут же брезгливо отодвинула его от себя.
— А теперь я прошу вас извинить за доставленное беспокойство, — сказал Демин и слегка поклонился. — Полагаю, мы еще встретимся.
— Позвольте, но вы ничего не рассказали мне о Селивановой? Что же с ней произошло?
— Она погибла. Обстоятельства я только выясняю, — Демин развел руками. — Когда я буду все знать, думаю, к тому времени вы тоже будете все знать. Откровенно говоря, у меня такое чувство, будто вы и сейчас знаете больше меня.
Водитель поджидал их, тихонько посапывая на руле. Но едва они расселись на заднем сиденье, он поднял голову.
— Не торопись, Володя, — сказал Демин. — Отъезжай вон туда в конец переулка и гаси огни. Посидим, подождем минут десять-пятнадцать.
— Думаешь, выскочит? — спросил Кувакин.
— Не усидит. Не сможет.
— Усидит. Ей, наверно, десятку друзей позвонить надо, сигнал опасности передать.
— Не будет она звонить, — усмехнулся Демин. — Побоится. Уж небось думает, что и телефон прослушивается, и на пленку все записывается. Скорее из автомата будет звонить. А то и вовсе лично всех объедет. Натура активная, она не будет сидеть сложа руки. А ей есть к кому сходить, кого предупредить, с кем столковаться.
— Слушай, а с газетой она, получается, выскользнула?
— Ничего подобного, — горделиво ответил Демин. — Курс валют записан на верхнем крае газеты, там больше всего свободного места, именно там указывается дата выпуска. Собственно, самой даты там нет, она оборвана, но последняя цифра года есть, именно этого, текущего года. А году-то всего второй месяц, понял?
— Валя, а тебе не кажется, что мы напрасно открыли перед ней все свои карты?
— А какие карты мы открыли? — удивился Демин. — Про Татлина рассказали? Она и так знала, что он задержан, что ведется следствие. Сумочка? Как раз завтра она могла и не признаться, что это ее сумочка. Она наделала кучу ошибок, попросту не справилась с той информацией, которую мы вывалили ей на голову. Она умеет себя вести, но она в панике. Нет, все правильно, Коля. Она признала что сумочка ее, что записку писала она. Завтра, во время очной ставки с младшим Пересоловым она признается в том, что ночью и утром звонила Селивановой. Нет, Равская офлажкована. Володя, — обратился Демин к водителю, — свяжись, будь добр…
Водитель пощелкал тумблерами, и машина сразу наполнилась таким разноголосьем, что казалось, невозможно не заблудиться, найти нужный голос нужного чело века.
— Говорит Тайфун, говорит Тайфун, — зычно сказал в трубку водитель. — Вызываю Буран.
— Буран слушает, Буран на приеме, — тут же отозвался голос дежурного.
— Прошу, — водитель протянул трубку Демину.
— Дежурный? Это ты, Юра? Привет. Демин говорит. Демин. Юра, свяжи меня, будь добр, с шефом, если он еще на месте… Иван Константинович? Опять Демин. Равская позади. Да, дала ценные показания. Зря торопились? А разве можно когда-нибудь торопиться зря? Ладно, понял. Меньше слов. Понял. Иван Константинович, надо бы двух оперативников по ее адресу. Только наблюдение. И за ней и за квартирой. Да, основания есть. Да, серьезные. Прямой выход на Селиванову. Иван Константинович, если вы не против, я бы хотел сегодня несколько продлить свой рабочий день… Кувакин тоже «за»… Спасибо. Кабинетная работа начнется завтра. Есть строго следовать кодексу! Что? К черту!
В машине снова наступила тишина.
— А вот и она, — спокойно проговорил Демин.
Равская выбежала из-под арки и, обеспокоенно оглянувшись, быстро зашагала в сторону оживленной, освещенной улицы — не глядя на дорогу, по лужам, наполненным тающим снегом.
— Смотрите, такси останавливает. Поехали, что ли? — не оборачиваясь, спросил водитель.
— Поехали, — сказал Демин. — Здесь нам уже нечего делать. А знаешь, Коля, на улицу Северную собралась Ирина Аркадьевна, решила проверить — не взяли ли мы ее на «пушку», сказав, что Селиванова погибла. Эта дама привыкла действовать наверняка.
— То есть как «на пушку»? — возмутился Кувакин. — Вроде того, что Селиванова жива, а мы, значит, в мертвые ее записали?
— Меряет на свой аршин. И потом, согласись, она поступает разумно. Она хочет знать, насколько реальна опасность.
На Северной, не ожидая полной остановки, Равская выскочила из такси, на ходу бросила за собой дверцу и устремилась к тому самому дому, в котором Демин начинал расследование.
Такси оставалось на месте.
— Она попросила его подождать, — сказал водитель.
Демин вышел из машины и быстро направился к такси. Подойдя, он открыл дверцу и сел на переднее сиденье.
— Занят, — сказал таксист. — Пассажир сейчас подойдет.
— Знаю. Вот удостоверение. Следователь.
— Не надо, на слово поверю. Такими вещами не шутят. Наверно, выдумки не хватает, — засмеялся пожилой таксист. — Но я не могу ехать, денег не взял с пассажирки.
— Повезешь ее и дальше. Только вот что… За углом заправочная станция. Задержись там минут на десять, а потом езжай, куда она скажет. Добро?
— Попробую. Но, по-моему, она торопится. По дороге все машины выматерила, которые на пути оказывались.
— Значит, договорились. Вон наша машина — серая «Волга». Мы тоже у заправочной остановимся, только наверху. Как мигнем фарами — можешь ехать.
— Ну что ж, это даже интересно.
Равская была в доме около семи минут. Вышла неторопливо, раздумчиво. Постояла под окном, прикидывая, видимо, высоту. Потом неожиданно снова направилась в дом, но тут же остановилась, вернулась. С минуту постояла у такси, будто не решаясь снова сесть. Потом медленно открыла дверцу и, аккуратно подобрав полы длинной дубленки, села рядом с таксистом.
— Демин идет по следу! — зловеще сказал Демин, выходя из машины. Прыгая через ступеньки, он поднялся на пятый этаж и позвонил. Дверь открыла Вера Афанасьевна. Братья Пересоловы обеспокоенно вышли из своей комнаты.
— Добрый вечер! — приветствовал всех Демин. — Какие новости?
— Какие могут быть новости, — ответила Сутарихина. — Сидим весь день да в пол смотрим. Вот те и все новости. Да, только только что заходила подружка Наташина, — начала рассказывать Сутарихина. — Веселая забежала, щебечет, смеется. А как узнала — побелела вся, не подхвати Толик, тут бы на пол и ахнула. Воды выпила, кой-как с силами собралась и пошла, бедная.
— Больше никого не было?
— Нет, никого.
— Ты, бабка, чего же это следствие в заблуждение вводишь? — басом спросил старший Пересолов. — Ты чего же это темнишь? А про парня Наташкиного чего молчишь?
— Ох, и верно! — послушно согласилась Сутарихина. — Приходил парнишка, весь вежливый такой, обходительный. Где-то у них с Наташей встреча назначена была, а она не пришла. Вот он и забежал узнать, в чем дело. А как узнал… Ну что говорить — вот так весь день и бьем добрых людей по темечку.
— Звонков не было?
— Никто не звонил, — твердо сказал старший Пересолов. — В смысле Селивановой никто не звонил. Я весь день дома был. Толька, правда, в магазин смотался, а я все время здесь, — Василий, видно поняв, что утром погорячился, хотел поддобриться. — Лечились мы с Толькой сегодня. Ничего, поправились. Хоть снова начинай.
— А этот парнишка… Откуда он?
Анатолий протянул Демину листок.
— Это его адрес и телефон, — сказал Василий. — Вдруг, думаю, пригодится. Вот и велел Тольке все записать.
— Спасибо, — искренне поблагодарил Демин. — Толик, а ты завтра заходи в управление. Повестку я тебе оформлю.
— Постараюсь, — сказал Анатолий.
— Толик, ты не понял. Не надо стараться. Надо прийти.
— Мал он еще, простоват, — пробасил Василий. — Вы, товарищ следователь, не беспокойтесь. Я ему все объясню. Придет.
— Подружка, которая только что приходила, ничего не спрашивала? — повернулся Демин к Сутарихиной.
— Да нет вроде. Только узнала, дома ли Наташа. А я тут же и в рев. Толик ей объяснил. А она глаза подкатила и затылком на стенку пошла.
— Надо же! — восхитился Демин.
— Все в порядке? — спросил Кувакин.
— Да, вполне. Оказывается, у мадам Равской хватило сил дать здесь маленькую гастроль. В обморок падала, воды просила, глаза подкатывала — весь комплект выдала. Тоже, между прочим, кое-что говорит о человеке. Ведь ее никто не заставлял такие номера выкидывать. Не гони, Володя, вниз не надо съезжать, остановись вон там, наверху. Отлично. Теперь, Володя, приготовься. Как только таксист посмотрит в нашу сторону, мигни ему фарами… Давай! Порядок. Он нас заметил. Ну теперь пристраивайся к нему в хвост и валяй. Молодец!
— Рад стараться, — пробурчал водитель.
Судя по всему, Равская не торопилась. Пока таксист заправлял машину, она отошла в сторонку и стояла неподвижно, глядя на светящиеся в снегопаде окна, контуры домов, огни машин. И даже когда таксист подъехал к ней и распахнул дверцу, она не торопилась садиться, видно, не решив еще, куда ей отправиться.
— Твой прогноз, Валя? — спросил Кувакин.
— Поездка у нее должна быть сугубо деловая. Предупредить, договориться, устрашить кое-кого. Ведь не одна работала.
Такси наконец выехало на проезжую часть. Водитель несколько раз мигнул подфарниками — мол, помню о вас, ребята.
— А знаете, куда она едет? — неожиданно сказал Демин. — В ресторан направляется. В тот самый, куда велела Селивановой сегодня приходить. Похоже, выпивончик намечается. Смотри, водитель перестраивается в правый ряд, значит, сейчас остановится у тротуара. Так и есть.
Вокруг громадного стеклянного здания гостиницы светилось зарево. Выше пятого этажа отдельные окна уже не различались, только слабое сияние уходило высоко в небо. Такси остановилось метрах в пятидесяти от главного подъезда, но из него никто не выходил. Прошла минута, вторая, третья.
— Может, мы ее прозевали? — забеспокоился Кувакин.
— Там она, — протянул водитель. — Там, — повторил он.
— Думает, — сказал Демин. — Осторожная баба эта Равская. Нам с ней еще возиться и возиться. Вот сидит она сейчас, смотрит в ветровое стекло и тасует, перебирает поступки, решения, людей, нас с тобой, мы тоже в колоде, и столь презираемый ею Татлин, и уже мертвая Наташа Селиванова…
— Они трогаются, — сказал водитель.
— Подожди, Володя, — остановил его Демин. — Я выхожу. Пойду в ресторан. А ты, Коля, дуй за нею. Связь через дежурного. Докладывай сразу, как только будут новости. Всего!
Тускло мерцающий вестибюль, отделанный холодным серым мрамором, с низкими громадными креслами, круглыми столиками, стойками всевозможных гостиничных служб имел внушительный вид. Он напоминал зал крупного аэропорта, а громкий, разноязычный говор лишь дополнял впечатление.
Гардеробщик мимоходом пренебрежительно взглянул на Демина, его тощий плащ взял брезгливо, двумя пальцами, номерок бросил на стойку не глядя.
— Батя! — Демин поманил гардеробщика пальцем и, наклонившись к самому уху, спросил: — Президент уже здесь?
— Что?! — присел от неожиданности гардеробщик.
— А, так ты не в курсе, — разочарованно протянул Демин. И довольный, не торопясь поднялся на второй этаж, в ресторан с настолько большим залом, что его противоположная стена терялась в голубоватой дымке.
— Простите, — неожиданно возник перед Деминым метрдотель, — но у нас сегодня свободных мест, к сожалению, нет.
— С чем я вас и поздравляю, — сказал Демин. Вежливая нагловатость этого полнеющего, лысеющего человека привела его в хорошее настроение. — Вы давно здесь работаете?
— Да, — помолчав, ответил метрдотель. Что-то сразу изменилось во всем его облике. Перед Деминым уже стоял вполне нормальный человек, с которым можно было разговаривать. Метрдотель после первой же фразы Демина понял, что перед ним не обычный провинциал, от скуки забредший в столь экзотическое место, и что лучше быть осторожным. — Вам что-нибудь нужно узнать?
— Моя фамилия Демин. Следователь прокуратуры.
— Евгений Федорович. Прошу сюда.
За неприметной шторой находилась маленькая комнатка со столом, телефоном и двумя стульями. Демин сел, с силой потер ладонями лицо, словно хотел снять дневную усталость, испытующе взглянул на метрдотеля. Потом вынул из кармана пачку фотографий и положил их на стол.
— Евгений Федорович, постоянных посетителей вы, надеюсь, знаете? Посмотрите, нет ли здесь завсегдатаев? — Демин протянул фотографии, среди которых были и Селиванова и Равская.
Метрдотель взял снимки, перебрал их, внимательно всматриваясь в каждое лицо, потом уверенно вынул портрет Равской и положил его перед Деминым.
— Вот эта дама у нас иногда бывает.
— Кто она?
— Понятия не имею.
— Ну по вашей оценке — купчиха, выпивоха, деловой человек, потаскушка?
— Последнее, пожалуй, ближе всего, — усмехнулся метрдотель. — Хотя я несколько раз наблюдал и сугубо деловые встречи этой дамы с нашими постояльцами, гостями «Интуриста». И вообще, насколько я заметил, она предпочитает л ю б ы е дела, вы меня понимаете, иметь с иностранцами.
— Почему?
— Кошелек потолще, это, конечно, самое важное обстоятельство. А кроме того, они ничем не связаны, на многие вещи смотрят проще. Там, где наш человек будет колебаться, советоваться, у них все отработано. Знаете, они более раскованны, более уверены в себе. Это естественно, приезжают в основном люди состоятельные, сделавшие карьеру, обеспечившие себя на годы вперед. Если я не ошибаюсь, именно с такими людьми она чувствует себя лучше всего… Кстати, не исключено, что она придет сегодня. Ее подружки или товарки, не знаю даже, как их назвать, они уже здесь.
— Даже так… — Демин быстро взглянул на своего собеседника и нахохлился, ссутулился. Надо было срочно принимать решение. Если в зале собрались те, которым Равская назначила встречу, значит… Что это значит? Она тоже должна быть здесь, она и приехала сюда десять минут назад, но не решилась войти. Будет ли оплошностью подойти к ним? Допросить их необходимо в любом случае. Причем лучше сегодня, чем завтра. И самое главное — до того, как с ними побеседует мадам Равская. Да, завтра разговор может оказаться попросту бесполезным. Они будут подготовлены, запуганы, куплены — все, что угодно.
Демин медленно, все еще не приняв решения, поднял трубку телефона, раздумчиво покачал ее на руке…
— Выход в город через восьмерку, — подсказал метрдотель.
— Ну что ж, попробуем через восьмерку, — согласился Демин. Он набрал номер, подождал несколько секунд и вдруг улыбнулся, услышав знакомый голос.
— Иван Константинович, те ребята, которых я просил прошлый раз, час назад… еще не выехали? Ах, уже… Надо бы еще двоих, Иван Константинович… На этот раз в ресторан «Интурист». Нет, ненадолго. Самое большее на час, но немедленно. Чего не бывает… Возможно, задержание. Здесь перед входом в ресторан есть такой шикарный предбанник с креслами, я думаю, они там не будут скучать… Ну всего! К черту!
Демин положил трубку на рычаги.
Они вышли из-за шторы и остановились у колонны.
— Видите люстру? Вот сейчас я как раз смотрю на нее… А под ней столик, хорошо освещенный столик, за которым сидят три женщины… Видите? Стол еще не накрыт. Они только что пришли. Или же пока воздерживаются делать заказ… Они всегда предпочитают, чтобы заказ для них делал кто-нибудь другой.
По ковровой дорожке Демин прошел в глубину зала, к столику под люстрой. За ним сидели три женщины. Четвертое место было свободное. И еще один стул был приставлен — очевидно, ожидалось пять человек. Да, ведь Селиванова тоже приглашена, подумал Демин. Все правильно. Все три женщины были в париках, перед ними стояла бутылка сухого вина и какая-то холодная закуска.
— Прошу прощения, — Демин взялся за спинку стула. — У вас свободно?
— Занято, — не глядя на него, ответила женщина с крупным лицом. Она была моложе других и, чувствовалось, сильнее по характеру.
— Благодарю, — сказал Демин, присаживаясь. Он поудобнее придвинул стул, руки положил на стол. С интересом посмотрел на женщин. Одна из них показалась ему знакомой, он взглянул на нее пристальнее и с трудом узнал парикмахершу, которую видел в квартире Равской. Теперь она была почти неузнаваема. Седой парик, надменный взгляд, прищуренный, оценивающий, длинная сигарета во рту… Она тоже узнала Демина и сразу сникла. Третья была наименее привлекательна — круглые очки, приплюснутый нос, низкий лоб с крупными морщинами…
— Вы плохо слышите? — спокойно спросила молодая женщина. — Я сказала, что здесь занято.
— Не надо, Зина, — остановила ее парикмахерша. Демин вспомнил, что ее зовут Лариса. — Этот товарищ по делу.
— Мы здесь все по делу! — некрасиво улыбнулась третья.
— Галя! — предостерегающе прошептала Лариса. — Возьми себя в руки.
— Я предпочитаю, когда меня берут другие, — ответила Галя.
— Заткнись же наконец, — равнодушно сказала Зина и повернулась к Демину. — Ну, молодой человек, какие дела привели тебя в нашу компанию?
— Он из прокуратуры, — поспешно вставила Лариса. — Если не ошибаюсь, мы с вами виделись у Ирины Аркадьевны?
— Это неважно. Давайте знакомиться. Моя фамилия Демин. Следователь. Ну а с вами я познакомился, пока вы разговаривали. Зина, Лариса и Галя. Верно? Отлично.
— Вы считаете, что мы вступили в конфликт с уголовным кодексом? — спросила Галя и почему-то привалилась грудью к столу.
— Не знаю, пока не знаю. Пока я занимаюсь расследованием обстоятельств смерти Наташи Селивановой.
Демин решил сразу сказать, произнести эту фразу, чувствуя, что так будет лучше всего. Если тянуть время, по крупицам вытягивать из женщин сведения, спрашивать, настаивать на ответах, на полных ответах, темнить и понимать, что они видят твою игру, а потом сказать о Селивановой — во всем этом будет что-то нехорошее, нечестное. А так одной фразой он направил разговор в нужное русло, сбив с женщин налет пренебрежения, деланной усталости, многообещающей истомы. И сразу чуждыми и нелепыми стали выглядеть на них парики, ненужными оказались диковинные сигареты, а косметика на их лицах приобрела вид плохо нанесенного грима. Галя еще ниже припала к столу и в упор неотрывно смотрела на Демина, ожидая, может быть, новых слов, подтверждений, доказательств. Лариса продолжала сидеть как сидела, только вдруг лицо ее стало серым. Первой пришла в себя Зина. Она полезла в сумочку, вынула зажигалку, прикурила.
— Это точно? — спросила она.
— Да. Я с утра этим занимаюсь.
— Что с Наташей? — тихо спросила Галя.
— Она выбросилась из окна. Сегодня на рассвете. Умерла в «скорой помощи» по дороге в больницу.
— Что же это будет, девочки?! — Лицо Гали сморщилось и сделалось совсем приплюснутым. — Как же это, а? Ведь Наташка…
— Помолчи! — резко сказала Зина. — Чего же вы хотите от нас, товарищ следователь?
— Я хочу знать, почему она это сделала. Глядя на вас, я подумал, что вы ожидали чего-то подобного, что-то последнее время зрело, становилось чуть ли не неизбежным…
— Мы ничего не знаем! — тонко выкрикнула Галя, с ужасом глядя на Демина.
— Не торопитесь так говорить, — сказал Демин печально. — Так говорить можно только в том случае, — он посмотрел прямо в сверкающие стекла очков Гали, — если вы чувствуете за собой прямую вину в смерти Селивановой. Если вы довели ее до этого. Понимаете? Я чужой человек среди вас и то не могу сказать, что ничего не знаю. Я уже знаю много, завтра буду знать еще больше. Следствие только началось. Оно будет тянуться еще неделю, может быть, месяц.
— Нас уже допрашивали! — опять выкрикнула Галя.
— Знаю. Знаю, кто допрашивал, читал ваши показания. Они не очень откровенны, но пусть это останется на вашей совести. Я хочу сказать о другом — когда вас допрашивали, Селиванова была жива. И речь шла не о смерти человека, речь шла о спекулянте Татлине. И только. Ваше, скажем, невинное лукавство во время следствия, в конце концов, не имело слишком большого значения. Сейчас речь о другом. — Демин посмотрел каждой женщине в глаза, задержал взгляд на бутылке с сухим вином, повертел в пальцах пачку с сигаретами. — Для начала я скажу вам, что уже побывал на запасной квартире гражданки Равской. На этой конюшне, как выразился сегодня один свидетель. Этот стульчик ее дожидается? Вряд ли Ира сегодня придет. Так вот о квартире. Был я там, знаю, что вы ее посещаете, знаю, с кем, зачем и так далее. Вы меня понимаете?
— Что же вы еще знаете? — поинтересовалась Зина.
— Послушайте, — сказал Демин с горечью, — не мое дело говорить вам правильные слова, которых вы терпеть не можете. Правильные слова вы сами себе скажете. Не сегодня, так завтра, послезавтра. Через год. Скажете. Не об этом речь. Человек погиб. Человек был доведен до крайности, до той безнадежности, когда прыжок из окна кажется спасением, когда смерть кажется избавлением. Красивая девушка, вроде все складывается неплохо, а она головой в асфальт. Почему? Неужели вот эта красивая жизнь так ей поперек горла стала? Простите, Лариса, Зина, Галя, но вы не кажетесь мне очень счастливыми, и я не стал бы спорить, что у вас никогда не было таких отчаянных мыслей, какая пришла в голову Селивановой сегодня утром… Разговор у нас с вами предварительный, неофициальный.
— Будут и официальные? — спросила Зина.
— Обязательно. И не один. В ближайший месяц мы с вами очень хорошо познакомимся. Если вы не против, начнем сегодня же. Я вам покажу свой маленький, не очень уютный кабинетик. Покажу ваши фотографии, которые Татлин сделал…
— Как Татлин? — удивилась Галя. — При чем здесь Татлин? Он меня никогда не снимал.
— Снимал, — грустно сказал Демин. — И не один раз, и не только вас, — он улыбнулся неожиданной рифме. — А снимал на квартире Равской — ведь там вы заканчивали веселые вечера? Так вот, пока вы здесь прощальные тосты произносили, на «посошок» рюмочки опрокидывали с новыми знакомыми, Татлин там уже пленку в аппарат заряжал и в каморку прятался. Видели в комнате каморку со слуховым окном? Вот через это окошко он вас и щелкал. Конечно, выбирал самые интересные моменты.
— Боже! — Лариса схватилась за лицо.
— А может, ошибка? Может, все это не так? Наговоры? — Какая-то затаенная надежда прозвучала в голосе Гали — скажите, мол, что все это недоразумение.
— Снимки найдены при обыске у Татлина, — бесстрастно сказал Демин. — Они подшиты в дело.
— И там м-мы? — спросила Галя.
— Да.
— Стыд-то какой, — с трудом проговорила Лариса. — А ведь нам-то она всегда говорила, что давайте, подружки, повеселимся, давайте, подружки, погуляем. Веселились, гуляли здесь, потом к ней ехали. Утром на такси давала…
— Сколько? — спросил Демин.
— Тридцатку.
— Многовато. Вам не кажется?
— Это ведь только говорится так — такси. А на самом деле… — Галя замолчала.
— Боже-боже! — стонала Лариса.
— Да хватит тебе! Противно! — жестко сказала Зина. — Распустила нюни! Все ты знала. Все прекрасно знала. С самого начала. Просто тешилась дурной надеждой, что все это вроде шуточки, невинные пьяночки, что никогда не назовут эти вещи своими именами. Вот и весь нехитрый расчет. Дескать, стыдно, когда люди знают, а когда все в тайне, то и стыдиться нечего. Сама же говорила мне, что тридцать рублей на дороге не валяются. Ну, отвечай, говорила? Наташка в морге, а ты здесь комедию ломаешь? А если парнишка твой, восьмиклассник, узнает — ты не выбросишься в окно? Так и будешь тютю-матютю разыгрывать? Наташка мне рассказывала, как Равская ее обмишулила. — Зина повернулась к Демину. — Подсунула ей какую-то работу бросовую на две-три десятки, предложила эти же десятки обмыть. Наташка до того не пила, быстро опьянела, к ним подсели какие-то итальянцы с тонкими усиками, заказали еще шампанского, потом поехали в эту конюшню. Наташка еще там хотела в окно сигануть, когда проснулась утром на заблеванном лежаке.
— А зачем Равской вообще понадобилась Селиванова?
— Наташка хорошо английский знала. А здесь, в этом ресторане, на русском редко с кем можно столковаться. И потом она была красивая, всегда кто-нибудь подсядет. А Равская… Надо слишком много выпить, чтобы на нее с интересом посмотреть.
— А с вами как было?
— Со мной еще проще. Праздник, веселье, танцы, шампанское, машины по ночной Москве, опять эта вонючая конюшня. Ну что сказать — напилась я крепко. Равская ведь не пьет. У нее, видите ли, печень. Ей, видите ли, нельзя. Ей вредно. А нам полезно. Ну, не успели войти к ней, а она мне и бросает: чего, дескать, стоишь, иди раздевайся! Эти слова до сих пор во мне, как заноза, торчат. Как осколок. Что, говорит, тридцать рублей не хочешь заработать? А у меня, конечно, шалое настроение, мне все нипочем, мне море по колено и так далее и тому подобное. А потом было утро, похмелье, была неделя, когда не знала, куда деться…
— Потом все повторилось, — добавил Демин.
— Повторилось, — кивнула Зина, опустив крупное красивое лицо. — Даже не знаю как… С парнем встречалась — разругались, нового не было… Самой вот-вот тридцать, а бабе тридцать — это больше, чем мужику сорок. В общем, жизнь показалась конченой, а тут опять Ирусик звонит, это мы так между собой Равскую называем… У меня с Ирусиком довольно быстро дело до снимков дошло. Сумасшедшая ситуация — подружилась я с французом в один из наших вечеров. Причем всерьез, о женитьбе разговоры вели… Он в Москве при какой-то комиссии по торговле. Но это неважно. С Ирусиком я встречаться перестала. Ни к чему. И кутежи ее, и пьянки даровые, и мужики с лакированными ногтями — все это мне уже было до лампочки. И что вы думаете — находит она меня. Издалека начинает, как обычно. Иезуитские манеры. На бабью долю жалуется, дескать, забыться ей хочется и… с собой кличет. Я отказываюсь. Она настаивает. Я вешаю трубку. Она приезжает. И когда все доводы ее кончаются, вынимает снимочек. Видела я себя. Вы тоже, наверное, видели? Ничего, похожа. Снимок, конечно, я порвала, а она, стерва, вынимает второй, точно такой же. Давай, говорит, девка, наноси штукатурку на физиономию — поехали. А не то через день твой француз получит очень любопытную поздравительную открытку. И я пошла. Пошла. Но если мне сейчас дадут автомат, — голос Зины стал тише, глаза сузились, — а вон к той стенке поставят Ирусика и скажут: хочешь, стреляй, а хочешь, не стреляй. Всю обойму. Вы слышите?! — Она в упор посмотрела на Демина. — Всю обойму до последнего патрона выпущу. И ни слова не скажу. Нет слов. И от нее ни слова не хочу услышать.
— Зина, как по-вашему, почему Селиванова покончила с собой?
— До снимков дело дошло. И вся недолга. Снимочек ей Ирусик показала… Или сказала, что есть такой. Девчонка, много ли ей надо… Слишком уж наряды она любила — этим и купила ее Ирусик. Наверно, бывает в жизни каждой бабы период, когда кажется, что наряды — это главное. Вот на таком периоде и повстречала Наташка нашего Ирусика.
— А что за человек — Равская?
— Послушайте, товарищ… Я еще могу вас так называть? Так вот, после всего, что вам рассказали о ней, спрашивать, что она за человек — непрофессионально.
— Вообще-то да, — смутился Демин. — Тут вы меня подсекли. Тем более что я имел честь быть у нее дома, беседовали, кофе пили…
— Неужели угостила? — изумилась Лариса.
— Это что, на нее непохоже?
— О чем вы говорите! Чтобы она хоть раз за такси заплатила, за троллейбус… Да ни в жизнь! В кафе с ней зайдешь, она же и затащит, выпьешь стакан какой-нибудь бурды с кренделем, так Ирусик тут же торопится побыстрее все запихнуть — и шасть в туалет. А ты расплачивайся. Ну раз сошло, второй раз, а потом даже интересно стало. Ведь речь идет о двадцати-тридцати копейках! И вот сидишь, смакуешь этот так называемый кофе и наблюдаешь, как она давится, обжигается, чтобы, значит, быстрее тебя закончить.
— Я однажды эксперимент провела, — улыбнулась Зина не без гордости. — Зашли мы в какую-то кафешку, взяли по стакану уж не помню чего, и я вообще пить не стала. Дескать, не понравилось мне это кофе или какао. И сделала вид, что хочу по своим делам выйти. Так бедный Ирусик схватила несчастный пряник, сунула его куда-то чуть ли не под мышку и успела все-таки раньше меня встать и в уборную шастануть. Я за ней. Вхожу, а она стоит у зеркала, скучает, сигаретку в пальцах мнет. Надо понимать, дожидается, пока я там расплачусь. Вот такой человек наш Ирусик. А вот и она…
По проходу между столами быстро и растревоженно шла Ирина Аркадьевна Равская в брюках и пушистом свитере, с сумочкой под мышкой. Когда Равская подошла к столику, Демин оказался сидящим к ней спиной, и она не узнала его. Но когда он обернулся, привстал, предлагая ей сесть, она отшатнулась, как от чего-то совершенно невозможного, кошмарного. Демин просто не мог не заметить, как судорожно дернулась ее рука, прижимая к себе сумочку.
— Садитесь, Ирина Аркадьевна, прошу вас, — Демин учтиво улыбнулся и так предупредительно подвинул свободный стул, что Равская не могла не сесть. Она уже взяла себя в руки и выглядела, как обычно, уверенной, ироничной, снисходительной.
— Я смотрю, вы всерьез заинтересовались… моим окружением? — Она поощрительно улыбнулась, хотела было поставить сумку на стол, но та была слишком велика, и Равская опустила ее на колени. Сидеть ей было неудобно, и, помаявшись с минуту, она отодвинула штору и поставила сумку на подоконник. Прищурившись от сигаретного дыма, игриво посмотрела на Демина. — Мне кажется, вы хотите что-то сказать?
— Не сидеть же нам молча, уж коли мы встретились столь неожиданно в столь неожиданном месте, — Демину начинала нравиться ситуация. — Ирина Аркадьевна, если не ошибаюсь, я сижу как раз на том месте, где должна была сидеть Селиванова?
— Селиванова? Ах, вы об этой бедной девочке. По-моему, она как-то была здесь, Лариса, ты не помнишь?
— Кажется, была, — ответила Лариса. Демин поражаются происшедшей в ней перемене. Рядом с Равской она сникла, оробела, присмирела. Было ясно, что Равская крепко держала ее в руках. Она внимательно осмотрела всех трех женщин, с каждой встретилась глазами и каждой будто отдала приказ — молчите, будьте осторожны, не болтайте лишнего. Только что за столом все были равноправными собеседниками. Даже Галя, которая и обронила-то всего несколько слов. Теперь же и Зина, и Лариса, и Галя как бы отодвинулись, и за столом остались двое — Равская и Демин. Он понял, что ему предстоит нелегкая задача подавить властность Равской, наглядно показать женщинам, что за ее уверенностью нет ничего, кроме апломба. Демин осторожно посмотрел в сторону выхода и удовлетворенно опустил глаза. Он увидел Кувакина. В глубине вестибюля мелькнула милицейская форма. Значит, все в порядке.
— Я смотрю, вы все никак не соберетесь рассказать нам что-нибудь интересное, — Равская вызывающе посмотрела на Демина. — Тогда я, пожалуй, воспользуюсь этой маленькой заминкой и схожу приведу себя в порядок. С дамами вы уже познакомились, скучать, надеюсь, не будете.
Равская поднялась, одернула свитер, смахнула с него невидимую пылинку, протянула руку к сумке. И мгновенно, за секунду побледнела, увидев, как ее взял с подоконника Демин.
— Вы хотите поухаживать за мной? — улыбнулась Ирина Аркадьевна. — С вашей стороны это очень мило!
Демин не мог не отдать ей должное — самообладание у Равской было исключительным. Совершенно серое под слоем косметики лицо, серые перламутровые губы, судорожно пульсирующая жилка на шее и непосредственная, светская, кто знает, может быть, даже обворожительная улыбка.
— Нет, сегодня мне не до ухаживаний. Просто я хочу посмотреть, что у вас в сумочке.
— Вы имеете на это право?
— Да.
— Право сильного?
— Как вам угодно.
— Ну что ж, валяйте! — со вкусом произнесла Равская. — Благородный потрошитель женских сумочек… Я сейчас.
И она быстро пошла по проходу между столиками, пошла чуть быстрее, чем требовалось. Впрочем, это можно было объяснить ее раздраженным состоянием.
— Ирина Аркадьевна! — окликнул ее Демин, но Равская, лишь обернувшись на секунду, сделала успокаивающий жест, который мог обозначать примерно следующее: не беспокойтесь, я сейчас вернусь. Она остановилась за несколько метров до стеклянных дверей — за ними, сунув руки в карманы, стоял Кувакин. Равская несколько мгновений молча, исподлобья рассматривала его улыбающееся лицо, потом круто повернулась и пошла к столику. Решительно села. Зло посмотрела на Демина.
— Как это понимать? — спросила она.
— Что вы имеете в виду, Ирина Аркадьевна? — вскинул брови Демин.
— Там стоит ваш помощник!
— Коля? Он, наверно, нас не заметил… Что же вы не позвали его? — Демин поднялся и махнул Кувакину рукой, приглашая подойти. — Коля, — сказал он, когда Кувакин приблизился, — будь добр, кликни наших ребят, они должны быть в вестибюле. Да, и скажи метрдотелю, вон тому, пусть подаст нам… несколько листов стандартной бумаги. Будем составлять акт. Ирина Аркадьевна, ведь это ваша сумочка?
— Какая? Эта? С чего вы взяли? Она стояла на подоконнике. Может быть, кто-то забыл ее?
Демин вынул из сумочки плотный, перевязанный пакет и, отогнув надорванную бумагу, показал Равской — там были деньги.
— Пока вы столь спешно ходили здороваться с моим другом, я позволил себе полюбопытствовать, что же в вашей сумочке… Вот эти женщины присутствовали при моих действиях и готовы подтвердить, что сумочка эта ваша, что в ней оказались деньги, причем не наши, не советские.
— Зина! — негодующе воскликнула Равская. — Что он говорит?! Он склоняет вас к лжесвидетельству! К оговору принуждает! Это же преступление! Ну знаете… — Равская, не в силах сдержать гнев, оглянулась по сторонам. — Я достаточно наслышана о ваших методах, но чтобы вот так, нагло, бесцеремонно, в полном противоречии с законом, с правами человека…
Метрдотель принес несколько листов бумаги, Кувакин взял свободный стул у соседнего столика и присел рядом с Деминым.
— Я протестую! — звеняще сказала Равская гораздо громче, нежели требовалось. — Я надеюсь, что все происходящее станет известным вашему начальству.
— Безусловно, — негромко ответил Демин, вынимая ручку.
— Я хочу предупредить вас, — уже кричала Равская, — что все станет известным не только вашему начальству, но и многим другим людям, над которыми ваше начальство не властно! — Она оглянулась по сторонам, как бы призывая в свидетели разноязычную ресторанную толпу. — Зина! Ты слышишь?!
— Я слышу, Ирусик, я не глухая.
— И ты подпишешь эту беспардонную ложь?!
— Ну а как же, Ирусик?
— Но ведь этим самым ты подпишешь приговор самой себе! Ты себя в тюрьму сажаешь! И их тоже! — Равская кивнула на притихших Ларису и Галю.
— Нет, Ирусик. Мы вели себя некрасиво, может быть, мы вели себя непорядочно. Судья вправе пожурить нас за безнравственность… Но это все.
— И вы?! — угрожающе спросила Равская, исподлобья глянув на Ларису и Галю.
— И мы, — пролепетала Лариса.
— Да, подпишем, — тонко пискнула Галя. — И не смотрите на нас, Ирина Аркадьевна! Мы не знаем, что там и как, но отвечать за ваши дела тоже не хотим! Знаете, своя рубашка…
— Какая своя рубашка! — грубо оборвала ее Равская. — Давно у тебя появилась своя рубашка?! С тех пор, как я решила помочь тебе, дуре! Ведь ты же мужнины майки донашивала! И они тебе были очень к лицу!
— Да! Мужнины майки! — согласилась Галя, и из ее глаз. свободно потекли слезы. — Мужнины майки… Но я бы отдала все ваши вонючие рубашки за одну его майку! Потому что… потому что, когда я донашивала майки, у меня был муж! Лучше донашивать его майки, чем ваши рубашки!
— Ложь, обман и наглое попрание прав гражданина! — четко, как тезис, произнесла Равская.
— Вот здесь, пожалуйста, — Демин придвинул к Зине лист бумаги с актом об изъятии валюты у Равской. Зина подписала и протянула акт Ларисе, которая почти с ужасом смотрела на Ирину Аркадьевну.
— Лорка! — Зина требовательно посмотрела на подругу. — Возьми ручку! Ты же не будешь пальцем писать!
Последней, морщась и всхлипывая, акт подписала Галя.
— А теперь вас всех, — Демин окинул взглядом женщин, — я попрошу одеться и проследовать к машине. Закончим этот вечер у нас, — он улыбнулся. — Я постараюсь быть гостеприимным.
— Как?! На ночь глядя? — воскликнула Равская.
— А что касается вас, Ирина Аркадьевна, то вам, по всей видимости, придется не только проследовать, но и на некоторое время задержаться.
— Надолго, позвольте узнать?
— Пока не закончился следствие.
— Чем же, интересно узнать, я провинилась?
— Валютные операции. Кроме того, вы виновны, и я постараюсь это доказать, в смерти Селивановой. И наконец, вы склоняли не очень устойчивых в моральном отношении людей к легкомысленному поведению, скажем так.
— Это преступление?
— Да, если вы делали это с целью получить выгоду. И вы ее получали.
— Это надо доказать.
— Буду стараться, Ирина Аркадьевна, я буду очень стараться. Евгений Федорович, — повернулся Демин к метрдотелю, — вы нам сможете такси организовать? А то, боюсь, мы все в одну машину не поместимся.
В здании было уже пусто. Только дежурный сидел за стеклянной перегородкой, склонившись над пультом с лампочками, кнопками, рычажками. Демин, не останавливаясь, кивнул ему и быстро направился к себе в кабинет, увлекая за собой всех четырех женщин. Допросить их надо было только сегодня, хотя бы наскоро. Уточнить, снова вернуться к показаниям можно будет завтра, послезавтра, через неделю. Потом будут очные ставки и друг с другом, и с Татлиным, кто знает, возможно, появятся новые действующие лица, но это все будет потом.
Демин распахнул дверь пошире, пропуская всех вперед.
— Прошу садиться, граждане дорогие. У меня не столь шикарно, как в «Интуристе», но что делать! Да, можете пока раздеться, вешалка за шкафом. Она, правда, не рассчитана на такое количество гостей, но ничего, для пользы дела потерпит.
— Вешалка, может быть, и потерпит, — передернула плечами Равская. — Будем ли терпеть мы… Я, например, не намерена. Надеюсь, извинения вам придется принести раньше, чем…
В кабинет вошел Кувакин.
— Валя, там парнишка тебя спрашивает… О Селивановой что-то толкует. Нужен мне, говорит, следователь, который занимается Селивановой.
— Тащи его сюда. Чего ему там одному скучать.
Через минуту в дверь осторожно протиснулся длинный тощий парень с загнанными, красными глазами. В руках он держал мокрую кроличью шапку, с пальто тоже капала вода — нужно не один час ходить по улицам, чтобы довести его до такого вида.
— Проходи, парень. Давай знакомиться. Моя фамилия Демин. Говорят, ты искал меня? Выкладывай, в чем дело?
— Понимаете… — Парень оглянулся, не решаясь заговорить при людях. Встретившись глазами с Равской, он нахмурился, будто вспоминая что-то, потом кивнул, негромко поздоровался. — Простите, — добавил он, — я вас сразу не узнал.
— А я тебя и сейчас не узнаю, — ответила Равская. — И не жалею об этом.
— Ну как же… Помните, нас Наташа познакомила… Мы случайно на улице встретились… Помните?
— Обознались, молодой человек.
— Позвольте, Ирина Аркадьевна, — вмешался Демин, — разве вы не знали Наташу?
— Я не знаю, о какой Наташе он говорит.
— О Селивановой, — ничего не понимая, сказал парень.
— Я не помню столь приятного факта в своей биографии, как знакомство с этим молодым человеком. — Равская отвернулась.
— Ну это уже несущественно, — сказал Демин. — Коля, ты заполняй пока бланки, а я с товарищем потолкую в коридоре.
Они вышли, сели на жесткую деревянную скамью недалеко от дежурного. Гулкий пустой коридор, освещенный несколькими маленькими лампочками, казался длинным и угрюмым. Воняло хлоркой, сыростью, мокрыми досками — видно, уборщица была совсем недавно.
— Итак, — начал Демин. — Как тебя зовут?
— Костя. Костя Гладышев. Понимаете… Я был в квартире, где она жила, и мне сказали… В общем, все сказали… Там у нее сосед, Анатолием его зовут. Он мне велел обязательно к вам подойти. А раньше подойти я не мог… Не мог, и все.
— Раньше меня здесь и не было. Молодец, что пришел. Как ты думаешь, почему Наташа так поступила?
— Понятия не имею! Никаких причин! Может быть, вы знаете? Скажите, почему именно она?! Мало ли людей, у которых, простите меня, больше причин, больше оснований покончить с собой! Мало ли людей, которым просто необходимо покончить с собой, хоть что-нибудь сделать полезное для людей!
— Ну ты, Костя, даешь! — крякнул Демин. — Спрашиваешь, почему именно она… Видишь ли, парень, дело в том, что не только она. Все те дамы, которых ты видел в кабинете, все эти представительные, прекрасно одетые, ухоженные дамы каждый день немного кончали с собой, если можно так выразиться. Все они самоубийцы. Правда, я не уверен, что они это знают. Им еще предстоит узнать. И твоя приятельница, ну та, с которой ты поздоровался, она тоже самоубийца. И прекрасно это знает. Она пошла на самоубийство, надеясь кое-что на этом заработать. То есть совершила самоубийство сознательно, расчетливо, трезво, да еще и других с собой потащила. Организовала этакое коллективное мероприятие. Наташка твоя все приняла слишком всерьез, она не согласна была на деловое, взаимовыгодное самоубийство.
— Они продавали себя? — спросил Костя отрешенно.
— И это было. А теперь они продают друг друга. Конечно, не повстречай они эту мадаму, все было бы иначе, они жили бы другой жизнью. И Наташка твоя была бы жива, А с другой стороны, они сами виноваты. Клюнуть на такую дешевку! Соблазниться даровой выпивкой, закуской, утонченными манерами потасканных заморских кавалеров.
— И Наташка?!
— Нет. С ней было иначе, с ней было и проще, и сложнее. Ее обманули. Небольшая провокация, немного шантажа, пара угроз. Вот скажи, последнее время ничто не угнетало ее?
— Знаете, что-то было… Бывало, говорим, смеемся, а она вдруг сникнет вся, будто вспомнит что-то неприятное. Потом рукой как отмахнется от чего-то, и опять все нормально. Но, наверно, и про меня такое можно вспомнить, когда со мной что-то случится, когда я… погибну, к примеру.
— Не торопись, Костя, не надо. Как она тебя познакомила с этой дамой? Когда? Где?
— Месяца три назад мы случайно на улице встретились. Я уже забыл, как ее зовут… Наташа щукой назвала.
— Как?
— Щукой. Я понимаю, это несерьезно…
— Боюсь, что эта очень серьезно. Где-то я сегодня слышал это слово… Щука… Надо же — забыл. А разговор был… Скажи, а как именно, в какой ситуации, с каким выражением она ее щукой назвала?
— Ну, мы шли по улице, Наташа увидела ее метров за тридцать… И говорит… Надо же, говорит, со щукой встретились. Ей это неприятно было. И ситуация возникла странная. Она меня никак не представила, ее тоже никак не назвала. Только по имени-отчеству.
— Надо же — щука, — пробормотал Демин. — Кто же мне сегодня говорил о щуке? Ну ладно, пошли, я посажу тебя в отдельной комнате, и ты все не торопясь изложишь. Опиши встречу с этой дамой, как к ней отнеслась Наташа, как она ее назвала. В общем — все. И как можно подробнее. Сюда заходи. Садись. Вот тебе бумага, ручка — пиши. В конце не забудь указать свои координаты. Кто ты, что ты, где живешь, чем занимаешься, адрес, телефон. Добро? Я зайду через полчаса. Без меня не уходи.
В кабинете, где Демин оставил Кувакина с задержанными, царила гнетущее молчание. Он прошел на свое место, сел.
— Равскую попрошу остаться, остальным придется выйти в коридор. Там есть скамейка, располагайтесь. Итак, Ирина Аркадьевна, продолжим наши игры.
— Игры, говорите? — Равская недобро усмехнулась. — Я смотрю, вы привыкли играть с человеческими судьбами. Для вас это, оказывается, игры! А ведь я в суд подам. И вам придется отвечать.
— Хорошо. Отвечу. А сейчас, пожалуйста, ответьте мне.
— И не подумаю. Только в присутствии адвоката.
— Адвоката? Это вы, наверно, в кино видели, в зарубежных детективах? Ну, вы даете, Ирина Аркадьевна!
— А у нас такое невозможно? Только у них задержанный может требовать адвоката? А у нас можно хватать людей среди ночи и допрашивать сколько вздумается!
— Мелко гребете, Ирина Аркадьевна. Этим вы меня не обидите. Вас задержали не среди ночи, а вечером, вовсе не поздним вечером. Просто сейчас рано темнеет. Опять же низкие тучи, снегопад, метель… Приятная такая весенняя метель. Кроме того, это позволяется законом. Когда допрос, задержание имеют срочный характер, когда требуется предотвратить дальнейшие преступные действия или же когда оставление преступника на свободе дает ему возможность уничтожить следы своей незаконной деятельности. Видите, я даже статью процитировал. И не забывайте, что вас задержали с солидным количеством иностранной валюты, — Демин кивнул на сумочку. — А что касается адвоката — это ваше право. Но, согласитесь, Ирина Аркадьевна, вам не потребовался бы адвокат, будь вы уверены в невиновности. Адвокат вам нужен для того, чтобы ловчее ответить на вопросы следствия. Ну что ж, давайте побеседуем в присутствии адвоката. Да, Коля, — обратился Демин к Кувакину, — тебе ничего не говорит такое слово — щ у к а?
— Щука? — переспросил Кувакин. — Постой-постой… Насколько мне известно, с некоторых пор появилась на нашем горизонте ловкая тетя… По валюте большой спец. Якобы ее кличка — Щука. Мы знаем некоторых ее клиентов, знаем кое-какие методы работы, приемы… Но сама она пока остается неуловимой.
— Коля, она перестала быть неуловимой.
— Ты хочешь сказать…
— Коля, она перед тобой.
— Ирина Аркадьевна! — непосредственно воскликнул Кувакин. — Неужели он говорит правду?!
— Да, — протянул Демин, — напрасно вы, Ирина Аркадьевна, не отпустили Селиванову. Конечно, знание языков в вашем деле очень полезно, но Селиванова знала не только языки, она знала вашу кличку… Эти вряд ли знают, — Демин кивнул на дверь.
Равская поднялась, сунула руки в карманы распахнутой дубленки, прошлась в раздумье по кабинету, постояла у окна, вернулась к двери и наконец остановилась перед Деминым. Взгляд у нее был несколько оценивающий, будто она стояла у прилавка магазина и прикидывала — не слишком ли дорога вещь, которая ей приглянулась? Не таясь, откровенно, она скользнула взглядом по одежде Демина, с ухмылкой посмотрела на помятый дешевенький пиджачишко Кувакина, на его совсем не в тон пиджаку брюки, судя по всему, купленные случайно, по дешевке. И вдруг Демин неожиданно для себя самого втянул ноги под стол, чтобы спрятать размокшие, потерявшие форму туфли. Его жест не скрылся от Равской, и она снисходительно улыбнулась.
— По тысяче каждому, — сказала она четко и негромко.
— Не понял? — Демин вскинул брови.
— Тогда по две. Каждому. Годится?
— Это вы нам предлагаете? — спросил Демин. — А за что?
— Две вещи, — сказала Равская. — Первое. Вы должны опустить в унитаз содержимое сумочки. Или взять себе. И второе — вы не слышали этого слова… Щука. В остальном честно выполняйте свой гражданский долг. Я готова ответить и за смерть Селивановой. Разумеется, как человек, старший по возрасту, который должен был уберечь ее от необдуманного шага. И за то, что я организовывала приятные вечера для этих вот застарелых дев, — она презрительно кивнула в сторону двери.
— А за снимки? — спросил Демин.
— За снимки пусть отвечает тот, кто их делал. Татлин.
— По две тысячи на брата, — задумчиво протянул Кувакин. — На двоих — четыре тысячи… Неплохо. Почти годовая зарплата, а, Валя? А если Татлин предложит нам тоже по две тысячи?
— Это уж вам решать, — ответила Равская таким тоном, будто бестактность Кувакина ее оскорбила. — Впрочем, пять тысяч он вам наверняка не предложит. А я… Я готова дать доказательства активной роли Татлина во всем этом деле. И снимки пусть остаются, коль они уже приобщены. Мне кажется, они достаточно полно отвечают на вопрос о причине самоубийства Селивановой.
— И за все ответит Татлин? — уточнил Демин.
— А почему бы и нет? Он, бедняга, так устал в ежедневной беготне и суете! Пусть отдохнет годик-второй.
— Годиком-вторым ему не отделаться.
— Зачем нам об этом думать, — пожала плечами Равская. — Пусть решает наш народный, самый справедливый суд.
— Но Татлин тоже не будет молчать, не будет сидеть сложа руки, — заметил Демин. — И снимки он сделал все-таки в вашей квартире.
— Откуда мне знать, чем он занимался в моей квартире! Он выклянчил ключ… Я всегда знала его за приличного человека. Кто же мог подумать, что это развратная личность! Но это все неважно. Мы договорились? Пакетик в сумочке сам по себе стоит не меньше пяти тысяч. Я вам его дарю. И за Щуку плачу пять тысяч. Поверьте, ни один фаршмак столько не потянет!
— Соблазнительно, — покрутил головой Демин. — Видишь, Коля, на какой вредной работе мы с тобой сидим, какие невероятные перегрузки испытываем, в какое тяжелое состояние может ввести такое предложение. Нам, Коля, за вредность молоко выдавать надо. Хотя бы по пакету в день. Как ты думаешь?
— Не меньше. Я бы и от двух не отказался. А если еще шестипроцентного по двадцать пять копеек за пакет, — мечтательно проговорил Кувакин, — никакой другой работы не надо.
— Решайте, мальчики, решайте! — поторопила Равская. — Я даже могу помочь вам реализовать валюту. Хотя у вас и свои связи должны быть.
— Да, надо решать, — вздохнул Демин. — Ирина Аркадьевна, вы по-прежнему не хотите давать показания без адвоката?
— Как? Вы отказываетесь? — удивлению Равской не было предела. — Почему? Неужели вам так хочется подсадить меня? За что? Что я вам сделала плохого? Ведь мы только сегодня познакомились! Нет, мы можем продолжить. Назовите свою цену! Давайте продолжим.
— Торговлю? — холодно спросил Демин. — Нет, Ирина Аркадьевна. Пошутили, и будя. А то сейчас вы предложите нам по десять тысяч, и меня кондрашка хватит от волнения. А у меня жена, ребенок… Нет-нет, и не уговаривайте. Я не могу так рисковать.
Равская с минуту смотрела на Демина с недоумением и досадой, потом в ней как ослабло что-то, плечи опали, и сразу стали заметны ее возраст, усталость, безнадежность.
— Я, кажется, понимаю, — проговорила она медленно. — Здесь, конечно, дело более чем личное… Дело не во мне и не в тех безобидных вещах, которыми мне пришлось заняться, чтобы прокормить себя…
— Надеюсь, вы жили не впроголодь? — спросил Демин.
— Еще этого не хватало! — вскинула подбородок Равская.
Возвращался Демин последней электричкой. Освещенный желтоватым светом вагон был почти пуст. В одном его конце дремал захмелевший мужичонок в телогрейке, на соседней скамье военный читал газету, с трудом разбирая мелкий текст, а в полумраке тамбура беспрерывно целовались парень с девушкой.
Снег перестал, потеплело, и теперь шел дождь, частый и стремительный. Демин представил себе, как несутся в мокрой весенней темноте пустые вагоны электрички с рядами светящихся окон, несутся, как бы раздвигая струи дождя, и грохочут на стыках колеса, и загнанно кричит у переездов сирена головного вагона. Представил, как затихает металлический грохот электрички и наступает такая полная, сосредоточенная тишина, что слышен шелест капель в мокрых ветвях сосен и елей…
На своей платформе он сошел один и медленно, не торопясь, направился к дому. Автобусы уже не ходили прохожих он тоже не видел. Издали Демин с огорчением отметил, что окна его квартиры погашены — значит, его не дождались, легли спать.
Дверь он открыл своим ключом, разделся в тесной прихожей, повесил плащ на угол двери, чтобы не намочить одежду на вешалке. А когда, выпив пакет молока, уже шел в спальню, нечаянно наткнулся в темноте на стул и разбудил жену.
— А, это ты, — пробормотала она сонно. — Пельмени в холодильнике. И посади Анку на горшок, а то буде горе и беда.
— Ладно, посажу… Не привыкать.
Вадим КАРГАЛОВ «Колумб Востока»
1
Майским утром 1235 года из ворот доминиканского монастыря в Пеште[12] выехали четыре всадника. Копыта рослых смирных коней беззвучно опускались в уличную пыль, будто опасаясь нарушить мирный сон горожан: час был ранний, лишь над немногими крышами поднимались струйки печного дыма.
Редкие прохожие удивленно оглядывались на бородатые лица всадников и их длинные, непривычного вида одеяния.
Монах в ветхой рясе, перепоясанной куском веревки, плюнул вслед:
— Проклятые язычники! И в столице христолюбивого короля Белы[13] смерди́т ими!
Но он ошибался, этот сердитый монах!
По утренней улице ехали не язычники, с которыми истинному христианину и встретиться-то грешно, а братья-проповедники Доминиканского ордена,[14] прославленного своими подвигами во имя господне. Сменив монашеское платье на мирское и отпустив бороды по примеру язычников, проповедники отправились в дальнее путешествие в восточные страны. И не было ничего предосудительного в их необычном облике. Даже святой Доминик, основатель ордена, когда-то отращивал бороду и волосы, чтобы самолично нести слово божье в дикие степи.
Потом другие братья-проповедники пошли по начертанному святым Домиником пути, разыскали за рекой Днепром половецкие кочевья, и не их вина, что ничего значительного для божьего дела они не сумели совершить: язычники оказались упорными в своей нечистой вере. Двое проповедников погибли, а остальные попали в рабство к половецким вождям. Но по следам мучеников шли другие миссионеры, и никакие опасности не могли устрашить их. Смерть обещала вечное блаженство на небе…
Молодой доминиканец Юлиан, венгр по происхождению, неоднократно провожал братьев-проповедников в неведомые земли. Строгие и молчаливые, будто отделенные невидимой чертой от остальных монахов, стояли проповедники перед алтарем, и только к ним обращался со словами последнего напутствия святой отец, настоятель монастыря. Торжественно, ликующе гудел орган. Множество свечей, как в самый большой праздник, освещало каменную громаду собора. С восхищением и почтительным удивлением смотрели на отбывавших праведников младшие братья и отроки-послушники.
На рассвете, в благословенный час пробуждения нового дня, братья-проповедники тихо уходили за ворота, чтобы покинуть монастырь надолго или навсегда.
Уходившим в странствования завидовали, потому что серебряный крест проповедника считался высшей наградой. Но только самые достойные и укрепленные в добродетелях удостоивались этой чести…
Вместе с другими обитателями монастыря мечтал о путешествиях в дальние страны Юлиан, любимец отца-настоятеля. Еще в детстве, в мирской жизни, он любил слушать предания о неведомых далеких землях, откуда пришли на Дунай первые венгры. А потом сам прочитал в старых книгах, что действительно существует какая-то другая Венгрия, старейшая, которая называется «Великая Венгрия». Из той, другой, Венгрии когда-то вышли со своими народами семь вождей, потому что прежние их владения уже не могли вместить многочисленности жителей. Бесконечно длинным оказался поход вождей, немало царств сокрушили они на своем пути, пока не достигли страны, которая ныне называется Венгрией, а тогда называлась пастбищами римлян. Эту страну вожди предпочли всем прочим землям и избрали себе для жительства. Вскоре венгры были обращены в католическую веру первым королем, святым Стефаном,[15] а их сородичи, оставшиеся жить где-то на востоке, по-прежнему пребывали во тьме неверия. Найти прародину венгров, приобщить к истинной вере обитателей ее, родственных по крови, но погрязших в заблуждениях язычества, мечтали многие. Но где искать прародину венгров? Старые книги умалчивали об этом…
Юлиану венгры-язычники казались людьми кроткими и доверчивыми, вроде тех пастухов, которые осенью пригоняли в Пешт отары овец с недалеких Трансильванских гор. Будто наяву представлял Юлиан, как он шествует впереди толпы своих обретенных сородичей по бесконечному цветущему лугу, серебряный крест брата-проповедника поблескивает на его груди, а над дальними лесами поднимается огромное, в половину неба, багровое солнце. Потом Юлиан представлял, как он учит латинской грамоте черноглазых, смышленых отроков, как повествует восхищенным молодым воинам о славных ратных подвигах первого венгерского короля Стефана, как наставляет христианским заповедям седобородых старцев и те почтительно слушают его. А девушки…
Тут мысли молодого монаха принимали греховное направление, и Юлиан вздрагивал, испуганно оглядывался по сторонам, хотя был один, да и в соседних кельях братия давно отошла ко сну. Гордыня! Гордыня!
Тесными, давящими казались Юлиану своды монастырской кельи, однообразными и утомительными — бесконечные молитвы и ночные бдения в соборе. Как завидовал он проповедникам, уходившим в неведомые дали!
Отец-настоятель благосклонно выслушивал горячие просьбы Юлиана отпустить на поиски далекой прародины венгров. Настоятелю нравилось рвение молодого монаха, да и дело тот предлагал богоугодное. Именно такие слуги господни, как Юлиан, крепкие духом и телом, раздвинули до огромных пределов католический мир. Стремление брата Юлиана достойно одобрения…
Однако настоятель знал то, чего Юлиану знать пока что было не дано. Три года назад священник Отто под личиной купца отправился на поиски венгров-язычников. До возвращения Отто начинать новое путешествие казалось настоятелю неразумным, как неразумным было бы и посвящать в эту тайну ордена кого бы то ни было. Конечно, брат Юлиан не посторонний, ему можно доверять, но недаром сказано, что тайна остается тайной лишь тогда, когда о ней знают немногие избранные. Поэтому настоятель отвечал Юлиану неопределенно, не поощряя его явно, но и не лишая надежды:
— Жди, сын мой… Когда придет время, я тебя позову…
С молчаливого согласия настоятеля Юлиан начал отращивать бороду, как это делали братья-проповедники перед походом в языческие страны. Проповедник не должен выделяться из толпы, ибо слово его действеннее, если исходит изнутри, а не извне. Однако в монастыре были и другие старшие братья, которым было разрешено отпускать бороды и длинные волосы, и никто, кроме отца-настоятеля, не знал, на кого именно падет жребий. Наверное, и другие монахи тоже слышали обнадеживающие слова настоятеля: «Когда придет время, я тебя позову!»
2
Время Юлиана пришло ранней весной 1235 года.
К монастырским воротам подъехала двухколесная повозка, запряженная волами. На повозке, едва прикрытый пыльным тряпьем, лежал страшно исхудавший, обтянутый желтой кожей человек. Глаза его были бессильно прикрыты, лоб пересекала багровая полоса недавней раны, босые ноги кровоточили. Крестьянин, владелец повозки и волов, объяснил привратнику, что подобрал этого человека возле дороги и что тот, придя в сознание, велел отвезти к доминиканцам и обещал награду.
Позвали настоятеля.
Настоятель долго всматривался в лицо незнакомца. Воспаленные губы больного дрогнули. Поспешно склонившийся к изголовью настоятель успел разобрать едва слышные слова: «Именем господа… Отто… Я — Отто…»
Монахи бережно понесли больного к келье брата-лекаря. Крестьянин, зажав в кулаке серебряную монету, взмахнул кнутом и уехал. Собираясь кучками, обитатели монастыря долго шептались о неожиданной щедрости отца-настоятеля, который отдал простолюдину серебро, хотя вполне можно было бы ограничиться благословением. Поговорили и о незнакомце, спрятанном. от любопытных глаз в келье лекаря. Но толком никто ничего не знал. Лекарь загадочно молчал, и братия довольствовалась разными домыслами.
А через девять дней человека, имя которого так и осталось неизвестным, тихо похоронили на монастырском кладбище. Лишь по погребальному обряду можно было догадаться, что умер он в монашестве. Непонятное было дело, загадочное.
Юлиан оказался среди немногих посвященных. Отец-настоятель велел ему неотлучно находиться у постели больного. Коротко пояснил, что незнакомец — священник Отто, искавший прародину венгров, который со своими спутниками подвергался многим опасностям, скитался по суше и по морю, а ныне, сломленный болезнью, один возвратился в Пешт. Пока неизвестно, нашел ли Отто дорогу к венграм-язычникам, потому что силы оставили его и разум помутился. Пусть Юлиан записывает каждое произнесенное больным слово, чтобы Отто не унес с собой в могилу тайну ордена…
Юлиан выполнил поручение. В недолгие минуты просветления Отто успел рассказать, что в некоем языческом царстве встретил людей, говоривших на чистом венгерском языке, и узнал от них, где живут венгры-язычники. Сам же Отто, чувствуя приближение болезни, дальше идти не решился, и вернулся обратно в Венгрию, чтобы взять с собой нескольких братьев-проповедников и завершить великое дело.
Хриплым шепотом, в изнеможении умолкая и снова едва слышно выговаривая слова, Отто перечислял города и земли, через которые следует идти на пути в Великую Венгрию:
— Город Матрика[16]… Алания[17]… Река Итиль[18]… Пустыня с редкой травою на три недели пути… Солнце должно быть утром справа, а днем — за спиной… Великая Булгария[19]… Солнце утром в лицо… Горы впереди, но до самих гор идти не нужно[20]… Там живут венгры…
Юлиан записывал на пергаменте каждое произнесенное Отто слово. Дороже золота были эти слова, оплаченные немыслимыми трудами, жизнями спутников Отто, таких же братьев-проповедников, как он сам. По всему видно, что и Отто не выживет, смерть уже склонилась к его изголовью…
Священник Отто умер, но добытые им знания о земле венгров-язычников превратились в достояние Доминиканского ордена. Новые знания предстояло добыть Юлиану. Юлиан был готов повторить путь Отто и пройти дальше.
Вскоре Юлиана переселили в просторную, богато убранную келью рядом с покоями настоятеля. Каждый вечер в келью приходили для доверительной беседы братья-проповедники, уже побывавшие в странах Востока. В высоком бронзовом поставце тихо оплывали восковые свечи. Отрок-послушник, неслышно ступая по ковру, тенью появлялся за спинами собеседников, снимал нагар длинными щипцами и так же неслышно исчезал. Звучали в тишине диковинные названия городов и земель. Шелестели пергаментные листы, хранившие от непосвященных тайны миссионерских путешествий. Юлиан приобщался к этим тайнам.
Странное чувство овладевало Юлианом. Он был как бы ничтожным камешком в строительстве огромного моста, который Ватикан перекидывал с католического Запада на необозримый языческий Восток. Камешком, по воле случая венчавшим пирамиду, но на который будут положены многие другие камни, и так — без конца, камень на камень, пока не свершится задуманное. Истинная вера должна распространиться на всю землю!
Величие предстоящего дела и собственная ничтожность в сравнении с тем, что в тайне от непосвященных было уже сделано и что еще предстояло совершить, — подавляли Юлиана, но одновременно наполняли его горделивой уверенностью. Неудачи не могло быть. За Юлианом, слабым и ничтожным, стояло непреоборимое могущество церкви. Рядовой солдат воинства Христова, он вовлекался в великое движение…
Юлиана удивляло и тревожило, что в беседах все реже и реже упоминалась главная, как он считал, цель путешествия — поиски прародины венгров, хотя Юлиан уже знал, что отец-настоятель в своем послании королю Беле упирал именно на это, выпрашивая охранную грамоту и серебро на путевые расходы, и заранее называл его «повелителем двух Венгрии». Наставники Юлиана почти не делали различия между своими далекими соплеменниками и прочими язычниками, говорили о них презрительно, как о людях заблудших, погрязших в грехах, которых нужно вывести на истинную дорогу силой или хитростью, если они сами и не пожелают следовать за апостольским призывом.
Однажды Юлиан осмелился возразить отцу-настоятелю, робко заметив, что венгры-язычники все-таки единокровные братья здешних венгров, но встретил суровую отповедь:
— Только вера объединяет или разъединяет людей!
Юлиан покорно склонил голову, но про себя решил, что пойдет к венграм-язычникам с открытым сердцем, как к братьям…
Королевская охранная грамота с золоченой печатью и тяжелый кошель с серебряными монетами были доставлены в монастырь. Оставалось получить благословение папского легата.[21] Настоятель испросил у легата аудиенцию и вскоре получил согласие.
Вместе с настоятелем Юлиан пришел в мрачный, похожий на рыцарский замок, дворец легата. Два молчаливых воина в плащах с большими красными крестами проводили их в зал.
Легат небрежным жестом прервал настоятеля, принявшегося было обстоятельно рассказывать о миссии Юлиана, как будто все, что могло быть сообщено, давно уже известно, и обратился к Юлиану:
— Ты едешь в восточные страны в страшное время. Из глубин Азии надвигаются на христианский мир дикие племена монголов. Мы не знаем о них почти ничего, но, по слухам, сила их ужасна, их бесчисленное множество и все они на конях. Тебе надлежит узнать, чего хотят монгольские правители и нельзя ли направить их варварскую силу на пользу святой церкви. Неисповедимы пути господни! Кто знает, не сокрушат ли язычники друг друга и над обломками языческих царств не воссияет ли благотворящий крест?
Потом легат заговорил о большой стране, которая лежит к востоку от Польши и Венгрии — земле русских. Издавна русские отвергают призывы войти в лоно католической церкви. Не устрашит ли упрямцев нашествие дикого кочевого народа? Не попросят ли они помощи у римского папы, признав его своим духовным пастырем? Обо всем этом должен узнать Юлиан, ибо на то есть воля апостольского престола…
— Сын мой! В трудах тебе поможет брат Герард. Верь ему, как веришь духовным отцам своим, ибо Герард достоин доверия! — закончил легат и трижды хлопнул в ладоши.
Вошел незнакомый монах в коричневой рясе доминиканца. Из-под капюшона остро поблескивали недобрые серые глаза, рыжая клочковатая борода закрывала шею. Монах поклонился, откинул капюшон. Он был совершенно лысым, и потому изборожденный глубокими морщинами лоб казался непомерно высоким.
Юлиан с любопытством оглядел своего нового спутника. Младшие братья Иоанн и Яков, назначенные в миссию отцом-настоятелем, были давно знакомы. Молодые, крепкие, послушные, они нравились Юлиану. Нравилась их почтительность и жертвенная готовность следовать каждому его слову. Да иначе и быть не могло. Удел младших — беспрекословное повиновение. Вся страшная власть католической церкви на время путешествия сосредоточивалась для них в Юлиане, старшем брате-проповеднике, посвященном в тайны ордена. Но будет ли послушен Герард?..
Рыжебородый монах, будто догадавшись о беспокойных мыслях Юлиана, криво усмехнулся, но тут же склонил голову в смиренном поклоне, как младший перед старшим. Юлиан удовлетворенно вздохнул. Кажется, его опасения напрасны. К тому же Герард может быть полезным. Дополнительное поручение легата потребует много усилий, пусть этим занимается Герард. Он же, Юлиан, по-прежнему хотел бы думать лишь о главном — о поисках Великой Венгрии. Итак, в путь! В путь!
3
Дорога медленно катилась под копыта коней, бесконечная и однообразная. Привычно перебирая руками поводья, Юлиан равнодушно поглядывал по сторонам. Весеннее многоцветное буйство природы не трогало его душу. Мысленно он был уже далеко, за морем, где по бескрайним степям проносятся дикие наездники, где находится самый край известного европейцам мира.
Рядом покачивался в седле брат Герард. Доверенный человек легата оказался на удивление немногословным. Молчал часами, на вопросы отвечал коротко, неохотно. Порой Юлиан даже забывал, что он рядом. Иоанн и Яков держались поодаль, не столько из почтительности к старшим братьям, сколько из желания поболтать на свободе. До Юлиана доносились их оживленные голоса и смех.
Реку Дунай монахи переплыли на плоту. Охранная грамота короля Белы открыла им границу Болгарского царства. Как вехи на пути, оставались позади многолюдные болгарские города: Ниш, Средец, Филиппополь.
Болгарский гарнизон стоял и в городе Адрианополе, недавно принадлежавшем Латинской империи.[22] Воинственный царь Болгарии Иван II Асень непрерывно теснил крестоносное воинство, и владения нынешнего императора, престарелого «иерусалимского короля без королевства» Иоанна де Бриеня сузились на западе до неширокой полосы пригородных земель под стенами Константинополя. А с востока, из Малой Азии, наступал на латынян правитель Никейской империи[23] Иоанн Ватац, которого римский папа объявил «врагом бога и церкви». Весной 1235 года Иоанн Ватац с большим войском переправился через Геллеспонт, после непродолжительной осады захватил город Галлиполи, принадлежавший союзникам латинского императора — венецианцам, и угрожал столице империи. Трудные времена наступили для Латинской империи, любимого детища римского папы. Рыцари-крестоносцы метались в каменном кольце константинопольских стен, как волки в облаве. Никому не было дела до доминиканской миссии, непонятно для чего пробиравшейся на опасный Восток. Императорские чиновники отмахивались от Юлиана, как от надоедливой мухи. Даже серебряные монеты не помогали. Серебро мздоимцы брали, но своих обещаний не выполняли. Юлиан приходил в отчаяние. Константинополь, который считался мостом из Европы в Азию, оказался тупиком.
Монахи уныло бродили у константинопольской гавани, заставленной полуразрушенными кораблями: с обвисшими снастями, поломанными реями, рассохшимися бортами. По загаженным палубам кораблей бегали большие крысы. Выбитые оконца кормовых кают были затянуты паутиной. Везде мерзость, запустение…
Избавление пришло неожиданно. К гранитной пристани причалила венецианская галера — нарядная, ярко расцвеченная флагами. По доскам, переброшенным на пристань, сошли рослые воины с алебардами, в блестящих доспехах.
Юлиан, расталкивая любопытных (толпа на пристани собралась немалая, редко приплывали теперь корабли в Константинополь!), кинулся к трапу. Умоляюще простирая руки, крикнул бритому капитану, равнодушно взиравшему с борта на береговую суету:
— Именем господа! Важное дело!
Капитан помедлил, но все же приказал матросам, стоявшим у трапа, пропустить монаха на корабль — видно, заметил серебряный крест брата-проповедника, который Юлиан предусмотрительно достал из-за пазухи.
Сговорились быстро. Принадлежность Юлиана к влиятельному Доминиканскому ордену и охранная грамота венгерского короля подтверждали законность его просьбы, а серебряные монеты, щедро высыпанные заждавшимся Юлианом на стол в капитанской каюте, с лихвой возмещали возможные расходы.
Вечером Юлиан и его спутники были уже на корабле.
Тридцать три раза поднималось солнце из зеленых волн Понта[24] и тридцать три раза скрывалось за горизонтом, пока венецианская галера плыла от Константинополя до скалистых берегов Сихии, земли черкесов. Мерно скрипели уключины длинных весел, глухо стучал барабан, то ускоряя, то замедляя их бесконечные взмахи. Лениво плескался на корме венецианский флаг.
Галера плыла на восток вдоль малоазиатского берега: немногие кормчие отваживались тогда пересекать Понт напрямик, опасаясь плавания в открытом море. Если бывали сильные ветры, галера отстаивалась в спокойных гаванях, которых было много на побережье. Местные жители привозили чистую ключевую воду и мясо. Купцы, томившиеся от путевого безделья, торговали по мелочам, не для корысти, только чтобы не отвыкнуть от торговли.
Юлиан пробовал расспрашивать попутчиков о восточных странах, но те отговаривались незнанием. Может, так оно и было в действительности. Галера плыла из Венеции, многие купцы впервые отправились в земли, лежащие за Понтом.
Неподалеку от Боспора Киммерийского[25] встретилась другая венецианская галера. Корабли долго стояли рядом, покачиваясь на коротких злых волнах. О чем кричали люди с чужой галеры, Юлиан не разобрал: он плохо знал по-венециански, да и ветер относил слова. Но известия, как видно, были нехорошими. Купцы заперлись в кормовой каюте, пили вино и о чем-то долго спорили. А вечером Лучас, приказчик достопочтенного Фомы Пизанского, расхаживал, пошатываясь, по палубе и угощал матросов дорогим критским вином. Бормотал, расплескивая из кубка пенящуюся благодать: «Пейте, пейте! Все равно пропадет!»
О подлинной причине купеческого беспокойства Юлиан узнал только в Матрике, городе с глиняными домами и множеством церквей старой греческой веры, куда галера приплыла в начале июня. Летний торг в Матрике, который славился большими оборотами, оказался на удивленье малолюдным и бедным. Не было товаров ни из Волжской Булгарии, ни из богатого Хорезма. Доминиканцы не смогли даже купить коней, чтобы продолжить путь. Местные торговцы — бородатые, с бритыми головами, — сокрушенно разводили руками:
— Всегда было много коней, куманы[26] пригоняли на торг тысячные табуны, а теперь на торгу пусто. Говорят, какие-то новые орды появились в степях, нарушили торговлю…
Это было первое известие о грозных завоевателях, и Юлиан жадно расспрашивал матриканцев, пытаясь узнать о них побольше. Предостерегающие слова легата — «На христианский мир надвигаются дикие племена монголов!» — подстегивали его любопытство.
Но в Матрике мало знали о завоевателях. С трудом Юлиан разыскал русского священника, о котором шла молва, что он будто бы знает больше других. Священник действительно рассказал Юлиану о большом сражении с монголами, которых по русскому обыкновению называл татарами, двенадцать лет назад, возле степной речки Калки,[27] но сам он там не был, с очевидцами не разговаривал и мог передать лишь то, что записано в историческом сочинении русских книжников, называемом летописью:
— По грехам нашим пришли языци незнаемые, — на память воспроизводил священник летописный текст, — пришла неслыханная рать, безбожные моавитяне, рекомые татарами. Никто толком не знает, кто они суть и откуда пришли, и какой язык у них, и какого они племени, и какая вера. Одни называют их татарами, другие — тоурменами, а третьи — печенегами. Утверждают также, что татары вышли из пустыни Етривской, которая лежит между востоком и севером. Один бог ведает подлинные вести о них…
Русский священник оказался человеком влиятельным, и через него Юлиан познакомился с полезными людьми. В Матрике жило много христиан, признававших греческое писание и греческую веру. Даже правитель города, которого по положению можно было бы назвать королем, тоже считался христианином, хотя образа жизни придерживался совсем не христианского. По слухам, у него было сто жен! Матриканские христиане по внешнему виду не отличались от язычников. Все мужчины брили наголо головы и тщательно растили бороды, достигавшие большой длины; лишь знатные люди оставляли над левым ухом немного волос, выбривая всю остальную голову. Лысый Герард почти не отличался видом от местных простолюдинов и пользовался этим, чтобы собирать слухи на торговой площади и на пристанях.
Пятьдесят дней продолжалось матриканское сиденье Юлиана и его спутников. Будущее казалось безнадежным: никто не соглашался идти с монахами в близлежащую Аланию, а без надежного проводника отправляться в дорогу было неблагоразумно.
Наконец счастливый случай свел Юлиана с одной из жен местного правителя, которую жители почитали больше остальных за ум и доброту. При ее содействии Юлиан нашел лошадей и все необходимое.
21 августа Юлиан, Герард, Иоанн и Яков покинули Матрику.
4
Небольшой караван из пяти всадников и двух вьючных лошадей двигался вдоль высокого правого берега реки Кубани. Матриканский христианин, согласившийся быть проводником, посоветовал именно эту дорогу. Он пояснил, что левый берег низкий, часто заливается водами реки, и в затопленных местах на много дней пути тянутся непреодолимые плавни — гнилые болота, заросшие тростником, камышом и рогозом. А на правом берегу расстилалась ровная степь, которая почти незаметно для человеческого глаза поднималась к востоку. Как застывшие морские волны, степь уходила к горизонту, сливаясь вдали с голубовато-серым невысоким небом.
Знойный воздух был наполнен стрекотом бесчисленных кузнечиков, которые умолкали лишь ненадолго, в предрассветные часы, но и тогда оглушенным путникам продолжало чудиться их непереносимое звенящее пение.
Порой мертвая неподвижность воздуха сменялась порывами ветра, горячего, как дыхание пожара. Пересохшая степная трава звенела, будто выкованная из меди. Пыльное облако закрывало солнце, и оно казалось мутным кроваво-красным диском. Путники страдали от зноя и жажды. Приближавшаяся осень давала о себе знать только утренними молочно-белыми туманами, которые неторопливо ползли над выстывшей за ночь землей.
Степь была унылой и безлюдной. Только степные орлы неторопливо кружили в немыслимой высоте, да табуны диких коней — тарпанов — уносились прочь в клубах пыли. Неподвижными столбиками торчали на курганах суслики. Каменные изваяния неведомых людей, сложившие руки на огромных животах, пялились пустыми глазницами. На прогретых солнцем проплешинах дремали, свернувшись кольцом, степные гадюки.
То там, то здесь в земле чернели глубокие дыры, будто проткнутые палкой, — норы страшных пауков-тарантулов, которые достигали размера большой серебряной монеты. Юлиан невольно придерживал коня, когда поблизости пробегала эта опасная нечисть. Буро-коричневое тело тарантула было покрыто седыми волосами, сильные ноги позволяли быстро передвигаться и даже прыгать. Неподвижный тарантул был почти незаметен среди травяного мусора и комочков пересохшей земли, и Юлиан, прежде чем сойти с коня, колотил вокруг длинным посохом — отгонял пауков.
Матриканец же относился к тарантулам с удивительным равнодушием, ходил по траве в одних шерстяных носках. На монахов, которые вздрагивали и испуганно крестились при виде перебегавших от норы к норе тарантулов, он смотрел насмешливо и снисходительно, как на боязливых детей. Юлиану он говорил, что при соблюдении некоторых осторожностей пауки вовсе не опасны. Они как огня боятся овец, пожирающих тарантулов без всякого вреда для себя. Поэтому носки из овечьей шерсти надежно защищают ноги, а если ночью ложиться на овчину, то можно спать спокойно. К тому же укус тарантула не смертелен. У укушенного человека два-три дня ломит суставы, как при сильной простуде, а потом все проходит…
Юлиан с сомнением покачивал головой, слушая успокоительные речи матриканца.
На тринадцатый день пути караван добрался до изгиба реки Кубани, истоки которой были далеко на юге, на больших горах. Кубань была горной рекой, хотя и протекала большей частью по равнине, ее питали вечные снега, лежавшие на вершинах Кавказа. Поэтому самая большая вода проходила не весной, как в равнинных реках, а в июле и в августе, когда таяли ледники. Мутный быстрый поток ударялся в высокий правый берег, закручивался пенными водоворотами, глухо рокотал. С грохотом обрушивались в воду подмытые глыбы земли. От реки веяло ледяной стужей: вода была холодной, несмотря на жаркое время года.
Возле границы Алании матриканец настоял, чтобы путники укрылись в степной балке и дождались следующего утра. «Завтра воскресенье, завтра можно ехать дальше!» — упрямо повторял он, отказываясь покинуть укромное место.
Смысл сказанного Юлиан понял позднее, когда они были уже в Алании, обширной стране, где жили вместе христиане и язычники. Сколько в Алании было селений, столько оказалось и вождей, и ни один из них не желал подчиняться другому. Поэтому в Алании постоянно шла внутренняя война. Даже во время пахоты люди выходили из селения все вместе и вооруженными; не выпускали из рук оружия аланы и во время жатвы. А если возникала необходимость покинуть селение для добычи леса, то мужчины выступали как в военный поход, множеством людей и при оружии. Так продолжалось всю неделю, и только в воскресенье, с утра до вечера, война прекращалась. Аланы настолько почитали воскресный день, что любой человек, как бы много зла он ни сделал и сколько бы врагов ни имел, мог безопасно ходить по дорогам и даже заходить в селения, где жили родственники убитых им людей.
Аланы жили в домах, обнесенных высокими стенами. Все окна жилища выходили во двор, на открытую террасу, так что прохожие не могли видеть, что происходит внутри. Многие семьи, кроме домов, имели каменные башни, чтобы укрываться от врагов. В просторное нижнее помещение башни загоняли на ночь скот, на втором этаже жили сами, а еще выше было особое помещение с узкими окнами-бойницами, сквозь которые можно было метать стрелы.
Страна аланов представляла собой возвышенность, расчлененную глубокими речными долинами и балками на продолговатые гряды. Кое-где над равниной огромными круглыми шапками поднимались горные вершины, поросшие темным лесом. Дорога вилась между ними, пересекала засеянные поля и виноградники, которых в Алании было много. Богатой и хорошо возделанной страной оказалась Алания, о которой европейцы думали, как о диком крае.
Соблюдая местные обычаи, Юлиан и его спутники совершали переходы только по воскресеньям, а в будни отдыхали в домах гостеприимных аланов. Аланы почитали гостей как своих близких родственников, кормили и снабжали всем необходимым в пути. Иоанн и Яков отяжелели от сытой жизни, обленились. Юлиану пришлось настоять на соблюдении постных дней, хотя по уставу ордена братьев-проповедников освобождали на время пути от этой христианской обязанности. Он строго наставлял младших братьев, что излишества в еде ослабляют рвение. Иоанн и Яков смиренно выслушивали упреки, но по всему было видно, что сытное и необременительное житье им по душе.
Самого Юлиана длительные остановки огорчали, но ничего поделать было нельзя. Аланы удерживали у себя гостей до следующего воскресного дня чуть ли не силой, считая ущерб, который те могут понести, отправившись в путь в опасные будничные дни, позором для себя. Поэтому Юлиан даже обрадовался, когда миссия прошла наконец благоустроенную Аланию и углубилась в пустыню, которая примыкала к аланским землям с северо-востока и простиралась до самой реки Итиль.
Недовольные спешкой Иоанн и Яков покорно тряслись в седлах рядом со старшими братьями. Пропыленная равнина, покрытая редкими кустами черной и белой полыни, полувысохшего ромашника, тысячелистника, одинокими пучками ковыля, колючим бодяком, с глинистыми проплешинами и серовато-серебристыми разводами соли, действительно угнетала взгляд скудостью и однообразием.
Кое-где встречались вздыбленные ветром, оголенные песчаные буруны, которые местные жители называли кучугурами. Земля в руслах пересохших речек потрескалась и спеклась под неистовым солнцем, как черный камень. Шустрые ящерицы сновали в шуршащей сухой траве. Из колючих зарослей с шумом вылетали стрепеты и, сверкнув на солнце посеребренными крыльями, камнем падали за буруны. Большие птицы с длинными ногами — дрофы — неподвижно стояли на возвышенностях, настороженно вытягивая шеи; при приближении всадников они убегали с удивительной быстротой, изредка взмывая в воздух, пролетали над землей небольшое расстояние и снова опускались в траву.
Пустыня постепенно понижалась к северо-востоку, где лежало единственное в этих местах большое озеро Маныч-Гудило. Солоноватая вода свинцово-неподвижно застыла в низких берегах. К осени озеро будто сжималось, обнажая горько-соленую грязь. Обсыхая на солнце, кристаллики соли начинали искриться, и озеро казалось заключенным в сверкающий нимб. Только северный берег был высоким, крутым, изрезанным многочисленными трещинами. Когда ветер гнал к нему волны, озеро начинало гудеть, как отдаленный колокольный звон, неясно и тревожно. Не потому ли местные жители называли его Гудило?
Иоанн и Яков вздыхали, поглядывая на скучную пустыню, на неяркое пыльное небо, по которому неторопливо плыло остывающее осеннее солнце. Ночные ветры ужо приносили дыхание холода. А впереди был немыслимо далекий путь в неизвестное. Неспокоен был и Юлиан. Но он знал то, о чем не подозревали его спутники. По рассказам аланов, где-то на краю пустыни, неподалеку от устья реки Итиль, был город под названием Торчикан. В этот город часто приезжали купцы из восточных стран. Юлиан надеялся найти там попутчиков для продолжения пути или крышу над головой и пищу, если придется зимовать.
5
Город Торчикан походил издали на горсть глиняных кубиков, рассыпанных сказочным великаном по желто-бурой равнине. Приземистые дома с плоскими крышами то вытягивались в улицы, то кучками теснились друг к другу, а между ними стояли войлочные юрты, которых было даже больше, чем домов. По пыльным улицам, как по степным шляхам, медленно текли отары овец. С глухим топотом проносились табуны низкорослых лохматых коней. Хриплые вопли верблюдов, мычание волов, резкие скрипы тележных колес почти совершенно заглушали городские шумы — перестуки молотков в мастерских ремесленников и разноголосый гомон торга.
Казалось, два разных мира сошлись в Торчикане — домовитая оседлость и кочевая стихия, которая то захлестывала город, то уползала обратно в степи, как морская волна от песчаного берега.
Такими были все города в степях. Постоянно в них жили только немногочисленные торговцы и ремесленники, а скотоводы-кочевники уходили со стадами на летние пастбища и возвращались в город с наступлением холодов.
Сейчас, на исходе осени, кочевники возвращались в Торчикан. Юлиан и его спутники затерялись в толпах разноязыких, бряцающих оружием, свирепых обликом людей, которые двигались к городу без дорог, прямо по степной целине, будто вражеское войско во время нашествия. Никто не обращал на монахов внимания, никто не поинтересовался, кто они и откуда. Торчикан был открыт для всех людей без различия. И одинаково равнодушен ко всем приходившим в него. Не сами по себе люди почитались в Торчикане, а принадлежавшие им стада, серебро или товары, обладание которыми поднимало немногих избранных над бесчисленными толпами черни. Или верные сабли наемных и родовых дружин, которые ценились даже больше, чем богатство. Силу в степном, лишенном твердых законов мире уважали превыше всего…
У Юлиана и его спутников не было ни богатства, ни силы. Охранная грамота короля Белы стоила здесь не дороже пергамента, на котором была написана. Хозяева домов презрительно оглядывали изможденных, оборванных монахов и ленивым взмахом руки отсылали их прочь.
С большим трудом Юлиану удалось найти временное пристанище у грека Никифора, который заинтересовался его рассказами о своей далекой родине. Юлиан, как мог, старался удовлетворить любопытство беглого грека и тем добился его расположения.
Никогда еще Юлиан не был таким красноречивым — нужда заставила! Говорил и о том, что видел в Византии, и о том, что не видел, лишь бы не ослабевало внимание к его рассказам.
Никифор сокрушенно качал головой, слушая невеселое повествование о запустении византийских земель, о мертвых кораблях в гавани Боспора, о грабежах на константинопольских улицах, обзывал нехорошими словами рыцарей-крестоносцев, которые оказались много злее извечных врагов христианского мира — сарацин.[28]
Юлиан выдавал себя за простого подданного венгерского короля, умалчивая об истинной цели миссии, а потому вынужден был сочувственно выслушивать проклятия Никифора, оскорбительные для апостольского престола. И Герард тоже согласно кивал головой, когда разгорячившийся Никифор обзывал крестоносное воинство стаей бешеных собак. «Бог покарает святотатца!» — утешался Юлиан, вежливо поддакивая хозяину. Выбора у монахов не было: или ночевать на земле под стеной караван-сарая, как в первые дни пребывания в Торчикане, или со смирением выслушивать богохульные речи. Ведь приближалась зима…
Однако поначалу, пока в кисете Юлиана оставались серебряные монеты, житье в доме грека Никифора все-таки было сносным. Монахи отдохнули после трудного пути по пустыне. Но разве только ради того, чтобы обрести крышу над головой и нещедрое пропитание, забрались они в такую даль? Торчикан мыслился лишь вехой на великом пути…
Юлиан целыми днями бродил по торговой площади, подолгу сидел в караван-сарае, где собирались приезжие купцы, застигнутые зимой в Торчикане, заводил осторожные разговоры с вожаками караванов. Юлиан всюду искал людей, которые согласились бы идти вместе с ним за реку Итиль. Но все усилия оказались тщетными. Спутников не находилось. Страх перед татарами, которые, по слухам, были уже близко, удерживал в Торчикане даже алчных до наживы купцов. Собственная голова — слишком дорогая плата за призрачное богатство. Да и обретешь ли богатство там, в степях за рекой Итиль, где в снежных буранах мечутся страшные косоглазые всадники татарского хана?
Так объяснил Юлиану персидский купец, неизвестно какими ветрами занесенный в Торчикан. Другие купцы поддакивали ему, качая бородами. Отправляться в путь опасно, лучше выждать. Терпеливого ждет впереди удача, а нетерпеливый сам бросается в пропасть. Надо ждать весны…
Однако торчиканское скучное сидение было не совсем бесполезным. В городе оказалось немало людей, которые или сами встречались с татарами, или слышали о них от очевидцев. Юлиан по крупицам собирал слухи о завоевателях, и из этих крупиц постепенно складывалось знание.
…Большие события произошли за последние десятилетия в глубинах Азии. Монголы, которых также называли татарами, объединились в могучее государство и, предводительствуемые великим кааном Чингисом, обрушились на соседние народы. Сначала монгольское войско пошло на восток и, разорив провинции Северного Китая, достигло берегов Великого океана.[29] Затем конные орды монголов устремились на юго-запад, разграбили богатые города Хорезма и Персии и угрожали самой Индии, сказочной стране алмазов. Страшен был натиск монголов, в прах рассыпались великие царства, исчезали с лица земли многолюдные поселения, на месте плодородных полей вырастали дикие травы, и только заунывные песни монгольских табунщиков нарушали мертвое молчание. Почти вся Азия оказалась под пятой завоевателей. А ныне каан Угедей, ставший после смерти Чингиса предводителем монголов, готовится к походу на запад и мечтает дойти до самого Моря Франков…[30]
Движение завоевателей на запад уже началось. Юлиан узнал, что первые отряды монголов появились возле Хвалынского моря[31] шесть лет назад. Конные тумены[32] молодого Батухана, предводителя улуса Джучи,[33] внезапно перешли реку Яик, разгромили стоявшие там булгарские сторожевые заставы и железным гребнем прочесали степи до самой реки Итиль. Местные жители — половцы и саксины[34] — частью покорились завоевателям, частью откочевали в соседние страны. Пенистая волна нашествия докатилась до Волжской Булгарии и разбилась об укрепленные линии, которые булгары спешно возвели на границе леса и степи. Несколько месяцев продолжались сражения на земляных валах и частоколах из заостренных дубовых стволов, а потом война сама собой затихла. Монгольские кочевья уползли куда-то в степи, и только немногочисленные конные отряды завоевателей появляются время от времени возле Алании, устрашая караванщиков и жителей пограничных земель. Однако, по слухам, из глубин Азии уже подходят новые орды, скапливаются в степях между Яиком и Итилем, как дождевая вода в резервуаре, чтобы выплеснуться новым опустошительным нашествием. Когда это произойдет — можно только гадать…
Люди в Торчикане не знали, что недавно великий каан Угедей собрал подвластных ему ханов на большой совет — курултай и что на курултае было принято решение завладеть странами Булгара, Алании и Руси, которые находились по соседству со становищами Батухана, не были еще покорены и гордились своей многочисленностью. Для участия в походе был срочно вызван из Китая прославленный полководец Субудай, которого монголы прозвали одним из четырех свирепых псов Чингисхана. Огромное войско двинулось на запад, и вели его высокородные ханы Гуюк, Менгу, Кадан, Кулькан, Монкэ, Байдар, Тангут, Бучек, Шибан, Бури и другие, а всего ханов было четырнадцать. Задрожала земля под ударами миллионов копыт, дикие звери в страхе разбегались от звона оружия и конского ржания, пыль заволакивала небо, как во время черной бури.
Тревожными, угрожающими были слухи о монголах, и Юлиан чувствовал себя воином сторожевой заставы, выдвинутой далеко вперед, к самому неприятельскому лагерю.
Монголы казались Юлиану огромной стаей прожорливой саранчи, которая со зловещим шелестом ползет по зеленому лугу, оставляя позади себя черную, безжизненную землю. Ночами Юлиану снилось, что он убегает прочь, задыхаясь и путаясь ногами в цепкой траве, а зловещий шелест позади все ближе, ближе…
Юлиан просыпался в холодном поту, подолгу лежал в темноте с открытыми глазами, прислушиваясь к вою степного ветра, и ему чудились неясный топот, лязг железа, стоны и свист. Жуткие сновидения повторялись с удручающим постоянством.
Даже невозмутимый Герард забеспокоился, изменяя своему обычному немногословию, стал делиться с Юлианом слухами о монголах, которые удавалось добыть во время скитаний по улицам Торчикана. Оба старших брата сходились на том, что подлинные вести о завоевателях можно найти только у единокровных венгров, проживавших у самого края монгольских владений, и что нужно идти дальше на восток. Однако до весны было еще далеко…
Как-то сразу, с леденящими северными ветрами, нагрянула зима. Степи вокруг Торчикана побелели, только курганы черными могильниками торчали среди снежной равнины. Жутко выли по ночам волки. Злые ветры бились в саманные стены домов, стучали обледеневшими пологами юрт. Колючий снег — пополам с песком — больно сек лицо, бурыми сугробами ложился поперек улицы. Дни тянулись немыслимо медленно, будто окоченели от стужи, как неподвижная отара прижавшихся друг к другу овец. От холода не было спасения: ветер задувал в оконные щели, шевелил солому на полу.
Скоро к мукам холода прибавились муки голода — королевское серебро подошло к концу. Грек Никифор стал ворчливым, сердитым. Заводил скучные разговоры о скудости запасов: «Самому бы только до весны дотянуть, хлеб-то в Торчикане дорог…»
Юлиан отмалчивался, будто не понимал намеков хозяина. Обижаться было бессмысленно. Кто они Никифору — родичи, компаньоны в торговле, старинные друзья? Так нет же, чужие люди… Нужно самим искать пропитание…
Кое-как кормились.
Герард целыми днями сидел, согнувшись, у тусклого оконца, вырезал из дерева ложки. Юлиан ходил с ложками на торговую площадь, приносил взамен немного проса. Младшие братья Иоанн и Яков, закутанные в тряпье, собирали на улицах сухой навоз для очага. За топливо Никифор иногда тоже давал чашку проса или бараньи потроха. Впереди были длинные месяцы зимы. Как жить?
Монахи оголодались до того, что Юлиан решил продать Иоанна и Якова в рабство сарацинским купцам. Герард одобрил это намерение, присовокупив, что жертва младших братьев будет угодна богу, ибо приносится ради святого дела, а страдания Иоанна и Якова в земной жизни обернутся вечным блаженством на небе…
Однако сделка не состоялась, несмотря на все старания Юлиана и весьма недорогую цену, которую он просил за младших братьев. Сарацинские купцы ждали весны, когда снова может разгореться война и рабы станут совсем дешевыми. К тому же Иоанн и Яков совсем ослабли от голода и едва держались на ногах. Они не умели ни пахать землю, ни ухаживать за скотом, а иное не ценилось в Алании. Кому такие нужны? Неудивительно, что покупателей не нашлось.
Тогда по праву старшего Юлиан велел младшим братьям возвращаться обратно в Венгрию. Иоанн и Яков смиренно склонили головы, прошептали бескровными губами: «Да будет на все воля божья…» Постояли у порога, будто надеялись, что Юлиан передумает, оставит хотя бы на один день у желанного очага, в котором весело потрескивал огонь, и, не дождавшись сочувственного слова, тихо вышли, дрожащие и бесплотные, как тени. Больше Юлиан о них ничего не слышал.
Двоим прокормиться было легче, чем четверым, к тому же Герард достиг в своем ремесле немалого искусства и вырезанные им деревянные ложки расходились на торгу бойко. В иные дни монахам даже удавалось отложить кое-что из пищи про запас. Небольшие хлебцы, испеченные в золе, они сушили и складывали в деревянный короб. Если в какой-нибудь день не удавалось добыть пищи, монахи голодали, но хлебцы не трогали. В этих хлебцах заключалась надежда на продолжение пути.
Юлиан и Герард считали дни до весны, когда снова можно будет отправиться в путешествие, вспоминали благодатную венгерскую землю, уютные кельи доминиканского монастыря, вкусную еду в братской трапезной. Какой щедрой была тогда жизнь и каким жалким казалось нынешнее полуголодное существование!
Прислушиваясь к вою ветра за окнами, монахи перебрасывались незначительными словами, а больше молчали, думали каждый о своем.
О чем думал Герард, Юлиан не знал, да и собственные мысли навряд ли смог бы потом припомнить — туманными они были, непонятными. Одно неотступно занимало голову: «Дойти до Великой Венгрии… Только бы дойти…»
6
Весна в степях проходит скоротечно, с обилием ясных солнечных дней. В середине марта снег почти везде сошел, только в низинах еще белели сугробы, из-под которых струилась мутная вода.
С первым же попутным караваном Юлиан и Герард покинули опостылевший Торчикан.
Караванщики взяли с собой монахов неохотно, смотрели на них презрительно, как на прах земной. Ни товаров у них не было, ни лошадей, ни серебра, чтобы заплатить за место в повозке. Одним не обделены были Юлиан и Герард — смирением, уважительностью, готовностью услужить. Только за это и не прогоняли их прочь караванщики, позволяли идти рядом с телегами, а иногда даже кормили вареной бараниной, если в котле после общей трапезы оставался лишний кусок.
Своей провизии у монахов было совсем мало, всего двадцать два хлебца, таких маленьких, что их можно было бы съесть за пять дней, а путь предстоял долгий. Хорошо хоть воды в степи по весеннему времени оказалось в изобилии.
Герард совсем обессилел, едва плелся, держась рукой за телегу, а ночами стонал, скрипел от боли зубами, просил Юлиана бросить его как бесполезную обузу. Юлиан сам видел, что от Герарда мало пользы, но остаться совсем одиноким в чужой стране боялся. Он поил Герарда горячим настоем из степных трав, успокаивал: «Вместе страдали в пути, вместе обрящем спасение! Недолго осталось идти. Впереди обильные земли…»
Беда никогда не приходит в одиночку. Как-то вечером, пересчитывая оставшиеся хлебцы, Юлиан нечаянно выронил из сумы королевскую грамоту. В неверном отсвете костра блеснула большая позолоченная печать. За спиной зашуршала трава. Юлиан испуганно оглянулся. В темноту упячивался безбородый караванщик, постоянно изводивший монахов насмешками.
Недобрый человек! Недобрый!
Юлиана охватило предчувствие несчастья, и не напрасно.
Перед рассветом караванщики набросились на монахов, скрутили руки, принялись рыться в суме, общупывать жесткими пальцами одежду: искали спрятанное золото. Не обнаружив ничего ценного, избили монахов и бросили одних в степи. Королевскую грамоту с оторванной печатью так затоптали в землю, что Юлиан потом с трудом отмыл пергамент от желтой грязи.
Отлежавшись и перевязав тряпицами раны, Юлиан и Герард побрели дальше — одни среди необозримой равнины, покрытой свежей весенней зеленью.
Тихие безветренные дни перемежались суховеями, которые приносили жаркое дыхание азиатской пустыни. Трава от зноя желтела буквально на глазах, высыхала и становилась колючей и ломкой. Только в низинах, где весной стояли талые воды, еще оставались зеленые лужайки. Питьевую воду приходилось добывать из редких колодцев, и вода эта была соленой, невкусной.
Через тридцать семь дней, окончательно обессиленные голодом и зноем, Юлиан и Герард добрались до страны сарацинов, которую местные жители называли Вела.[35] В пограничном городе Бунде они не нашли пристанища ввиду крайнего недружелюбия жителей и вынуждены были ночевать в поле, в брошенном кем-то шалаше из дырявых шкур; сквозь дыры без труда в шалаш проникали и палящие лучи солнца, и дождевые струи.
Днем Юлиан оставлял больного спутника в шалаше, на подстилке из травы, а сам отправлялся в город просить милостыню. Горожане подавали мало, неохотно. Но все же монахи немного окрепли, и даже Герард смог продолжать путь.
В другом городе монахов пустил в свой дом некий сарацин, имевший торговые дела в Алании. За гостеприимство снова пришлось расплачиваться рассказами.
А брату Герарду стало совсем плохо. Он метался в горячке, бредил. Перс-лекарь, потискав больного крючковатыми пальцами, покачал головой:
— Долго не проживет…
Так и вышло. Брат Герард отдал душу богу, а бренное тело его Юлиан похоронил в степи, за городской стеной, выложил на могильном холмике крест из камней. Теперь он остался совсем один.
На торговой площади Юлиан случайно узнал, что один сарацинский священник будто бы собирается ехать по своим делам в Волжскую Булгарию. Может, здесь ждет удача?
Сарацин долго расспрашивал Юлиана, кто он и откуда, и неожиданно предложил взять его в слуги. Юлиан с радостью согласился. О лучшем он не мог и мечтать: слугу полагалось кормить и даже платить ему сколько-нибудь.
Сарацинский священник оказался человеком не злым, только больно уж досаждал Юлиану насмешками. Колыхаясь великим чревом, начинал издеваться:
— Нет в городе человека беднее тебя. Неужели твой бог так жаден, что не захотел наделить тебя хотя бы малым? Разве ты виноват в чем-нибудь перед своим богом?
Приходилось терпеть. Голод он вытерпел, холод вытерпел, зной вытерпел — вытерпит и насмешки, чтобы приблизиться к великой цели. Юлиан усердно чистил волосяной щеткой халаты, которых у сарацина оказалось великое множество, мазал бараньим жиром сапоги с загнутыми вверх острыми носами, выбивал пыль из ковров — старался.
Старанье Юлиана было вознаграждено. Сарацин взял слугу вместе с собой в Великую Булгарию. Старых слуг оставил дома, а его, Юлиана, взял!
И снова путь по диким степям, безлюдью, пыльному зною.
Небольшой караван двигался неторопливо, но без остановок, от света до света. Тихо поскрипывали телеги, шуршала под колесами сухая трава. Зловещие здесь были места. На земле белели лошадиные кости. Страшно скатились черепа с пробитыми лбами. Везде валялись ржавые обломки оружия — следы недавней большой войны.
Юлиан настороженно оглядывался по сторонам. Но сарацинский священник был на удивленье веселым и беззаботным, как будто опасность от монгольских разъездов ему не угрожала.
Монголы действительно не причинили каравану никакого вреда. Несколько раз всадники на маленьких лохматых лошадках бросались на караван с воинственными криками, с устрашающим воем и свистом, но сарацинский священник вытаскивал из-за пазухи небольшую медную дощечку с непонятными письменами, и монголы расступались, пропускали телеги.
Позже Юлиан узнал, что эта медная дощечка называлась «пайцза» и давала право безопасного проезда через монгольские владения. Существовали еще золотые и серебряные пайцзы, по давались они только знатным людям.
Юлиан с любопытством разглядывал плоские широкие лица монгольских воинов, их одежды из вывороченных мехом наружу звериных шкур, войлочные колпаки, из-под которых свисало множество туго заплетенных косичек, кривые сабли и луки за спиной. Кони у монголов были быстрые, выносливые, всадники крепко сидели в седлах и могли стрелять на скаку, так как не прикасались руками к уздечкам. Но хорошего оружия у монголов было немного, а железный панцирь Юлиан видел лишь однажды, да и то старый, побитый. Может, слухи о страшной силе монгольского войска преувеличены?
Однако по нескольким встречам с монгольской легковооруженной конницей судить о действительной силе завоевателей было трудно, а сарацинского священника Юлиан расспрашивать о монголах побоялся. Видимо, сарацин как-то связан с монгольскими начальниками, если имеет пайцзу…
20 мая караван достиг пределов Волжской Булгарии.
В большом булгарском городе, обнесенном валами и деревянными стенами, Юлиан расстался с сарацинским священником. Условленную плату сарацин не отдал, но на прощанье подарил слуге войлочную шапку и старый халат, так что Юлиан ничем не выделялся из местных жителей.
Булгарский город был многолюдным. Сами булгары утверждали, что из него могли бы выйти в случае необходимости пятьдесят тысяч воинов, но Юлиан усомнился в столь значительном числе, хотя людей в городе было действительно много. Под навесами сидели ремесленники, стучали молоточками по медным блюдам, плавили серебро и олово в каменных тиглях, крутили гончарные круги. На торговой площади с утра до вечера толпился разноязыкий люд. По улицам, звеня оружием, проходила городская стража, смотрела, все ли спокойно.
Но спокойствия не было. Горожане шептались о новом нашествии из степей. По всем дорогам тянулись к городу обозы с осадным запасом. Оружейники работали день и ночь. Кое-кто из купцов уже сворачивал торговлю, запирал лавки, закапывал в землю серебро. Внезапно поднялись цены на речные суда. Видно, самые предусмотрительные люди уже готовились к бегству.
Тревожно было в Булгарии летом 1236 года.
Юлиан бродил по улицам, смотрел, слушал. Достоверного о монголах здесь знали еще меньше, чем в степном Торчикане. Видимо, отгородившись валами и частоколами, булгары совсем забыли дорогу в степи. Желающих отправиться на восток, в землю венгров-язычников, не оказалось и здесь. Больше на запад тянулись люди из Булгарии, за широкую реку Итиль.
Терпение и усердие всегда вознаграждаются сторицей. После многодневных скитаний по городу Юлиан услышал в толпе венгерскую речь, кинулся, расталкивая людей руками.
Женщина в длинном широком платье, украшенном по подолу цветными лентами, в кожаной безрукавке, облегающей туловище, называла по-венгерски товары, разложенные на земле уличным торговцем, и тут же переводила смысл своих слов чернобородому тучному мужчине. Юлиан приветствовал женщину по-венгерски и, услышав ответное приветствие на родном языке, заплакал счастливыми слезами…
Оказывается, конец пути был совсем близко. Женщина-венгерка, которую выдали замуж за здешнего купца, поведала Юлиану, что Великая Венгрия находится всего за две дневки от города, возле реки Этиль,[36] и что там все люди говорят по-венгерски.
— Ты, без сомнения, найдешь своих сородичей и будешь хорошо принят ими, если ты действительно венгр и пришел с добрыми намерениями. Да будет твое путешествие благополучным!
7
Дорога в землю венгров-язычников заняла не два дня, как говорила женщина, а больше недели, потому что Юлиану не на что было купить или нанять коня, и он отправился пешком. Но это была легкая и приятная дорога, и не только из-за того, что конец пути казался совсем близким — очень уж благодатно было вокруг!
Дышали свежестью лиственные леса, в которых соседствовали благородные деревья: дуб, клен, липа. Густой зеленью радовали глаз просторные поляны. Быстрые прозрачные речки журчали на камнях, то умеряя свой бег в круглых покойных омутах, то снова устремляясь за перекатами навстречу утреннему солнцу, туда, где за лесами жадно вбирала их воды река Этиль.
Потом леса поредели, отступили к руслам рек и в низины, и на смену им пришла холмистая равнина, покрытая красочным ковром лугового разнотравья. Яркими зелеными островками лежали на равнине березовые и осиновые перелески-колки. Чистый сухой воздух, напоенный ароматом трав, кружил голову как старое монастырское вино.
А потом на возвышенных, прокаленных солнцем местах стали встречаться степные травы: красноватый ковыль, типчак, пустынный овсец. Здесь, у края степи, Юлиан нашел первое селение венгров-язычников — несколько деревянных домов с плоскими крышами в окружении круглых, покрытых бурым войлоком юрт. Навстречу Юлиану вышли невозмутимые, нарочито медлительные люди, отогнали лаявших на чужака собак.
Венгры-язычники были рослыми, смуглолицыми, с длинными черными волосами, свисавшими почти до плеч. Они одевались в туникообразные рубахи, в короткие безрукавки — камзулы, носили на ногах сапоги с мягкими кожаными головками и суконным голенищем, а на голове — войлочные шляпы. Оружия ни у кого по было, только короткие, витые из ремней плетки висели на поясе.
Высокий старик, отличавшийся от остальных венгров лишь нарядной суконной шапкой с опушкой из бобрового меха, спросил по-венгерски:
— Кто ты и зачем пришел к нам?
Выслушав торопливый ответ Юлиана, старик недоверчиво окинул взглядом старый халат, в который обрядил Юлиана жадный сарацин, и произнес строго:
— По преданиям древних мы знаем, что где-то есть другая Венгрия, куда ушли наши соплеменники, но не знаем, где она. Если ты пришел оттуда, будь нашим гостем и братом!
Юлиан достал из-за пазухи сбереженную королевскую грамоту, развернул пергаментный свиток и поднял над головой. Красные и черные буквы, тщательно вырисованные писцом королевской канцелярии, выглядели по-прежнему внушительно; остатки шелкового шнура, на котором раньше висела золоченая печать, как бы подтверждали подлинность документа.
И старейшина поверил, приветливо улыбнулся, пригласил Юлиана в дом. А может быть, и не грамоте поверил старик, но венгерской речи, столь редкой среди пришельцев из других земель…
Следующие несколько дней слились для Юлиана в непрерывную вереницу обильных пиров, чередование незнакомых лиц, расспросов, удивленных возгласов, почтительного внимания. Венгры-язычники водили Юлиана из дома в дом, из селения в селение, и всюду Юлиан находил благодарных слушателей, которые жадно внимали его рассказам о короле и королевстве, об обычаях и занятиях венгров-христиан.
Но когда схлынуло волнение встречи, Юлиан отметил и нечто огорчительное для него. Венгры-язычники равнодушно и даже насмешливо выслушивали его проповеди, как будто совсем не думали о спасении души. Венгры-язычники не были идолопоклонниками, но учение об истинном боге воспринимали как занимательную сказку, верить в которую не пристало взрослым мужчинам.
Вечерами, беспокойно ворочаясь под жаркими звериными шкурами, Юлиан обдумывал слова, которыми опишет венгров-язычников. Получалось не очень складно и не очень много. Можно написать, что венгры-язычники живут наподобие зверей, совсем не задумываясь о вере, и это будет правда. Они не возделывают земли, едят конское мясо, пьют лошадиную кровь и молоко. Они богаты конями и оружием и весьма воинственны. Что еще можно было бы прибавить, Юлиан не знал. Не писать же о шумных пиршествах и скачках на бешеных жеребцах, которые венгры-язычники устраивали в честь гостя?!
Надеяться на быстрое обращение венгров-язычников в христианскую веру было неразумно. Многие годы и многие труды братьев-проповедников потребуются для этого дела. Первоначальную цель миссии не удастся достигнуть. Но все же путешествие на реку Этиль не казалось Юлиану бесплодным. По соседству с селениями венгров кочевали монголы. Венгры раньше воевали с ними, выстояли во многих битвах, и монголы, отчаявшись победить на войне, избрали венгров своими друзьями и союзниками. У кого другого, как не у венгров-язычников, можно узнать подлинные вести о завоевателях?
И Юлиан усердно расспрашивал о монголах своих гостеприимных хозяев. Вот что удалось ему узнать о монгольском войске и о монгольских обычаях ведения войны:
«…Монголы стреляют из луков дальше, чем другие народы. При первом столкновении на войне стрелы у них не летят, а как бы ливнем льются. Однако мечами и копьями они сражаются менее искусно…
…Строй свой монголы строят таким образом, чтобы во главе десяти человек стоял один монгол, а над сотней один сотник. Это делается с хитрым расчетом, чтобы приходящие разведчики не могли укрыться среди монголов и чтобы люди, набранные в войско из разных народов, не могли совершить никакой измены…
…Во всех завоеванных странах монголы без промедления убивают князей и вельмож, которые внушают опасения, что когда-нибудь могут оказать сопротивление…
…Годных для битвы воинов и крестьян завоеванной страны они посылают, вооруживши, в бой впереди себя. Этим воинам, если даже они хорошо сражаются, благодарность невелика, если они погибают в бою, о них никто не жалеет, но если они отступают, то все безжалостно умерщвляются монголами…
…На укрепленные замки монголы не нападают, а сначала опустошают всю страну и грабят народ. Только потом они гонят захваченных пленных осаждать собственные крепости…»
О численности войска монгольского хана венгры-язычники не знали. Они говорили Юлиану, что воинов у хана бесчисленно много и что будто бы нет такой страны и такого народа, который устоял бы перед их натиском…
Юлиан с гордостью думал, что он — единственный из европейцев, сумевший хоть немного проникнуть в тайны степных завоевателей. Ничего не подозревающие народы Европы должны быть предупреждены о грозной опасности, и это сделает он, простой доминиканец Юлиан!
В том, чтобы донести до Европы сведения о завоевателях, видел теперь свое предназначение Юлиан. Он не имеет права подвергать себя опасностям дальнейшего путешествия, ведь если он заболеет и умрет, добытое знание погибнет вместе с ним…
И еще думал Юлиан, что не разъединять, а объединять все государства, лежащие на возможном пути нашествия, следовало бы теперь. Объединять независимо от вероисповедания и прошлых распрей. А потому сейчас опасно проповедовать католичество в земле венгров-язычников, рискуя вызвать настороженность и даже враждебность правителей Руси, желанной союзницы Венгрии в будущей войне с монголами. А что война надвигается, у Юлиана не было сомнений. Пора было возвращаться в Венгрию…
Как ни торопился Юлиан с отъездом, он все-таки решил задержаться, когда узнал о прибытии в землю венгров-язычников монгольского посла. Через старейшину селения он испросил аудиенцию и получил согласие.
К изумлению Юлиана, монгольский посол не походил на степняка ни обликом, ни обращением. Это был вежливый и образованный человек, он свободно говорил на венгерском, русском, куманском, тевтонском и сарацинском языках, поднимал золоченый кубок с вином изысканно, как истинный дворянин.
Мирно и неторопливо текла беседа, украшенная редкостными винами и вкусными яствами, и только свирепого вида телохранители с обнаженными саблями безмолвно напоминали Юлиану, что он сидит не в охотничьем шатре любезного и гостеприимного хозяина, а в становище посла монгольского хана.
Беседовали долго, но на другое утро, вспоминая речи посла, Юлиан не сумел найти в них ничего полезного для себя. Посол охотно разглагольствовал о разных диковинах: о чрезвычайно многочисленном и воинственном народе, который будто бы живет за страной монголов, отличается великим ростом и имеет такие большие головы, что они совсем несоразмерны с телом; о стране Сибирь, которая окружена Северным морем. Та страна обильна съестным, но зима там жесточайшая до такой степени, что птицы замерзают на лету, а из-за обилия снега никакие животные не могут ходить, кроме собак. Четыре большие собаки тащат сани, в которых может сидеть один человек с необходимой едой и одеждой…
Любезным и словоохотливым казался посол, но, когда Юлиан пробовал перевести разговор на монгольские дела, сразу замолкал. Сам же он то и дело задавал короткие, точные вопросы, и Юлиану стоило немалого труда уклониться от ответов. Юлиан с досадой думал, что смог выпытать у посла не больше, чем тот от него самого, а ведь он, Юлиан, нарочно старался не говорить ничего существенного!
И еще подумал Юлиан, вспоминая встречу с послом, что дикая необузданная сила завоевателей направляется холодным расчетливым разумом, и ему стало страшно…
8
Юлиан покинул гостеприимную землю этильских венгров 21 июня 1236 года.
День был пасмурный, хмурый. Ветер с реки швырял в глаза россыпи мелких секущих капель. Волны, шипя, наползали на песчаный берег, оставляя после себя клочья бурой пены. Юлиан кутался в длинный дорожный жилян из грубого сукна, подаренный на прощание жителями селения, и молча прислушивался к разговору старейшины с сарацинским купцом, хозяином большой ладьи. Старейшина строго наказывал купцу, чтобы тот доставил гостя до земли руссов бережно и безопасно. Пригрозил:
— Если с нашим гостем случится что-либо худое, мы узнаем и убьем тебя. Ты проезжаешь по реке каждое лето, куда тебе спрятаться от нашей мести?
Купец униженно кланялся, клялся без обмана исполнить порученное…
Плавание по рекам Белой и Каме, а затем вверх по Волге продолжалось около месяца, и все это время купец держался с боязливой почтительностью, присылал со слугой обильную пищу, при встречах спрашивал Юлиана, не терпит ли тот нужды в чем-нибудь. Видно, очень напугала его угроза венгерского старейшины.
Неподалеку от устья Камы ладья присоединилась к большому торговому каравану. Купцы всегда собирались вместе, чтобы не стать добычей разбойников, которых, по слухам, на Волге было много. На ночлег караван обычно останавливался в безлюдных местах, на голых островах, выставив вооруженную стражу. Города купцы старались миновать в ночное время, то ли опасаясь недружелюбия горожан, то ли не желая платить лишние пошлины. Даже Нижний Новгород, большой и сильно укрепленный русский город, стоявший на высоком берегу возле впадения в Волгу реки Оки, миновали в предрассветном сумраке, и Юлиан разглядел лишь большой костер, зажженный кем-то на мысу.
Река Ока, куда завернул караван, частично протекала по земле мордванов,[37] лесных жителей, которые пользовались недоброй славой. Попутчики рассказали Юлиану, что мордваны — язычники и настолько жестокие люди, что у них человек, не убивший собственноручно многих людей, ни за что не считается. Когда мордван идет куда-нибудь по дороге, перед ним несут головы убитых им людей, и чем больше несут голов, тем выше этот человек ценится сородичами. А из человеческих черепов мордваны делают чаши и особенно охотно пьют из них на пирах. Тому, кто не убил в своей жизни ни одного человека, мордваны даже не позволяют жениться, чтобы не родились робкие дети, подобные ему…
Справедливы или нет рассказы о жестокости мордванов, Юлиан не знал, потому что сам видел лесных жителей только однажды, да и то издали. Мордваны вышли толпой на берег, размахивали руками и что-то кричали. Ничего враждебного или зловещего в их криках Юлиан не заметил, но, может быть, мордваны показным миролюбием пытались заманить проезжающих по реке на берег, чтобы убить и потом носить отрубленные головы перед собой?
С Оки ладьи повернули в реку Клязьму, которая протекала по коренным русским землям, хорошо возделанным и населенным. На берегах стояли деревни, окруженные пашнями, лугами со стогами сена, пастбищами. Домов в деревнях было немного, обычно два или три, но дома были крепкие, просторные, с хозяйственными постройками. Речную воду бороздили остроносые рыбацкие челны, с большим искусством выдолбленные из цельного ствола большого дерева. По отлогим спускам к реке спускались на водопой стада. Все вокруг дышало миром и тишиной. Даже караванные стражники отложили в сторону копья, поглядывали на берега лениво, благодушно. Видно, действительно некого было опасаться в благоустроенной земле русских.
В Гороховце, небольшом зеленом городке с множеством деревянных храмов, который, как сказали Юлиану, целиком принадлежал владимирскому епископу, на ладью сел русский монах. Юлиан разговорился с ним, осторожно передал кое-что из узнанного о монголах. Оказывается, на Руси знали о завоевателях, но относились к ним до удивления равнодушно.
— Из Дикого Поля в стародавние времена многие степняки приходили, — лениво цедил слова монах, снисходительно поглядывая на Юлиана. — Печенеги приходили, торки, половцы. А где теперь они все? Или погибли всеконечно, или под руку попали к князьям русским. Монголы твои, их у нас больше татарами кличут, тоже степняки, куда им в наши леса да болота соваться? Отсидимся от них за лесами, переждем беду. Да и не пойдут они в леса-то, неуютно им в лесах, тягостно. Не о монголах надобно думать, а о спасении души, в грехах погрязшей. Аминь…
Нечто подобное говорили и другие русские, с которыми беседовал Юлиан. Никто из них не заинтересовался путником, который совсем недавно своими собственными глазами видел грозных завоевателей. Отчего такое равнодушие? От силы или от беспечности?
На исходе августа караван доплыл до города Владимира, столицы северного княжества русских.
Владимир был многоликим городом.
С юга, со стороны реки Клязьмы, город поднимался над пойменными лугами как могучий и грозный исполин. Высокие стены возвышались над обрывистым берегом. Только белокаменные громады Успенского, Дмитриевского и Рождественского соборов были выше стены. В ясные солнечные дни блеск золоченых куполов был виден за десятки верст.
Для путника, приближавшегося к Владимиру с запада, по Дмитровской дороге, город начинался с величественных Золотых ворот, белокаменного чуда, равного которому не было на свете. За торжественной аркой ворот дорога переходила в городскую улицу, которая пересекала весь Новый город[38] с его боярскими теремами, богатыми купеческими домами, нарядными храмами. Через внутренние Торговые ворота путник попадал в Средний город, где находились торг и кремль-детинец, великокняжеский дворец и соборы. Редкий гость проходил дальше детинца и торговой площади, поражавшей своим многолюдством, многоцветием красного товара, многоязычным купеческим гомоном. Поэтому казалось гостю, что весь город наполнен пышными хоромами и величественными соборами, утопает в садах и нежится в богатстве.
Иным представлялся Владимир с востока, с холмов, между которыми спускалась к Серебряным воротам Суздальская дорога. Отсюда можно было заглянуть в Ветчаный город, похожий издали на большую деревню. Все постройки Ветчаного города были деревянными, низкими, невзрачными. Дома тянулись вдоль единственной большой улицы, которая шла от Серебряных ворот к Ивановским воротам Среднего города. А между улицей и крепостными стенами — скромные дворы посадских людей, избы ремесленников, гончарные мастерские, кузницы, навесы скотных дворов, покосившиеся клети и амбары, колодезные журавли на углах извилистых переулков. Под стать жилищам были церкви, тоже деревянные, потемневшие от времени и непогоды, с покосившимися крестами на шатровых кровлях, с железными досками вместо дорогих колоколов. Теснота, зловонье, бедность, убожество… И так до стены Среднего города, отгородившей от посада другой, княжеский и боярский Владимир.
Только с севера, со стороны Юрьевской дороги, с дальних полей, полого поднимавшихся за рекой Лыбедь, город открывался сразу, во всей своей многоликости. Отсюда было видно, что в столице соседствовали богатство и бедность, пышный блеск великокняжеского дворца и скромность посадских жилищ и что невзрачный Ветчаный город составлял чуть ли не половину столицы, а если пересчитать горожан, то посадских людей оказывалось много больше, чем жителей Нового и Среднего города, вместе взятых…
Но Юрьевская дорога вела во Владимир из глубинных земель Руси, а Юлиан вошел в город с парадной, клязьминской стороны, по обычному пути иноземных гостей: от пристани через Золотые ворота к каменному великолепию детинца. Неудивительно, что столица Руси у него оставила впечатление грозного величия, неколебимой устойчивости, переливающегося через край богатства. С душевным трепетом Юлиан ждал встречи с великим князем Юрием Всеволодовичем, который, как ему сказали, пожелал увидеть чужестранца, предъявившего караульным воинам охранную грамоту венгерского короля.
9
Аудиенция в великокняжеском дворце была непродолжительной, но весьма полезной для Юлиана.
Великий князь принял монаха в небольшой комнате со сводчатым потолком и узкими окнами, затянутыми разноцветной слюдой. Одет был великий князь без торжественности, по-домашнему, в чистую белую рубаху с вышивкой у круглого ворота, и только золотая цепь на груди свидетельствовала о высоком положении хозяина.
Юрий Всеволодович передал словесно венгерскому королю предостережение об опасности. Монголы будто бы днем и ночью совещаются, как бы захватить королевство венгров-христиан. У них также есть намерение пойти на завоевание Рима и дальнейшего. И еще сказал князь, что монгольский хан отправил своих послов к венгерскому королю, но послы задержаны во Владимире, потому что было подозрение, что это не послы, а лазутчики. Грамоту же, взятую у послов, Юлиан должен доставить в целости королю Беле.
Бородатый русский вельможа в длинном кафтане, украшенном большими серебряными пуговицами, с поклоном протянул Юлиану пергаментный свиток.
Позднее Юлиан узнал, что содержалось в этой грамоте, написанной языческими письменами на монгольском языке:
«Я Хан, посол царя небесного, которому он дал власть над землей возвышать покоряющихся и подавлять противящихся, удивляюсь тебе, король венгерский! Хоть я в тридцатый раз отправляю к тебе послов, ты почему-то ни одного из них не отсылаешь ко мне обратно, да и сам ни послов, ни писем мне не шлешь. Знаю, что ты король сильный и могущественный, и много под тобой воинов, и великим королевством правишь ты один. Оттого-то тебе и трудно по доброй воле мне покориться. Но было бы лучше и полезнее для тебя, если бы ты мне покорился добровольно. Рабов моих куманов, бежавших от моего гнева, ты держишь под своим покровительством. Приказываю впредь не держать их у себя, чтобы из-за них я не стал против тебя. Куманам ведь легче бежать, чем тебе, потому что они кочуют без домов, в шатрах. Ты же имеешь замки и города, как тебе избежать руки моей?»
Юлиан попросил показать ему монгольских послов, которые по приказу великого князя содержались в земляной тюрьме-порубе позади дворца.
Послы сидели на корточках у ослизлой, сочившейся влагой стены, уткнув головы в колени. Они не шелохнулись, когда с грохотом откинулась тяжелая дубовая дверь поруба и вниз хлынул яркий солнечный свет. Это были точно монголы. Юлиан достаточно насмотрелся на них за время путешествия, чтобы не спутать ни с каким другим народом. Наверное, и все остальное, о чем рассказывал владимирский князь, тоже правда…
Юлиан покинул Владимир верхом, в сопровождении дружинников великого князя. Видимо, дружинникам было велено торопиться, и они ехали почти непрерывно, меняя коней в попутных селениях.
На коротких привалах Юлиан записывал названия больших русских городов, которые стояли на пути. 15 сентября он проехал Рязань, 22 октября — Чернигов, 5 ноября — Галич, 27 декабря Юлиан благополучно перевалил Карпаты, а 8 января нового, 1237 года передал в канцелярию короля Белы грамоту монгольского хана. Круг путешествия замкнулся. Юлиан вернулся в монастырь, откуда уехал полтора года назад.
Весной 1237 года Юлиана в закрытой повозке, в сопровождении четырех рыцарей из охраны легата, повезли в Италию. В одном из пригородных римских монастырей священник Рихард, доверенное лицо папской канцелярии, подробно записал рассказ Юлиана о путешествии в восточные страны. Ему же Юлиан принес обет молчания, скрепленный крестоцелованием. Отныне и вечно Юлиан никому не мог сказать ни слова о своих странствованиях. Солдат воинства Христова доминиканец Юлиан выполнил свой долг. Пусть наградой ему будет отдохновение от трудов в тихой обители и благословение самого папы, переданное через того же Рихарда.
Мучительно тянулись знойные летние месяцы. Не отдых, но душевные терзания обрел Юлиан в сонном монастырском существовании. Юлиану казалось нелепым вынужденное бездействие, когда к рубежам Европы подкрадываются завоеватели. Грозная опасность нависла над христианским миром, нужно идти навстречу им, чтобы узнать их намерения! Он может пойти, он лучше других справится с этим опасным делом!
Осенью 1237 года Юлиан снова отправился в путь. Он спешил, очень спешил.
Тревожными ветрами встретила Юлиана половецкая степь. Казалось, в ту осень люди двигались только на запад. Пылили половецкие кибитки, покидая придонские пастбища. За стадами шли женщины и подростки — почти все мужчины погибли в сражениях с монголами, которые уже перешли Волгу. Брели по пыльным шляхам последние булгарские беженцы, оборванные, изголодавшиеся. Молчаливыми кучками сидели у костров аланы, смытые со своих плодородных полей монгольской волной.
А впереди беглецов, расходясь как круги по воде от брошенного камня, неслись устрашающие слухи. Пять великих языческих царств легли под копыта монгольских коней! Как погребальные костры, пылали наполненные трупами булгарские города! Кагир-Укуле, славный эмир ясов, умер жалкой смертью! Реки покраснели от крови! Невиданные багровые радуги поднялись над Диким Полем!
Ужас гнал людей на запад, подальше от кривых монгольских сабель.
Ужас остановил доминиканскую миссию неподалеку от рубежей русской земли. Спутники Юлиана давно уже предлагали вернуться. Все, что случилось за прошедшее лето в степях, уже записано на желтом свитке пергамента. Много людей повстречалось в пути Юлиану, и каждый оставил свой след в ровных строчках. Пора, пора возвращаться!
Но Юлиан медлил. Он еще не узнал главного, ради чего пошел навстречу урагану: куда будет направлен первый, самый страшный удар монгольского войска и сколько воинов выведет в поход предводитель монголов Батухан. Но вскоре и это стало известно Юлиану.
Последний привал на берегу Северского Донца. За холодной гладью реки дымилась степь. Всю ночь скрипели тележные колеса и ржали кони: люди шли и шли мимо палатки Юлиана на запад, надеясь на спасение в чужих далеких краях. Гонец-половчанин нетерпеливо переминался за спиной. А Юлиан, согнувшись у тусклого светильника, дописывал грамоту, которую гонец должен был спешно доставить легату апостольского престола в Венгрии епископу Перуджи:
«…находясь у пределов Руси, мы узнали действительную правду о том, что монголы, идущие в страны запада, уже готовятся к походу на русских. Одна часть монгольского войска у реки Итиль на границах Руси о восточного края подступила к Суздалю. Другая же часть в южном направлении уже нападала на границы Рязани, другого русского княжества. Третья часть остановилась против реки Дона, близ замка Воронеж, тоже княжества русских. Монголы ждут только того, чтобы земля, реки и болота с наступлением зимы замерзли, после чего всему множеству монголов легче проникнуть в землю русских…»
И еще несколько строк дописал Юлиан, прежде чем свернуть пергамент и передать гонцу. Эти строки освещали то самое тайное, что монголы оберегали от всех:
«…в войске у монголов с собою 240 тысяч рабов не их закона и 135 тысяч отборнейших воинов их закона в строю…»
Юлиан бессильно откинулся на войлок. Закрыв глаза, он мысленно прослеживал путь гонца от половецких степей до Венгрии, потом до Рима, и будто наяву видел, как по всей Европе тревожно гудят колокола, как собираются в объединенные рати знатные рыцари и простолюдины христианского мира, чтобы защитить свои домашние очаги и прогнать незваных пришельцев обратно в Азию. Милостью провидения Европа получила отсрочку. Кривые монгольские сабли надолго завязнут в русских лесах, ибо русские сильны и полны желания сражаться. Он, Юлиан, вовремя предупредил об опасности, и христианские государи успеют подготовиться к отпору. Снова, как в славные годы крестовых походов, прозвучит громоподобный призыв апостольского престола, и крестоносное воинство преградит путь завоевателям…
Но надеждам Юлиана не суждено было сбыться. Его записки были похоронены в архивах папской канцелярии и увидели свет лишь спустя четыре столетия, когда монгольское нашествие стало далеким мрачным прошлым. А в тревожные весенние дни 1241 года, когда конные тумены Батухана ворвались в пределы Венгрии, Польши и Чехии, католическая церковь ничем не смогла помочь своей пастве, кроме жалкой в своей беспомощности молитвы: «Боже, спаси нас от ярости монголов!» Знания, добытые Юлианом, не пошли на пользу его современникам.
Однако имя отважного венгерского путешественника Юлиана, прозванного «Колумбом Востока», навсегда осталось в благодарной памяти потомков.
Юрий НЕКРАСОВ Обречено на успех? ПОЛЕМИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ
— В этом жанре так много недостатков, что их не стоит начинать обсуждать. Может иссякнуть жанр целиком.
— Не отсюда ли, коллега, некая «жреческая» договоренность между «посвященными»?
(Диалог в кулуарах)Не помню уж сейчас точно, о каком именно спектакле зашел как-то спор в одной из редакций. Помню лишь, что это было нечто очень модное, не в меру новаторское и более чем шумное. Очереди в кассы, на радость театральным финансистам, напоминали полузабытую картину осады стадиона «Динамо» времен футбольного бума. «Вся Москва», а точнее, немногочисленные, но горластые, как спартаковские болельщики, так называемые «ценители» не уставали придумывать эпитеты один звучнее другого. Словом, грохот стоял такой, что люди понимающие, закаленные в полемических баталиях, как-то сникли и лишь усмехались многозначительно, не рискуя обнародовать мнение.
Вот тогда-то в редакции у одного из них и спросили напрямик: а что он обо всем этом думает. «Метр» поморщился, как-то беспомощно развел руками и, словно оправдываясь, ответил:
— А что поделаешь? Это же обречено на успех…
Фраза эта не дает мне покоя каждый раз, когда в качестве читателя или зрителя приходится соприкасаться с работами приключенческого жанра, особенно с той их частью, где основными героями выступают судьи, следователи, работники угрозыска и — само собой — их антиподы, люди, преступившие закон.
Мы можем без конца ругать ходульные образы, у которых цитаты из уголовного кодекса заменяют мысли и чувства, мы, и прежде всего те из нас, кто так или иначе знаком с правовой работой, можем морщиться от обилия юридических нелепостей, от потуг авторов выдать откровенные просчеты героев, их неспособность даже элементарно поговорить с человеком о профессиональной доблести, но… Но никто из нас (или почти никто, хотя исключения лично мне неведомы) не отбросит книгу, не переключит рычажок телевизора, не покинет театрального или кинозала, пока не закроется последняя страница, не упадет занавес, не вспыхнут заключительные титры.
И снова мы сталкиваемся с этим феноменом — заданностью успеха, невзирая на полное порой отсутствие качеств, необходимых произведению литературы и искусства. Причем если в ситуации с нашумевшей постановкой успех ей сопутствовал лишь в довольно узком кругу так называемых театральных гурманов, то здесь «полные сборы» (включаю в это понятие и вечера, убитые у телевизора, и исписанные до дыр библиотечные формуляры) делаем практически все мы, вне зависимости от степени нашей правовой осведомленности.
Страшная, всесокрушающая это сила — острый сюжет. Вот ведь и чувствуешь, что автор, мягко говоря, не в ладу с правдой, но просто невозможно, остановившись на полпути, так и не узнать, куда же занесет его хитроумный замысел.
Боюсь, что читатель заподозрил во мне этакого постника, не признающего в литературе ничего, кроме крепкой добротной прозы конца минувшего столетия. Но если бы речь шла лишь о вкусах и привязанностях, право слово, не стоило бы и покушаться на такой дефицит, как печатаная площадь.
Не в том дело. Увлеченный сюжетом, читатель в массе своей почти не знающий о буднях правоохранительных учреждений, крепко уверовавший если не в качество, то в непогрешимость с точки зрения истины печатного слова, полностью усваивает как достоверную информацию юридическую «клюкву». Это не так уж безобидно. Ведь начитавшись и насмотревшись творений иных «мастеров» (только в кавычках!) приключенческого жанра, невольно придешь к ошеломляющим с точки зрения правовой действительности выводам. К каким? Ну, например, поверишь, что всю борьбу с преступностью у нас ведет лишь одна милиция, точнее — угрозыск, прокуратура где-то топчется сбоку (если не ставит палки в колеса орлам-оперативникам), а суд — канцелярия, «оформляющая» дела. Что та же милиция без санкции прокурора может обыскивать квартиры и граждан, перлюстрировать почту. Что во время допроса можно прикрикнуть на допрашиваемого, а то и топнуть ногой… Что… Впрочем, картина и без дополнений вырисовывается малосимпатичной, не имеющей ничего общего с практикой советского следствия и правосудия.
Вот почему я рискую предложить читателю эти беглые, не претендующие на всесторонний анализ заметки.
1. РУКОЯТКИНА-ТО ПРОСТИЛА…
«Рябинин вскочил и что было мощи в вялой руке ударил кулаком по столу и заорал чужим надрывным голосом:
— А ну прекрати! Гопница! Подонок! Проститутка!»
Стоп! Остановим, так сказать, «кадр». Попытаемся по приведенной выдержке угадать, кто он — Рябинин-громовержец?
Околоточный надзиратель, заскочивший на шум скандала в ночлежку наподобие костылевской?
Главарь «малины» нэповских времен, поучающий незадачливую подручную?
Или авантюрист, по чьему-то недосмотру затесавшийся в угрозыск?
Нет. Ни то, ни другое. И даже не третье.
Рябинин, наш с вами современник, следователь советской прокуратуры, человек самых высоких и личных, и профессиональных добродетелей. Сомневаетесь? Тем не менее именно такого мнения безоговорочно придерживается Станислав Родионов, автор книги «Следователь прокуратуры» (Лениздат, 1976 г.).
Так, может быть, сорвался человек, с кем не бывает?
Оставим в стороне на время известную, давно ставшую аксиомой для каждого юриста, истину о недопустимости подобного своеволия нервов для мастера расследования (а именно таким и желает его видеть Ст. Родионов).
В том-то и беда и автора и героя, что выходка (иначе ее и не назовешь) Рябинина не кажется случайной. Вскоре после столь своеобразных комплиментов, отпущенных следователем подследственной Рукояткиной, Рябинин выкидывает номер похлеще. Пытаясь во что бы то ни стало получить от собеседницы признание в том, что она одурманивала случайных знакомых наркотиками, затем обирала их, этот «служитель закона» совершает поступок, не укладывающийся ни в этические, ни в служебные нормы, ни вообще в элементарные представления о человеческой порядочности. Он врет Рукояткиной, что один из ее «клиентов» убит и что если она не скажет правды, то будет обвинена в убийстве.
Позже Рябинин попросит у подследственной прощения «за методы» (его, между прочим, выражение). И та, представьте себе, простит его. Хотя почему бы и не простить? Ведь расчувствовавшийся Рябинин, добившись своего, отпускает преступницу под честное слово до суда, одолжив ей пятерку на пропитание.
Итак, Рукояткина простила Рябинина. Но простим ли мы? Да что там мы! Закон, он-то найдет извинительные обстоятельства таким, с позволения сказать, «методам», как (это еще полбеды) путание следственных и оперативно-розыскных мероприятий,[39] граничащих с откровенным хамством, «напор» во время допросов, попытки запугать собеседника? Нет. Не простит никогда. Ибо советский закон и мораль нашего общества неразделимы. Ибо закон наш стоит на страже социалистической морали, а рябининские «методы» во время допроса Рукояткиной вообще вне моральных пределов.
Не станем уподобляться иным не в меру ретивым поборникам пресловутой чистоты мундира, ратовать за его, чтобы служитель закона вставал со страниц художественной литературы, возникал на экране или сценических подмостках всегда застегнутый на все пуговицы упомянутого мундира и вещал одними лишь статьями нормативных актов. Жизнь многопланова, и в большой семье советских юристов, честных, самоотверженных, прекрасно профессионально подготовленных, беззаветно преданных общему делу, могут встретиться люди и ограниченные, и малодушные, и приспособленцы, и просто неумехи. Конечно, возбранять таким доступ в произведения литературы и искусства дело безнадежное да и ненужное, равнозначное призыву к бесконфликтности.
Ясно, что здесь от автора требуется немало такта, чтобы не представить отдельные огрехи и ошибки обыденным явлением. Но когда служебные и этические проступки даже не оставляют автора созерцателем, а восторгают его, тут уж впору развести руками. Подивиться Лениздату, поспешившему выбросить на прилавок такое небезвредное сырье, а особенно — Станиславу Родионову, бывшему старшему следователю прокуратуры. И (да простит меня писатель, но его книга сделала правомочным и такой вопрос) невольно хочется спросить: уж не прибегал ли он в свое время сам к таким «методам»?
Последнее, впрочем, сомнительно, ибо прокурорского надзора за законностью следствия никто не отменял, а при нем рябининым нелегко разгуляться.
Разве что в беллетристике. Да и это возможно лишь там, где должным образом не налажено юридическое рецензирование рукописей.
2. «САМ НАНЕС СЕБЕ СУРОВЫЙ ПРИГОВОР…»
Страницу 6 информационного бюллетеня «Новые пьесы» (№ 6, 1976) можно было бы по праву включить в сборник «Театральные пародии». Автор аннотации на пьесу братьев Вайнеров и А. Беликова «Гонки по вертикали», сам того не желая, жестоко высмеял это произведение.
А с другой стороны — что ему оставалось делать? Как иначе изложить кратко многосложную историю взаимоотношений инспектора МУРа Станислава Тихонова и вора-рецидивиста Алексея Дедушкина? Вообще-то любая масштабная вещь, пересказанная кратко, неизбежно будет смахивать на пародию. А тут еще добавились явные нелады безымянного автора аннотации с русской грамматикой. Впрочем, судите сами.
«Дедушкин же пытается доступными ему способами доказать, что «его время не вышло», что он может еще потягаться с милицией. Он совершает несколько дерзких ограблений.
Пути Тихонова и Дедушкина вновь скрестились. В аэропорту следователь столкнулся лицом к лицу с вором. Дедушкин выстрелил. К счастью, рана оказалась не смертельной.
Преступник, таким образом, сам нанес себе суровый приговор…»
Я бы не стал злоупотреблять столь обширной цитатой, если бы она не оказалась такой обобщающей, такой характерной для многих отечественных произведений о борьбе с преступностью. Сработанные по принципу побольше погонь, выстрелов, крови, эти творения как бы запрограммированы на то, чтобы ошарашить, оглушить потенциального читателя или зрителя.
А ведь в жизни каждый случай погони, не говоря уже о перестрелках, — предмет тщательного служебного разбирательства с обязательным вопросом: кто виноват? И речь идет здесь не о вине преступника — об упущениях тех, по чьему недосмотру произошла и погоня и перестрелка. Такие ситуации в практике правоохранительных учреждений за малым исключением, как правило, следствие служебной нерасторопности, откровенных упущений, пренебрежения инструкциями. ЧП, одним словом. И вот эти-то ЧП искатели не самых сложных путей к сердцу читателя и зрителя преподносят нам в качестве явлений обыденных.
Это еще полбеды. Хуже, что сюжетом, собственно говоря, и исчерпывается вся ценность произведения. Что же касается моральных выводов, то они, конечно, есть, ибо это — обязательная атрибутика. Даже автор упомянутой аннотации не рискнул обойтись без них.
«Давняя и непримиримая борьба инспектора уголовного розыска Тихонова с вором Дедушкиным — это не просто поединок опытного криминалиста с дерзким преступником, это столкновение двух взаимоисключающих мировоззрений».
Впрочем, более емкого морального капитала не вынесешь, и осилив первоисточник в полном объеме. Так что выводы-то есть, но на уровне евангельских аксиом — «не укради», «не убий», «не пожелай жены ближнего своего».
3. ПЛЕННИКИ «ЗАМКНУТОГО ПРОСТРАНСТВА»
9 апреля 1977 года многие из нас были свидетелями телепремьеры — экранизации широкоизвестного романа Чарльза П. Сноу «Смерть под парусом».
Несколькими годами ранее советский читатель получил возможность ознакомиться с литературным первоисточником в сборнике «Современный английский детектив».
А спустя примерно пару лет после выхода сборника на страницах чуть ли не полутора десятков номеров молодежного журнала «Смена» нашла приют приключенческая повесть отечественного автора (П. Шестаков. «Отпуск в Дагезане»).
Пока последние два события выглядят вроде бы разрозненно. Объединило же их выступление известного советского литератора в журнале «Человек и закон». Выдающийся писатель и поэт прямо обвинил автора публикации в молодежном журнале в заимствовании сюжета у Сноу. Оппонент крепко обиделся, пытался возразить, правда, устно.
Ответ на вопрос «кто же прав?» и поныне актуален. Более того — принципиально важен.
Понимаю, что благодаря телевидению сюжет романа Сноу ныне хорошо знаком большинству читателей, но все-таки кратко изложу его. Семеро в основном преуспевающих членов респектабельного общества проводят досуг на яхте доктора Роджера Миллза. Досуг прерван внезапным убийством самого Миллза. С первых же мгновений и читателю и членам экипажа становится ясно: убийца — один из оставшейся в живых шестерки. Но кто? Внешне среди пассажиров яхты царила едва ли не братская дружба, а убитый был вроде бы моральным стержнем, чуть ли не совестью компании.
По мере продвижения сюжета, приближаясь к истине, Сноу мастерски срывает благопристойные одежды не только с экипажа яхты, но и с общества, миниатюрным воплощением которого он является. Выясняется, что буквально у каждого из шестерых были веские основания ненавидеть Миллза, желать его смерти. И ответ на вопрос: «кто убийца?», данный в самом конце повествования, не столь уж важен. И не во имя его брался за перо Чарльз П. Сноу. Цель достигнута намного раньше формального завершения сюжета. Убийца — само общество, типичными представителями которого были и убитый, и убийца, и другие пассажиры яхты «Сирена».
Теперь о повести в молодежном журнале «Смена». Яхты там нет и в помине, все происходит на суше, в горном поселке. Наш современник, впрочем, тоже преуспевающий, собрал у себя на даче родственников и близких друзей. И… Все, конечно, догадались, что радушный хозяин оказался убитым и тоже наверняка одним из гостей. Но кем?
Выясняется, что ненавидели и могли убить его все присутствовавшие на даче, включая родного сына. Для этого, правда, автору пришлось собрать под одной кровлей более чем странное в наших условиях общество: людей, живущих не в ладах с законом, молодую женщину, вышедшую замуж за человека, годящегося ей в отцы, алкоголиков-психопатов, просто психопатов и т. п. Можно посочувствовать литератору — селекционная работа проделана им огромная. В нашей жизни такой труд вряд ли одолеешь. На бумаге оно сподручней.
Но резонен, коль скоро речь зашла о бумаге, вопрос: а стоило ли тратить ее, предназначавшуюся для молодежного издания, для упражнений, плоды которых не имеют ничего общего с правовой действительностью?
Роман Сноу принято считать классическим образцом построения детективного сюжета по принципу «замкнутого пространства»: в ограниченном пространстве произошло преступление, и преступником может быть каждый из оставшихся в живых. Сноу, пользуясь таким приемом (а в том, что для него это только прием, сомневаться не приходится), обнажает краеугольные камни, на которых покоится так называемый «свободный мир»: острую конкурентную борьбу за существование, взаимную ненависть и подозрение, заряженность на преступление, постоянную готовность к нему.
Не станем утверждать, что наш земляк списал сюжет у английского писателя, но «замкнутое пространство» он бездумно перенес на отечественную почву. И неизбежно — со всей моральной атрибутикой, которая в наших условиях, мягко говоря, неестественна. Итог — творческий крах, вещь ущербная и в литературном и в моральном отношении. Закономерный итог копирования даже лучших образцов зарубежного детектива.
А копируется, к сожалению, не только лучшее. Например, в большинстве приключенческих романов и повестей иностранных авторов поиск преступника ведет сыщик-одиночка, что выглядит архаично и для розыскных служб тех государств.
Раскрытие преступления в современных условиях — кропотливый, сложный труд коллектива специалистов. Но по воле иных авторов все еще бродит по страницам наших детективов кустарь-одиночка из угрозыска, колесит по стране вне прокурорского надзора, вне требований правовых норм, порой даже вне служебного подчинения. Решение об аресте принимает единолично, вместо санкций на обыск предъявляет неведомые нашему праву «ордера», словом, «гуляет» как заблагорассудится.
На радость автору и нетребовательной части читателей.
Во вред жизненной правде о нашем правопорядке.
4. АВАРИЯ ВО СПАСЕНИЕ
До сих пор речь шла о работах, прямо ложащихся в графу «морально-правовая тематика». Но вот перед нами произведение, скажем, из жизни нефтяников, водителей, фармацевтов. Нет ни прокурора, ни следователя, ни даже вездесущего инспектора угрозыска. И все же…
Вы не заметили, что в произведениях о рабочем классе в последнее время участились различные аварии, в которых якобы особенно ярко проявляется мужество человека. При этом авторы почему-то скромно избегают упоминать о причинах таких аварий.
Повесть Владимира Санина «Семьдесят два градуса ниже нуля» («Роман-газета», № 13, 1976 г.) посвящена труду советских полярников в Антарктиде. Не станем сейчас перечислять несомненные достоинства книги: достоверность многих авторских наблюдений, почти дневниковую документальную точность описаний и т. д.
Несмотря на достижения науки и техники, на оснащение экспедиций самой первоклассной аппаратурой и машинами, от сегодняшнего полярника требуется не меньше мужества и геройского риска, чем когда-то. Если на заре века пеший полярник мог сбиться с пути и погибнуть от холода и голода в нескольких метрах от человеческого жилья, то и теперь нечто подобное может случиться и с мощным вездеходом, и с его экипажем. Вот и у Владимира Санина на краю гибели оказался целый санно-гусеничный поезд.
Скажу сразу: захватывающий сюжет с самого начала обнаружил в себе и нечто знакомое. В спешке санно-гусеничный поезд не был как следует подготовлен к трехтысячекилометровому походу по Антарктиде. Синицын — старый начальник поезда — поленился, понадеялся на авось, новый начальник положился на старого, пренебрег «скучными» правилами. В итоге горючее для тягачей оказалось некондиционным, не годящимся для сильных морозов, сами тягачи с изъянами и т. п. С Синицыным вроде бы ясно: его халтурное отношение к своим обязанностям превратилось в преступление.
Ну а что же Гаврилов, новый начальник транспортного отряда? Он, безусловно, главный положительный герой повести, наделен всеми качествами настоящего руководителя и человека. Разве что в горячности может ударить кулаком по столу, а то и по физиономии подлеца. Последнее, впрочем, уже настораживает. Рукоприкладство есть рукоприкладство, и никакие чрезвычайные обстоятельства не могут оправдать перед законом руководителя, прибегнувшего к столь энергичной «педагогической» мере.
Но почему же все-таки столь плохо была подготовлена экспедиция? Кто виноват? Писатель вправе все валить на одного Синицына или ссылаться на небывалые погодные условия. Но, в свою очередь, читатель вправе спросить: а как получилось, что от одного человека зависит судьба похода, жизнь десятков полярников?
Для характеристики всему случившемуся в повести так и напрашивается слово — расхлябанность. И расхлябанность не только Синицына, но и руководителей зимовки, и рабочих, которые, как видно из повествования, «по мелочи» сбраковали каждый на своем участке.
А сам Гаврилов? Этот отец-командир не ограничился первыми промахами. Он уже вполне сознательно и по своей начальственной воле ставит экспедицию на грань катастрофы, отпустив из отряда единственного штурмана Попова. Правда, именно Попов в конце концов спасает отряд, но странно — теперь уже вопреки и воле Гаврилова, и воле начальника станции «Мирный», вопреки всем правилам и инструкциям.
Вот такой «букет»! И, право же, не вижу, несмотря на разницу характеристик, данных автором Синицыну и Гаврилову, принципиального различия между ними. И тот и другой преступно пренебрегли разумными инструкциями, и тот и другой повинны в возникновении катастрофической ситуации.
А вот повесть В. Козько «Високосный год», опубликованная в Белоруссии. Речь в ней идет о войне, увиденной глазами мальчишки, и о трудных послевоенных годах.
Есть в повести глава — «Шахта», где главный герой уже бригадир и механик, то есть начальник своих сверстников, выпускников ФЗО. Все они в одной «детдомовской бригаде». Однако слишком уж своеобразно понимаются здесь дружба, товарищество, взаимовыручка. Некий «шалый парень» Свидерников преступно нарушает правила техники безопасности, совершает аварию, ставит под угрозу жизнь товарищей. Ему ничего не стоит закурить во взрывоопасной шахте, запустить в молодого бригадира топором (тот лишь чудом спасается от увечья, если не гибели). «Бюрократы-начальники», лишь случайно узнав о происшедшем, требуют от бригадира, чтобы он подал на Свидерникова в суд. И вот что тот отвечает начальнику участка:
«— Слушай, Карев, ты помнишь хотя бы один суд между шахтерами одной шахты? Я тоже не помню. Не думай, я ничего не идеализирую, Но мне просто интересно это. В нашей бригаде работал монтажником парень, ты его знаешь. Был народным заседателем. И вот судили одного нашего шахтера. К заседателю делегации ходили. Не грозили, не уговаривали, а говорили, чтобы думал, когда приговор будет выносить, потому что работать и жить заседателю не в суде, а на шахте, среди шахтеров…»
И далее:
«— Со Свидерниковым я разберусь сам, без суда. Это как раз тот случай, когда суд не поможет. Там с ним будут говорить языком закона».
Вот так. Вез малейшей авторской попытки хоть как-то прокомментировать эти более чем диковинные, с позволения сказать, «рассуждения». Стало быть, передавать в суд Свидерникова нельзя, ибо там с ним будут говорить языком закона, иными словами, погубят человека.
Автор даже не пытается задаться вопросом, а языком какого закона будут говорить в суде с дебоширом. Потому что ответ на этот элементарный вопрос, ответ, сам по себе не высшей категории сложности, ярко обнажит всю фальшивость, всю вздорность философии и героя и писателя. И не только.
Он поможет яснее понять, какой язык выдвигают они альтернативой языку советского закона.
Язык круговой поруки и всепрощенства.
Язык сомнительного самодеятельного правотворчества.
Язык противопоставления морали общества его законам.
5. ИГРА: ПЛЮС ИЛИ МИНУС?
Вернемся, однако, так сказать, к истокам нашей беседы, к приключенческим произведениям, непосредственно посвященным деятельности правоохранительных учреждений.
Два-три года назад авторитетный литературный еженедельник опубликовал творческую беседу двух литераторов, посвященную детективу. Когда дело дошло до теоретических обобщений, одна из сторон — известная писательница Н. Ильина вывела формулу, что-де детектив есть «литература плюс игра». Не знаю, как восприняли это авторы приключенческих произведений, по-моему, обидно все-таки узнать, что ты, оказывается, всю сознательную жизнь занимался не творческим трудом, а играл с читателем в слова. Тем более что само творчество писательницы, в том числе и ее блистательные фельетоны, никак, даже при самом запрограммированном недоброжелательстве, не отнесешь к разряду литературных игрушек.
И все-таки не будем торопиться с опровержениями. Попытаемся уловить крупицы истины в утверждении, на первый взгляд абсолютно неприемлемом. А они есть, и не такие уж крупицы. Не станем судить о зарубежных авторитетах, на которые ссылалась писательница. Современная отечественная практика, увы, свидетельствует о том, что рабочий стол писателя-приключенца нередко становится ареной игры по бог весть кем и когда придуманным правилам. Игры, где читателю отводится место мышки, а роль всепобеждающей кошки безраздельно принадлежит сюжету.
Вот, по нашему убеждению, первопричина обилия поделок от искусства, после которых читатель и зритель не выносят ничего, кроме будоражащих нервы детективных перипетий. Нет, все, конечно, не так-то просто. Внешняя атрибутика морали, как мы уже отмечали, налицо: воровать, по мнению автора и его героев, конечно, скверно, убивать — это уж ни в какие ворота; будешь пьянствовать — докатишься и до того и до другого. Люди в угрозыске и в следствии — само совершенство. Они не только прекрасно ловят преступника, но и утрут нос любому искусствоведу по части Дебюсси, Матиса и Верлена.
И ведь ни с чем не поспоришь. Преступление и впрямь омерзительно. В прокуратуре и угрозыске ныне в своем подавляющем большинстве действительно работают люди самой высокой профессиональной и личной культуры. Но читатель в массе, именно в массе своей сегодня вырос настолько, что, усвоив сюжет, не унизится до пережевывания скучнейших шаблонных назиданий, не заинтересуется личными переживаниями стерильного манекена, даже если тот облачен в авторитетную милицейскую форму. В памяти, повторюсь, остается лишь сюжет, лишь поединок воль и умов наподобие шахматной схватки.
Это в лучшем случае. Тогда, когда способному автору удалась хотя бы эта часть игры. Иными словами — и герой и его антиподы, действительно проявили недюжинную смекалку, волю, изобретательность, когда преступник ни разу не сыграл в поддавки со следователем или инспектором угрозыска.
Но и так бывает, увы, далеко не всегда. Хотя еще легендарный майор Пронин, предтеча чуть ли не всех современных литературных гроссмейстеров розыска (несмотря на несколько иную ведомственную принадлежность), два десятка лет назад изрек: «Они талантливы, но и мы не лыком шиты».
Когда в декабре прошлого года в «Комсомольской правде» появилась статья Еремея Парнова, разоблачающая псевдонаучные спекуляции вокруг неопознанных летающих объектов, нельзя было не порадоваться ее четко аргументированной позиции в защиту компетентности. И трудно было поверить, что тот же Е. Парнов — автор приключенческих романов «Ларец Марии Медичи» и «Третий глаз Шивы». Вот уж где игра так игра! Наивно было бы оспаривать право писателя на создание произведения, где фантастическое смешивается с реальным. Охотно допускаю, подчиняясь предложенным автором правилам, что в центре Москвы можно обнаружить не только удава, но и дракона, что современный следователь должен докапываться до тайны средневекового ордена альбигойцев. Но ведь следователь-то наш, реальный, а действия его не менее фантастичны, чем созданная слишком уж гибкой фантазией автора обстановка.
Борьбу он ведет с такими профанами, которым не способно помочь ничто: ни нечистая сила, ни промахи, ни накладки, ни элементарная профессиональная неподготовленность героя романов Е. Парнова следователя Люсина.
6. РАЗВЕРНУТЫЙ ХАРАКТЕР? НЕХОРОШО…
Парадокс, которому не перестаешь удивляться. Чуть ли не хрестоматийным стало ныне утверждение, что-де кануло в вечность время, когда от работ приключенческого жанра пренебрежительно отмахивались критики. И — буквально рядом — практически повседневные сетования на невнимание критики к таковым произведениям.
Рискну высказать мнение, что парадокс здесь сугубо внешний. Действительно, если мы возьмем во внимание одну лишь количественную сторону дела, то прогресс очевиден, хотя и недостаточен. Как бы то ни было, о детективе пишут. Другой вопрос — как именно?
Попытаемся суммировать рецензии последних лет. И получим почти безоблачную картину, с легкими дуновениями в виде отдельных реплик и пародий, которые, однако же, практически не влияют на пейзаж всеобщего благополучия, якобы царящего в этой области литературного творчества.
Волей-неволей возникает предположение о существовании некоего «заговора посвященных», давших обет молчания об ошибках и просчетах товарищей по цеху.
А просчеты эти столь очевидны, что человек непредвзятый, пусть не обладающий эрудицией литературоведа, видит их, не прибегая к помощи оптики. Даже в работах «старейшин» жанра. Ведь если подходить с общелитературными мерками к такой, например, широкоизвестной повести, как «Стая» А. Адамова, то надо запастись, по меньшей мере, недюжинной смелостью, чтобы заявить во всеуслышание — литературно-художественное произведение в данном случае состоялось. Состоялось нечто иное: умело расставленные фигуры на изобретенной автором игральной доске. И если персонажи из уголовного мира в той или иной мере убедительны (хотя и не лишены схематизма), то этого уже нельзя сказать, к примеру, о главном герое — Викторе Панове. Ничего, кроме его победоносной удачливости, умения с честью выходить из головоломных перипетий и какой-то глобальной (по сути, безликой) человечности, в характере его нет.
Но нужно ли что-либо еще? Не торопитесь обвинять меня в постановке риторического вопроса. Какая уж тут риторика!
«Когда пишут о серьезной литературе, опираются на серьезную теоретическую традицию. Когда пишут о детективе, теорию изобретают на ходу. А иногда обходятся и вовсе без теории: судят жанр и выносят ему приговоры по законам «серьезной» литературы, хотя к детективу они не всегда применимы».
И — далее:
«Нам известно, что в каждом из произведений «серьезной» реалистической литературы своя неповторимая концепция характеров.
И у детектива, хоть этот жанр не породил бессмертных шедевров, концепция характера тоже своя. Парадоксальная, если подходить к ней с традиционными мерками. И вполне «правильная», если соизмерить ее с художественными целями детектива».
И, хотя невольно застываешь в немом почтении перед эрудицией доктора филологических наук А. Вулиса, автора статьи «Поэтика детектива» («Новый мир», № 1, 1978 г.), невозможно удержаться от вопроса: а что же это за концепция? Ответ следует почти незамедлительно. Причем А. Вулис иллюстрирует его примерами из творчества уже упомянутого нами П. Шестакова:
«Сквозь призму обычных критериев повести П. Шестакова смотрятся безрадостно… Многое ли можем мы сказать о недобитом фашисте Укладникове, кроме того, что он фашист? О следователе Мазине, кроме того, что было сказано чуть раньше? Об убитом юноше, кроме того, что был он, по-видимому, романтиком: любил горы и ненавидел своих (и наших общих) врагов. Да, по существу, ничего! Но автору и не нужно, чтобы читатель видел в его героях развернутые характеры. Чисто сюжетными средствами, изломанной осциллограммой происшествий, повторенных в рассуждениях, рассуждений, сопровождаемых происшествиями, он рисует жизнь, вернее вычерчивает некий условный ее разрез».
Да… Не поздоровится от этаких похвал!.. Впрочем, почему же не поздоровится? Еще как поздоровится! Ведь авторам отечественных детективов, по существу, выдается индульгенция. А. Вулис априорно отпускает им такие грехи, как внесоциальность, схематизм и надуманность ситуаций, бездуховность образов… Был бы вычерчен «некий условный разрез «жизни»… А дальше — хоть трава не расти.
Ну а как быть с читателем? До сих пор почему-то думалось, что именно для него создается литература, в том числе и детективы. Читателя «изломанные осциллограммы происшествий» волнуют как минимум не в первую очередь. Уж, во всяком случае, куда меньше, нежели литературоведа или ученого-филолога.
Ему, читателю, видите ли, еще и подавай нравственный урок, и расширяй его кругозор, и воспитывай эстетически.
А ведь все это, если следовать А. Вулису, противоречит самой сути детектива, то бишь условиям игры, в защиту которой автор статьи «Поэтика детектива» выступил откровенно.
В таком случае — откровенность за откровенность. Не смею состязаться с А. Вулисом в точности определения, что же такое детектив. Но если для этой разновидности литературы и впрямь не обязательны ни общественная значимость, ни художественная полноценность персонажей, ни жизненная достоверность, то право «чистого» детектива на существование, по моему глубокому убеждению, как минимум, сомнительно.
7. ЯЗЫК МОЙ — ВРАГ МОЙ
Неблагодарное это дело — отстаивать очевидное. Но порой приходится.
Куда, казалось бы, яснее: сама многовековая история литературно-художественного творчества неопровержимо доказывает его абсолютную несовместимость со схематизмом. Ан нет, оказывается! Применительно к детективу, если следовать А. Вулису, схема — это как раз и есть творчество…
Справедливости ради замечу, что, безусловно, повинуясь правилам «чистой игры», отечественные авторы испытывают если не неудобство, то уж смущение, во всяком случае. Вот и начинаются попытки вдохнуть жизнь — или хотя бы ее подобие — в малоудобные для этого створки схемы…
Но в том-то и беда иных авторов, что нет ничего губительнее для творчества, чем поблажка самому себе. И схитрил-то, сфальшивил вроде бы в мелочи. Чуть-чуть спрямил жизненную коллизию, чуть-чуть уклонился от правды… А мелочь уже перестает быть мелочью. Она уже безраздельно властвует над творческим процессом, фальшь становится явлением необратимым, жестоко мстит творцу, пусть на мгновение переставшему быть таковым.
Именно из стереотипов по блочному методу нередко сооружается строение детектива.
Вот один из них — преступная среда. В центре ее — человек-волк, начисто утративший все человеческое. А вокруг него люди, в общем-то неплохие… Да-да, я не оговорился — неплохие, хотя могут и избить до полусмерти незнакомца, и поднять нож на ближнего… Они жертвы. Бедняги просто вынуждены конфликтовать с законом. Жизнь не сложилась: того покинул отец, у этого мама запила, с третьим еще большая беда приключилась — учительница вредная попалась. Или друзья не поняли. Или Светка ушла к академику.
В конце концов, эти, последние, осознают порочность избранного пути и идут на примирение с обществом. И общество, разумеется, с восторгом амнистирует их, прощая и мордобой, и угрозу ножом, и кражи. Так, как это безоговорочно простил в той же «Стае» А. Адамов.
Конечно же, путь вчерашнего правонарушителя к нормальной жизни — тема отнюдь не заповедная. Весь вопрос — в чувстве меры.
Аплодировать здесь нечему. Судите сами: многие годы человек жил волком среди людей, вредил им как только мог. И что же — стоило ему лишь задуматься, как вернуть хоть малую толику огромного долга, автор с готовностью проливает по этому поводу слезы умиления… И тут же с не меньшей готовностью воздвигает на пути «блудного сына» такие преграды, что «нормальный» правонарушитель, прочитав подобное, невольно задумается, а стоит ли вообще порывать с прошлым?
Ох, и тяжела эта честная жизнь! Родные шарахаются как от зачумленного, кадровики, словно закон не для них писан, на работу не берут… Да и прежние дружки табунами по пятам ходят. Далеко ли до беды?
Недалеко, утверждает писатель Владимир Амлинский. Иван Лаврухин, герой его романа «Возвращение старшего брата», при первой в жизни попытке совершить поступок, достойный человека, получает нож в спину…
Что ж, вчерашнего преступника на свободе встречают не оркестры. И ближним нелегко забыть обиду, и кадровики, конечно, не в восторге. Все это так. Но утверждать, что на пути правонарушителя к нормальной жизни одни лишь невзгоды, более того — что путь этот смертельно опасен — значит фальшивить. Как и творить легенды о якобы существующих поныне «малинах», карающих отступников по законам сицилийской мафии.
Хотелось бы остановиться на еще одной попытке хоть как-то оживить стереотип, попытке, кстати, тоже стереотипной. В погоне за «правдой», а точнее — псевдоправдой жизни, многие авторы создают своего рода пособия по воровской терминологии. «Фраер», «пахан», «фазан с башлями», «чувырло», «оклемается и поканает» — вот далеко не полный перечень перлов, которыми обогатится наш язык, если мы осилим упомянутую вещь Амлинского. Его, как и иных авторов, нимало не смущает, что Значительная часть словес этих относится к нэповским временам, а потому неведома современникам из преступного мира. Но это так, как говорится, в скобках. Хуже, что увлечение жаргоном стало поветрием. Что блатной фразой в повестях и рассказах щеголяют не только уголовники, но и те, кто борется с ними.
Приведу еще цитату.
«Такие вот… возможно, будут красиво, по науке раскрывать преступления, к месту употреблять мудреные юридические слова, разные там презумпции, но вряд ли их хватит на то, чтобы возиться с заблеванными ханыгами… Бесполезный, сволочной народец!»
Остается добавить, что слова эти, сделавшие бы сомнительную честь Держиморде или Пришибееву, принадлежат не дремучему атаману разбойной ватаги, не его беспутной подруге, а современному представителю власти, участковому, положительному герою рассказа Гр. Третьякова «Особое отношение», напечатанному несколько лет назад в журнале «Сельская молодежь».
Думается, что истоки всех этих издержек, и издержек не безвредных, надо искать там же — в безусловном (может быть, не всегда осознанном) подчинении правилам игры, согласно которым построение сюжета безраздельно господствует над другими составными творчества.
* * *
Эту статью я сопроводил подзаголовком «Полемические заметки». Полемика есть полемика. И спор, хотя, как известно, в нем рождается истина, никогда не бывает свободен от некоторой категоричности оценок, коль скоро речь заходит об отдельных произведениях.
Если же говорить о том, что, на мой взгляд, бесспорно, то оно сводится к следующему.
Первое. Более чем искусственно само деление на приключенческие произведения литературы и искусства и все остальные. А такое деление, пусть не всегда столь откровенно декларированное, как у А. Вулиса, существует. Есть и критерий раздела (опять же не провозглашенный): точное, полное знание материала, о котором пойдет речь, — обязательное требование для любой работы, кроме приключенческой. Вслух об этом, разумеется, почти не говорят, но косвенно, в виде сетований на то, что следование нормативным актам стесняет свободу творческого поиска, — сколько угодно.
Второе. Бесспорно, уровень творческого содружества литераторов и юристов оставляет пока желать лучшего. Современный автор редко отважится на поступки, которые казались естественными таким, ну скажем, небезызвестным мастерам слова, как Л. Н. Толстой или Ф. М. Достоевский. Те почему-то не считали зазорным и показать юристу рукопись, и записать под его диктовку целый акт патолого-анатомического исследования. И вот что любопытно: ни в одном из документов, оставшихся после этих гигантов, не найдешь сетований по поводу узковедомственного подхода служителей Фемиды к их творчеству.
Главное, наконец. Я не случайно акцентировал внимание читателя на негативной стороне этой отрасли творчества. Не случайно обошел все то положительное, что здесь нами накоплено. Тема, которой посвятили свое творчество авторы отечественных детективов, воплощает в себе проблемы социалистической законности, советской демократии, коммунистической морали. А это все не предмет для игривых упражнений ремесленника.
ОБ АВТОРАХ
БЕЛЯЕВ Михаил Александрович родился в 1931 году в деревне Лушкарово Орловской области. Во время Великой Отечественной два года бродил мальчишкой по оккупированной фашистами Украине в поисках хлеба и пристанища. После войны учился в ремесленном училище, в индустриальном техникуме, работал в шахтах Донбасса, служил в авиачастях на Дальнем Востоке, строил по комсомольской путевке московский стадион в Лужниках. Окончил Литературный институт имени А. М. Горького. Автор книг стихов и прозы: «Часовой», «Жизнь», «Молва», «Ливенка», «Москвичи с соседних улиц», «Свадьба», «Улетающая любовь». Член СП.
ЕГОРОВ Алексей Николаевич родился в 1924 году. После окончания ЛГУ имени А. А. Жданова работал в газетах Калининской области, в обкоме партии. Автор нескольких книг о селе. Работает председателем Калининского областного комитета по телевидению и радиовещанию.
КАРГАЛОВ Вадим Викторович родился в 1932 году в городе Рыбинске, кандидат исторических наук, доцент Московского государственного института культуры. Автор нескольких работ по отечественной истории, в том числе о борьбе Руси с монголо-татарскими завоевателями. В 1975 году за книгу «На степной границе» (изд-во «Наука») награжден поощрительным дипломом жюри Всесоюзного конкурса за лучшее произведение научно-популярной литературы.
КОНОНЕНКО Иван Владимирович родился в 1921 году в селе Мацковцы Лубенского района Полтавской области. После окончания средней школы служил пограничником.
В боях под Ленинградом был ранен. В составе войск 2-го Белорусского фронта участвовал в освобождении Польши и разгроме гитлеровцев в Восточной Пруссии. Награжден орденами Отечественной войны I степени, Красной Звезды, медалями «Знак Почета» и др.
После войны окончил военно-педагогический институт и военную академию.
Публиковался в журнале «Пограничник», «В едином строю», газетах «Московская правда», «Ленинское знамя», «Лесная промышленность» и других. В сборнике «Чекисты рассказывают» (изд-во «Советская Россия») опубликовал повесть «Тайна запретной зоны».
НАУМОВ Сергей Максимович родился в 1929 году в городе Новосибирске. После средней школы работал в геологических экспедициях в Сибири и на Алтае. Окончил Новосибирский пединститут, учительствовал, затем работал в редакциях газет и журналов Новосибирска. Окончил Литературный институт имени Горького и Высшие режиссерские курсы при «Мосфильме». Был режиссером в Минске. Автор книг «Плечо товарища», «Смелые паруса», «Застава» и др. По его сценариям (написанным в соавторстве с И. Болгариным) поставлены фильмы «Возвращение Вероники» и «Над нами Южный Крест». Член СП.
НЕКРАСОВ Юрий Максимович родился в 1933 году в Москве. Окончил юридический факультет МГУ. Работал следователем прокуратуры, журналистом; в настоящее время — старший консультант отдела правовой пропаганды Министерства юстиции СССР. Автор книги «Суд идет», ряда статей по нравственно-правовому воспитанию юношества и рецензий на приключенческую литературу.
ПЕУНОВ Вадим Константинович родился в 1923 году в Астрахани. Участник Великой Отечественной войны (пехотинец, артиллерист, авиадесантник, разведчик). Автор романов: «Последнее дело Коршуна», «Любовь и ненависть», «Чекист Аверьян Сурмач» и очерковых книг. Работал горняком. За участие во внедрении узкозахватного комбайна на шахте имени Ф. Засядько был удостоен звания ударника коммунистического труда. Живет в Донецке. Член СП.
ПРОНИН Виктор Алексеевич родился в 1938 году в городе Днепропетровске. Окончив горный институт, работал геодезистом, маркшейдером в Запорожье и Донбассе, затем журналистом — в редакциях газет Запорожья, Днепропетровска, Южно-Сахалинска. В настоящее время — редактор журнала «Человек и закон». Автор книг «Слепой дождь», «Тайфун».
РЫБИН Владимир Алексеевич родился в 1926 году в городе Костроме. Окончил военное училище и МГУ. Служил в танковых войсках. Много лет работал разъездным корреспондентом в журнале «Советский Союз». Автор книг «Путешествие в страну миражей», «По древнему пути «из варяг в греки», «Найди окно на окраине», «Звездный час майора Кузнецова», а также повестей о советских пограничниках — «Иду на перехват», «Трое суток норд-оста», «И сегодня стреляют», «Пять зорь войны», фантастических произведений — «Зеленый призрак», «Земля зовет», «Здравствуй, Галактика» и других.
ТУМАНОВ Олег Иванович родился в 1923 году в селе Подлесная Слобода Московской области. В 1941 году по первому комсомольскому добровольному набору ушел на фронт. Воевал в истребительной противотанковой артиллерии, после ранения направлен в водолазное училище, был инструктором-водолазом. Работал актером в театрах Орджоникидзе, Симферополя, Ленинграда, Смоленска, в Московском драмтеатре имени Гоголя; сыграл роли С. М. Буденного в «Красных дьяволятах», Прохора в «Угрюм-реке» и др.; снимался в главных ролях кинокартин «Тень у пирса», «Екатерина Воронина», «Время летних отпусков», «Девушка с кувшином», «Случайные встречи», «Свидание у черемухи» и др. Автор книги «Однажды летом» и многих рассказов.
ЧЕРНЫХ Иван Васильевич родился в 1927 году в поселке Докучаеве Воронежской области. В 1950 году, окончив военно-авиационное училище, стал военным летчиком. Много лет служил на Дальнем Востоке. В настоящее время полковник. Автор повестей «Мертвая петля», «Тревожные высоты», пьес — «Звуковой барьер», «Завтра будет поздно» и сценариев документальной ленты «Тревожные высоты» и художественного фильма «Гарантирую жизнь».
ЭМИНОВ Октем родился в 1934 году в селе Халач Чарджоуской области. Окончил Туркменский госуниверситет в Ашхабаде. Работал в редакциях областных газет и на телевидении. Автор многих прозаических и поэтических книг. Живет в Чарджоу. Член СП.
Примечания
1
Здесь и далее в повести приводятся подлинные документы. (Примеч. авт.)
(обратно)2
Вагжанов Александр Петрович (1877–1919). После событий, описанных в повести, был еще раз арестован в составе социал-демократической фракции и сослан в Сибирь. Освобожден после Февральской революции. Был избран председателем губисполкома. Позднее по заданию партии вел революционную работу в Сибири. В 1919 году по доносу эсера был схвачен белогвардейцами и расстрелян.
(обратно)3
Громова (по мужу Самойлова) Конкордия Николаевна (1876–1921), — профессиональная революционерка. В 1903 году была избрана членом Тверского комитета РСДРП, позднее принимала активное участие в революционном движении в Екатеринославе, Одессе, Ростове, Москве, Луганске, Баку, Петербурге. Участница V съезда РСДРП, с конца 1912 года — ответственный секретарь газеты «Правда». В 1914 году участвовала в выпуске демократического журнала «Работница». После революции проводила большую работу в женских советских организациях.
(обратно)4
Егоров Иван Иванович (Нил, Фома) (1874–1936) — рабочий. В революционном движении с 1889 года. Участвовал в нелегальном распространении «Искры». В 1902 году от искровского петербургского комитета участвовал в переговорах с Союзом ремесленников об объединении этих организаций. В 1903 году арестован и выслан в Тверь. За причастность к РСДРП арестовывался и высылался в Сибирь, в Вологодскую губернию. После Великой Октябрьской революции находился на хозяйственной работе. В 1925 году вступил в ВКП(б). В 1935-м — персональный пенсионер.
(обратно)5
Ханум — женское имя, а также почтительное обращение к женщине.
(обратно)6
Той — пиршество. Здесь употребляется в смысле «свадьба».
(обратно)7
Палван — борец, здесь пренебрежительно — «вояка».
(обратно)8
Тар — музыкальный инструмент.
(обратно)9
Дувал — глинобитная стена.
(обратно)10
Гуляби — сорт дыни.
(обратно)11
Бахарман — сорт дыни.
(обратно)12
Пешт — одна из исторически сложившихся частей столицы Венгрии — Будапешта. В XIII веке Пешт был самостоятельным городом.
(обратно)13
Бела IV — король Венгрии (1235–1270 гг.).
(обратно)14
Доминиканский «нищенствующий» орден, основанный в 1216 году, получил от папы Гонория III право повсеместной проповеди и исповеди. Орден развернул широкую миссионерскую деятельность. В XIII веке доминиканские миссионеры проникали во многие страны Восточной Европы, Персию, Монголию, Китай.
(обратно)15
Стефан (Иштван I) — венгерский король (1000–1038 гг.).
(обратно)16
Матрика́ (русское название — Тмутаракань) — город на Таманском полуострове.
(обратно)17
Аланы — оседлый народ, предки современных осетин, населявшие предгорья Северного Кавказа.
(обратно)18
Итиль — Волга.
(обратно)19
Великая Булгария — государство в Среднем Поволжье и Прикамье, существовавшее в первой половине XIII века.
(обратно)20
Имеются в виду Уральские горы, неподалеку от которых, в бассейне реки Белой, предположительно находилась прародина венгров.
(обратно)21
Легат — личный представитель римского папы, выполнявший временную миссию в какой-либо стране.
(обратно)22
Латинская империя — феодальное государство со столицей в Константинополе, созданное крестоносцами в 1204 году в результате завоевания части Византии. Первым императором был избран граф Балдуин Фландрский, один из предводителей крестоносцев.
(обратно)23
Никейская империя — государство в Малой Азии, которое возникло после завоевания европейской части Византии крестоносцами.
(обратно)24
Понт — Черное море.
(обратно)25
Боспор Киммерийский — Керченский пролив.
(обратно)26
Куманами (или команами) европейцы называли кочевников-половцев.
(обратно)27
Битва русских князей с монголо-татарами на реке Калке произошла в 1223 году.
(обратно)28
Сарацинами европейцы называли мусульман-арабов.
(обратно)29
Тихий океан.
(обратно)30
Море Франков — Атлантический океан.
(обратно)31
Хвалынское море — Каспийское море.
(обратно)32
Тумен — 10-тысячный отряд монгольской конницы.
(обратно)33
Улус Джучи — западная часть Монгольской империи, выделенная Чингисханом своему старшему сыну Джучи. После смерти Джучи улус унаследовал его сын, внук Чингисхана — Батухан. Русские летописцы называли его Батыем.
(обратно)34
Саксины— потомки древних хазар, которые остались жить в прикаспийских степях после разгрома Хазарского каганата киевским князем Святославом в 965 году.
(обратно)35
Предположительно между реками Яиком и Эмбой.
(обратно)36
Этиль (по-башк. — Ак-Идель) — река Белая.
(обратно)37
Мордваны — мордва.
(обратно)38
Древний Владимир делился на три части: Новый город, построенный в XII веке при князе Андрее Боголюбском, Средний город, центральная часть с детинцем и княжеским дворцом; Ветчаный город — укрепленный посад.
(обратно)39
Этим и иным сугубо правовым «особенностям» книги Ст. Родионова совершенно справедливую оценку дал в «Литературной газете» ленинградский юрист И. Быховский. К сожалению, однако, он почему-то обошел этическую сторону «следствия по-рябинински».
(обратно)



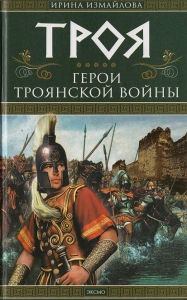

Комментарии к книге «Приключения 1978», Сергей Максимович Наумов
Всего 0 комментариев