Иван Недолин ДОЛИНА РОЗ Приключенческая повесть
ПЕРВАЯ ГЛАВА
Впоследствии Сергей Павлович Светлов утверждал, что все началось с дождя. А может быть, во всей этой почти невероятной истории сыграла роль затея геологов-разведчиков — коротать вечера, рассказывая друг другу занятные истории? Ведь именно в числе рассказанных историй и была история Круглой горы и легенда, связанная с этой местностью. И, конечно, не попади журналист Светлов в этот лагерь геологов, в его жизни не произошло бы таких больших и внезапных перемен.
Представляете, какая скучища охватывает человека, когда он вдруг оказывается один на один с унылыми серыми тучами среди безмолвных скалистых утесов, в непроходимой гуще озябшего, промокшего соснового бора, а главное — один на один с дождем, который как зарядил с утра, так и не переставал ни на одну минуту.
Светлов пробовал заняться описанием лагеря и приготовить очередную корреспонденцию для газеты, которая предоставила ему творческий отпуск на Урал. Но зябли руки и не находились нужные слова. Тогда Светлов решил хотя бы написать письмо приятелю и пожаловаться ему на дождь и непреодолимую скуку.
Скупой свет, проникая через слюдяные оконца, освещал походную обстановку палатки: четыре кровати, покрытые зелеными шерстяными одеялами… стол из досок, положенных на перекладины из жердей, покоящихся на кольях, вбитых в землю… Четыре табурета и несколько чемоданов дополняли картину.
При скудном освещении можно было рассмотреть и Светлова. Он был строен, уверенные движения выдавали сильного, выносливого человека, любящего путешествия, спорт. Русые волосы его были волнисты, здоровый загар покрывал несколько худощавое лицо. Очертания рта были твердые и свидетельствовали о прямоте характера.
Письмо тоже плохо клеилось. Мечталось побывать в Москве, в будоражащей обстановке газетной спешки, запаха типографской краски и горячих споров о завтрашней передовице, о последних новостях, о задержке заказанного фельетона… Светлов несколько раз начинал писать: «Дорогой дружище!» «Итак, я прибыл, как говорится, к месту назначения…» Скомканный листок блокнота летел в угол… Банально, вяло, скучно! Типичное не то! И Светлов принимался за письмо с самого начала:
«Ты, чертяка, наверное, идешь сегодня в Малый театр на премьеру или же на просмотр новой мексиканской кинодрамы? Или — скорее всего — на футбольный матч „Локомотив“ — „Динамо“? Завидую…»
— И очень глупо делаю, что завидую! — вслух произносил Светлов, уничтожая и этот лист блокнота.
Нет! Никак не вяжется письмо! Фразы какие-то тяжеловесные, трудные… как будто и они пропитались сыростью. Главное же — к чему скулить? И есть ли на то основания? В конце концов никто не гнал его в эту глухомань. Сам поехал. Экзотика? Но ведь ее можно найти в самом будничном, в самом обыкновенном!
Светлов сунул вечное перо в карман и вышел из палатки.
Шел тихий, нудный дождь. Тяжелые, темные тучи, клубясь, медленно плыли над горами, задевая вершины. Лес дремал в безветрии и тишине. От обилия влаги зелень казалась чрезмерно яркой, сытой. Тяжелый хвойный наряд сосен клонил меднокорые ветви к земле. Дождь шел и шел, не переставая, то всхлипывал, то барабанил, то шептался в лесу. Луга на взгорьях и в долинах томились от влаги. Пряный запах мокрой травы и зрелых ягод разливался в воздухе. При каждом вздохе Светлов набирал полные легкие сырости и настоя травы.
Горы тесно обступили долину, отгородили от мира. У вершин громоздились серые скалы, по склонам темнели леса, а внизу зеленели луга. Каменные отвесные стены создавали еще большее впечатление сиротливости, беспомощного одиночества.
Быстрый ручей, журча по камням и гальке, пересекал долину и скрывался в каменистом ущелье. Кажется, и без него Не было туг недостатка воды! В средине долины белели палатки одинокого лагеря. Кудрявые березы, отбившиеся от леса, простирали над ним целый узорчатый шатер. И каждая ветка обдавала брызгами и сверкала сотнями прозрачных капель.
Лагерь казался безлюдным. Лишь в одной палатке изредка раздавался стук и лязг ножей да слышалась песня. У входа в эту палатку на дощечке, прибитой к столбику, можно было прочесть расплывшуюся от сырости надпись, сделанную химическим карандашом: «Столовая». Но и без этой надписи запахи супа, специй, поджаренного мяса красноречиво рассказывали о назначении этой палатки. Рядом, под навесом из фанеры, приютилась кухня. Наперекор окружающей сырости, в печи, сооруженной из камней и глины, пылал огонь. Дым, вырываясь из низенькой жестяной трубы, стлался по крыше, опускался на землю. Из палатки в кухню порой пробегал повар в халате и белом плоском колпаке. Проверив кухонное хозяйство, повар скрывался обратно, сердито поглядывая вокруг. Повар маленького лагеря был недоволен ненастной погодой.
На лугу мокла под дождем башкирская телега. В этом горном экипаже не было ни кусочка железа — все дерево, лубок и мочало. Низкорослая, плотная, большеголовая лошадь, не обращая внимания на дождь, аппетитно щипала сочную душистую траву. Бока и спина лошади блестели от влаги, дымились от испарины. Белая, с желтыми подпалинами собака лежала под телегой и, положив остроухую голову на передние лапы, дремала.
Отряхнув с головы капли дождя, Светлов вошел в свою палатку, сел за стол, достал из кармана куртки ручку и с какой-то отчаянной решимостью снова принялся писать.
«Дружище Саша! Признаюсь: я начинаю скучать. И от этого острее переживаю свою неудачу с поездкой на Камчатку. В то же время я не хочу сказать, что на Урале скучно. Урал прекрасен! И горы величавые, и долины красивые, и реки быстрые, и дичи здесь тьма-тьмущая: величественные лоси, неуловимые козы, лисы, тетерева, белки… видел и медвежий след в лесу… А ягод, ягод!.. Вот бы где твоя Надя наварила варенья! Вообще чего только тут нет! Велики богатства Урала! Ценные породы лесов, плодородные земли, золото, железная и медная руда, камни-самоцветы, нефть…»
Светлов задумался. Вот те на: начал со скуки, а съехал на дифирамбы! Вроде нелогично получается. Или ничего? Он оставил перо и прислушался к стуку дождя о тугое, намокшее полотно палатки. В одном углу полотно провисло, и вода, протекая, капала на чемодан. Фибровой кожи желтый чемодан попутешествовал на своем веку немало: был он подержан, оклеен множеством багажных ярлыков разных цветов и размеров. По чемодану можно было судить о неусидчивости хозяина. Среди названий городов и станций значились и такие, что не отмечены еще на картах Советской страны. Географы и почтовики явно отставали от строителей!
Светлов встал и передвинул чемодан под стол. Закурив, он постучал по полотну. Палатка загудела, как барабан, мелкая водяная пыль посыпалась на стол, на походные кровати и чемоданы.
«Дорогой дружище, — продолжал Светлов, придвигаясь как можно ближе к крохотному оконцу. — Боюсь, что это письмо, прежде чем прочитать, придется тебе основательно просушить и прогладить. Я сбился со счета и не могу тебе точно сказать, который уже день хлещет здесь дождище. От него-то, наверное, и моя скука. Но ни дождь, ни жара, ни холод не в силах остановить работу. Вот и сейчас все на работе, только я один маюсь в пустой палатке. В нашей изыскательной партии есть два ученых башкира — геолог и землемер. В аулах я видел студенток, приехавших на летние каникулы из городов. Одеваются они по-городскому, в яркие национальные костюмы облекаются лишь в самодеятельных спектаклях на сценах колхозных клубов. Здешние горные колхозы очень своеобразны и самобытны. Охотник и коневод работают бок о бок с пчеловодом и дояркой, лесорубом и пахарем. Отходники идут на золотые прииски, железные и медные рудники, на сплав леса… Если бы не этот чертов дождь, я расписал бы тебе поподробнее красоты Урала. А сейчас — не то настроение, даже письмо не пишется толком. Снаряжен я, как герой из романов Майн-Рида или Купера. Куртка на мне кожаная, сапоги охотничьи, у пояса кинжал, в кармане браунинг, ружье мое бьет дробью и медвежьей картечью. Представляешь мой внушительный вид? Десяток лет назад здесь было не везде спокойно, после гражданской войны остатки повстанческих банд скрывались в горах. А сейчас кругом тихо. От нашего лагеря до ближней деревни километров тридцать, а до станции железной дороги — все полтораста. Из русских специалистов назову инженера-геолога Борового Евгения Петровича. Он не один десяток лет живет в горах: летом — на полевых работах, зимой — где-либо в заводской лаборатории. Он с высшим образованием, знает и любит литературу, искусство, так что приятно с ним и поговорить. Он долго расспрашивал меня о новостях в этой области. На мой вопрос — когда намерен побывать в Москве — он только рукой махнул: „Не могу сказать даже приблизительно! Некогда… Вот построим еще один металлургический комбинат, тогда и отдохнем, видимо“. Впрочем, и меня скоро не жди. Раньше октября в Москве не буду. Я знаю, что ты не большой любитель писать письма, но, если раскачаешься, сообщи, что нового в театрах, в литературных и газетных кругах? Будущим летом надеюсь писать тебе „с камчатским приветом“. А пока… Пока шлю тебе эту порцию меланхолии и эти рассуждения в ненастную погоду… Привет друзьям. Кстати, кто обретается сейчас в моей комнате? Пока всего наилучшего. Адрес прежний. Твой Сергей.»
— Все пишете, товарищ Светлов? — раздался голос.
Вошедший опустил капюшон брезентового плаща и начал раздеваться. Мокрый плащ его коробился и при движениях звенел, как фанерный. Раздевшись, вошедший присел к столу и закурил. Это был инженер Боровой, пожилой человек, в сапогах, в защитного цвета толстовке и таких же брюках. Из-под старенькой форменной фуражки с молоточками виднелись седоватые волосы. Внимательные серые глаза смотрели чуть насмешливо. Усы у него были неопределенного ржавого цвета (признак закоренелого курильщика), а щеки чисто выбриты, и это его молодило.
— Пишу, — отозвался Светлов, заклеивая конверт. — Письмо другу. Пишу и скучаю…
— Сочувствую, — согласился инженер и, как будто отвечая на раздумья Светлова, добавил: — Мало экзотики на Урале. Вот лег сорок назад насчет экзотики здесь было куда обильней.
— Еще бы! — живо откликнулся журналист. — Край-то был необжитый… Каждый приехавший превращался, поди, в Робинзона…
— На моей памяти прошла знаменитая уральская золотая лихорадка. Заводов в то время было мало. Интересовало людей главным образом золото. А золото открывалось обильное, и богачи плодились, как грибы. Демидовы, князья Вогау, граф Пашков, Берель, Дубов были некоронованными королями Урала. Среди иностранцев наиболее крупным был англичанин Лесли Уркварт. Сам-то мистер Лесли в Лондоне изволил обитать, на Урале трудились его компаньоны, доверенные. В те годы заводы новые, прииски строились, железная дорога через Урал на Сибирь прокладывалась, на Дальний Восток. А о такой стройке, что сейчас идет, и понятия не имели. Сейчас старый Урал поднимается дыбом, на гора…
— Я завидую вам, Евгений Петрович! Вам бы об Урале романы писать!
— Романы! — отмахнулся инженер. — Какой из меня литератор? Собирайтесь-ка, молодой человек, в столовую. Наши возвращаются, слышите, Альма их встречает.
Светлов встал. Инженер смотрел на журналиста благосклонно, улыбаясь.
— Лет-то вам сколько, Сергей Павлович?
— Да уже тридцать скоро. Старик!
— Старик не старик, а возраст, можно сказать, критический. Женаты?
— Нет.
— Что так?
— Все как-то времени не было… И никак не могу встретить ту, которая прекраснее всех на свете…
— Все носитесь по белу свету?
— А разве плохо — много путешествовать?
— Как сказать… Все в меру. У меня, например, от этого личная жизнь расстроилась, семья распалась. Пока я бродил по Уралу, жена ушла к другому и сына с собой взяла. Этот «другой» тоже инженер, вместе с ним я в горной академии учился. Жил он в городах, работал в правлениях… Невзрачный человек, но жена предпочла его. Положение, городская жизнь, курорты… А я так и остался один, было мне тогда уже за сорок, жениться, вновь семью заводить казалось поздно. Так и доживаю век бобылем, как старый горный волк…
Голос у инженера дрогнул. Скрывая волнение, Боровой заговорил о другом.
— Из Быстрорецка газеты и письма привезли. Только нам с вами писем нет. А ведь нельзя терять связи с миром. Вы вон какой молодец, девушки поди заглядываются!
— Ну, что вы…
— За романтикой гоняетесь? И чтоб за тридевять земель? А она, романтика, порой рядом с нами, вот тут, под ногами валяется.
— Что вы хотите сказать? — насторожился Светлов, хотя в тот момент и не придал особого значения словам инженера.
— Ничего… так вообще… — нехотя ответил тот и направился к выходу из палатки. — Ничего, кроме того, что пора обедать. Э, да и дождь перестал! Вот чудесно!
Полюбовавшись на красоту, инженер Боровой прислушался:
— Слышите? Едут. А у меня, кстати, разыгрался аппетит.
Изыскатели, подъехав к лагерю, спрыгивали с телег и, отряхнувшись от сырости, разбирали инструменты, ящики и мешки с пробами и направлялись по палаткам. Альма, встретив хозяев, считала, что ее служебный долг выполнен, и сидела в стороне, зорко наблюдая, однако, за всем происходящим. Повар, выглянув из столовой, приветствовал прибывших взмахом руки. Крышка от медной кастрюли, которую он по забывчивости держал в руке, ослепительно сверкала.
— Яков! — крикнул один из прибывших, молодой смуглый человек с черными, чуть раскосыми глазами. — Что сегодня на меню вашего ресторана?
— Суп с лапшой а-ля неразбери-пойми, котлеты «Уральская Швейцария», а на сладкое — земляничное желе «Букет алого цветка» и для знатоков чай «Горный нектар»…
— Удовлетворен, товарищ шеф-повар ресторана «Приятный аппетит»! Ваши гости, Яков Егорович!
ВТОРАЯ ГЛАВА
Солнце скрылось за гребнем горы. Опускался тихий вечер. На чистом темнеющем небе сияли, трепетно мигая, звезды. После ненастья и вынужденного молчания пернатое население леса и лугов, словно наверстывая, щебетало и пело наперебой. Какая-то птичка тосковала, собирая отбившихся птенцов. От земли, щедро напоенной дождями, поднимались пряные запахи трав, цветов и спелых ягод.
Изыскатели отдыхали после трудового дня. Возле кухни пылал большой костер. Люди сидели и лежали вокруг на земле, на разостланных циновках, кошмах и плащах и негромко переговаривались, словно опасались спугнуть очарование тихого погожего вечера.
— Вечер-то, вечер! — мечтательно вздохнул повар. Он сидел без халата, лишь белый колпак отличал его от остальных изыскателей.
— Ласка уходящего лета, — в тон ему откликнулся Боровой. — Август на исходе, лето было прохладное, дождливое, а осень, видимо, будет что надо.
— Асгат Нуриевич, сыграли бы! — обратился повар к одному из геологов, средних лет башкиру в обычном полевом костюме защитного цвета. — Душа томится…
— Просим, просим! — раздались голоса.
Асгат не заставил себя упрашивать. Он достал из маленького футляра свой инструмент — простую лесную дудочку. Приложив конец дудочки к губам, набрал воздуха и прошелся пальцами по отверстиям.
Звуки курая[1] похожи на пение ветра в степи. Они то шелестят, словно сухие листья в лесу, то журчат, как вешние ручьи, то гудят, как провода телеграфа в ненастье. Дитя гор, Асгат не расставался с кураем, из аула унес его в город, не забыл про него и в институте да и теперь повсюду возил с собой.
Затихли звуки курая незаметно, как и родились. Несколько минут стояла тишина. Потом кураиста сменил самодеятельный струнный оркестр. Нежно пропела, задавая тон, гитара. Рассыпала трели мандолина. Зазвенела говорливая балалайка. Музыканты начали плясовую.
Повар медленно, как бы нехотя вышел на свет, в круг, задумчиво посмотрел на костер, на сосны, столпившиеся вокруг костра, поправил колпак и вдруг, всплеснув руками, закружился в танце, трамбуя сапогами сыроватую землю.
Тут не усидели и остальные. Люди носились по кругу, вскрикивая, хлопая в ладоши, приговаривая что-то, припевая. В колеблющемся свете костра фигуры пляшущих то пропадали в тени, то появлялись, облитые отблеском багрового пламени.
Наконец танцующие устали. Музыка стихла.
— Хорошо, — одобрил Боровой и подбросил охапку сучьев в костер.
Пламя сначала сникло, но через минуту, разгоревшись вновь, взметнулось еще выше, стреляя снопами искр.
— Теперь ваша очередь, Евгений Петрович, — сказал Светлов.
— Я не танцую…
— Да, но вы обещали рассказать что-то из ваших приключений…
— Какие приключения? Ну, ездили, лазили по горам. Работали…
— Ох, скромничаете! Уверен, что бывали вы в переделках и много чего повидали!
Инженер промолчал, прикуривая папиросу об уголек. Потом обратился к журналисту:
— Смотрите, небо какое. В такой вечер не о приключениях рассказывать, тут стихи необходимы! А ну-ка, Сергей Павлович, потревожьте лучше свой архив!
— Что вы! Разве я поэт?!
— А недавно что вы мне читали? Явно не прозу! Что-то о степи, о курорте…
— Пустяки, — смутился Светлов, — путевые зарисовки, проба пера.
— Просим, Сергей Павлович!
— Напрасно просите, сами убедитесь. Да ладно, прочту. Только еще раз повторяю, я не поэт, не судите строго.
И Сергей Павлович начал декламировать чуточку нараспев:
Река степей Аксаковым воспета. Вся в зелени течет, в потоках света. Вот станция. Безмолвный семафор. Курорта здание. Курзал. Степей простор. В лугах, в дубравах птиц залетных пенье, Неясных деревень вдали виденье, Кабинки светлые под сенью тихих рощ, Вокруг волнуется желтеющая рожь… Здесь мило все: прогулки, и букеты, И «мертвый час», и ясных зорь отсветы… В час утренний на завтрак гонг зовет… И тишина… И никаких забот… И время удивительно летит… Отличный сон, отменный аппетит… Все хорошо! Но первый гимн хвалебный — Тебе, кумыс, шипучий и целебный! Напитка действие, как чудо из чудес: За месяц фунтов на десять привес!Когда Светлов кончил, раздались аплодисменты.
— Здорово, Сергей Павлович! Особенно про десять фунтов!
— Это шутливое стихотворение я изготовил вместо письма, — пояснил Светлов. — А кумысу я и сейчас бы непрочь выпить.
— На курорт бы податься! — вздохнул Боровой. — Давненько не бывал.
— М-да. На южный бархатный сезон… — поддержал Асгат.
— В Кисловодск, к чудесному нарзану…
— Или в Сочи. К источнику Мацесты и к морю.
— Позвольте! А здесь разве не Сочи? Не рай земной? Посмотрите, какая красота вокруг, особенно когда не льет дождь…
— Замечание справедливое. А пока, — напомнил Светлов, — мы ждем рассказа Евгения Петровича. Напрасно он надеется отвертеться!
— Не поздно ли будет? Не пора ли спать ложиться? Завтра ведь рано вставать.
— Что вы! Это пока было ненастье, мы спозаранку спать заваливались, под шепот дождя. А в такую погоду, как сейчас, только и посидеть да побеседовать!
— Тогда знаете что, — предложил Боровой, — давайте заведем порядок: по вечерам, на отдыхе, пусть каждый из нас расскажет что-либо примечательное из своей жизни или то, что захочет, пусть это будет даже сказка или описание приключений охотников, золотоискателей… Мы никакими рамками ограничивать не будем и послушаем охотно…
— Браво, Евгений Петрович! — воскликнул Светлов. — Организуем вечера воспоминаний и приключений!
— Правильно! Хорошая идея! Шехерезада! Тысяча и одна ночь!
— А старостой Шехерезады предлагаю назначить Евгения Петровича.
— Верно! Одобряю!
— Кого же больше? Знатоку и старожилу Урала — почет и место.
— Хорошо, — согласился инженер, — но я потребую и дисциплины. Чтобы без отнекиваний.
— Конечно! Как же иначе?
— И чтобы староста тоже не отставал! Староста старостой, а рассказывать тоже заставим.
— Само собой разумеется!
— Согласен, согласен, — улыбнулся Боровой, — и до меня дойдет черед. А теперь, чтобы не откладывать в долгий ящик, начнем осуществлять наше решение сегодня же, и даже немедленно.
— Вот это дело! — подхватил повар, усаживаясь поудобнее и поправляя кухонными щипцами костер. Мастер кухонного искусства всегда держал при себе какое-либо орудие своей профессии.
— Властью, мне врученной, — продолжал инженер, — прошу Астата Нуриевича начать нашу программу.
— Правильный выбор! — одобрил Светлов. — Слово — питомцу гор, сыну башкирских аулов!
— Верно! Просим! — раздалось вокруг.
Асгат подумал и сказал:
— Хорошо… Воля товарищей — закон. Прошу не взыскать. Как сумею, так и расскажу.
— Не прибедняйтесь, коллега, — заметил Боровой. — Ваш талант музыканта и рассказчика нам известен. Внимание, друзья!
Асгат деликатно кашлянул. Все сдвинулись ближе вокруг костра… И полился рассказ — такой же певучий, как переливы курая.
На Кара-Тау, Черной горе, по ночам спят тучи, а когда небо плачет, льнут к каменной груди дождевые облака. В ясный день Кара-Тау облита светом, купается в солнечных лучах, смотрит вершиной своей через хребты и горные трущобы вдаль, где синеют, переливаются в мерцающем мареве далекие степи…
…Светлов вначале слушал рассеянно, но постепенно его завлекла именно эта музыкальность рассказчика. Асгат ни на кого не смотрел. Он слегка покачивался, рассказывая. Это походило на мелодекламацию. Аккомпанементом был шум сосен и потрескивание сосновых веток в пламени костра.
…Гор, скал и хребтов, пропастей, смеющихся зеленых долин, шумных речушек с падями, водопадами, лесу, лесу на Урале — не занимать!
Горы и лес.
Лес и горы.
Камни.
Глушь.
Кара-Тау — не простая гора. На вершине ее прилепилась, тянется вверх — как колонна, как палец шайтана[2] — высокая скала. И когда собирается на досуге народ и курай плачет и в песнях передает легенды о былом, можно узнать от старого курайсы[3], что в старину седую на скале этой жестокие ханы казнили своих врагов. Приведут туда, прикуют и оставят умирать, с солнцем близким и аллахом беседовать, в сторону города святого Мекки поклоны класть.
Так было.
Оттого на вершине, на скале, много костей белело раньше. А теперь нет: время съело, птицы хищные растаскали, ветры хлопотливые повыдули, дожди посмыли.
И осталась от былого одна лишь легенда. Если хочешь ее послушать, не пропускай сабантуя[4]. Там расскажут курайсы все.
Однажды снизу, из зеленой долины, где змеей гибкой, блесткой вьется поток, а у подножья горы бушует водопад, — донесся шум. Топоры загремели, запела визгливо пила, заговорили люди, потянуло едким дымом, застонали столетние дубы, застонали, падая, нежные березы и стройные сосны.
Пришла артель лесорубов.
На шум вышел — злой и властный — хозяин здешних трущоб — медведь. Потревоженный, он оставил на склонах горы, в малинниках, серую подругу свою с медвежатами.
Медведь долго высматривал пришельцев из чащи лесной. А потом, угрюмый, ворча и гневно сопя, полез на вершину Кара-Тау.
Солнце скрылось за горами, только вершина Кара-Тау розовела закатом. По становищу лесорубов стлался дым от костров. День рабочий кончился, русские мужики закурили «козьи ножки», лесорубы-башкиры песни длинные и заунывные затянули, а старики на бешметах творили вечерний намаз[5].
И вдруг с Кара-Тау понесся каменный град. Медведь ворочал и сбрасывал с вершины огромные глыбы. Камни неслись вниз, срывали за собой сухостой, и весь этот поток устремился на стан лесорубов.
С лесосеки народ разбежался, но иные остались на месте навеки. В этот вечер напрасно млела в уцелевших котелках ароматная картошка. По аулам, деревенькам горным слух пошел, что долина у Кара-Тау заказана и что кто нарушит покой ее, не сносить тому головы.
…Джурабаю — девяносто зим.
Джурабай долго пожил, его ждут давно в раю Магомета тридцать три красавицы-жены, табуны коней, кибитка славная и всякие радости и удовольствия.
Джурабаю не страшно покинуть этот свет: все равно пошло не так, навыворот, и уже не один год колесит по горам то туда, то сюда многолюдное войско.
Джурабай не поймет, почему народ друг на друга пошел, почему сын его и молодежь — больше из тех, что допьяна нанюхались пороху на войне, — почему они красные лоскуты прицепили к груди и ушли на заход солнца, а старики побогаче — тянут на восток, к Валидову, Дутову и Колчаку.
Ик-Берды, деревушка Джурабая, в стороне от дорог, в глуши, в горах затерялась, — казалось бы, ни проехать, ни пройти. И все-таки в зимнюю пору пробрались сюда те, что с востока.
Мороз колол по горам камни и деревья, снегу кругом насыпало по шею, а они прибежали на лыжах, сильно торопились, пробыли недолго, но память оставили такую, что не забыть скоро. Увезли с собой немало коней и баранов, перевернули все вверх дном в избушках, причинили немало горя и покрыли головы многих позором.
Против силы что сделаешь? Из джигитов кое-кто и не вытерпел, поперек встал, но увели их за деревню, и долго, тоскливо выли над ними собаки: пристрелили непокорных…
Вот и теперь за горами что-то грохочет глухо. И все уже знают, что это пушки: по аулам слух идет, что с заката солнечного идут большевики, что у Баймака, у золотых приисков завязался бой.
Эта зима у всех в памяти, всей деревней ушли тогда в горы, на кочевки, за Кара-Тау.
Джурабай остался один.
— Смерть заглянула в очи мои. Хочу умереть у могил отцов.
Зейнап, внучка Джурабая, ластилась к деду, просила:
— Айда, бабай, яйлэуга…[6]
Тянет старика на кочевки. Но уперся старый, бородой седой трясет:
— Юк![7]
Нет, Джурабай не поедет. Что решено, то решено.
Фатих — парень молодой, смуглый — сговор тайный с девушкой ведет. Зейнап смеется, рукавом широким закрывается, а сама, видать, во всем согласна и рада. Так и так: Зейнап с кочевок привезет Джурабаю лепешек и крута, сыру свежего, баранины и кумыса, напитка живительного; Зейнап не хуже джигита верхом ездит, Фатих обещал ее провожать — до кочевок не дольше половины дня хорошей езды…
Джурабай греется на солнце, жмурит от лучей полуслепые глаза, тускло улыбается молодым:
— Якши! Якши!
Джурабай согласен. Джурабай доволен. Он благодарит.
Незваные гости явились скоро. Сначала выехали из лесу трое на конях. Помаячили у опушки, подъехали ближе, понюхали воздух и скрылись. Потом из лесной чащи выскочило десятка два конных. Цепочкой, осторожно двинулись вперед. И вдруг ринулись вскачь на деревню.
Джурабай на крылечке сладко дремлет. Хорошо старому на солнце. Он и не чует, что беда на пороге.
Собака старая — на всю деревню одна с Джурабаем осталась — чуть успела лениво и хрипло тявкнуть, как в улицу — в топоте, шуме, ругани, звоне оружия — ворвались конные.
— Эй! Где все? Где староста?
Очнулся Джурабай. Видит — крутится перед ним с десяток всадников. Впереди молодой, в золотых наплечниках, бритый. Видно, начальник. Так и сверлит старика зелено-серыми холодными глазами.
— Где народ?
Джурабай когда-то плоты по Ак-Идель, по красавице-реке Белой, по Каме гонял, на Сакмаре на молевом сплаве работал, бывал в горах, русский язык понимал, но не подал виду. Бородой седой мотает:
— Юк… Бельмейм мин…[8]
Бритый тычет плеткой. Дескать, я тебе покажу «бельмейм».
— У вас все «юк» да «бельмейм»! Все не понимаете! Народ где, говори?! Да поживей пошевеливайся!
— Юк…
— А ну-ка, развяжите ему язык!
Две плети ожгли кости стариковские. Бешмет ветхий сразу сдал, треснул от ударов.
Не устоял Джурабай, на землю упал.
— Алла!
— Поручик Кузьмин, что у вас тут? — спросил, подъехав, полный и важный начальник.
— Господин полковник, деревня пуста, а этот старик говорить не хочет, скрывает, куда все уехали.
Поручик почтительно приложил руку к козырьку.
— Не говорит? Да ведь он, верно, не понимает по-русски! А вы с переводчиком. Трофимов!
Переводчик, бородатый, угрюмый казак, допрашивая, уговаривал Джурабая и выразительно показывал на поручика.
Джурабай одно твердит:
— Уехали на кочевки. Куда — разве ему будут говорить? Джурабай собирается умирать, ему незачем знать дорогу на кочевки. У него другая дорога. Умирать пора Джурабаю.
Переводчик сердится, поручик кусает губы, кивает солдатам. Плеть обнимает опять старика и бросает наземь.
— Ой, алла!
Полковник морщится:
— Бросьте, поручик!
— Да ведь полку нужны подводы, лошади, провизия.
— Разведка найдет.
— Надо, чтобы он с ней поехал, указал. Где тут в горных трущобах разберешься!
— Да он на первой версте окочурится, не видите разве, что у него еле-еле душа в теле!
— За околицу! — бросил поручик, отъезжая. — Черт с ним, коли толку от него не будет — ликвидировать, и дело с концом!
Джурабая пристрелили за крайней избенкой. А когда сумерки стали опускаться и догорело солнце на вершинах, разведка привела из гор Фатиха, избитого, с петлей на шее, привязанного к седельной луке. Старший пошел с докладом к полковнику, а молодого башкирина заперли в амбар.
Казак Трофимов, приехавший недавно с гор вместе с разведчиками, рассказывал, что с пленным была и девчонка.
— Зверь, огонь-девка!
Его спросили сразу в несколько голосов обступившие солдаты:
— Как же вы ее проморгали?
— Да што! Как это мы их сгрудили, так ребята — к девке. Та кусаться, царапаться. Ну, куда против четырех! Смяли ее. А мы трое с парнем возились. Как забьется он, только видит — не вырваться, возьми и заговори по-русски, а то все бельмесами кормил. Кричит: «Солдаты, пустите девку, озолочу, — говорит, — золотом награжу!»
— Дошлый! Знает, с какого боку подойти! Тоже тебе, миллионщик нашелся!
— А что ты думаешь? Хоть и ребята объелись белены, а остановились. А вдруг в самом деле золотоискатель какой-нибудь? Ведь золота тут по горам — бессчетные клады! А он сыплет: «Жила, — говорит, — тут есть недалеко, золото хоть руками бери. Много! Покажу, — говорит, — только не трожьте сестру!»
— Сестра, вишь, она ему…
— А кто его знает? Мы смехом к нему: «Где это золото твое?» — А он: «Ежели, — говорит, — не тронете девку, хоть сейчас поведу». Ребят заело: шутка тоже! С золотом-то из ада можно удрать, не то что из этой маяты! Отстали от девки. «Где золото?» — «Тут, — говорит, — у горы, что выше всех, водопад есть. Там!» — и рукой показал.
— И повел?
— Не то что повел, а провел, можно сказать. Сгрудились-то мы около оврага, лес, крутизна — ничего не видно. Заболтались, а девка-то — фырк, и поминай, какой масти! Только ее и видели!
— Убегла?!
— Как есть. Ударили по оврагу залпом, да разве достанешь? А догнать и думать нечего: камни, овраги, глушь…
— А парень что?
— Бить мы его взялись, чуть не кончили, хорошо спохватились, что живого надо в штаб доставить.
— А золото как же?
— А шут его знает. Врет, чай. Дорогой, как отдышался, опять говорил, что правда, до золота, говорит, доведу. Да черт его знает, куда он приведет. Вместо золота, поди, влопаешься так, что ног не унесешь.
Разговор этот услышал подошедший поручик. Торопливо пошел он к амбару, где заперт был пленный.
«Золото рядом! — думал он. — Достать бы золота — и бежать, бежать… В тыл, за границу, к черту из этого пекла! Он укажет! Обещаю ему жизнь, мне какой от этого убыток…»
Часовой у амбара брякнул винтовкой:
— Кто идет?
— Начальник штаба. На допрос.
Быстро нырнул в отпертую дверь.
В темноте кто-то заворочался, стонет глухо.
Поручик подошел ближе и зашептал горячо, хрипло, торопясь:
— Отпущу на волю… Отведи меня, где золото, и валяй, куда глаза глядят… А если не так… плохо будет! — поручик выхватил шашку. — Обманешь — убью, как собаку! Так и знай!
Пленный ответил:
— Ярар, ладно. Поведу, куда хочешь. Уф, золота много! Самородок есть. Песок золотой много. Только на волю пускай.
Пошел поручик докладывать. Уже и план у него готов.
Входит к начальнику, а там в карты играют, глаза у всех кровью налились, азарт, и возле каждого кучки золотых монет и пачки ассигнаций. Полковник только что ва-банк объявил, как увидел вошедшего в избу поручика.
— Ну, что пленный? Столковались?
— Завтра поведет на кочевки.
— Хорошо. Сыграем?
— Никак нет. Разрешите завтра с утра в разведку?
— Сами?
— Да. Прапорщика Федотова возьму.
— Есть! — отозвался молоденький офицерик.
— Меня возьмите, — двинулся от стены рослый казак.
— Правда, поручик, возьмите переводчика.
— Слушаюсь. Трофимов, едем с рассветом. Чтобы кони были готовы.
И засел за изучение карты местности. Гору, что всех выше, стал разыскивать да выбирать направление, куда с золотом двинуться.
Ик-Берды покинули с первыми лучами солнца. А в полдень Фатих сказал, что скоро будут на месте.
Поручик при отъезде приказал Фатиха развязать, накормить, и сейчас Фатих ехал на коне с развязанными руками, но вокруг пояса Фатиха обвилась крепкая веревка, и конец ее был привязан к луке седла, на котором ехал грузный, угрюмый казак Трофимов.
И близка была воля, и далека… Веревку не трудно сбросить проворному джигиту, но на спине своей Фатих все время чуял злые глаза поручика и револьвер, что наготове в его руках…
Фатих вел к горе Кара-Тау, к водопаду, ручью золотому. Чуткое ухо Фатиха давно уже ловило шум потока в шорохах и лесных звуках. Фатих думал о Зейнап. О том, как он убежит, когда эти займутся золотом, как приведет он к пади золотой джигитов и те перебьют конвоиров, отнимут намытое ими золото и побросают обратно в ручей… Ведь золото, и лес, и все кругом заказано… О золоте наказывали молчать под страхом смерти старики…
Ехали молча, думали каждый о своем. Фатих думал о воле и Зейнап, офицеры и казак о другом. И каждый — о разном.
А о разном стали думать с того времени, как Кузьмин объяснил настоящую цель поездки. Когда выезжали из деревни, Кузьмин приказал взять с собой два медных таза и приторочить их к седлам. Казак Трофимов догадался об их назначении, но смолчал; прапорщик что-то проворчал насчет лишнего груза, но вскоре забыл о тазах, поблескивавших яркой медью на солнце.
Поручик сообщил правду только на последней остановке:
— Этот башкирин ведет нас к золоту. Золота, полагаю, будет много. А гора — вон она. У горы шумит водопад — слышите? Вряд ли парню есть смысл обманывать, жить-то ведь каждому хочется.
Здесь Кузьмин остро взглянул на казака. Тот не повел и бровью. Только в глазах, спрятанных глубоко под лохматыми бровями, полыхнул огонь. И потух так скоро, что поручик не успел и заметить.
— Мы попробуем: если золота порядочно, намоем пробу и сообщим в отряд. Это будет хорошей помощью для правителя. Если проводник обманет, мы заставим его указать, где кочевки. Самого спишем в расход, а от кочевок и деревни не оставим камня на камне.
Казак потемнел еще больше, а прапорщик продолжал врать:
— Мы добудем груды золота, подарим его Верховному правителю, поможем спасти Русь от большевиков. Ясно?
Поручик имел свой план. Он был прост.
«Придем, — соображал он, — намоем золота… Если россыпь богатая, вчетвером много можно взять… А потом…»
Глаза поручика сверкнули холодной решимостью:
«Потом я всех их пущу в расход, а золото возьму себе!»
И пальцы его до боли стиснули рукоятку кольта.
На черта ему и Верховный правитель, и вся эта заваруха! Золото — это все. Имея золото, не к чему больше драться. С умной головой и золотом поручик надеялся скоро очутиться в Париже. Это он решил твердо, как твердо решил и убить всех, когда они намоют ему золота.
Одну минуту он колебался насчет прапорщика Федотова. Но решил: зачем делиться, когда можно забрать себе все? Одна доля хорошо, а две доли еще лучше.
Думы казака были коротки, у него были свои планы и свои соображения. Трофимова, пробывшего на фронте всю германскую войну, заработавшего лычки на плечи и чин урядника, затащили атаманы к белым насильно. У Трофимова недалеко, у Миасса, родная станица. А под Миассом — тоже золотые места. У казака сразу дрогнуло сердце, как он услышал про золото. У него и без того был замысел. Он решил было этой же ночью освободить Фатиха и убежать с ним на «золотую падь». Поездка поручика спутала все карты. И теперь план Трофимова был прост: господ убрать, а с Фатихом сговориться миром, потом переждать в горах, пока утихнет война, на досуге намыть золота и — домой в станицу…
Между тем, все они двигались дальше и дальше. Дорога становилась все круче. Под конец ехать стало совсем трудно. Ручей прыгал по камням, преграждая путь.
Слезли с коней. Шли по берегу, порой приходилось пробираться прямо по воде.
Казак отвязал от луки веревку Фатиха. Веревку взял поручик, а казак повел лошадей. Когда лес редел, видно было, как гора становится все ближе, надвигается, виснет над головами. Впереди нарастал шум водопада.
Лес кончился неожиданно. Впереди, за зеленой полянкой, громоздилась отвесной стеной серо-зеленая круча. Вот, кажется, они и у цели. С обрыва, с двухсаженной вышины, падал поток. У подошвы он кипел, как в котле, а дальше вился тихо по мелкому песку, добирался до леса и снова принимался прыгать по камням и рытвинам.
— Падь! Золото!
Кузьмин, бросив веревку, рванулся вперед. Прапорщик бросился вслед за ним.
Котелками черпали песок прямо из кипящей ямы под водопадом, крутили, крутили — мыли. Поручик сунул котелок Фатиху, а сам хищным взором следил, чтобы тот не бросился бежать, а потому зажимал конец веревки коленями ног.
Поручик вдруг вскочил с колен, выпрямился. Он успел уже-отцедить воду из таза и теперь рассматривал песок на ладони.
Прапорщик очутился с ним рядом.
Тяжело, словно нехотя, с винтовкой в руках подошел и казак.
— Вот! — задыхаясь произнес поручик. — Видите? Вот оно, вот оно!..
На ладони средь сероватого песка тускло поблескивали темножелтые крупинки.
— Золото! — крикнул прапорщик. — Понимаете вы, черт вас побери? Золото! Настоящее золото!
— Да, золото, — подтвердил Кузьмин. — И какое содержание! В горе жила, водопад работает, как промывная машина. Тут природа за тысячелетия накопила огромное богатство! Прапорщик! Урядник! Живо! Мыть! Мыть!
И отпрянул вдруг в сторону.
Приклад казака, со свистом миновав голову поручика, тяжело' рухнул в грудь прапорщику.
Прапорщик икнул, словно подавившись, опрокинулся навзничь, и на губах его запенилась кровь.
— Врешь, барин, золота за границу не увезешь! — заревел казак.
Поручик, снова увернувшись от удара, выстрелил почти в упор из нагана в грудь казаку.
Винтовка отлетела в поток, на лицо казака серыми пятнами легла смерть, но последним усилием он сплел свои пальцы на шее поручика железной смертной хваткой. Так и упали они оба умирать, обнявшись.
Фатих недолго медлил. Забрал у недавних своих конвоиров оружие, вскочил в седло и на скаку загикал по лесу радостно и звонко.
…На Кара-Тау, Черной горе, по ночам спят-обнимаются тучи, а как небо заплачет, начнет сеять на землю слезы, то заклубятся и приникнут к каменной груди грузные дождевые облака.
Пронеслись военные грозы: не грохочут пушки там, за хребтами, где последние горные отроги сливаются с равнинами степей, не стучат пулеметы, не хлопают винтовки. К Кара-Тау приехала горная разведка и среди них — шахтер Фатих, а с ним и Зейнап, его неразлучная подруга.
Заработал у подножья Кара-Тау, у золотой пади, прииск, зашумели промывные машины. И ничего не случилось, хотя по зиинам[9] и пели когда-то, седые курайсы, что долина у Кара-Тау заказана и кто нарушит ее покой — не сносить тому головы.
Вышло так, что и седой курайсы ошибается. Запретная долина открыла свой клад, и золотоискатели назвали ее долиной счастья, так часто дарила она богатой удачей.
И прошел по горам слух, что запрет с золота Кара-Тау снят, клады открыты свободному народу, большевикам и советской власти.
Асгат замолк. Но люди еще лежали и сидели в прежних позах, молча и не двигаясь; очарованные легендой.
Первый вечер воспоминаний закончился в полночь. Костер догорал. В ясном темно-синем небе сверкали мириады звезд. Над смутными очертаниями гор не спеша, задумавшись плыла луна. В долине, в лесу собирался туман. Плескался на камнях поток. Стреноженные лошади в лугах звучно жевали траву и гулко отфыркивались. Возле костра маячила одинокая фигура ночного сторожа. В отблеске пламени желтой черточкой вспыхивала сталь винтовки.
— Хорошую вещь рассказал Асгат, — нарушил молчание, подходя к своей палатке, Светлов. — Золото и кровь, жадность и геройство… Горные мотивы…
— Да, хорошую, — согласился Боровой. — Кому же лучше знать судьбу Ик-Берды и Фатиха, как не Асгату. Правдивая история!
А Светлов, укладываясь спать, уже прикидывал, как превратить легенду в повесть.
ТРЕТЬЯ ГЛАВА
— Ну-с, Сергей Павлович, — сказал Боровой, когда следующим вечером все вновь собрались у костра, — теперь ваша очередь. Жизнь у вас богатая, объездили весь Советский Союз, тем у вас непочатый край. Слушаем.
— Как вам сказать? — задумчиво ответил журналист. — Дело в том, что мы, журналисты, не копим материал про запас, а немедленно несем его на страницы газет и журналов. А новое мешает сосредоточиться на пережитом. И я, право, немного теряюсь…
— Это от обилия материалов, — отозвался Асгат. — Плохо, когда ничего нет за душой, а если много — есть из чего выбрать.
— Хорошо, я расскажу вам об одном необычайном поступке пожилого ученого человека. Было это на Алтае…
И Светлов приступил к рассказу.
— Так я повторяю, случилось все это на Алтае. Однажды председатель крайисполкома, просматривая утреннюю почту, прочел тревожную телеграмму. В одном глухом горнолесном районе, где и условий для трудных родов не было, рожавшая женщина нуждалась в немедленной помощи врача. А откуда взять врача-акушера в горах? О создавшемся положении сообщали председатель рика и заведующий райздравом, и тревога звучала в каждой букве телеграммы.
Председатель крайисполкома снял трубку телефона и привычной рукой набрал на диске нужный номер.
— Здравствуй, Солнцев. Ну как с погодой? Нелетная? Земля, говоришь, не в порядке? Ни лыжи, ни колеса… Аэрораспутица… Но ведь вчера вечером я видел самолет над городом? Ах, проба дорожки на твоем аэродроме… Плохо… Плохо, говорю. Понимаешь, экстренный случай. Жизнь двух людей в опасности, если помощь запоздает хотя бы на несколько часов. Где? В восточном районе. Что? Отказ для посадок, снег и грязь? Вот, понимаешь, несчастье! Кроме как по воздуху туда сейчас и в неделю не доберешься… Пропадут люди… Понимаешь, срочная помощь хирурга нужна, а на месте один врач по общим болезням и без инструментов… Самый глухой район… Так ты подумаешь? Как, как ты сказал? На парашюте? Гм… А у тебя есть на учете любители-парашютисты из врачей? Нет? Экая досада! И какой пробел в твоей хорошей работе! Попробовать пригласить? Знаешь, как-то затрудняюсь: уж очень необычайный способ сообщения, неловко как-то в порядке приказа. И потом не всякого врача туда пошлешь. Кандидатов на эту поездку раз-два и обчелся. Риску, говоришь, никакого? Автоматический парашют на заданную высоту дашь? Но ведь понимаешь, первый раз человеку надо будет прыгать… Гм… Дашь хорошую машину? Чтобы прыгать вроде как с парашютной вышки? А как это: вниз головой или нормально? Не очень я эту технику представляю. Так, так… Лучшего летчика дашь? Знаешь, Солнцев, ты все же приготовь машину, я попробую найти. Сейчас же приготовь.
Положив трубку, председатель крайисполкома распорядился:
— Немедленно машину! В хирургическую.
Дорóгой, несмотря на тревогу, он с улыбкой вспомнил о профессоре, заведовавшем хирургической больницей. Профессор казался ворчуном, и больные при первом взгляде его сердитых глаз терялись. Но узнав его характер поближе и поверив в его удивительное искусство, становились преданными почитателями профессора. Популярность у этого человека была исключительная. Его ценили и всячески оберегали.
Профессор был членом краевого Совета, почетным членом ряда ученых обществ и организаций. Советская власть сделала все для успеха его научной и практической работы. На месте невзрачной земской больницы теперь построен лечебный институт. Личная жизнь и работа профессора обставлены удобствами и комфортом, об этом с величайшим тактом заботились сами предкрайисполкома и секретарь крайкома партии. И все же профессор ворчал, часто спорил и ругался в крайздраве и чудил. «Это у него врожденное! — говорили знавшие профессора его коллеги. — Он и до революции всегда шумел. Чудак!»
Когда автомобиль подкатил к залитому асфальтом подъезду главного корпуса института, у предкрайисполкома дрогнуло сердце:
«А вдруг заупрямится, закричит, упрется и не даст врача в такую необычную поездку?..»
В пути он перебрал возможных кандидатов. Их было немного, два-три человека. Нет, даже пожалуй, один: доктор Каменский. Это был молодой сравнительно врач, но искусный хирург, завоевавший в городе и крае большую популярность своими смелыми операциями. Кроме профессора, ни у кого из врачей не был столь надежным скальпель в руке, им обоим больные даже в самых сложных случаях вверяли здоровье и жизнь с беззаветной уверенностью. Профессор по-отечески заботился о молодом хирурге, учил и воспитывал его. Но все это он делал по-своему, оригинально, с ворчанием и сценами. Прыгать с парашютом Каменскому, правда, еще не приходилось, но предкрайисполкома был почти уверен:
«Не откажется! Он не раз вылетал в экстренных случаях в районы на самолетах. И прыгнуть согласится, я думаю… Кому еще и прыгать, как не ему: молодой, здоровый…»
Но тут председатель крайисполкома узнал, что Каменского нет ни в больнице, ни в городе, что он уехал в Москву в научную командировку.
У предкрайисполкома был такой расстроенный вид, что профессор сразу обратил на это внимание.
Они сидели в кабинете профессора, убранном с подчеркнутой простотой и в то же время роскошью, понятной только ученому: так обильно был снабжен кабинет пособиями, литературой, инструментами. Профессор втайне гордился своим кабинетом, но спасибо за него еще никому вслух не сказал.
— Понимаете, Арсений Георгиевич, — сказал предкрайисполкома, — получил я утром молнию из района. Предстоят тяжелые роды, случай грозит смертью и матери и ребенку. Спасти может только опытный хирург, а в районе его нет… Туда надо лететь, и сейчас же… Вот я и подумал: из ваших учеников Каменский, пожалуй, очень бы подошел… Но он в отъезде, и что теперь делать — не придумаю…
Председатель крайисполкома намеренно подчеркнул «из ваших учеников», чтобы слегка польстить старику. С опаской поглядывая на профессора, он внимательно наблюдал, как отнесется к его сообщению профессор и что посоветует, а сам еще со страхом прикидывал, как сказать главное — про парашют…
Но профессор, не дослушав, вскочил с кресла и вне себя от гнева забегал по кабинету. Он сорвал с переносицы очки в старомодной дешевой оправе. Затем набросился ни с того ни с сего на дежурного врача, присутствующего при разговоре, и распушил его за действительные и несуществующие промахи в его работе по дежурству.
Председатель крайисполкома с тревогой подумал:
«Кажется, моя миссия потерпит неудачу! Чем-то я все-таки обидел его… И в такое время, когда каждая минута дорога! Экая беда!»
Профессор вдруг перестал носиться по кабинету, остановился и сказал запальчиво и строго:
— Товарищ председатель, надеюсь, машина с вами?
Не дождавшись ответа, профессор уже приказывал дежурному врачу:
— Распорядитесь, чтобы подали мой саквояж с инструментом, ну и сами знаете, с чем. Вы остаетесь пока за меня. Даю на выполнение три минуты. Стойте, стойте! Не три, а две, вполне достаточно!
На аэродроме их встретил озабоченный начальник аэропорта. На ровной лужайке, покрытой бурой прошлогодней травой, серебрились под солнцем крылья самолета. У машины работали механики в синих комбинезонах.
Начальник порта отрапортовал о состоянии аэроотряда, о погоде и сказал в заключение, что к вылету все готово. Пожимая руку профессора, он не смог скрыть в глазах искорку удивления.
Профессор заметил и, рассердившись, буркнул:
— Ну, раз все готово, нечего задерживать.
Начальник порта дипломатично похвалил погоду и дорожку своего аэродрома. А сам исподтишка с интересом поглядывал на профессора и кидал вопросительный взгляд на предкрайисполкома. А предкрайисполкома до сих пор пребывал в таком волнении, что все еще не собрался предупредить профессора о главном: что придется прыгать с парашютом.
Начальник порта старался разобраться по выражению их лиц: знает ли профессор, какие предстоят ему упражнения? Предупрежден ли он? Но ведь и он, начальник порта, ответственен за это дело…
— Предупреждаю, — не выдержал он наконец и счел долгом заявить, — в Каратаузе один способ попасть на землю — прыгнуть с парашютом.
Сказав это, начпорта торопливо добавил, что прыжок, конечно, безопасен и для новичка и что оба парашюта — и основной, и запасной — с автоматическим раскрытием.
— Никакой опасности, — закончил он. — Нужно только маленькое присутствие духа. Это пустяки — выйти на порог двери кабины, и раз — вниз. Летчик заглушит мотор, машина будет тихо планировать. В двухстах метрах от земли парашют раскроется. Нужно бы, конечно, разочка два прыгнуть с парашютной вышки с зонтом… для тренировки приземления…
Профессор слушал начпорта, молча пощипывая бороду. Он видел прыжки с самолета лишь на снимках в газетах и журналах. Прыжки с вышек он видел в натуре и питал к ним отвращение. Профессор некоторое время слушал разъяснения, но вскоре рассердился вновь:
— Что вы мне лекции читаете? Я отлично и сам знаю, что прыгают вниз, а не вверх! Надевайте на меня эти ваши мешки — и поехали. Только время зря теряем.
Когда его обрядили для полета с прыжками, а летчик с механиком уже заняли места в машине, дрожащей от напряженной работы мотора, профессор, смущаясь своего необычного вида, сказал:
— Вот изуродовали! Три горба теперь получилось: один свой и два ваши — на спине и на груди. Давайте отчаливайте, время не терпит.
Председатель крайисполкома и беспокоился за профессора и восхищался его решимостью. Он осторожно выспрашивал начальника порта, не опасно ли это. Пожимая руку профессору, он вдруг сказал:
— Вот чудеса-то! Ну, чудеса!
И вздохнул:
— Эх, и мне бы с вами…
Профессор стоял уже на ступеньке лестницы в кабину и торопил начпорта:
— Давайте, давайте отправление! В чем же дело?
Начпорта дал знак, стартер махнул флажком, и машина плавно тронула с места. Перед отправлением самолета профессор махнул рукой и прокричал, высунувшись из кабины:
— Не забудьте выслать за мной аэроплан, как только установится летная погода!
Самолет сделал разбег, отделился от земли и уверенно пошел вверх.
— Удивительный человек! — прошептал начпорта, прощаясь с председателем крайисполкома.
Вечером возбужденный секретарь вбежал в кабинет председателя, держа в руках клочок бумаги:
— Молния, Иван Андреевич!
Сердце председателя крайисполкома екнуло, и буквы телеграммы запрыгали у него в глазах.
Потом он схватил трубку телефона.
— Солнцев! Ты? Спешу порадовать: профессор Невзоров приземлился благополучно, и все вообще в порядке. Девочка! Три с половиной кило! Мать молодая, колхозница, зовут ее Анной, а дочь решили назвать Аэлитой. Это опять причуды профессора. И знаешь что, просит, чтобы никому, особенно газетам, ни звука…
Опустив трубку, председатель задумался.
— Да-а, удивительный человек! — прошептал он, придвигая бумаги.
Председатель крайисполкома снял очки, протер их раз — другой и смущенно улыбнулся секретарю.
Очки были в полном порядке…
— Случай, действительно, примечательный, — сказал Боровой, когда журналист закончил рассказ и утихли возгласы одобрения слушателей. — Но и то сказать, что в нашей советской действительности не столь уж необычный.
— При теперешней технике, — отозвался один из молодых изыскателей, студент-практикант, — все возможно. Конечно, возраст у профессора не для прыжков… Хотя бы и с автоматическим парашютом…
— Значит, сердце у старого профессора было неплохим, — вмешался повар. — Надежное сердце!
— Однако, это — факт, такой случай был на самом деле, — добавил Светлов.
— Да мы и не сомневаемся, Сергей Павлович, — рассмеялся Боровой. — Не сомневаемся, но и не думаем ограничиться тем, что вы нам рассказали. Спать еще рано ложиться.
— Правильно, — подтвердили слушатели, — просим еще что-либо рассказать…
Но в этот вечер нового рассказчика не нашлось. Просто так посидели еще, припоминая разные случаи и пускаясь в рассуждения.
Следующий вечер воспоминаний и приключений по установившемуся обычаю начали концертом. Оркестр лагеря, если это можно назвать оркестром, обогатился баяном, его привез из геологоуправления завхоз изыскательной партии, пожилой мужчина с рыжеволосой головой и пепельными, словно пропыленными усами. Он был неуклюж с виду, пальцы больших его рук были узловатые, но баян у него творил чудеса, своей игрой Максим Федорович с первого же раза расположил к себе всех обитателей горного лагеря, среди которых были и знатоки, и большие любители музыки.
Песни и танцы в этот вечер затянулись дольше обычного. Наконец, после «Партизанской», «Вечернего звона», «Казачка» и песни Ермака, когда все угомонились, уселись, закуривая и отдыхая, Асгат Нуриевич объявил:
— А теперь, товарищи, послушаем рассказ Евгения Петровича.
— Просим, просим!
Евгений Петрович Боровой начал рассказ свой тихо, медленно, словно беседуя сам с собой.
— Давно это было, лет тридцать назад… По окончании Горной академии молодым геологом я работал на Южном Урале, невдалеке от здешних мест. Мы разведывали рудные запасы для Быстрорецких заводов. В отряде у нас было трое русских специалистов и несколько рабочих из башкир. Молод я был, все меня интересовало. Часами мог карабкаться по скалам, взбираясь на вершины гор. Как завороженный, слушал башкирские сказки, легенды. Был у нас в отряде такой рассказчик, старый, седой, но крепкий еще башкирин. Одну из слышанных от него сказок я и расскажу вам. Может быть, вы ее уже слышали, она довольно известна, но я ее очень люблю, и мне хочется именно ее рассказать. А кто знает — не обессудьте и послушайте еще раз.
Евгений Петрович сделал паузу, наладил трубку, затянулся, пустил вверх струйку дыма и затем продолжал:
— Есть на Южном Урале Тугарак-Тау, Круглая гора по-русски. Об этой горе башкиры отзываются почтительно. Стоит Тугарак-Тау средь других гор великаном. На вершину ее, по преданию, не ступал еще человек, — так она высока и недоступна. У подошвы горы есть водопад, от него идет ручей. И водопад, и ручей, говорят, очень богаты золотом. Но ни один башкир не брал это золото. Богатства окрестностей горы считаются заповедными…
— Постойте, постойте! — не утерпел и перебил Борового Светлов. — Это что-то вроде того, что нам в первый раз Асгат Нуриевич рассказывал!
— То же, да не то же, а только похоже! — улыбнулся Евгений Петрович. — Слушайте дальше…
…В давние-предавние времена, гласит башкирское предание, жил-был на Южном Урале славный джигит Юлай, по прозвищу Тугой Лук. Прозвали его так за удаль, меткость глаза и твердость руки. Род Юлая кочевал в горных долинах по быстрой Инзер-реке. И вот однажды собрал Тугой Лук молодых удальцов-джигитов, посоветовался с ними и пошел к старейшине рода с просьбой: так и так, отпусти, мол, в степях погулять, на дальних сабантуях, праздниках удаль и силу показать. Посоветовался старейшина с уважаемыми старшинами и воинами, помолился Аллаху и сказал:
— Возьми с собой десяток джигитов, поезжайте, и да хранит вас пророк. Мы будем ждать вас у стойбища, что вблизи Тугарак-Тау, где падает с высоты поток.
Долго ли, коротко ли гулял Юлай в степях — не известно. А только вернулся он в родные места с необычайной добычей: привез красавицу редкостную, дочь степного князя Амантая…
На многолюдном сабантуе увидел ее Юлай и понял, что не жить ему без Аслы — так звали красавицу. Для нее ветром мчался Юлай на коне, побеждая в единоборстве. И понравился храбрый джигит красавице. Положил Юлай к ногам Амантая все, чем одарили джигита-победителя: уважь, Амантай-ага, просьбу храброго джигита, отдай за него дочь замуж! Не согласился князь, ждал жениха знатней и богаче…
Аслы решилась бежать с любимым.
Ехали они вместе с друзьями-джигитами, мечтая о радости, пирах, какими встретят их сородичи. Вот уже и знакомые места… Заслонив полнеба, высится Тугарак-Тау… Шум потока слышится… Вот они уже дома, среди своих…
Но что это за шум там, вдали? Глянули — а это движется многочисленное войско князя Амантая… Погоня!
Юлай говорит старейшине рода:
— Что делать? Амантай приближается… Биться будем?
А уже войско Амантая черной тучей высыпает из ближнего леса на луга-долины…
Воздел руки к небу старейшина:
— Аллах, помоги!
Священный жезл упал, ударился о скалу возле склона Тугарак-Тау… И — о, чудо! В тот же миг загремел гром, задрожала земля, и разверзлась в горе большая пещера — с темным устьем и просторная, как обширные ворота.
Крикнул старейшина:
— Люди, за мной! — и скрылся в темноте пещеры.
За ним хлынул народ, большие и малые, угоняя за собой скот, увозя пожитки. Торопятся, бегут, боятся, что вот-вот налетят всадники Амантая.
Подскакали те к горе и застыли от изумления. Только сейчас своими глазами видели толпы народа, табуны скота и — ничего нет! Лишь лежат на становище брошенные в беспорядке вещи, высятся пустые кибитки, тлеют, дымятся костры… И грозно темнеет в каменной груди горы вход в пещеру. При виде ее кони на дыбы встают, храпят, пятятся от пещеры…
Страх охватил преследователей. Повернув коней, они понеслись прочь от горы со страшным зияющим входом в пещеру…
Инженер Боровой замолчал, закуривая. Молчали и слушатели. Где-то в лесу зарыдал, захохотал филин. Невдалеке на лугу гремели путами скованные лошади. Вооруженный винтовкой сторож ходил возле лошадей, напевая заунывную песню. Из-за гор поднималась луна.
— И все? — раздались голоса.
— Нет, не все. Пещера, в которой скрылись беглецы, оказалась обширной, сухой, но темной. Старейшина приказал высечь огня, зажечь факелы из смолистых сосновых ветвей, всегда имевшихся в запасе у горных башкир. При свете факелов люди увидели, что пещера уходит в глубь горы.
— Идти вперед! — сказал старейшина.
Шли долго, вели коней и скот при свете факелов. Наконец впереди мелькнул дневной свет. Выйдя из пещеры, люди увидели перед собой круглую долину, окруженную высокими крутыми хребтами. Среди рощ и лугов блестело озеро, струился ручей, скрывающийся в пещере, которую только что прошли. Долина так понравилась, что пришельцы решили поселиться в ней навсегда…
— Значит, они, может быть, и сейчас там живут? — пользуясь паузой, спросил Светлов, слушавший с особо напряженным вниманием весь рассказ Борового.
— Предание говорит другое, — ответил, помедлив, Боровой. — С течением времени род Юлая разросся, увеличились и стада. В небольшой долине становилось тесно. Тогда решено было в долине проводить лишь зиму, а весной уходить на все лето кочевать на просторные места.
Так продолжалось много лет. Умер мудрый старейшина. Подросла, возмужала молодежь. Постарел, поседел Юлай, стала серебряной и голова его любимой подруги Аслы. Род выбрал вождем и старейшиной Юлая.
Однажды весной род Юлая, как обычно, покинул стойбище в долине Тугарак-Тау, а осенью, когда отяжелели овечьи стада от жира, нагулянного на привольных лугах кочевий, вернулся к горе. Каково же было отчаяние людей: они не нашли, не увидели хода в пещеру. Все было на месте: и гора, и поток, а пещеры не было…
В страхе покинули люди подножье таинственной горы. Так стала вновь необитаемой и недоступной горная долина Тугарак-Тау, Круглой горы, а окрестности ее стали отныне безлюдными, богатства их заказанными, неприкосновенными. Не стучат теперь топоры вокруг горы, не звенит кайло и лопата рудокопа, не гремит ружье охотника, не встретишь здесь и старателя, не прельщают никого даже слухи о золотых кладах Тугарак-Тау. Но память о чудесной долине жива в преданиях народа…
Инженер, кончив рассказ, ушел в палатку, сославшись на усталость. С ним ушел и Светлов. Но ушел он не потому, что вдруг захотел спать. Предание, которое он услышал от Борового, странна взволновало, заинтересовало его. Светлов почувствовал, что тут кроется какое-то зерно правды. И в Светлове сразу заговорила страсть журналиста. Ведь недаром же он такой непоседа, что готов исколесить весь свет! И теперь он ни за что не хотел оставить в покое инженера, поведавшего странную эту легенду. Безусловно, тут что-то есть!
— Евгений Петрович, — тотчас заговорил Светлов, как только они вошли в палатку, — может ли быть в поверье, рассказанном вами, хоть кусочек правды?
— Почему же нет? Известно, что в древние времена пещеры служили людям жильем и убежищем от врагов и зверей. Пещер, обширных по размерам, немало и на Урале. Кунгурская, Капова пещеры очень велики, галереи их тянутся на многие километры. Очевидно, это — русла подземных рек, проложенные водой в мягких почвенных породах, в известняке. Существование такой пещеры, которая служила бы ходом в затерявшуюся между вершинами гор долину, допустимо. Снеговые воды, собираясь в долине, замкнутой отовсюду, проложили путь в толщах горы, природа с помощью воды соорудила подземные галереи пещеры… Все это звучит вполне реально и вполне убедительно…
— Значит, в самом деле невдалеке отсюда есть такая гора с пещерой и долиной внутри ее? — спросил Светлов с замиранием сердца. — А еще говорят, что в наше время Колумбам нечего делать, потому что давно открыто все, что можно открыть!
Светлов воодушевлялся все больше:
— И как же можно спокойно сидеть где-то рядом и не попытаться узнать, выяснить… а в случае чего и проникнуть туда… А? Что вы скажете на этот счет, дорогой Евгений Петрович? Вы, старожил, так горячо любящий Урал? Вы молчите? Не хотите ответить?
Светлов прислушался. С койки Борового доносилось ровное дыхание. Боровой уже спал.
ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА
Друзья и приятели частенько называли Светлова упрямцем: «Уж если ты что задумаешь, — не остановить!» Светлов улыбался и вносил поправку, предлагая слово «упрямец» заменить словом «настойчивый».
С того дня, как была рассказана легенда о некоей цветущей долине, запрятанной где-то в недоступных гранитных стенах, Светлов не находил покоя. А Евгению Петровичу так надоел расспросами, что тот стал отмахиваться:
— Да ну вас совсем, оставьте вы меня в покое! Круглая гора, Круглая гора!.. Не знаю я ничего, хотя и допускаю, что есть такая цветущая долина, куда никто не может попасть. Ну и шут с ней, с такой долиной, раз от нее нет никакой пользы!
— Как это шут с ней? Надо ее разыскать! Надо чтобы она приносила пользу! Надо послать экспедицию!
— Фантазер вы, дорогой мой друг! Мало ли легенд на свете! Видать все вы, писатели, готовы поверить любой сказке, сочинить любую небылицу!
Но Светлов не унимался. Он стал целыми днями пропадать где-то в горах. Познакомился с какими-то охотниками, расспрашивал встречного и поперечного, делал вылазки то в одном направлении, то в другом, изучая местность, приучая себя лазать по камням, перебираться через горные речушки, карабкаться по кручам. Неизменным спутником в его походах была Альма. Она не знала усталости. Куда бы Светлов ни направлялся, она оказывалась впереди, успевала забежать направо, произвести разведку слева, умчаться вперед, вернуться, снова умчаться. Когда же приходило время отправляться домой, Альма уверенно находила дорогу.
— Клад, а не собака! Ей и компас не нужен! — восхищался Светлов.
Иногда они бродили без всякой цели, иногда и охотились. Однажды забрел Светлов довольно далеко и вышел к шумной порожистой реке. Она неслась, шумя на перекатах, сжатая каменистыми обрывами гор, но, обогнув огромную отвесную скалу, вдруг притихала и спокойно текла среди широкой долины, среди желтых песков, среди зарослей и камышей.
«Вот он, Горючий камень…» — догадался при виде этой скалы Светлов, вспоминая рассказы охотников.
В старину, когда не было железных дорог, железо из заводов обычно отправляли по реке, сплавляли вешними половодьями на баржах. Немало барж разбивалось на стремнине возле Горючего камня. Около этой скалы сохранились безвестные могилы, покрытые каменными плитами с вырубленными на них крестами и полумесяцами. Видать, немало смельчаков погибло на стремнине у Горючего камня!
Ниже скалы река шла тихо, нежась в оправе зелени. Широкие лапчатые лопухи, ярко-желтые цветы стлались по воде. Утиные выводки плескались в камышах. Отовсюду неслось кряканье. Спасаясь от хищных щук, бросалась к берегу, порой выскакивая из воды, серебрясь под солнцем, мелкая рыбешка. С жалобным писком носились над водой чайки. На песках важно разгуливали голенастые кулики.
Возле Горючего камня в реку впадал быстрый горный поток. Он несся по узкой извилистой долине, заросшей кустарником.
Кругом было пустынно. Солнце медленно поднималось к зениту. Светлов долго стоял и прислушивался. Альма тихо сидела рядом, иногда поднимая голову и поглядывая на Светлова. Она казалась Светлову красавицей: белая, с желтыми подпалинами, длинноногая, с острой мордочкой и подвижными, чуткими ушами. Светлов знал, что такие собаки обладают удивительной резвостью и сильными клыками. Ему самому не раз уже случалось убедиться в этом. С такими гончими осенью, по первой снежной пороше, башкиры-наездники охотятся на волков, вооружившись лишь плетками. При погоне за зверем охотники меняют лошадей в заранее условленных местах, собаки же несутся за волками бессменно, и если иногда выходят из строя, то разве только пострадав от зубов матерого хищника.
— Альма! Ату! — прошептал Светлов.
Навострив уши, Альма постояла несколько секунд на месте и бросилась в кусты возле устья потока. В то же мгновение с поверхности воды взмыла стайка уток. Собака залаяла. Грянул выстрел, утки бросились в стороны, но две из них, затрепетав крыльями, роняя перо, упали на поляну.
— Браво, Альма! Мы заработали завтрак! — воскликнул Светлов.
Он был очень живописен в своих высоких охотничьих сапогах, кожаной куртке, с походным мешком за плечами. Ружье в его руках дымилось. Ремни бинокля и фотоаппарата «лейки» перекрещивались на груди.
Альма приносила в зубах добычу. Особенно хорош был крупный и сытый селезень, с ярким радужным оперением. Светлов положил его в ягдташ и, присев на берегу реки, посмотрел на часы.
— Ого, скоро и обед. Надо поторапливаться.
Но прежде чем уйти, Светлов пристально посмотрел вокруг. Впереди, насколько хватало глаз, высились горные вершины. За ними, вдалеке, синела самая высокая из всех. Она имела форму усеченного конуса.
«Может, это и есть Круглая гора?» — мечтательно раздумывал Светлов, возвращаясь в лагерь.
Рассказ старого инженера не давал ему покоя. Он снова и снова расспрашивал местных стариков о Круглой горе.
Наконец один башкирин дал ему более точные как будто бы сведения.
— Иди от лагеря на север, — объяснил он. — Верстах в десяти встретишь реку. Пойдешь по реке все вверх и вверх. Увидишь большую скалу и могилы возле нее — это будет Горючий камень.
— Знаю я Горючий камень! — подхватил Светлов. — Бывал возле него, даже уток там стрелял!
— Ну, если знаешь, то совсем хорошо. А возле скалы в реку впадает поток. Его называют «Гремящий поток». Пойдешь по нему вверх и выйдешь как раз к Круглой горе, к Тугарак-Тау то есть. Не так долго, но и не так скоро придешь, дня через три придешь к горе. Это так же верно, как то, что меня зовут Юнус-бабаем, старым Юнусом.
Выложив эти подробности, старик молвил многозначительно:
— Тугарак-Тау не простая гора…
— А сам ты видел Круглую гору?
— Юнус видел все горы далеко вокруг.
— Пробовал ты взойти на вершину ее?
— Человеку крылья не даны…
Теперь мысль о Круглой горе преследовала журналиста неотступно. Ведь, оказывается, он был уже почти рядом, только пройти вверх по этому потоку!.. Светлов представлял себе в мечтах эту таинственную гору, ревниво хранящую от человеческого взора прекрасную необитаемую долину…
Светлов всерьез решил отправиться на поиски горы. Рассказ старого Юнуса укрепил это желание. На спутника рассчитывать не приходилось. Все были заняты своими делами. Изыскатели брали от хорошей погоды все, что можно было выжать. Из соседней партии прибыла делегация для проверки выполнения договора соревнования. Оказалось, что партия инженера Борового немного отстала. Возле столовой появился тревожный бюллетень. Светлов помог выпустить экстренный номер полевой стенгазеты. А сам все время думал о другом. Он готовился в путь, на розыски загадочной долины… Для журналиста это путешествие могло оказаться настоящей находкой. Светлов рассчитывал, что оно даст ему богатый материал для очерков, а то и для интересной повести.
Отправляясь на поиски Круглой горы, Светлов, конечно, захватил с собой Альму. Собака, привыкшая бродить со Светловым, пошла за ним охотно. А в лагере никто не счел его фантазером и легкомысленным искателем приключений. Напротив, все одобряли его намерение, давали всякие полезные советы и напутствия.
— В добрый путь! Желаем успеха, Сергей Павлович! — дружески говорили ему.
— Махнул бы, пожалуй, и я с вами, да нет сейчас времени, работа горячая, — сожалел Боровой. Он уже не подсмеивался над Светловым, а смотрел на него удивленно… — Трудно одному, Сергей Павлович. Опасно. Даже неблагоразумно. Но я вижу, отговаривать вас бесполезно. Что ж, ни пуха вам ни пера!
И вот наступил этот день: с восходом солнца Светлов выступил из лагеря и бодро зашагал по лесным тропам. До Горючего камня и устья Гремящего потока добрался быстро, места были знакомые. Здесь устроил привал, поел, оправил обувь, отдохнул. Альма, тоже подкрепившись, нежилась на солнцепеке, выжидательно посматривая на спутника. Ее взгляд говорил: «Пошли, что ли, дальше? Чего тут волынить?»
Дальше путь лежал целиной, лугами, лесом. В тучных, испокон не видевших косы лугах пестрели цветы, краснели ягоды. В горах ягоды вызревают поздней весной и сохраняются до осени, пока не засохнут, собирать их некому. В лесу зрел обильный урожай рябины, смородины, калины, черемухи. Гибкие ветви орешника никли под тяжестью созревающих плодов. Дубы были осыпаны желудями. Хлопотливо жужжа, проносились пчелы. В дуплах деревьев таились их гнезда — ульи, полные душистого меда. Изредка попадались большие кучи земли и ветвей, сухого листа. Кучи эти шевелились, как живые, от бесчисленного множества крупных лесных муравьев. Одна из куч была разметана. Альма, поджав хвост, принюхиваясь, обошла развороченную кучу стороной.
«Медведь лакомился муравьями», — догадался Светлов и пошел осторожней, держа наготове ружье.
Чем дальше — долина становилась уже, приходилось пробираться меж деревьев и камней. Светлов шел с самого раннего утра, утомился и на ночлег остановился засветло.
Для ночевки он выбрал место возле ручья. Вскоре на полянке запылал, затрещал костер. Светлов готовил ужин, благо провизии раздобыть было нетрудно. По дороге Альма поймала зайца. Изумленный неожиданной встречей, он бросился наутек слишком поздно, был настигнут быстроногой собакой и погиб у нее в зубах. Дичи встречалось множество — и уток, и тетеревиных выводков. Светлов, преодолевая соблазн, не стрелял без надобности. Однако к ужину он облюбовал селезня, и ужин получился на славу. Он ощипал селезня и поджарил его на костре. Жаркое оказалось внутри сыроватым, но вкусным.
Закусив и напившись чаю из походного котелка, Светлов закурил и при свете костра занес впечатления дня в дневник, долголетний спутник странствований. Устроившись на ночлег, он поместил рядом с собой ружье, а ранец подложил под голову. Альма свернулась невдалеке. Она все понимала, во всем принимала живейшее участие, только что не разговаривала.
Слабо потрескивая, тлел догорающий костер. Темными громадами теснились вокруг горы. Деревья стояли неподвижные, лишь еле слышно шелестела листом осина, росшая возле ручья. Светлову казалось, что лежал он на дне глубокого темного колодца и где-то далеко вверху виднелся кусок темного звездного неба. Тишина была глубокая, но полная приглушенных ночных звуков. Плескался, журча на камнях, ручей. Слышались вскрики ночной птицы. Издали доносился глухой, непрерывный шум, как будто по дальнему проселку шел большой обоз.
«Уж не водопад ли это у Круглой горы? — размышлял Светлов. — Так шумит издали, если прислушаться ночью, Москва.»
Светлов начал работать в газете лет восемь назад, окончив литературный институт. Способный и настойчивый, с хорошим, как говорят газетчики, слухом и глазом, он скоро выдвинулся, стал заметным столичным журналистом. Его очерки читались с интересом, за его поездками следили.
В детстве Сергея не было ничего особенно примечательного. Он был еще мал, когда взрослые уходили на фронт. Гражданскую войну помнил больше по митингам, пайкам и холоду, заморозившему зимой их густонаселенный дом в одном из переулков Арбата. Отец у Сергея был электромонтер, московский рабочий. Он умер, когда Светлов только лишь поступил в институт. Матери лишился еще раньше.
В газету Светлов пришел, еще будучи студентом. С каким волнением он получил первый гонорар за первые свои заметки в газете! Ежегодно во время каникул Сергей работал в редакции газет — в Москве и провинции. А закончив институт, окончательно перешел в газету.
Труд профессионального журналиста и связанные с этой работой постоянные поездки расширяли его кругозор и житейский опыт, приучали глубоко и внимательно изучать события и факты. В командировки Светлов отправлялся всегда немножко волнуясь, ожидая от них новых впечатлений. Сколько раз приходилось забираться в глубь лесов и гор с отрядами геологов и строителей, сколько раз доводилось плавать с экспедициями, опускаться на дно морское с водолазами… Чего только не было! Самолет и поезд, верховой конь и верблюд, ледокол и допотопная арба — все средства передвижения, кажется, были испробованы. А частенько случалось пробираться пешком с походным мешком за плечами, фотоаппаратом сбоку и револьвером в кармане. Вошло в привычку жить просто, работать в любой обстановке.
У Светлова были поклонники и недоброжелатели. Искренние друзья считали его талантливым журналистом, правда несколько романтически настроенным.
— Мечтать и в наши дни не стыдно, — говорил Светлов. — Романтика воспитывает…
Вникая в первопричины аварий и неполадок, журналисту приходилось нащупывать и корни злого умысла, вредительства. За разоблачения мстили, и не только осложнением быта.
Однажды, вскоре после опубликования в газете большой обличительной статьи, Светлов чуть не погиб. Обрубок дерева неизвестно по какой причине свалился с лесов новостройки, и лишь случайность спасла журналиста: обрубок упал рядом, не задев его. В другой раз — и тоже после смелого выступления Светлова в печати — на повозку, в которой он ехал, налетел грузовик. Повозка была разбита, кучер изувечен, а Светлову опять повезло, он отделался легкими ушибами. Все опять подумали, что имела место простая случайность…
Порой приходилось отстаивать жизнь и с оружием в руках. Во время поездки на отдаленный участок строительства канала в Средней Азии на их группу напали басмачи. Они ехали втроем — секретарь парткома строительства, инженер-гидролог и журналист. Вряд ли они остались бы живы, если бы не револьверы да быстрые кони, которые унесли их от преследователей.
Светлов сотрудничал и в толстых журналах, выступал с очерками и рассказами. Написал повесть, и она была напечатана. Друзья пророчили Светлову большое будущее в литературе. А вот личная жизнь складывалась пока что несуразно. Светлову исполнилось тридцать лет, но он еще не подумал серьезно о семейном очаге.
— Не стоял еще на повестке дня такой вопрос, — отшучивался он. — Да и времени не было, все разъезды да разъезды…
Обо всем этом вспомнилось, когда засыпал. Вспомнилось, подумалось, но не встревожило и не огорчило.
«Все в общем-то отлично! — подвел итоги Светлов. — Жизнь наполнена до краев, жить интересно, жить увлекательно! А теперь надо хорошенько выспаться, последовав примеру Альмы.»
Перед рассветом звезды померкли, в долину опустился туман. Это было время самой глубокой тишины. Даже шум водопада как бы притих, рокот его доносился глуше.
Из-за тумана рассвета не было видно. Когда же солнце поднялось под горами, туман быстро рассеялся. День разгорался погожий.
Светлов проснулся. С минуту он осматривался, будто забыв вчерашнее путешествие. Взглянув на часы, все вспомнил и живо вскочил.
— Алло, товарищ Светлов! — сказал он сам себе вслух. — Вы проспали. Безобразие! Так Колумбы, отправившиеся открывать новые земли, не делают. Альма! А ты что бездействуешь? Толкнула бы меня в бок, этакого засоню!
И Светлов быстро распалил костер, быстро соорудил завтрак, позаботившись и о своем верном спутнике.
После завтрака они продолжали путь. Теперь дорога пошла в гору. И поток несся все быстрей, шумя на камнях.
Пока вокруг росли все березы, липы и дубы. Сосны и ели виднелись выше, на склонах гор, порой они причудливо лепились между скалами, красовались на круче гребней и вершин. Горы сдвинулись настолько, что долина стала похожа на ущелье. Вершины были залиты светом, а в долине стояла тень. Тишину нарушал лишь шум потока.
За крутым поворотом ущелье внезапно кончилось. Светлов остановился, восхищенный открывшейся перед ним панорамой. За небольшой поляной, купаясь в солнечных лучах, поднималась высокая крутая гора. Склоны ее были покрыты лесом, но вблизи вершины зеленый пояс кончался, уступая место отвесной каменной стене. Она обхватывала вершину, как пояс.
Исследовав гору в бинокль, Светлов решил:
«Метров в сто высотой будет, падает отвесно… Если этот пояс охватывает вершину кругом, гора, конечно, неприступна…»
Истоки Гремящего ручья были тут же, поток вырывался из-под огромной скалы, каменной глыбы у подножья горы. Пронесшись немного по отлогому скату, поток с десятиметровой высоты падал в глубокую яму. Кристально-чистые воды потока лились со скальной выемки, как с лотка, а в яме вода кипела с глухим рокотом. Над водопадом стояла радуга, лучи солнца преломлялись в водяной пыли.
Все это составляло необычайно эффектное зрелище, и Светлов машинально схватил фотоаппарат. Несколько кадров было запечатлено.
Затем Светлов поинтересовался, сколько же сейчас времени. Часы показывали около трех пополудни.
«Ого! С привала я шел без отдыха четыре часа. Хороший марш! И если я не ошибаюсь, цель достигнута! Конечно, это Гремящий поток, а это — Тугарак-Тау. Все приметы налицо. Ну-с, продолжим поиски, обследуем гору…»
Светлов подошел ближе к скале. Она была высотой метров в двадцать и лежала как бы прислонясь к откосу скалы. Осматривая окрестности, Светлов забыл об Альме. И вдруг раздался ее лай. Светлов вздрогнул, прислушался. Лай был какой-то необычный, глухой, он несся как будто из глубины горы.
Держа ружье наготове, Светлов обошел скалу. Вначале он ничего не заметил. Место, где скала примыкала к горе, заросло березняком, ольхой и черемухой. Лай раздался вновь, такой же необычный. Светлов пробрался в самые заросли и здесь, в обрыве откоса горы, возле скалы, увидел отверстие… Оно было выше роста человека и шириной метра в два.
— Пещера! — вскричал Светлов не своим голосом, перепрыгивая с камня на камень и заглядывая в недра открывшегося перед ним хода.
Из пещеры пахнуло прохладой и сыростью.
Не видя Альмы, Светлов призывно свистнул. Лай донесся откуда-то из глубины пещеры.
— Да тут большой грот! — воскликнул Светлов в необычайном волнении. — Неужели это в самом деле пещера Тургарак-Тау с ее таинственным входом?!
Он достал из кармана электрический фонарь, раздвинул ветви, скрывавшие вход, включил свет и решительно двинулся внутрь пещеры.
«Если расчистить вход, — размышлял он, — здесь свободно можно проехать на подводе, запряженной парой лошадей!».
Осмотревшись при свете фонаря, Светлов увидел, что он находится в высоком каменном гроте шириной метров в двадцать, метров шести до свода. Пол пещеры, словно мягким ковром, был покрыт толстым слоем подсохшего ила. Всюду валялись ветки и куски коры.
«Откуда это? Что бы это означало?» — недоумевал Светлов.
— Альма! Альма! — крикнул он. — Сюда! Где ты там запропастилась?
Но вот собака появилась из темноты и, ласкаясь, потерлась о ноги Светлова.
— Молодец! — похвалил ее Светлов. — Кто знает, может быть, ты помогла мне сделать важное открытие.
Светлов прислушался и уловил глухой рокот воды внизу, под каменным полом пещеры.
«Вот оно что! Значит, поток идет по нижнему гроту, но иногда, может быть в половодье, в период больших дождей, вода поднимается и наверх… Вот почему здесь ил, ветки, кора…»
Тут, пораженный внезапной догадкой, Светлов остановился.
«Но раз ветви и кора принесены водой потока, значит, где-то внутри горы растут и деревья? Значит… Неужели и впрямь в горе скрыта долина с растительной, а возможно, и животной жизнью?!»
Светлов вспомнил, что у входа в пещеру он заметил следы недавнего русла потока, так как почва размыта водой.
«Одно из двух, — сообразил Светлов, — или вода потока временами приходит из нижнего грота в верхний, или раньше поток шел верхним гротом, а потом по каким-то неизвестным мне причинам переменил течение и пошел нижним гротом. Если верно последнее, то это случилось недавно, ил не успел еще как следует подсохнуть и отвердеть».
Светловым овладело стремление немедленно двинуться вперед и добиться выяснения так волновавшей его загадки. Но он остановил себя.
— Терпение, Сергей Павлович! — сказал он вслух. — Сейчас уже поздно, отложим подземное путешествие до утра. Получше отдохнем, наберемся сил — и завтра в путь… Как ты думаешь, Альма?
На минуту пришла мысль, что хорошо бы возвратиться в лагерь, собрать экспедицию для этого важного и небезопасного путешествия. Но тут же он передумал. Нет, он пойдет один, и честь открытия будет принадлежать лишь ему! А если встретятся опасности, что ж, пусть выпадут они на его долю!
— Ну, Альма, пошли обедать и отдыхать. Успеем еще познакомиться с пещерой получше. Тайна Круглой горы в наших руках!
Альма вильнула хвостом, как бы соглашаясь с таким мудрым решением.
Светлов направился к выходу, освещая путь фонарем и тщательно осматривая пещеру. Невдалеке от входа он увидел следы. Это были отпечатки лап какого-то крупного зверя. Альма, принюхавшись, заворчала и поджала хвост. Шерсть на загривке у ней встала дыбом.
— Эге, никак медведь? — воскликнул Светлов— Нет никакого сомнения, это следы медведя. И свежие следы! Он прошел здесь недавно. Но куда же он направлялся?
Следы медведя шли в одном направлении, в глубь пещеры, назад зверь явно не возвращался.
«Значит, медведь где-то в глубине пещеры или, пройдя ее, проследовал куда-то дальше… Дальше? Тогда значит?.. Значит, путь в долину Круглой горы свободен?! Неужели тайна Тургарак-Тау будет открыта?!»
Но это были еще далеко не все находки, которые Светлов обнаружил. Выйдя из пещеры, он заметил среди кустов в траве странный предмет. Поднял его и, осмотрев, вздрогнул: сумка! Кожаная сумка! И куски коры осокоря, привязанные к сумке чьей-то рукой!
Как она сюда попала, эта сумка? Потерял случайный охотник, заброшенный сюда, исследуя пещеру? Но осокорь… Ведь это поплавок — для того чтобы сумка не утонула в воде! Но ведь это становится фантастичным! Так случается только в приключенческих романах! И все-таки это факт: вот она, загадочная кожаная сумка, он держит ее в руках!
Дрожа от нетерпения, Светлов освободил сумку от кусков осокоря и, вынув охотничий нож, разрезал кожаную обшивку. Сумка зашита была наглухо, прочно, тщательно. Внутри оказался сверток, обернутый в полотно и пергамент. Сорвав эту упаковку, Светлов увидел толстую тетрадь и раскрыл ее.
— Рукопись — воскликнул он. — Рукопись на русском языке! Чудеса! Расскажи кому-нибудь, так не поверят!
ПЯТАЯ ГЛАВА
Альма вначале отнеслась спокойно к странному поведению своего хозяина. Альма привыкла, что люди зачастую заняты не тем, чем следовало бы, по крайней мере с точки зрения старой опытной охотничьей собаки. Например, зачем понадобилось подбирать с земли тяжелый предмет, пахнущий плесенью, кожей, но ничем съедобным? Давно бы следовало подумать о еде. Но Светлов сидит неподвижно, уткнувшись в тетрадь, и Альма никак не может привлечь к себе его внимание… Наконец, совсем уже непонятно, почему этот человек то смеется, то ругается и хлопает по тетради ладонью, то снова затихает и шуршит страницами…
Альме надоело наблюдать за всеми этими переменами. Она вздохнула, вытянулась у ног Светлова и уснула, подрагивая кожей, чтобы согнать назойливых комаров.
А Светлов продолжал читать, по временам вскрикивая: «Младенческий лепет!..» «Чепуха какая!..» «Ничего не понимаю! Повесть это неопытного сочинителя или записки юного незрелого существа, нечто вроде дневника?..»
Однако чем дальше читал Светлов, тем более заинтересовывался содержанием написанного.
«Черт возьми! А ведь кажется, все это на самом деле… все это правда… Почище всякой легенды Борового! По-видимому, мы имеем дело с нового типа Робинзоном, и даже Робинзонами! Причем находятся эти Робинзоны где-то тут, поблизости, а вовсе не затерялись на необитаемом острове среди океана!..»
Почерк сочинителя был неустановившийся, а тетрадка была самой типичной школьной «общей» тетрадью. На первой странице крупно было написано:
«СПАСИТЕ НАС! МЫ ЗАМУРОВАНЫ! МЫ ОТРЕЗАНЫ ОТ ВСЕГО МИРА!»
И еще приписка:
«Если нашедший эту тетрадь не разберется в ее содержимом, пусть передаст находку в ближайшее село или в ближайший город!»
И на отдельно вложенном листке:
«Если тетрадь будет найдена слишком поздно, пусть хотя бы узнают о нас, о том, что с нами произошло. Может быть, все, что написано, плохо, ведь мне не с кем посоветоваться, не у кого учиться. За одно ручаюсь: все, о чем я рассказываю, так и было, я ничего не выдумал, ничего не прибавил. Тот, кто прочтет мои записки, узнает, что от всей нашей экспедиции, если это можно назвать экспедицией, осталось меньше половины. Но мы, — те, кто живы, — не собираемся умирать, у нас есть все условия, чтобы сохранить жизнь. Нет у нас одного и самого главного: нет людей, общения с себе подобными. Мы как на оторванной плывущей льдине, хотя и в цветущем, полном изобилия краю. Мы отрезаны от мира. Мы, вероятно, одичали. И хотя я страстно мечтаю увидеть людей, но я в то же время со страхом думаю, поймут ли меня, пойму ли я их, разберусь ли во всем, если когда-нибудь вернусь в человеческое общество. Отец сделал все, чтобы мы не одичали, а самые условия заставили нас научиться многому, что необходимо человеку, чтобы жить: трудиться, сооружать, делать, ладить, многое уметь, чему мы, может быть, не научились бы при других условиях. Прямо как в „Робинзоне Крузо“!
Итак, тетрадь готова, сейчас мы примемся ее обшивать, заделывать, чтобы не проникла сырость, чтобы выдержала и воду, и непогоду, и жару, и удары о каменные выступы… Надо позаботиться, чтобы пакет не привлек внимания диких зверей, но зато сразу обратил на себя внимание любого человека. Еще надо подумать, чтобы мое послание не пошло ко дну, чтобы оно или всплыло на поверхность, или было прибито к берегу. Тут многое сделал Ахмет, наш друг и учитель труда… В последнюю минуту кажется, что все надо было написать не так, а совсем по-другому и гораздо лучше. Но поздно об этом раздумывать. Как вышло, так пусть и будет… Меня торопят… Но все же я успею еще подписаться:
Владислав Кудрявцев».
Эта приписка вносила некоторую ясность. И все-таки Светлов читал с недоумением, порой даже раздражаясь. Он то и дело бормотал:
— К чему эти подробности? Наивно, растянуто… Даже не поймешь, что к чему…
Или ворчал:
— А толстосума Дубова каким ангелочком изобразил!.. Должно быть, англичанин-то — птица дальнего полета! И Георгий тоже хорош: храбрый там, где не надо и храбрости, а фактически — дезертир…
С такими паузами, с такими репликами Светлов прочел всю рукопись одним махом, не замечая, что голоден, что вокруг вьются тучами злые комары, что время идет, что давно пора бы развести костер и позаботиться об обеде…
«Мы приехали в город N на жительство в начале войны с Германией…» — так начиналась эта странная рукопись.
Мы — это семейство Кудрявцевых. Во-первых, папа. Его зовут Борис Михайлович, он инженер, он очень красивый, гораздо красивее меня, хотя все говорят, что Владек — то есть я — «пошел в папу». Во-вторых, мама. Ее зовут Ирина Алексеевна. Она очень хорошо играет на рояле. Она тоже очень красивая. Моя сестренка Люба считает, что мама красивее всех на свете, но девчонки ведь любят преувеличивать. Мама строгая, и мы все: и Люба, и я, и папа, хотя и любим ее, но немножко побаиваемся. Вот и вся наша семья, если не считать нашей кухарки Ульяны Петровны и нашего кучера Ахмета. Еще у нас есть Вещий. Это пес, породистый, с блестящей красной шерстью. Папа говорит, что такому псу цены нет, и ходит с ним на охоту.
Итак, как я уже сказал, было начало войны с Германией. Это были тревожные дни. Ахмета и то у нас чуть-чуть не мобилизовали. Всюду встречались солдаты. Поезда с ними то и дело отправлялись на фронт, а оттуда привозили раненых. На многих больших зданиях в городе красовались белые флаги с красным крестом — там размещались лазареты.
Жизнь становилась трудней. Товары в магазинах исчезли. Хлеб сильно вздорожал, сахар, чай, табак продавали по нормам. Особенно плохо приходилось тем, у кого кормильцы ушли в армию.
В марте семнадцатого года из Петрограда пришла весть о падении монархии. Сменилась власть и в нашем городе. Было много митингов, собраний, шествий с музыкой и красными флагами. Но жизнь не стала легче. Бедствовали рабочие, волновалась деревня, солдаты требовали мира.
Осенью, в конце октября, город пережил тревожные дни. Гудели заводы, где-то слышалась стрельба. Говорили, что к власти пришли большевики. В газетах печатали их декреты и приказы.
Мама строго запретила мне выходить со двора. Ворота были на замке, в усадьбу, обнесенную высокой оградой, ход был закрыт. Я не ходил и в гимназию.
— Владек! — крикнул, увидев меня на крыльце, дворников сын Петя. — Пойдем в город? Ох и интересно там! Везде флаги, народу, солдат сколько — страсть!
Курносое лицо парнишки сияло от удовольствия.
— Мама не позволяет выходить. Запретила.
— Запретили! А ты без разрешения иди. Знаешь: буржуям всем крышка, это я точно тебе говорю!
— Какая крышка?
— Определенная! — Петя свистнул для пущей убедительности. — Все у них теперь отберут: и дома, и магазины, и деньги. Фабрики тоже. В газетах об этом напечатано.
— Кто же отберет?
— Как кто? — удивился моей неосведомленности Петя. — Большевики отберут.
Сгорая от любопытства, нарушив запрет, я убежал с Петей в город. Столько народу, знамен, красных бантов и ораторов я видел впервые. Колонны двигались по улицам города, как река. В большом соборном парке, переименованном минувшей весной в парк Свободы, беспрерывно, с утра до вечера, толпились тысячи людей, гремели оркестры, выступали ораторы. Но и мы, ребята, заметили, что богатые не принимали участия в этих событиях. Ходили по улицам, митинговали рабочие, мелкие служащие, солдаты. Богатые отсиживались дома, а если и выглядывали на улицу, то держались в стороне, напуганные, злые.
— Видал? — кивал в их сторону Петя. — Толстосумам-то не нравится это, нос воротят!
За самовольную отлучку мне изрядно досталось. Мама накричала на меня, отец сердито внушал мне, что в такое время мальчикам лучше не показываться на улицах.
— А какое сейчас время, папа? — спросила Люба. — Страшное?
— Нет… Почему страшное? Интересное время, только не для маленьких.
— А почему нельзя ходить на улицу?
— Напугать могут, затолкать.
— А-а! — протянула сестренка, что-то соображая. — Кто-то с кем-то ссорится?
— Бедные с богатыми, — не утерпел я. — Буржуям крышка!
— Владислав! — резко оборвала меня мама. — Откуда у тебя такие рассуждения? С улицы принес? Борис Михайлович, вот плоды вашего свободного воспитания. Словечки — кухаркиным детям впору.
К большому неудовольствию Любы, мама увела ее в комнаты и рано уложила спать. Отец долго ходил по залу, взволнованный и озабоченный.
— Папа, — нерешительно спросил я, — почему оркестры? Это какой-нибудь праздник?
— Как тебе объяснить? Из Петербурга и Москвы сообщают, что пришли к власти большевики, Советы. Временное правительство низвергнуто.
— Большевики? — переспросил я, припоминая, что слышал о них. — Это те, что за мир, против войны и богатых?
— Да… В нашем городе Совет тоже взял власть в свои руки.
— Значит, у богатых будут все отбирать?
— Кто тебе сказал?
— Петька говорит. И на митинге я слышал.
— Это пока неизвестно. Правда, Совет проводит налог на богатых, наложил на них контрибуцию… Впрочем, мальчикам твоего возраста это не интересно.
Я хотел спросить, богатые ли мы, это меня очень интересовало, но почему-то не решился и спросил другое:
— У Дубова все отберут? Дубов — буржуй? Да, папа?
Отец ответил не сразу.
— Поживем — увидим. Пойдем-ка лучше, брат, спать. А то попадет нам с тобой от матери.
Утром я узнал, что занятия в гимназии и других училищах прекратились. Преподаватели объявили забастовку. Бастовали служащие городской и земской управы и многих других учреждений.
— Ну конечно, — произнесла, услышав эту новость, мама, — все культурные, интеллигентные люди против большевиков. Не так-то просто управлять государством. Это очень быстро обнаружится. И чем скорее, тем лучше.
— Ну уж это не дело, — возразил отец. — Взрослые могут сводить счеты, но школы должны работать, а дети — учиться.
— Ты, Борис, не понимаешь простой истины. Чем шире будет движение недовольства, тем скорее рухнут бредовые идеи большевиков.
— А фронт? — возразил опять отец. — Ведь если будут бездействовать железные дороги, телеграф, почта, — что станет с нашей армией? Как будут жить в Петербурге, Москве, во всех крупных городах без подвоза продуктов? Фронту нужны оружие, хлеб, снаряды, городам — продовольствие… Нет уж, дорогая, как хочешь, а саботаж — это предательство!
— Вот и сказываются твои левые убеждения. А если победят большевики, что тогда получится? Не погубят они Россию?
— Отставим этот разговор… — как и всегда в спорах с мамой, отец уклонился от пререканий.
Из Питера шли новости одна другой удивительнее.
— Конец богатеям! — торжествовал Петя, снабжая меня городскими новостями и являясь чуть ли ни единственным моим просветителем и пропагандистом. — Что я тебе говорил?!
Длинные списки контрибуций с городских богачей украсили заборы и стены домов. Нашей фамилии в них, слава богу, не было, и я успокоился, что, значит, мы — не богачи. Со многих богачей, слывших миллионерами, Совет требовал по несколько сот тысяч рублей.
Многих за уклонение от выплаты контрибуции посадили в тюрьму. В городе появилась ЧК, чрезвычайная комиссия, о ее работе рассказывали всякие невероятные вещи.
Однажды зимней ночью вооруженные солдаты с красными бантами — красногвардейцы, как их звали, — появились и в нашем доме. Долгое время они, перепугав нас, производили обыск, но, не взяв ничего, ушли.
Позднее говорили, что они искали капиталы Дубова. Носились слухи, что предусмотрительный миллионер успел припрятать от большевиков крупные суммы и ценности.
Я и боялся большевиков и втайне восторгался ими. Они смелые, звонкоголосые. Тайком от родителей, вместе с Петей, я несколько раз побывал в театре и в Народном доме, где происходили митинги. Чего только там не говорили!
Мама пришла в ужас, когда узнала о моем посещении этих собраний.
— Да ты с ума сошел, глупый мальчишка! Не смей ходить туда больше! Борис Михайлович, внушите же ему. Иначе не избежать беды.
— Какой беды?
— То есть как — какой беды? Недоставало, чтобы и нас обложили контрибуцией и посадили в подвалы губчека!
— На служащих, хотя бы и инженеров, контрибуций не накладывают. Ее платят лишь капиталисты. А садить меня не за что: я не заговорщик, не саботажник…
— Ну конечно! Разве с тобой договоришься! Ты известный вольнодумец. Недаром из института тебя отчислили, высылали в Сибирь… Чего доброго, ты пойдешь к большевикам, в Совет, и предложишь свои услуги…
— Если заводы перейдут Советам, работать-то надо все же?
— Боже! — заломила мама в отчаянии руки. — Когда это все кончится?!
К весне пошли слухи о восстаниях в разных концах губернии. Невдалеке, за Уралом, под Оренбургом, образовался настоящий фронт: шли сражения между красногвардейцами и белыми казаками Дутова и Толстого. Восстания разгорались на Дону, в некоторых местах Сибири… Слухи о близком падении большевиков становились настойчивее.
В мае город оказался отрезанным от центра. Восстали чехословацкие войска. В июне, после короткого боя, красные спешно покинули город. Чешских солдат встретили как освободителей — с цветами и музыкой. Восстановлены были старые учреждения. Пр городу разгуливали чешские офицеры, золотые погоны мелькали там и тут. Заводы, фабрики, большие дома возвращены были вновь их владельцам. Новая власть жестоко расправилась с попавшими в ее руки большевиками, советскими работниками. Тюрьмы были переполнены, то и дело происходили расстрелы. Рабочие, беднота были против новой власти. В ряде мест губернии красные, уходя с оружием в леса и горы, отбивались от белых войск и создавали многочисленные отряды партизан. В горах образовался настоящий фронт.
Однажды вместе с соседскими ребятами я побывал за городом, возле кладбищ, и увидел там расстрелянных. Это было страшное зрелище! Их убили ночью, сбросили в ямы, но не погребли. Слух об этом распространился по городу, на кладбище потянулись толпы народу. Некоторые узнали среди убитых знакомых и родственников. Женщины плакали. Прискакавшие конники разогнали толпу нагайками. Говорили, что после расстрелы стали производить дальше за городом, тайно, а убитых стали закапывать.
Месяца через два после падения Советской власти, в августе, в городе разразилась паника. Богатые спешно уезжали. С запада, с Волги, где проходила линия фронта, прибывали войска. Говорили, что движется армия красных партизан, якобы уничтожающая все на своем пути. Под городом образовался фронт, несколько дней оттуда явственно доносилась пушечная пальба. Сообщение с Сибирью по железной дороге было прервано. В городе должно состояться совещание членов правительства, директории, делегаты из Сибири прибыть не могли. Часть их, вместе с известной эсеркой Брешко-Брешковской, едва не попала в плен к красным.
— Опять богатеям скоро крышка! — твердил, озорно улыбаясь, Петя.
— Правда ли, что красными командует немецкий генерал? — спрашивал я, веря в обширные познания Пети в области политики и военных дел.
— Брешут! — горячо возразил Петя. — Красные все из рабочих или бедных крестьян. А командир у них русский солдат, а не генерал.
Вскоре паника затихла. Красные прошли мимо города. А месяца через три, в декабре, из города вновь потянулись беженцы. На этот раз — на восток, красные войска подходили с запада. В сентябре белые отдали Казань, в октябре красные заняли Самару. Фронт быстро приближался к нашему городу. Боясь окружения, белые поспешно отступали. Перед Новым годом, в морозные дни, в город вошли красные. Зажиточные, богатые, кто не уехал, попрятались от них за плотно закрытыми воротами и ставнями, а рабочие, беднота встретили красных с нескрываемой радостью. Опять зашумели собрания в театрах и клубах. Замелькали по улицам солдаты с красными звездами на островерхих шапках-шлемах. На стенах домов, на заборах — афиши, лозунги, плакаты, газеты… Закипел рынок, заговорили все о нормах и пайках…
Красные поселились и в нашем доме. Это были веселые ребята! Папа относился к ним приветливо, мама почти совсем не показывалась из своих комнат. Среди гостей завелись у меня приятели.
Однажды я был свидетелем ссоры между отцом и матерью.
— Почему ты не увез меня и семью из этого ада? — говорила сквозь слезы мама. — Я томлюсь, мучаюсь, а ты дружишь с красными. Чего ради ты пошел работать в большевистский совнархоз? Разве ты так уж сильно нуждаешься в том, чтобы продаться большевикам? Как на это посмотрит Дубов, когда он вернется на свои предприятия?
— Пойми, что не могу я сидеть сложа руки, без дела…
— Не можешь! Мужицкий дух сидит в тебе, несмотря на диплом инженера!
— Зачем же ты пошла за мужика?
— Ах, зачем, зачем! Если бы ты захотел, мы сейчас были бы на юге, или в Сибири, а то и за границей.
В марте красные вновь оставили город. Колчаковские войска, одетые в английское обмундирование, быстро продвигались к Волге, намереваясь ворваться в Москву, как писали газеты. Говорили, что к Волге же стремились и войска генерала Деникина, донские и кубанские казаки, добровольцы, офицерские части. На Волге у Царицына армии должны были объединиться, с тем чтобы отрезать Москву, Петроград, центр от хлеба, угля и нефти.
Но в июне белые, терпя поражение, снова отходили на восток, утратив надежду взять Самару. В начале июля пал Царицын, но белые армии соединиться не могли: армия Колчака, разбитая, откатывалась на Урал, в Сибирь.
Красные обходили наш город с севера и юга. Слышна была пушечная пальба, а улицы были переполнены отступающими войсками, обозами, беженцами. Поезда отходили в затылок друг другу, переполненные, облепленные людьми.
На окраинах города, над рекой, солдаты вырыли окопы. На площадях и в садах стояли орудийные батареи. Понтонные мосты через реку разведены, по железнодорожному ходят лишь воинские составы и бронепоезда.
Во дворе нашей усадьбы появилось несколько подвод, в конюшне прибавилось с десяток лошадей: шла спешная погрузка.
Однажды за завтраком отец сказал:
— Дети, на улицу носу не показывать!
— Почему?
Папа молча пожал плечами, а мама сказала строго, обращаясь ко мне и Любе:
— Сказано нельзя, значит нельзя, и кончен разговор. Особенно не вздумайте ходить к реке. Там солдаты, опасно.
— Стрелять будут? — испуганно переспросила Люба.
Отец шутя погрозил ей пальцем, а мама упрекнула:
— Маленьким девочкам об этом и говорить не полагается. Борис Михайлович, — обратилась она к отцу, — когда же мы едем?
Все порядочные люди покидают город. Или ты намерен и дальше продолжать работу в их губсовнархозе?
— На днях уедем и мы. Завтра должен приехать Андрей Матвеевич.
— Как? — изумилась мама. — Дубовы заедут за нами? Разве это по пути?
— Прислали телеграмму, что отсюда поедем вместе. Письменное уведомление пришло раньше, а телеграмма — вчера.
— И ты скрывал это от меня! Это в твоем стиле… Я беспокоюсь, мучаюсь, а он знает и молчит! Боже мой, но в таком случае надо укладывать вещи, готовиться…
— Я это как раз и делаю. И тебе вот сказал. Готовься, собирайся. Мы уедем в надежное место, где не будет никакой опасности.
— Едем по железной дороге?
— Это будет зависеть от обстановки и распоряжений Андрея Матвеевича. Пока я готовлю отъезд на лошадях, спешно грузим на подводы все, что нам потребуется в месте нашего нового жительства. Уложи все то, что тебе и детям понадобится из одежды, домашних вещей. Об остальном позабочусь я сам…
…Светлов отложил в сторону тетрадь и задумался. Странное повествование! То детский, то взрослый слог… И какие, мягко сказать, наивные обо всем представления! И эта сердитая мама, и этот сговорчивый, послушный папа… и этот сознательный сын дворника… Нет! Кажется, тут какая-то мистификация! Не верю я ни в сестренку Любу, ни в гимназиста, который пишет «бедствовали рабочие, волновалась деревня»… или «в мае город оказался отрезанным от центра»… Тут что-то не то. Если это пишет взрослый, вспоминая детские годы, то как это неубедительно! «Тюрьмы были переполнены»… «Я побывал за городом и увидел там расстрелянных»…
Светлову даже пришло в голову, что зашитую тетрадь сфабриковали шутники-геологи, заметившие в нем страсть к открытиям, к необыкновенному, к экзотике. Светлов внимательно обследовал и обшивку, и кожаную сумку. Нет, безусловно, сумка давно уже лежит здесь, в сырости, застрявшая между камней. И тетрадка какая-то не такая, каких не встретишь сейчас… И кто же станет сочинять такую длинную и невероятную историю? Да и фамилию золотопромышленников Дубовых приходилось встречать Светлову, когда он знакомился с материалами о дореволюционном Урале… Но при чем же тут «спасите, помогите»?!
Светлов вздохнул, рассеянно посмотрел на уснувшую возле ног Альму и снова принялся за чтение.
ШЕСТАЯ ГЛАВА
Дубовы приехали поздно вечером, когда мы с Любой уже спали. Утром в нашем доме царило необычайное оживление, появилось много новых лиц.
Андрею Матвеевичу Дубову за пятьдесят. Среднего роста, полный, он крепок, несмотря на солидный возраст. Рыжие волосы на голове Дубов стрижет старомодно, «в скобку». Глаза у него серые, маленькие, проницательные, с хитрецой. Одет он в просторный серый костюм, ходит в лаковых сапогах, толстая золотая цепочка массивных карманных часов красуется на жилете.
Жена Дубова — Клавдия Никитична — женщина смирная, молчаливая. Ей тоже не меньше пятидесяти, но она сохранила еще следы былой красоты.
У Дубовых два сына — Георгий и Николай.
Младший, Георгий, лет двадцати пяти, в офицерской форме, с погонами поручика, подтянутый, щеголеватый. По наружности— в мать, синеглазый блондин, а характером — в отца, надменный и упрямый. Военное училище он кончил в начале войны с немцами, но на фронте не был, богатство отца охраняло его от опасностей боевой страды. Почти три года он прослужил в штабе запасного полка в Екатеринбурге. После временного падения Советской власти на Урале, когда туда пришли белые, он снова оказался в штабной должности.
Старшему, Николаю, около тридцати. Рыжеватый, в пенсне на близоруких глазах, медлительный, он был, наоборот, в отца внешностью, а в мать характером, — тихий, нерешительный, вялый.
— Он у меня философ, — смеялся Дубов. — Ученый и социалист. Университетское образование имеет. Опасный человек, капиталистам— лютый враг. Так, что ли, Николенька?
Николай после революции вступил в партию эсеров, был членом каких-то комитетов, гласным городской думы. Когда адмирал Колчак, правитель Сибири, разогнав учредильцев, посадил видных меньшевиков и эсеров в тюрьмы, Николай Дубов остался на свободе. Миллионное состояние отца, по-видимому, и тут сыграло роль.
Вместе с Дубовым приехал высокий холеный господин, неразлучный с трубкой и роговыми очками. Ему лет около сорока. Выражение бледного бритого лица его брезгливо, взгляд бесцветных глаз холодный, словно прицеливающийся. Маленькие стриженые усы оттеняют тонкие, злые губы. Одет он безукоризненно, к завтраку вышел в отличном сером костюме, ослепительно-белом белье, в желтых ботинках с тупыми носками и прочными двойными подошвами. Это был инженер Рисней, доверенное лицо крупной английской фирмы, работающий на Урале в золотой промышленности в компании с Дубовым. Англичанин в совершенстве владел русским языком.
Из прислуги Дубовы привезли с собой лишь своего повара Фому Кузьмича. Это был пожилой лысоватый мужчина с полным белым безбородым лицом.
Фома Кузьмич был первый, кого я увидел утром, заглянув на кухню. Одетый во все белое, он священнодействовал там, как в алтаре.
Повар обратился ко мне, как к давнему знакомому:
— Едем, значит, молодой человек?
— Едем, — ответил я, разглядывая его.
— Красные-то далеко ли? Не сцапают нас? Обедом-то успею еще накормить господ?
Серые глазки повара блеснули насмешкой.
— Успеешь! — сердито ответила наша кухарка Ульяна Петровна, ревниво следившая за хозяйничаньем приезжего повара на ее кухне. — Коли ненароком не угодит снаряд в трубу, так успеешь.
— Ну! — беспечно возразил повар. — Так и угодит к тебе в трубу! Мало их в городе, труб-то!
— И угодит! — сердилась кухарка. — Выдумают тоже: к чертям на кулички, в горы да лес, к медведям в гости ехать!
— К медведям? Это ты верно говоришь. Только иные люди хуже медведя. А ты, голубушка, едешь?
— Как же! Нашли дуру! — Ульяна встала среди кухни, подбоченясь. — Да не сойти мне с этого места, чтобы я поехала! От родных мест не тронусь. Наша-то барыня Ирина Алексеевна уговаривала горничную ехать с ней, а Варя, горничная-то, не будь дурна, ушла третьего дня с вечера и глаз не кажет… И молодец! Пусть уж господа одни там путаются с Колчаками…
Вспомнив обо мне, Ульяна замолкла и занялась своим делом, сердито громыхая кастрюлями.
С раннего утра дворник Иван и кучер Ахмет хлопотали около повозок и лошадей, укладывали на возы грузы, кормили и чистили коней.
— А, молодой барин! С добрым утром! — приветствовал меня Ахмет. — Собрался в путь?
— А не боишься в горы ехать? — спросил я кучера. — Тетя Ульяна и Варя отказались.
— Чего мне бояться? — ответил Ахмет, приподнимая колесо пролетки для смазки. — Я люблю горы, я там родился, вырос.
— И Марфуга поедет?
— А как же? — смуглое лицо Ахмета осветилось улыбкой. — Куда иголка, туда и нитка.
Ахмета Гареевича я знал давно. Я был еще ребенком, а он уже разъезжал с отцом по приискам и заводам. В черных коротко стриженных волосах его чуть серебрилась седина. Он был крепкий, ладный и добродушного, веселого характера. Когда он смеялся, зубы его блестели на темном лице, раскосые черные глаза искрились и становились узенькими, как щелки. Руки у кучера крепкие, мозолистые, черные от загара и дегтя, но искусные, непривычные к покою. Ахмет был всегда чем-либо занят — на конюшне, возле экипажей, по домашности. Он мастер, что называется, на все руки: плел хлысты, вил веревки, метал сети, плел корзины, делал клетки для птиц, силки для зайцев, западни для зверя. Заядлый рыболов и охотник, Ахмет всегда сопровождал отца на охоту, учил и меня этому искусству. Я дружил с кучером, и он относился ко мне ласково, заботливо, чисто по-отечески.
У Марфуги, жены Ахмета, красивые черные волосы, заплетенные в косы, украшенные серебряными монетами. При ходьбе и движениях серебро мелодично звенело. Круглолицая, черноглазая, небольшого роста, сохранившая еще стройность стана, Марфуга в молодости, очевидно, была очень красивой. У нее не было в живых детей, двое умерли в младенческом возрасте. С мужем Марфуга жила хорошо, дружно.
Завтрак в это утро был необычайно оживленным. За столом появились изысканные закуски и дорогие вина из запаса Дубова, привезенные им с собой. Мама оделась наряднее обычного, была особенно возбуждена. Люба не спускала с нее восхищенных глаз, а меня подталкивала в бок: «Владька, смотри, какая у нас мама! Прелесть!» Дорогое модное мамино платье выгодно подчеркивало красоту ее несколько бледного горделивого лица. Когда мама улыбалась, в глазах ее вспыхивали золотистые искорки, и это согревало ее облик, делало душевным и нежным. Дорогое ожерелье, золотой, красивой работы браслет, кольца на тонких холеных пальцах, сияющая самоцветами диадема на голове дополняли ее наряд.
Англичанин, молодые Дубовы, да и старый их отец Андрей Матвеевич — все наперебой ухаживали за хозяйкой дома. Люба с восхищением смотрела на незнакомых гостей, веселых, хорошо одетых, угощавших ее редкими, вкусными сладостями. Вообще Любу все сегодня приводило в восторг.
— Однако пора собираться в дорогу, — напомнил отец.
— Да, пора, — вздохнул, вставая, старик Дубов. — И пушки напоминают об этом. Того-этого, поторапливают!
Пушки ухали где-то вдали приглушенно, но хрустальные подвески люстры, что висела в гостиной, еле слышно и мелодично позвякивали.
— Чудесная у вас дочка! — говорила Клавдия Никитична, уходя под руку с матерью вместе с Любой…
Да, сыновья — счастье, дочери — вдвойне.
Сыновья — орлята, подрастут, взовьются и улетят.
Дочки — голубки, где бы ни были, всегда стараются прибиться, вернуться к материнскому гнезду.
Мужчины ушли в кабинет папы и пробыли там около часу, совещаясь. Я прошел по комнатам дома, опустевшим, носившим следы спешного отъезда. На время нашего отсутствия в доме остается садовник Лаврентий Федорович, пожилой, сумрачный человек. Он жил в отдельном маленьком флигельке вдвоем с женой, ворчливой и сварливой женщиной. На садовника и дворника Ивана возложена задача — сохранить дом, обстановку и сад, в котором зрели вишня, малина и смородина, росли, наливаясь, в изобилии уродившиеся в этом году яблоки.
Во дворе запрягали лошадей. Деловито, хозяйски хлопотал Ахмет, ему помогал, недовольно ворча, дворник. Фома Кузьмич, весело балагуря, укладывал ящики с посудой, с закусками и винами на одну из подвод. За короткое наше знакомство я заметил пристрастие Фомы Кузьмича к поговоркам, пословицам. Он пересыпал ими свою речь, как кушанья — приправой.
Обоз был внушительный: десяток прочных, на железном ходу, вместительных телег с узлами, чемоданами, продовольствием и четыре пролетки местного типа, называемые тарантасами. На задках этих экипажей приторочены ящики, тюки и чемоданы. На одной из телег высилось запакованное в ковры, войлок, холстину, перемотанное веревками пианино.
Возбужденный общей суматохой, носился по двору пес Вещий. Он никак не мог понять, что происходит. Он врывался в комнаты, снова выскакивал во двор, обнюхивал узлы, поклажу и лаял на лошадей.
За обедом, поданном необычайно рано, собрались все, одетые запросто, по-походному. И обед был прост, его скрасили тостами за благополучное путешествие.
После обеда, перед тем как отправиться в путь, Дубов, по старому русскому обычаю, попросил всех присесть. После короткого молчания Дубов поднялся, перекрестился:
— С богом… В счастливый час…
Когда мы выехали, горячее июньское солнце уже стояло в зените. Было так жарко, что асфальтовые тротуары размякли, каблуки сапог и ботинок печатали на них заметные следы. Ни одно дуновение ветерка не освежало изнемогающий в жаре город. Река под горой была пустынна, катила прохладные воды свои средь горячих песков. Откуда-то из переулков, с площадей города били пушки. Из-за реки им отвечали орудия красных. Шрапнельные разрывы сверкали желтым пламенем, белые дымки висели в синем небе клочьями ваты. Лениво, словно тоже изнемогая от жары, стучали пулеметы из окопов, змеившихся по крутогору на окраинах города. Издалека, с низовьев реки, слышалась приглушенная музыка горячего боя. Там решалась судьба города.
Решение это уже складывалось не в пользу его гарнизона. По железной дороге в спешке и сутолоке уходили на восток поезда, до предела нагруженные войсками, беженцами, оборудованием, интендантским имуществом, всяким хламом. На крышах вагонов, на платформах, площадках, в тамбурах и на подножках волновался, кричал, судорожно цеплялся разнообразный люд. В кабинетах начальника станции, дежурного, коменданта кричали, плакали, грозили револьверами и бомбами. По улицам, поднимая пыль, шла пехота, гремели по мостовой колеса орудий и повозок. Все это стремилось из города.
Вереницы повозок, запряженных парами, двинулись с нашего двора. Отец, Рисней и Георгий Дубов ехали верхами. На облучке передней повозки, где поместились мы с матерью и Любой, красовался Ахмет. От его широкой спины, потной ситцевой рубахи струился солоноватый запах и веяло спокойствием. Старый кучер знал все пути-дороги на Южном Урале.
Андрей Матвеевич правил лошадьми своей повозки, умело справляясь с вожжами. Рядом с ним, на пуховиках, восседала Клавдия Никитична. Николай ехал в одиночестве, среди вещей, дергая вожжи и неумело управляя лошадьми. На четвертой повозке ехала, наблюдая за вещами нашей матери, Марфуга. Потом шли несколько повозок без кучеров. Обоз заключал Фома Кузьмич со своим скарбом. Деловито носился вокруг Вещий.
На взгорье, за городом, у кладбища, заросшего кудрявыми березами, все невольно оглянулись. В пыли и жарком мареве лежал окруженный с трех сторон рекой, утопающий в зелени садов, город. Над рекой застыли фермы большого железнодорожного моста. Над ним изредка рвались снаряды. Черные грузные коробки бронепоезда временами осенялись пламенем и дымом. Бронепоезд, маневрируя на мосту и поблизости, перестреливался с невидимыми батареями противника.
— Хорошая позиция для обороны, — тоном знатока, обозрев окрестности в бинокль, заметил Рисней.
— Тем не менее сегодня ночью город будет очищен… — ответил отец. — Прощай, город!
— Зачем прощай? До свиданья, до скорого свиданья! — возразила мать.
Обоз наш ехал, предводимый отцом, который гарцевал на коне впереди. Георгий и англичанин ехали сзади обоза.
Клавдия Никитична перекрестилась:
— Ох, господи! Что-то ждет нас, горемычных!
— Ну, пошла вздыхать! — прикрикнул Андрей Матвеевич. — Не в ссылку едем, на отдых.
По дороге двигалось много подвод с разными людьми и багажом. Все были озабочены, часто оглядывались назад, прислушиваясь к далекой стрельбе. Лошадям и людям было жарко. Над дорогой стояла пыль.
Проехали мимо кладбища, миновали монастырь, обнесенный толстой каменной стеной…
— Монахи тоже уезжают? — поинтересовался Рисней.
— Кому они нужны! — отмахнулся Георгий. — Игумен с казначеем, захватив ценности, конечно, укатили. Остальные — кто остался на месте, кто убрел куда глаза глядят.
Дорогу вскоре преградила река, неширокая, но быстрая, текущая в крутых берегах, поросших лесом. Моста на реке не было, его заменял небольшой паром, пересекавший реку на канате, укрепленном выше переправы на якорях. Паром двигался силой течения, как только, отвалив от берега, он становился под углом к течению реки.
— Мама! — воскликнула Люба. — Посмотри на паром! Он ходит, как маятник наших часов в гостиной!
У парома — шум, очередь, толкотня, ругань. Наш обоз переправили в два приема, вне очереди, так распорядился офицер охраны, высокий рыжеусый поручик в запыленном английском френче и с револьвером в руках.
— Ребята, помогай! — прикрикнул он на солдат, и те, закинув винтовки за плечи на ремни, дружно вкатили наши подводы на зыбкий паром. Имя Дубова имело еще вес.
— Солдатам на водку не забудьте, — сказал Дубов, вручая поручику толстую пачку николаевских царских кредиток.
— Покорно благодарю! — козырнул поручик, принимая деньги. — Будьте спокойны! Счастливый путь!
Большая дорога шла перелесками, среди спеющих хлебов и местами уже скошенных лугов, уставленных копнами свежего, душистого сена. Вскоре наш обоз свернул с большака в сторону, на пустынный проселок.
— Разве мы одни поедем? — испугалась Клавдия Никитична. — Вдруг недобрые люди встретятся…
— Вдруг, вдруг! — рассердился Дубов. — Знаем, куда и где ехать, не впервой в этих местах. Да и что мы — беззащитные? Семеро хорошо вооруженных людей!
И впрямь, маленький отряд наш вооружен был на славу. Револьверы и винтовки были у всех, а у Георгия даже ручной пулемет. Глядя на наш обоз, я живо представлял себе, что мы едем в прерии, на американский Дальний Запад. Какие приключения ждут нас, и будут ли они походить на те, что описывали Майн-Рид и Фенимор Купер в своих романах? Я и себя чувствовал храбрым траппером, но хотя я, как и Люба, ехал в удобном тарантасе, а не гарцевал на коне, рядом со мной лежало маленькое заряженное ружье.
Солнце скрылось за горой, на которой стоит невидимый теперь нам город. Повеяло прохладой. Стало темнеть. С лугов возвращались косцы. Большое стадо, с ревом и пылью, шло с выгона к деревне.
— Ночевать, Андрей Матвеевич, на хуторе будем? Как вы думаете?
— Конечно. Спокойней и без лишней огласки. Егор Салов — мужик степенный. Подавайся на хутор, Борис Михайлович. И дорога тут сносная.
Стемнело, когда мы остановились на ночлег. Люба уже спала, и отец перенес ее в избу на руках. Впечатления дня, жара утомили меня. Не дождавшись конца чаепития, я улегся на постели, приготовленной на широкой лавке, и сразу заснул.
Было рано, когда мы поднялись и обоз двинулся дальше.
Стояло дивное утро, тихое и прохладное.
Мириадами искр сверкала роса по лугам.
Спеющая рожь никла к земле тяжелым колосом. Наливали зерно пшеница и овес. В лугах кое-где звенели косы. Размеренно взмахивая ими, двигались ровным строем косцы. Пестрея кофтами и сарафанами, с песнями сгребали сено девушки. Распряженные телеги вздымали кверху оглобли. Остро пахло дымом от костров. В полевых котлах и ведерках готовился завтрак. Мирная картина эта заслонила в памяти сумятицу, которую мы наблюдали там, в покинутом нами городе.
Проснулась Люба. Личико ее разрумянилось, локоны волос выбились из-под шляпки. Осмотревшись, она воскликнула:
— Мама, папа, как красиво!
Услышав, что взрослые сравнивали хлеба с морем, спросила:
— Море тоже рыжее?
— Что ты, детка, — возразила мама, — море синее. Разве забыла Крым? А впрочем, как не забыть? Третий год на курорте не были…
— Кончатся волнения, фронты, поедем снова в Крым — загорать и купаться, — успокоил отец.
— Кончатся! — ворчала мама. — А почему бы нам и сейчас не быть там? Сколько порядочных людей уехало на юг и даже за границу от этих ужасов, только у нас не хватило догадки. Вот и тащимся в эти глупые горы.
— Урал — богатейшие, красивые горы, а не глупые.
Мать, обиженная, замолчала.
За день мы дважды останавливались в поле, близ дороги, где-либо у ручья, в перелеске. Завтракали, обедали, кормили лошадей. Летний день долог, и длинен путь впереди, надо было экономить силы людей и коней. А какой удивительно вкусной казалась незатейливая дорожная закуска! И какой завидный был у всех аппетит! Даже Люба, которую обычно приходилось уговаривать и упрашивать, теперь уплетала все, что дают, за обе щеки.
— Солнце, воздух и вода — вот приправа, господа! — шутил Фома Кузьмич, орудуя на походной кухне.
Поздно вечером приехали в деревню, где и заночевали. Большая часть села представляла одни обугленные развалины. Рядом с селом глубокая быстрая река, через которую ходит убогий паром. На реке видны остатки наведенного здесь кем-то моста. Обгорелые, покосившиеся сваи темнеют над волной. За рекой неохватно синел лес. За лесами высились горы. Скалистые гребни и вершины их отчетливо виднелись, облитые лучами заходящего солнца.
— Здесь, — сказал, указывая на реку, отец, — у этой деревни, год назад было большое сражение. Армия партизан, перевалив горы, шла, направляясь на север, мимо нашего города. Три дня здесь, на переправе, шел бой. Передовые отряды партизан переправились через реку на лодках, плотах, кавалерия — вплавь. Под огнем белых войск партизаны соорудили мост, по которому прошли главные их силы, и повезли пушки, многочисленные обозы. Во время боя деревня сгорела, а мост партизаны сожгли сами после того, как переправились.
— Зачем, папа, сожгли?
— Чтобы отрезать преследующие их войска белых. Красные шли с боями, в окружении, через горы от самого Быстрорецка. Прошли около нашего города, перерезав линию железной дороги. Помнишь тревогу прошлого года? Партизаны пробились из окружения, пройдя с боями больше тысячи верст, и только уже в Пермской губернии, у Кунгура, соединились с Красной Армией.
Когда наутро мы переправились через реку, то вступили в густой лес. Дорога шла между деревьев, через редкие поляны, поросшие густой травой. Могучие дубы простирали кругом ветви. Белели среди зелени стволы берез. Цветущая липа распространяла нежный аромат. Всюду хлопотливо носились пчелы. Глубокая тишина нарушалась лишь пением птиц. Задумчиво и грустно вела свой счет кукушка.
— Кукушка, кукушка! Сколько мне лет? — воскликнула Люба. — Раз… два… три… Мама, папа! Кукушка угадала: прокуковала шесть раз! А теперь спрошу, когда домой вернемся. Пять… шесть… семь…
Оживленное личико сестренки опечалилось.
— Мама! Она отвечает — пятнадцать! Неужели через пятнадцать лет?
— Глупая! Почему же лет? Через пятнадцать дней вернемся. Через полмесяца будем дома.
Фома Кузьмич, подошедший с большим букетом цветов для мамы и Любы, сказал:
— Вашими устами, Любонька, мед бы пить. А кукушка — она глупая птица и газет не читает. Откуда ей знать, что будет впереди?
Убаюканная плавным покачиванием повозки по мягкой лесной дороге, сестренка вскоре уснула. Мать долго печально и нежно смотрела на нее и задремала сама. Как они похожи друг на друга! Отец наклонился с коня и заботливо прикрыл их шарфом.
На ночлег мы остановились в этот раз на хуторе, затерявшемся среди леса. Хозяева, зажиточные латыши, встретили нас радушно, расспрашивали о новостях. Женщины, накрыв стол, стояли молча поодаль. В опрятной комнате, служившей столовой, на окнах расставлены горшки с цветами, на стенах много картин и фотографий, в одном из простенков фисгармония. Плотные, одетые в вышитые полотняные сорочки и жилеты мужчины степенно вели разговор.
— Керосину нет года два, лампы-молнии отдыхают, освещаемся тусклыми коптилками, — пожаловалась хозяйка, пожилая дородная женщина. — Сахару и чаю нет, ситцу не видно…
— Зато у вас вдоволь меда, хлеба, мяса, масла, — возразил старший Дубов, — и припрятано, поди, на случай кое-что поценнее керосину и ситцу.
— Не спорю, — согласился хозяин, благообразный седоволосый мужчина, — да ведь сколько раз приезжали с обысками. Сначала красногвардейцы, а в войну заглядывали и свои…
— Кто? — переспросил Георгий.
— Белые. И среди них есть разные…
Андрей Матвеевич улыбнулся:
— Не без греха и белые, тоже не святые. Война.
— Своя рубашка ближе к телу, — подтвердил Фома Кузьмич.
Георгий метнул на повара сердитый взор. Рисней кисло улыбнулся.
— Урожай в этом году хорош, — сообщил один из латышей. — Убирать будет трудненько. И время неспокойное, и рабочих рук мало.
— А работники? — спросил отец. — Я помню, у вас их было достаточно.
Хозяин махнул рукой:
— Год как ушли. С партизанами.
— Свой своему поневоле брат, — вставил опять Фома Кузьмич.
Все промолчали.
Мы ехали лесами два дня.
Горы приближались медленно-медленно. Да и видали их мы редко, лишь с больших полян, когда расступался лес. Поля, которые встречались по дороге, засеяны пшеницей и рожью, засажены картофелем, свеклой. Златоглавые подсолнечники дружно провожали ясное жаркое солнце. Встречающиеся стада поражали рослым, упитанным, породистым скотом. Деревень здесь не было. Латыши, русские, украинцы жили хуторами, по несколько дворов. Печать достатка и культурного ведения хозяйства лежала всюду. Постройки были солидные, каменные или бревенчатые, хлева для скота и конюшни прочные, утепленные. Крыши построек железные, черепичные, деревянные. Соломы, которой так много в деревнях, здесь не видать. Сложные машины стояли под навесами, готовые встретить уборку урожая.
На второй день под вечер мы приблизились к реке, несущей свои воды в глубокой долине с каменистыми, обрывистыми берегами. За рекой виднелись постройки большого села, высилась церковь, а дальше, казалось, рукой подать, подступали горы.
Паромов и мостов на реке нет, мы переправлялись вброд. Вступая в воду, лошади храпели, испуганно прядали ушами. Вода с шумом билась о колеса экипажей. Подводы переправлялись поодиночке. Фома Кузьмич управлял лошадьми с облучка. Ахмет, сняв сапоги и засучив брюки выше колен, вел лошадей под уздцы. Место переправы было мелкое, вода едва доходила до ступиц колес, но течение было сильное, а дно каменистое, неровное. Требовались сноровка и спокойствие, чтобы благополучно выбраться на другой берег.
Мы с Любой порядочно струсили, глядя на бурлящую вокруг повозок реку. Мама, обняв Любу, испуганно твердила едущему рядом на коне отцу:
— Осторожнее! Дети боятся… Пожалуйста, осторожнее!..
Наконец река позади. Одолев крутой каменистый подъем, лошади пошли веселей, потряхивая гривами.
Смеркалось.
Горы стояли, облитые светом солнца, а здесь, внизу, были уже вечерние сумерки.
Впереди замелькали огни. Вскоре мы въехали в село. Избы стояли редко друг от друга. Между ними виднелись бесформенные очертания развалин, на пустырях высились печные трубы. Село было наполовину сожжено в прошлогодних боях между белыми и красными. В давние времена здесь работал меднолитейный завод, село сохранило заводское название, но от построек завода остались немногие здания, основные же цеха были сравнены с землей или лежали в развалинах, заросшие бурьяном. Машины и станки были вывезены хозяевами на другие предприятия. Историю этого села кратко рассказал нам отец.
На квартиру, где мы остановились, пришли местные власти. Председатель волостной управы был коренастый мужик с черной с проседью бородой, в суконной поддевке и шевровых сапогах. Захудалый невзрачный офицер с погонами поручика и рыжими щетинистыми усами сообщил нам, что он становой пристав. Пришел и местный священник, маленький, болезненного вида старичок в поношенном подряснике и старой фетровой шляпе с обвислыми краями.
Клавдия Никитична подошла к священнику под благословение. Тот поднял худую бледную руку, осеняя ее крестным знамением, а затем подставил серебряный нагрудный крест, чтобы она могла приложиться.
— Мир вам и благословение всевышнего, — молвил он слабым старческим голосом.
— Путешествующим и плавающим — мир и благоволение, — в тон ему тихо молвил Фома Кузьмич.
Отступление белых ставило начальство отдаленной глухой волости в затруднительное положение: уходить на восток, за горы, в Сибирь, не хотелось, а оставаться было опасно. Красные не любили начальства старого режима. Тем более что сыновья всех этих представителей власти были в армии у белогвардейцев. У священника два сына-офицера служили в полках генерала Каппеля. В стане белых сражался и племянник станового пристава.
— Население кругом ненадежное, — жаловался пристав глухим, словно простуженным голосом. — В пятнадцати верстах деревня — голь перекатная и большевик на большевике, большинство мужиков и парней у красных, другие притаились, ждут удобного случая побунтовать. В сорока верстах стекольный завод, в прошлое лето там создался из рабочих полк, ушел с партизанами. Как тут жить? Что делать? Из губернии никаких указаний нет, вот и сиди тут, трепещи, как осиновый лист, что называется.
— Вам, пристав, конечно, уходить надо. С красными-то, поди, счеты есть? — молвил отец.
— Служба! — неопределенно вздохнул пристав.
— Верно. Ну а вам, отче, пожалуй, нечего старых костей тревожить. С вас спрос не велик.
— Что вы! — замахал руками священник. — В прошлом году отца Василия из соседнего села казни предали, а он старше меня почитай на два года!
— Наблудил, вероятно? Наушничал?
— Ничуть. Долг христианский выполнял.
— Разве? А в городе говорили, что отец Василий вместе с сыновьями-офицерами весной прошлого года восстание против красных поднял.
После долгого пути клонило ко сну. Сквозь дремоту я слушал рассказ о прошлогодних событиях. В селе этом прошлым летом долго стоял главный штаб красных, обозы, лазарет. Кругом шли бои, белые наступали со всех сторон, по деревням дымились пожарища. Наконец красные прорвались и ушли на север.
Наслушавшись рассказов, я увидел во сне партизанское войско в походе. Целиной, полями и лугами скачет кавалерия. Густыми рядами идут пехотинцы. Гремя колесами, катятся пушки и пулеметные тачанки. Пылят проселками бесчисленные обозы. Льются песни, слышится команда. Заливаются трелями гармошки. Блестят штыки, алеют знамена и красные ленточки на головных уборах. Одеты кто во что: в шинелях и кафтанах, полушубках и телогрейках. На ногах у кого добротные сапоги, а иные в стоптанных лаптях, а то так, несмотря на летнюю жару, в катаных пимах. На многих всадниках брюки с синими казачьими лампасами и форменные фуражки с цветными околышами. Одеты партизаны плохо, а вооружены хорошо — винтовки, шашки, револьверы, много пулеметов, бомбометов, десятки пушек оставляют на мягких дорогах глубокий след кованных железом колес. Но патронташи у бойцов полупустые, снарядные ящики не сильно обременяют обоз. В патронах и снарядах явная нужда. Идут войска через большое село. На главной улице, среди штабных и ординарцев, на карем горячем жеребце — красный командир. Куртка на нем кожаная, сапоги высокие, серые внимательные глаза на давно не бритом лице смотрят пытливо и строго. Сбоку у пояса у него маузер, на груди бинокль. Смотрит он на подравнивающиеся роты, сотни и батареи, приветствует бойцов: «С победой, товарищи!» — «Ура!» — несется в ответ…
СЕДЬМАЯ ГЛАВА
«Все это описание поездки, — вздохнул Светлов, отрываясь от чтения, — похоже на домашнее сочинение старшеклассника, ученика средней школы на тему „Как вы провели летние каникулы“. Но хочется добраться до сути. Когда-нибудь и куда-нибудь они все-таки приедут? Кое-какие штрихи здесь любопытны, если принять во внимание, что это относится ко временам гражданской войны. Но ко мне и к моим поискам это не имеет, кажется, никакого отношения…»
Была прочитана чуть не половина тетради, а пока что Светлов ничего еще не узнал ни о замысле того, кто писал это сочинение, ни о причине, почему такое мирное описание было замуровано в непромокаемую обертку и брошено в камнях на берегу шумливого ручья.
Теперь уже не только Альма, но и сам Светлов испытывал голод, усталость. Да и почерк рукописи был неровный, так что читать приходилось напрягая зрение. Кое-где страницы были написаны четко, ясно, каллиграфически, а встречались места, где строчки шли вкривь и вкось, а слова становились неразборчивыми.
Любопытство взяло верх, и Светлов продолжал чтение, листая страницу за страницей. Теперь он уже не отрывался от чтения ни на одну минуту.
…— Вставай! Да пробудись, Владислав! Пора!
Я с трудом открыл глаза. Возле меня отец. В горнице движение, говор. Из соседней комнаты вышла мать, ведя одетую уже Любу. Спутники усаживались за обширный стол, уставленный чайной посудой. Огромный медный самовар кипел и пыхал паром, как паровоз. Сваренные всмятку яйца белели на тарелках. В вазах желтели масло и мед. Пышный белый пшеничный хлеб лежал аппетитными грудками аккуратно нарезанных ломтей. Шипела, распространяя аромат поджаренной колбасы, лука и сала, только что снятая с плиты яичница.
Мы остановились на ночлег в просторном доме местного зажиточного торговца. Молодежь из мужчин была в отъезде или в армии, седой, как лунь, но крепкий еще старик, одетый по-городскому, распоряжался целым взводом снох и внучек.
— Что делать — ума не приложу, — вздохнул он. — Ехать неминуемо, мужчин нет, а на работников какая надежда!
Старик с тоской смотрел на богатую, городскую обстановку, на резные буфеты, мягкие стулья, диваны, комоды и гардеробы.
— Что с добром будет? Оставить — растащут. С собой везти — неподъемная тяжесть…
— А вы, папаша, золотишко, серебро, еще что поценнее захватите, а обстановку — на волю божию, — посоветовал Андрей Матвеевич.
— Остались бы кости, мясо нарастет снова, — поддакнул Фома Кузьмич.
Старик сокрушенно вздыхал и допытывал:
— А вы, господин Дубов, далеко ли направляетесь? За Урал? Как вы думаете, не перехватят? Нельзя ли и нам с вами заодно? Может, и мы бы пригодились?
— Все в руках божьих, — уклончиво ответил Дубов. — Обнадеживать вас не стану. Когда-то вы еще соберетесь, а мы торопимся.
— Если без лишнего, можно быстро собраться. В обед и выехали бы? Как хорошо бы получилось…
— Мы в сторону свернем. Не по пути… — возразил Андрей Матвеевич. — Да и зачем мы вам? Кликните клич, из села-то наберется немало желающих ехать. И мужчины будут, и оружие.
— Придется…
— Да поторапливайтесь. На размышления времени не остается.
— Даша! — обратился старик к миловидной девушке лет шестнадцати. — Сбегай за становым!
Вошел в горницу припоздавший к завтраку англичанин. Фотографический аппарат висел у него на груди, в руках поблескивал светлыми насечками штатив.
— Несколько удачных снимков, — сообщил Рисней. — Прекрасные сельские пейзажи.
— И все это мирное благополучие скоро кончится! — вздохнул Николай. — Придут красные, начнут сводить счеты, польются кровь и слезы…
Старший сын Дубова был самым молчаливым членом нашего общества. И одет он, не в пример остальным мужчинам, не по-дорожному: в городской костюм, крахмальное белье, в цветных модных ботинках. Лишь опасаясь запылиться, надевал он легкий плащ и потел в нем в жаркие часы дня. Он редко слезал с повозки и сидел, пытаясь читать на ходу. Книга дрожала в руках, роговые очки сползали с переносицы, но Николай Андреевич упорно не бросал книги. Брат посматривал на него с насмешкой, Рисней пожимал плечами. Андрей Матвеевич негодовал:
— Этот не замарает рук оружием! Толстовец! И хоть бы читал роман какой, а то — Каутский, Туган-Барановский… И писатели не русские, и книги не стоящие, не практичные.
— Оставь его, Андрюша, — вступалась Клавдия Никитична. — Он ученый человек, ученые у него и интересы.
— Наука! — фыркнул Дубов. — Вот плоды этой науки! От книг и смута пошла!
— Он не маленький, оставь его…
— Чем бы дитя не тешилось… — вставил опять словцо Фома Кузьмич.
Николай будто не слышал этих речей и, готовясь в дальнейший путь, запасся новой толстой книгой.
— Скукой смертельной веет от твоей литературы, — съязвил Георгий, заглядывая и стараясь прочесть название книги.
— Что? — не понял Николай. — Ах да, ты о книге? От скуки и читаю.
— Дедушка! — окликнула хозяина вбежавшая девушка. — Уехали они!
— Кто, куда уехали?
— Становой, старшина, благочинный…
Лицо старика побелело под стать бороде.
— Уехали? — упавшим голосом произнес старик и крикнул: — Маша! Стеша! Зовите всех, живо, в дорогу собираться! Догнать надо!
Оставив гостей, старик поспешно куда-то вышел. Фома Кузьмич подмигнул:
— Откапывать добро или хоронить?
— И благочинный укатил? — рассмеялся Дубов. — Эк его напугали!
— Благочинный сказал вчера, что раз божья матерь усольская ушла, им, грешным, и бог велел, — сообщил Фома Кузьмич.
— Божья матерь? Куда ушла? Зачем? — не понял Рисней.
— Икона чудотворная невдалеке здесь была. Возле стекольного завода, на соленых ключах, в красивой местности когда-то она объявилась. Каждое лето многие тысячи богомольцев стекались на поклон иконе из окружающих губерний. Ну, доход был большой для попов и торговцев. В заводе и ближнем большом селе церквей каменных, домов, магазинов настроили. Иконе ризу золотую в каменьях самоцветных соорудили. Когда же большевики в прошлом году зимой пришли, попы увезли икону божьей матери в Сибирь — для безопасности.
— Значит, икона произвела маневр, отход на новые безопасные позиции? — догадался, иронизируя, англичанин.
— Именно: на новые позиции! — захохотал Андрей Матвеевич. — А если придется Колчаку еще дальше отступать, икона тоже тронется вслед за ним. В Китай, в Маньчжурию, к язычникам! Ха-ха-ха…
Клавдия Никитична испуганно замахала руками. Георгий, нахмурясь, произнес:
— Ну, вы, папаша, уж слишком…
Дубов посерьезнел, произнес:
— Ну, в путь! Довольно, надо торопиться. Ехать теперь придется с опаской. Георгий, ты как офицер бери охрану в свои руки. Командуй.
— Здесь чином и повыше меня, поручика, есть…
— Кто это? — не понял Дубов.
— Рисней, — тихо сказал Георгий, — полковник английской службы… Только потише вы, чтобы он не слышал. Об этом он избегает распространяться.
Дубов свистнул:
— Вон оно что! Вот так торговый представитель!
— Ничего удивительного в том, что он офицер английской службы, — сказал отец. — Вероятно, разведчик. Это у них в моде, у заграничных капиталистов и военных штабов. Японские полковники парикмахерами нередко работали в России перед войной.
— Нет, — отрезал Дубов, — военным руководителем будешь ты, Георгий. Не надо нам чужих полковников. Да и осторожней при нем о важных делах, о богатствах наших. Знал бы я раньше — на порог бы не пустил в свою квартиру, на свои заводы и прииски. К черту шпионов!
Дубов осерчал не на шутку.
— Я сам узнал недавно в Екатеринбургском штабе, — оправдывался Георгий. — Конечно, он оказывал нам услуги при свержении большевиков…
— К черту с такими услугами! Русские сами разберутся между собой. Как успокоится все и вернемся в Екатеринбург, выгоню Риснея, порву договора с его фирмой. Обойдемся и без иностранцев.
С этого утра Дубов охладел к англичанину. Рисней это заметил, допытывался у Георгия о причинах этой перемены Андрея Матвеевича. Молодой Дубов разводил руками:
— Кто его знает? Хандрит старик!
Далеко остались города, деревни и села. Уже несколько дней мы едем горами, глухой, заброшенной, еле заметной дорогой, не встречая ни деревень, ни признаков людей. Леса и луга в долинах и по склонам гор полны птиц, таящегося зверя, зреющих ягод, цветов. Даже мама признала, что места здесь красивые.
— Только очень пустынные, — добавила она.
— То ли вы скажете, Ирина Алексеевна, когда мы приедем на место! Красота неописуемая!
— На какое, Андрей Матвеевич, место?
— А вот на днях убедитесь лично…
Во время путешествия роли и обязанности разграничивались сами собой. Руководителем нашего маленького отряда, его хозяйства оказался отец. Порядком движения, охраной лагеря в пути и на стоянках ведал Георгий. Фома Кузьмич был полным властелином походной кухни, кулинаром, кормильцем и поильцем. Обозом, лошадьми распоряжался Ахмет. Расторопная Марфуга, позванивая монистами, успевала всюду, где нужна была помощь.
Отдых на чистом горном воздухе был приятен, сон освежающе легок, аппетит хорош, кушанья вкусны. То и дело готовилась дичь: глухари, рябчики, утки. Отец, Георгий и Рисней были хорошие стрелки, а Вещий старательно им помогал и не знал устали. В речки и озера забрасывали сети, появилась рыба. Впервые я увидел живую форель — красивую, пятнистую, вкусную. Фома Кузьмич и Ахмет с моей помощью занимались рыбной ловлей, доставали в горных потоках раков, извлекая их из нор и из-под камней.
За все время пути не было ни одной тревожной встречи, и лишь однажды на привале беспокойно храпели, сбиваясь в кучу, лошади и угрожающе рычал, держась однако ближе к дежурному часовому, Вещий. Дежурным в эту ночь был Ахмет. Он разжег посильнее костер и держал наготове ружье.
— Волки гуляли близко, — сообщил он утром. — А может и медведь прошел мимо по своим медвежьим делам.
— Боже мой, — огорчалась Клавдия Никитична, — привел бог на старости лет постранствовать, чего только не повидаешь!
Наконец мы прибыли в деревню, затерявшуюся в горах, как иголка в стогу сена. Домики в деревне маленькие, потемневшие от древности и непогоды. Во многих окнах вместо стекла натянуты пузыри, сквозные рамы заткнуты тряпьем, ветошью. Дворы возле избушек просторные, заросшие зеленью. Конюшни, сараи во дворах плетневые, крытые лубом.
Только около мечети избы побольше, почище, надворные постройки покрепче. Здесь, в соседстве с муллой, жили богатеи.
Деревня была почти безлюдна. По древнему обычаю, летом башкиры выезжали в горные долины, богатые пастбищами, на кочевки. Лишь когда мы въехали в обширный двор муллы, обнесенный каменной стеной, появилось несколько башкир. Несмотря на жаркий полдень, они были в бешметах и белых широкополых войлочных шляпах. На ногах у них теплые чулки и мягкие, без каблуков, сапоги-ичиги. Они среднего роста, широкоплечие, с несколько кривыми ногами, что, как мне передали, служит признаком природных наездников.
Приблизившись к нам, они поздоровались, сняв шляпы, под которыми на бритых головах надеты у каждого маленькие расшитые, потемневшие от пота и времени шапочки-тюбетейки. Смуглые, безбородые лица, черные раскосые глаза осветились приветливой улыбкой.
Дубов и отец заговорили с ними по-башкирски, оба они владели этим языком хорошо, изучив его за долгие годы жизни на Урале.
В доме муллы с нашим приездом началось движение. Когда мы вошли туда, в передней комнате уже весело кипел, сияя на солнце, самовар, белели аккуратно расставленные тарелки и чайная посуда. Половину горницы занимали обширные нары, устланные белой мягкой кошмой. Стопками, почти до потолка, лежали свернутые вдвое перины, пуховые подушки. На полочке хранились священные книги в темных кожаных переплетах. Несколько картин с затейливыми арабскими надписями были развешаны по стенам.
Из соседней комнаты вышел хозяин, седобородый степенный старик в белой чалме на бритой голове, в опрятном зеленом бешмете и вышитых мягких ичигах. Радушно улыбаясь, он подал гостям свои мягкие руки, пахнущие казанским туалетным мылом, и сказал каждому из нас по отдельности на чистом русском языке:
— Гость — хозяину радость…
Звеня серебром монист, в пестром сарафане, вошла пожилая башкирка. Она внесла на большом подносе блюдо с горячей, ароматной бараниной, горку очищенных яиц, сваренных вкрутую и обильно политых маслом, сливочное масло, овечий сыр, мед. Поставив поднос на стол, она молча и бесшумно удалилась.
— Пожалуйста, господа, — пригласил мулла гостей, — присаживайтесь.
Пожилая башкирка вошла вновь с четвертью в руках, поставила ее на стол и скрылась.
— Кумыс, — коротко сказал хозяин. — Прошу отведать.
Послышался звонкий хлопок, шипение. Синевато-белая жидкость полилась в чашки, пенясь и распространяя кисловато-сладкий запах.
— Прошу с дороги, перед закуской.
— С великим удовольствием! — Андрей Матвеевич выпил чашку напитка одним духом и крякнул. — Хороший! Настоящий горный! Обоснуемся на месте — будем выделывать кумыс сами.
— Э… почему сами? — не понял англичанин.
— Ахмет нас снабжать будет кумысом.
Англичанин кивнул головой и выпил. Мать пригубила чашечку, морщась. Остальные, к удовольствию хозяина, пили кумыс охотно и с завидным аппетитом принялись за еду.
Башкирка-хозяйка, старшая жена муллы, появившись снова, принесла еще закуски, еще кумысу. А затем на столе очутилась четверть с другим золотисто-желтым густым напитком.
— Прошу отведать, — угощал мулла, наполняя чашки.
— Медовая! Добро! — приветствовал Дубов. — Ну, будь здоров, хозяин!
Зазвенели чашки, все чокнулись. Разговор вскоре стал более оживленным. Андрей Матвеевич раскраснелся, разговорился. Медовый напиток давал себя знать.
После чашки освежающего кумыса у меня отяжелели ноги. Мне предложили отведать медовки. Сладкий напиток мне понравился. Выпив чашку медовки, я почувствовал, что стены дома, нары с пуховиками стали медленно вращаться. Щеки и уши у меня пылали.
— Владя! Что ты такой красный? — воскликнула Люба.
Все засмеялись, а мама испугалась:
— Напоили мальчика! Заболеть может!
Отец заботливо перенес меня на нары и уложил. Едва голова моя склонилась на подушку, как я заснул. В ушах звенели нежные колокольчики, в глазах переливались радужные огни… А затем все пропало… Крепкий сон завладел мною.
Утром, когда меня разбудили, я увидел, что все вновь сидели за столом, завтракали. А мне казалось, что я задремал на одну минутку и это все еще продолжается обед.
Мы снова тронулись в путь. Обоз наш обогатился стадом. Среди повозок, под присмотром Ахмета и Вещего, шли две коровы, бычок, десяток овец. Продовольственные запасы пополнились бочонками масла, меду. В плетеной просторной корзине изредка поднимали возню куры.
Отец расплатился с муллой чаем, сахаром и мануфактурой. От денег хозяин отказался.
— Дарю, не продаю, — говорил он. Но натуральные подношения отца принял с видимым удовольствием.
Среди лошадей нашего отряда оказались две новые. Низкорослые, большеголовые, диковинные на вид.
— Настоящие башкирские, — представил их Дубов спутникам. — Зиму под открытым небом гуляют, корм из-под снега достают. Кумысницы свои у нас будут.
Прощаясь с муллой и соседями-башкирами, Андрей Матвеевич наказывал:
— Если заглянет кто — о нас не упоминайте. Спросят — ведать, мол, не ведаем, знать не знаем.
— Будьте покойны. Глаза не видали, уши не слыхали.
Лошади тронули, колеса загромыхали, и вскоре гостеприимная деревня осталась позади.
Горы, леса, скалы снова окружили нас. Шумели ручьи. Лес и луга были полны пением и свистом птиц. Зрели ягоды, пестрели цветы. Носились, жужжа, пчелы. Вечерами тонко, назойливо попискивали комары. Ночью пугали своим криком филины. В траве стрекотали голенастые кузнечики. Возле куч рыхлой земли, листа и мелкого хвороста хлопотали муравьи. На солнцепеке, на коре берез и сосен, на пнях нежились золотисто-красные божьи коровки. В лесу, невидимые, бродили медведи, крались стаи волков, волчица обучала своему искусству волчат, стлались по земле, принюхиваясь, пушистохвостые лисы. Белки резвились на ветвях, пробуя незрелые еще орехи. Стрелой неслись по-летнему серые зайцы. Из нор и щелей выползали на теплые камни змеи. Венценосные безвредные ужи неторопливо извивались по земле, выбирая места потенистей, сырые, влажные. Свистя, как стрела, проносились стайки лесных голубей. Распластав широкие крылья, высоко в безоблачном небе наравне с вершинами гор парили орлы.
Дорога шла с перевала на перевал, из долины в долину, через ущелья, еле заметная, глухая, заросшая. Старая дорога… Сколько сот лет служила она и кто держал по ней путь? Из сибирских равнин, с востока на запад, валили через горные дебри полудикие орды. Отступая под обратным натиском, уходили они в горные трущобы. Вооруженные кремневыми самопалами и топорами, осторожно шли первые завоеватели, пионеры Урала. С шумом, песнями и посвистом промчались отряды пугачевской вольницы. Скакали из аула в аул, от стойбища к стойбищу гонцы башкирских повстанцев, разнося весть о Салавате Юлаеве, Карагуле, о вожаках, поднимавших народ против угнетателей. С палкой в руках и котомкой за плечами, с топором, лопатой и кайлом, с котелком и решетом — шли парами и в одиночку золотоискатели. Над старой заброшенной горной дорогой незримо вставали тени жителей давно минувших лет.
На привалах днем взрослые иногда стреляли в цель. Отец в прошлом году подарил мне в день рождения маленькое ружье, карабин, и научил, как с ним обращаться. Однажды и я принял участие в состязании. Стреляли в лист бумаги, укрепленный на пне. Выстрел мой был хорош, меня похвалили:
— Молодец! Глаза у тебя зоркие, руки твердые!
Люба смотрела на меня, как на героя. Да и сам себе я казался отважным охотником вроде героев Майн-Рида и Купера, книгами которых я так увлекался. Я не расставался с ружьем, пользовался каждым случаем пострелять, напрашивался в помощники ночных дозорных по лагерю.
— Владислав — хороший мальчик. И Любочка у вас славная, — вздыхая, говорила Клавдия Никитична. — А вот меня бог обидел дочкой, всю жизнь ждала…
По-моему, Клавдия Никитична права, нахваливая Любу. В самом деле, Люба прелестная девочка. Черноглазая, с каштановыми кудрявыми волосами, застенчивая, мечтательная. Наружностью она в мать, а характером в отца: отзывчивая, нежная. Отец души в ней не чаял, баловал ее всячески. Я тоже любил сестру нежным братским чувством и считал ее самой красивой девочкой на свете.
В дороге все чувствовали себя хорошо. Скучали только мама и Николай Дубов, да охала, устав от необычно длительного для нее путешествия на лошадях, Клавдия Никитична. Дубов, глядя на нее, шутил:
— И, мать моя! Тебе горы эти помогут лучше Кисловодска, лучше любого модного курорта! Смотри, как все загорели, поправились. Да и ты посвежела.
Андрей Матвеевич вышел из простых людей. Хитростью, упорным трудом, сметкой он сколотил себе капитал и быстро пошел в гору, умело используя возможности обогащения на Урале в годы «золотой лихорадки». Нажив с течением времени многомиллионное состояние, будучи промышленником, известным в деловых кругах всей России, он так и остался в жизни грубоватым мужиком, настойчивым и цепким, порой жестоким. Отец уважал его за деловитость, за умение, с которым он ворочал своим огромным делом, управлял армией рабочих и специалистов своих предприятий. Дубов уважал отца за энергию, знание дела, исполнительность и честность. «Другого прогнал бы за вольнодумство, — часто говорил об отце Дубов, — а с ним дружу. Знающий и честный работник».
Англичанин в пути всегда ехал верхом. Его вороной жеребец был хорошо выезжен. Пытливо осматривая окрестности, Рисней порой восклицал:
— Такие просторы и богатства! И почти не заселены!
Георгий Дубов красовался на коне, сверкая оружием и погонами. Николай скупал, читал и спал, поудобнее прикорнув в повозке. Андрей Матвеевич приказал оседлать приобретенного у муллы рысачка и порой садился верхом. Рысачок был диковат, вставал на дыбы, бросался в сторону, но Дубов скоро усмирил его, показав себя хорошим наездником.
Ахмет Гареевич был всегда в отличном настроении, хотя дел у него было больше всех. Он выполнял обязанности кучера, конюха, когда требовалось, грузил, упаковывал, а уж все, что касалось ухода за лошадьми, целиком было на нем.
Марфуга хлопотала возле Клавдии Никитичны и матери, помогала мужу и Фоме Кузьмичу. Старый повар показал, что его искусство тоже что-то стоит и ловко орудовал возле огня, решительно привлекая в помощники женщин, а меня гоняя за хворостом.
Мы остановились в глухой долине у заброшенного, разрушенного хуторка, когда-то стоявшего у старой дороги.
— Здесь будет дневка, — сказал отец. — Дадим отдых коням.
— И людям, — с трудом слезая с тарантаса, добавила Клавдия Никитична. — Все кости ноют, все бока болят.
Разбили, как обычно, палатки, поставили в них походные кровати. Отец натянул между деревьями гамаки для матери и Любы. Долина была небольшая, стиснутая со всех сторон горами. В северной стороне долины виднелось начало узкого, каменистого ущелья. Шумя по камням, несся по нему пенистый поток. Еле заметная, заросшая травой дорога уходила куда-то дальше.
Осматривая в сопровождении Вещего окрестности, я встретил отца и Андрея Матвеевича при входе в ущелье. Они осматривали его с видом людей, уже побывавших раньше в этих местах.
— Нет сомнения, — сказал отец, — это и есть Гремящий поток. И долина приметная, и развалины эти я помню. В те годы здесь жили два-три хозяина. Помните, мы останавливались здесь на ночлег, ели баранину, пили кумыс? Теперь и путь этот заброшен, и хуторок разрушен… Ушли люди… Давно это было.
— Да, много воды утекло в этом потоке…
Оставив их вычислять, сколько воды утекло за эти годы, мы с Любой, захватив ружье, корзиночку для ягод и Вещего, отправились в луга.
— Дети! — крикнула нам вдогонку мать. — Не ходите далеко от лагеря! Могут напасть волки или медведи!
— А у Влади ружье, и с нами Вещий, — гордо возразила Люба. Девочка твердо верила в мою храбрость и искусство стрелка.
Мы исходили вдоль и поперек долину, взбирались на склоны горы. Скоро корзиночки наши были полны земляники, душистой и вкусной, какой мы, кажется, не ели никогда. С корзинами ягод и букетами цветов мы возвратились в лагерь.
— Мама! Папа! — воскликнула, подбегая, Люба. — Смотрите, какая прелесть! Кушайте, пожалуйста, мы еще наберем!
Все восседали на ковре, заставленном посредине посудой, закусками, меж которых возвышался самовар. Но почему-то все молчали. Обескураженная молчаливой встречей, Люба притихла и притулилась возле матери. Оставив ружье, корзину с ягодами и букеты, опустился на ковер и я.
Все казались чем-то сильно озабоченными.
— Выбор, по-моему, один, — молвил после длительного молчания Андрей Матвеевич, — воспользоваться гостеприимством заветной долины. Вы увидите сами, какая там благодать и насколько там безопасно. Мы с Борисом Михайловичем еще в городе решили воспользоваться нашим давнишним открытием и переждать бурю в этой тихой обители. Это лучше, чем пускаться по бурным волнам колчаковского царства и со страхом следить за переменами фронта. В этой долине сам черт нас не сыщет!
— Андрюша! — упрекнула мужа Клавдия Никитична. — Черт тут ни при чем.
— А что, мать, — с досадой возразил Дубов, — думаешь, сладко бы было в Сибири? Войско Колчака бежит, красные наступают, в тылу пошаливают партизаны… На кого надеяться, куда прислониться? Дело решенное: остаемся здесь, отсидимся, подождем, пока все утихомирится.
— Может, положение не так мрачно? — произнес Рисней. — Военное счастье изменчиво. Неделя-другая — и покатятся красные вновь назад?
Андрей Матвеевич сказал решительно:
— Ну, господа, разговоры надо кончать. До осени, а может и до весны придется пожить в нашей богоданной долине. Я, по крайней мере, в Сибирь не поеду. А вы как хотите.
Никто ничего не ответил, но было видно, что все согласились с Дубовым.
На другой день путь был особенно трудным. Ехали без дороги, придерживаясь поближе к быстрому ручью. Камни и корни деревьев преграждали путь, груженые подводы кидало из стороны в сторону. Мужчины шли пешком, местами приходилось помогать лошадям. Узкую долину сменило ущелье, а затем мы вступили в густой лес.
Колеса неслышно покатились по влажной земле среди зарослей папоротника. Из густой листвы не видно было ни солнца, ни гор. Солнечные лучи, пробиваясь между листьями, играли на стволах деревьев, на пнях, появляясь причудливыми пятнами. Стояла глубокая тишина, лишь журчал вблизи поток да издали доносился глухой шум, все нарастающий, приближающийся.
Наконец впереди между деревьями замелькал свет. Лес кончился. Все остановились, умолкнув, пораженные развернувшейся картиной.
— Приехали! — торжественно объявил Андрей Матвеевич.
— Мать пресвятая богородица! — перекрестилась Клавдия Никитична. — Вот так приехали — скалы да бурелом!
— Ах, как красиво! — воскликнула, привстав на повозке, Люба.
За небольшой зеленой поляной, сплошь заросшей яркими цветами, загораживая полнеба, высилась гора. Склоны у нее были крутые, лесистые, вокруг вершины отвесной стеной тянулся каменный пояс высотой в несколько десятков сажен, как это можно было определить снизу. Поток, вдоль которого мы ехали, у подошвы горы ниспадал с обрыва в глубокую яму. Над водопадом стояла, играя на солнце, радуга.
— Мама! Папа! Владек! Какая прелесть! — повторяла Люба, хлопая в ладоши. — Здесь мы и будем жить?
Рисней нацелился аппаратом: хороший кадр!
Вещий убежал вперед и лай его раздавался где-то в зарослях за водопадом. Кони тянулись к сочной траве. Коровы и овцы, пользуясь свободой, разбрелись по лугу.
Отец и Андрей Матвеевич пошли вперед, за ними тронулся весь обоз. У высокой скалы, вздымавшейся у подножья горы, мы остановились. Из-под громадного камня выбивался поток.
— Здесь! — сказал отец и, обойдя скалу, скрылся в чаще.
Дубов последовал за ним. Мы не отставали от них. Подойдя к заросшему кустами чернотала и черемухи углу, образовавшемуся между скалой и каменным обрывом горы, отец с усилием раздвинул ветки руками. Обнажилось темное отверстие, уходящее в недра горы.
— Хороши ворота в рай? — пошутил Дубов.
Клавдия Никитична перекрестилась. Общее настроение простодушно выразила Люба:
— Темно и страшно…
— Ничего, — успокоил папа, — с фонарями поедем. Пещера приведет нас в такую долину, какой вы и не видывали.
Мы разбили лагерь у горы. Поужинав, легли спать. Шумел водопад, сначала это отгоняло сон, потом стало убаюкивать. Под неумолчный рокот водопада скоро все заснули. Бодрствовал один дежурный по лагерю. В эту ночь сторожил до полуночи отец, его сменил Андрей Матвеевич. Он не сомкнул глаз и, когда солнце зарумянило вершины, вслед за пением петуха окликнул спящих:
— Подъем!
Странное это было шествие — в недра горы! С зажженными факелами, предусмотрительно захваченными в дорогу, первыми вошли в пещеру Андрей Матвеевич и отец. За ними последовали мать с Любой и со мной, Клавдия Никитична. Остальные мужчины вели упиравшихся, испуганно прядавших ушами лошадей, гнали скот. Коровы вошли в пещеру спокойно, как в хлев. Овцы жались в кучу, шарахались в сторону. Когда удалось направить барана, овцы гурьбой устремились за ним.
С вечера мы заготовили сухих ветвей, отец развел в пещере большой костер. В багровом свете костра стала видна вся пещера. Она оказалась большой, высокой, углубляющейся в каменную грудь горы. Рисней произвел ослепительно-яркую вспышку магния и заснял эту необычайную картину. У англичанина на пластинках были запечатлены все примечательные события нашего путешествия, все интересные сценки, все путевые виды и горные пейзажи.
— С богом — в путь! — торопил Дубов. — Время дорого!
Мужчины, держа в руках факелы, вели под уздцы лошадей. Кони волновались, пугливо озираясь на каменные своды. Коровы шли спокойно, овцы держались кучкой вокруг барана. Ахмет и Марфуга замыкали шествие. Вещий пропадал где-то впереди, порой возвращаясь, внезапно появляясь из темноты.
Петух, очевидно, потеряв понятие о времени, похлопал крыльями и раза два пропел. Куры, потокав, успокоились, решив, видимо, что наступила ночь.
Пещера была суха и просторна. Ширина коридора, сменившего переднюю обширную часть, была уже не более трех сажен, а высота достигала примерно пяти аршин. Пол пещеры был покрыт мелким гравием.
— Странно… — соображал Георгий, — как будто здесь когда-то шла вода…
— Так оно и было, — подтвердил отец. — Но это было очень давно. Пятнадцать лет тому назад, когда мы впервые познакомились с этой пещерой, открыв ее случайно, — под ногами, помню, также шуршал сухой песок и гравий. Но когда-то по этому ходу пещеры мчался поток.
Как бы в подтверждение слов отца снизу, из-под каменного пола, доносился рокот шумно несущейся воды.
С любопытством и затаенным страхом, идя рядом с отцом, я осматривался вокруг. Люба испуганно жалась к матери. Даже Николай Дубов оставил подводу и шел, держась за оглобли своей упряжки.
— Господи! Царица небесная! — вздыхала, крестясь, Клавдия Никитична. — До чего дожили, что под землю приходится прятаться!
Фома Кузьмич зорко оберегал повозку со своим имуществом, а также приглядывал за порядком.
— Ну, как, Люба? Не очень боишься? — спрашивал я сестренку, придавая своему голосу возможно спокойный тон.
— Не очень… — голосок сестры выдавал ее волнение.
— А я так нисколечко! — соврал я, так как порядочно трусил и беспрестанно озирался по сторонам.
— Ну вот, ручей вышел на поверхность, — сказал идущий впереди отец. — Значит, прошли половину пути. В свое время мы измерили длину пещеры, коридор ее тянется примерно на три версты.
Вода журчала теперь рядом. Поток шел в углублении, вымытом водой в камне наподобие лотка. При свете факелов вода казалась расплавленной медью. В этом месте, где поток выступал наружу, коридор пещеры круто поворачивал, делал уступ. Поток скрывался в отверстии, шириной в сажень. Над жерлом подземного русла навис большой камень. Отец постучал по нему кулаком:
— Не нравится мне эта глыба. Того и гляди сорвется и завалит ход в нижний грот.
— Что же тогда случится? — заинтересовался Рисней.
— Вода пойдет по верхнему гроту, по которому сейчас едем мы.
— И путь из долины будет закрыт?
— Очевидно.
— Ну, полно! — успокоил Андрей Матвеевич. — Тысячи лет стоял камень — повременит, не упадет хотя бы еще лет тысячу.
Вскоре потянуло свежим воздухом. Кони пошли быстрей. Вещий убежал так далеко, что не слышно было его лая. И вдруг мелькнул дневной свет. Петух встрепенулся и, захлопав крыльями, опять пропел.
— Тушите факелы! — отец опустил свой факел горящим концом вниз.
Послышалось шипение. Все последовали его примеру.
— Солнце! — обрадованно крикнула Люба.
— Вот и курорт наш. Хорош? — произнес Дубов.
Перед нами, залитая солнечным светом, лежала круглая зеленая долина, похожая на огромную чашу. Крутые склоны ее поросли лесом, а вершина, словно гигантским каменным поясом, опоясывала долину отвесной стеной. Солнце стояло в зените. Голубело ослепительное чистое небо. Воздух был недвижим. Впереди блестело небольшое озеро. Прихотливо извиваясь среди лугов и рощ, тек ручей.
Кони и скот разбрелись по лугу. Они, аппетитно похрустывая, щипали сочную густую траву. Вещий с лаем бросился в ближнюю рощицу. Оттуда выскочила стайка коз. Увидя нас, козы замерли на миг и вдруг стремительно бросились в сторону. Прогремел выстрел. Одна козочка упала. Ружье в руках отца дымилось.
— Хороший выстрел! — похвалил Рисней.
К убитой козочке быстро семенил, несмотря на полноту, Фома Кузьмич.
— Ну, жарким угощу вас сегодня на славу! — радовался повар, возвращаясь с добычей. — Милости прошу к нашему шалашу!
— Какая красивая! Зачем ее убили? — вздыхала Люба, печально смотря на недвижную козочку, готовая заплакать.
Козочка была величиной с овечку, рыжеватой масти, круторогая, с тонкими стройными ножками.
— Мы поймаем тебе живую козочку, — успокоил дочку отец, — а с этой снимем шкурку, сделаем тебе коврик.
— Ну, поехали! — сказал Дубов, забираясь в повозку. — Пора добираться до места жительства.
— Лагерь наш будет на той стороне долины, у пещер, — пояснил отец.
У подножья горы, за озером, мы разбили лагерь. На лугу, под зелеными кронами деревьев, забелели палатки. Повозки, поставленные в ряд, подняли оглобли кверху. Груз, продовольствие, хозяйственные вещи перенесли в пещеры, темнеющие тремя ходами в каменном обрыве горы.
Одну из них Фома Кузьмич облюбовал под кухню. В соседней пещере сочился из камней один из ручьев, впадающих в озеро. Вода вырывалась из каменной расщелины и с шумом падала в каменное углубление, вымытое в известняке водой за многие века.
— Даровой надежный двигатель, безотказный и зимой и летом! — говорил отец. — Утеплим пещеру, поставим динамо, колеса соорудим — будет своя гидростанция. Динамо, провода, лампочки есть — предусмотрительно захватили из города. Построим дом.. Осветим его электричеством… И заживем припеваючи, со всем комфортом!
— Ну, вы уж поместье здесь устроить хотите! — недовольно заметил Николай. — Как будто на годы сюда приехали! Переждем сумятицу и в палатках. Не зимовать же здесь!
— Живой о живом заботится, — вступился Фома Кузьмич, развязывая корзину с курами. — Вот и птичник здесь устроим, значит, и омлет, и куриная лапша обеспечены.
За работой не заметили, как собрались, потемнели, спустились на горы тучи. Загремел гром, упали первые крупные капли дождя. Все заторопились к палаткам. Фома Кузьмич священнодействовал во вновь оборудованной каменной кухне. Там уж весело пылал Костер.
— С новосельем! — сказал Дубов, опуская полость своей палатки. — Мир, достаток и любовь! Кстати, дождь смоет все следы нашего путешествия. Фома! Достань для молодежи бутылочку коньяку, а для нас, стариков, вина послаще да получше!
ВОСЬМАЯ ГЛАВА
Так началась наша новая жизнь. Быстро, в несколько дней, мы ознакомились с долиной, поднимались по кручам под самый каменный обрыв, делавший долину неприступной со стороны внешнего мира, а мир недоступным для обитателей ее. Долина полна дичи, зелени, цветов и ягод. Дичь здесь испокон веков непуганная, мы позволяли себе стрелять ее лишь при необходимости пополнить свои продовольственные запасы. Дичь, рыба, ягоды, грибы разнообразили наш стол. Оборудовав кухню, Фома Кузьмич стал угощать нас гуляшами, супами, соусами, пирогами, печеньем и вареньем. В его запасах была и мука, и крупы, и сахар, даже немного картошки. Коровы давали молоко, кобылицы снабжали кумысом, который искусно готовила Марфуга. Четыре курочки, быстро освоившиеся на новом месте, обогащали наш стол яйцами, а петух оглашал долину звонким «кукареку».
— А мы еще на племя клушечку посадим, — говорила Клавдия Никитична. — И яички и цыплята будут.
Однажды мы заметили следы крупного животного.
— Это лось, — сказал отец. — Их на Урале мало осталось, охота на них воспрещена.
Вскоре удалось увидеть лосей довольно близко. Темно-бурые стройные красавцы! У самцов гордо посаженные на голове ветвистые рога. Увидев людей, они с минуту смотрели на нас, застыв, как изваяния, потом быстро ринулись прочь. Из-под копыт их градом полетела земля и пучки травы.
В озере и потоке в изобилии водилась рыба: сом, язи, караси, лещи, налимы, форель. Хищных зверей в долине не оказалось.
Ружья были у всех мужчин, Ахмет сделал несколько силков и капканов для птиц и коз. Из коры, снятой с большого вяза, Ахмет соорудил небольшой челн. Рыболовных снастей было в достатке — удочки, сетки, небольшой бредень.
Мы с Любой целыми днями бродили по окрестностям, собирали ягоды, грибы, цветы. В палатке нашей поставили, распаковав, пианино мамы. Музыка в этой обстановке была особенно необычна.
Скучал больше всех Николай Дубов. Поправляя пенсне на близоруких глазах, пощипывая короткую курчавую бородку, он твердил:
— Тюрьма… Тюрьма… Мы в заточении!..
Георгий изредка принимал участие в охоте, рыбной ловле, но больше предпочитал валяться в тени деревьев.
Рисней пополнял свой фотоальбом, порой охотился, немного читал. Он появлялся всегда тщательно выбритым, надушенным и всегда одинаково надутым, как индюк.
Мать заметно скучала, но крепилась, ухаживала за Любой, читала привезенные с собой книги. Отец был с ней особенно предупредителен и нежен.
Отдыхал от дел и забот Андрей Матвеевич. Чувствуя себя как на даче, он ловил рыбу, грелся на солнце, спал в тени в гамаке, купался.
— Как на курорте! — приговаривал он. — В первый раз в жизни так бездельничаю!
Хлопотали по хозяйству Фома Кузьмич, Ахмет и Марфуга. Они не знали, что такое усталость и скука.
Уходя из палатки, Андрей Матвеевич тщательно опускал и укреплял полость палатки и наказывал жене не отлучаться никуда до его прихода.
— Береги шкатулки в том чемодане как зеницу ока! — услышал я однажды его внушения. — Помни, что от них зависит будущее наше и наших детей. Сама знаешь: не бумажки там, а золото и драгоценности. Они в цене при всякой власти.
— Да что ты, Андрюша, кому нужны здесь твои капиталы? Чужих-то людей кругом и за сто верст не сыщешь. А из своих — кому взять? Да и кто кроме нас знает, что в том чемодане ценности?
— Береженого бог бережет, соблюдай, что приказываю, — настаивал Дубов. Казалось, он бы не прочь завести и здесь полицию.
Скоро каждая рощица, пещера, каждый ручеек — все достопримечательности долины были изучены и даже примелькались. Чувствуя себя первооткрывателями этих мест, мы наперебой придумывали названия каждому уголку, всему, что нас окружало. Прежде всего — сама долина. С легкой руки Любочки она стала называться «Долиной роз», название это вошло в наш быт и скоро стало для всех привычным и бесспорным. Озеро назвали «Светлым озером», ручей, выходящий из него, — «Зеркальным». Пещеру, по которой мы проникли в долину, наименовали «Дорогой в мир», леса на склонах — «Зеленым поясом», а каменный обрыв — «Неприступным утесом». Минеральные ключи, целебную силу которых некоторые из нас попробовали, купаясь в естественных ваннах — углублениях в песке, назвали «Ключами здоровья»… и так далее и так далее — названия рождались буквально на каждом шагу.
— Как это, папа, образовалась такая причудливая долина? — спрашивал я отца. — Круглая, как чаша, и такая неприступная… Может, здесь вулкан когда-то был?
— Возможно, — согласился он. — Но если здесь и был вулкан, то много-много тысяч лет назад. Урал — очень старые, как говорят, выветрившиеся горы. Возможно, что и не было здесь вулкана. Просто — игра природы, горообразовательных сдвигов земной коры. Вода проложила путь из долины, промыла толщи известковой породы и соорудила пещеры.
— А животные, растения откуда?
— Семена занесли птицы, ветры… Рыба пришла водой…
— А водопад? Как рыба поднялась?
— Возможно, что в давние времена здесь и не было водопада, он образовался с течением времени. Можно допустить, что когда-то в долину можно было проникнуть и через гребни вершины. Этим путем пришли в долину лоси, козы. Птицам, конечно, путь открыт везде.
— Вы с Андреем Матвеевичем и раньше здесь были?
— Да. Лет пятнадцать тому назад, в поисках золотоносных участков. Мы работали невдалеке, услышали от старожилов об этой горе, обследовали ее и открыли путь в долину.
— Вдвоем были в долине?
— Втроем: Дубов, Ахмет и я. А пробыли только несколько дней.
— Нашли золото?
— В долине — нет. Но ниже водопада, в песке Гремящего потока, золото есть. Дубов решил купить земли вокруг Круглой горы, открыть прииски. С приисками как-то не вышло — не дошла очередь или со средствами была заминка. Потом война, революция… Во время отступления Колчака Дубов вспомнил о долине, решил отсидеться здесь до поры до времени, сберечь остатки своих капиталов. Ну, и нас прихватил для компании.
— Значит, большевики у него не все отобрали?
— Конечно. Кое-что осталось в заграничных банках, кое-что припрятал на черный день. И не в бумажках, а, надо полагать, — в золоте, в драгоценностях. Дубов и сейчас богат. Не зря же он так тревожится за свои шкатулки.
Прошло недели две. Однажды после обеда Дубов сказал:
— Приглашаю всех к моей палатке.
Вскоре все собрались в тени березы возле палатки Дубова.
— Борис Михайлович, — обратился Андрей Матвеевич к отцу, — поделитесь своими соображениями… то, о чем мы с вами толковали.
— Господа! — начал отец. — Начинается август, близится осень. А там недалеко и зима с морозами, вьюгами. Нам надо подумать о зимовке, о жилье более надежном и удобном, чем палатки.
— Я так и знал, что не приведет к добру эта затея с пещерной жизнью! Робинзоны двадцатого века! — вспылил Георгий.
— Замолчи, сынок! — прикрикнул Дубов. — Не твоего ума дело, а критиковать вы все мастера.
— Наше предложение — мое и Андрея Матвеевича, — продолжал отец, — не теряя времени, приступить к сооружению жилого дома, хозяйственных построек. Лес, камни, глина рядом, инструмент у нас есть.
— Строить кто будет? — осведомился Николай.
— Конечно, мы сами, кто же еще? Плотников, каменщиков, маляров неоткуда приглашать, — твердо ответил отец. — Второй вопрос — о продовольствии. Мяса, рыбы, ягод и грибов у нас достаточно. Чаю, сахару, кофе хватит надолго. Слабое место у нас — хлеб. Если уменьшить паек, экономить, — до будущего лета, может, дотянем.
— Хватит и хлеба! — воскликнул Георгий. — До весны хватит, а там уедем, не вечно же здесь жить. Да и надо ли зимовать? Может быть, положение на фронте уже изменилось?
— Значит, ты предлагаешь в город возвращаться? Так и так, мол, господа большевики, прибыли в ваше распоряжение? «Здравствуйте!» — скажут чекисты. И — в подвал! Не желаю! — и Дубов, рассердившись, приказал — Завтра с утра за работу! Распоряжается инженер Кудрявцев, работать всем, кроме детей, Ирины Алексеевны и моей старухи.
— Я что ж… — пролепетала Клавдия Никитична, — чем-нибудь и я помогу… Фому на кухне могу заменить…
— Ладно! Мне бы лодырей моих приструнить, о тебе меньше всего разговоров, — сердито отозвался Дубов и пошел в свою палатку.
Наутро, проснувшись, я услышал стук топоров, лязг и звон железа, скрежет точила. Мелодично позванивала пила. Отец, Ахмет и Фома Кузьмич готовили инструменты.
— Ну, каряя! — доносился голос Марфуги, погонявшей лошадей, на которых подвозили срубленные и очищенные от сучьев деревья.
Вскочив с постели, я вышел из палатки. Солнце не выглянуло еще над гребнем горы. Над озером стлался легкий туман. В ближней роще стучали топоры, трещали, падая, деревья.
Вскоре собрались все завтракать. За столом у нас новшество: впервые все кушали вместе — хозяева и работники, господа и слуги. Так, с утверждения Дубова, распорядился отец. Ахмет и Марфуга, никогда в жизни до этого случая не сидевшие за столом с господами, стеснялись. Фома Кузьмич восседал спокойный и важный: за свою жизнь он видел многое.
Рисней накинул на сорочку френч, забыв о галстуке. Он трудился в перчатках и сохранил руки в свежести. Холеное лицо его порозовело. Хуже всех работал и больше всех измаялся Николай. Хмуро разглядывая мозоли на ладонях, молчал Георгий. Гимнастерку он надел простенькую, с защитными, вшитыми наглухо погонами. Папа работал без пиджака, засученные рукава сорочки обнажали мускулистые руки. Дубов был в поношенном пиджаке, в мягких туфлях. Отдуваясь, он отирал пот с раскрасневшегося лица. Глава семьи Дубовых принимал деятельное участие в работе. Богатый горнопромышленник владел топором мастерски, это искусство он изучил еще в молодости.
Кушанья подавала Клавдия Никитична, приветливо приглашая всех отведать ее стряпни:
— Не обессудьте, пожалуйста. Мы с Ириной Алексеевной готовили. Фома-то Кузьмич плотником стал.
— От скуки на все руки, — отозвался повар.
Мать хлопотала тут же, одетая в простенькое серое платье и белый передник.
— Как горничная! — ворчала она. — Кажется, скоро и прачкой сделаюсь!
— Налегайте, господа, на мясо и рыбу, — посмеивался Дубов. — Хлеб по норме, по карточкам, а прочего вдоволь.
— С такой заменой норма не страшна, — заметил отец, ничего не ответив на реплику мамы.
Андрей Матвеевич раскупорил бутылку коньяку. Налил мужчинам по стопке.
— Жаль, мало вина захватили, придется угощаться только по большим праздникам. А сегодня — за успешное начало работ! За новый городок, что закладываем мы своими руками! За будущее, господа!
Мужчины, не стесняясь, ходили в сорочках, без пиджаков. Реже брились. Дубов настойчиво торопил с работой, но строго вел счет праздникам и воскресным дням, дням полного отдыха.
— Шесть дней делай, седьмой — господу твоему, — соглашался Фома Кузьмич. — Это уж так положено. Закон.
Работал он старательно и споро, показав себя неплохим плотником. За эти дни он загорел, посвежел, стал подвижней.
— Жирок-то мы с вами, Андрей Матвеевич, малость спустим. В пользу нам работенка.
Дубов добродушно улыбался:
— Курорт…
Строительная площадка быстро заполнялась лесом. Срубленные и очищенные от коры и ветвей деревья подвозили на лошадях. По всем правилам, по шнуру, заложили фундамент под дом, благо камня всюду было много. Выкопали несколько ям, поставили столбы, обозначилась линия будущей ограды. Ее решили сделать в виде частокола из высоких тонких молодых сосенок, с заостренными концами. Гвоздей было мало, железо заменяли деревом. Усадьбу строили около склона горы, у пещер, которые предназначались для кладовых после некоторого переоборудования.
Заложили первые венцы жилого дома. Бревна клали добротные, толстые, ровные. Одна сторона дома с парадным ходом и верандой выйдет наружу, остальные три — в ограде. Рядом наметили скотный двор.
— Отстроимся — хорошая усадьба будет. Огородимся — не подступись ни зверь, ни лихой человек, — радовался Дубов. — А все наш дорогой Борис Михайлович, без него бы пропали. Он да Фома Кузьмич — форменно наша надежа. А мы все… — Дубов покосился на Риснея и на своих сыновей, — неженки, белоручки, барчата. Вот Владека я хвалю. Трудится на совесть, значит, дельный человек из него получится.
В трудах и заботах незаметно прошел август. Посвежело. Лес в верхней части своей, у каменного обрыва, стал украшаться багряными и золотыми красками. Осень опускалась на долину медленно, не спеша. Обильней становились туманы по утрам. Посеянная полоска озимой ржи оделась в изумрудную зелень. Зяблевое поле, приготовленное под весенний сев яровых и для овощей, под огород, жирно отливало черноземом.
Большой шестистенный дом весело желтел свежеструганными бревнами. Высокий островерхий частокол окружал усадьбу. Рядом заложены были постройки конюшни, хлеба для коров и овец. Поднимался частокол и вокруг скотного двора. Вдали желтело небольшое легкое строение, наподобие будочки. Это соорудили ванную на теплых ключах.
Дом состоял из двух половин, разделенных прихожей. В одной части помещались кухня и две комнаты — Фомы Кузьмича и Ахмета с Марфугой. В другой был общий зал-столовая и три комнаты: стариков Дубовых, наша и холостяков — Риснея и сыновей Дубова. Жилище вышло грубоватое, но солидное и теплое. Сложили кухонную плиту и отопительные печи. В общем зале устроили камин. Бревен было вдоволь, труднее было заготовить доски для пола, потолка, дверей. Ахмет и Фома Кузьмич долгие дни, взобравшись на козлы, работали с маховой пилой. Мебель получилась неказистой на вид, но прочной и удобной — столы, табуреты, скамьи. Обзавелись и шкафами для одежды, для посуды. Крышу сделали из тонких бревен, покрыли их каменными плитами, как черепицей. Стекла у нас оказалось недостаточно. Пришел на помощь англичанин. Он предложил использовать для окон фотопластинки. Снимки он отпечатал, архив же пластинок передал отцу. Окна из такого материала получились замечательные. Свет они пропускали тусклый, но зрелище было редкостное. На окнах можно было проследить весь путь и приключения нашего общества, начиная со сбора в городе и кончая строительными работами и новосельем. Обитатели дома часто любовались этой своеобразной выставкой.
Мать украсила свою комнату привезенными из города (картинами), фотографиями, ковриками. Уголок нашей семьи получился уютный.
Пианино поставили в общей комнате. Накануне переезда в дом вспыхнуло электричество. Динамо-машина работала на двигательной силе ручья в маленькой пещерке сзади дома. Вода с саженной высоты падала на лопасти деревянного колеса, от которого шли провода к динамо.
В октябре подготовка к зиме была закончена. Новоселы обеспечили себя жильем, продовольствием, топливом, светом, а скот — помещениями и кормами. Но вымотались все до последней степени, так как работали буквально дни и ночи.
Зима наступала медленно, не торопясь. Золотой багряный пояс в лесу опускался все ниже, охватил весь лес. Пожелтела трава. Начались утренние заморозки. Утром трава сверкала, искрилась инеем, днем пригревало. В лесу с легким шелестом падали листья, нога тонула в них, как в пушистом ковре. Припечалясь, теплились по ночам в темном осеннем небе звезды. Пришли длительные обкладные дожди, ненастные дни. Падали густые туманы.
Снег выпал внезапно. Накануне моросил дождь, к полуночи похолодало и как бы несмело, поодиночке стали опускаться пушистые узорчатые снежинки. Ночью снег пошел сильней. Утром вся долина — и луга, и леса — оделись в белый пушистый наряд. Незамерзшее темнело озеро, а в камышах изредка перекликались одинокие припоздавшие утки. Позже мы убедились, что часть озера не замерзает совсем, со дна здесь бьют теплые ключи.
Утром отец разбудил нас радостным сообщением:
— Ну, дети, сегодня будем обновлять лыжи!
Торопливо одевшись, мы выбежали на крыльцо. Яркий свет ослепил нас. Долина, покрытая снегом, искрилась под солнцем. От незамерзшего озера поднимался пар.
Снег лег прочно, не растаял. Крепчали морозы. Зима вступала в свои права.
Зимой особенно явственно ощутили мы тишину нашей долины. Отгороженная от внешнего мира высокими гребнями гор, она не знала ни бурь, ни ветров, ни буранов. Снег здесь падал тихо, медленно, большими хлопьями.
Когда закончилось оборудование нашего жилища, отец принялся за неведомую нам работу. Вначале он что-то вычерчивал, вычислял, прикидывал. Затем, обложившись инструментами, катушками проволоки, белой жестью, долго мастерил какой-то аппарат, маленький, но сложный. Однажды, выбрав день потеплей, они вместе с Ахметом и Фомой Кузьмичом натянули между вершинами двух высоких сосен на склоне горы проволочную сетку. Ветви кроны деревьев начинались высоко от земли, чтобы добраться до них, пришлось сделать высокую лестницу. От этого сооружения в дом протянули двойной провод, прикрепили его к установленному в общей комнате аппарату.
— Что мастеришь, Борис Матвеевич? — поинтересовался старший Дубов. — Телеграф, что ли? Смотри, как бы весной на твоей сетке вороны гнезд не настроили.
— Телеграф, Андрей Матвеевич, телеграф… Вы угадали. Новости будем получать, — сказал взволнованно отец.
— Что же за новости вы с тех сосен получите? Ведь провода-то у вас дальше не идут?
— Беспроволочный телеграф будет…
— Ого! — воскликнул Рисней. — Инженер Кудрявцев хочет радиостанцию соорудить? Как на военных кораблях? По способу Маркони?
— Нет, по способу русского ученого Попова, — возразил отец.
— Виноват, насколько мне известно, английское адмиралтейство оборудовало свой военный флот установками беспроволочного телеграфа по способу, изобретенному и запатентованному Маркони, — доказывал англичанин. — Да и ваше военное ведомство купило права на такие установки у него же.
— Запатентовано это изобретение было, верно, Маркони, но изобретено оно было ранее нашим русским ученым Поповым, — спорил отец.
— Что же, Маркони перехватил секрет Попова? Технический плагиат?
— Как хотите называйте. Да это уже не секрет теперь. В технических кругах и в России и за границей отлично знают подлинную историю с изобретением беспроволочного телеграфа.
— Э, бросьте, мистер, спорить — вмешался Дубов, — не впервой иностранцы изобретения русских за свои выдают. Бритвами, и теми не брезгуют.
— Бритвами?! — не понял Рисней, высоко поднимая брови.
— Ну да, обыкновенными бритвами. Их делают у нас в Нижегородской губернии, в селе Павлово, в кустарных мастерских. Хорошие бритвы, заграничным не уступят. И дешевые. А немецкие торговцы додумались закупать по дешевке павловские бритвы, увозить их в Германию, в город Золинген, там ставить заводскую марку и ввозить эти бритвы вновь в Россию под видом заграничных, золингенских, и по дорогой уже цене.
— Да? — поморщился Рисней. — Очень может быть. На то и коммерция.
— Увы, мистер, — подал голос и Георгий, — судьба изобретения нашего ученого Попова — не исключение. Наши министерства не очень торопятся. В прошлую русско-германскую войну радиотелеграфом пользовались не только морские суда, но и штабы крупных сухопутных военных штабов, в том числе и английских.
Рисней утвердительно кивнул головой.
— Говорят, что большевики снабдили радиостанциями штабы не только фронтов и армий, но и многих дивизий, — продолжал Георгий. — Есть радиостанции и при штабах войск адмирала Колчака и генерала Деникина. С помощью их они устанавливают контакт. А большевики, как я слышал, соорудили в Москве такую сильную радиостанцию, что могут передавать свою пропаганду по беспроволочному телеграфу по всей Европе. Интересно бы послушать новости обоих источников — от белых и от красных. С азбукой Морзе мы, конечно, разберемся, лишь бы нешифрованные были передачи. Энергия у нас есть для питания станции, провода тоже. А вот с микрофонами как?
— У меня есть телефонный аппарат… — сообщил отец.
— А… Попробовать стоит. Конечно, мы только принимать сможем.
— Да, для оборудования вещающей станции у нас нет необходимых приборов.
— А что бы тогда? — поинтересовался Андрей Матвеевич.
— Тогда мы смогли бы послать кое-что от себя… Запрос сделать… Кричать на всю Россию, повествуя о своих приключениях.
— Глупости! — отрезал Дубов. — Это-то нам ни к чему, обойдемся без запросов, проживем пока смирненько, никому о себе не заявляя. Принимать телеграммы — дело полезное, а запрашивать обождем, нечего самим на рожон лезть.
Наконец одним декабрьским вечером аппарат ожил. Папа долго сидел возле него, прижав к уху телефонную трубку и повертывая пуговку своего аппарата, — ловя, как он говорил, волну. И вдруг он кивнул головой наблюдающему за ним Георгию:
— Есть…
Они слушали оба, чередуясь. Очевидно, сведения, принятые аппаратом, были нерадостны, судя по тому, что у Георгия было сильно расстроенное лицо.
— Ну, что хорошего? — спросил Андрей Матвеевич.
Георгий, бросив трубку аппарата, махнул в сердцах рукой:
— Колчак продолжает отступление, красные в Томске…
— В Томске?! — воскликнули все присутствующие.
— Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! — комически развел руками Фома Кузьмич. — Не скоро дойти теперь правителю до Москвы! — и нельзя было понять, сожалеет он или радуется неудачам Колчака.
Англичанин лишь свистнул.
Как бы желая удостовериться в истине полученных новостей, все по очереди брали слуховую трубку, прижимали ее к уху. Дошла очередь и до меня. Я услышал в трубке лишь потрескивания и писк.
Послушала Клавдия Никитична, покачала головой, плюнула и перекрестилась:
— Тьфу, наваждение! И какие это новости — писк один! Протянули невесть где, на дереве, проволоку, напутали тут ее и слушают, как малые дети забавляются! Плюньте на проволоку вашу, дайте я лучше на картах вам погадаю, всю правду-истину скажу.
Англичанин и отец рассмеялись, а Андрей Матвеевич рассердился:
— Ложилась бы ты, мать, спать лучше.
— А не врут большевики, распространяя из Москвы свою пропаганду? — осторожно справился Николай Дубов.
— Мы же принимаем Омск, — сказал Георгий.
— Ну?
— Ну и там красные…
Все замолчали. Мама в этот вечер долго плакала и о чем-то тихо говорила с отцом.
В долгие зимние вечера занимались кто чем мог. Электрическое освещение скрасило нашу жизнь. Камин придавал залу уют. Мама обычно читала и перечитывала свои романы. Дочитает до конца и принимается снова. С клубком шерсти на коленях дремала Клавдия Никитична. Андрей Матвеевич прохаживался по залу, вполголоса напевая. Отец, Фома Кузьмич, Ахмет и Марфуга что-либо мастерили. Николай хандрил, бесцельно слоняясь взад и вперед, или валялся на кровати в комнате холостых. Георгий подолгу просиживал у радиоприемника и все слушал. Рисней, с неизменной трубкой в зубах, безмятежно смотрел в окно, развалясь в кресле. О чем думал англичанин, волею судеб занесенный с берегов Темзы в глухую долину Урала, никто не знал. Люба обычно засыпала на руках у матери, зачастую не дождавшись даже ужина.
Когда приемник был свободен, я присаживался к нему и слушал. Я разучил с помощью отца азбуку Морзе. Пискливые звуки стали принимать для меня определенный смысл. Вначале я разбирал передачу по записи, а вскоре мог уже читать на слух.
Новости с фронта были неважные, но Андрей Матвеевич не сдавался:
— Потерпим. Война кончится — купим эту долину или на правах первых исследователей закрепим за собой. Курорт соорудим. Железную дорогу сюда проведем. Модную водолечебницу откроем. Природа, экзотика и лечение! Публика экзотику любит.
— Экзотики тут хватает, — откликнулся англичанин. — Но только едва ли рентабельное дело будет. Железнодорожную ветку сооружать — дорого обойдется, и расходы не окупятся.
— Дороги будут, будут и прибыли. Реклама поможет. Денег на нее не пожалеем. Курорт для ревматиков и сердечнобольных. Исключительная целебность! Изумительная красота! Скажем, назовем курорт «Долина роз»… снимки в газетах и журналах напечатаем… А золото? Большое золото водится по Гремящему потоку, можно и прииски тут открыть.
— Да ведь это все ваши догадки? — выпытывал англичанин, состроив равнодушное лицо.
— Какие там догадки! Точно вам говорю! И толк в этом понимаю! Пробу мы с Борисом Михайловичем еще раньше брали. Да и сердце у меня на золото вещун, обязательно приобретем земли вокруг Круглой горы!
И старый золотопромышленник, размечтавшись, рисовал самые соблазнительные картины.
А вести с фронта приходили мрачные. Разбитые армии Колчака в беспорядке катились на восток к Байкалу. Наступление Деникина на Москву сорвалось. Потерпев поражение, он отступал поспешно к югу. К середине зимы, вслед за восточным, распался и южный фронт. В феврале адмирал Колчак был захвачен в плен и расстрелян. Армия Деникина оставила Дон, Кубань, остатки ее удержались в Крыму.
К весне Советская власть утвердилась почти по всей России. Андрей Матвеевич все чаще пел молитвенное, что у него было признаком душевных переживаний. Георгий метался по комнатам, не находя покоя. Николай мрачно отмалчивался. Лишь англичанин не сдавался:
— Не хороните капитализм раньше времени, господа. Он поживет еще долго, верьте моему слову.
— А революция? — возразил отец. — В Европе кризис за кризисом. Распалась германская и австро-венгерская монархия. Пламя революции озаряет мир. Пожалуй, Ленин прав, говоря, что время работает на большевиков.
— Нет, революция — явление, ограниченное странами, побежденными в войне.
— Верно, Рисней прав, — поддержал англичанина Георгий Дубов. — Зачем бунтовать народам, если они победили, получили от войны добычу и славу? В пятом году Россию побили — бунт. В семнадцатом не выдержали — бунт…
— Революция — не бунт, а революция, дорогой Георгий, — вежливо, но твердо поправил отец.
— Я вам не Георгий, а господин Дубов! — вспылил Георгий. — Помните это, товарищ Кудрявцев! Вы — красный совнархозовский специалист! Фирма Дубовых не будет нуждаться в ваших услугах, когда мы вернемся из этой тюрьмы!
— Это лучше знать Андрею Матвеевичу.
— Выскочка! Плебей с дипломом!
— Мальчишка!
Впервые я видел отца в таком состоянии. Сжимая кулаки, он подходил к Георгию. Люба, испугавшись, заплакала.
— Борис Михайлович! — крикнула мать. — Остановитесь! Вы пугаете детей!
— Я проучу этого мальчишку!
Георгий выхватил из кармана револьвер.
Но тут с неожиданной быстротой к Георгию бросился Фома Кузьмич. Схватив офицера за правую руку, он с усилием повернул ее. Скрипнув от боли зубами, Георгий выронил револьвер.
— Стой, барин, не балуй! А то мы и связать тебя можем, — вымолвил с усилием Фома Кузьмич. — Здесь тебе не екатеринбургская контрразведка, — руки-то распускать.
— Молчать! — затопал ногами Георгий Дубов. — Это что, бунт?! Инженер Кудрявцев! Приказываю прекратить безобразие! Господа, чего вы смотрите?
Рисней не шевельнулся в своем кресле. Николай в замешательстве дрожащими руками снимал и надевал очки.
— Фома Кузьмич, оставьте, — тихо молвил отец. — Мы закончим этот разговор после.
Георгий, почувствовав себя свободным, повернулся и, тяжело дыша, пошел в комнату, забыв о револьвере, валяющемся на полу. Проходя мимо радиоприемника, он внезапно остановился и, прежде чем кто-либо успел помешать ему, размахнулся и ударил кулаком по аппарату. Раздался треск. Обломки приемника застучали по полу.
Первым опомнился отец. Подойдя к аппарату и осмотрев его, он сказал:
— Дело исправимое…
После этого происшествия Георгий стал чаще уединяться в своей комнате или уходил из дому с ружьем и на лыжах. Возвращался он обычно с пустым ягдташем, без дичи.
Зима тянулась долго. Казалось, и конца ей не будет. Бури, ветры, бураны не нарушали покоя долины. Они бушевали где-то в стороне. Снег падал тихо.
В конце марта резко потеплело. Со склонов горы зашумели ручьи.
— Странно, что в долине, внизу, не видно не только лосей и коз, но и зайцев, — недоумевал Рисней. — Они ушли, видимо, на высоты, на взгорье.
— Наверное, там корм раньше появляется, — предположил Андрей Матвеевич. — Или распугали наши охотники: здешний зверь к людям и шуму непривычный.
— Борис Михайлович, — доложил через некоторое время отцу Ахмет, — скотина ушла в гору, во двор нейдет.
Это встревожило отца.
— Видимо, скот чувствует опасность наводнения. Надо принять меры.
— Неужели и нам что-либо угрожает? — обеспокоился Дубов.
— Жилищу нашему едва ли, оно на достаточно высоком месте. Но часть долины, очевидно, затопит. Во время бурного снеготаяния вода не успевает уйти через пещеру, поток и озеро выходят из берегов. Хорошо, что мы зимой на досуге обзавелись лодками.
Лодки были привезены к дому и привязаны за перила крыльца. Фома Кузьмич принес со скотного двора двух кур и петуха, оставленных на племя. Пару телят, недавно появившихся на свет, доставили также в наше жилище. Марфуга отгородила им уголок на кухне.
День был пасмурный, теплый, моросил дождь. Казалось, что снега шелестят, оседая, так быстро они таяли. Мутные потоки неслись к озеру отовсюду. Уровень воды быстро повышался.
После ужина, с наступлением темноты, назначали дежурных. Они посменно бодрствовали всю ночь.
Утром я проснулся со смутным чувством тревоги. В доме стояла тишина. В нашей комнате — никого, лишь спит еще Люба. Наскоро одевшись, я выбежал на крыльцо. Все обитатели дома были здесь.
Осмотревшись, я в испуге попятился. Вся долина была под водой. Мутные потоки плескались о фундамент дома. Лодки, с вечера лежавшие на земле, плавали, колыхаясь, в воде. Солнце, небо были окутаны густыми тучами, туманом. Склоны горы обнажились, снег сошел почти всюду. Деревья простирали голые ветви над водой.
Высокий уровень воды продержался несколько дней. Из дому перебираться не пришлось, место оказалось достаточно высоким. Скотный двор заливало, коровы, овцы и лошади бродили по склонам горы, пощипывая бурую прошлогоднюю траву.
— Придется скотный двор перенести повыше, — соображал отец, — да и стога сена метать на взгорье.
Вода сошла, долина обнажилась — грязная, покрытая илом. Прошел теплый, обильный дождь. Быстро, на глазах зазеленело, зацвело. Привычно, как домой, прилетели на озеро стаи уток. Гуси, покружившись, опустились на воду, но, увидев людей, поднялись и улетели, тревожно перекликаясь.
Стадо наше увеличивалось. Появились ягнята. Верховая гнедая кобылица, собственность матери, принесла хорошенького жеребеночка, золотистой масти, с белой звездочкой на лбу. Люба была от него в восторге.
— Вырастет — кататься на нем будешь, — обещал отец.
Жеребеночка Люба назвала «Звездочкой», кличка эта осталась за ним навсегда.
По настоянию отца и Дубова вскоре начались полевые работы. Сыновья Дубова и Рисней от работ в поле отказались, говоря, что незачем ждать нового урожая, надо покидать долину возможно скорее. В поле вышли работать отец, старый Дубов, Фома Кузьмич, Ахмет и Марфуга. Помогал им и я, боронил, подвозил на подводах семена. Сеялки у нас не было, сеял вручную Ахмет, полной горстью черпая семена из лукошка, приспособленного у груди, и бросая золотистые зерна в черную влажную землю.
Овес и пшеница вскоре взошли, затем мы посеяли помаленьку проса и гречи.
Фома Кузьмич хлопотал в огороде. Он привез с собой разных семян, вырастил рассаду в теплице, сооруженной нами еще до зимы, и теперь мы смогли посадить помидоры, огурцы, дыни, арбузы, морковь, капусту, табак — всего понемножку. Сделали даже в любовно разделанной земле несколько лунок для картофеля.
— Это наш золотой запас, — приговаривал Фома Кузьмич, бережно опуская в каждую лунку разрезанные на дольки клубни. — Картофеля-то я захватил из города совсем мало, да и то едва уберег чуток для посадки.
После наводнения долина, словно торопясь, быстро наряжалась в зелень и цветы. Раньше всех белыми коврами расстелились подснежники. Крошечные колокольчики ландышей разлили кругом нежное благоухание. Венчальной фатой душистых цветов оделась черемуха. Луга пестрели от нарядного цветочного убранства. Зацвела вишня. Испуская сладковато-приторный запах, распустила широкие кремовые гроздья калина.
— Теперь самая пора ловить карася, — заметил Фома Кузьмич, собираясь повечеровать с удочками на озере.
В троицын день — праздник цветов и зелени — наше жилье стало похожим на оранжерею. Буйно расцвел шиповник. Миллионы красных, розовых, кремовых цветов украсили долину и склоны горы.
— Какая красота! — восхищалась мать.
— Вот она, цветочная оправа курорта «Долина роз», — по-своему оценивал красоты природы Дубов. — Эти цветочки повысят цены на комнаты нашего курорта.
Когда закончился сев, Фома Кузьмич заговорил о саде, о пчельнике.
— В долине много вишни, малины, черемухи, смородины. У меня есть семена яблонь. Зимой я их посадил, растут черенки. Хороший сад разбить можно. Огородим участок, беседочки наделаем. Там же обоснуем пасеку. В лесу немало пчелиных семейств в дуплах, станут роиться — поймаем рой, приручим. Мед нам вот как нужен, сахар-то на исходе.
Георгий поднял повара на смех:
— Да ведь сад плодоносить будет лет через пять!
— Нет, ягодные дадут урожай и через год.
— А ты много лет думаешь прожить здесь?
— А сколько бог приведет. Без бога ни до порога…
Однажды, сидя у приемника, Георгий сообщил радостно:
— Поляки разгромили красных, заняли правобережье Украины. Войска генерала Врангеля вышли из Крыма и быстро движутся на север. Начинается новый поход на Москву. И на Урале вблизи нас восстания… Дни большевиков сочтены!
Однако и эти надежды скоро потускнели. Красные перешли в наступление, отбили Киев и, преследуя разбитые польские войска, перешли польскую границу, двигаясь на Варшаву. Повстанцы на Южном Урале, отступая, уходили в горные трущобы.
После некоторого перерыва полевые работы возобновились. Начали готовить участок для сада и пасеки, обнесли его высоким прочным частоколом.
— Вдруг объявятся медведи! — приговаривал Фома Кузьмич. — Повадятся на готовый мед — не рад будешь. Зайцы — тоже саду вредители.
Вскоре Ахмет с Фомой Кузьмичом поймали два пчелиных роя, водворили их в ульи, на пасеку. Ульи были рамочные, их изготовили еще зимой, в свободное время.
— Ну, ребятишки, в августе свой мед будет! — сказал нам Ахмет, подмигивая.
Женщины разбили перед домом цветник, семенами их снабдил все тот же Фома Кузьмич. Сам он, соорудив в саду уютный балаган, перебрался туда с постелью:
— Люблю поспать летом на воле, на свежем воздухе!
Сыновья Дубова часто поднимали вопрос об отъезде. Андрей Матвеевич отшучивался или молчал.
— Да вы, папаша, не век ли доживать здесь хотите? — воскликнул однажды Георгий. — Что касается нас, то зимовать здесь мы больше не намерены.
— Кто это вы?
— Ну, Николай, я… Рисней…
— Риснею дорога открыта. Хоть сегодня же может ехать, — отрезал Дубов. — Скатертью дорога! Ну, а вы подождите, разрешения отцова пока на отъезд нет.
— Да ведь тут со скуки умереть можно… Посмотрите на Ирину Андреевну — изводится от тоски. Разве ей тут место?
— Скучно — это верно. Потерпеть придется немного. Придет время — побываем и в Москве, и в Питере, на курортах, за границей побываем. Шалишь! Дубова в землю не вгонишь! Поживем еще, поработаем! А сейчас куда денешься? Домой или в завод свой, на прииск, — нельзя: красным в руки. До границы не доберешься. Один выход — отсидеться здесь. Вы думаете, я о себе только забочусь? Нам, старикам, что! Умрем ли в этой долине, как в монастыре! О вас, сыновьях, забочусь. Чтобы род наш не пресекся, чтобы фирма Дубовых жила и процветала.
Не раз я слышал споры матери с отцом. Отец уговаривал ее потерпеть, обождать.
— Ах, терпеть, терпеть! — говорила мать. — А жизнь проходит…
Начался сенокос. Ахмет и Фома Кузьмич косили траву, мы с Марфугой огребали, ворошили сено. Отец возил копны, метал стога. Над лугами стоял запах цветов, ягод и благоуханных трав.
— Сенокос здесь — первый сорт! — умилялся Фома Кузьмич. — Такие бы луга да в наше село! В Пермской губернии лугов не мало, да все не такие. Сено здесь, что шелк, — мягкое, питательное.
За год жизни в долине старый повар посвежел, стал подвижней, моложе с лица.
— Кому как, а мне здешняя жизнь в пользу, — говорил он.
Удивительный человек этот Фома Кузьмич! Здесь, в «Долине роз», такая обстановка, что все мы живем в кучке, у всех одни интересы, все одинаковы, равны, никто никого не нанимает, каждый должен сам вносить свой вклад и нести какую-то долю труда и обязанностей. И здесь особенно наглядны все привычки, все склонности, все черты характера каждого человека. На мой взгляд, испытания, выпавшие на нашу долю, обнаружили, что лучшие из нас — это мой отец и Фома Кузьмич. Оба они деятельны, изобретательны, оба любят труд. Изо всех Дубовых, по-моему, все-таки лучше других старик Андрей Матвеевич. А оба его сынка — трудно даже решить, который хуже. Злой, самовлюбленный бездельник Георгий — самый, пожалуй, отвратительный из всех, живущих в «Долине роз». Ему под стать только англичанин, которого я с каждым днем все больше ненавижу. Николай Дубов, при всей его начитанности, при всей его любви к книге, — жалкое, ничтожное существо.
Нравится мне Марфуга. Хорошая, работящая женщина. Наш Ахмет — тоже прелестный. Открытая душа, честные глаза и полное доброжелательство к людям. А ведь любить людей, желать сделать им добро — разве это не самое драгоценное свойство человека?
Вот о моей маме я не знаю что сказать. Я, конечно, люблю ее. Я очень много думаю о ней, чем взрослее становлюсь, тем больше думаю… Почему она всегда и всем недовольна? Чего ей недостает? И мне иногда кажется, что она… не очень любит папу… Или это только кажется? Говорят, у детей, когда они подрастают, появляются критические настроения. Может быть, я вступил в этот возраст? Не знаю. Мне трудно об этом судить…
Начали поспевать хлеба. Быстро сжали, убрали пшеницу. Под руководством отца соорудили мельницу. Еще с весны облюбовали два камня, обтесали их на жернова. Мельницу наладили на водяной силе.
— Пошла! — с торжеством восклицал Фома Кузьмич. — Теперь только подавайте зерна!
Испекли хлеб из зерна нового своего урожая. Это был чудесный хлеб! Он был тем более вкусный, что хлебный паек в последние месяцы вообще был мал, выдавали сухари, пекли пресные лепешки. Размол новой муки был крупноватый, но хлеб удался на славу. Хмель запасен был с осени, так что дрожжами кухня обеспечена.
— Завтра пироги испечем из свежей собственной муки! Справим годичный юбилей нашей жизни в долине. Отпускаю на торжество две бутылки коньяку и бутылку мадеры, — сказал Дубов.
— Печальный юбилей, — тихо молвила мать.
Не дожидаясь пирога, к вечеру напекли из свежей муки сдобных, на молоке и масле, лепешек и коржиков. Ели их за чаем, похваливая.
— А завтра пироги будут с рыбой, сыром, грибками и ягодами, — обещал Фома Кузьмич. — Пойдем в ночное — сомов и сазанов ловить.
На рыбалку в ночное пошли отец, Фома Кузьмич и я. Расставив засветло снасти на большую рыбу, мы легли отдыхать вблизи озера в шалаше.
— Утром пораньше встанем, будет самый клев, — говорил отец. — А сейчас — на отдых.
На заре мы поднялись и, забрав удочки, прикорм, наживу, пошли к лодкам. В одной разместился Фома Кузьмич, в другой — мы с отцом. Отплыли на середину озера, стали возле камышей, спустили сетки с прикормом, забросили удочки… Ждем…
Небо над вершиной горы пунцовело от зари. Озеро не шелохнулось. От воды струился пар. Еле слышно шептали метели тростника. Громко заквакала лягушка и смолкла. Через минуту ей ответил целый хор. И опять все стихло. Крякали утки в камышах, тоненько перекликались утята. Внезапно на горе, высоко над озером, раздался трубный звук, эхо его заполнило всю долину.
— Лось трубит, — пояснил отец.
В эту минуту невдалеке, где расставлены были жерлицы, раздался плеск и шум. Удилище хлестало по воде.
— Сом, наверное!
Махнув нам рукой, Фома Кузьмич направил лодку в направлении жерлиц. Мы тронулись туда же.
— Ого! — торжествующе воскликнул повар. — Зверюга сильный! Помогайте!
Общими силами стали вытягивать натянувшуюся струной лесу.
— Веди к берегу, на отлогое место, — приказал отец. — Иначе не вытащим.
Оставив лодки, мы вышли на берег, подтягивая лесу. Мелькнула большая темная усатая голова…
— Ну, конечно, сом! Вот и пироги! — торжествовал Фома Кузьмич. — Если бы у нас был рис или саговая крупа!.. Да ничего, и со свежей капустой выйдет неплохо. Масла не пожалеем… Эх и жирный сомище! Деликатес!
Наконец мы вытащили сома на берег. Могучий хвост рыбы обдал нас водопадом брызг. Поняв бесцельность сопротивления, сом затих, разметавшись на прибрежной траве, покрытой росой. Величиной он был аршина полтора, жирный, блестящий.
Прочно привязав сома за жабры на бечеву, мы опустили его в воду. Сначала он с минуту лежал смирно, тяжело поднимая жабры, расправляя плавники. И вдруг ринулся вглубь… Бечева загудела. Закачались, клонясь к воде, ветви тала, к которому мы привязали нашего пленника. Бросок… Второй… Третий… Сом вновь затих и загулял спокойно по воде.
— Так-то лучше, — одобрил Фома Кузьмич. — Поедем, закинем еще на счастье. А через часок можно и домой.
Не успели мы сесть в лодки, как вблизи раздался топот бегущего человека. Это был Андрей Матвеевич. Но в каком виде! В белье, босой, волосы непокрытые, спутаны…
Подбежав к нам, он упал в изнеможении:
— Убежали…
— Кто убежал?
— Георгий… Рисней… И она…
— Кто она? — побледнев, спросил отец.
— Ирина Алексеевна…
Отец пошатнулся и опустился на землю рядом с Дубовым. Зажав голову руками, он стонал, как от жестокой физической боли.
Вскоре прибежали полуодетые встревоженные Николай и Ахмет.
Охая и плача, приплелась Клавдия Никитична, сопровождаемая Марфугой.
— Проснулась я ночью, — рассказывала, заливаясь слезами, Клавдия Никитична, — вижу: не спит Андрюша, ходит да охает. Сердце, говорит, болит, неспокойно чего-то. Смотрю в окно — светает, рано еще. Приляг, говорю ему, отдохни, пройдет. Нет, говорит, посижу я. Он присел, а я смотрю на него, успокаиваю. А глаза так и смежает сон. Сама не заметила, как задремала. И вдруг — как закричит Андрей Матвеевич: «Убежали! Ограбили!» Помертвела я от страха, поднялась, в комнату сыновей бросилась… По дороге заглянула под кровать Андрюши и обомлела: нет чемодана с ценностями… В комнате холостых один Николай мечется, путается с одеждой. Бросилась к вам, Борис Михайлович, — никого, одна Любочка спит. Я на крыльцо. Вижу — Андрюша к озеру бежит, только белье мелькает… «Батюшки, — кричу, — утопится, помогите!..» Николай и Ахмет обогнали меня… Господи, да за что же кара такая?.. Сын родной изменил, родителей бросил, обокрал… Мать пресвятая богородица…
— К дьяволу! — закричал, вскакивая, Дубов. — Догнать! Вернуть!
Отец все сидел, зажавши голову руками, и стонал. Мне стало страшно.
— Папа!
— Борис Михайлович! — тронул Ахмет за плечо отца. — Владислав испугался, Люба дома одна… Успокойтесь… Идемте домой…
— А? Что? Ах да… Сейчас, сейчас.. — отец с трудом поднялся, он был бледен, как полотно. — Владислав… Люба… Да, да… Идемте… Ахмет, беги за лошадьми… Фома Кузьмич, помоги Дубову… Да, да, поезжайте в погоню… Это какое-то недоразумение… Это они наглупили… сгоряча…
Когда мы подошли к дому, Ахмет привел уже оседланных лошадей. Вооружившись, захватив факелы и продовольствие, Ахмет, Фома Кузьмич и Николай поскакали по направлению пещеры «Дорога в мир». За ними помчался Вещий. Со скрытой надеждой отец проводил взглядом отъезжающих.
— В добрый час! Помоги вам господи! — перекрестилась Клавдия Никитична.
В доме было тихо, пустынно. Войдя в свою комнату, отец опустился в кресло и долго сидел молча, не шевелясь, глядя в одну точку. Мне было жутко, но я боялся тревожить отца и сидел, тоже не шевелясь, потихоньку плача.
Проснулась Люба. Увидев нас, улыбнулась:
— Поймали сома?
Отец очнулся, с усилием встал, подошел к Любе, взял ее на руки, прижал к груди и, целуя, заплакал.
— Папа, я боюсь… Где мама?
— Мама… скоро вернется… Успокойся дочка…
Он утешал, ласкал нас — с глазами, полными слез.
Неслышно отворилась дверь, вошла Клавдия Никитична. Пригорюнясь, отирая платочком слезы, она долго смотрела на нас молча, наконец молвила:
— Борис Михайлович, полноте, что вы… Андрюша-то немного утих, уложила его в постель… Давайте одевать Любу. Где ваш сом? У лодок? Марфуга принесет… Тесто сдобное заведено… Без Кузьмича как-нибудь пироги сготовим…
Во время завтрака Марфуга сообщила, что из кладовой исчезло много продуктов, беглецы захватили хлеб, масло, сыр, мед, чай, копченое и соленое мясо. Очевидно они готовились заранее, обдуманно и предвидели далекий путь.
— И пулемет взял с собой Егорушка, — добавила Клавдия Никитична. — Может, к лучшему это? Все при случае оборониться чем будет.
— Андрей Матвеевич как себя чувствует?
— Плохо. Сидит в постели и все шепчет что-то… Боюсь, не помешался бы старик.
Гонцы возвратились ни с чем. За водопадом, где мы останавливались в прошлом году, следы их затерялись. Дальше искать их побоялись.
Отец выслушал рассказ гонцов безразлично. Он, видимо, был готов к этому. Андрей Матвеевич начал буйствовать. Пришлось его связать. Он сперва сопротивлялся, потом затих, бормотал изредка бессмысленные фразы, временами смеялся. Страшен был этот смех!
За несколько дней Дубов изменился до неузнаваемости: похудел, поседел, одряхлел. Припадки буйства прошли и сменились тихим безразличием. Сидя где-нибудь в укромном уголке, он улыбался, шептал что-то несвязное, забыл понятие о времени, не откликался на зов, не узнавал никого. Вначале за ним следили, опасаясь, как бы чего не натворил. Потом привыкли, тихий бред умалишенного старика перестал пугать. Лишь Клавдия Никитична порой плакала, ухаживая за мужем.
Дни шли тягучие, тоскливые. Отец почти не выходил из дому. Сидел, не шевелясь, в кресле или ходил по комнате. И думал, думал…
Люба каждый день спрашивала меня:
— Где мама? Почему она так долго не возвращается?
Стараясь развлечь сестренку, я уводил ее гулять в луга, в лес.
Но ни цветы, ни ягоды ее не привлекали. Бесцельно побродив по долине, мы усаживались где-нибудь на берегу озера и молчали. Иногда Люба падала ничком на траву и горько плакала. Сам глотая слезы, я успокаивал сестренку:
— Не надо. Любочка! Мама скоро вернется. Она поехала в город, а потом вернется за нами, и мы поедем домой… Все будет хорошо…
Однажды ранним утром отец вышел из дому. Тихо, стараясь не разбудить Любу, я направился за ним. Выйдя на крыльцо, отец долго стоял, задумавшись. В лучах утреннего солнца волосы его серебрились, он поседел за эти несколько дней.
С поля доносился звук кос. Фома Кузьмич, Ахмет и Марфуга заканчивали уборку хлеба. Отец медленно направился к ним. Вскоре я увидел, что он сменил Ахмета. Коса зазвенела в его руках.
Я прислонился к перилам крыльца и заплакал, чувствуя, как с каждой слезой с души спадает тоска.
Из дома вышла розовая ото сна Люба. Увидев меня плачущим, испугалась:
— Владек! Что с тобой? Где папа?
— Папа в поле, косит хлеб…
— Значит, папа выздоровел? — обрадовалась сестренка.
Общество наше повеселело. Отец вновь стал во главе его. Работа пошла более споро. Мы готовились ко второй зиме, заготовили хлеб, продукты, топливо, корма для скота. В августе был первый сбор меда. Старый повар угостил нас сладкой, густой, приятной на вкус и пьянящей медовкой.
Николай изредка заговаривал об отъезде. Он всегда оказывался один, всех сторонился, не принимал никакого участия в общей жизни, не работал, палец о палец не ударял. И видно было, что его съедает тоска и скука.
— Что ты, Коленька! — возражала ему всякий раз Клавдия Никитична. — Куда поедешь? Кругом война…
Отец много работал, находя в труде забвение.
Прошло лето, настали пасмурные осенние дни. Неожиданно быстро, в октябре, установилась зима, долина и взгорья нарядились в снежные одежды. Мы вновь обновили лыжи и коньки.
— Ну, дети, — сказал однажды отец, — начнем с вами заниматься.
Со знанием дела и терпением отец преподавал нам русский язык и математику, географию, историю, музыку. Эти занятия велись ежедневно.
Фома Кузьмич, Ахмет, Марфуга всегда были чем-то заняты. Мужчины столярничали, мастерили мебель и ковры, разные хозяйственные изделия. Марфуга шила, вязала, чинила. Один Николай изнывал без дела, дремал, сидя в кресле, безучастный ко всему окружающему.
На отца иногда нападала хандра. Он молча ходил по комнате, изредка присаживаясь к радиоприемнику. Но потом брал себя в руки и принимался за какое-нибудь дело.
Андрей Матвеевич, уставившись взором в огонь камина, шептал что-то про себя одному ему понятное. Это было теперь его обычное состояние. Клавдия Никитична, пригорюнясь, жалостливо смотрела на мужа и сына. Она тоже за последнее время сильно осунулась, постарела, вообще сдала.
Так и шли наши дни…
А там в стране, за горами, свершались большие события. Глухим эхом, через радио, они доносились до нас.
Телеграф принес известие о взятии красными Перекопа и падении Крыма. Красные, вытеснив польские войска из Украины, глубоко вторглись в пределы Польши, овладели Львовом, подходили вплотную к Кракову.
Выслушав сообщение о разгроме и бегстве белогвардейцев из Крыма, Николай Дубов пришел в бешенство:
— К дьяволу! Туда и дорога! Авантюристы, бездарные проходимцы!
Словно разбуженный криком сына, старый Дубов вскочил, лицо его исказилось:
— Вспомнил! — закричал он так, что все содрогнулись. — Они ограбили, разорили меня! Поймать! Вернуть! Казнить разбойников!
Старик бросился к двери, его едва успели задержать. Он отбивался с невероятной силой, сквернословил и, обессилев, затих. Его уложили спать.
Утром нас разбудил плач и причитания Клавдии Никитичны. Оказывается, старику удалось выбраться из комнаты, на крыльце он свалился со ступенек, ударился виском о выступ и замертво упал на землю.
«Долина роз» обзавелась кладбищем. Могила Дубова, прикрытая каменной плитой, приютилась под березой. Кладбище огородили частоколом, захватив березовую рощицу.
— Весной рассадим здесь цветы, — говорил Фома Кузьмич. — Кто знает, может и нам придется здесь опочить. Свято место не будет пусто.
Схоронив мужа, Клавдия Никитична совсем притихла. Она дряхлела и таяла у всех на глазах. В апреле, в разгар весны, и ее схоронили.
Ко второй зиме поселок наш обстроился, вырос. Стал уютней жилой дом, в комнатах прибавилось мебели, а на кухне утвари. Днем, в перерывах между уроками, мы с Любой катались на коньках, на лыжах. Чтобы дать нам возможность порезвиться, отец перенес некоторые уроки на вечер.
Осень была сухой, зима — малоснежной, весна — холодной, затяжной. Прошлогоднего наводнения не повторилось, озеро едва вышло из берегов.
Николай Дубов за зиму опустился, оброс. Он не работал, почти совсем бросил читать, большую часть времени проводил в постели или в бесцельном хождении по комнатам.
Радио приносило с «Большой земли» новость за новостью. В стране провозглашена новая экономическая политика. В ряде областей народно-хозяйственной жизни допущен частный капитал, разрешена свободная торговля. Слово НЭП доносилось до нас все чаще.
Эти новости оживляли Николая Дубова. Временами он вступал в споры с отцом:
— Поймите, инженер Кудрявцев, сидеть теперь в долине отрезанными от мира нет смысла! Страна в развалинах, хозяйственные трудности не по силам новой власти. Кончилась война, кончаются и большевистские эксперименты. Реставрация капитализма в России неизбежна!
Отец с сожалением смотрел на доморощенного философа:
— Ничего-то вы не поняли в революции, Дубов! Но даже и спорить с вами не хочется. Реставрация! Выдумал тоже! Реставрация! Уж не вы ли приметесь реставрировать капитализм? Э-эх, связался я с вами!..
Николай Дубов пытался еще что-то говорить, но его никто уже не слушал. Тогда он нахмурился, замолк и еще больше стал от всех сторониться.
Между тем, отец, видимо, и сам решил, что пора покинуть долину и вернуться туда, к людям. Он проверял упряжь, увеличил порции рациона лошадей… Часто советовался с Ахметом, с Фомой Кузьмичом…
Полевые работы тем временем шли полным ходом. С утра до вечера мужчины были заняты, в доме хозяйничала Марфуга и около нее Люба. Я тоже помогал взрослым и дома и в поле. Не работал один Николай.
Однажды, возвратившись с работы, мы не застали его дома.
— Уехал на охоту, — сообщила Марфуга. — С утра уехал. Ружье взял с собой, мешок. Верхом уехал.
— Уж не совсем ли он уехал? — прищурился Фома Кузьмич.
— О чем забота? — отозвался Ахмет. — Уехал — туда и дорога.
— Нам с ним все равно не по пути, — вставил отец. — Управимся вот тут и тронемся всем гуртом.
Но к вечеру прискакал Николай — сам не свой, сильно расстроенный.
— Пропали! — простонал он, с трудом слезая с коня.
— Почему пропали? — спросил отец.
— Пещера…
— Что с пещерой?
— Залита водой!..
Отец вскочил на коня и понесся к пещере. Забежав на скотный двор за лошадьми, мы последовали за ним. Вскоре и мы были возле пещеры. Николай был прав: поток вливался в пещеру медленно, уровень воды повышался с каждой минутой.
Отца мы застали стоящим безмолвно у воды. Голова его была низко опущена. Поседевшие волосы блестели под солнцем, фуражку он держал в руках.
— Произошло несчастье, — глухим голосом сказал он. — Вход в нижний грот пещеры завалило… Помните тот камень? Случилось то, чего я так боялся. Камень сорвался, завалил нижний ход пещеры. Вода устремилась вверх…
— Значит, верхняя пещера залита водой? — спросил я.
— Конечно… А как же иначе?
— В таком случае ход из долины отрезан?
— Пока вода не спала — да…
Так мы стали пленниками Круглой горы.
Перед рассветом нас разбудил выстрел. Последний отпрыск фамилии Дубовых покончил расчеты с жизнью. Николай Дубов застрелился.
Дни шли за днями медленно, похожие друг на друга, как две капли дождевой воды.
В солнечном сверкании, шуме ручьев шествовала весна, принаряженная, как невеста, в зелень и цветы.
Знойное, яркое, сытое от зелени, тепла, цветов и плодов — проходило лето.
В нарядной багряной листве лесов, померкших трав и цветов, в туманной фате, печальная, плачущая дождями, — тянулась осень.
Одетая в белоснежные одежды, буранная, долго-долго стояла зима.
И так — год за годом…
Мы, горстка людей, отрезанных от всего мира, старались не падать духом. Как будто бы мы сыты, всего у нас в достатке, жилище у нас хорошее, все есть. Не хватало нам одного: людей, общества, друзей, народа. Мы потеряли бы счет времени, часам, дням, числам, годам, если бы не дневник, который издавна, с юности своей, вел отец, и если бы не мой дневник, который я вел, подражая отцу и ежедневно проставляя дату. Мы чувствовали бы себя заживо погребенными, если бы не радио. Звуки его приняли для нас особый, волнующий интерес, в них трепетали последние нити общения с миром, с «Большой землей».
Нам угрожала опасность опуститься из избытка свободного времени, от отчаяния. Энергия и знания отца, поборовшего упадок духа после суровых испытаний, трудолюбие простых людей, делящих с нами дни и годы одиночества, спасли нас от этого. Мы с Любой росли, учились, обогащали свой ум, закалялись в труде, впитывали все, что давали нам широкие знания отца, книги, музыка, мастерство наших друзей.
Марфуга под руководством Фомы Кузьмича освоила все тайны высокого кулинарного искусства, стала полновластной хозяйкой кухни. Ей деятельно помогала Люба, трудолюбивая, резвая девочка.
Я тоже научился многому. Я умел и ходить за лошадьми, и давать корм коровам, я умел боронить, сеять, сажать, полоть. Я научился столярному делу, не говоря о том, что умел прибрать комнаты и подмести или вымыть пол. Я научился трудиться.
Между тем жизнь шла своим чередом. Мы отштукатурили, выбелили дом снаружи и внутри, он стал уютней, теплей и нарядней.
— Настоящая дача! — восхищалась Люба. — Только… — голосок ее вздрагивал от сдержанного волнения, — только бы поближе к городу, к людям…
— Подожди, сестреночка! — успокаивал я ее. — Мы выберемся отсюда и заживем по-иному!
— Да я ничего, Владек… Мне и здесь с вами, с папой и с тобой, с Марфугой, с Ахметом, с Фомой Кузьмичом, отлично. Но я бы не прочь иметь подружек… ходить в театр… гулять по улицам…
— Знаешь, Люба, мы что-нибудь придумаем… Ты видела лен в нашем поле? Года через два его будет много. Мы наткем полотна, проварим его маслом и сошьем, соорудим… знаешь что? Воздушный шар!
— И улетим отсюда! Да? — воскликнула Люба, бросаясь ко мне. — Папа у нас такой умный, он построил электростанцию, осветил не только дом, но и скотный двор, под его руководством строили дом, мебель, делали утварь, ткацкие станки… Он соорудил радио… Он все может, все умеет, он, конечно, что-нибудь придумает, чтобы выбраться отсюда!
В нашей тихой жизни это было большим событием. Однажды мы услышали в наушниках вместо точек и тире человеческий голос и музыку. А вскоре отец водрузил рядом с приемным аппаратом вогнутый круг, сооруженный из пергамента, в жестяной оправе. В середине круга в маленькой коробочке включались катушки, обмотанные тонкими проводами, какие-то винтики. Весь прибор был окрашен в светлый сероватый цвет. Отец прикрепил к диску провода. Мы заметили, что он немного волнуется. Повернув пуговку выключателя, он сказал:
— Посмотрим, что получится из этого…
И вдруг ясный чистый голос произнес:
— Московское время двадцать часов. Приступаем к трансляции оперы «Борис Годунов» из зала Большого театра…
Как зачарованные, просидели мы весь вечер, до полуночи, слушая музыку, пение… И когда донесся издалека шум аплодисментов, горячо аплодировали и мы, незримые, далекие слушатели.
С этого дня в доме нашем стало веселей, как бы людней и просторней. С раннего утра до полуночи оживляло наше жилище пение и музыка, далекий человеческий голос, рассказывающий о жизни нашей родины, о новостях нашей страны.
«Говорит Москва!..»
Каждый день мы слышали эту фразу, и каждый раз она нас волновала. Если бы увидеть Москву! Кремль, Красную площадь… ее улицы, дома и сады…
Шли годы…
Люба из маленькой девочки выросла в красивую стройную девушку. Сестра унаследовала все красивое, женственное от матери, а ум, доброту, благородство — от отца. Мать, уезжая, оставила почти весь свой гардероб. Сначала приходилось перешивать ее одежду, с годами же платья, костюмы матери стали Любе впору.
И мне становились впору костюмы отца. Я вырос, на щеках у меня появился пушок. Настал день, когда я впервые взялся за бритву.
Годы и горе преждевременно украсили сединой голову отца. Но он по-прежнему деятелен, много трудится, занимается с нами, по желанию Ахмета и Фомы Кузьмича читает им лекции… Подолгу сидит он у себя в кабинете, в бывшей комнате Дубовых, над рукописями и чертежами.
— Это что, папа? — спросила однажды Люба, рассматривая чертежи.
— Это проекты больших, сложных машин. Когда мы уедем отсюда, я передам их государству.
— А я думала…
— Что ты думала, доченька? — улыбнулся отец, гладя Любу по головке, по ее темно-каштановым волнистым волосам.
— Я думала, это чертежи аэростата, воздушного шара…
— Чтобы улететь отсюда? Ах ты, моя мечтательница! — рассмеялся отец. — Будет у нас и воздушный шар. Мы одолеем этот каменный барьер, отделивший нас от мира. Будет, дайте срок!
Наше жилище украшалось все больше. Ковры и картины заполняли стены его. Ковры мастерила Марфуга. Картины писал отец. У него в запасе были краски, кисти, полотно. Искусству живописи он научил и нас.
Картины отец писал с натуры — у озера, возле рощ, в лугах. Портреты — с живых людей, с фотографий. Отец на портрете был молодой, красивый, энергичный, в инженерском костюме. Меня он нарисовал в нескольких видах: каким я был в детстве, малышом, гимназистом в форме и со значком. Как живая, смотрела с полотна Люба — в живописном наряде, с букетом цветов в руках и венком на голове.
Долго трудился отец над портретом матери. Когда он был готов и занял свое место на стене, Люба долго стояла, рассматривая его, притихшая и печальная, и вдруг заплакала. С портрета смотрела прекрасная, но холодная, чужая женщина…
Семью Дубовых отец написал вместе, на одном полотне, отчасти по памяти, отчасти по фотографиям. У каждого на портрете было свое характерное лицо, один Дубов не походил на другого Дубова, но что-то общее связывало их, кроме родства. На мое замечание об этом отец ответил:
— Над ними реял один призрак: обреченности.
Я уже упоминал, что по примеру отца вел дневник. Заглянув в него как-то случайно, отец похвалил меня:
— Хорошо. Только мало одних фактов — зарисовывай жизнь, события с натуры. Учись письму у классиков. Литература, как и музыка и живопись, облагораживает человека. А еще — учись мыслить, рассуждать, записывать свои раздумья.
По мере учебы по-иному, в их глубоком значении, стали доходить до меня и технические книги. Чертежи и схемы заговорили понятным четким языком.
Когда Люба подросла, отец начал преподавать нам и социальные науки. Мы убедились, что он хорошо знаком с учениями философов древности, с Кантом и Гегелем, Марксом и Энгельсом, Плехановым и Лениным.
— Папа, ты все-все знаешь! Где ты всему научился? — поинтересовалась Люба.
— В университете, дочка. Многому — по литературе, ходившей по рукам в качестве запрещенной. Студенческая молодежь собиралась кружками, мы изучали, спорили, делились впечатлениями. А кое-что я изучил в обществе ссыльно-политических.
— А ты разве в ссылке был?
— Был, дочка. В Сибири. Но это — давнее прошлое.
— За что же тебя ссылали?
— За участие в студенческих сходках, за прокламации, листовки, что среди рабочих распространяли, за студенческую забастовку… Два года пробыл в ссылке…
— А потом?
— Потом вернулся. Закончил университетский курс. Работать начал как горный инженер… И попутал же меня черт с этим Дубовым! Жил бы сейчас и работал со всеми, как человек…
— А за границей ты, папа, был? — спросила Люба после долгого молчания.
— Немного. Раза два. В служебных командировках. На заводах в Германии, Бельгии, во Франции и Англии.
Однажды в воскресный день засиделись мы до глубокой ночи. На наших часах стрелка подходила к двум. Ударили, мелодично переливаясь, кремлевские куранты. В Москве наступала полночь, было двенадцать часов ночи. На Красной площади перекликались сиренами автомобили. Слышался шорох засыпающего огромного города.
Вдруг мы услышали, что кто-то плачет. Оказывается, наш Фома Кузьмич!
— Фома Кузьмич! Дедушка! — бросилась к нему Люба. — Что с тобой?
Старый повар поднял залитое слезами лицо. Словно впервые заметили мы, как глубоко оно изрезано морщинами, как стар уже наш Фома Кузьмич.
Смущенно улыбаясь сквозь слезы, Фома Кузьмич стал рассказывать:
— От радости это я, милые… Ведь часы-то бьют где! На Иване Великом, в Москве, на Красной площади! Раньше куранты «Коль славен» играли, а теперь, вишь, наш трудовой гимн… На весь мир гремит! Слушайте… Сколько лет прожил я в Москве. С мальчиков ресторанных начал, официантом работал. И на чай получал, и оскорбления от пьяной публики… Особенно купцы безобразничали. Шум, песни, охальство. Срам… От этого я и перешел на кухню. Поваром начал работать. Попотел у плиты немало… Раз гуляли какие-то купцы приезжие. Чем-то угодил я им. Приходит метрдотель: иди, говорит мне, покажись купцам. Пошел. В кабинете ералаш, море по колено… Один ко мне и обращается: «Это ты, Фома?» А сам с лица рыжий, коренастый такой в костюме заграничного сукна, но в шелковой рубашке-косоворотке и в лаковых сапогах. «Не надоело, — говорит, — тебе пьяных в ресторане кормить? Поедем, — говорит, — ко мне, главным поваром в мой дом? Руки в карманы ходить будешь, приказывать да приказывать. Жалованьем не обижу, доволен будешь, хороших работников Дубов умеет ценить.» Слушаю и думаю: «Вот он какой, этот Дубов! Слыхивал о нем!.. Может, и вправду будет у него лучше?» Вот так я и попал в услужение в эту семью. Не скажу, чтоб на радость…
Мы слушали и удивлялись: сколько лет знаем Фому Кузьмича, а первый раз он так разговорился! Много он нам интересного тогда порассказал.
А вскоре после этого случая заболел наш Фома Кузьмич. Сначала все бодрился, успокаивал нас:
— Пустяки… Не уберегся… Видать, от печки на холод выскочил. Попью чайку с малиной, пропотею, пройдет.
Но недуг брал свое. Фома Кузьмич потерял аппетит, слабел на глазах. Аптечных лекарств у нас к этому времени почти не было. Мы врачевали его народными средствами, настоями трав.
Фома Кузьмич умер в мае. В этот день мы помогли ему выбраться на крылечко. Распустились цветы яблонь. Сияя на солнце золотистым пушком, возле цветов хлопотали пчелы. Воздух был упоителен, день прекрасен. Счастливая улыбка озарила лицо больного:
— Привел бог пожить и умереть, как мечтал всю жизнь. Марья, Марья… Поторопилась ты умереть… Саша… Сынок родимый… Борис Михайлович, Владя! — Обратился Фома Кузьмич к нам. — Будете в Москве — зайдите в Главный штаб военный, наведите справки… Жив ли или пал на поле брани Александр Фомич Стольников, красногвардеец… А уж если, приведет бог, увидите его, — расскажите, как жили мы тут, передайте ему мое родительское благословение…
— Да что вы, Фома Кузьмич! Бог даст, сами увидитесь с сыном!
— Где уж… Кончились мои свиданки…
Фома Кузьмич долго лежал молча, обозревая долину, мы ему и постель на крыльцо вынесли. Потом заснул. Ахмет неотлучно дежурил около своего старого друга. Голова нашего кучера, когда-то смолево-черная, тоже поседела. Да ведь и Ахмету было уже под шестьдесят.
Фома Кузьмич больше не проснулся. Когда мы часа через два пришли, чтобы перенести больного домой, то увидели, что Ахмет плакал. Старый повар лежал, вытянувшись, под одеялом, восковые руки его были сложены на груди, а худое лицо было спокойно, торжественно…
Отец снял фуражку.
— Умер?! — горестно воскликнула Люба.
Все мы поплакали над телом нашего друга, над его могилой. В этот вечер отец долго беседовал с нами. Мягко и осторожно он коснулся темы, которая до сих пор считалась у нас запретной: он заговорил о матери.
Мы слушали, затаив дыхание. На его лице было страдание, затаенная боль, но голос был ровным, твердым, глубокое горе перегорело, осталась тихая грусть. Он говорил о том, что любил и даже сейчас любит эту женщину. Но после ее побега много думал о ней. И понял, что она жила рядом с ним, но всегда оставалась в чем-то далекой.
— Там, где она окажется, если ее не бросит на произвол судьбы Рисней, — задумчиво произнес он, — ей будет лучше. То новое, что пришло в Россию с установлением Советской власти, в душе она никогда бы не приняла. Но она ошибается, что я таких же, как она, взглядов. Да, я мягкий, покладистый человек и зачастую — вследствие своей мягкотелости — поступался своими взглядами. Например, вся эта поездка… Она необходима Дубовым, но совсем не нужна была нашему семейству. И все-таки я смалодушничал, послушался ее и поехал… Но у меня есть незыблемое, чем я никогда не поступлюсь. Я покажу вам письмо, которое она оставила перед тем как скрыться. В письме она сообщает, как о решенном деле, что, устроив дела за границей, она вызволит туда и нас. Но ни я никуда не уеду из России, ни вас никуда не отпущу. Это вы знайте. И даже выбора вам не предоставлю. Вы будете жить у себя на родине.
Отец перевел дух, посмотрел на нас, притихших и взволнованных, и, обняв нас, сказал:
— А теперь я прочту вам письмо вашей мамы:
«Борис, прости, но не прощай. Нет, до свиданья. Я верю, что мы еще увидимся и ты не осудишь меня так строго. Я ушла от тебя не потому, что изменила тебе. Я решилась на этот шаг, чтоб ускорить наше освобождение. Я видела, что вы — ты и Дубов — не намерены покидать долины до полного успокоения в стране. Мистер Рисней с Георгием были того мнения, что нельзя откладывать отъезд и что сейчас наиболее благоприятный момент, чтобы добраться до границы. Рисней уверил нас с Георгием, что среди руководителей восстаний против Советской власти у него есть личные друзья. Может быть, это его агенты? Пусть… Но они знают вкус золота. Георгий захватил с собой ценности. Этого, по его словам, будет достаточно, чтобы устроить наш отъезд за границу. Достаточно и для того, чтобы всем нам прожить там без нужды. Нам — это Дубовым, мне, тебе, детям. И мы вернемся за вами, если не за всеми, то за тобой, за детьми, за Дубовыми. Конечно, Андрей Матвеевич пойдет за нами, когда увидит серьезность нашего предложения, прочность охраны, которую приведем мы и которая доставит нас до границы, на порог новой, блистательной жизни. Итак, до счастливого свиданья! Поцелуй Любу, поцелуй Владислава — этот живой портрет твой, прекрасный юношеский портрет…»
— А она жива? — спросила Люба охрипшим голосом.
— Может быть, и жива, кто знает. Скорее всего, их план удался, и они за границей.
— Значит, она все-таки за нами приедет? — глаза Любы были широко раскрыты.
— Если бы она даже приехала, пути к нам нет. А если бы путь и был, я предложил бы ей или остаться с нами или уезжать одной. Мне это очень горестно говорить. Но я должен сказать вам это прямо, ведь вы уже взрослые и должны во всем разбираться.
Во время этого разговора отец внешне был спокоен, время сгладило остроту его горя. Но в его голосе прозвучали такие твердые нотки, что мы поняли: решение отца принято им раз и навсегда. Я тогда подумал, что вряд ли мы увидим когда-нибудь свою мать. А когда Люба спросила меня однажды: «Куда же мама хочет нас увезти?» — я грубо ответил:
— К Риснею. К английскому шпиону. Маме у него очень нравится.
Люба испуганно посмотрела на меня и ничего не сказала, даже вообще больше не заговаривала на эту тему.
А жизнь, прекрасная и радостная, расцветала за гребнями неприступной горы. Радио изо дня в день рассказывало об успехах Советской России. Мы узнавали о строительстве новых заводов, электростанций, железных дорог, о высоком полете науки, искусства. Это была пятилетка на практике. Слово это упоминалось каждый день, пятилетку воспевали поэты, о ней ставили в театрах пьесы, о ней слагали песни. Мы слушали, но очень смутно представляли жизнь, которая кипела и бурлила там, за каменными стенами нашей живописной тюрьмы.
Однажды мы увидели над долиной необыкновенную птицу. Рокоча и гудя, блестя под солнцем и красуясь яркими красными звездами на крыльях, она плавно неслась на восток.
— Самолет! — воскликнула Люба.
— Стреляйте! — заволновался отец, хватая ружье и выбегая из дома. — Надо дать им сигнал!
Мы кричали, стреляли… Увы! Самолет, не услышав, не заметив нас, скрылся за гребнем горы.
— Улетел! — горестно вздохнула Люба, опускаясь на траву. Плечи ее вздрагивали от рыданий.
В надежде на случай мы разложили на открытом месте, на лугу, на самом виду, сигналы. Из смолистых ветвей сосен мы заготовили кучи горючего для костров. Самолеты проносились над нами год от году чаще. Мы зажигали костры, стреляли в воздух, чтобы привлечь внимание — бесполезно! Самолеты шли на большой высоте, летчики не замечали нас, затерянных среди горных массивов…
Время от времени мы проверяли уровень воды в пещере. Даже зимой пещера была залита водой до потолка. Я установил это, рискнув спуститься в переднюю часть пещеры на лодке. Я плыл в полной темноте, освещая путь факелом. Выхода из пещеры не было…
— Если бы водолазные костюмы! — говорил я. — Мы прошли бы тогда под водой.
Таких костюмов у нас не было…
— Если бы высокую-высокую лестницу! — мечтала Люба. — Мы поднялись бы на гребень горы и спустились с него…
Таких лестниц нам не сделать…
— Если бы воздушный шар! Мы улетели бы на нем.
Такого шара мы соорудить не могли…
— Нет, вот если бы радио от нас заговорило! — вздыхал отец. — Мы вызвали бы самолет на помощь.
Увы! У нас не хватало для этого оборудования, приборов. Усилия отца соорудить радиопередатчик пока не увенчались успехом.
Но отец не падал духом.
— Мы еще повоюем! И выиграем битву, отвоюем свое счастье! — твердил он. И добавлял: — Если нам не поможет счастливый случай.
Однажды мы стояли с Любой у входа в пещеру. До половины она была залита водой. Неумолимый и равнодушный страж!
— Никаких изменений… — горестно вздохнула сестра. — Месяц прошел, как мы проверяли отметки. Все то же…
Мы долго молчали и смотрели, как неумолимая вода медленно вливается в темные ворота пещеры. Мы приехали к пещере верхом и пока мы занимались разглядыванием уровня воды, лошади наши мирно паслись на лугу.
— Едем, Люба, обратно.
— Едем… Погоди минуту, сейчас.
Сестра размахнулась и бросила свой хлыст в воду. Ремешок затонул, а деревянная рукоять, любовно украшенная Ахметом, поплыла, колеблясь, по воде и скрылась из глаз.
Люба проводила хлыст внимательным взором.
— Зачем ты бросила хлыст в воду?
— Зачем? На счастье…
— На счастье? Утонет или нет?
— Я вырезала на рукоятке привет. Привет от пленников Круглой горы… И поставила дату — год и сегодняшнее число…
Я молчал, удивленный.
— Помнишь, Владислав, попытку проникнуть через пещеру на лодке? Ты рассказал, что вода не доходит до потолка, до каменных сводов пещеры, примерно на четверть аршина. Это — в самом низком месте. Если бы пустое пространство было большое, то можно было бы проплыть там, держась, например, за борта маленькой лодочки или за обрубок дерева…
— Да… Если бы это было так…
— Вот я и подумала… Где не проплыть человеку, без труда может проскользнуть такой маленький предмет, как хлыст. А вдруг он очутился по ту сторону горы, проскользнет водопад, поплывет по Гремящему потоку, попадет в реку… Может, кто-нибудь его поймает… И прочтет…
Я крепко обнял сестру.
— Люба! Ты умница! Как же это я раньше не сообразил?! А что если мы пошлем таким путем письмо?..
— С просьбой о помощи?! — воскликнула Люба.
— Да, с описанием нашего пленения и с просьбой о помощи…
— Владислав! Как мы не догадались сделать это раньше?
— Что ж, и теперь не поздно. Мы пошлем дневник нашего пребывания в долине. Описание всей нашей жизни и всего нашего отчаяния…
— Но это будет целая повесть! Большая рукопись!
— Ну так что! Мы ее упакуем, чтобы не подмокла. Пустим на поплавках, чтобы не затонула.
— Поедем скорее обратно! Нельзя терять ни минуты! — волновалась Люба. — Интересно, что скажет об этом отец?
Отец внимательно выслушал наше предложение.
— Что ж… В добрый час!
Я просидел над рукописью с месяц. Получилось очень растянутое повествование о нашей жизни, о нашем путешествии, о жизни в «Долине роз». Кое-где я использовал страницы из своего детского дневника, вставив их в свое сбивчивое повествование, кое-что написал заново.
— Недурно, — одобрил отец, ознакомившись с рукописью. — Получается нечто вроде повести. Приключенческой повести. И каждый поймет, что надо спешить с помощью. А в этом — главное. Шансов не так много, а вдруг да попадет это послание в руки хорошего человека? Но знаешь, ты все-таки на первой странице или на отдельном листочке напиши суть дела, чтобы сразу было понятно, что к чему.
Я послушался отца. После этого мы проставили дату, я дописываю эти строчки, ставлю точку… и сейчас мы запечатаем, запакуем и постараемся просмолить наш увесистый пакет. Мне почему-то представляется, что рукопись найдут через много-много лет, когда мы все состаримся и умрем. «Вот и пусть узнают о нас, о пленниках „Долины роз“», — думаю я растроганно. Люба же верит в наше скорое спасение…
А теперь все! Закрываю тетрадь. Привет вам, неизвестный мне путешественник, который найдет это послание!
ДЕВЯТАЯ ГЛАВА
Вечерело. Заходящее солнце золотило вершины гор. Неутомимо шумел водопад.
Светлов окончил чтение. От длительного чтения глаза устали, от неподвижного сидения ныло все тело.
— Ну и ну! Альма, проснись! — обратился к собаке Сергей Павлович. — Тайна Круглой горы раскрыта! Пленники ждут помощи! А ты спишь… Где же твоя совесть?
Альма поднялась, потянулась, потом подошла к Светлову и лизнула его руку.
— Вода! Ее в верхнем гроте нет, — размышлял Светлов. — Была вода и пропала. От ресщелины за скалой до водопада остались ясные следы потока. А теперь здесь сухо, вода проложила новое русло или вернулась на старое. Значит?.. Значит путь в долину свободен! И это произошло, судя по рукописи и внешним признакам в передней части пещеры, недавно.
Светлов посмотрел на часы в изумлении.
— Девять часов! Уже вечер! Сколько же времени я провел за чтением рукописи? Время для визита к обитателям долины не подходящее. Отложим это путешествие до утра. Ужинать! Костер на ночь! Пошли за хворостом, Альма!
Собака смотрела на него понимающе, как будто до нее доходил смысл всего, что говорил Светлов. А он, благодаря присутствию этого живого существа, привык рассуждать вслух, словно делясь со своей путницей всеми своими мыслями. Альма виляла хвостом и всем своим видом выражала полное удовольствие.
В эту ночь Светлов спал беспокойно. Он видел во сне зеленую круглую долину с тихим озером, уютный домик инженера и юную красавицу…
Ранним утром, позавтракав, Светлов двинулся в путь. Больше всего он опасался, что в глубине пещеры, в низкой ее части, может оказаться вода.
«Что ж, — успокаивал себя журналист, — если там не особенно глубоко, пойду бродом. Если глубоко, но под каменным сводом достаточно места, проплыву. На плоту переправлюсь, сухих веток натаскаю, свяжу бечевой… Одежду, оружие — на плот, сам наполовину в воде… Преодолею препятствие! Если же не удастся, вернусь в лагерь, вызовем аэроплан. Так или иначе, а обитатели „Долины роз“ будут свободны!»
В пещере царили мрак и тишина. Луч фонаря освещал каменные своды и бегущую впереди собаку.
Вдруг Альма забеспокоилась, стала жаться ближе к человеку. Журналист, держа ружье наготове, освещал пещеру, внимательно осматриваясь.
«Ага, это, наверное, те следы, что я заметил вчера… Проверим наши вчерашние впечатления и выводы…»
Он нашел ясный отпечаток медвежьих лап. Следы шли, действительно, в одном направлении, вперед.
— Да, путь в долину открыт, — произнес Светлов. — Зверь прошел туда и не возвратился. Не сидит же он в темноте в глубине пещеры! Там, где прошел медведь, не к лицу отступать человеку. Вперед, Сергей Павлович! Ружье ваше заряжено пулями… Не робеть!
Светлова беспокоил фонарь. Вдруг испортится, погаснет?! Так и случилось… На минуту Сергеем овладел страх. Зловещая, беспросветная тьма окружила со всех сторон. Казалось, что меньше стало воздуху, что каменная громада горы вот-вот обрушится и похоронит в своих недрах… Или еще того хуже: пройти пройдет, а обратный ход опять станет невозможен… И останется он тоже пленником Круглой горы на веки вечные… И зачем только он пошел один?!
Преодолевая дрожь в руках, Светлов достал запасную батарею и ощупью, как перед входом в пещеру несколько раз упражнялся, сменил старую, погасшую. Чувствуя, как тревожно бьется сердце, нажал кнопку фонаря… Луч света прорезал темноту.
— Да будет свет! — радостно воскликнул Светлов.
Двигаясь дальше, он слышал все нарастающий и нарастающий шум воды. Ил под ногами был мокрый.
«Это самая низкая часть пещеры, — соображал Светлов. (У него моментально прошли все страхи и опасения.) — Вероятно, скоро подъем, ручей выйдет снизу… Вот уже слышен плеск воды…»
Внезапно луч фонаря осветил темное жерло колодца. В него с шумом низвергался поток. Дальше ручей шел на поверхности, прижимаясь в своем каменном ложе к правой стороне пещеры.
— Путь свободен! — обрадовался Светлов. — Принимайте на главную линию!
Осмотрев жерло колодца, он увидел в глубине огромный камень. Вода перекатывалась через его темную отполированную тушу.
Пещера шла, незаметно поднимаясь, становилась шире, выше и суше. Наконец впереди забрезжил свет. С громким лаем бросилась вперед Альма. За ней спешил Светлов, поспешно выключив свет фонаря.
Выйдя на волю, Светлов зажмурился от яркого света.
— Здравствуйте, граждане, обитатели «Долины роз»! — крикнул он, снимая кепку. — Мир вам, исполнения ваших желаний!
Перед ним лежала круглая, как чаша, долина. Озеро и поток сверкали под лучами солнца. Вдали, утопая в зелени, белел дом. Как добрый вестник мирного жилья, из трубы вился легкий сизый дымок.
— Где дым, там огонь и жизнь, — произнес Светлов. — Спешу! Хозяева, принимайте гостя! Смелей, Альма!
Всюду вокруг видны следы напряженной работы людей. В лугах пасутся лошади, коровы, овцы, козы. Они провожают человека спокойным взглядом. Над озером, свистя крыльями в полете, проносятся стайки уток. Многочисленные выводки их плещутся, крякая, на воде. Спелые хлеба наполовину убраны, рожь, пшеница, овес стоят в копнах.
Наконец дорогу преградил крепкий частокол, увитый цепкими и длинными, как лианы, ветвями хмеля. Среди зеленых крупных мохнатых листьев его желтели поспевающие шишки-семенники. За оградой был огород.
«Чего здесь только нет! — удивлялся Светлов. — Настоящая плантация!»
Повыше был сад. В зелени его краснели дозревающие яблоки, желтели груши. Черная осыпь черемухи мелькала там и тут. Рдяно краснели гроздья калины, рябины.
Вдруг вблизи раздался густой лай. Светлов невольно отступил за угол ограды и, сделав несколько шагов в сторону, скрылся в ближних кустах. Альма последовала за ним.
Из ворот вышла девушка. Светлов так и замер, наблюдая за ней. В руках у нее было ружье. Крупная, рыжеватой масти собака, рыча, двинулась к кустам, где укрылся Светлов. Альма заволновалась, кусты задрожали.
Внезапно грянул выстрел. Светлов почувствовал удар в плечо.
— Стойте, не стреляйте! — воскликнул он. — Вы с ума сошли!
Осмотрел левую руку. На рукаве повыше локтя зияла маленькая дырочка. В этом месте на онемевшей, опустившейся вниз руке проступило пятно крови.
— Боже мой, кто это?! — услышал он испуганный голос.
Светлов вышел из своего убежища. Изумленная девушка остановилась перед ним. Она была в светлом платье, в желтой фуфайке, в сапожках. Темные волосы убраны простой красивой прической. Белый шелковый шарф наброшен на плечи.
Недоумение, радость, испуг сменялись на лице девушки.
— Какое несчастье! — горестно повторяла она. — Неужели я вас подстрелила? Я думала — медведь…
— Не беспокойтесь, — ответил Светлов, — ничего страшного, маленькая царапина.
— Но у вас кровь на рукаве! Немедленно снимите куртку! Я перевяжу, — она сняла с плеч шарф. — Не беспокойтесь, он чистый…
— Что вы! Пожалуйста!
С помощью девушки, положив на траву свое ружье рядом с ее карабином, Светлов снял ранец, ягдташ, бинокль, куртку и пиджак. Рукав сорочки был окрашен кровью.
— Боже мой, что я наделала!
— Маленькая пустяшная рана в мякоть плеча, — успокаивал девушку Светлов. — Ничего особенного.
Пока девушка перевязывала раненую руку, Светлов, не чувствуя боли, рассматривал ее. Она была ниже его почти на голову, миловидна, стройна. Он заметил правильные черты ее лица, нежные линии шеи, гордую посадку головы, тонкие пальцы рук, которые так осторожно, стараясь не причинить боли, быстро и умело делали перевязку.
«Так я и представлял ее, — подумал Светлов. — Она прекрасна!»
И, кажется, он был бы не прочь, чтобы перевязка длилась возможно дольше.
Девушка была хороша той прелестью, которая не сразу бросается в глаза. Вначале привлечет какая-то отдельная черточка. Потом поразит легкость походки, навсегда запомнится горделивый рисунок бровей. Тронет сердце открытый ласковый взор. И в целом сложится привлекательный, милый, женственный образ.
— Спасибо, Любовь Борисовна! — поблагодарил Светлов, когда девушка, окончив перевязку, накинула ему на плечи пиджак.
— Откуда вы знаете? — изумилась девушка. И только теперь спохватилась: — И вообще — кто вы такой?
— Я прочел рукопись…
Девушка мертвенно побледнела и даже покачнулась.
— Рукопись Владислава?! Это просто сказка! Но я предчувствовала, что она попадет кому-нибудь в руки! Какая удача!
— Да, очень удачно. Мне пришлось быть возле Круглой горы. Я обнаружил пещеру и у входа в нее нашел рукопись. Она в полном порядке… Здесь, со мной…
— Вы одни?
— Один.
— И не побоялись проникнуть к нам этим необычайным, неведомым путем? — девушка оживилась, разрумянилась, круглые глаза ее блестели. — Нет, право же, я не верю, что вижу живого человека… оттуда… Но ведь не привидение же вы!
— После ознакомления с рукописью…
— Вы поспешили на помощь?
Светлов молча наклонил голову.
— Какой вы хороший! — горячо произнесла девушка.
— Что вы! Всякий поступил бы так же.
Журналист почувствовал, что похвала девушки заставила дрогнуть сердце и теплая волна бросилась в лицо.
— Но какая неосторожность с моей стороны! — продолжала девушка. — Мы так привыкли к тому, что в долине нет других людей, кроме нас. Мне почудилось, что в кустах — медведь. Он и на самом деле появился в долине и подбирается к нашим ульям. Это такой лакомка! Вряд ли его удержит наша ограда. Мы решили его убить… Вещий, должно быть, тоже обознался.
Услышав свою кличку, собака подняла красивую, старчески дряхлую голову и посмотрела на девушку умными, преданными глазами. Познакомившись, обнюхавшись с Альмой, Вещий лежал, равнодушный к ухаживаниям молодой гостьи. Это был крупный, когда-то могучий, красивый пес, несколько поблекшего медно-красного цвета.
— Ах, медведь? — воскликнул Светлов. — Значит, это тот, следы которого я видел в пещере!
— Должно быть.
— Но разве вы не поняли, что, если появился медведь, значит, путь из долины свободен, значит, плен ваш закончился?
В голосе Светлова послышались нотки легкого разочарования: значит, не он первый принес весть о свободе!
— Да, — подтвердила девушка, — мы заметили спад воды в пещере. Это случилось вскоре после того, как Владислав бросил в поток сумку с посланием.
— И до сих пор вы не использовали возможность покинуть долину?! Ведь вы же, судя по записям вашего брата, страстно рвались на волю!
— Конечно! Мы и покинули бы долину немедленно, но… — в голосе девушки слышалась глубокая печаль, — но как раз в это время заболел папа… Однако я должна обрадовать папу, обрадовать всех… Пойдемте!
— Люба! — раздался вблизи громкий мужской голос. — С кем это ты разговорилась?
— Владек! Скорее! Сюда! Посмотри, кто у нас!
Из-за угла выбежал высокий загорелый молодой мужчина с русой бородкой и приветливыми голубыми глазами. Он с удивлением посмотрел на незнакомца.
— Светлов, Сергей Павлович, — протянул ему Светлов здоровую руку. — Спешу поздравить вас с окончанием великого сидения в этой долине!
Молодой человек смотрел на него, вытаращив глаза.
— Понимаешь, Владек, он…
— Пока я ничего не понимаю… Вы что, с самолета прыгнули? Как вы попали сюда?
— Он нашел твою рукопись!
— Неужели вы пришли через пещеру?! — все больше изумлялся Владислав.
— Да, да, самым прозаическим образом…
— Очень, очень рад! Будем знакомы. Владислав Кудрявцев. Как обрадуется отец! Как долго мы ждали этого момента! Значит, рукопись моя все же попала по назначению? Это ведь ее идея, Любы… Но что это с вами? Рука на перевязи…
«Он славный парень», — подумал Светлов, чувствуя расположение к новому знакомому.
— Это я его нечаянно ранила, — огорченно ответила девушка. — Иду из сада, вижу — Вещий волнуется, бросился вперед… кусты шевелятся… Я подумала, что это опять медведь… Ну и выстрелила наугад…
— Ах вот оно что! Нечего сказать — приветствовала гостя! И серьезная рана? Нет? Ну уж мы постараемся вас вылечить! А знакомство оригинальное! Хорошо, что все благополучно кончилось. Значит, дружба у вас будет крепкая.
«У нее в глазах играют золотые искорки, когда она улыбается», — подумал Светлов без всякой связи с разговором.
— Ну что ж, идемте в комнаты, — пригласил Владислав. — Нельзя же быть такими эгоистами, ведь даже папа еще ничего не знает! Эта встреча придаст ему силы, я думаю, — и он пояснил Светлову: — Отец у нас захандрил. Ослаб совсем, слег…
— Идемте, прошу вас, скорее! — торопила девушка.
Владислав понес ружье и вещи журналиста. Предшествуемые Любой, они направились к дому. Вот и крыльцо, утопающее в зелени.
— Папа! — крикнула девушка, вбегая по ступенькам. — Знаешь, кто у нас? Гость, и еще какой: первый гость с Большой земли!
Борис Михайлович оживился, повеселел. Полулежа в кресле, он поднял руку:
— Приветствую пришельца из-за каменных стен! — сказал он торжественно. — В лице вашем приветствую родину!
Девушка помчалась оповещать всех о чудесном происшествии. Торопливо шагая, сняв шляпу с головы, спешил с поля Ахмет. Вышла из комнат Марфуга и, застенчиво утирая концом платка текущие по щекам слезы, восхищенно разглядывала Светлова.
— Здравствуйте, здравствуйте, милые труженики! — приветствовал Светлов, обнимая их на радостях.
— Владислав, — сказал инженер, — принеси ту заветную бутылку, сбереженную для такого долгожданного случая! Поднимем бокалы за встречу, за свободу, за счастье…
Как обычно, осень приходила в долину сверху. Золотой ободок окрасил листву деревьев около каменного пояса гребня горы, опускаясь все ниже и ниже. Дно долины было еще в зелени, несмело пестрели поздние цветы. От этого долина стала еще прекрасней. Так хороши бывают пожилые люди, у которых годы посеребрят голову, а цвет лица сохраняет свежесть молодости.
Стояли теплые, солнечные дни сентябрьского «бабьего лета». Светлый шелк паутины выткал траву, плавно носился в воздухе. Несметная россыпь шиповника, широкие гроздья калины и рябины рдели, созревая. В низине, у озера и ручьев, гибкие ветви смородины никли к земле от тяжести черного бисера. Цепкие сплетения ежевики ревниво таили сизые сочные ягоды. Поздняя, нетронутая птицей и человеком черемуха блекла, начиная подсыхать. В дубовых рощах с мягким стуком падали отяжелевшие, спелые желуди.
Лениво — от сытости и покоя — крякали утки. Свистя крылом, пролетали стайки ожиревших вяхирей. В березняке токовали тетерева. На лугу козлята пробовали прочность молодых рогов. Царственно шествовали лоси. Прыжками-саженками мерил пространство заяц, готовящийся менять летнюю серую шубку на белый, одного цвета со снегом, мех. Поздние бабочки красовались ярким нарядом. Птичий мир вел сговор о дальних перелетах, о солнце и цветах юга.
Перед верандой белого дома ярко пестрел цветочный ковер. Пышные букеты украшали сервированный стол. Белый хлеб, нарезанный аккуратными ломтиками, вздымался грудочками на тарелках. В вазах сочились душистым, сладким янтарем соты липового меда, желтело сливочное масло. Пряно пахли соленые грибы, мелкие ядреные огурцы.
— А где Люба и Сергей Павлович? — спросил сына старый инженер.
Он выглядел бодро, в оправе белых волос лицо его выглядело моложаво. Спокойная радость, какая бывает у людей, оправившихся после болезни, светилась в его глазах, в каждой черточке лица. Борис Михайлович был в самом парадном, какое только нашлось, одеянии.
— Они пошли пройтись, папа. Люба так и сказала: пока подрумянятся пироги.
Повзрослев, Владислав изумительно походил на портрет отца в молодости. Такое же открытое, мужественное лицо, такой же прямой взгляд, такие же волнистые волосы.
— Пока подрумянятся пироги? — улыбнулся Борис Михайлович. — Ну-ну. Последние пироги нашей маленькой хозяйки в этом маленьком доме.
— Да, благодарение судьбе, кажется, последние…
Владислав положил книгу, встал, подошел к решетке веранды и осмотрелся кругом. Невдалеке, на лужайке, выстроились два тарантаса и четыре телеги, груженные сундуками, чемоданами, ребра которых скрадывались пологами. На задках тарантасов также приторочены были тючки и ящики.
— Пришел долгожданный день! А печаль разлуки все-таки касается сердца… — Борис Михайлович подавил вздох. — Так много пережито в этой долине! Вы здесь выросли, я — постарел…
— А как ты себя чувствуешь, папа?
— Сносно, вполне сносно, дружок.
— Меня беспокоит судьба остающегося скота и птицы, — озабоченно произнес Владислав. — Беспризорные, они одичают, если не погибнут.
— Кормами на зиму скот и птица обеспечены. Не забывай и про подножный корм.
— А что будет в следующую зиму? Через год, через два?
— А разве следующим летом мы не приедем сюда? Разве мы не укажем людям дорогу в Долину роз? Она всех встретит приветливо. Мы оставляем здесь жилье, скот, озимые посевы, запасы продовольствия, всю обстановку. Мы везем с собой лишь самое необходимое и дорогое для нас. Со временем в долине появится отличный поселок. Слыхал, что Ахмет Гареевич говорит? — Побываем, говорит, в городе, в своей деревне и обратно вернемся, с народом вернемся. А может быть здесь и правда когда-нибудь будет курорт?
— А вот и Сережа с Любой. Поторопитесь! Люба, кабы твои пироги не подгорели! — дружески улыбаясь, крикнул Владислав и глянул на вошедших.
Они шли рука об руку, девушка доверчиво опиралась на руку спутника, он бережно поддерживал ее. Выражение тихой радости так и светилось на их лицах.
Светлов был в своем походном костюме, носившем следы чьей-то старательной руки: он был чист и тщательно выглажен. Левую руку Светлов держал свободно, следов перевязки уже не было.
На пороге веранды они расстались. Девушка отправилась хозяйничать, а Светлов остался на веранде. Некоторое время царило молчание, но Владислав с отцом хитро переглядывались, предчувствуя, что предстоит серьезный разговор.
— Прежде чем покинуть эту долину, где я встретил такое гостеприимство, хотелось бы поделиться с вами… — начал Светлов, и по голосу и лицу его видно было, что он страшно волнуется.
— Мы вас слушаем, дорогой, — ответил Борис Михайлович.
— По личному, как говорят, вопросу…
— С тем большим вниманием слушаем.
— Право, не знаю, с чего начать… Ну, в общем, дело вот в чем. За пределами гор вы увидите новую жизнь, новых людей… Порой вам нелегко будет понять это новое, знакомое лишь по радиопередачам да по моим отрывочным рассказам… На правах вашего первого знакомого и друга я хотел бы быть вам полезным… Нет, что-то я не то говорю…
— Горячо благодарю, — протянул руку инженер.
— Тут и благодарить не надо. Понимаете, мне хотелось бы быть к вам ближе, вместе… возможно ближе…
— Это можно только приветствовать.
— За месяц, который пролетел так быстро, я очень привык к вам, почувствовал себя как бы членом вашей дружной, хорошей семьи. И притом…
Видя смущение Светлова, Борис Михайлович одобрил его:
— И мы привыкли к вам, как к родному!
— У меня нет брата, и вы вместо него в сердце моем! — горячо поддержал отца Владислав, с непривычки выражаясь несколько книжно.
— Спасибо. У меня был разговор и с Любой… с Любовью Борисовной… Ей особенно необходима будет некоторая помощь… Одним словом… — Светлов, волнуясь, встал с кресла, — я прошу у вас руки дочери…
В эту минуту в дверях появилась девушка с блюдом в руках — с подрумяненным, горячим, душистым пирогом. За ней вышла Мар-фуга с посудой. Подошел из кладовки и Ахмет, неся в руках жбан с медовкой.
Девушка поставила блюдо на стол:
— Вот и пирог из сома! Прошу!
Но заметив смущение Светлова, она умолкла, тоже смущенная.
— Люба, — обратился к ней отец, — Сергей Павлович имел разговор, касающийся тебя.
Лицо девушки вспыхнуло так ярко, что глаза ее заискрились слезами. Одну минуту она стояла растерянная, затем бросилась к отцу и спрятала пылающее лицо у него на груди.
Отец, лаская дочь, заглянул ей в глаза:
— Так как же, Люба?
— Я согласна, он знает…
Отец поцеловал дочь и обратился к Светлову:
— Воля дочери в этом вопросе решает все. От себя скажу: я рад… Я верю, что вы сделаете все для счастья моей дочери.
Инженер встал и соединил руки Любы и Сергея:
— По старому обычаю — благословляю. Будьте счастливы для себя, для нас, для людей!
Владислав подошел к сестре, поцеловал ее, затем горячо обнял Светлова:
— Вот это вы ловко! В недрах гор, можно сказать, выискали… Рад за сестру… Желаю счастья… Признайтесь, и я со своей тетрадью сыграл тут некоторую роль?
Обедали не спеша. А затем дружно, сообща завершили укладку и обошли все владения новых робинзонов, все любимые уголки Владислава и Любы.
Спать улеглись пораньше. Владиславу и Светлову постлали постели на веранде. Оба добросовестно старались уснуть, но вместо того начали шепотом, чтобы никого не разбудить, переговариваться. Владислав все расспрашивал о жизни там, за гранитными стенами Круглой горы. Светлов, в свою очередь, интересовался всеми подробностями жизни невольных затворников. И как-то выходило у него так, что неизменно разговор сводился на Любу. Владислав охотно и весьма подробно рассказывал о сестре, припоминая различные мелочи из ее детской и взрослой жизни.
На рассвете тронулись в путь. Светлов совсем уже освоился и наравне со всеми хлопотал, увязывал, понукал лошадей, выбирал дорогу, поминутно обращаясь к Любе то с вопросами, то с рассказами. Борис Михайлович был задумчив и молчалив. Ахмет и Марфуга — те были необычайно встревожены и все оглядывались назад.
— Такое хозяйство! — вздыхал Ахмет. — И бросить без призора! Нет уж, вы как хотите, а я только провожу вас до города, а потом мы с Марфугой сразу же обратно. Разве можно оставлять без ухода животных? Нельзя это делать! А землякам мы письмо пошлем, пускай приезжают.
— А мне так наша долина стала совсем родной, — вторила ему Марфуга. — Теперь это моя родина, никогда я с этими местами не расстанусь. Тут каждая грядка мной разделана, каждый кустик полит.
— Поезжайте, поезжайте, — одобрил их Борис Михайлович. — Все там создано вашим трудом, владейте всем по праву. А мы будем вас навещать. У нас в этих краях еще много работы будет.
Обоз двигался довольно медленно. А вокруг была такая дивная нетронутая природа, такая первозданная красота!
Благополучно миновали пещеру. Дальше пошли ущелья, утесы и нескончаемые глухие леса. Одно время дорога шла в гору, и приходилось порой помогать лошадям. Но вот добрались до самой высокой точки, до горного перевала. Здесь решили сделать остановку, лошадей выпрячь, напоить и накормить, самим подкрепиться. Вскоре заполыхал костер, появились ведра с ключевой водой… Люба и Марфуга разостлали ковры и скатерти, мужчины доставали провизию, таскали из леса хворост… Воздух был чист и прозрачен. Стояла тишина. Только уставшие кони громко отфыркивались и тяжело поводили вспотевшими боками.
С гребня перевала развернулась неохватная панорама. На западе, заслоняя друг друга, громоздились горные кряжи и вершины, одетые в леса и скалы. На востоке, за более низкими перевалами гор, расстилались бескрайние поля и степи. Все невольно засмотрелись на открывшуюся ширь, очарованные и взволнованные.
— Какой простор! — первой прошептала Люба, словно боясь нарушить тишину.
— Во-он там, в той стороне, — показал Светлов, — стоит геологическая экспедиция, там я и услышал от Борового о Круглой горе… Помните, я вам рассказывал эту легенду? Если бы не она, как знать, чем бы все кончилось… При первой же возможности извещу их о своих приключениях!
Владислав поднес к глазам бинокль:
— Мы слишком высоко и далеко, чтобы видеть все невооруженным глазом, но в бинокль я вижу прямо перед собой реку и возле нее — громады заводских труб, многоэтажные дома… Что это, город?
— Железногорск, — ответил Светлов. — Первенец Большого Урала, завод, не имеющий равных себе в мире. Завод — богатырь и новый город. Заложен шесть лет назад в девственной степи предгорий.
— Молодцы! — воскликнул Борис Михайлович, до сих пор молчавший, так как потрясен был, кажется, больше всех, потрясен всем путешествием, как бы возвращением в прошлое. Он отнял у сына бинокль и стал разглядывать далекие силуэты города. — А ведь когда еще я писал о богатствах этого района! Вот и осуществилось!..
Борис Михайлович передал бинокль Любе, видя, что она сгорает от любопытства.
— Да, да, город! А поближе к нам? Какие-то белые домики, их видно даже и без бинокля, — сказала Люба, — и какие-то круглые башни, приземистые корпуса… А кругом поля, поля… черные, зеленые, желтые…
— Это, Люба, совхоз, хлебный город в степи, — пояснил Светлов, — с мастерскими, силосными башнями, складами. Вокруг него убранные поля, зеленеющие озими и поднятая зябь.
— А вдалеке, — снова перехватил бинокль и продолжал обследовать окрестности Владислав, — вон за тем озером — тоже вроде бы город. И множество каких-то построек… Целый лес…
— Город нефти, жидкого золота. Центр Уральского Баку. Пять лет назад, в пустынной еще тогда равнине, заработала первая буровая. Через три года по новой железной дороге и нефтепроводу хлынули потоки нефти…
— Получается, — медленно произнес инженер Кудрявцев, — что мы возвращаемся в совершенно новую страну…
Солнце освещало и горы, и степь, всю недавно ожившую равнину. По невидимым черточкам железных дорог неслись паровозы с длинными хвостами поездных составов. Пылили по дорогам автомобили. По пашне, блестя металлом, гуськом тянулись тракторы, и желтое поле по следам их жирно чернело. В небе, выше вершин гор, парили орлы. Грустно перекликаясь, тянулись к югу стаи гусей и журавлей.
Они стояли, как в храме, с непокрытыми, обнаженными головами. Владислав поднял руку:
— Здравствуй, родина!
Внизу, в долине, среди скал отозвалось гулкое, раскатистое эхо:
— Здравствуй!
Примечания
1
Курай — башкирский музыкальный инструмент.
(обратно)2
Шайтан — черт.
(обратно)3
Курайсы — музыкант, играющий на курае.
(обратно)4
Сабантуй — праздник плуга, национальный башкирский весенний праздник.
(обратно)5
Намаз — молитва.
(обратно)6
Поедем, дед, на кочевки.
(обратно)7
Юк — нет.
(обратно)8
Нет. Не понимаю.
(обратно)9
Зиин народное собрание.
(обратно)


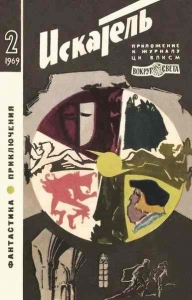




Комментарии к книге «Долина роз», Иван Петрович Недолин
Всего 0 комментариев