Михаил Зуев-Ордынец ЖЕЛТЫЙ ТАЙФУН Повесть и рассказы
ЖЕЛТЫЙ ТАЙФУН Повесть
1. По разные стороны окна
Стол стоял рядом с окном. Поэтому человеку, вошедшему в комнату с зажженной лампой, пришлось подойти близко к окну.
Вложив лампу в проволочное гнездо, он взял со стола длинный плоский хлебец и отрезал от него большой ломоть. Затем из широкогорлого горшка вытащил ножом кусок вареной баранины и начал есть, не снимая мяса с ножа.
Другой человек, стоявший по другую сторону окна, на улице, тихо застонал. Не сводя горящего взгляда с хлеба и мяса, судорожно вцепился в раму руками. С трудом проглотил тягучую голодную слюну и в изнеможении прислонился к стене.
Не замечая горящих голодом глаз за окном, человек в комнате ел не спеша, наслаждаясь. Вцепившись зубами в баранину, закрыв от удовольствия глаза, он отрывал мясо маленькими кусочками и жевал его медленно-медленно. Когда с бараниной было покончено, он вытер нож, стряхнул с колен хлебные крошки и, держа лампу впереди себя, удалился куда-то вглубь дома, притворив за собой дверь.
В комнате снова стало темно. Лишь через щель от неплотно притворенной двери лег на пол луч света, тонкий и длинный.
Человек на улице тоже отошел от окна. Качаясь, сделал несколько шагов и тяжело опустился на кучу маисовой соломы. Уперся подбородком в ладони и исподлобья взглянул на дом.
Деревянный, из гладко обструганных досок крытый красной черепицей, дом резко выделялся из всех остальных хижин деревни, бамбуковых, обмазанных глиной, с соломенными крышами. Рядом с домом щупала небо высокой ступенчатой крышей деревенская пагода[1].
Губы человека зашевелились.
— О, Тао-Пангу, о, брат мой, — зашептал он. — Если я попрошу у тебя пить, ты напоишь меня ядом змеи; если я попрошу есть, ты отведешь меня к белым дьяволам, которые накормят меня свинцом. Это так…
Он бессильно опустил голову. Но тотчас решительно вскинул ее. Поднялся и, подойдя снова к окну, всматриваясь, прижался лицом к стеклу.
В комнате было по-прежнему темно. Даже луч на полу теперь исчез. Видимо, в соседней комнате погасили лампу или плотнее притворили дверь.
Человек вытащил из-за пояса длинный и тонкий, как шило, нож. Всунул его под нижний край рамы окна и нажал на ручку. Рама тихо треснула. Человек вздрогнул и огляделся по сторонам. Затем снова нажал на ручку. Створки окна бесшумно распахнулись.
Человек перекинул одну ногу в комнату и, сидя верхом на подоконнике, наклонил вперед голову, вслушиваясь и всматриваясь. Мертвая тишина и темнота комнаты успокоили его. Он перекинул через подоконник вторую ногу и встал на пол. Крадучись, шагнул вперед и… зажмурил глаза от яркого света.
В широко распахнувшихся дверях соседней комнаты стоял человек. В левой руке он держал высоко над головой лампу, правая сжимала весело поблескивавший никелем револьвер.
— Зачем ты попал сюда, вор, собака?.. — крикнул человек с револьвером.
Человек с улицы опустил голову:
— Я хотел взять только хлеба. Я голоден. Я не ел четыре дня.
— Так говорят все воры. Брось нож!
Человек с улицы бросил нож на пол и поднял голову.
Лампа вздрогнула и чуть не вывалилась из державшей ее руки.
— Кай-Пангу! Брат мой!..
— Да, я Кай-Пангу, твой брат.
2. Лицом к лицу
Два человека, полчаса тому назад стоявшие по разные стороны окна, теперь стояли друг против друга.
С первого же взгляда можно было понять, что это — братья-близнецы. Оба были высоки ростом, с бледно-шоколадным цветом кожи, тонки в талиях и широки в плечах. У каждого была большая голова, длинные прямые волосы, орлиный с горбинкой нос и глаза с чуть косым узким прорезом. Даже родинка, похожая на ущербленную луну, была у обоих братьев в левом уголке рта. И, если бы не разница в одежде, нельзя было бы отличить одного брата от другого.
На Тао-Пангу была белая чесучевая пижама, надетая прямо на голое тело, и такие же брюки. На Кай-Пангу был лишь кусок грязной материи, обернутый вокруг бедер и завязанный концами между ног, в виде короткой юбки.
Но Тао-Пангу, кроме одежды, отличался от брата еще более бледным, каким-то сероватым цветом лица. Такую мутную бледность накладывает на лица лишь опиум.
— Как ты попал сюда? — спросил хмуро Тао-Пангу.
— Меня преследуют белые… полиция. Я скрываюсь… Я четыре дня не ел ничего, кроме сухих зерен маиса…
И, глядя в упор на брата сузившимися от света зрачками, Кай-Пангу спросил:
— Что ты теперь сделаешь со мной?
Тао-Пангу поставил лампу на стол и сел на низкий плетеный стул, держа револьвер на уровне груди брата.
— Я отведу тебя в Сайгон, к префекту французов.
— Зачем?
Тао-Пангу улыбнулся холодно, одними губами:
— Брат мой, разве ты ребенок? Ты ведь — Кай-Пангу, вождь «лесных братьев».
Кай-Пангу вскинул голову.
— Да!
— И ты перебил эскадрон французских улан, посланных губернатором наказывать взбунтовавшуюся деревню Фен-Ча-Жу?
— Да! Я! — послышался гордый ответ.
— Кроме того ты поджег портовые пакгаузы французов в Сайгоне?
— Тоже я!
— А разве не ты сжег уже созревшие посевы маиса и индиго на плантациях французского губернатора Ляберка?
— И это я!
— Попробуй солгать, что не твоя шайка разгромила летнюю резиденцию мандарина-советника, светлейшего Вун-Ньямо-Чжи.
— Да! И мы жалеем лишь об одном: что не смогли повесить и самого мандарина, эту кровавую собаку! Он успел бежать в Сайгон.
— А потому французы назначили за твою голову награду в пять тысяч золотых пагод[2], и я хочу получить это золото.
— Но зачем оно тебе, брат мой? Ты живешь один, у тебя нет жены и детей, тебе хватает с излишком на хлеб, мясо и даже — я вижу по твоему лицу — на опиум.
— Золото никогда не бывает лишним, — нехотя ответил Тао-Пангу, воровато пряча глаза от пристального взгляда брата.
— Но ведь я же брат твой, — сказал просто и искренно Кай-Пангу.
— Ты не брат мне более! — взвизгнул Тао-Пангу, и никель револьвера, вздрогнув, заиграл невинными зайчиками на потолке. — Благодаря твоим разбоям французы хотели лишить меня должности здешнего судьи. Будь ты проклят, и пусть священная дощечка над алтарем предков запятнается твоим позором, лесной вор и разбойник!
Кай-Пангу горько рассмеялся:
— Я вижу, что белые купили моего брата за пост деревенского судьи. За сколько же ты продался, брат мой?
Тао-Пангу оскорбленно дернул губой. Но на этот раз сдержался. Ответил спокойно:
— И ты мог бы быть тем же, чем я.
— О, нет, брат мой! Жить подачками белых. Никогда!
Тао-Пангу раздраженно выплюнул пережеванный бетель, окровавив губы, и, оскорбительно подчеркивая каждое слово, сказал:
— Ты заговорил так только с того дня, когда французский офицер избил тебя хлыстом, как бродячую собаку.
— О, нет! Это только окончательно толкнуло меня на путь, по которому я сейчас иду. Неужели ты не видишь и не слышишь, как стонут под пятой белых пришельцев все наши братья?.. Стонет Бирма, Кохинхина, стонут Аннам и Тонкин. Стонет вся наша земля, от Иравади до Меконга, от истоков великого Ян-Цзе-Кианга до Малакки. А ты продаешь братьев за кусок мяса и трубку опиума.
— Молчи, вор! — угрожающе сверкнул белками глаз Тао-Пангу.
— И когда там, на улице, голодный, я смотрел на тебя, как ты ел, я понял, что мы с тобой стоим по разные стороны окна. И нам никогда не сойтись. У тебя окна, как в домах белых господ, со стеклами, и этими стеклами ты навсегда отгородился от своего народа.
— А ты хочешь спасти его от гнева белых? — презрительно улыбнулся Тао-Пангу.
— Да, мы, «лесные братья», освободим наш народ! К нам бегут все, кого давит каблук белых: бирманцы, тонкинцы, аннамиты, даже дикие мои, ка, лаосы с горных высот, таи из центральных провинций полуострова, саманги из Малакки, каренна с низовьев Сальвены и катьини с верховьев Иравади… О, мой брат, блеск золота белых ослепил твои глаза, иначе бы ты увидел, что наша страна умирает от голода, деревни пустеют, поля заброшены, скелетами стоят засохшие чайные кусты, а тутовые деревья давно срублены на корм скоту. Кучка белых пауками присосалась к нашей стране и душит ее безжалостно…
— А кто же будет править страной, когда вы прогоните белых? Как в старину — король и мандарины?
— Га! Это значило бы, убив одну змею, посадить народу за пазуху другую. Нет! Страной будут управлять те, кто имеет на это право! Рабочие из городов, крестьяне, дроворубы, пастухи и рыбаки.
— Ты глупец! Такого порядка нет ни в одной стране!
— Таков порядок в далекой суровой стране снегов. Их научил этому великий вождь, освободивший страну снегов от мандаринов. И он уничтожит мандаринов во всем мире!
Тао-Пангу поднялся. Лицо его дергалось и кривилось в конвульсиях бешеного гнева и темного ужаса.
— Ты безумный! Ты обезумевший буйвол, и я должен спасти от твоего бешенства невинных людей! Ты пойдешь со мной в Сайгон!
— Я пойду в Сайгон, но не с кандалами на руках, а во главе моих «лесных братьев».
— Тогда я убью тебя и отнесу твою голову префекту!
— Нет, собака белых!..
Лампа, сброшенная со стола, молнией мелькнула в воздухе, ударилась об стену и, разбившись вдребезги, потухла. В темноте грохнул револьверный выстрел, другой. Затем послышалось падение на пол чего-то тяжелого, сдавленная брань… тихий умоляющий стон… хрипение. И все смолкло…
Из раскрытого окна на улицу потянулся кислый пороховой дым.
3. Грошовая голова
Сразу, словно сдернутое покрывало, пропала ночь. Заголубели нежно дали, и золотом расцвел восток.
Медные звуки гонга разбудили деревню. Пагода звала на утреннюю молитву.
Собравшись трусливо в кучки и перешептываясь, крестьяне с любопытством таращили глаза на судью, тщательно запиравшего двери своего дома. Он, видимо, собрался в дальний путь. За плечами — дорожная сумка на боку, в парусиновом кобуре револьвер. В руках судья держал небольшой круглый сверток.
Проходя деревней, судья, не отвечая на низкие поклоны крестьян, отворачивался в сторону, укрывая лицо под широкими полями соломенной шляпы.
Крестьяне проводили его удивленными взглядами.
Тропинка зазмеилась между посевами маиса и индиго, прильнула к сайгонскому шоссе. Под ногами путника заскрипел гравий…
Лучи встававшего солнца кровью окрасили мутные волны Меконга. А вдали, в пыльной дымке, уже раскинулся Сайгон.
По камням шоссе звонко зацокали лошадиные копыта. Судья поднял голову. Навстречу ему, поскрипывая седлом, шагом подъезжал полицейский сержант.
Вздрогнув, судья остановился и нерешительно шагнул назад. Но быстро оправился и замер на месте. Лишь для чего-то открыл револьверный кобур и смерил взглядом расстояние до ближайшего леса.
Осадив заплясавшую лошадь и перегнувшись в седле, сержант крикнул:
— Приятель, эй! Что несешь?
Из-под широких полей шляпы донеслось спокойное:
— Голову разбойника Кай-Пангу к префекту.
Сержант с трудом перевел дыхание.
— Ты врешь, каналья!
— Посмотри сам.
Дрожащими руками сержант развернул сверток и увидел голову. Мертвые, широко открытые глаза тускло блеснули на солнце.
— Боже мой, он, он! Вот и родинка в виде полумесяца. Где ты ее… где ты его?..
Закрывая старательно, как бы от солнца, лицо полями шляпы, судья ответил:
— Я крестьянин из Гуан-Ши. Я убил его на своем поле, он от голода ел колосья маиса.
— Славный подарок префекту! — хихикнул сержант.
Засунув мертвую голову в седельную кобуру, он повернул лошадь к Сайгону.
— Прощай, приятель!
— Но…
— Чего тебе еще?
— Я бы сам хотел получить обещанную за эту голову награду. Пять тысяч золотых пагод.
— Ты просто дурак! Хватит с тебя и этого. Лови!
Блеснули высоко в воздухе и плевками легли на шоссе два никелевых кванга. Сержант пришпорил коня и поскакал, взвихривая за собой красноватую пыль.
Человек в широкополой шляпе долго смотрел ему вслед. Потом перевел взгляд на монеты. Не дотрагиваясь до них руками, носком ноги засыпал их песком — и вдруг ловким упругим броском перекинулся через придорожную канаву и исчез в кустах.
4. Префект получат подарок
Префект Геляр всплеснул руками:
— Он, он! Нет сомнения! Боже, как доволен будет губернатор.
Хлопнул себя ласково по лысине и, обращаясь к самому себе, воскликнул:
— Ну, толстячок, крест Почетного легиона тебе обеспечен!
Лейтенант Денойе, стоявший за спиной префекта, удивленно вскрикнул:
— А от кого эта записка?
— Какая записка? — округлил от удивления глаза префект.
Из стиснутого мертвого рта лейтенант выдернул клочок бумаги и протянул его Геляру.
Префект читал медленно. Сначала лицо его выразило недоумение. Но вдруг он побледнел, как полотно, и тяжелым мешком рухнул в кресло.
Бумажка тихо скользнула на пол. Лейтенант поднял ее и прочел:
«Тебе, префект, в подарок посылаю я голову твоего верного слуги, судьи Тао-Пангу из Гуан-Ши. Он был моим родным братом и все же хотел предать меня. Ты своим золотом сделал из него верную собаку белых. Но скоро я доберусь и до твоей головы. Берегись ветра с севера.
„Лесной брат“ Кай-Пангу».
Лейтенант Денойе задумчиво потер переносицу:
— Да! Если и полетят листья на нашу крышу, то лишь благодаря северному ветру.
— Что?.. — прохрипел ничего не понимающий префект.
— Я говорю, всему этому виной северный ветер! — отрубил лейтенант.
И оба зябко передернули плечами под мокрыми от пота кителями, словно уже почувствовали приближение далекого северного шквала…
5. Пороховая бочка
Шолон — это еще не Сайгон, хотя он имеет с гордой столицей Кохинхины общий муниципалитет[3]. Шолон — это только еще туземное предместье, а сам Сайгон, город европейцев, мандаринов и богачей, брезгливо отодвинулся на 7 километров южнее. Железная дорога соединяет Сайгон с его предместьем. Хилые паровозики таскают с трудом вереницу грязных вагонов, набитых, как банка икрой, туземцами, так как европейцы не признают иных способов передвижения, кроме автомобилей.
В Шолоне нет богатых дворцов и кокетливых коттеджей. Здесь ютится туземная беднота — аннамиты, китайцы, индусы и малайцы, рабочие сайгонских фабрик, рисовых мельниц, портовые кули, рыбаки и матросы. Кривые улицы и переулки Шолона, пахнущие илом, рассолом и опиумом, не могут похвастаться чистотой и красотой своих зданий. Хибарки бедноты выстроились угрюмо в ряд, перемешавшись с лавчонками, пагодами и кабаками. Вертикальные вывески с таинственными буквами, похожие на ребусы, кричат о том, что здесь живет мебельщик, тут — старьевщик, там— харчевня, рядом — лавка гробовщика, а напротив— шумный кабак.
Вечером освещены бывают только кабаки. Опоясавшись двойным, тройным ожерельем огромных круглых фонарей из рыбьих пузырей, кабаки бросают щедрыми горстями в настороженную тишину южной ночи хриплые крики пьяных, удары цимбалов, треск барабанов и монотонное жужжание китайских флейт. А вблизи, под деревьями, под воротами, лежат рядами кули. Они переплелись ногами, укрылись лохмотьями и крепко спят, ожидая портового гудка, который разбудит их для нового дня нечеловеческого труда.
Рядом с хибарками и кабаками Шолона раскинулся другой город, подобный которому нельзя найти нигде на земном шаре. Это водяной Шолон. В бесчисленных заливах и на каналах столько джонок и лодок, что с одного берега на другой можно перебраться легко, как по крепкому мосту. Днем — это речные и морские суда, а ночью — плавучие дома, второй таинственный город на грязной воде каналов. С джонок несется писк ребят, хрюканье свиней, крики домашней птицы. Здесь, на судне, все хозяйство. А по берегам растянуты для просушки на бамбуковых рамах рыбацкие сети.
Шолон ненавидит Сайгон жгучей, непримиримей ненавистью. Недаром длинные морды орудий Сайгонской цитадели всегда повернуты в сторону Шолона. И, если европеец не из бедноты, не из рабочих, не из матросов, которые чувствуют себя здесь как дома, а из купцов, фабрикантов, банкиров или даже чиновников, то лучше ему не задерживаться вечером в предместьи. Он может сгинуть, исчезнуть бесследно, и даже трупа его не найдет сайгонская полиция.
Таков Шолон — ненавидящий богачей и европейцев, бочка пороха, ждущая только искры, чтобы загрохотать ужасным взрывом мятежа и восстания…
6. Те, кто бросит искру
Таверна «Глаз дракона» приютилась на самом краю Шолонской набережной. В непогодливые дни, когда свирепый тайфун, вырвавшись с морского простора, припадает к земле, а река Сайгон катит мутные волны стадом перепуганных баранов, в таверне особенно уютно. Река с ревом бьется о гранит набережной, брызги волн долетают до самой таверны и хлещут раздраженно в ее низкие окна. Моряки любят за это таверну. Под всплески волн, под вой непогоды особенно приятно чувствовать под ногами твердую землю, а кувшин с крепким вином кажется в эти часы особенно милым и желанным.
«Глаз дракона» мог угодить любому вкусу: какую бы географическую точку ни назвал своей родиной гость таверны, он находил здесь свое родное кушанье и свой родной напиток.
Здесь можно было найти все, начиная от шотландского джина и французского коньяка, до итальянской граппы (вишневки) и японской сакэ. Здесь можно было услышать все наречия — от певучего, в нос, французского прононса до жестких, лающих английских слогов; от горловых, словно клекот коршуна, выкриков малайцев до сюсюканья китайца…
Сегодня в таверне особенно шумно и людно. Цинковые столы облеплены посетителями. Здесь и ловцы жемчуга и портовые грузчики, цветные и белые, городские нищие, моряки с пришедших в порт кораблей, моряки без кораблей, шулера и авантюристы, чей нос за тысячу миль слышит запах плохо лежащего золота. Опоражниваются кувшины, бутыли. Игроки склонились над костями и картами, играют в домино, покер, «фонтан» — любимую игру китайцев — и самый зверский, хищнический штосс.
Жарко. Душно. Накурено. Серые тенета табачного дыма разостлались густо по залу. Кажется, брось в воздух доллар, и он не упадет на пол, запутается, повиснет в этих дымных сетях. Два бумажных фонаря— единственное освещение зала — мерцают тускло и мутно, как глаза больного. Надрывается граммофон и покрывает крики толпы звуками расхлябанных фокстротов и чарльстонов.
А над прилавком, уставленным разноцветными бутылками и красными глиняными, с черным рисунком, кувшинами, как изваяние идола, возвышается фигура самого Че-Чу, владельца таверны. Лицо его неподвижно, как маска, и загадочно, как иероглиф.
Недалеко от входных дверей таверны, за лакированной деревянной ширмой, сидел европеец. Белый морской картуз и полосатая тельняшка, выглядывавшая из-под коротенького пиджака, делали его похожим на матроса европейского судна. На столе перед ним одиноко стоял непочатый стакан виски, и лежала раскрытая записная книжка.
Европеец задумчиво почесал переносицу карандашом и застрочил быстро по-французски:
«…Надо только научиться смотреть, и тогда увидишь другую Азию: не экзотическую гравюру, созданную из красного лака, черепиц крытых лазурью, дремлющих вод и цветущих плумерий, а Азию колоний, порабощенных туземцев, дикой эксплуатации и беззастенчивого грабежа империалистов…».
Страница кончилась. Карандаш устало лег поперек книжки. Европеец отхлебнул из стакана и отправил в рот маленький соленый сандвич. Жевал медленно, уставившись отсутствующим взором в одну точку. И вдруг обернулся быстро. Где-то рядом раздался испуганный, но тихий вскрик:
— Кай-Пангу, ты не с ума ли сошел?
Европеец прильнул к деревянному кружеву ширмы, вглядываясь в людей, сидевших за соседним столом. Их было двое. Около стола, вытянувшись во весь свой богатырский рост, стоял туземец. Кожа его была светло-шоколадного цвета. Большая голова гордо и чуть надменно откинута назад. Лицо его было из тех, которое, раз увидав, никогда уже не забудешь. Линия тонкого носа почти продолжала в профиль отвесную линию широкого, могучего лба. Глаза его все время щурились, что придавало легкую презрительность и пытливую пристальность их взгляду. Но крупная родинка, похожая на ущербленную луну, в левом уголке рта примешивала к общему выражению лица какую-то детскую ясность и простоту. Он был почти наг, если не считать полотняной повязки вокруг бедер. Видимо, отсутствие карманов и вынудило его воткнуть в длинные жесткие волосы деревянную трубку с медной головкой.
Вскрикнувший человек сидел, испуганно откинувшись на спинку стула.
Это был уже пожилой, низенький и сухощавый мужчина, одетый в просторный темно-синий костюм, какие носят северные китайцы. Из-под широких рукавов выглядывали огромные рабочие руки. Кожа его- цвета бронзы, но бронзы только что вычищенной, блестящей, как золото, казалось, имела какой-то внутренний свет. Узко и косо прорезанные глаза, как бы подтянутые ниткой к вискам, и концентрические морщины вокруг рта и глаз придавали всему лицу выражение тончайшего лукавства и хитрости.
— Чего испугался ты, Ляо-Ху? — усмехнулся гигант.
— За себя Ляо-Ху никогда не боялся, — ответил сидевший — иначе я не был бы достоин своего прозвища[4]. Я боюсь за тебя, Кай-Пангу… Ты же ведь читал это, — хлопнул он по газете, лежавшей на столе.
— Читал, — ответил спокойно Кай-Пангу. — Но сегодня им меня не схватить, а завтра будет уже поздно.
Европеец, следивший сквозь ширму за всей этой сценой, выдернул из кармана номер «Аннамитского голоса». На первой же странице крупным шрифтом кричал заголовок:
НАГРАДА ЗА ПОИМКУ КАЙ-ПАНГУ УДВОЕНА.
10.000 ЗОЛОТЫХ ПАГОД
ЗА ГОЛОВУ ЭТОГО БАНДИТА И БРАТОУБИЙЦЫ
Поглядел внимательно на портрет, оттиснутый под заголовком, и перевел взгляд на гиганта. Вздрогнул: одно и то же лицо.
— Слушай, бой, — повернулся европеец к мальчику, отгонявшему от него мух истрепанным пучком перьев — поди Скажи, чтобы дали сюда еще виски, на одного. А сам не возвращайся. Мухи меня не беспокоят.
Лишь скрылась фигурка боя в людском месиве таверны, европеец снова осторожно прильнул глазами к сквозной резьбе ширмы.
— Но все-таки это неосторожно, — продолжал Ляо-Ху. — Я думал, ты пришлешь кого-нибудь вместо себя. Смотри, мне кажется, Че-Чу уже забеспокоился, увидав тебя.
Белый оглянулся на стойку. Действительно, идолоподобный хозяин таверны уже завозился тревожно, и в свете фонаря, на маске его лица блеснули впадины глаз и рта.
— Пустяки! — небрежно отмахнулся Кай-Пангу. — Ты слишком подозрителен, друг мой.
— А правда, ты убил брата и прислал его голову префекту Геляру? — спросил с плохо скрытым любопытством Ляо-Ху.
Лицо Кай-Пангу потемнело:
— Это правда, — глухо ответил он. — Мой брат Тао-Пангу был судьей в Гуан-Ши, и он хотел предать меня властям. Но довольно о нем. Говори о деле, Ляо-Ху. Мои «лесные братья» идут сюда. Они двигаются вдоль полотна железной дороги Сайгон — Митхо[5]. «Лесные братья» близко. В одну ночь они могут подойти к заставам Сайгона. А вы готовы?
Ляо-Ху улыбнулся уверенно.
— Мы давно готовы. Утром будут ждать нашего сигнала рабочие сайгонских фабрик — хинных, спичечных, ликерных и мыловаренных. Кроме того нам на помощь двигаются уже отряды шахтеров из Гонгея и китайские рыбаки «песчаной пропасти» — Кат-Ба. Но главная наша надежда— это Шолон. Шолон гневен, он бурлит и клокочет ненавистью к европейцам и богачам. Одно твое слово, Кай-Пангу, — и Шолон, как волна, поднятая тайфуном, хлынет на улицы Сайгона.
Кай-Пангу гордо выпрямился:
— Шолон! Я так люблю его и так горжусь им. Шолон помнит заветы своего гостя, великого Суна[6]. Шолон первый поднимает мятеж! А как наша пропаганда среди сайгонского гарнизона?
Ляо-Ху недовольно вздохнул:
— Ты был прав, Кай-Пангу, а я, сознаюсь, ошибся. «Иностранный легион» состоит сплошь из европейцев. Кю-Нао сунулся было туда и поплатился за это головой. Но зато удачнее дело среди туземных войск. Аннамитский батальон боится открыто перейти на нашу сторону, но они дали клятву стрелять поверх наших голов. Не придется нам также бояться бронированных автомобилей. Рабочие военных гаражей — индусы— сегодня ночью бросят в бензиновые баки сахарный песок[7]. То-то удивятся белые дьяволы, когда увидят, что их чудовища отказываются двигаться.
Кай-Пангу, зажав ладони между коленями, заговорил, раскачиваясь в такт слов, сначала тихо, но чем дальше, тем сильнее и звучнее. Звенящий металлический тембр его голоса говорил о высшем нервном возбуждении.
— Завтра великий день! Завтра, в свободной стране холодного севера, бедняки будут праздновать годовщину своего освобождения от гнета мандаринов и богачей. И мы здесь отметим этот день. Мы назовем его днем «кох-бина»[8]. Завтра только враги наши не украсят свою грудь или голову этим цветком цвета крови. Как могучий тайфун, как северный шквал, бросятся батальоны предместья, роты рабочих, шахтеров, рыбаков, «накэ»[9] и «лесных братьев» на цитадели и дворцы Сайгона. И, если мы не победим завтра, — не страшно будет это поражение. Через год, через два, через десять лет победа все же останется за нами, ибо мы настойчивы и могучи, как тайфун!..
— Да, мы могучи, как тайфун! — прозвенел в ответ восторженный возглас.
Кай-Пангу и Ляо-Ху вскочили, как ужаленные. Перед ними стоял европеец в морской фуражке и полосатой матросской тельняшке.
7. Убийство в таверне
— Я слышал ваш разговор, — сказал он, — и я давно ищу встречи с тобой, Кай-Пангу.
Рука Ляо-Ху змеевидным движением скользнула в складки одежды. Европеец заметил этот жест.
— Погоди минуту, Ляо-Ху, — сказал он спокойно: — убить меня ты всегда успеешь. Выслушайте сначала, кто я. Меня зовут Ив Кутанзо. Как видите, я европеец и даже, сознаюсь, француз, то есть из тех чужеземцев, которые поработили вас. Но я принадлежу к партии, которую основал великий северный вождь, друг Сун-Ят-Сена. И я приехал сюда для того, чтобы разузнать всю правду о притеснениях туземцев и написать об этом в нашу газету «Юманите»[10]. Вы слышали о такой газете?
— О, да, мне читали ее! — с жаром вскрикнул Кай-Пангу. — Это хорошая газета, она говорит только правду, а не брызжет ядовитой слюной, как вот эта гадина, — указал он пальцем на валявшийся под столом «Аннамитский голос».
— А я — один из тех, которые пишут в «Юманите»! — сказал Кутанзо. — Я ее корреспондент.
Кай-Пангу улыбнулся доверчиво и протянул руку Кутанзо:
— Я верю тебе, брат. Ты наш!
Ляо-Ху, по-прежнему хмуривший брови недружелюбно и подозревающе, вдруг вздрогнул и с подавленным криком бросился к Кай-Пангу.
— Не верь, не верь ему, о вождь! Он лжет!
Он предаст тебя. Смотри! — протянул он руку по направлению входной двери таверны. Кутанзо посмотрел туда: в дверях замелькали зеленые пояса полицейских.
— Предатель! — бешено рванулся Ляо-Ху к французу.
— Стой! — загораживая своим телом корреспондента, крикнул повелительно Кай-Пангу. — Предатель не он, предатель — вот кто!
Палец Кай-Пангу уперся в Че-Чу, подававшего из-за стойки какие-то знаки полицейским. Заметив жест Кай-Пангу, китаец испуганно съежился и наклонился, намереваясь нырнуть за стойку. Но не успел. Кутанзо даже не уловил взглядом движения, которым Кай-Пангу выдернул из-за пояса длинный и тонкий, как шило, нож. Затем последовал быстрый, как молния, выпад темной руки. Летящий нож блеснул сталью над головами сидящих за столиками людей, как выплеснутая тонкая струя воды, и вонзился по рукоятку в горло Че-Чу. Китаец ухватился обеими руками за нож, выдернул его из горла и отбросил далеко в сторону. Кровь хлынула из раны темным потоком, марая белый чесучевый балахон китайца. Че-Чу пошатнулся и без крика, без стона рухнул ничком на стойку, опрокидывая и разбивая бутылки.
Зал испуганно ахнул. Полицейский комиссар выдернул из кобуры револьвер и двинулся решительно к Кай-Пангу. Толпа трусливо расступилась перед ним, освобождая дорогу.
В руке Ляо-Ху блеснул крошечный браунинг.
— Не надо! — шепнул ему Кутанзо. Я на минуту задержу полицейских, а вы в это время бегите.
И, сорвавшись с места, Кутанзо бросился прямо на полицейских. Искусно подражая неуверенным движениям пьяного, опрокинул стол под ноги полицейских. Не ожидавший этого, комиссар споткнулся и шлепнулся на пол. Барахтаясь среди осколков разбитых бутылок, закричал озлобленно:
— Стой! Стой, тебе говорят! Стрелять буду!
— К дьяволу! — ревел Кутанзо. — Мне некогда! Какие-то негодяи уперли мой велосипед. Я видел! Пустите! Я догоню их…
Расталкивая полицейских, сшиб одного из них с ног. Тот, падая, тяжестью своего тела свалил другого. От третьего Кутанзо сам получил крепкий удар по голове и, зашатавшись, тоже упал на двух еще не успевших встать полицейских. Уже лежа, Кутанзо дернул за ноги четвертого полицейского и свалил его в общую кучу.
Толпа, до сих пор лишь с жадным любопытством глядевшая на свалку, тоже бросилась в драку. Делая вид, что они хотят помочь полиции, посетители таверны еще более увеличили бестолковую толкотню.
Посреди зала образовалась гора барахтавшихся тел. Где-то, под кучей, хрипел придушенно комиссар. Выбившийся наверх, Кутанзо оседлал громадного полицейского и, махая кулаками, орал оглушительно:
— Мерзавцы! Как вы смеете задерживать меня, европейца, француза? Я префекту буду жаловаться!
А забытый всеми граммофон исходил французской шансонеткой:
Говорил тебе, Пипетта, Не ходи ты в лес гулять…В этот момент раздался звон разбитого стекла… и еще. Зал погрузился в темноту. Это Ляо-Ху метко брошенными табуретами сбил фонари.
Кутанзо выпрямился, стряхнул с себя чье-то тяжелое тело и рванулся к выходу. Нащупал в темноте цыновку, заменявшую дверь, откинул ее и выбежал на веранду. Минуя ступеньки, через перила веранды спрыгнул вниз. Упал в густую, колючую заросль розовых лавров и японской сирени. Вытирая кровь с расцарапанного лица, поднялся, оглядываясь. Увидел, что находится в маленьком садике. Не тратя времени на поиски калитки, перелез через бамбуковый забор и бросился бежать по тихой и темной улице. На углу остановился и прислушался. Таверна все еще гудела, как растревоженный улей, будоража тишину ночи криками, руганью, грохотом ломаемой мебели.
Вспомнив комиссара, барахтающегося среди черепков разбитых бутылок, Кутанзо расхохотался весело и озорно, по-мальчишески. И тотчас же затих, услышав прерывистое и тяжелое дыхание бегущих людей. Две темные фигуры надвинулись на него так неожиданно и быстро, что он успел лишь прижаться опасливо к стене дома. Но бежавшие, видимо, все же заметили его и остановились. Всмотревшись, Кутанзо узнал Кай-Пангу и Ляо-Ху;
— Вы убежали! — радостно вырвалось у француза.
Кай-Пангу нашел в темноте руку Кутанзо и молча, без слов, прижал ее крепко-крепко к своему сердцу. Эта молчаливая благодарность глубоко взволновала и растрогала Кутанзо. Не находя слов, чтобы как-нибудь ответить на это, француз повернулся вдруг к Ляо-Ху и сказал обидчиво:
— Вот! А ты мне не верил, Ляо-Ху!
— Прости меня, брат мой, — прошептал китаец: — но ведь я так боюсь за жизнь нашего вождя Кай-Пангу. А теперь я верю тебе, ты наш! Возьми от меня на память вот это.
Кутанзо почувствовал прикосновение к своей руке чего-то нежного и шелковистого.
— Что это? — удивился француз.
— Это «кох-бин», сделанный из шелка. Завтра на улицах Сайгона и Шолона нельзя будет показаться без этого цветка. Надень его. Завтра ты снова увидишь нас. Не спрашивай — когда и где. А теперь прощай, мы спешим.
Кутанзо не успел ответить. Кай-Пангу и Ляо-Ху нырнули в черный мешок ночи и пропали, словно растворились в темноте.
Сунув рассеянно шелковый цветок в карман пиджака, Кутанзо тоже свернул в маленький, извилистый переулок. Шел, задумавшись, опустив голову. На углу остановился, поднял глаза и не удержался от восхищенного крика.
Широкий канал, пересекавший улицу, был забит тесно лодками и джонками. Крики, мерные удары в ладоши и звуки флейт неслись оттуда. Мачты судов были украшены фонарями. И эти огни джонок, как сотни ночных огненных ненюфаров — красных, зеленых, желтых и голубых, — создавали феерические световые узоры.
— Прекрасная страна, — прошептал восторженно француз: — она должна быть свободной. И будет!..
8. День красного гиацинта
Свернув на Парижскую улицу, Кутанзо остановил мотоциклет и, подтащив его в тень бульварных платанов, прислонился устало к их могучим стволам.
Приближался полдень с его истомой и сонливостью.
«Где я найду Кай-Пангу и Ляо-Ху? — думал тоскливо француз. — Сегодня я должен быть около них. А когда же начнется восстание? Да и начнется ли? Непохоже что-то!..»
Действительно, Сайгон жил обычной своей жизнью. Неудержимым потоком текла улица. Поднимая красную кирпичную пыль, неслись авто. Озорным вскрикам их рожков отвечал тяжелый, нутряной рев буйволов, тащивших тяжести. Звонки трамваев словно передразнивали звонки продавцов супа. Рикши, обливаясь потом, старались перегнать велосипедистов. Нищий, с фиолетовым лицом прокаженного, сидя на краю тротуара, отвешивал поклоны перед крошечной пагодой. Все было — как всегда.
— Поеду в ресторан, выпью чего-нибудь холодненького, — решил Кутанзо и вышел из тени снова под ливень ослепительных лучей. Чтобы дать выход накопившемуся раздражению, пустил мотоциклет на полный газ… Взрывы в моторе слились в сплошной, стонущий рев. Мчался с быстротой ветра, не обращая внимания на предупреждающие знаки полицейских.
Около дворца генерал-губернатора обогнал роту туземных войск. Маленькие аннамитские стрелки, перебирая ногами, обутыми в легкие, плетеные из черного камыша, башмаки, бежали упругим гимнастическим бегом, не отставая от офицера, рысившего впереди на лошади.
Вид бегущих стрелков и, особенно, тревожная напряженность их лиц удивили Кутанзо. Подумал весело:
«А ведь похоже, что затевается — таки потасовка. Иначе, чего ради бегать им по жаре?..»
Обогнав стрелков, Кутанзо чуть не врезался в эскадрон конной жандармерии. Жандармы крупной полевой рысью неслись в том же направлении, что и стрелки.
— Быть драке, — уже с твердой уверенностью прошептал француз. — К черту ресторан, поеду домой! Может быть, там уже ждет меня весточка от Кай-Пангу…
Вильнул рулем, сворачивая в переулок, и тотчас же, испуганно вскрикнув, выключил мотор. Но было уже поздно. Навстречу ему несся голубой шарабан, с позолоченными колесами, обитый внутри жемчужно матовым шелком. Лошадь, перепугавшаяся шума мотоциклета, вставала на дыбы, била задом и, наконец, ударив концом оглобли о фонарный столб, опрокинула шарабан. Седок вылетел на мостовую и растянулся недвижимый на ее камнях. Кутанзо успел разглядеть лишь нездоровую, бледную и блестящую полноту лица, присущую людям, ведущим сидячий образ жизни, да лимонно-желтую тунику, которую носят только бонзы[11].
Как стальные опилки к магниту, слетелись к опрокинутому экипажу люди. С зарождающейся тревогой Кутанзо увидел, что здесь были только туземцы. Ни одного европейца не нашел он в толпе. Смерил глазами расстояние до мотоциклета и убедился, что пробраться к нему невозможно. Пестрая толпа сжала уже тесным, жаркодыщащим кольцом побледневшего Кутанзо и все еще лежащего на земле бонзу.
— Пустите! — произнес нетвердо француз.
Но живое кольцо не шелохнулось. Лишь сотни глаз под сдвинутыми в бесповоротной решимости бровями загорелись злым и торжествующим огоньком. Кутанзо понял и с тоской подумал: «Убьют! Какая глупая смерть…».
Высокий, худой старик, обвязанный по бедрам мохнатым полотенцем, выдвинулся из круга и подошел вплотную к французу. Скаля черные, подпиленные[12] зубы в злой, дергающейся гримасе, сказал, не скрывая угрозы:
— Долго вы, белые дьяволы, будете мучить нас. Ты оскорбил бонзу — и ты умрешь сейчас!
Кольцо сжималось все теснее и теснее…
— Попробую припугнуть их, — решил Кутунзо и сунул руку в карман, ища револьвер. Выдернул ее тотчас же, вспомнив, что револьвер в инструментальном ящике мотоциклета. Прижался к стене, ожидая первого удара.
Вдруг, словно по команде, кольцо разжалось и начало шириться, раздвигаться. Люди отступали задом, устремив глаза в одну точку. А там, где скрестились их взгляды, лежал на земле красный шелковый цветок, который Ляо-Ху вчера подарил французу. Кутанзо, ища револьвер, нечаянно выбросил его из кармана.
— Кох-бин! — загудела удивленно толпа. — У белого кох-бин!
Старик с подпиленными зубами снова подошел к Кутанзо.
— Где взял ты кох-бин? — спросил он, указывая на цветок.
— Мне подарили его Кай-Пангу и Ляо-Ху, — ответил француз — подарили за то, что я спас их вчера от полиции…
Старик от удивления растопырил пальцы и вдруг, обернувшись к толпе, крикнул что-то на незнакомом Кутанзо языке. И тотчас, словно стая мух от взмаха руки, разлетелась толпа.
— Иди с миром, брат. Я понял, что сегодня ты будешь на нашей стороне, — сказал ласково старик и, отвесив низкий поклон, тоже нырнул в соседний переулок.
Кутанзо поднял «кох-бин». С удивлением рассматривал этот цветок, спасший его от смерти…
Из — за угла вынырнула маленькая фигурка мальчика-китайчонка. Подбежав к французу, китайчонок крикнул, тяжело переводя дыхание.
— Господин, я давно ищу тебя. Бежим скорее…
— Куда? — удивился Кутанзо.
— Кай-Пангу и Ляо-Ху ждут тебя.
— А-а! — радостно вскрикнул француз. — А где они?
— Там, в роще «Пяти башен». Я покажу дорогу… Скорее!
— Садись, — показал Кутанзо на прицепную каретку.
Мотоцикл загудел мотором и, рванувшись как застоявшаяся лошадь, вылетел из переулка на широкую улицу.
9. Тайфун метет улицы Сайгона
Китайчонок махнул рукой прямо перед собой и, наклонившись к уху француза, крикнул:
— Вон роща «Пяти башен»! Они там!
Кутанзо увидел большой холм, похожий издали на лежащую женщину. На гребне холма, среди зелено-желтоватой листвы тутовой рощи, возвышались пять серых башен, пять чудесных, гордых тиар, украшенных волшебным каменным кружевом орнамента. Прямая, как стрела, аллея, усаженная кактусами и растрепанными метелками зонтичных растений, вела на вершину холма. Лишь только мотоцикл свернул на эту аллею, в уши Кутанзо больно ударил грохот орудийного выстрела. Китайчонок вскрикнул и, побледнев, уцепился испуганно ручонками за борт каретки. Не успело замолкнуть тяжелое, давящее эхо первого выстрела, как грохнул второй, третий, четвертый, а за ним лавиной обрушилась трескотня ружейных залпов.
«Началось, — подумал француз. — Тайфун уже метет улицы и площади столицы…»
Мотоцикл затормозил около большого каменного изваяния Сивы. Загадочное лицо идола нежно белело среди лиан, похожих на веревки повешенных. У подножия статуи виднелась небольшая кучка людей. Отдельно от всех, почти у края отвесного обрыва, которым кончался в этом месте холм, стоял Кай-Пангу. Сзади его вскарабкался на пень Ляо-Ху.
Увидав француза, Кай-Пангу подошел к нему и, протянув руку, сказал взволнованно:
— Благодарю тебя, брат мой! Ты не отказался быть с нами в этот тяжелый для нас день. Сегодня твое правдивое перо нужнее, чем десяток винтовок. Смотри внимательно, а затем расскажи всему миру все, что ты увидишь здесь сегодня.
Большие глаза Кай-Пангу были печальны и чуть тревожны.
Подойдя к Ляо-Ху, Кутанзо спросил тихо:
— Вождь чем-то обеспокоен? Это видно по его глазам…
Китаец подтянул строго губы:
— Да. Ты прав! Отряды гонгейских шахтеров и рыбаков Кат-ба задержались где-то в пути. Вождь уже послал начальникам этих отрядов ветки с привязанным к ним углем и птичьим пером…
— Зачем? Что это значит? — удивился Кутанзо.
— О, ты еще не знаешь наших обычаев, — ответил Ляо-Ху. — Это значит, что отряды должны идти так быстро, как если бы они ступали по горячим углям, и лететь как птицы, — закончил китаец, и насмешливые огоньки вспыхнули в глубине его зрачков. — Смотри, — показал Ляо-Ху вниз, на Сайгон — шолонская беднота уже дерется с угнетателями, и для нас дорога каждая винтовка…
С одного взгляда Кутанзо убедился, что лучшего места для руководства боем нельзя было найти. Роща «Пяти башен» была одной из высших точек Сайгона. Благодаря изумительной ясности воздуха, Кутанзо не понадобился даже бинокль. Простой, невооруженный глаз легко разбирался во всех деталях.
Центром города была большая овальная, мощеная известняком площадь. К ней сходились три главные улицы — Вееров, Жемчуга и улица Жофра. Все остальные, более мелкие, улицы и переулки вплетались в эти главные городские артерии. Кутанзо ясно видел на этих улицах баррикады повстанцев. Сооруженные наспех, из каких-то ящиков, спиленных телеграфных столбов, выломанных дверей, куч песку и мелкого щебня, баррикады были низки, и укрываться за ними можно было лишь лежа. Любая лошадь легко могла бы взять эти пустяковые баррикады.
Повстанцы рвались к центру города, к овальной площади, где были расположены дворец генерал-губернатора, телеграф и цитадель. Овладеть площадью, а главное цитаделью, означало овладеть всем городом. Но выход на площадь плотно закупорили другие баррикады, над гребнем которых изредка поднималось высокое кепи иностранного легионера и мелькали бело-голубые мундиры аннамитских стрелков.
Кутанзо перевел взгляд влево. Блестящим под солнцем зеркалом раскинулся рейд; Сайгонская пристань, обычно закутанная густой вонючей завесой дыма, теперь была мертва и безжизненна. Все суда панически удрали из Сайгона вниз, к морю. Лишь одиноко белела речная канонерка, повернув в сторону города широкую пасть 150-миллиметрового орудия.
— Братья, смотрите, что там такое? — махнул Кай-Пангу рукой в сторону большого городского парка. Кутанзо тоже посмотрел туда; ничего не увидел, поднес к глазам бинокль, переданный ему Ляо-Ху, и тогда лишь только заметил мундиры цвета хаки, притаившиеся среди деревьев, и длинные ряды ружей, составленных в козлы.
— Это — резервы правительственных войск, — сказал уверенно Кутанзо.
Кай-Пангу вздохнул тоскливо:
— О, если бы у меня была артиллерия, хотя пара пушек, тогда бы!..
Не докончил. Где-то близко цокнул выстрел, и пуля, ударившись в землю около Кай-Пангу, обсыпала красной пылью его босые ноги.
— Кто стрелял? Откуда? — спросил тревожно Кай-Пангу. Но напрасно телохранители вождя вертели головами, отыскивая неизвестного стрелка.
И, словно издеваясь над ними, снова раздался выстрел, послав вторую пулю, тонко пропевшую где-то очень-очень близко от уха Кутанзо…
Кто-то тихо и жалобно охнул. Француз оглянулся. Мальчик-китайчонок, его проводник, с внезапно побелевшим лицом начал медленно валиться на бок, держась обеими руками за простреленную грудь.
— Вижу! С пальмы стреляют! — закричал вдруг Ляо-Ху, указывая на высокую пальму, рядом с одной из пяти башен. Над макушкой ее легким прозрачным туманом расплывалось облачко бездымного пороха. Замелькали выхваченные из кобур револьверы, взлетели к плечам карабины. С лихорадочной поспешностью затрещали выстрелы и смолкли. Стрелки проверяли результаты своих выстрелов.
Не успели еще, сбитые пулями, широкие листья пальмы долететь до земли, как пальма, словно живая, судорожно задергалась верхушкой. Видимо, кто-то цеплялся за ее сучья в последнем усилии. Но вот раздался треск, вскрик, и темная человеческая фигурка ринулась камнем вниз. Ударившись головой об землю, человек перевернулся тяжело на спину, вздрогнул всем телом, как рыба, выброшенная на берег, и затих. Кутанзо не удивился, увидав на убитом мундир иностранного легионера.
— Вот какие приемы применяются в наших войнах, — наклонившись над плечом Кутанзо, сказал вполголоса Ляо-Ху. — Отчаянные головы забираются в неприятельский тыл, стараясь подстрелить кого-либо из вожаков. Он метил оба раза в Кай-Пангу, но, к счастью, промахнулся. В случае же удачи он положил бы в карман 10 000 золотых пагод и кроме того наверняка получил бы унтер-офицерский чин. А это что-нибудь да значит! Ну, а если не удастся — конец такой, какой видишь!..
Кутанзо, не отвечая, смотрел на убитого мальчика-китайца. Рядом с маленьким трупиком, растянувшимся на траве, валялся банан, который ребенок грыз перед смертью. Кровь на траве казалась особенно красной. Отвернулся с тяжелым чувством.
10. Один против десяти
— Ляо-Ху! — крикнул Кай-Пангу. — Пора начинать атаку! Ракеты!
Через минуту две дымовые ракеты взвились с шипеньем и треском. Вытянувшись длинным-длинным жгутом, они лопнули высоко в небе и раскинулись зонтами, пустив вниз тяжелые, дрожащие, как щупальцы спрута, струи дыма.
Разговоры стихли. Все, затаив дыхание, уставились вниз, на баррикады. Кай-Пангу выдержал паузу в несколько минут, а затем бросил через плечо отрывисто:
— Горнист, труби атаку!
Медные звуки рожка полились тягучим стоном, сорвались с холмов вниз, в город, долетели до баррикад и замерли высоким вибрирующим рыданием. Ближайшая баррикада подхватила сигнал, ей ответила вторая, третья, и, казалось, по всему городу рассыпалась перекличка труб. Боевая песня их волновала сердце, туманила голову и сладкой дрожью колотила тело.
Зашевелились баррикады повстанцев. Откуда-то из боковых переулков выскочили до сих пор невидимые массы туземцев. Наскоро построились и с ружьями наперевес двинулись по улицам— к площади. Стрелки, лежащие за баррикадами, тоже присоединились к штурмующим колоннам.
Правительственные баррикады несколько томительных минут молчали. Прекратив совершенно стрельбу, французы смотрели на приближавшиеся колонны врагов. У Кутанзо на один миг мелькнула мысль, что французы, не выдержав, побегут. Взглянув на лицо Кай-Пангу, он убедился, что и вождь переживает такое же чувство. По его лицу тоже ползла надежда.
Но вдруг ураганом загрохотали залпы. Захлебнулись в злобном лае пулеметы. Из переулков на площадь густой струей выплеснулись колонны хаки. Резервы французов тоже вошли в бой.
Пестрые отряды повстанцев шли в атаку молча, без единого выстрела. Ощетинившись широкими, как ножи, штыками, они упрямо двигались вперед, на баррикады французов. Вот они подошли уже на сотню шагов. И тотчас же дребезг взрыва заставил Кутанзо вздрогнуть. Звук этого разрыва был какой-то особенный, звенящий, словно бросили об землю ящик стекла. Затем второй, такой же разрыв, третий, и наконец канонада слилась в общий гудящий вой.
— Ого, ручные гранаты! — прошептал за спиной Кутанзо Ляо-Ху. — Мы этого не учли…
Из-под самых ног повстанцев начали взлетать фонтаны земли и дыма от разрывов ручных гранат. Все это смешалось в густой рыжий туман и как занавеской отгородило поле боя от любопытствующих взоров.
Воспользовавшись этим моментом, Кутанзо начал массировать глаза, уже заболевшие от солнца. И тотчас обернулся от громкой ругани.
— Дьяволы! — кричал исступленно Ляо-Ху. И вдруг со злостью запустил биноклем в каменную физиономию Сивы так, что разбитые стекла разлетелись брызгами. — Трусы! Они бегут! Испугались хлопушек французов!
Кутанзо посмотрел вниз. Действительно, повстанцы бежали обратно к своим баррикадам.
— Остановите! Остановите этих бродяг, этих трусливых псов, а не то они обегут всю Кохинхину! — бесновался Ляо-Ху.
— Успокойся, — положил на плечо китайца руку Кай-Пангу. — Ты еще плохо знаешь наших братьев. Гляди!
Действительно, добежав до своих баррикад, повстанцы остановились, снова залегли и ударили дружным залпом по неосторожно высунувшимся, торжествующим победу, легионерам.
— Ох! — прислонился в изнеможении к статуе Ляо-Ху. — Я думал, у меня сердце лопнет от гнева и стыда.
Выстрелы с обеих сторон почему-то смолкли. Наступила торжественная тишина. Знойную тишь дня нарушали лишь крики гекко, отвратительной ящерицы. Равнодушно, как заведенный механизм, скрипела она в густой траве: то-ке… то-ке…
Но это затишье испугало Ляо-Ху больше, чем буря выстрелов.
— Что это? — подошел он к Кай-Пангу. — Почему молчат они и мы?
Снова запели трубы, ко уже на баррикадах французов. Кай-Пангу встревоженно нахмурил лоб.
— Огэ, генерал-губернатор решил подражать нам. Французы идут в атаку! О, как-то выдержат ее мои дети? Ведь трудно драться одному против десяти!
Лишь замолкли трубы, зеленые хаки легионеров залили все три улицы. Снова загрохотали залпы, снова поднятая ногами атакующих пыль скрыла сражение.
Из темной аллеи выскочил низкорослый малаец, опоясанный четырьмя патронташами. Пот лил с него ручьями и, смешавшись с покрывавшей его пылью, разрисовал кожу причудливыми узорами. Подбежав к Кай-Пангу, он закричал хрипло:
— Вождь, дай нам помощь! Французов много, как мух над падалью. Мы изнемогаем. Поддержки просит и Нхама — начальник шолонцев, и Кьед-Гианг — командир сайгонских рабочих, и Тхан-Фю-Комо — командующий отрядом «накэ»…
— Что есть у нас в резерве? — обратился Кай-Пангу к Ляо-Ху.
— Только отряд сайгонских ткачей, вождь! Но ведь это — твой личный конвой…
— Послать их в бой! Мне не нужна охрана.
— Мы исполним твое приказание, вождь. Но позволь мне самому вести в бой ткачей?
Кай-Пангу колебался секунду. Затем ответил твердо:
— Иди. Я не имею права задерживать тебя.
И вдруг, обняв Ляо-Ху, крепко поцеловал его.
Внизу на улицах гудел, ревел, грохотал бой.
Изредка разрывалась завеса пыли и дыма, и в эти моменты Кутанзо мог видеть, что сражающиеся разбились на отдельные кучки. Сражение рассыпалось по улицам на множество мелких схваток между небольшими отрядами противников. И от этого бой стал еще более беспощадным и кровопролитным. Кай-Пангу уже не интересовался тем, что происходило внизу. Он сидел, понуро сгорбившись, на каменных ступеньках башни и тупо смотрел в землю. Сзади него молчаливо толпился десяток телохранителей и ординарцев.
И тут-то Кутанзо ясно почувствовал, что — еще неокончившееся — сражение уже проиграно повстанцами.
Снова появился запыхавшийся гонец.
— Вождь, — крикнул он, — нужна помощь! Отряд «накэ» уже уничтожен пулеметами. Шолонцев загнали во двор пагоды и перебили ручными бомбами. Мы отступаем! Есть у тебя еще воины, вождь?
— У меня нет больше воинов, — выпрямился с грустной улыбкой Кай-Пангу. — Я отдал бы, не задумываясь, свои глаза, если бы сейчас, сию минуту, увидел отряды гонгейских шахтеров и рыбаков Кат-ба. Но их нет! Они опоздали — и потому проиграли мы битву. Пойди туда, в город, — обратился он к гонцу, — и передай братьям, что я разрешаю им покинуть баррикады. Пусть спасают свою жизнь, никто не обвинит их за это в трусости. Они исполнили свой долг, — к чему лишние, бесполезные жертвы! Иди!
Гонец ушел, опустив голову.
— А теперь, — улыбнулся облегченно Кай-Пангу, — очередь за мной. Я тоже иду!..
— Куда? — спросил тревожно Кутанзо.
— Туда, вниз, чтобы умереть вместе с моими братьями.
— Вождь, — заговорил взволнованно Кутанзо, — вспомни свои, только что сказанные, слова: «не надо лишних, бесполезных жертв». Какая польза от твоей смерти? А жизнь твоя нужна беднякам, угнетенным и порабощенным. Ты не имеешь право рисковать ею…
Кай-Пангу провел по лицу ладонью, словно смахивая паутину. Встряхнул головой, разметав пряди длинных, жестких волос, и произнес глухо:
— Я заслужил смерть. Вождь должен учитывать все случайности, а я допустил ошибку, начав бой до подхода шахтеров и рыбаков. Половина вины за поражение — на мне…
— Вчера ты говорил не так. Помнишь, в таверне?.. Если не победим мы завтра, — говорил ты, все равно через год, через пять, десять лет победа останется за нами. Ведь мы — тайфун, упорный и непобедимый.
— Ты говоришь, как мужчина, — опустил тяжело руку на плечо француза Кай-Пангу. — Я стыжусь своей слабости. Обещаю тебе не лезть напрасно под пули. Но я должен попасть в город. Я буду руководить отступлением моих воинов. Ты прав! Мы еще не разбиты. Война только еще начинается. Спасибо тебе за все, брат мой. Прощай!
Зашуршала трава под ногами, и Кай-Пангу скрылся. Кутанзо остался один на поляне среди пяти серых многовековых башен.
11. В горы, к морям!
Кутанзо подошел к краю обрыва и с гнетущим чувством надвигающегося несчастья посмотрел вниз. Ясно было видно, как пестрая толпа повстанцев под натиском легионеров, хотя и медленно, но верно откатывалась сюда, к холму. Он хотел уже было отойти от края обрыва, как внимание его привлекло странное движение на площади. Какая-то длинная упряжка из восьми лошадей вылетела рысью на площадь и остановилась около дворца генерал-губернатора. Вглядевшись внимательнее, Кутанзо увидел легкое орудие, повернувшееся дулом, как ему показалось, прямо сюда, на холм. У замка орудия копошился десяток людей.
«Кажется, пора и мне удирать» — подумал француз. И почти в тот же момент пушка на площади рявкнула, и тотчас же, благодаря небольшой дистанции, над верхушкой одной из башен разорвалась шрапнель, выплюнув клубок голубоватобелого дыма. Пули, как крупный ливень, зашуршали по листве.
Кутанзо отошел к мотоциклу, дал вспышку и тихо двинулся прочь от башен. Не отъехал и сотни метров, как увидел мчавшийся навстречу отряд жандармов. Скакавший впереди офицер размахивал руками, подавая какие-то знаки. Кутанзо остановился.
— Вы были там, около башен, мосье? — спросил подскакавший офицер.
— Да, был!
— И никого там не видали?
— Ни души! — не моргнув глазом, соврал Кутанзо. — А кого вы ищете?
— Там скрывается комбоджец Кай-Пангу, — крикнул офицер, уже пришпорив лошадь, — глава мятежников!
Кутанзо долго смотрел им вслед, улыбаясь насмешливо. И вдруг повернул голову в сторону кустов белой акации, прислушиваясь. Захрустели ветки под чьими-то осторожными шагами, и на аллею выскочил Кай-Пангу.
— Вождь, вождь, скрывайся! Беги, тебя уже ищут жандармы! — крикнул испуганно Кутанзо.
Кай-Пангу был бледен, но спокоен.
— Бежать некуда, — ответил он — французы оцепили рощу. Я погиб.
— Садись! — ударил Кутанзо ладонью по борту прицепной каретки.
— Зачем? Меня ты не спасешь и сам погибнешь. Нет, поезжай один, — мотнул отрицательно головой Кай-Пангу.
— Садись! — уже крикнул строго Кутанзо… Кай-Пангу одним прыжком очутился в каретке, мотоциклет затрещал мотором и свернул на кактусовую аллею — спуск с холма в город.
Кутанзо с одного взгляда убедился, что главная трудность — это проскочить аллею. В конце ее, поперек маленького бамбукового мостика, стояли три конных жандарма.
Кутанзо дал полный газ. Свист ветра в ушах заглушил бешеный рев мотора.
«Будем бить на неожиданность, — думал Кутанзо, стискивая руль, рвущийся из рук. — Должны же жандармы испугаться мчащегося мотоцикла. Они освободят дорогу… А если они рассуждают так же, как и я? Если они думают, что я испугаюсь и остановлюсь? Что тогда? Тогда, черт знает, что произойдет!»
Мотоцикл — уже в сотне метров от мостика. Вышколенные кони стоят, как изваяния, без страха глядя на приближающееся ревущее чудовище.
Жандармов бросило навстречу мотоциклу… Крупный гнедой жеребец среднего жандарма взвился испуганно на дыбы. Копыта его повисли на миг над мотоциклом. Кутанзо инстинктивно вдавил голову в плечи и, когда жеребец, храпя и разбрызгивая пену, опустил копыта на землю, мотоцикл был уже далеко за мостом. Пропела над головой пуля. Кутанзо, из-за шума мотора не слышавший выстрела, удивленно обернулся. Жандармы неслись карьером вслед за ними, стреляя на скаку…
Мотоцикл запрыгал по ухабам мостовой. Замелькали дома, магазины, пагоды Сайгона, На улицах — ни души. Пронеслись мимо заставы. Часовой неистово бил в гонг, приказывая остановиться…
Город кончился. Серые каменные громады его домов остались далеко позади. А вдаль, туда, в бесконечные разметы рисовых полей, уходила красная глинистая дорога.
Кутанзо выключил мотор. Мотоцикл бесшумно, по инерции, скользил вниз с отлогой горки.
— Вождь, куда поедем мы?
Кай-Пангу отнял ладони от лица и звучно вскрикнул:
— В горы, к мойям![13] И оттуда, собравшись с силами, хлынем на улицы Сайгона!
Снова зарокотал мотор. Снова засвистел в ушах ветер. Солнце садилось. Под его лучами залитые водой рисовые поля зарозовели и стали похожи на зеркала, затуманенные от дыханья…
С запада кралась ночь…
КИНО-СЕАНС В ГУАН-ХУ Рассказ
I
Небо словно выцвело от жары. Удушливо пахло нагретой землей и травой. Тело от малейшего движения покрывалось противной горячей испариной. Кобблер ребром ладони смахнул капельку пота, щекотавшую нестерпимо кончик носа, и озлобленно сплюнул:
— Дьявол, как в огне горишь! Скоро ли вечер?
Повел взглядом тяжелых, ненавидящих глаз.
Сотня фанз Гуан-Ху сгрудилась грязным стадом. Над гребнями их крыш вытянулась, как длинная любопытствующая шея, ржавая труба кожевенного завода. Дальше разметались илистые, рисовые поля. Залитые водой, отражая солнечные лучи, они слепили глаза.
— Боже милосердный, — зашептал проникновенно Кобблер — зачем ты позволяешь существовать на твоей земле такой гадости, как например этот Гуан-Ху? За две недели ни одного полного сбора! Никто из этих желтых обезьян не интересуется моим кинематографом. Уж я ль не старался? Давал драму, комедию, фарс, даже видовую — «Жизнь норвежских крестьян». А в кассе— пусто! Господи, какого же черта им надо, а?
От чувства нестерпимой жалости к самому себе засвербило в носу и зачесались глаза. К счастью, внимание отвлекла женская фигура, появившаяся в конце улицы. На плече у женщины — заменяющая коромысло бамбуковая палка, на которой был привязан визжащий поросенок, на другом спокойно дремлющий ребенок.
Полюбопытствовал лениво: кого же она для равновесия прицепила — поросенка иль ребенка?
Солнце, подвинувшись вправо, нашарило голову Кобблера и обрадованно впилось лучами в его непокрытую плешь. Пригретые солнцем заклубились стаи зеленых блестящих мух. С гнетущим унылым жужжанием кружились они над головой Кобблера, забивались в ноздри, липли к уголкам рта. Остервенело махая платком, разогнал мух и, тяжело волоча ноги, перешел на другую сторону улицы, в холодок.
Оттуда критически посмотрел на свой кинематограф, длинный сарай из необожженных кирпичей, с черепичной крышей, похожей издали на барку, перевернутую килем вверх. У единственных дверей сарая повисла длинная вертикальная афиша, написанная по-китайски. Черные крупные иероглифы, как отвратительные мохнатые насекомые, разбежались по полотну.
— Кто знает, что написал здесь этот паршивец Ан-Ши? Ребус какой-то! Может быть, он за мои денежки размалевал на этой афише, для всеобщего сведения, что хозяин кино, уважаемый мистер Сем Кобблер, подлец и жулик, что это-де тот самый Кобблер, которого в Кантоне били целую ночь за крапленые карты. Нет, довольно!
Завтра же испаряюсь отсюда. Поеду в Кьан-Че, на ярмарку. Хотя туда и отправился уже Билль Ноакс со своим балаганом, но лучше дать себя уложить на обе лопатки конкуренту, чем бесславно сдохнуть в этой дыре…
Рядом с китайским ребусом примостилась другая афиша, более скромных размеров, написанная по-английски:
КИНО «ДЖЕНТЛЬМЕН».
Сегодня исключительно-выдающаяся программа.
— БОЕВИК —
БОЛЬШАЯ КИНО-ДРАМА ИЗ КИТАЙСКОЙ ЖИЗНИ.
— Сверх программы: —
Кино-хроника. Важнейшие события на обоих полушариях нашего земного шара.
Объяснения картинам дает профессор краснословия Мак-Гиль.
— Клянусь честью, если он не явится через час, я превращу этого профессора краснословия в глухонемого! — свирепо стиснул потные пальцы Кобблер и посмотрел выжидающе на дорогу. Но дорога, красноватой лентой протянувшаяся между полями, была пуста и безлюдна.
Из переулка вынырнула кучка рабочих кожевенного завода. Остановились около Кобблера, распространяя удушливое зловоние квашеной кожи. Кто-то крикнул:
— Эй, вертел сегодня живой картинка?
— Вертел! — передразнил сердито Коблер. — А пиастры за вас кто будет платить? Собачья тетка?
— Огэ! Сердиться не надо, хозяин! — дружелюбно ответили рабочие. — Ты вертел картинка, мы платили пиастр. Вот! Хорошо?
Хохоча и распугивая стада черных, тощих свиней, запылили вниз, к поселку.
Солнце начало скатываться к горизонту. Длинная тень заводской трубы протянулась далеко в поля. Уже в лиловое перекрасились дали. Кобблер посмотрел на часы и с горячей мольбой поднял глаза к потемневшему небу:
— Боже, не допусти убийства! Даю этому шотландскому пьянице сроку еще десять минут. Но если он опоздает хоть на…
Не докончил. Мольба в глазах мигнула и улетучилась, уступив испуганно место свирепой, холодной злобе. На дороге показался темный силуэт. Низкие, уже ползущие по земли лучи солнца запутались в блестящих металлических спицах велосипеда. Маленький, толстенький человечек бешено дрыгал коротенькими ножками, нажимая из последних сил на педали.
— Еде-ешь? — тоном, предвещающим недоброе, протянул Кобблер. — Хорошо же, дорогой Мак-Гиль!
Толстяк остановил велосипед на безопасном от Кобблера расстоянии. Сполз с седла на землю и оказался еще более маленьким и толстым. Брюхо его свисало чуть не до колен. На лицо Мак-Гиля как будто кто-то нечаянно наступил ногой. Лоб вдавился далеко назад, словно ища встречи с затылком. Маленькие глазки отскочили друг от друга. Но зато подбородок вытянулся вперед, потянув за собой и нос. Бесчисленные веснушки ожогом пылали на его и без того красном лице.
— Простите, хозяин, — разливая елей в голосе, сказал Мак-Гиль. — Я опоздал немного.
— Да, Мак-Гиль, вы опоздали! — лязгнул железом голос Кобблера. — Я знал, Мак-Гиль что шотландцы пьяницы, но что они кроме того и негодяи, способные подвести товарища, об этом я узнаю теперь и благодаря только вам! Вам, Мак-Гиль!
— Но, хозяин… — замигал робко глазками шотландец.
— Довольно! — рявкнул Кобблер так, что доверчиво приблизившаяся к собеседникам свинья панически метнулась прямо под ноги Мак-Гиля. — Без оправданий! Я знаю, что вы сейчас начнете лепетать.
Мак-Гиль деловито пхнул свинью в зад, почесал затылок, открыл рог, но ничего не сказал.
— Привезли вы фильмы? — спросил Кобблер.
— Вот, — протянул шотландец два круглых футляра. — Все исполнено в точности.
— Напрасно вы отворачиваете голову, Мак-Гиль. От вас ведь за версту несет спиртом. Сколько кабаков вы сегодня обследовали? — неприязненно усмехнулся Кобблер.
Мак-Гиль кисло подтянул рот и ответил обиженно:
— Грешно вам, хозяин, нападать на меня так. Причем здесь кабак? Я заезжал в аптеку пополоскать спиртом зуб. Болит чертовски! Вот этот, коренной, — открыл он доверчиво рот.
— Вы лучше закройтесь! — посоветовал свирепо Кобблер. — А не то я!.. Вот уже тридцать дней под-ряд у вас болят зубы. И каждый день разные!
— Я же не виноват, что у меня тридцать два зуба, — пожал плечами Мак-Гиль.
— Что вы привезли, драму? — ткнул Кобблер пальцем в коробку с фильмом.
— Драма! Шесть больших частей, — мотнул головой шотландец.
— Китайская?
— Да… Не… А вы знаете, хозяин, я встретил в Шанхае Билля Ноакса. Он говорит…
— Мистер Мак-Гиль, — глухо прохрипел Кобблер, — заткните фонтан вашего красноречия. Я терпелив, но всему есть мера! Или вы правда хотите, чтобы я загнал ваш поганый язык туда, где у вас сейчас печенки. Отвечайте прямо: драма китайская?
Мак-Гиль ковырнул каблуком землю и поднял на Кобблера по-детски ясный и невинный взор.
— Китайская? А разве кто говорил о китайской драме? Нет, драма французская.
Кобблер с хрустом стиснул зубы:
— Слушайте, несчастный пропойца! Ведь вы же сами писали на афише, что у нас сегодня идет китайская драма.
Мак-Гиль поглядел искоса на афишу и с сожалеющим вздохом согласился:
— Да, действительно. Произошла ошибка.
— Если еще раз произойдет такая ошибка, — поднес Кобблер кулак к носу шотландца, — то я буду лупить вас до тех пор, пока не затрещат ваши веснушки! Понятно?..
Мак-Гиль посмотрел в спину уходящему хозяину. Потер по-тараканьему ноги и пробормотал обиженно:
— Конечно, понятно! Но только дудки! За пять долларов в неделю давать объяснения картинам, продавать билеты, таскаться в Шанхай за фильмами, зазывать ежедневно, как воскресный нищий, эту желтомордую публику, а кроме того рисковать своими веснушками. Не хочу!
Мак-Гилю стало грустно и тоскливо. От виски и портера болела голова, ныла нестерпимо мозоль на правой ноге. Подошел к маленькому прудику и сел на высокую плотину. Сняв башмак и пропотевший чулок, опустил ногу вниз. Над прудом закурчавился уже перламутровый туман. Прохлада успокоила ноющую боль в ноге. Стало легче и веселее. Портил настроение лишь рыбак, мотавшийся около плотины в низкобортной, узкой лодке. Визгливо, в одну ноту, тянул он бесконечное:
— У-у-и-э!.. Хо-э-и-у-у!..
— Эй, умирающий лебедь, — мрачно сострил Мак-Гиль — брось выть!
Рыбак посмотрел вверх, на свесившуюся ногу. Размахнулся и съездил по ней веслом, угодив метко в самую мозоль. Мак-Гилю показалось, что его ногу сунули в костер. Вскочил и запрыгал на одной ноге.
— Обезьяна! Желтомордый! — орал он. — Чтоб твоей матери так стукали на том свете! И чтоб бабушке! И дедушке!..
Рыбак, задрав голову, хохотал, скаля ослепительно белые зубы.
Шотландец сразу успокоился:
— И чего я напрасно надрывался? Ведь эти животные не понимают, когда с ними разговариваешь по человечески.
Слез с плотины, морщась напялил башмак и прихрамывая поплелся к кино. Зажег большие, разноцветные, из рыбьих пузырей фонари. Кряхтя втиснулся в узкий, похожий на гроб, деревянный ящик с надписью «касса» и, высунув в окошечко голову, закричал:
— Прошу подходить! Кому нужны билеты? Касса открыта! Большое вечернее представление. Вам билет? Тогда не заслоняйте мне ландшафта. Сидеть — два пиастра, стоять — только один пиастр! Вам какой? За пиастр? Напрасно! Берите за два, советую. Билеты здесь! Гала представление! Идет большая кино-драма, — покосился на афишу, — из китайско-французской жизни. Эй, вы… как вас? Ну, да, вы! В соломенной шляпе который! Оставьте здесь пса. Вы хотите, чтобы ваша собака зайцем прошла? Здесь билеты! Здесь!..
II
Зал был набит зрителями, как банка икрой.
Мак-Гиль остервенело грохнул палкой по бидону из-под бензина, заменявшему гонг.
— Даю первый звонок! Прошу занять места! Сеанс начинается.
Он переоделся, и его трудно было узнать. На нем был честный квакерский сюртук, из серого альпага, выигранный в покер у проезжего фокусника. Но, к несчастью, фокусник был худощав, и полы сюртука не сходились на колоссальном брюхе шотландца, открывая верх засаленных парусиновых штанов.
Кобблер, от вида переполненного зала пришедший в хорошее настроение, крикнул из окошечка демонстраторской:
— Мак-Гиль, вы похожи на переодетого пастора, пробирающегося тайком в оперетку!
Но Мак-Гиль, не забывший еще разговора о веснушках, с молчаливым презрением повернулся спиной к хозяину и, нырнув за экран, присосался к бутылке. Крепкий запах спирта доплыл до передних рядов зрителей.
Зал ослеп. Застрекотал аппарат. На экране заструились длинные дождевые нити. Мак-Гиль высморкался с треском, заглушив на миг механическое пианино, и в тон стрекоту аппарата загудел:
— Джентльмены! Художественная драма человеческой души развертывается перед вами. Вы имеете честь видеть тихое счастливое семейство, состоящее из двух человек — матери и маленькой дочки, которое… готовит обед для своего обожаемого отца. Но не вечно счастье на земле, джентльмены. И к нашему счастливому семейству подкрадывается, словно волк к стаду баранов, злой гений. Вы сами, без всякого обмана, видите, как отворяется дверь и входит…
На экране запрыгала надпись:
Муж Мэри обычно возвращался очень поздно, вечером…
— …входит этот негодяй, — заливался в упоении Мак-Гиль, — этот мерзавец и соблазнитель! Он входит смело в… То есть, виноват, это входит смело муж счастливого семейства. Обратите внимание, как нежно целует он руки жене, затем целует ее в лоб, затем целует дочку, затем целует… Тьфу, дьявол! Верти быстрее, — пустил уже сквозь зубы шотландец, косясь на демонстраторскую. — Не могу же я битый час рассказывать о поцелуях…
Давать объяснения было трудно. Приходилось сначала самому разбираться в запутанном сюжете, а чтобы не получались паузы, болтать в это время всякую чепуху. Но пока все сходило благополучно.
Часть за частью, со скоростью курьерского поезда, мелькали на экране. Приближался конец последней, шестой части. Чувствуя близкую передышку и возможность промочить горло, Мак-Гиль от усердия буквально рыл землю. Голос его то звенел благородным негодованием, то дрожал неподдельными слезами:
— …Она умоляет о прощении. Но он неумолим, как… сборщик податей! Не глядя на ее слезы, он вынимает из кармана револьвер и стреляет в нее. Она падает, истекая невинной кровью. Так был разбит вдребезги счастливый семейный очаг! Конец! Антракт десять минут!.. — И, не дожидаясь., когда дадут свет в зал, нырнул поспешно за экран. И снова запах водки вызвал слюну у передних рядов.
Затлелись под потолком лампочки. Зрители, все еще не отрываясь от экрана, от неожиданности замигали глазами. Но вот головы завертелись, закивали удовлетворенно. Загремели отодвигаемые скамейки, зашаркали шаги. Из-за экрана неслось бульканье бутылки.
Но Кобблер видимо спешил. Бранчливо задребезжал звонок и выгнал Мак-Гиля из-за экрана. Вытер губы полой сюртука и снова грохнул в бидон:
— Приступаем ко второй части нашей программы. Внимание, джентльмены! Кино-хроника! Сейчас вы увидите события…
Кобблер высунул в зал голову:
— Готово? Даю!
Шотландец мотнул утвердительно головой:
— Давай… Увидите события…
Зал погрузился в темноту. Из окошечка демонстраторской вырвался острый, ослепительно красивый луч, долетел до экрана и, разбившись о полотно, разбрызгался кровавыми буквами:
СОБЫТИЯ В ШАНХАЕ.
— …Увидите события!.. — выкрикнул с особенной энергией Мак-Гиль и, зацепив краем глаза кровавые буквы на экране, смолк, от испуга икнув тяжело, всем нутром.
Молчал Мак-Гиль, молчало пианино, которое он забыл завести, затаил дыхание зал. Лишь стрекот аппарата наливал тишину гнетущим унынием.
Кровавая надпись на экране растаяла. Засерела улица. Большие каменные дома выстроились в ряд, опоясавшись многоярусными балконами. Причудливые, узкие, вертикальные вывески. Автомобили. Рикши.
Зал вздохнул тяжело, сотнями грудей. Словно револьверный выстрел, разорвал тишину вскрик:
— Шанхай!
— Кобблер! — крикнул негромко и перепуганно шотландец. — Лучше бросьте! Остановите!
Но Кобблер, видимо, не слышал, и экран молча, без слов, рассказывал. Улицу затопила многотысячная толпа. Мелькали поднятые в возбуждении руки, широко открытые рты кричали что-то, неслышное, но видимо злобное и страшное. В дальнем конце улицы, словно из-под земли, выросла угрюмая шеренга английских солдат. На зрительный зал уставились дула их карабинов.
По залу пронесся полувздох, полустон.
Дула карабинов плюнули клубками белого дыма. Толпа на экране вздрогнула и шарахнулась сюда, прямо на Мак-Гиля.
— Кобблер! — испуганным буйволом заревел он: — остановите же наконец вашу дьяволову машинку!
Кобблер выглянул в зал.
— В чем дело?
— В чем дело? — сучил кулаками шотландец. — Вы хотите, чтобы за пять долларов в неделю меня разорвали в клочья эти желтые джентльмены? Не позволю! Посмотрите на экран!
Кобблер ахнул и нырнул в демонстраторскую. Экран испуганно замигал. Картина вышла из рамки. Бегущую толпу словно кто-то перерезал пополам жирной чертой. В нижней части экрана прыгали головы бегущих людей, над ними же топтались бесчисленные ноги, несущие безголовые туловища. И этот клубок голов, ног, туловищ был так безобразен и кошмарен, что у Мак-Гиля засосало под ложечкой.
— Кобблер!.. Стой!.. Не могу-у-у!.. завыл он.
Экран мигнул в последний раз и побледнел. Слиняла бегущая толпа. Под потолком вспыхнули лампочки.
Мак-Гиль взглянул на зрительный зал, и волосы на его голове зашевелились червями. Зал — точная копия экрана. Те же возбужденно поднятые руки, открытые широко рты, зловещие вспышки в глубине узких, косопрорезанных глаз. Но было и еще что-то более ужасное — это крики.
Зал ревел, гудел, стонал. Крики обрушивались лавинами, грохотали взрывами:
— Шанхай!.. Белые дьяволы!.. Расстрел!.. А теперь издеваются!.. Шанхай!..
Мак-Гиль почувствовал вдруг, что пузо его, словно набитое камнями, потянуло к земле. Мелкая дрожь булавками пронизала спину и поползла вниз, к ногам.
«Душа в пятки уходит, — обреченно подумал он. — Значит, баста!»
Затем началось что-то непередаваемое. Зал ревущим многоголовым чудовищем ринулся на него. Опрокинул, придавил к полу. Затем взбросил высоко над головами и потащил к дверям.
Последнее, что он увидел, десятки желтых рук, уцепившихся за ноги Кобблера. И Кобблер, уцепившийся за свой киноаппарат. Руки дружно рванули и выволокли Кобблера из демонстраторской. Кобблер мужественно волочил за собой аппарат.
И все пропало.
III
Черпнул жадно ноздрями острую свежесть ночи, и мысль снова заработала. Ощупал голову, ноги, руки, с удивлением убедился, что все цело и все на своих местах. Не хватало лишь правой полы серого квакерского сюртука. Огляделся. Увидел, что стоит на плотине, недалеко от того места, где сегодня вечером рыбак огрел его веслом по мозолям. Рядом стоял хозяин, прижимая бережно к груди, как любимое дитя, киноаппарат. Вокруг живым кольцом толпа, но уже молчаливая и спокойная. В стороне отдельная кучка раскладывала на плотине что-то большое, квадратное, белое. Вглядевшись, узнал экран, видимо сорванный толпой.
От пережитых потрясений страх перековырнулся кверху ногами и превратился в тупое безразличие.
Равнодушно спросил у Кобблера:
— Хозяин, что это они задумали?
Кобблер дернул губой:
— Разве не видите? Покачают на экране, а потом сбросят с плотины в пруд.
Снова забегали по спине холодные мурашки:
— В пруд? Не позволю! Уговору не было, чтобы за пять долларов в неделю — и в пруд!..
Кобблер надвинулся на него угрожающе:
— А кто виноват? Кто с пьяных глаз приволок сюда этот проклятый фильм? Кто, я спрашиваю? А?
Убедившись, что обе руки Кобблера, благодаря аппарату, заняты, шотландец вызывающе усмехнулся:
— Конечно, всегда я во всем виноват! А разве я не кричал вам тысячу раз: хозяин, остановите свою чертову трещотку? Не кричал? А?
Удивленно заморгал глазами. Хозяин вместе с аппаратом взлетел в воздух и упал на растянутый уже над землею десятками рук экран. Затем почувствовал, как неведомая сила подняла и его и бросила рядом с Кобблером на зыблющееся полотно.
Страх придал шотландцу решимость. Решил попробовать обратиться к толпе с увещеванием.
— Джентльмены! — поднялся он на полотне, махая судорожно руками, словно канатоходец, чтобы удержать равновесие. Но ноги, непривычные к зыбкому полотну, подкосились. Он плюхнулся назад и сел прямо на живот хозяина.
— Держитесь своей стороны, — прошипел Кобблер: — это вам не трамвай, чтобы садиться на посторонних!
Ответить Мак-Гиль не успел, так как почувствовал головокружительное ощущение взлета, а затем тошнотворное, щекочущее чувство падения. Ударившись о полотно, сел. Но от повторного толчка снова взлетел.
— Это хуже, чем на американских горах! — крикнул он, встретившись в воздухе с хозяином. — И все — за пять долларов в неделю!
Кобблер падал все время головой вниз, так как аппарат, который он крепко прижимал к груди, перетягивал верхнюю часть тела. Мак-Гиль же, у которого вся тяжесть сосредоточивалась в животе, падал и взлетал в сидячем положении и, махая руками как крыльями, казал ось плавал в воздухе.
При шестом или седьмом падении Кобблер, встав на голову, мотнул судорожно ногами и угодил кованным каблуком прямо в лоб Мак-Гиля. Шотландцу показалось, что он встал перед экраном и ему в глаза брызнул из окошечка демонстраторский сноп ослепительных лучей. Но боль удара объяснила ему суть происшедшего.
— Кобблер! — взревел он, — оставьте эти штуки, а не то!.. Докончить не смог, задохнувшись от нового взлета. Теперь счастье повернулось к нему лицом. Кобблер долетел до полотна первый, и шотландец накрыл его, сев ему на плечи.
— Как вам это нравится? — не утерпел он, чтобы не съиронизировать.
— Ладно, — прохрипел угрожающе Кобблер — после сочтемся!
— У-их! — дико взвизгнула толпа и, придав полотну наклонное положение, тряхнула с особенным рвением. Кобблер и Мак-Гиль вылетели теперь не по отвесной линии, а под углом и, описав траекторию над плотиной, бултыхнулись в пруд.
Мак-Гилю, когда он весь ушел под воду, вдруг вспомнилось одно только коротенькое слово, которое он так часто видел на экране.
КОНЕЦ
Кобблер же, которого аппарат камнем тащил на дно, бил, что было мочи, по воде ногами. Ударившись головой о песчаное дно, на миг потерял сознание и выпустил аппарат. Освободившись от его тяжести, перевернулся и с удивлением почувствовал, что стоит твердо на земле. Высунул на поверхность голову, громко фыркнув. В двух шагах от себя увидел ноги Мак-Гиля, высовывавшиеся из воды. Ноги, как гигантские ножницы, стригли воздух. Затем плавно нырнули под воду, и на их месте выскочила голова Мак-Гиля.
— Ф-фу, — выплюнул воду шотландец: — вот что значит быть моряком! Вода — моя стихия. Я не рассказывал, кажется, вам, что однажды мне пришлось переплыть…
— Не войте, Мак-Гиль, — оборвал его Кобблер: — здесь всего два ярда!
— Может быть у вас мелко, — обиделся Мак-Гиль: — а я попал на ужасную глубину.
Расплескивая воду, вышли.
— Н-да, — скверное дело, — глубокомысленно протянул шотландец, выливая воду из башмака. Оба посмотрели на плотину, Там было темно и тихо. Не верилось, что на ней минуту тому назад бесновалась громадная толпа.
— Батюшки! — вскочил вдруг Кобблер. — Аппарат! Он там, на дне. Мак-Гиль, полезайте!
— Нет! — твердо отрубил шотландец. — Он вам нужен, вы и ныряйте за ним на дно. А я решил переменить профессию. Перехожу к баптистам, в проповедники. Двадцать долларов в неделю и их стол! Ловко?
— Дорогой Мак-Гиль! — залебезил Кобблер. — Ну, что вам стоит? Вы же лучше меня плаваете, Вы же сами говорили, что вы переплывали когда-то что-то!
Шотландец, заколебавшись, потер в раздумьи переносицу.
— Хорошо! Но это будет вам стоить пять долларов.
— Пять долларов?
— Да! Сверх жалованья и наличными!
Кобблер почесал затылок:
— Вы меня берете за горло, Мак-Гиль. Но у меня нет выбора. Лезьте! Я согласен!
Шотландец снял для чего-то уже мокрые штаны, подобрал осиротевшую полу сюртука и бултыхнулся в пруд. Повозился там, лязгая зубами от холода, и вылез на берег с аппаратом.
— Получайте, хозяин, вашу чертовщину и кладите на бочку пять долларов.
— Пять долларов? — искренно удивился Кобблер. — Но разве вы забыли, что вами взяты у меня авансом 10 долларов? Считайте, что теперь за вами осталось только пять.
И помолчав, добавил сухо:
— А теперь можете отправляться к своим баптистам.
Мак-Гиль, надевавший штаны, от удивления полез левой ногой в правую штанину. Заметив ошибку, вздохнул сокрушенно:
— Н-да. Чисто вы меня обработали. — И, вдруг переменив тон, восхищенно покрутил головой: — Вы, оказывается, здоровый жулик, хозяин! Но мне некуда податься. Про баптистов-то я вам соврал. Остаюсь у вас! Что будем теперь делать?
— Берите аппарат, — приказал Кобблер. — Мы пойдем в Кьанг-Че, на ярмарку. Но, предупреждаю, если вы еще раз выкинете фортель, подобный сегодняшнему, я вас так отделаю, что даже баптисты постыдятся взять вас в проповедники. Поняли?
Мак-Гиль, взваливая на плечи аппарат, с трудом подавил тяжелый и покорный вздох.
МИШЕНЬ Рассказ
I
Плетеный из тростника занавес колыхнулся, и дюжий фейерверкер, звякнув шпорами, вытянулся в дверях кабинета.
Гренобль, капитан колониальной артиллерии, поднял голову, близоруко склонившуюся над бумагами:
— Что, Даниэль?
— Мосье капитан, там опять пришли эти…
— Кто?
Усы фейерверкера сердито встопорщились:
— Эти желторылые дьяволы, из деревни Иенг-Си. Хотят видеть вас, мой капитан.
Гренобль с фальшивой деловитостью посмотрел на часы-браслет:
— У меня нет времени их принять. Скажите им, что я уезжаю сейчас на полигон, ведь через полчаса начнется вечерняя стрельба. Идите!
Но фейерверкер не шелохнулся, замер в дверях, смущенно теребя пальцами кант галифе. Гренобль посмотрел на него удивленно:
— В чем дело, Даниэль? Почему вы не идете?
— Извините меня, мосье капитан, — ответил фейерверкер, стараясь не встречаться с капитаном взглядом. — Но это невозможно!
— Что невозможно?
— Не принять этих язычников, капитан.
Гренобль чуть привстал с кресла:
— Даниэль, вы с ума сошли? Вы меня учите! Идите и скажите им…
— Мосье капитан, — робко перебил его фейерверкер: — но, ведь, они твердят одно: не уйдем, пока не увидим мандарина с тремя нашивками. Так называют вас эти дикари. И осмелюсь доложить, они чем-то очень возбуждены!
Крашеная бровь капитана дрогнула, но он ответил спокойно, как кидают окурок:.
— Хорошо! Пустите их. — И, помолчав, добавил — А пока я буду с ними говорить, вы постойте за дверью.
Фейерверкер, облегченно вздохнув, выскользнул из кабинета, и тотчас же, вслед за его уходом, в узкие двери робко втиснулись четыре накэ. Это были комбоджийцы, чуть ленивые, неторопливые в движениях и бесстрастные, как изваяния их богов. Один из них, — старик с лицом, сморщенным как печеное яблоко, и весь сведенный ревматизмом, — видимо, возглавлял депутацию; двое других были помоложе. Четвертый же был юноша, почти мальчик. Он непринужденно грыз банан и шарил по кабинету взглядом глаз пытливых и смелых. Все четверо были одеты лишь в сампо — пестрые и короткие набедренные плащи, — головы их были обвязаны платками, грязными, но старательно сложенными. Они столпились у дверей в позах почтительных, но не лишенных достоинства и даже какой-то сосредоточенной важности.
Капитан, делая вид, что он не замечает вошедших, склонился над каким-то чертежом. Поэтому накэ могли видеть лишь его макушку, уже намыленную сединой и начинающую лысеть. Но, когда капитан поднял голову, они увидели лицо европейца, огрубевшее и кирпично-красное от загара. Какая-то неопределенность, расплывчатость всех черт лица и почти полное отсутствие подбородка говорили о безволии, бесхарактерности этого человека. А низкий лоб и глубоко ушедшие под него глаза не сулили добра. У таких людей, когда ими верховодят низменные страсти, нередко безволие переходит в тупое, животное упрямство.
— Здравствуйте, мои друзья, — деланно мягко процедил капитан, откидываясь на спинку.
— Пусть боги благословят тебя, справедливый господин. И пусть дни твои будут так же бесконечны, как дни слона, — ответил за всех на приветствие старик.
Капитан соединил брови над переносьем:
— Что вам нужно от меня? Как вы посмели оторвать меня от дела? Вы знаете, что за такую дерзкую настойчивость вас следовало бы отдубасить по пяткам бамбуковыми палками?
Старик чуть выдвинулся вперед и, перебирая оловянное ожерелье на голой груди, заговорил по-французски, подолгу подбирая слова, с певучими интонациями своего племени:
— Мы это знаем, господин. Не даром, — невесело улыбнулся он, — наша пословица говорит: «Везде, где есть накэ, боги вырастили бамбук». Но пусть господин не сердится на своих рабов.
Мы отрываем господина от дела. Но у нас нет больше сил терпеть.
Капитан, приподняв одну ногу, пропустил руку под колено и, выражая всей своей позой безразличие и небрежность, бросил лениво вопрос:
— Да в чем же дело? Оставьте свои церемонии. Яснее и короче!
— Зачем ты спрашиваешь, господин? Ведь ты уже знаешь, в чем дело. Каждое лето твои солдаты разоряют нас. Они крадут для своих лошадей рис с наших полей. При выездах на учебную стрельбу солдаты из озорства везут пушки прямо по посевам мака. Это несчастное соседство с вашим полигоном скоро сделает нас совсем нищими. Ведь каждое лето — убытки, пусть господин сам подумает.
Капитан нагнул вперед голову, как петух, нацелившийся на червяка:
— Ну, а чего же вы хотите от меня?
— Мы надоели господину своими просьбами, но мы опять и опять, в сотый раз будем просить одного и того же — возмещения убытков. И господин должен согласиться, что это не дерзость со стороны бедных накэ, а только законная просьба.
Гренобль покрутил задумчиво в воздухе карандашом. И вдруг стянутые напряженно губы его распустились в улыбке:
— Хорошо, я согласен!
Глаза крестьян блеснули скрытой радостью.
— Да, я согласен. Идите в канцелярию, там каждому из вас уплатят по франку.
Старик растерянно зажевал губами и, наконец собравшись с духом, прохрипел:
— Но, господин…
— Что такое? Вы недовольны? — удивился Гренобль.
Юноша шагнул вперед, отстранив старика:
— Погоди, отец, я буду говорить. Ты, господин, издеваешься над нами! Разве мы едим не тот же рис, что и ты? Разве мы не хотим есть, как и ты? Почему же мы должны умирать с голоду? Твои воины перепортили и разворовали у нашей деревни рису на тысячу золотых франков, а ты нам предлагаешь четыре несчастных франка. Разве мы нищие? Мало того, на прошлой неделе в наш общественный загон упала бомба и разорвала в клочья семьдесят свиней да столько же переранила. Это тоже четыре франка, господин?
Гренобль насмешливо пожал плечами:
— Простая случайность, которая происходит не каждый день!.. Это не наша вина!
Тонкие ноздри юноши задрожали:
— А чья же, господин? Фу-ланг-саи[14] стреляют так хорошо, что, метясь в мишени, попадают в свиной загон. Может, виноваты в этом наши свиньи?
Гренобль побагровел. Схватив громадный кольт, лежавший вместо пресса на кипе бумаг, он грохнул им по столу!
— Молчать, грязная скотина! Как ты смеешь оскорблять французскую армию!
Смуглые щеки юноши тоже гневно запунцовели. Он рванулся к капитану, но один из пожилых мужчин, поймав его на лету за плечо, бесцеремонно отбросил назад.
— Погоди, Чанг, ты испортишь нам все дело! Справедливый господин, — обратился он уже к капитану: — я тоже служил в войсках Фо-Ранга[15].
Я участвовал в великих сражениях на Сомме и Уазе. Я помню светлые весенние ночи твоей родины, когда, готовясь к смерти, мы шили себе саваны, чтобы быть похороненными по обычаям наших предков. За что мы умирали, о, господи?
— К делу ближе! Я спешу! — крикнул уже не совсем твердо Гренобль.
— Я все сказал, господин, — спокойно ответил накэ: — и ты меня понимаешь. Как старый солдат, я требую справедливости. Мы были в Банметхюоте, в штабе дивизии, нам сказали там, что в возмещение наших убытков отпущено 2000 франков. А ты нам предлагаешь четыре, господин!
Краснота, откуда-то сверху, словно от корней волос, сползла на лоб капитана, а затем залила все его лицо. Тихо, но чуть дрогнувшим голосом, он спросил:
— Так, значит, по вашим словам, я утаил эти деньги? Значит, я вор?..
Юноша одним прыжком выбросился вперед, к самому столу капитана, и крикнул звонко, прямо ему в лицо:
— Да, ты вор, вор! Как все вы, мандарины с нашивками!
Прыгающая от ярости рука с зажатым в ней кольтом рванулась кверху. Мушка револьвера уставилась прямо в лоб юноши.
— Вон! Все вон! — хрипло выплюнул Гренобль, словно чьи-то пальцы уже сдавили ему горло. — Убью!
Старик и двое пожилых накэ опасливо попятились назад и скрылись за дверью. Но юноша остался. Зрачки его глаз, казалось, сцепились с зрачками европейца. И этот взгляд взгляд хищной птицы, ясный, блестящий и острый, был налит такой тяжелой ненавистью, что Гренобль испытал чувство, близкое к физическому гнету.
— Уйди! — шевельнул он внезапно побелевшими губами. — Я даже прошу тебя, уйди! А не то я буду стрелять в тебя до тех пор, пока в тебе не будет столько же дыр, сколько в перечнице.
Юноша вздрогнул. На его торсе и ляжках выступили и напряглись мускулы. Рука инстинктивно легла на ручку кривого кинжала, заткнутого за сампо.
— Стреляй! — ответил он. — Я запомню, что ты вместо франков расплачиваешься пулями. Прощай, господин!
Юноша повернулся и вышел из кабинета гибкой и быстрой походкой, спокойно опустив за собой занавес.
Гренобль расслабленным жестом бросил на стол кольт. Сгорбился в кресле и зарыл лицо в ладонях.
II
Гонг пробил смену часовых. Гренобль очнулся, словно после тяжелой драмы. Встал, подошел к окну и, подняв плетеные жалюзи, выглянул наружу. Глазами пустыми, невидящими окинул дали, курящиеся в горячем, дрожащем мареве. За частоколом форта увидел четыре темные, медленно удаляющиеся фигуры. Вспомнил взгляд тяжелых глаз юноши, нервно вздрогнул, словно от неожиданного укола булавкой. Неудержимо затопило желание вернуть их, отдать деньги. Повернулся уже к выходу. И остановился. Другая мысль, поднявшаяся откуда-то со дна сознания, заставила его оцепенеть у окна: «А как же поручик Галь? А карточный долг ему в две тысячи двести франков? Не отдавать? Но ведь честное слово офицера не шутка. Ведь придется уйти из полка и… навсегда проститься с Жанной. Э, черт с ней, с Жанной! Анемичная кукла! А вот приданое ее — это важнее. Тогда можно будет бросить и службу, а, главное, уехать во Францию, простившись навсегда с этой гнусной дырой!»
А ведь какая, действительно, гнусная дыра этот форт Тхай-Хин и дивизионный артиллерийский полигон при нем, комендантом которых состоит он, капитан Гренобль. Затерянная в степях, в безводных дюнах, на границе таинственных камбоджийских джунглей, еще не исследованных европейцами, эта дыра любого человека вывертывала наизнанку, у любого, самого крепкого, мужчины выбивала из-под ног твердую почву. Если не свалит малярия, если не угонит обратно в Сайгон жуткая, неизлечимая болезнь, от которой гниют ногти и опадают на всем теле волосы, то доконает алкоголь или страшный чанду[16].
«Скорее вон отсюда, из этого ада! Нет, не отдам деньги дикарям. Решено!»
Схватил шнурок жалюзи и снова увидел их. Четыре фигурки, постепенно уменьшаясь, словно растворялись в знойном воздухе. Сам не отдавая себе отчета в поступках, сдернул со стола артиллерийский Цейс и долго шарил по кустам и дюнам, разыскивая их.
Наконец-то, вот они! Первым конечно идет юноша Чанг, вторым солдат, дравшийся за Францию на Сомме и Уазе, последним плетется старик, с оловянным ожерельем на шее. Мучительно захотелось вдруг, чтобы хоть один из них обернулся, чтобы по выражению лица, блеску глаз разгадать, какие мысли обуревают их, какие чувства уносят они из форта, уносят так спокойно и бесстрастно.
Отдернул, словно обжегшись, глаза от окуляров. Новая мысль, неожиданная как удар ножа, испугала его: «Да ведь это мои враги и враги беспощадные, непримиримые. И не только мои, а и всех тех, кто со мной и за меня».
И именно сейчас, глядя на четыре спокойно и неторопливо удалявшиеся фигуры, он особенно ярко, четко и глубоко осознал, что его форт и полигон — это только островок среди враждебного моря, что его гарнизон — это только щепотка европейцев среди совершенно необследованных племен, ненавидящих и избегающих общения с незванными пришельцами. Гренобль мысленно вообразил свой форт, окруженный, словно вражеским частоколом, деревнями и поселками туземцев, чьи глаза всегда незримо следят за белыми, подстерегая каждое движение своего врага. И, кажется, впервые за пять лет пребывания в колониях, он испытал чувство тоскливого недоумения: «Зачем я здесь? Кому это нужно?»
На один только миг, короткий миг, мысль его, освободившись от всякого контроля, ворвалась в чащу воспоминаний. И многие факты, свидетелем которых был он сам, теперь вдруг получили другой, глубокий смысл.
Он вспомнил поручика Бланшерона, длинного Пьера Бланшерона. Будучи офицером-квартирмейстером, он за свиней, забранных в соседнем поселке на провиант гарнизону, расплатился квитанциями. Когда туземцы потребовали золота, он рассмеялся им в лицо. Через неделю он, через посланца, получил письмо с требованием денег и полное угроз. Длинный Пьер не дочитал его даже до конца и разорвал, смеясь. Вскоре после этого он нашел воткнутым в стену, в изголовьи своей кровати, Фо-Нонги, фетиш смерти — длинную серебряную булавку, с такой же головкой в виде уродливой маски туземного божка. Каждый, нашедший у себя Фо-Нонги, уже может считать себя трупом. Это — своеобразная повестка, вызывающая на тот свет, извещающая, что получивший ее умрет в течение шести последующих дней. Длинный же Пьер, бравируя опасностью, словно издеваясь над Фо-Нонги вдел его вместо цветка в петлицу кителя и ходил так, посмеиваясь. Но смеялся уже недолго. На третий день после получения Фо-Нонги его нашли мертвым в кровати. Комната его была наполнена сладковато-приторным дымом. Полигонный врач определил, что Бланшерон умер от злоупотребления опиумом. Это длинный-то Пьер, всегда отворачивавшийся от чанду, как черт от ладана? Но фейерверкер Даниэль, старый колониальный волк, шепнул тогда же капитану Греноблю, что это был дым не чанду, а корня кок-хен-каунг, от которого люди засыпают навеки.
Второй случай — с сержантом Верне. Во время топографической съемки в горах он оскорбил какую-то туземную девушку. Вернувшись в форт, он уже забыл об этом случае. Но кто-то помнил.
Последний раз его видели живым в унтер-офицерском клубе, откуда он вышел поздно вечером, слегка подвыпивши. А через два дня нашли уже его труп, в аройо[17] около самых ворот форта. В спине сержанта торчал кинжал, наконечник которого был намазан неизвестным ядом, а ручка изображала маску Фо-Нонги.
Вспомнил Гренобль случай, происшедший и с ним самим. За плохо вычищенный затвор орудия он избил в кровь наводчика-туземца. Вечером в этот же день, сидя у раскрытого окна с газетой, он ясно услышал в ближайших кустах звук спускаемого курка. Гренобль быстро выхватил из кармана револьвер и выпустил в кусты всю обойму. Сбежавшиеся на выстрелы патрули, обшарив кусты, нашли только не выстреленный патрон от винтовки казенного образца. Капсюлька его носила ясный отпечаток бойка. Только осечка спасла капитана от смерти. Строгое расследование, произведенное офицерами, установило, что избитый наводчик в этот вечер даже и не выходил из казармы. Но Гренобль после этого случая бил уже только белых солдат, а в отношении туземцев ограничивался одной бранью.
Все эти факты, казавшиеся когда-то разрозненными, теперь словно объединились, связанные общим смыслом. За всеми этими случайностями он почувствовал чью-то твердую волю, направлявшую их и соединившую в общую крепкую цепь, которая опутывала теперь его незаметно, но верно.
Вызов ему, Греноблю, был брошен настолько откровенно, что желание борьбы и жажда мести сплелись в его сердце в общий колючий клубок. Несмотря на все свое безволие и бесхарактерность, он теперь, осознав опасность, хотел только одного — дать отпор таинственному врагу.
Вытянув кулаки в ту сторону, где в белорозовых разметах цветущих маковых полей растаяли четыре спокойных фигурки, Гренобль, захлебываясь от обжигающей злобы, закричал:
— Вы хотите получить две тысячи франков за порчу ваших паршивых полей? Ха, дурачье! Посмотрим, чья возьмет. Вы сдадитесь только тогда, когда я наступлю ногой вам на горло, чтобы вы не смогли поднять голов. И я это сделаю, клянусь богом!
Схватив молоточек, капитан ударил в маленький комнатный гонг с такой силой и яростью, словно наносил удар врагу. В дверях вырос дюжий Даниэль.
— Даниэль, — подбежал к нему капитан, — передайте сейчас же в кордегардию: как только эти грязные скоты появятся снова около моего дома, гнать их в шею! А в случае сопротивления избить прикладами.
Старый фейерверкер по жестам, нервным и быстрым, по фразам, коротким и отрывистым, понял, что капитан вне себя. И все-таки, не удержавшись, буркнул в усы:
— Боюсь, что они больше не появятся!
— Что вы там бормочете? — яростно взвился на носки Гренобль.
— Я говорю, что язычники задумали плохое, — угрюмо ответил фейерверкер. — Они ушли, даже не бранясь, молча смотря себе под ноги. А это зловещий признак, мой капитан!
Гренобль дернул презрительно уголком губ:
— Вы трус, Даниэль! Но эти желтомордые трусливее даже вас. Если я сам не дам им заряженное ружье и не повернусь к ним спиной, они не посмеют выстрелить в меня. Понимаете? А теперь убирайтесь ко всем чертям и немедленно, если не хотите очутиться в карцере!..
III
Когда форт скрылся из глаз и даже высокая антенна над домом капитана спряталась за ближайшей дюной, все четверо, словно сговорившись, остановились.
— Ну? — нетерпеливо бросил Чанг.
Старик грустно покачал головой:
— Плохо дело! Придется опять идти в Банметхюот жаловаться их главному мандарину.
Солдат раздраженно вскинул головой:
— Чтобы нас сочли за кляузников и отлупили палками? Нет, я не пойду!
Старик в раздумьи переступил с ноги на ногу.
— Тогда пойдем прямо в Сайгон, там много очень высоких мандаринов. Обойдем их всех!
Юноша улыбнулся:
— Ах, отец, ты уже много лет прожил на свете, а видел ли ты когда-нибудь, чтобы хила[18]нападал на хилу? Ведь, нет? Хила нападает только на животных и людей. Так неужели ты думаешь, что все эти знатные мандарины с нашивками будут ссориться из-за нас, грязных накэ? Нет, отец, здесь не то нужно!
— А что же, сын мой?
Юноша тревожно оглянулся и бросил что-то быстрым топотом. Старик в раздумьи пожевал губами и ответил тихо:
— Не знаю, Чанг, может быть, я уже стар, а потому голова моя не так ясна и кровь не так горяча, как прежде. А, может быть, ты еще очень молод, а потому и слушаешься только голоса сердца. Но я не могу сейчас разобраться, правдивы ли и хороши ли твои слова. Да, я много жил, я видел своими глазами, как пришли сюда фу-ланг-саи, при мне они выстроили и этот форт. И в те времена они за такие слова одевали смельчакам на голову и руки доску с отверстиями, а затем убивали из ружей на валу форта. Думаю, что и теперь они поступят так же!..
— А все-таки Чанг прав, — хмуро бросил четвертый из накэ. — Если мы не уничтожим эту бешеную собаку, он разорит всех нас!
— Слушайте, у меня есть план, сказал Чанг. — Каждый вечер он ездит на двух колесах в дом с крестом, что около Черного ручья, к человеку, который торгует молитвами[19]. Он хочет жениться на его сестре. А ночи теперь…
Четыре головы сблизились, чуть не касаясь друг друга лбами. А горячий, гневный шепот, звучавший угрозой для кого-то, слышал только лишь дикий кактус, уродливым идолом вылезший из земли.
Когда тронулись снова, старик, видимо соглашаясь, сказал:
— Хорошо, будет, как хотите вы. Ты, Чанг, вырежь призывные знаки на стволе священного дерева дао. Увидав их, Тринх-Хоу спустится с гор со своими «мстителями» и поможет нам. И горе тогда тебе, несправедливый мандарин!..
IV
Вечер не принес прохлады. Даже две больших «пунки», колыхающиеся в углах комнаты, не освежали, а только тяжело волновали горячий и влажный воздух, от которого белье пропитывается потом, а по телу ползет изнуряющий озноб. Такая гнетущая, расслабляющая жара обычно бывает только перед грозой.
Сигара капитана огненным, настороженным глазком блестел! в темноте. А сам он, удобно развалившись в полотняном лонг-шезе, чуть освещенный вечерними лучами, пристально смотрел на мощный горный массив Ои-Сапур, каменной стеной уходивший на запад. Главная вершина его Кюлао, «Гора дракона», уже теряла свои очертания, сливаясь с небом, минуту тому назад кроваво-красным, а теперь начинавшим чернеть. Подножье массива укутали джунгли, прибежавшие сюда из неизведанных глубин страны, с тоскливой дельты Тонкина. И там, где чаща джунглей остановилась, словно в нерешительности, перед трудным подъемом на массив, затаилась, залегла деревня Иенг-Си. По-звериному, словно волчья стая, сгрудились в кучу многочисленные каинха[20] деревни. Там уже загорались костры, и на фоне их мелькали какие-то неясные силуэты. Блики костров изредка выхватывали из темноты остроконечные соломенные крыши, похожие издали на золотые стрелы. Сюда вниз, в долину, прорываясь через глухой, отдаленный рев горного водопада, долетали монотонные песни женщин и шум пестиков, долбивших сухой рис.
Гренобль перевел взгляд левее и ниже, туда, где на внешней опушке джунглей скупо мигал огнями форт. Там пела вечерню зорю труба, и звук ее, то опадая, то снова поднимаясь, тянулся без конца, как надоедливая тонкая нитка.
«Вот две враждебных крепости, — думал Гренобль. — И война между ними, на первый взгляд может быть и незаметная, но от этого еще более страшная и беспощадная, кончится только с полным поражением одного из врагов…»
Боевой задор, которым капитан горел весь день, выдохся. И сколько он теперь ни пришпоривал самого себя, вместе с сумерками наползала лишь гнетущая тоска от сознания, что впереди еще трудная, бесконечная борьба, а, может быть, и бесславное поражение.
Невеселые мысли его оборвал женский голос из дальнего угла комнаты:
— Итак, Жак?
— Что итак? — отозвался капитан.
— Ваш окончательный ответ?
Капитан побарабанил по подоконнику пальцами и ответил хмуро:
— У меня нет денег!
В женском голосе заплескалась плаксивая злость:
— Я это знала, Жак. Я знала, что вы меня не любите и не хотите, чтобы я была вашей женой.
— Без глупостей, Жанна! Вы прекрасно знаете, как я вас люблю. Но что прикажете делать, когда на шее буквально удавка? И неужели отец Огюст так настаивает на этом пункте?
— О, вы еще не знаете моего брата. Сегодня, уходя в церковь, оно сказал мне: «Передай капитану Гренобль, что для офицера не сдержать слово — это значит опозорить свои эполеты. Весь форт ждет, когда же он уплатит свой долг поручику Галь. В противном случае ему остается одно — уйти навсегда из нашего дома и закрыть за собою плотнее дверь». Он так и сказал, Жак: «закрыть за собою плотнее дверь».
— Но у меня нет денег, — с мрачной злобой твердил капитан. — Нет, нет, нет!
— Я это знаю, Жак. Знаю, что поручик Галь несколько раз отсрочивал вам выплату долга. А теперь требует уплатить немедленно. Разве он ваш враг?
— Нет! Он хочет лишь одного — увидеть меня с простреленным виском или без эполет, чтобы занять потом мое место коменданта.
— Ах, если бы у меня были эти несчастные две тысячи франков. Я бы сама бросила их в лицо этому негодяю Галю. Но по завещанию я могу получить свою долю наследства только после выхода, с согласия брата, замуж. Что же делать, Жак, вы слышите?
Ветвистая молния разодрала небо. Комната на один миг наполнилась ослепительно-ярким зеленым светом. Над горами глухо и коротко проворчал гром, как будто там заворочался кто-то громадный и неуклюжий.
— Гроза приближается, — сказал тихо капитан.
— Жак, что же вы молчите? Неужели невозможно достать денег?
Гренобль молчал. Через плечо он, не отрываясь, смотрел на горы, на деревню. Там уже погасли костры, за исключением одного яркого большого, казавшегося отсюда пылающим шаром.
— Нет, невозможно! — ответил Гренобль. — Так же невозможно, как погасить отсюда вон тот костер.
Жанна встала. Слышно было, как скрипнули под нею половицы:
— Тогда нам не о чем больше разговаривать. Капитан Гренобль, прошу вас, уйдите отсюда и притворите за собой плотнее дверь! Чтобы… чтобы не вернуться обратно!
Зашумел отодвинутый лонг-шез. Капитан тоже встал.
— Вот как вы заговорили? — едко бросил он.
Из темноты слышались уже заглушенные рыданья:
— Да… уйдите… уйдите скорее… Я думала… надеялась…
— Я знаю, что вы думали и на что надеялись, — жестко и грубо оборвал ее Гренобль. — Друг друга мы не любим. Это так! Нечего играть в прятки. Нам обоим нужно ваше наследство для того, чтобы уехать во Францию из этой проклятой страны, которую мы оба ненавидим. По завещанию, наследство вы можете получить, лишь выйдя замуж, притом с согласия брата, вашего опекуна. Но он, гнусная ханжа, не даст согласия до тех пор, пока я не уплачу карточный долг поручику Галь. А чтобы расквитаться с поручиком, я должен иметь на руках две тысячи франков. Так?
— Так! — прозвучал в темноте ответ, полный трепетной надежды.
— Успокойтесь. Я завтра же уплачу поручику долг.
— Как? Что вы сказали, Жак?
— То, что вы слышали. Завтра утром Галь получит от меня две тысячи франков!
— Но откуда вы возьмете деньги?
— Видите, Жанна, на этот вопрос…
Новая вспышка молнии и испуганный истерический крик Жанны оборвали его на полуслова. Капитан бросился вглубь комнаты, где смутно белела фигура девушки.
— Что с вами, чего вы испугались?
— Там… там… около вашего окна… голова человека. Я ясно видела… молния осветила.
Гренобль подбежал к окну, лег на подоконник, высунувшись наполовину наружу. Около дома было темно и тихо. Неясным шорохом шепталась ночь, да где-то в кустах пересвистывались китайские дрозды. Капитан снова опустился на лонгшез:
— Не бойтесь, Жанна! Вам просто померещилось, никого нет за окном. Это действует на вас приближающаяся гроза. Воздух, насыщенный электричеством, натягивает нервы и портит настроение. С вашего разрешения я закурю, а затем мы спокойно обсудим наши дальнейшие планы.
Гренобль пошарил рукой по подоконнику, разыскивая портсигар. И вдруг с испуганным вскриком отдернул руку назад. Пальцы его нащупали что-то длинное, холодное, металлическое. Не мог сам понять, почему, но сердце как-то тяжело и больно трепыхнулось под грудной клеткой. Задрожавшими руками чиркнул спичку и склонился над подоконником.
Рядом с его портсигаром лежала длинная булавка, серебряная головка которой изображала уродливую маску божка Фо-Нонги.
V
Гренобль осторожно свел велосипед со ступенек веранды. И сразу стал невидимым. Тьма словно проглотила его.
Жанна, опершись о перила, крикнула вниз:
— Жак, почему вы вдруг так заторопились? Разве вы не подождете Огюста, чтобы объявить ему о нашем решении? Он скоро вернется.
— Нет. Я очень спешу. Я вспомнил… — отвечал капитан, не думая и стараясь усилием воли потушить мелкую дрожь, колотившую все его тело. И вдруг почувствовал, что он все еще держит в руке фетиш смерти. Рука сразу стала ватная, чужая. Брезгливо и осторожно, словно змею, швырнул булавку в ближайшие кусты. Облегченно вздохнув, нащупал ногой педаль.
— Жак, так темно, что вы сломаете себе шею. Подождите луны.
— Не беспокойтесь. Я знаю здесь каждый камешек.
— Зажгите хотя фонарь, Жак!
Но в ответ лишь зашуршала земля под велосипедом. И все смолкло.
…Гренобль летел «тромпом», проселком мягким и ровным, Холодный ветер, предвестник грозы, бил в лицо прохладными, ласковыми крыльями. Прилетев с вершины Ои-Сапур, он сохранил еще одуряющий аромат горных пастбищ.
Капитан жадно ловил ртом освежающие струи ветра. В пылающей голове ураган мыслей. Но особенно четкая одна:
«Скорее на полигон! Тотчас же, не медля ни секунды, ударить всей батареей по Иенг-Си, по этому осиному гнезду негодяев. А в Сайгон сообщить, что туземцы восстали, что вспыхнул бунт. А разве это действительно не бунт, не нападение на форт, на Францию?»
Но другая мысль, ядовитая и злая, словно спорила с первой:
«А зачем прикрываться громкими фразами о Франции? Ведь, не получив Фо-Нонги, ты не вздумал бы бомбардировать деревню. Будь откровенен сам с собой, — ты спасаешь только свою собственную шкуру!»
Гренобль яростно стиснул ручки руля и крикнул громко в темноту:
— Нет, неправда! Это бунт, бунт! — словно хотел переспорить кого-то невидимого, но хитрого и знающего все.
А тьма была такая, что капитан не видел даже переднего колеса велосипеда. Небо было черно, и только на западе мутно зеленел узенький просвет. Несмотря на это, Гренобль уверенно свернул с «трампа» на прямую, как стрела, аллею, искусственно обсаженную кустами алоэ и кокетливыми метелочками карликовых пальм. Аллея эта прорезала по диагонали весь полигон и, пробегая мимо орудийного парка, упиралась прямо в ворота дома капитана. Здесь, в этом душном коридоре, было еще темнее. Но, чувствуя твердую, утрамбованную почву, усыпанную гравием, по которой легко скользил велосипед, капитан не уменьшил хода.
По мелькнувшим вдали слева двум огонькам капитан понял, что он уже пролетел орудийный парк. До дому оставалось не более мили. Капитан уже заранее воображал, как захлебнется зловещими звуками тревоги труба, как забегает, засуетится форт и как батарейный залп огненным вихрем обрушится на деревянные крыши ненавистной страшной деревни Иенг-Си. Забывшись, яростно нажал на педаль. Велосипед, словно лошадь под ударом хлыста, рванулся вперед. Гравий засвистал под шинами, а мелкие камешки, с треском вылетая из-под колес, пулями защелкали по кустам и раме велосипеда. Встречный ветер не обвевал уже нежно лицо, а сердито рвал с головы кэпи.
Вдруг от страшного удара обо что-то твердое велосипед моментально остановил свой бешеный бег, как взбесившаяся лошадь поднялся на дыбы, повернулся на заднем колесе, как на шпиле, и опрокинулся назад, прямо на лежащего уже на земле капитана. Гренобль ногой спихнул его с себя и, поднявшись на локте, набрал воздуху в легкие, чтобы крикнуть на помощь. Но от глубокого вздоха кольнуло остро в голове, в ушах вдруг зазвенели тысячи колоколов и колокольчиков, сверкнул хоровод ярких разноцветных искр, и все пропало, провалилось в какую-то темную, гудящую бездну. Он не слыхал даже заглушенного, но многоголосого крика, раздавшегося где-то рядом, крика полузвериного, мрачного в своей злобной радости, напоминающего вой волчьей стаи, мчащейся за добычей…
…Через полчаса выползла лениво луна. Лучи ее, продравшись с трудом сквозь ветки алоэ и пальм, остановились испуганно на двух громадных камнях, положенных поперек аллеи. Рядом, как раненое животное, лежал велосипед, исковерканное переднее колесо которого казалось при обманчивом свете луны каким-то безобразным, спутанным мотком стальной проволоки.
VI
Капитану показалось, что он крепко спал и вдруг проснулся. И первым его ощущением была тупая боль в голове. Как будто эта боль тоже спала, а теперь проснулась вместе с ним.
Морщась от боли, он открыл глаза и тотчас прищурил их. Яркие лучи солнца резанули ножами. Над головой его повисло небо, безоблачное, ровное и бесцветное, но ослепительное, как зеркало из отшлифованной стали. Прямо перед ним, далеко-далеко, сверкающим брильянтом играла на солнце тупая вершина гиганта Кюлао, «Горы дракона». А ниже и ближе голубоватыми спиралями уходили ввысь утренние дымки деревни Иенг-Си.
— Иенг-Си… четыре накэ… глаза юноши… Фо-Нонги… велосипед… Да где же я?
Повел испуганным взглядом. И сжалось сердце. В нескольких саженях от него мрачно топорщились знакомые очертания искусственного блиндажа. За блиндажом желтые зигзаги окопов и черные ямы пулеметных гнезд. А левее — безобразные дощатые щиты, отдаленно напоминающие скачущую кавалерию.
— Да ведь я же на полигоне! Среди артиллерийских мишеней!
Гренобль испуганно рванулся вперед и со стоном повис на впившихся в тело веревках.
Привязан.
Взглянул вправо, влево, тут же около себя, и почувствовал, как ледяная струйка смертельного ужаса пробежала по спине. Да, привязан и привязан к одному из столбов, шеренга которых изображала наступающую цепь пехоты. Вправо и влево от него уходили ряды столбов. Глубокие царапины, выбоины, расщелины на столбах и изрытая вокруг них, словно в оспе, земля доказывали капитану, что его артиллеристы могли иногда стрелять очень метко. Высокая трава окутала столбы так, что лишь верхушки их высились над этой зеленой чащей. Веревки опутывали капитана только до пояса, ноги же его были совершенно свободны.
Неотрывно, не мигая, не замечая слез, набегающих от солнца, смотрел капитан на Иенг-Си:
— Значит, вы победители? Вы наступили мне ногой на горло? Вы сумели мои же пушки обернуть против меня? Но нет! Я еще не сдаюсь!
Упершись в землю носками, капитан изо всех сил рванулся вперед. Столб подался, но не слишком. Пересохшая, твердая, как камень, земля крепко держала столб.
Упираясь ногами в землю попеременно, то носками, то каблуками, Гренобль начал дергать столб то вперед, то назад. От каждого его толчка столб качался все сильнее и сильнее.
Пот едкими ручьями катился по лицу, застилая глаза. Гренобль поднял глаза на солнце, нестерпимо палившее обнаженную голову, и увидел его над самой вершиной Кюлао.
«Уже семь часов, — удивленно подумал он. И тотчас же страшная мысль в кулак стиснула сердце — Семь! Начало стрельбы».
Рискуя сломать позвонки шеи, он повернул голову круто назад и, благодаря удивительной прозрачности воздуха, ясно разглядел на главном флагштоке полигона красный вымпел — предостерегающий знак начала учебной стрельбы.
Как безумный, с глухим воплем рванулся капитан вперед. Столб качнулся под острым углом, но не вылез из земли. И тотчас же в отдалении послышался глухой треск, затем приближающийся свист чего-то летящего со страшной быстротой и наконец звенящий рев разрыва.
Широко раскрытыми глазами смотрел Гренобль, как граната невдалеке перед ним взметнула кверху темнорыжий фонтан пыли и дыма. Ноздри защекотал приторно-сладкий запах сгоревшего тротила.
После рева разрыва снова стало тихо-тихо. Лишь где-то близко в траве сладострастно стрекотала бесстрашная цикада.
Капитан, смертельно бледный, висел на веревках. Его привел в себя второй выстрел и свист летящего снаряда. Но разрыва он не увидел, потому что граната рявкнула где-то за его спиной. Лишь осколки, сердито фырча, пронеслись над его головой.
Гренобль не даром был артиллеристом. Он понял, что батарея избрала мишенью именно те столбы, к одному из которых он был привязан. Гренобль понял также, какую страшную игру ведет с ним ничего не подозревающая батарея. По двум первым, одиночным выстрелам, батарея определила перелет и недолет по цели, — захватив цель, а следовательно и капитана в так называемую прицельную вилку. Теперь же, взяв прицел, средний между перелетом и недолетом, батарея ударит уже залпом и попадет прямо по цели.
Кроме того капитан знал, что единственное средство спастись от гранат — это лечь на землю. Стоять же так, как стоит он, это значит быть наверняка растерзанным в куски.
Гренобль понял, что третий выстрел, если ничего не изменится, будет для него концом.
И время этого третьего выстрела пришло. Батарея колыхнула воздух давящим залпом всех своих орудий.
Капитан, с глазами, вылезшими из орбит, собрав остаток сил, рванул столб. От натуги у него хлынула носом кровь. Столб затрещал и рухнул на землю, увлекая за собой капитана.
Оглушенный падением, он не услышал разрывов и лишь по комьям земли, засыпавшим его, понял, что самое страшное уже миновало.
Лежа на траве, Гренобль смеялся беззвучным, истерическим смехом.
…Уставшее солнце нырнуло за хребет Ои-Сапур. Вершина Кюлао потухла и белела смутно и нежно, как девичье плечо.
С запада примчалась ночь. Слизнула нежную белизну Кюлао и заботливо укутала равнину и форт тьмой. Полигонная команда, пришедшая ночью с фонарями устанавливать вместо разбитых новые мишени, наткнулась на капитана. На спине у него болтался привязанный мишенный столб. Капитан был без сознания и выкрикивал в бреду одни и те же слова:
— Горнист, труби тревогу!.. Они переходят в наступление! Тревога!.. тревога!..
ИСПОРЧЕННЫЙ ДЕНЬ Рассказ
Кофе остыл, а стостраничный «Таймс» только раздражал.
Жирным шрифтом кричал он о том, что Ковенгарденский театр готовит к постановке новую оперу из жизни полусвета, что театр «Рильто» уже открыл сезон пьесой из жизни последнего русского императора, а шантан «Джентльмен» угощает лондонцев негритянским балетом.
— Годдем! Но ведь все это там, в милом Лондоне! А я должен торчать, как дурак, в этой варварской азиатской стране, без новых опер и без балета.
Потянулся, хрустнув суставами, поднялся и подошел к окну. Спокойная голубизна неба потушила раздражение. Чуть слышными всплесками долетал вопль уличного торговца, пронзительный, тоскливый, замирающий высокой, скорбной жалобой:
— У-о-э-х-у-у-у!
Затем минута глубокой, полной тишины, прерываемой воркованием белых голубей где-то на крыше, и опять жалобный вопль:
— У-о-э-х-у-у!
Хейгу нестерпимо скучно. Воскресный день тянется лениво и нудно, как проповедь пастора сегодня за обедней. В доме мертвая тишина. Семья на все лето уехала отдыхать на горный курорт Цзи-Чун-Шань, близ Ханькоу. Мистер Хейг остался один в Шанхае.
— Но чем же занять день?
Обед кончен, передовая статья о твердой политике держав в Китае прочитана.
— А дальше что?
Если бы не эта проклятая летняя жара, из-за которой на две недели закрыты все увеселительные места Шанхая, можно было бы недурно провести вечер — сыграть партийку в бридж или посмотреть новый потрясающий американский фильм или же, в конце концов, съездить в бар, где пляшут фокстрот русские девицы.
Хейг подошел к окну, поглядел на море шанхайских толевых крыш, на грязные, дымные завесы порта и дальше, на голубое небо, аккуратно разлинованное телеграфными и телефонными проводами.
Черные линеечки проводов почему-то напомнили детство, туманный Лондон, скучный, чопорный колледж[21] и ученические тетради, которые он линовал так же четко и аккуратно, как провода небо.
Расплылся, отодвинулся куда-то теперешний уважаемый мистер Вильямс Хейг, и вновь вернулся просто Билли, ученик колледжа св. Ксаверия, рыжий Билли, дравшийся с приятелями, мечтавший о приключениях и в украдку от отца куривший тошнотворный и ядовитый матросский табак.
Невольно улыбнулся. Но мысль от скучного колледжа круто свернула к театру «Рильто» и негритянскому балету. И снова вспыхнуло раздражение.
Яростно нажал кнопку звонка. Приказал подавать автомобиль.
Решил прокатиться по набережной, насладиться сомнительной свежестью наступающего вечера.
Выйдя на улицу, жадно глотнул ветер, прилетевший с многоводного Ян-Цзы, крепко пахнущий речным илом. Против крыльца прижался к тротуару черный, плавно берущий и беззвучный на ходу «Ролл-Ройсс». Готовый по первому знаку мистера Хейга ринуться в пролеты улиц, авто нетерпеливо фырчал и дрожал мелкой ритмической дрожью.
Мистер Хейг взялся уже за ручку дверцы. Но вдруг отступил обратно на тротуар и огляделся. Бесконечным разметом ушла в обе стороны авеню. Спускающиеся сумерки уже скрадывали ее концы. Подумал о том, что в городе теперь неспокойно. Вчера нашли убитым американского волонтера, а на прошлой неделе портовые кули среди белого дня избили трех русских офицеров. Но истомившееся тело требовало движения.
Задумчиво потер переносицу, повернулся к секретарю:
— Отошлите авто! Я пойду пешком!
И решительно зашагал вперед.
Идти было легко и приятно. Уверенно стучат по тротуару каблуки длинноносых «джимми», ласково шелестит легкий фай-де-шик пиджака и уютно посапывает трубка, стеля через плечо мистера Хейга дымные полотна душистой «вирджинии».
Сбоку, как привязанный, не отставая ни на шаг, царапает когтями асфальт дог «Грэг». Морда «Грэга» собрана в такую же презрительную и брезгливую гримасу, как у мистера Хейга. Как будто собака рабски копирует своего хозяина.
Сзади на почтительном расстоянии — личный секретарь, он же переводчик.
Быстрые движения, легкий встречный ветерок окончательно выбили дурное настроение, безотчетную хандру. Мистеру Хейгу весело. Привычно развертывается клубок мыслей. В порту уже разгружен громадина «Грелль-Пенисворт». Его трюмы выбросили неимоверное количество ярдов дешевых английских материй. Этот товар в ходу у косоглазых варваров. Его расхватывают в несколько месяцев. А это уже шестая партия, и она, как всегда, положит в карман мистера Хейга кругленькую сумму барыша. Еще два-три таких выгодных дельца, и можно будет бросить эту страну дикарей и уехать с туго набитым карманом в родную Англию.
Развеселившись окончательно, загнусавил модную шансонетку:
Ах, мисс Эльжбет, Не будьте так строги, И дайте мне напиться Из вашего стакана…Но настроение искало выхода. Бросил через плечо секретарю:
— Алло, мистер Ричард, как живете?
Не привыкший к такой внимательности секретарь удивленно вскинул брови. Но ответил почтительно и благодарно:
— Благодарю вас, сэр, хорошо! Как чувствуете вы себя, сэр?
— О, очень хорошо!..
Все хорошо: и что вечер тих и ласков, что чуть-чуть освежает ветерок, что в порту ждет обратно похода в Англию уже пустой «Грелль-Пенисворт», а, главное, хорошо то, что за это он получит извещение от «Сити-банк» об увеличении его текущего счета еще несколькими десятками тысяч фунтов стерлингов.
Спокойный переулок неожиданно вывел на аристократический Нанкин-роод, главную артерию Шанхая. Сразу пахнуло бензинной гарью, смешанным запахом магазинов, человеческим потом, терпкой вонью тающего под солнцем асфальта. Нанкин-роод, словно горячечный больной, колотился, несмотря на воскресный день, в неуемной лихорадке. По сплошь асфальтированной улице непрерывным потоком лились трамваи, авто, рикши. Продавец похлебки, с котлами на обоих концах коромысла, беспомощно застрял посредине улицы и умоляюще смотрит на рослого полисмена-индуса.
Хейг остановился на углу. Шанхай всегда болезненно-остро ворошил его любопытство. Оглядывал внимательно, словно изучая, шумную толпу на тротуарах, состоящую главным образом, из китайцев, несущую свой особенный шум, свои особенные запахи. Перевел взгляд на массивные мраморные колонны Гонконг-шанхайского банка, на кровожадного орла, терзающего земной шар над портиком Американского интернационального банка, затем опять на пеструю толпу.
Да, это Шанхай, всесветные меблированные комнаты, проходной двор всех национальностей, рас, культур, религий! Это Шанхай, золотое дно, обетованная страна для мошенников и авантюристов всего мира, приезжающих сюда в угольных ямах пароходов, а покидающих его в обитых шелком вагонах «голубого экспресса». Это Шанхай, почти единственный в мире город, где сталкиваются лицом к лицу китаец и француз, японец и англичанин, индус и немец, малаец и русский, аннамит и швед.
Чей-то локоть с размаха больно ткнулся в ребра мистера Хейга и вывел его из задумчивости. Быстро выпятил грудь и встал в боксерскую позицию, словно ожидая нападения. Толкнувший китаец, приподняв характерную студенческую шляпу, сухо пробормотал извинение. И больше ничего! Хейг не увидел в его глазах обычной для китайца угодливости и собачьей покорности. Наоборот. Мистер Хейг готов был поклясться, что в этих горячих узких глазах мелькнула презрительная враждебность.
Потирая ушибленный бок, мистер Хейг вспомнил прочитанную сегодня утром статью о твердой политике держав в Китае. Подумал с злобной радостью, глядя в спину удаляющемуся студенту: «Погодите, мы вас подтянем! Мы вас возьмем в шоры!»
Разбуженный толчком от своих мыслей, пригляделся уже внимательнее к улице. Удивило необычайное оживление, но оживление не делового дня. Не было нервной спешки и будничной озабоченности на лицах. Все деловое, порывистое, жадное, грубое, что заставляло ежедневно улицы города мчаться слепым в своей стремительности потоком, пропало бесследно, сменившись угрюмой сосредоточенностью и скрытой, стыдливой печалью.
Удивленно обернулся к секретарю:
— Что у них сегодня, праздник?
— Нет, сэр! Наоборот!
— А что же?
— День траура, сэр! Годовщина смерти…
— Чьей смерти?
— Видите ли, сэр!… Это, конечно, глупости… — мялся испуганно секретарь, скосив виновато глаза на какую-то вывеску.
— Ну!.. — и брови мистера Хейга недовольно встопорщились.
По-прежнему избегая встречи со взглядом патрона, секретарь пролепетал:
— Сегодня годовщина смерти доктора Сун-Ят-Сена. А попутно у них манифестация против… нас… европейцев… Вы понимаете, в чем дело, сэр?
Хейг понял. Кисло подтянул рот, как будто ему насильно влили ложку уксуса.
И сразу пропало все приятное. Почувствовал вдруг, что жмут мучительно «джимми», давит воротник, а потухшая трубка обжигает рот едкой горечью никотина.
Откуда-то издали тяжело поплыл глухой шум. Он приближался, налетая рокочущими волнами, пропадал и снова возвращался уже вихрем звуков.
Но вот грохот победно залил улицу. Из-за угла выползла первая шеренга людей. На фоне серых стен радостно затрепыхались полотнища знамен. Хейг смотрел на затейливые завитки иероглифов, стараясь разгадать тайну начертанных тушью слов. Он чувствовал, что слова эти рассказывают о чем-то особенно важном, гневном и яростно-злобном. Мотнул в сторону знамен подбородком и спросил секретаря:
— Что на них написано?
Страдающим голосом секретарь перевел:
— «Смоем национальный позор».
— Еще!
— «Долой захватчиков-европейцев».
Дернул плечом и отвернулся.
Гремели оркестры. Медным звукам труб было тесно в узких щелях улиц. Тяжело ухали они в стены домов, рассыпались бесчисленным эхом и, перепрыгнув через гребни крыш, улетали в простор.
Переулки выбрасывали на Нанкин-роод все новые и новые шеренги людей. Улица гудела под тяжестью их шагов. Здесь были студенты, рикши, изъеденные чахоткой, солдаты неизвестных армий, портовые кули, рабочие-железнодорожники, ткачи, лодочники, кузнецы и ресторанные служащие. Но больше всего было рабочих с левого фабричного берега Хуанпу. Хейг видел и раньше эти дырявые синие блузы, но не в таком количестве. Ему как-то пришлось переехать через реку, мимо барж, пароходов, броненосцев, точно вросших в воду, на противоположный берег. Там впервые увидел он этих синеблузников, рабов неумолимого повелителя — Шанхая, гудящего тысячами авто, звенящего золотом в банках, сверкающего витринами магазинов, гремящего джазбандами зеркальных фокстротных зал.
Но ведь это было на левом берегу. А пустить их на чопорный Нанкин-роод — это не равносильно ли тому, чтобы выпустить диких зверей из их клеток?
Между колонной голоногих рикши и отрядом кули в грязных засаленных курмах увидел небольшую группочку гимназисток, в черных платьицах и аккуратных передниках.
— И они участвуют в манифестации? — удивился Хейг.
— Да, сэр! И они тоже, — покорно соболезнующе выдавил секретарь.
Злоба всверлилась в сердце. Ломающимся от ярости голосом сказал секретарю:
— Годдем! Если бы эта сволочь попробовала вести себя так у нас в Лондоне, мы живо загнали бы их штыками в Пентонвильскую тюрьму[22].
В двух шагах от мистера Хейга на тротуаре столкнулись двое мужчин. Один видимо рабочий, весь костюм которого состоял из широкополой соломенной шляпы и засаленных штанов; другой— одетый вполне по-европейски, в чесуче и цветных «джимми». Оба одновременно извинились. И вдруг, к удивлению мистера Хейга, сцепились в крепком рукопожатии и долго, подражая европейцам, трясли друг другу руки.
Заметив округлившиеся от удивления глаза мистера Хейга, один из них, тот, что был похож на рабочего, задержался и, засунув руки в карманы, начал с откровенной враждебностью рассматривать европейцев.
Хейг строго поджал губы и отвернулся с таким видом, как будто провел между собой и им резкую черту. А «Грэг», словно защищая хозяина, выдвинулся вперед и обнюхал подозрительно засаленные штаны. Поднял дрогнувшие губы, ощерил клыки и неожиданно громко чихнул.
Китаец вдруг заразительно рассмеялся, крикнул что-то задорно-вызывающее прямо в лицо Хейгу и, свистнув пронзительно, юркнул в толпу. Хейгу нестерпимо захотелось натравить на него
«Грэга». Но вовремя сдержался, вспомнив, что такие удовольствия можно разрешать себе лишь на территории неприкосновенного сетльмента.
Стена тел вдруг неожиданно надвинулась на него, сорвала с места, закрутила и понесла куда-то. Уцепившись за колонну какого-то подъезда, задержался с трудом на месте.
Боясь нового натиска толпы, Хейг поднялся на тумбу и встал на одной ноге, держась за фонарь. Балансируя свободной рукой, чувствовал себя неуверенно и глупо. Злым, раздраженным бормотаньем встретил пробивавшегося к нему сквозь толпу секретаря. Потерявшийся «Грэг» скулил где-то далеко, еле слышимый. Позвать его не решился. Почему-то побоялся обратить на себя внимание этих чужих, непонятных людей.
Через головы впереди стоящих мистер Хейг видел всю улицу. Ненавидящими глазами шарил по колоннам, стараясь вобрать, запомнить каждое лицо, плывущее мимо. И вздрогнул.
Бестолковый гомон чужих, непонятных голосов прорезала знакомая, родная речь. Завертел беспокойно головой и наконец увидел их.
Это были моряки. Длинной шеренгой, сцепившись под руки, плыли они в общем потоке и сиплыми, простуженными голосами пели песню сражений, песню баррикад, призывающую всех рабов и голодных разрушить, разметать старый, гнилой, ненавистный мир.
Шаг их тверд к крепок, лица серьезны и строги, как будто они поют церковный хорал, а широкие груди открыты, и от глубоких вздохов колеблются вытатуированные на них неведомые птицы, якоря, опутанные канатами, и сердца, пронзенные стрелами.
Забыв про нелепость своей позы, крикнул что было мочи:
— Стойте! Это я говорю! Стойте!
Шеренга моряков, словно по команде, повернула головы на крик, и четыре десятка глаз с удивлением уперлись в господина, плясавшего на одной ноге на тумбе.
Мистер Хейг камнем слетел на мостовую и ринулся к морякам:
— Я вам приказываю, стойте!
Шеренга остановилась. Упершись ногами в землю и завалившись назад, задержали идущих сзади. Затем разорвались и окружили мистера Хейга, сами стиснутые в живом кольце остановившихся демонстрантов.
Махая неистово стиснутыми кулаками, словно боксируя с неведомым врагом, Хейг кричал:
— Как вы смеете? Вы, подданные его величества, вы поете бунтарские песни и участвуете в манифестациях этих азиатских дикарей? Сейчас же отправляйтесь на свои суда! Это приказываю вам я — Вильямс Хейг. Ну, марш, живо! Годдем!
Кривоногий рыжий крепыш выпихнулся вперед и надвинулся вплотную на мистера Хейга. Уткнулся в него тяжелым немигающим взглядом. И вдруг, схватив его за ворот, тряхнул молча.
Мистер Хейг почувствовал, как испуганной дрожью затлелись колена.
— Слушай, приятель, — сказал спокойно кривоногий — если вы там, у нас на родине, не позволяете нам делать и даже думать, как хотим мы, то здесь вы этого не запретите. Нет, сэр! А потому убирайся к дьяволу, иоркширский боров! Ты здесь лишний!
Быстрый, как молния, удар волосатой руки, и мистер Хейг с удивлением почувствовал, что он летит куда-то. Шлепнулся в объятия сзади стоявших людей. Но люди расступились, и он влип в стену дома, больно ударившись головой об острый угол.
Серо-стальным летящим снарядом мелькнул в воздухе «Грэг» и повис, вцепившись зубами в плечо рыжего крепыша. Матрос пошатнулся, но выдержал натиск пудовой туши собаки. Над головами людей взвился, сверкая как искра, кривой нож, и «Грэг» с распоротым боком, скуля, тяжело грохнулся на землю.
— Ишь ты, вся в хозяина! Такая же зубастая и злая! — держась за окровавленное плечо, сказал беззлобно крепыш.
При виде крови на матросской рубахе Хейг окончательно обезумел от страха. Сейчас эти страшные люди растерзают его в клочки. Зажмурился и закрыл голову руками. Мучительно долго ждал удара. Но ударов не было. Вместо этого услышал дружный хохот десятка здоровых глоток. Удивленно выглянул из-под руки. Матросы, сворачивая за угол вместе с остальными демонстрантами, тыкали в его сторону пальцами и хохотали, как безумные.
Хейг облегченно перевел дыхание.
Поднял упавшее кэпи и помутневшими глазами повел по сторонам. Видел только улицу, снова неудержимым потоком голов и знамен текущую мимо него.
Топот шагов и звуки песен тупой болью отзывались в голове, острые завитушки иероглифов на знаменах царапали глаза, а беспрерывность, бесконечность этого живого потока причиняли буквально физическую боль. Ему казалось, что стоит только прерваться этой бесконечной реке мерно колыхающихся голов, как ему станет легче. Пройдет чувство давящей, смертельной тоски и успокоятся натянувшиеся струнами нервы.
Но переулки посылали в улицу все новые и новые колонны.
И не было им конца.
С сердцем, замирающим, словно от тяжелого похмелья, втиснулся в толпу. Безучастный к толчкам и пинкам, старался выцарапаться из людского месива.
Уже зажглись фонари, когда он наконец выбрался на знакомую тихую улицу. Шел, засунув руки глубоко в карманы, подняв плечи и втянув голову, словно ожидая удара.
На углу, в двух шагах от дома, остановился. Зачерпнул ушами угасающий уже гул оставшихся далеко сзади улиц.
И вдруг удивился, не слыша рядом знакомых царапающих шагов «Грэга». Хотел свистнуть призывно. Но вспомнил. Еще больше сгорбил плечи.
И ясно почувствовал, что день окончательно испорчен, что уже не избавиться от этой щемящей тоски, клещами сжавшей сердце.
Примечания
1
Буддийский храм.
(обратно)2
Золотая монета в Индо-Китае.
(обратно)3
Орган городского «самоуправления» в капиталистических странах.
(обратно)4
Ляо-Ху — по-китайски тигр.
(обратно)5
Митхо — крупный город Кохинхины, в 70 километрах юго-западнее Сайгона.
(обратно)6
Сун-Ят-Сен в 1908 г., спасаясь бегством от преследования китайского, тогда еще императорского, правительства, скрывался среди бедноты Шолона.
(обратно)7
Сахарный песок, растворившись в бензине, попадает в жиклер (тоненькое калиброванное отверстие, через которое горючее вещество идет в смесительную камеру) и, забив его, может приостановить надолго работу автомобильных моторов
(обратно)8
«Кох-бин» — красный японский гиацинт.
(обратно)9
«Накэ» — по-аннамитски крестьянин.
(обратно)10
«Юманите» — газета, орган французской компартии.
(обратно)11
Бонза — буддийский жрец, священник.
(обратно)12
Местный своеобразный обычай: подпиливать зубы для украшения.
(обратно)13
Мойи — племена, населяющие плоскогорья центрального Индо-Китая.
(обратно)14
Французы.
(обратно)15
Франции.
(обратно)16
Опиум.
(обратно)17
Канал естественного происхождения.
(обратно)18
Ядовитая ящерица.
(обратно)19
Священнику.
(обратно)20
Строения вообще.
(обратно)21
Школа.
(обратно)22
Тюрьма в Лондоне.
(обратно)
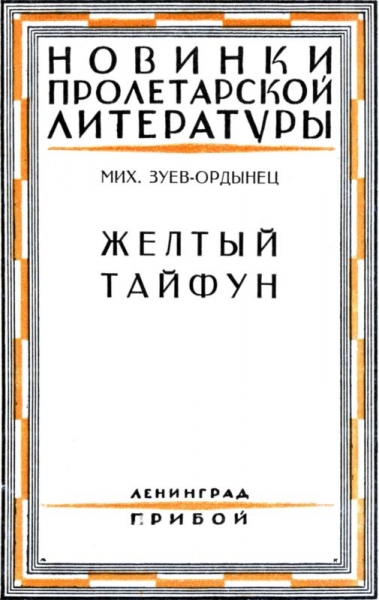


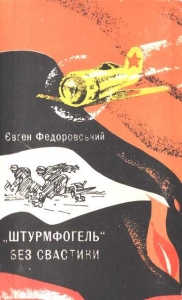
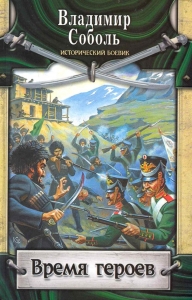
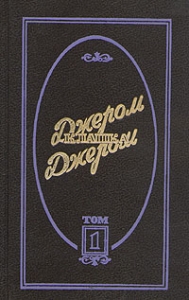
Комментарии к книге «Желтый тайфун», Михаил Ефимович Зуев-Ордынец
Всего 0 комментариев