Людвиг Павельчик Штурман
Тем, кто помнит Советские времена… …и любит загадки
Пролог
Проводя вечера одного из теплых сентябрей начала 2000-х годов в архиве ***ского Городского Отдела Внутренних Дел, куда был допущен лишь на весьма ограниченное время и лишь на основании связей и знакомств, я пытался отыскать для потомков хоть сколько-нибудь поддающиеся осмыслению подробности гибели моих предков, ставших в далеких тридцатых поленьями в жарком костре борьбы с антисоветчиной.
Вскоре, однако, мне стало скучно, так как я понял, что, несмотря на все подключенные связи и заверения «сильных мира сего», доступа ко всей полноте информации мне предоставлено не было, а самые интересные страницы, раскрывающие нюансы допросов или повествующие о ходе умозаключений не щадивших себя на изнурительной работе следователей Народного Комиссариата либо перемещены в другие, недоступные мне, архивы, либо и вовсе уничтожены. Имена осведомителей также были тайной за семью печатями.
Разочаровавшись, я стал рыться во всем подряд, во всех отделах, куда имел доступ, разыскивая знакомые адреса, фамилии, даты и потихоньку восстанавливая для себя картину судеб тогдашних жителей родного города. Судеб, зачастую неведомых даже их прямым потомкам.
И вот, в одном из ящиков я случайно наткнулся на документ, озаглавленный «Дело № 48071», который на несколько часов полностью поглотил мое внимание, поскольку напомнил мне об одном странном, необъяснимом случае, произошедшем со мной несколько лет назад, во времена моей школьной пионерской юности, и заставившем меня тогда усомниться в собственном психическом здоровье. Найденные же мною бумаги косвенно подтверждали истинность тех событий и давали мне право не стесняться отныне своих воспоминаний, тем более, что люди, причастные к этому делу, давным-давно покоятся в своих могилах и причинить им вред неосторожным словом невозможно. К тому же, случай, о котором я говорю, до сих пор оставался для меня неясным и загадочным, так что стоило, несомненно, потратить время и силы на то, чтобы в нем разобраться.
Часть первая Завязка
Глава 1 Случайное возвращение
Шел январь 1989-го года. Один из тех суровых сибирских январей, когда ртутный столбик термометра падает ниже низшего, моторы автомобилей не запускаются, будучи не в силах провернуть застывшее в шугу масло, а школьные занятия то и дело отменяют, опасаясь переохлаждения юных ленинцев в по-советски отапливаемых классных помещениях. В день же повествуемых событий обучение, несмотря на существенный мороз, состоялось, и мы часов семь кряду напитывались преподносимыми нам знаниями, замешанными на величии красного цвета.
После занятий я, по приглашению моего друга Альберта Калинского, зашел к нему домой, чтобы немного погреться, переписать у него условия каких-то там задач (учебник нам выдали один на двоих), а заодно и вкусить пышущих жаром пирогов с капустой или ливером, которые так замечательно пекла Елизавета Александровна, Альбертова бабушка.
Альберт с родителями, младшей сестрой и вышеозначенной бабушкой жил в третьем этаже одного из домов характерной архитектуры, построенном в начале тридцатых годов, но еще крепком и даже, по меркам нашего городка, элитном. Здесь проживала партийная номенклатура и вышедшие в отставку военные чины не ниже полковника, так что мой друг вполне мог считаться если не небожителем, то, по меньшей мере, представителем городского дворянства.
Это была большая, трехкомнатная квартира с балконом и высокими потолками, выходящая тремя окнами на проспект и двумя – в сад расположенного рядом Дворца Пионеров. Унылое, серое здание Дворца мало привлекало детвору, но сад этот был словно создан для мальчишеских игр, собирая под сенью своих кленов и акаций ребят со всей округи, своими криками и гвалтом вызывающих справедливое бурчание добрейшей Елизаветы Александровны.
Помимо того, начинающаяся прямо от двери альбертовой квартиры железная, приваренная сверху и снизу, лестница вела на чердак – вотчину голубей и темных историй, где проходили все самые секретные «советы в Филях» и принимались самые важные в мальчишеской жизни решения. Одним словом, продуваемой всеми ветрами и пахнущей плесенью двухкомнатной «хрущовке», служившей приютом мне и моим родителям, было далеко до этих хором.
Было у квартиры, где жил мой друг, и еще одно неоспоримое достоинство – в ней обитали призраки. Правда, завернутыми в саван ухающими и стонущими фигурами они себя, к сожалению, не являли, но странностями и «ужасными непонятностями», если говорить языком Альберта, квартира буквально кишела, поначалу держа своих жильцов в постоянном напряжении, если не сказать – страхе. Почти каждую ночь по квартире кто-то ходил, заунывно бубня себе под нос, открывал и закрывал форточки, включал и выключал свет в ванной комнате, звенел посудой в кухне, а порой даже мелькал едва различимой тенью на фоне окна или в дверных проемах. Спокойный сон семейства стал редкостью, чем мой романтичный друг почему-то очень гордился.
Постепенно, однако, родители Альберта сменили страх на скепсис и даже стали посмеиваться над собой и домочадцами по поводу охватившей их изначально робости. Детям, однако, они запретили обсуждать феномен вне дома, боясь прослыть суеверными и, чего доброго, утратить часть своего авторитета в глазах коллег по Партии, которая, как известно, иных сил, кроме Красного Террора и революционной законности, не признавала.
По этой же причине многократные предложения Елизаветы Александровны пригласить какого-никакого священника и окропить жилье святой водой, в антидемоническую силу которой она почему-то верила, были без обсуждения отринуты, а настойчивость, которую она пыталась было проявить, рассыпалась в прах, наткнувшись на стальную волю зятя. Ничего не произошло и после того, как младшая сестра моего школьного друга вышла из ванной комнаты с пятнами крови на руках и животе, не имея при этом ни следа повреждений, но поведав, что «кровь была в ванне». После беглого осмотра помещения случившееся было приписано фантазии малолетней мистификаторши, а тема закрыта.
Таким образом, альбертовой семье приходилось мириться с ночными гостями из потустороннего мира, которые, к счастью, открытой агрессии к нынешним обитателям квартиры не проявляли и в их повседневные дела не вмешивались.
Альберт же, беспокойная душа, понятное дело, нарушил отцовский запрет и почти каждый день снабжал меня все новыми «страшными историями» из своей домашней жизни, и я охотно подыгрывал ему, замерев в напускной оторопи и не перебивая, хотя, в глубине души, не очень-то всем этим интересовался, вскормленный эпосами куда более реальными и героическими.
Так вот, в тот злополучный день я, вопреки обыкновению, засиделся у друга несколько дольше обычного, засобиравшись восвояси лишь в начале восьмого. В квартире было тепло и весело, а стряпня Елизаветы Александровны просто пела в унисон с моими желудком и сердцем, так что я, быть может, посидел бы еще, если бы не то обстоятельство, что мои родители не были поставлены в известность относительно этого намерения, и исправить это я не мог, ибо наша позиция в очереди на установку телефона была мало обнадеживающей.
Посему я нехотя поднялся, намотал на шею толстенный колючий шарф ручной вязки, нахлобучил на голову добротный собачий треух, сунул ноги в валенки, а руки в рукава уже изрядно поношенного клетчатого пальто и, попрощавшись с Альбертом и его домочадцами, вышел в темный гулкий подъезд, а минутой позже в морозную тишину двора, едва освещенного слабым желтым светом чудом не разбитого фонаря.
До дому было километра полтора, и я резво, насколько мне позволяло мое одеяние, приступил к преодолению этого расстояния. Не пройдя, однако, и сотни метров, я с досадой обнаружил, что забыл в квартире Альберта свои рукавицы, положив их на полочку у двери и не удосужившись взять снова. Такое разгильдяйство было недопустимо, поскольку кожа моих рук уже начинала съеживаться под воздействием тридцатиградусного мороза, а в карманах моего пальто было не намного теплее, чем снаружи. Поразмыслив секунду, я все же решил вернуться, надеясь, что хозяева не разбежались по постелям тотчас же по моему уходу. Конечно, не хотелось снова отсчитывать ступени лестницы темной парадной, но делать было нечего.
Первый, самый маленький пролет, в шесть ступенек… Далее – гвоздь в перилах… Не задеть… Еще четыре пролета по десять… Лестница на чердак по правую руку… Все, пришел.
Уже протянув было руку к звонку, я заметил тонкую полоску слабого света между дверью и косяком и услышал чью-то неразборчивую речь из глубины квартиры. Дверь была, очевидно, не заперта, хотя я отчетливо помнил щелчок за моей спиной, раздавшийся при моем уходе и свидетельствующий, что английский замок захлопнулся. Должно быть, кто-то из соседей навестил хозяев, так как никого, входящего в подъезд с улицы, я не видел.
Что ж, тем лучше. Быть может, я смогу вызволить мои рукавицы без лишнего шума и не потревожив жильцов. Конечно, было не совсем удобно заступать на чужую территорию, не осведомив об этом ее владельцев, но в тот момент мне показалось правильным поступить именно так. Я чуть шире отворил слабо скрипнувшую дверь и скользнул внутрь квартиры.
В передней царил полумрак, рассеиваемый лишь проникающим сюда из-за приоткрытой двери гостиной тусклым светом, который и позволял различать контуры предметов. Странным же было то, что предметы эти я вдруг перестал узнавать, словно видел их впервые. Оглядевшись в поисках своих рукавиц, которые я надеялся обнаружить на прибитой к стене полочке для ключей, я вдруг наткнулся на стоящую на этом самом месте высокую резную этажерку, цвета которой я в потемках не разобрал, но был уверен, что еще пять минут назад ее здесь не было.
Следующим моим открытием стало то, что и сама входная дверь на ощупь оказалась обитой какой-то клеенкой, местами порванной, причем в дыры эти, произведенные, очевидно, без надлежащей сноровки вбитыми гвоздями, бесформенными лавтаками проглядывала вата. Дверь же квартиры моего друга была с внутренней стороны обита рейкой и аккуратно покрыта лаком.
Первой моей мыслью было, что я запутался в темноте подъезда и по глупой случайности попал в чужую квартиру, из-за чего меня, безусловно, ожидают неприятности. По здравому размышлению я, однако, пришел к выводу, что ошибки все же быть не могло, ибо дверь квартиры этажом ниже была и вовсе железной, а виденная и осязаемая мною пару секунд назад лестница на чердак не оставляла никаких сомнений в том, что я именно там, куда шел.
Тогда в чем же дело, черт возьми?! Не могли же они, в конце концов, за столь короткое время сотворить столь разительные изменения! Да и к чему?
Я стал осторожно продвигаться вперед, дивясь произошедшим в прихожей метаморфозам: ковра на полу не оказалось, а вместо аккуратного шкафчика для обуви у стены был выстроен целый ряд разномастных сапог и туфель, многие из которых выглядели весьма странно, стояли задом наперед или вовсе не имели пары, как мне показалось при беглом осмотре.
Я был настолько ошарашен дикостью происходящего и поглощен все новыми открытиями, что начисто позабыл о цели моего прихода и начал, теперь уже целенаправленно, исследовать помещение. Моя юная кровь не ведала страха, а любопытство, острое, как шило в известном месте, толкало меня вперед.
Так, через узкий коридорчик слева от входной двери я проник на кухню, в которой час назад уминал сочные пироги с капустой. Но ни их запаха, ни полированного обеденного стола, еще давеча стоявшего в углу у окна, в этой кухне не было. Над мойкой же с капающей водой был прилажен такой длиннющий гусак, подобные которому я доселе видел лишь в пищеблоке школьной столовой, где мне пришлось отбывать какую-то очередную педагогическую кару.
Я был не в состоянии объяснить себе решительно ничего из того, что видел. Для девятилетнего школяра, коим я тогда являлся, этого было просто слишком много.
Так и не вспомнив о своих, канувших в небытие, рукавицах, ставших поводом и отправной точкой моего приключения, я вознамерился ретироваться, ускользнув тем же путем, которым и проник сюда. Не желая более рыскать в недрах загадочной квартиры я, осознав наконец рискованность всего мероприятия, решил поставить в нем точку и уже направился было к двери, когда голоса в гостиной вдруг стали громче, послышался стук каблуков, чей-то кашель, и дверь резко, едва не слетев с петель, распахнулась.
Я едва успел укрыться за висевшей на вешалке в прихожей шинелью, как в проеме двери возникла невысокая, но массивная фигура мужчины в военной форме, который, в сердцах ударив кулаком в косяк, замер, борясь с одолевающей его одышкой. Другой участник (или участники?) разговора оставался внутри, не показываясь и не издавая ни звука.
Было очевидно, что мужчина разгневан или крайне встревожен, так как голос, которым он возобновил беседу, дребезжал, как брошенная на асфальт консервная банка, а жесты, посылаемые им в утробу гостиной в поддержку сказанного – резки и импульсивны.
– Ты вообще понимаешь, что происходит? – прошипел он, снова повернувшись к собеседнику всем корпусом и сжимая косяк двери побелевшими от напряжения пальцами. – Они в любую минуту будут здесь и ты знаешь, что тогда произойдет! Как можно быть такой равнодушной к собственной судьбе?
Ответа, однако же, не последовало, или же он был настолько тихим, что я его не расслышал. Мужчина, впрочем, не думал сдаваться и, переведя дух, начал очередную атаку на препятствующий ему бастион упрямства:
– Ну хорошо, хорошо! На меня тебе наплевать, так подумай хотя бы о Егоре! Он не должен платить ни за мои дела, ни за твои грехи!
Немного помолчав и собравшись с мыслями, человек в военной форме продолжал чуть более спокойно:
– Ты же знаешь, как важно сейчас действовать быстро. От этого зависит все! Ну, не упрямься, прошу тебя. Обещаю, что дам тебе свободу, как только мы окажемся в безопасности. Обещаю, слышишь?! А сейчас бери вещи и пойдем, пока еще не совсем поздно! Машина с другой стороны дома.
На этот раз из гостиной донесся тихий, но жесткий женский голос, что-то ответивший хозяину дома без обычных визгливо-умоляющих бабьих интонаций. Этот ответ, должно быть, расстроил и распалил его еще больше, так как он снова вошел в гостиную и принялся увещевать строптивицу с удвоенной энергией. В его речи замелькали незнакомые мне фамилии, термины и аббревиатуры, значение которых стало мне известно значительно позже, как и то, что слова эти являлись синонимами разлуки, боли и унижения, первыми ласточками грядущей беды.
Я не знаю, чем мог бы окончиться спор сурового военного с его упрямой собеседницей, по каким-то своим причинам ни за что не желавшей покидать насиженного места; возможно, ему все же удалось бы убедить ее и все вышло бы по-другому. Но этого ни я, ни он так и не узнали, ибо сценарий судьбы был иным.
Со стороны парадной до моего слуха донесся топот ног и звук четких, отрывисто отдаваемых приказов, после чего входная дверь, которую я так и оставил незапертой, распахнулась, и в прихожей возникли трое облаченных в незнакомую мне форму людей, тут же, не мешкая, прошедших в гостиную. Дверь они за собой прикрыли, что помешало мне отслеживать их дальнейшие действия, к чему я, собственно, и не стремился, пораженный страхом и явной несуразностью своего положения.
Входная же дверь скрипнула еще раз, пропустив в квартиру еще двух сотрудников, на сей раз в штатском. Эти, действуя, видимо, по предварительному сговору, скользнули зачем-то в кухню и там затихли, причем один из них мимоходом прихватил с собой стоявший у стены в передней хозяйский портфель, замеченный мною еще в самом начале моего глупейшего сюда визита.
Первая же тройка уже через несколько секунд вывела из гостиной смертельно побледневшего, что было заметно даже в полумраке прихожей, хозяина квартиры со скованными за спиной руками, бесцеремонно подталкивая его легкими пинками и тычками в спину. И вообще, пришельцы позволяли себе в обращении с арестованным невиданные, на мой взгляд, вольности, покрывая его отборной бранью и затрещинами, а один из них даже смачно плюнул ему в лицо, назвав «грязной троцкистской собакой». Мужчина молча сносил унижения, смирившись, видимо, с таким поворотом судьбы, и никаких попыток воспротивиться действиям незваных гостей не делал.
После того, как шаги в подъезде отзвучали, двое оставшихся покинули кухню и неспешно принялись за вторую часть программы. Сейчас мне кажется если не удивительным, то, по крайней мере, странным то обстоятельство, что обычного для бойцов Народного Комиссариата грабительского обыска не последовало, и даже ящики серванта, который был мне хорошо виден через распахнутую теперь дверь гостиной, остались невыпотрошенными. Остается думать, что задание работников столь скрупулезного труда было в тот день очень четким и определенным. Произошедшее мне и сегодня кажется кошмаром, словно я никак не могу проснуться и вынужден переживать события того вечера снова и снова.
Оставшийся в квартире дуэт в штатском исполнил свою миссию слаженно, молча и, как мне показалось, со знанием дела. Одна из этих серых личностей прошла в ванную комнату, дверь в которую находилась совсем рядом с моим укрытием, и включила воду. Второй же сотрудник скрылся в гостиной, чтобы через несколько мгновений появиться снова, таща за собой по полу, словно куль с мукой, одетую в одну лишь розовую ночную рубашку женщину трудноопределимого возраста, чьи длинные светлые волосы он удобства ради намотал себе на руку. Рот женщины во избежание лишнего шума был чем-то заклеен, а руки связаны за спиной. Но, похоже, жертва и не намерена была сопротивляться или звать на помощь. Напротив, она, отдавшись произволу карателей, была совершенно безучастной и даже не мычала, чего я, признаться, ожидал.
Тут первый палач, завершив подготовительные работы, пришел на помощь напарнику, и вдвоем они без особых хлопот транспортировали жертву в ванную комнату, откуда затем послышался всплеск погружаемого в воду тела.
Несколько минут спустя эти двое снова появились в прихожей, перебрасываясь короткими фразами, которых я не расслышал. Затем один из них проследовал в спальню и, вернувшись уже через секунду, бросил коротко: «Спит». Второй кивнул, и оба карателя, не мешкая более, покинули квартиру, прикрыв за собой дверь.
Ни жив ни мертв, я еще целую вечность не покидал своего убежища за старой шинелью, не в силах охватить произошедшее своим детским разумом.
Когда же я, в полной уверенности, что спятил, выполз-таки из-под спасительного, пахнущего пылью и табачным дымом, драпа, первой и самой логичной моей мыслью было немедленно и навсегда покинуть треклятое жилище.
Однако вторая мысль заставила меня вспотеть, замерев посреди прихожей: А что, если и там, снаружи, все по-другому? Что, если времена и воля ухмыляющегося мне с висящего над дверью в гостиную портрета усатого человека в военном кителе распространяются не только на эту квартиру, но и на весь внешний мир? Что тогда?
Утерев липкий пот со лба, я попробовал взять на вооружение третью, мелькнувшую у меня, мысль, предлагающую утешение: «Мне все это почудилось. Ничего не было. Все живы, а квартирой я и в самом деле ошибся, не смотря на чердачную лестницу…» Я с радостью готов был оказаться сумасшедшим, лишь бы эта, третья, мысль оказалась верной!
Но теория требовала подтверждения, а для этого я должен был заглянуть в ванную комнату. Невиданным усилием преодолев страх, я приоткрыл отделяющую меня от правды дверь и, прильнув глазом к образовавшейся щели, заглянул внутрь, чтобы сейчас же с истошным криком отпрянуть: ванна, занимающая добрую половину комнаты, была полна бурой воды, а торчащие из нее две белые ноги и рука с серебристым браслетом недвусмысленно намекали на скрытое под этой водой содержимое.
В порыве кричащего ужаса я готов был бежать, позабыв о возможно ожидающих меня снаружи новых кошмарах и неизвестности, но, едва обернувшись, столкнулся с только что вышедшим из спальни мальчонкой лет пяти-шести, смотревшим на меня удивленно, но без страха. Он был в пижаме, тер глаза и производил впечатление только что проснувшегося.
«Ты кто?», – машинально спросил я его, не зная более, что думать и во что верить.
«Я – Егор, – так же привычно ответил мальчик. – А где мама?»
«Мама – там», – милосердно указал я заспанному Егору на дверь ванной комнаты и бросился к выходу. Не имея ни желания, ни сил разбирать новые загадки, я стремглав слетел вниз по лестнице и, к вящей своей радости, оказался дома, в январе 1989-го года.
Глава 2 Галактион
Мои родители изуродовали меня сразу после моего рождения. Нет-нет, с изуверством, пьянством или избиением младенцев это не имеет ничего общего – просто они дали мне имя Галактион, которое я не без внутреннего отвращения ношу по сей день.
Само по себе это прозвище, скорее напоминающее собачью кличку, быть может, и не хуже других, но в позднем Советском Союзе, изобилующем совсем другими буквенными сочетаниями при обозначении человека, оно было большим перегибом.
В общем, мое мировоззрение формировалось под влиянием слова «Галактион» и реакций на него окружающих, предложивших мне необычайно богатую палитру насмешек, подтруниваний и издевательств, начиная с ежеминутного торжественного декламирования моего несчастного имени и заканчивая именованием меня женским понятием «Галя». Да что там говорить: даже учителя и преподаватели не гнушались того, чтобы лишний раз подчеркнуть несуразность моего названия, вызывая меня всегда строго по имени, тогда как при обращении к моим однокашникам в большем ходу были фамилии. В общем, всем было весело и я веселился вместе со всеми, лишь глубоко в душе противопоставляя себя всему миру. Друзей я поэтому имел немного, а свободное время охотнее проводил в обществе литературы и собственных мыслей, чем в шумных играх и суете школьной и дворовой жизни. Таким образом, двигался я мало и, как следствие гиподинамии, имел приличное число килограммов избыточного веса, моментами грозившее стать неприличным. Это, в свою очередь, побуждало моих товарищей по редким забавам к дополнительным издевкам, и в имитации войны, столь популярной в те годы среди детворы, мне неизменно отводилась роль начальника рейхсканцелярии Третьего Рейха Мартина Бормана (бывшего, как известно, довольно тучным), которого непременно разоблачали, пытали и расстреливали. Но я привык и обиды не показывал, планируя отыграться позже.
Единственным человеком, которого я мог тогда назвать своим другом, был сын партийного функционера средней руки Альберт Калинский – тщедушный, страдающий астмой парнишка, так же мало, как и я, заинтересованный в спортивных победах и первенстве в коллективе, зато бывший верным товарищем и просто приятным собеседником. Наши баталии мы разворачивали большей частью на шахматной доске, а редкие вылазки в «большой мир» старались ограничивать чердаком его дома, где жили голуби и наши фантазии, да садом расположенного по соседству Дворца Пионеров, когда он, конечно, не был оккупирован враждебными нам дворовыми компаниями. Кстати сказать, одному лишь Альберту дозволялось называть меня моим отвратительным именем, поскольку, произнесенное им, оно звучало без издевки.
Нам было достаточно общества друг друга, потому что несуразность моего имени и веса уравновешивалась болезненной слабостью и очками Альберта, который, впрочем, не комплексовал по этому поводу или же успешно скрывал свои комплексы.
Мне нравилось бывать в доме моего друга и вечера мы часто проводили вместе, а особенности его квартиры, описанные мною выше, добавляли толику неповторимого таинственного аромата в мою жизнь и нашу дружбу.
Вернувшись домой в тот морозный январский вечер, когда мне случилось быть свидетелем безобразной сцены, произошедшей когда-то в альбертовой квартире, я не сразу смог успокоиться. Да что там! – спокойствие покинуло меня навсегда. Нереальность событий была столь очевидной, что я не рискнул никому о них рассказывать, боясь вызвать обоснованные подозрения касательно моего психического здоровья. Если совершенное на моих глазах преступление и походило на зарисовку дешевого детектива, то ситуация и время, в котором оно произошло, и, главное, мое в этом участие не подлежали сколько-нибудь разумному толкованию. Я не смел надеяться, что кто-то из взрослых, полагающих себя всезнающими и всемогущими, поверит в эту историю. А если и поверит, что это даст? Правда, у меня появились некоторые мысли по поводу призраков в квартире Альберта, но, боюсь, делиться ими мне пришлось бы с психиатром, к чему я не очень стремился.
Но не скажу, что я бездействовал. Будучи глубоко тронут пережитым и несколько раз увидев во сне Егора, о чем-то назойливо меня просящего, я решился-таки попробовать узнать хотя бы что-то из истории этого дома и его жильцов. Что-то, могущее пролить каплю света на тайну, захватившую мои мысли и перевернувшую в моей голове все вызубренные мною и одобряемые Советами законы бытия.
Итак, вооруженный наивной решимостью, я отправился в единственное место, где, по моим тогдашним представлениям, складировалась подобная информация – в паспортный стол родной милиции. Там я, встав на цыпочки, потребовал у сидящей за окошком и взирающей на меня как на клопа дамы удовлетворить мое любопытство.
Полагаю, нет необходимости описывать здесь мои унижение, подавленность и чувство собственной никчемности, возникшее у меня после ее «ласкового» ответа.
Мои эмоции были столь сильны, что я, поджав хвост и скуля, ретировался и более уж не предпринимал подобных попыток, чреватых окончательной утратой всякого человеческого достоинства.
Позже мне стало ясно, что та милая сотрудница за окошком в силу своей незначительности просто не имела, да и не могла иметь доступа к искомой мной информации, тем паче полномочий передавать оную какому-то сопливому юнцу, с видом первопроходца «толпящемуся» перед ее напудренным носом.
Тем не менее, неудача испепелила мою волю и я поклялся себе, что выброшу все случившееся из головы, по меньшей мере, не стану более доверяться внешнему миру, имея свой внутренний – куда более надежный и понятный.
Наверное, я так бы и поступил, заперев тревогу в клетку воспоминаний, если бы не одно обстоятельство, вынудившее меня открыться Альберту во спасение нашей дружбы.
Дело в том, что я не мог больше в одиночку переступать порог его квартиры. И речь идет не о моих внутренних страхах или комплексах, но об обыкновенной физической неспособности это сделать.
А открылось это так: Пару дней спустя после моего визита в семью Калинских, принявшего столь странную форму, я решил-таки вернуть себе злосчастные рукавицы, из-за которых столько натерпелся и принести которые в школу Альберт постоянно забывал. Сам бы я, скорее всего, махнул рукой на эти два комочка сплетенной воедино шерсти, но нервотрепка, устроенная мне по этому поводу матерью, вынудила меня к действию.
Для виду кляня его рассеянность, но большей частью все же из любопытства, беспрестанно зудящего где-то в горле, я вновь решил составить другу компанию при поедании стряпни тещи его отца. Пока Альберт, поднимаясь по лестнице, весело и абсолютно антисоветски болтал про какие-то там японские изобретения, мои мысли были заняты более волнующим меня вопросом, а именно тем, что ждет нас сейчас по ту сторону входной двери? Каким окажется «внутреннее убранство» такой знакомой и не знакомой квартиры? Признаюсь, в голове моей был полный сумбур и лишь юношеская моя бесшабашность заглушала противные импульсы страха.
Но нас ждала Елизавета Александровна, как всегда гостеприимная и излучающая тепло и доброту, а мои рукавицы, которые я успел возненавидеть, лежали точно там, где я их оставил – на полочке для ключей у входной двери, смирно дожидаясь моего возвращения.
У меня, что называется, отлегло от сердца. Или камень с души упал, как вам будет угодно. Все, похоже, встало на свои места и мое приключение здесь было единичным случаем, если вообще имело место. Обрадованный этой новостью, я весь вечер смеялся больше обычного и был как никогда общителен.
Однако же моя уверенность была чистой воды заблуждением. В этом я убедился уже на следующий день, когда, забыв об осторожности, взлетел вверх по лестнице следом за поднявшимся пятью минутами ранее Альбертом и, посчитав, что это именно он не стал плотно закрывать входную дверь в ожидании моего прихода, толкнул ее и переступил порог.
Первым, что я увидел в прихожей, был все тот же портрет Отца Народов, висевший, как и во время моего первого сюда визита, над дверью в гостиную и наблюдаемый мною с тех пор неоднократно в тревожных ночных видениях. Генералиссимус так же, как и тогда, взирал на меня с усмешкой Моны Лизы, оставаясь незыблемым символом того времени, в котором я вновь оказался. На сей раз просто по неосторожности.
У меня захватило дух. Значит, все – правда и волей каких-то сил я опять здесь. Что-то, неведомое мне, приводит меня сюда снова и снова, словно отведя мне какую-то роль или миссию в этой истории. Какую же?
Я был тогда слишком юн, чтобы рассуждать хладнокровно, тем более в той самой прихожей, где я стал свидетелем страшного деяния. Взглянув на дверь ванной комнаты, я тотчас же вспомнил торчащие из кровавой воды ноги и, преисполнившись воскресшей во мне паники, бросился вон из квартиры и подъезда, начисто забыв о ждущем меня Альберте. Да и как мог бы я к нему попасть, если постоянно оказывался в этой, уготованной мне, берлоге страха? Чем провинился я перед провидением, что оно раз за разом посылает мне такие испытания?
Мои сделанные назавтра попытки объяснить другу мое отсутствие какими-то банальными причинами и отговорками не имели успеха, и я, заметив на его лице тень зарождающейся обиды, отказался на время от данной самому себе клятвы и поведал Альберту о своих злоключениях в недрах его (или не его?) квартиры. Сначала он смотрел на меня как на динозавра, затем с явным скепсисом и, наконец, с легким недоверием. В итоге же жажда чудесного и здоровый мальчишеский романтизм взяли верх, и он пришел в великое возбуждение, негодуя лишь, что я сразу не доверился ему и вообще он, как живущий в этом доме, имел больше прав на такие приключения, чем я. На мой резонный вопрос, где бы он тогда ночевал, Альберт не нашел ответа.
Сколько бы раз мы с ним после этого не пробовали вдвоем переступать порог его квартиры, мы неизменно оказывались именно там, куда шли – у него дома. Никакие ухищрения типа завязывания альбертовых глаз или заступания его жилплощади задом наперед никакого результата не принесли, если не считать того, что доведенная нашим поведением до исступления Елизавета Александровна пообещала нас обоих выпороть.
Во избежание этого мы тщательно заперли дверь и вышли во двор, после чего я стал подниматься по лестнице в одиночку, желая довести эксперимент до конца. Однако, уже за несколько метров до двери заметив, что она в ожидании меня приоткрыта, я повернул назад, не желая более испытывать судьбу и трепать себе нервы.
Никакими силами не смог Альберт уговорить меня еще раз переступить порог той квартиры, и к нему в гости я с тех пор наведывался лишь в чьем-либо сопровождении. Он, правда, пробовал обижаться, но этот бесхитростный шантаж также ни к чему не привел, и мы оставались добрыми друзьями все время, пока он был жив. Ну, или почти все время…
После того, как его не стало, мне не доводилось бывать в этом доме, который со временем превратился из элитного в самый заурядный и находился теперь в одном из третьесортных кварталов города. Память о друге осталась в моем сердце, воспоминания же о постигшем меня годы назад в его доме злоключении постепенно притупились, не имея подпитки. И лишь роясь в ставших мне вдруг доступными – пусть и не в полном объеме – недрах архива, я осознал, насколько важными и, быть может, судьбоносными они являются.
Глава 3 Первый визит к профессору
В легком полумраке подкрадывающегося вечера я достиг, наконец, цели моей поездки. Колеса моего уставшего «Ауди» мягко зашуршали в гравии, обильно покрывающем площадку перед массивными воротами, внушительные размеры которых были более характерны для современного Подмосковья, нежели прилегающих к живописному Майну территорий. Фонари над воротами были уже включены, и не оставалось сомнений, что мое прибытие заметили. Закашлявшись, я с отвращением посмотрел на лежащую на соседнем сидении пачку капсул «Ципробая» – сильнейшего антибиотика из последних, которые вот уже несколько дней вынужден был принимать по причине острого бронхита. Капсулы были, разумеется, безвкусными, но регулярный прием медикаментов делал меня ущербным в собственных глазах, и я не мог с этим мириться.
Проглотив белый желатиновый цилиндр и покинув салон, я немного попрыгал и покряхтел, разминая затекшие за три с половиной часа пути конечности, затем подхватил с заднего сидения сумку с документами и разной дребеденью и направился к воротам. «Ауди» пожелал мне удачи, синхронно моргнув подфарниками и характерно щелкнув.
На мой звонок у калитки измученный чем-то женский голос поинтересовался моим именем и, услышав его, каким-то образом поспособствовал тому, что дверь открылась, пропуская меня во двор.
Уже через пару десятков секунд невысокая седовласая женщина, велев мне разуться, вела меня через весь дом в кабинет своего хозяина, который, по ее словам, ждал меня там. Она не представилась, но, окинув меня беглым взглядом, выговорила мне за двадцатиминутное опоздание, которое-де нарушило планы профессора. Я не стал оправдываться и не обиделся, будучи знаком с такой породой людей, начинающих тебя поучать и делать тебе глупейшие выговоры, заметив лишь, что ты несколько моложе. Что же взять с престарелой экономки, если этим грешат даже наиобразованнейшие и наиумнейшие, с точки зрения масс, представители общества?
Женщина, сделав мне знак остановиться, сунула голову в какую-то дверь и сказала туда что-то, после чего вновь обернулась ко мне и словами «Можешь входить» изъявила свое согласие на мой визит к ее хозяину. Я поблагодарил Бабу Шуру (в России ее, безусловно, звали бы именно так) за любезность и вошел в кабинет.
Сидящий за письменным столом человек отвлекся от экрана компьютера и, с видимым усилием поднявшись, вышел мне навстречу. Его медленные, вымученные движения, бледность и носившийся в воздухе запах какого-то лекарства говорили о том, что он либо болен, либо совсем недавно перенес болезнь, сведшую на нет его физические возможности. Даже безупречно сидящий коричневый в полоску пиджак, казалось, давил на его плечи тяжким грузом, который он нес лишь из-за пресловутого «положение обязывает». Пепельно-белые волосы старика были тщательно уложены на косой пробор, а безупречная, несмотря на изможденность, осанка и трость черного дерева, которую он сжимал в правой руке, создавали законченный образ престарелого европейского аристократа.
Несколько секунд человек молча изучал меня, и под цепким взглядом его усталых, но проницательных глаз мне захотелось поежиться. Наконец, он, переложив трость в левую руку, поприветствовал меня крепким энергичным рукопожатием, не совсем сочетающимся с его возрастом и физической формой. Указав мне на стоящее в самом центре комнаты массивное кожаное кресло, он вернулся на прежнее место за столом и, призывно постучав пальцем по рычагу видавшего виды телефона, потребовал принести холодной воды и кофе, чем полностью угодил мне, хотя и не дал себе труда поинтересоваться моими предпочтениями. Я попытался было заговорить, но хозяин дома жестом остановил меня, дожидаясь, пока будет исполнено его пожелание, и лишь после того, как я выпил стакан режущей горло минералки и отхлебнул принесенного уже знакомой мне женщиной свежесваренного кофе, начал разговор:
– Так кто же Вы, молодой человек? – взгляд его продолжал меня изучать, я же был благодарен ему за то, что он лишний раз не назвал меня по имени. – В телефонном разговоре Вы сказали мне, что дело, которым Вы интересуетесь, не имеет отношения к Вашей профессии, из чего я сделал вывод, что Вы не историк и не журналист, или я ошибся?
– Нет, профессор, Вы правы. Я не историк, а журналист из меня такой же, как из бандита проповедник.
Признаться, своим изречением я хотел вызвать улыбку старика, чтобы как-то снять напряженность, но плоская шутка не прошла и мне пришлось отказаться в дальнейшем разговоре от подобных попыток.
– Я, профессор, скажем прямо, человек с улицы, и к Вам меня привела лишь моя неуемная любознательность. Нет-нет, не подумайте, я не интересуюсь Вашими экспериментами и открытиями, то есть, я хочу сказать, о них можно прочесть в Ваших книгах и публикациях… Я же напросился к Вам потому, что, как мне кажется, Вы могли бы пролить свет на некоторые события, произошедшие со мною в детстве и не дающие мне до сих пор спать спокойно. Думаю, Вас, как ученого и исследователя такого рода явлений это могло бы заинтересовать, – опасаясь, что профессор, разочаровавшись, вдруг прервет наш разговор и выставит меня вон, я сразу взял «с места в карьер»…
Здесь я, полагаю, должен сделать некоторое отступление и пояснить, как и с какой целью я оказался в доме профессора Райхеля, имевшего резиденции в четырех странах, включая Индию, и обретшего известность в определенных кругах благодаря своим работам в области метафизики, эзотерики и парапсихологии, путешественника, проведшего, среди прочего, несколько лет адептом в одном из индийских ашрамов и выпустившего по итогам пребывания там труд «Вертикальные или временные порталы», который взорвал умы тысяч и стал причиной бесчисленных паломничеств в Индию, к источнику Знаний.
Пребывая в постоянном подсознательном поиске объяснений моим детским приключениям в альбертовом доме, я пару месяцев назад наткнулся на эту книгу в одной из библиотек и, с удивлением обнаружив, что резиденция Райхеля находится лишь в трех сотнях километров от города, где живу я, решил во что бы то ни стало добиться его аудиенции и поведать ему мою старую тайну, в надежде услышать его оценку ее правдоподобности. Была у меня и еще одна причина для этого, но о ней чуть позже.
Как ни странно, это оказалось не так уж и сложно: я просто разыскал в телефонном справочнике интересующий меня номер, позвонил и, прорвавшись через не очень плотный кордон нелюдимой экономки, попросил профессора встретиться со мной в любом удобном ему месте и времени. Поскольку свою просьбу я, взволнованный удачей и пораженный вдруг одолевшим меня косноязычием, сформулировал именно так, Райхель убийственно серьезным тоном предложил мне встретиться в Вавилоне. Впрочем, перебив меня посреди извинений за безграмотность, он снизошел до узости моих возможностей и перенес встречу в свой загородный дом и реальное время, которое он, однако, определил как «кажущееся Вам реальным».
И вот я здесь. Сижу в огромном черном кресле, прихлебываю из большой фарфоровой кружки остывший кофе и жду комментариев профессора к моему рассказу, которые, как я надеюсь, последуют, после того как он ознакомится с копиями обнаруженных мною в архиве документов, которые я протянул ему через стол четверть часа назад и в которых пережитое мною описывалось еще раз, но уже казенным языком и в свете тогдашних представлений о законности и справедливости.
Тем временем я осмотрелся в комнате. Две ее стены – за спиной хозяина и справа от него – сплошь состояли из стеллажей, заполненных книгами. Причем, в отличие от библиотек, украшающих кабинеты многих университетских преподавателей, даже самые верхние полки здесь не были затянуты паутиной и не содержали безвкусного собрания оплавленных свечей, рогов для питья «а ля восьмидесятые» и сломанных кофеварок, а противоположная стена была украшена превосходными рогами марала и несколькими пестрыми масками, принадлежащими к индийскому или шриланкийскому фольклору, а не запыленными грамотами за какие-то там, пережившие все сроки давности, заслуги, вроде первого применения банки из-под майонеза для сбора мочи, или сертификатами, дающими право заниматься грязелечением.
Дальнейшим моим наблюдением было то, что окна в профессорском кабинете отсутствовали, а единственным местом размещения посетителей было кресло, которое я сейчас занимал. Видимо, льющийся из двух отверстий в потолке мягкий желтый свет должен был всегда оставаться ровным и не перемешиваться с солнечными лучами, а одного собеседника всегда оказывалось достаточно.
Наконец профессор закончил ознакомление с документами и перевел взгляд на меня:
– То, что Вы рассказали мне, Галактион, достаточно интересно, в особенности для меня, помешанного на феноменах такого рода, – тут мой собеседник в первый раз едва заметно улыбнулся. – Если все детали Вами описаны верно, то у меня есть все основания полагать, что в районе той квартиры функционировал горизонтальный портал, или, проще сказать, портал во времени. Но кем он был открыт и, самое главное, для чего? Существует, конечно, вероятность того, что портал был естественным, так сказать, природным, но то обстоятельство, что он функционировал лишь в Вашем случае и открывался только тогда, когда Вы приближались к квартире в одиночку, заставляет меня в этом усомниться, – Райхель сокрушенно покачал головой, словно подкрепляя этим свои сомнения.
– Так кто же мог сыграть со мной такую шутку? Человек? Маг?
Мое неосознанное разграничение магов и людей, по видимому, повеселило моего собеседника, и он несколько мгновений надсадно кряхтел, что должно было, насколько я могу судить, означать смех. Впрочем, он тут же снова посерьезнел и выдал что-то скорее религиозно-философское, нежели научное: – Не обязательно… Видите ли, Галактион, во всем, что происходило, происходит или когда-то произойдет, что, в прочем, одно и то же, всегда виден промысел Божий. Перечить судьбе и пытаться противиться ей пустой бравадой может лишь глупец, и в небесных нардах кости всегда выпадают с необходимым количеством глазков. Я непонятно выражаюсь? Скажу проще – все случается именно так, как угодно Небу, и глупо доискиваться причины того, что, к примеру, Вечность длится вечно… Можно лишь смиренно созерцать, благодаря за ниспосланное нам откровение. Ну, да ладно, все это – высокие материи, я не поп, а Вы склонны пока мыслить более буднично. Так что же Вы собираетесь делать? – профессор смотрел на меня, как мне показалось, чуть насмешливо, но с интересом. – Желаете ли Вы, что называется, «разобраться во всем» или же избавиться от воспоминаний? Могу сразу сказать: ни первое, ни второе вам не удастся, и лишь относясь ко всему этому с известной долей скепсиса, Вы сможете жить относительно спокойно, не травя себе душу всякого рода мистикой. Или есть что-то еще, не позволяющее Вам угомониться?
Райхель, казалось, смотрел мне в самую душу. Поняв, что с этим человеком нужно быть откровенным до конца – а иначе и приходить сюда не следовало – я, не без внутренней дрожи, протянул ему письмо, полученное мною несколько месяцев назад, еще во время моей оседлой жизни в одном из городов на просторах Российской Федерации.
То, что это послание вообще до меня дошло, уже было весьма примечательно, ибо в мой заплеванный и забитый окурками почтовый ящик, находящийся в ряду таких же между первым и вторым этажами нашего темного и грязного подъезда, я не заглядывал уже несколько лет, по праву отчаявшись когда-либо обнаружить в его клейком нутре что-либо интересное. Однако в тот день, проходя мимо и ругаясь по поводу хрустящих под ногами стекол от пивных бутылок, я вдруг заметил сиротливо торчащий из него уголок конверта, что уже само по себе было приключением. По стародавней привычке отсчитав шестой ящик слева и убедившись, что это именно мне столь явственно напомнили о существовании почты как таковой, я, с брезгливостью приподняв за уголок грязную железную заслонку, извлек оттуда почти квадратный слабо-оранжевый конверт весьма странного вида, с тремя штемпелями, большинство знаков на которых не пропечатались или были смазаны, и красным текстом на лицевой стороне: «Ищите каучуконосные растения! Они освободят СССР от иностранной зависимости и укрепят оборону нашей страны. Сообщайте обо всех растениях, подозрительных по каучуку!». Несомненно, конверт принадлежал тридцатым годам двадцатого века, когда сей шедевр советского типографского искусства был широко распространен. Я не мог не вспомнить обнаруженную мною когда-то в сундуке умершей прабабки почтовую карточку с недвусмысленным призывом разводить и выращивать свиней, обеспечивая тем самым себя и страну салом и мясом, а промышленность сырьем, и улыбнулся.
Но улыбка моя погасла, стоило мне повнимательнее осмотреть находящийся в моих руках реликт, почерк на котором заставил меня сначала похолодеть, а затем вскипеть от ярости, вызванной столь беспардонной и глупой шуткой.
Он был мне хорошо знаком, ибо принадлежал моему другу Альберту Калинскому, погибшему шесть лет назад и пребывающему теперь совсем не в той физической форме, чтобы писать письма. Да и штемпели советской почты ни с чем нельзя было спутать (в прошлом страстный филателист, я немного в этом разбирался), а поскольку упомянутой державы, Божьей милостью, уж тринадцать с лишком лет было не сыскать на карте мира, а такая задержка доставки даже для этого государства представлялась маловероятной, то я и вовсе не знал, что и подумать. Оставалось одно – вскрыть конверт и ознакомиться с содержанием письма, если таковое там обнаружится.
Таковое обнаружилось и донесло до меня следующие, записанные какими-то фиолетовыми чернилами и все тем же знакомым ровным почерком, мысли:
«Галактион!
Мысли и страхи твои, связанные с той старой квартирой и моей смертью, мне ведомы. Ты, должно быть, все еще винишь себя за то, что мне пришлось «передислоцироваться» в могилу, и я понимаю тебя, ибо сам, безусловно, испытывал бы то же чувство. Однако же, существуют обстоятельства, о которых ты не подозреваешь, и в истории той не все так явно и незыблемо, как ты себе, должно быть, вообразил. В жизни вообще едва ли есть твердые истины, и лишь смерть скрупулезно расставляет все по своим местам.
Думаю, пришла пора тебе распутать клубок противоречий, засевший у тебя в голове и не дающий тебе нормально существовать, тем более что твоя роль во всей этой истории не менее значима, чем моя. Ты ни разу не был на моей могиле и гадаешь, простил ли я тебя… Но все не так. Ты должен прийти и узнать. Так приди и узнай.»
Профессор читал послание покойника с видимым интересом и, похоже, нимало не сомневался в его подлинности. Он поверил мне на слово, что рука, писавшая письмо, принадлежит Альберту, живущему вот уже без малого семь лет лишь в воспоминаниях родных и близких, а штемпелям советской почты, казалось, и вовсе не придал значения. Этот человек не нуждался в каких-то обывательских или научных доказательствах чего бы то ни было для формирования собственного суждения, и мне это очень импонировало, ибо, будь я вынужден привлекать в помощь своим словам разного рода экспертизы и глубокомысленно-тупые заключения «признанных» ученых, я бы, безусловно, отказался от этой затеи, памятуя мое давнишнее общение с ретивой служительницей священного паспортного стола Страны Советов.
По прочтении письма Райхель вернул его мне, поинтересовавшись, в чем же, собственно, состоят мои сомнения.
– Выбор у Вас, молодой человек, так скажем, небольшой. Если все изложенное Вашим мертвым другом – правда и Вы действительно чувствуете себя… ммм… неуютно, то следуйте его указаниям, уповая на Господа. Или же выбросьте письмо и позабудьте обо всем. Быть может, его смерть и не имеет ничего общего со странностями квартиры, в которой он жил, а может быть, и имеет… Что Вам с того?
– Хорошо, профессор, положим, я все обдумал и полон решимости, так с чего мне начать?
Брови старика удивленно приподнялись:
– Что значит, с чего? Вы же получили совершенно ясные инструкции: Приди и узнай! – он помолчал и взглянул на меня, как мне показалось, уже сердито. – Кстати, раз уж Вы пришли ко мне… Должен я сам догадываться о Вашей вине перед покойником, упомянутой в письме, или Вы будете столь любезны просветить меня касательно этого факта Вашей жизненной истории?
Почувствовав, что краснею, я порывисто сжал в пальцах возвращенное мне письмо, по неловкости несколько смяв его. История смерти Альберта была самым отвратительным моим воспоминанием и самым грязным пятном на моей душе, вывести которое не удавалось никакими средствами: ни любовью, ни радостью, ни геройствами. Быть может, именно сейчас мне предлагается действенный «пятновыводитель»? Прикончив последние капли совсем холодного кофе, я все рассказал профессору метафизики, оккультизма и так далее Георгу Райхелю. И пусть во время рассказа мне пришлось еще раз пережить всю гамму малоприятных чувств, охвативших меня в те сумасшедшие дни, я считаю, это явилось действенной терапией моей мятущейся души.
Глава 4 Грязное пятно
Была осень 1997 года. Дождливый октябрь оказывал свое удручающее влияние, давя к земле и без того паршивое настроение. Терзаемые порывистым холодным ветром голые ветви облетевшего клена царапали оконное стекло, и этот монотонный скрип вкупе с чавканьем разрываемых автомобильными шинами луж на улице да гудением задействованной где-то неподалеку ассенизаторской машины вызывал стойкий рвотный рефлекс.
Я устроил себе что-то наподобие каникул, презрев очередной цикл каких-то лекций и вознамерившись провести несколько спокойных ленивых дней в родном городе. Если бы я знал, что эти дни окажутся настолько нудными и противными, я бы, безусловно, с большим удовольствием провел их в своем студенческом общежитии, заодно избежав сдирающего кожу зудения матери по поводу грозящего мне за нерадивость отчисления из института и, следовательно, мобилизации в Вооруженные Силы.
В тот день самочувствие мое было, что называется, хуже некуда, ибо ко всему вышеперечисленному добавилось еще тягостное чувство бренности мира, возникшее у меня после посещения психиатрической лечебницы, где я, сопровождаемый парой бывших одноклассниц, навестил моего друга Альберта. Да-да, выше я об этом не упоминал, но начавшаяся в девятом классе болезнь выбила моего многолетнего соратника из жизненной колеи, сделав необходимым его ежегодное многомесячное пребывание в доме скорби и закрыв для него всякие перспективы, кроме перспективы быть рано или поздно помещенным в дом-интернат для психохроников. В свете таких размышлений рекламный слоган одной известной страховой компании «Мы предлагаем вам дом на всю жизнь!» выглядел весьма цинично, если не сказать издевательски.
Альберт спятил в одночасье и совершенно классически. Настолько классически, что его случай, несомненно, не нашел бы места в журналах по психиатрии и не мог бы явиться толчком для разработки какой-то новой диагностической методики, ибо все симптомы, которые явил мой друг своему окружению, были давно изучены и до мельчайших деталей известны. Нет надобности на этих страницах описывать сомнения, страхи и защитное, а впоследствии агрессивное поведение Альберта, повлекшее за собой вызов кареты скорой помощи, фиксирование пациента тряпичными лямками и первые в его жизни уколы нейролептиков, которые с того времени он должен был получать регулярно. А так как произошло это прямо в школе, на уроке истории, при прохождении, если я верно помню, темы о победоносном шествии Красной Армии по профашистской Финляндии, то и дикие крики Альберта, и суета, и лямки, и грязный халат ударившего его в живот санитара мне запомнились весьма отчетливо, буквально въелись в память, как первая любовь. Помню собственный ужас и последовавшую за ним озадаченность ситуацией, столь незнакомой и, для меня тогдашнего, из ряда вон выходящей. Лишь позже я узнал, что альбертовы родные уже в течение нескольких недель до этого били тревогу, заметив в сыне разительные перемены, да, к сожалению, ограничивались при этом пределами собственной квартиры, ибо сама мысль о психиатре была им нестерпима.
Наша с Альбертом дружба, вопреки моему желанию и искренним попыткам ее поддерживать, стала ослабевать и постепенно сошла на нет. Даже во время его отдохновений от приступов, когда он был дома и пытался, как он поначалу заявлял, нагнать школьную программу, было заметно, что друг мой нездоров. Его нарастающая апатия, молчаливость и равнодушие к прежним увлечениям постепенно привели к тому, что у нас не осталось не только общих тайн, но и общих тем для разговора. Да и, признаться, разговором наше общение назвать было трудно. В моменты, когда я его навещал, мы просто молча сидели в разных углах комнаты, и я наблюдал, как когда-то такой живой и полный идей Альберт смотрит в одну точку и ковыряет в носу, нимало не заботясь затем о том, куда пристроить добытую оттуда субстанцию. Он пренебрегал самой элементарной гигиеной, игнорировал замечания и сидел обросший, немытый и неухоженный, несмотря на все потуги его матери держать сына в приемлемом виде. От него на расстоянии разило кислым потом, плесенью и мочой, и находиться рядом с ним сколько-нибудь продолжительное время было невозможно. Редкие гости старались, как могли, завуалировать неминуемо возникающее чувство брезгливости, но и в этом не было надобности: Альберт просто не обращал ни на что внимания, пребывая в своем, оскудевшем и безликом, мире. На улицу он почти не выходил, запершись в своей берлоге и все более напоминая покалеченное животное, стремящееся забиться в темный угол и издохнуть. На его небритую, с лафтаками засохшей слюны в редкой щетине, физиономию и трясущиеся, с коричневыми от табачного дыма нестриженными когтями руки было страшно смотреть, в его комнате навсегда повис тошнотворный запах безнадежности, и жизнь его была лишена всякого смысла и будущего.
Мать Альберта, поначалу преисполненная сострадания и заботливости к сыну, также не выдержала испытания временем: силы ее подорвались, а нервы сдали. Из еще молодой и жизнерадостной женщины, какой я знал ее до его болезни, она за несколько месяцев превратилась в старуху, согбенную и несчастную. Ее губы перестали улыбаться, сжавшись в нитку, а вокруг рта и на лбу появились глубокие морщины, из тех, что не исчезают при помощи косметики. Она перестала здороваться на улице, не замечая знакомых лиц или делая вид, что не замечает, и начала избивать сына, будучи не в силах больше бороться с его недугом. Больная и разбитая, она подала заявление на помещение его в специализированный интернат, но добилась лишь места в очереди, в виду переполненности заведений такого рода и обилия таких же сердобольных мамаш и детей, жаждущих передать своих близких на полное государственное обеспечение. Узнав, что ее избавление от сына будет отсрочено, она пыталась скандалить и имитировать обморок в городской администрации, затем объявляла голодовку, глотала таблетки и писала президенту, но все тщетно: в государственный план по изоляции психических больных на текущий год Альберт не попал.
Я как никто далек от того, чтобы осуждать эту женщину, ибо истинные размеры ее мучений мне не ведомы, но впоследствии и я, по какому-то внутреннему побуждению, избегал встречи с ней, всякий раз переходя на другую сторону улицы, едва завидев издалека ее сухую, угловатую фигуру.
Так вот, в тот день мы, по привычке и в угоду себялюбию (посмотрите, какие мы заботливые!) навестив в больнице Альберта и подарив ему кулек каких-то дешевых конфет, постояли немножко на промозглом октябрьском ветру и, не найдя темы для разговора, скупо распрощались. Так всегда бывает: клянясь друг другу в вечной дружбе под занавес школы, мы свято верим, что сдержим клятву и пронесем нашу привязанность через всю жизнь. Действительно, как же друг без друга? И целый год мы, в самом деле, регулярно видимся, отчаянно лобызаясь и тиская друг друга при встрече; на второй год число совместных мероприятий и количество их участников уже значительно убавляется, а в год третий и вовсе никто не изъявляет желания заключить в объятия бывших однокашников. Уходят общие интересы, а за ними, в те же двери, и желание общаться.
Обо всем этом я лениво размышлял, глядя в окно на уже описанную мною городскую осень девяносто седьмого года и сожалея, что поддался подлой ностальгии и примчался за целую кучу верст домой ради нескольких дней нервотрепки. Досада на мать и безденежье вносила последние штрихи в картину депрессии стареющего года, и я отчаянно желал каких-нибудь резких изменений. Пожалуй, даже взрыв газа в кухне подошел бы…
В это время и раздался телефонный звонок, явившийся толчком для моего многолетнего самобичевания. С неохотой оторвав зад от нагретой им табуретки, я проследовал в прихожую, по дороге споткнувшись о кота и сочно обматерив животное, и снял трубку.
Взволнованный и что-то неразборчиво кричащий мне голос я узнал не сразу. Лишь прислушавшись и вникнув в суть подаваемых мне реплик, яс изумлением установил, что он принадлежит Альберту и звучит совсем как раньше, несколько лет назад, когда мой друг еще был здоров и полон интереса к жизни. Тем сильнее чувствовался контраст между этим, телефонным, Альбертом и тем аморфным существом, которое я имел несчастье лицезреть всего лишь пару часов назад в убогой и пропитанной вонью больничной палате. Я не мог поверить в столь разительные перемены, да и сама ситуация была мне неясна. Кто и зачем допустил его к телефону? Что могло его так активизировать? Какая реакция была бы сейчас уместна? Вопросов было много, и все их я задал себе одновременно, так что, кроме сумятицы в голове, ничего не получил. Между тем, телефонный Альберт быстро и четко дал мне все ответы:
– Послушай меня и не перебивай. У меня совсем немного времени. Я ушел из больницы. Сбежал. Почему – неважно. Важно то, что я видел его! Он опять здесь! Помоги мне разобраться! Ты можешь, потому что знаешь. Я жду тебя в моем дворе, за старым кленом, помнишь его? Все. Быстрее, или я пропал!
В трубке раздались короткие гудки. Я в изумлении продолжал смотреть на нее, словно оттуда вдруг могла появиться разгадка. Признаться, меня в большей степени удивила произошедшая со звонившим метаморфоза, чем таинственность его сообщения, ибо, зная о его болезни, я просто не мог относиться к этому серьезно. Мало ли что могло прийти ему в голову? Повороты и выкрутасы шизофрении непредсказуемы, и его отрешенное наплевательство вполне могло, по моим представлениям, вновь уступить место бредовым идеям преследования, следствием которых и стали побег из лечебницы и этот истеричный звонок. А коли так, то мой друг сейчас действительно в опасности, только исходит эта опасность не от вымышленного героя его бредовой сказки, а, в первую очередь, от него самого, ибо в таком состоянии он может натворить черт знает что, и не только с собой, но и с другими! И, пожалуй, единственное, чем я могу ему помочь, так это уведомить касательно его местонахождения специалистов, а именно скорую помощь, которая о нем квалифицированно позаботится и предупредит грозящие неприятности, а быть может, и трагедию.
Уверенный в том, что поступаю правильно, я набрал знакомый с детства двухзначный номер и в нескольких словах обсказал поднявшей трубку хриплоголосой барышне суть проблемы. Барышня ею прониклась и пообещала послать на поимку моего несчастного приятеля машину, как только появится возможность. На мой возглас по поводу срочности мер она охотно пояснила, что не в силах ускорить процесс, но, дескать, минут через двадцать такая возможность ожидается, чем меня хоть и не удовлетворила, но угомонила. Я положил трубку и еще несколько секунд в растерянности смотрел на телефон, ибо тень сомнения в верности произведенного мною действия уже закралась в мою душу. Мне вдруг стало казаться, что звонил я не на станцию скорой помощи, а в НКВД и доложил там не о болезни друга, а каком-то его мелком проступке, который, тем не менее, способен привести его к эшафоту. Затем мне почему-то вспомнились Павлик Морозов и Иуда Искариот, и настроение мое окончательно испортилось.
Позже я узнал, что прибывшая через полчаса по указанному мною адресу карета скорой помощи ни под кленом, ни где бы то ни было еще во дворе Альберта не обнаружила. Беспомощно стоявшим и озирающимся вокруг фельдшеру и санитарам помог какой-то старик, сидевший на лавке у самой парадной и ничем не занятый, кроме подсчета ворон на клене да своих похмельных мук. Он со всей уверенностью показал, что заросший грязно-желтой бородой оборванец, все время сидевший под тенью растущего у самого забора клена, минут пять назад вдруг вскочил, засуетился и, словно предчувствуя скорое прибытие людей в белых халатах, скрылся в парадной, причем по продолжительности топота его ног, доносившегося с лестницы, старик может заключить, что поднялся он на самый верх. Открыл ли оборванцу кто-то дверь, он не слышал.
Перестав мучить похмельного свидетеля, спасатели, подобрав полы халатов, ринулись вверх по лестнице, нимало не сомневаясь, что обнаружат искомого забившимся в какой-нибудь угол и трясущимся от страха перед карой за свое поведение. Чтобы заключить, что эта кара неминуема, достаточно было взглянуть в просветленные лица санитаров, чувствовавших себя на высоте положения и крайне довольных своей должностью.
Однако же ни на лестнице, ни на чердаке больной обнаружен не был, а вышедшая на звонок мать Альберта лишь недоуменно пожала плечами на вопрос, не появлялся ли сын, и предложила осмотреть квартиру во избежание недоразумений, что и было сделано, но безрезультатно. Альберт как в воду канул. Высказали предположение, что он спустился с чердака по одной из водосточных труб, либо же нашел иную лазейку. Но тот факт, что больной пустился в дальнейшее бегство, сомнений не вызывал. Сердобольные медики заверили женщину, что сын ее обязательно будет найден, намекая на поощрение за запланированные усердия, но та лишь еще раз безучастно пожала плечами и закрыла дверь, что позволило ей не услышать произносимых визитерами замечаний в ее адрес, порицающих возможную моральную неустойчивость ее матери.
Ну, а Альберта ни в тот, ни в последующие дни той мерзкой осени так и не нашли, несмотря на разосланные ориентировки и воззвания к бдительности граждан. Гадать о его местонахождении было бессмысленно, как и надеяться на то, что он когда-нибудь объявится. Но он объявился.
В апреле следующего года, сразу после схода льда на реке в близлежащем поселке, мальчишки, едва забросив в мутную холодную воду свои первые весенние удочки, заметили прибитую к берегу бесформенную массу, которая при ближайшем рассмотрении оказалась немыслимо раздутым и полуразложившимся человеческим трупом, на остатках одежды которого весело поблескивали прилипшие к ней осколки льда, еще не до конца растопленного весенним солнцем. Криками призвав на помощь старших, юные рыболовы несколько дней ходили в героях, заново и с новыми подробностями пересказывая историю своей находки каждому встречному и упиваясь повышенным к себе вниманием.
Разумеется, с уверенностью опознать в трупе Альберта по понятным причинам не представлялось возможным, но мать его сделала это без труда, руководствуясь какими-то ей одной ведомыми приметами. Якобы, остатки трусов и майки она опознала, да ногти у трупа точь-в-точь Альбертовы. Замученные несуразицей следователи не стали придираться и положились на слово ближайшей родственницы усопшего. Официальной причиной смерти объявили аспирацию, сиречь утопление, и погребение тела было разрешено. Гроб, натурально, не открывали.
Я хорошо помню эти незамысловатые похороны, которые почтили своим присутствием лишь родные покойника, несколько бывших одноклассников да пара-тройка бездомных собак, вяло бредущих за гробом не то в надежде на угощение, не то от извечной собачьей скуки. Ну, и по дороге на кладбище процессия пополнилась, само собой, на загляденье угодливыми и расторопными любителями горячительного, издалека учуявшими дух замаячившего в перспективе поминального спирта.
Мне же было не до поминок: я чувствовал себя как никогда отвратительно. Не стоит сотрясать воздух, оправдываясь и поясняя, насколько я раскаивался в своей недалекости и как, подобно истовому монаху, хлестал себя по спине плетью упреков и проклятий, понимая, что этим не верну себе покоя. Быть может, я ничем и не помог бы бедному Альберту, быть может даже, что смерть была для моего друга более желанной и целесообразной, нежели полудикое существование длиною в жизнь в клетке психиатрической лечебницы, без надежды обрести когда-либо человеческий облик и вернуться к нормальному существованию. Все возможно. Но меня это никак не касалось, ибо я, предав друга, все равно оставался мразью. В моей голове все еще звучал его просящий помощи голос, и со временем чувство вины лишь нарастало, отравляя мне существование. И вот это послание… Послание утонувшего семь лет назад несчастного психбольного, оскорбленного мною в самом главном – его вере в людей и дружбу.
Не все эти измышления и подробности я привел в своем рассказе профессору. В конце концов, он хотел знать суть произошедшего, а не нюансы моих переживаний. К тому же я, вполне возможно, несколько перегнул палку при самобичевании, и в реальности вина моя не столь уж и велика, как я себе возомнил в порыве христианского раскаяния.
Райхель слушал, не перебивая, и даже в моменты, когда я на несколько секунд или более прерывал свое повествование, дабы отыскать в кладовых памяти подходящее слово или выражение, не проронил ни звука. Не знаю, был ли ему интересен мой рассказ и услышал ли он в нем то, что хотел услышать, – никаких комментариев мой собеседник не изрек и вообще было неясно, считает ли он все это имеющим отношение к делу, с которым я пришел к нему. Его молчаливая фигура казалась мне теперь еще более величественной и преисполненной таинственности, чем в начале моего визита, и я понимал с еще большей отчетливостью, сколько опыта и непостижимых для меня знаний кроется в этой старческой голове, покрытой шапкой безупречно уложенных седых волос.
Наконец, после длительного молчания, он сказал:
– Что ж, мой друг, вариантов здесь несколько и, пока мы не определимся, который из них нам наиболее близок, у нас связаны руки. Во-первых, может статься, что друг Ваш вовсе и не погиб, ведь тело было, как ни крути, до неузнаваемости разложившимся, что бы там ни утверждала матушка пропавшего. Во-вторых, если труп действительно принадлежал Вашему приятелю, то вовсе не факт, что он погиб именно в день исчезновения, не так ли? В третьих… Ну, да что гадать! У Вас есть письмо, и в почерке писавшего Вы узнали его руку. Это единственный имеющийся факт, хотя любой из нас волен ошибаться. Почерк, согласитесь, может оказаться просто мастерски подделанным. Но тогда возникает вопрос: с какой целью? В общем, молодой человек, я готов помочь Вам по мере сил, но исходные данные для моей работы постарайтесь уж добыть сами, тут я Вам не помощник. Номер моего телефона Вы знаете, так что… Да, должен Вам сказать, что с альтруизмом мои действия, если таковые последуют, не будут иметь ничего общего: Ваш случай заинтересовал меня исключительно как ученого, и я брошу им заниматься в тот же миг, когда он утратит для меня свой интерес. Мне жаль, если своим ответом я Вас не удовлетворил.
– Напротив, профессор. Читая Ваши труды, нетрудно догадаться, что Вы человек чрезвычайно настойчивый и не отступитесь от интересующего Вас феномена до его полной разгадки, а большего мне и не нужно.
Георг Райхель не клюнул на лесть.
– Не читайте много научных книг, Галактион. Это не придает мудрости, но засоряет ретикулярную формацию, превращая ее в помойку. Берите лишь то, что Вам действительно нужно.
Профессор поднялся, давая понять, что завершил разговор. Поднялся и я, испросив еще один стакан воды перед отъездом. Сказать по правде, я был голоден и ожидал приглашения разделить с моим собеседником ужин, но такового не последовало. Райхель жил в соответствии с собственными представлениями и менять их ради меня не собирался.
Глава 5 На кладбище
Туманным августовским вечером я, лишь несколько часов назад сошедший с доставившего меня из аэропорта автобуса, подошел к едва различимой в белесой дымке ограде кладбища, занимающего пару десятков гектаров земли на окраине моего родного города. Несмотря на усталость, вызванную долгим перелетом, весомой разницей во времени и беспрецедентным хамством облаченных в синюю форму сотрудниц аэропорта, от которого успел несколько отвыкнуть, я решил не откладывать исполнение миссии, ради которой и проделал весь этот путь, в долгий ящик, и постараться побыстрее ее окончить. Мне повезло, и дождь, со стопроцентной гарантией предрекаемый местными синоптиками, так в полную силу и не хлынул, а редкие капли, то и дело падающие с серого и все более чернеющего к вечеру неба, особых неприятностей не доставляли. Ветерок, гоняющий мусор по пустырю перед кладбищем, был настолько слаб, что не мог прогнать накрывшее всю округу облако, а посему у меня появились опасения, что уже через пару часов различить что-либо в этой мути станет невозможным.
Надо заметить, что в душе моей царил полный сумбур. Я совершенно не представлял себе, что следует делать и как именно я должен «прийти» и что «узнать». Также я не мог бы объяснить, почему я начал это не сулящее успеха расследование именно с кладбища, а не, скажем, с квартиры, где когда-то жил мой бедный друг. Наверное, потому, что мысль о встрече с его угрюмой матерью вызывала во мне дрожь, а чувствовать себя посвященным в какую-то тайну из детских «потусторонних» страшилок было куда приятнее.
Поозиравшись, я быстро нашел ближайший пролом в бетонной кладбищенской стене и, переступив через преграждающий мне путь моток обугленного корда, оставшийся от сожженной с целью оттаивания замерзшей земли автомобильной шины, оказался внутри ограды. В этой части кладбища могилы были разбросаны как попало, безо всякого намека на порядок, и отыскать путь среди притиснутых друг к другу ржавых оградок и гор мусора, большей частью состоявших из старых проволочных венков с пожухлыми клеенчатыми цветами и битых бутылок, было не так просто. Впрочем, я, немалую часть моего незатейливого детства проведший здесь за какими-то дикими, пропитанными романтикой и дуростью, играми, сориентировался достаточно быстро, отыскав приемлемую дорогу. Наплевав на сохранность моей дорожной одежды, которую я, предвидя описанные сложности, не стал менять, я уже через несколько минут выбрался на одну из боковых аллей и, отряхнувшись, огляделся в поисках знакомых памятников, чьих обладателей, пользуясь случаем, желал навестить в их последнем пристанище.
Надо сказать, навещать мне было кого. Помимо редких родственников, чьи могилы были, вопреки лелеемым здесь традициям, рассеяны по всему кладбищу, тут покоилась целая плеяда моих однокашников – товарищей по учебе и играм. Волею судьбы наше поколение было словно выкошено литовкой, зажатой в не ведающих жалости руках дамы в белом саване, помахавшей, словно Илья Муромец, сим орудием направо и налево в рядах моих друзей и знакомых, создавая все новые «улицы и переулочки» на просторах этой старой обители мертвых. Несколько десятков погребений, на которых мне пришлось присутствовать, слились в моей памяти в одну сплошную симфонию воя, криков «Не пущу!» над стоящими на табуретах у разверзнутых могил гробами и заунывных аккордов знаменитого шопеновского марша. Трудно было вспомнить месторасположение каждой из этих могил, но этого и не требовалось: достаточно было просто двигаться вдоль рядов, беглым взглядом осматривая надписи на могильных камнях, и вот они – один за одним и одна за одной…
Высокая, в человеческий рост, плита черного мрамора за кованой вычурной оградкой. Мастерски выбитый портрет и надпись: Дорохов Валера, 3.4.1977 – 19.7.1992. Смотрю в насмешливо прищуренные глаза, рассматривающие меня из-под вихрастой шапки светлых волос… Валеру убило током при попытке устроить голубятню на крыше старого сарая. Поскользнувшись и падая со стремянки, он машинально схватился рукой за провисающий оголенный провод, кем-то когда-то почему-то не заизолированный. Спи, Валера, спокойно. Я к тебе буду ходить, ты ко мне не ходи…
Иду дальше. Вот заброшенная могила – совсем завалившийся полуистлевший крест – с разбросанными вокруг позвонками, затем куча бесхозного мусора и, наконец, два одинаковых незатейливых памятника из мраморной крошки с небольшой, должно быть, посаженной недавно, рябинкой между ними. Артур Эртль, 10.10.1978 – 10.10.1996. Все просто. На подаренном отцом к восемнадцатилетию мотоцикле (марку я не помню, да это и не важно) мой одноклассник Артур, предварительно пригубив за свое здоровье, в тот же день на бешеной скорости выскочил навстречу фуре, водитель которой, находясь в шоке, и встретил прибывших сотрудников автоинспекции, сидя на земле подле ставшего бесформенной кровавой массой погибшего парнишки и держа зачем-то в руках его отлетевшие ботинки. Трагедия продолжилась на третий день, когда безмерно винящий себя в смерти сына отец в вечер после похорон застрелился прямо на его могиле. Вот здесь. На его погребении я не был, но говорят, что явившийся орудием самопокарания обрез похоронили вместе с ним. Ладно, ребята – я к вам буду ходить, вы ко мне не ходите…
А вот и сварной железный памятник Павлу Ракитскому, жившему когда-то на соседней улице и мнящему себя грозой окрестностей. На этих похоронах был весь город, только что билеты, как в цирк, продавать не стали, но аплодисменты в толпе слышались. Ну, да он всегда мечтал, чтобы ему аплодировали. Выйдя весной 1998-го из тюрьмы, где отбывал семилетний срок за изнасилование соседской девчонки, Ракитский, упившись до звериного состояния, повторил те же действия по отношению к собственной матери, безобидной пожилой женщине, по неосмотрительности открывшей ему дверь в ту ночь. По свершении сего деяния он попытался задушить мать, дабы запутать правосудие, чему помешал его брат, по счастью проснувшийся от пьянки в смежной комнате и казнивший Павла подвернувшимся под руку топором. Собранию горожан удалось отбить этого брата у суда, убедив заседателей в благостности свершенного им деяния. Вот и вся история. К тебе, Паша, я ходить не буду.
Татьяна Владасовна Петрикайте, 20.9.1972 – 2.3.1994 – надпись на сером гранитном камне, одном из шести, находящихся внутри выкрашенной в зеленый цвет ограды с едва различимой в ней дверцей. Надписи на остальных камнях, установленных здесь в разное время, вещают, что под ними покоятся разные «Петрикас» и «Петрикене», должно быть, различноудаленные родственники Татьяны Владасовны, чьи фамилии склонялись в полном соответствии с правилами литовского языка. Покойница же когда-то преподавала сольфеджио в музыкальной школе, куда я одно время прилежно похаживал, и ее звонкий голос, посылающий меня вон из класса за неуместный приступ смеха, до сих пор звучит у меня в ушах, наводя на грустные размышления. Подробностей ее смерти я не знаю, но поговаривали, что, дескать, случилась у нее какая-то любовь, не то к заезжему гастролеру, не то к директору той самой школы. Пассия ее любовь эту поначалу с восторгом разделял, но ровно до той поры, пока не замаячила впереди недвусмысленная перспектива стать в очередной раз отцом, энтузиазма ему не добавившая, но подвигнувшая его на разрыв всякого рода сношений с молодой любвеобильной литовкой. Это, в свою очередь, навело последнюю на мысль наглотаться с целью небольшого шантажа спазмолитиков, которые, вопреки ее расчету, привели ее не в объятия любимого, но в гроб. Насколько я помню, гроб этот был действительно богатым, а поп, за солидную мзду презревший церковные каноны о запрете отпевания самоубийц – пьяным и лоснящимся от жира. Я буду ходить к тебе, Танечка. Ты уж, милая, ко мне не ходи…
Из тумана вынырнула толстенная черная цепь, провисающая между двумя бетонными столбами в полметра высоты, от которых тянулись к следующим столбам такие же цепи. Это была видимая мне часть оригинального забора, окружавшего так называемое «японское кладбище». Территория примерно в гектар была нашпигована каменными плитами размером пятьдесят на семьдесят сантиметров, под которыми якобы покоятся останки бывших японских военнопленных, по различным причинам не дождавшихся возвращения на свою островную родину. Мы-то с вами знаем, что в реальности прах погибших от голода и издевательств безвестных людей рассеян по всей округе, и большей частью находится на дне тех оросительных каналов, которые они сами вручную выкопали, вероятно, догадываясь, что роют себе могилу. Но политика – дело опасное, история же «японского кладбища» такова: Где-то в восьмидесятых годах представительство какого-то там японского министерства, по всей видимости, отвечающего за культурное наследие, иностранные дела или что-то в этом роде, вступило в контакт с соответствующим министерством страны Советов, а именно с просьбой позволить делегации японцев осмотреть и возложить цветы к могилам встретивших смерть на чужбине соотечественников. Разрешение было получено и японцы назначили свой визит через… две недели. Оторопев от наглости не терпящих промедления жителей восточного архипелага, местные власти по приказу сверху сделали свой ход: уже на второй день на городское кладбище, круша все попавшее под гусеницы, вошли два бульдозера, за пару часов расчистившие необходимую площадь от мешающих укреплению межнациональных отношений могил, как старых, так и недавних, а пришедшие следом безымянные рабочие установили памятные плиты японским военнопленным и закрыли промежутки между ними специально привезенным дерном, дабы скрыть истинный возраст «захоронений». Все. Японцы были в восторге. Родственники же тех, чьи могилы были уничтожены, по ласковой просьбе властей добровольно «заткнули пасть». После этого прошло добрых двадцать лет, но этот памятник человеческой глупости и беспринципности стоит и по сей день, все больше зарастая сорняками и смеша народ.
Миновав бутафорское кладбище, я вышел на более широкую аллею, поведшую меня вдоль установленных вертикально громадных мраморных плит с нанесенными на них резцом целыми пейзажами, отражающими сцены из цыганской жизни. В земле под этими мемориалами – прах цыган-торговцев наркотиками, в начале девяностых деливших сферы влияния с местными отморозками, да, видимо, не очень успешно. Сплошь молодые лица, когда-то куда-то так и не доехавшие на своих, изображенных тут же и модных по тем временам, автомобилях. По-моему, эта аллея – кратчайший путь к альбертовой могиле.
Так… Эту могилу совсем забросал желтыми листьями облетающий раньше всех и зачем-то посаженный в паре метров от нее тополь. А может быть – сам по себе выросший, с тополями это бывает. Отгребаю листья, чуть сдвигаю в сторону заслоняющий буквы старый ржавый венок… Иван Гемский, 12.12.1978 – 30.12.2002, «Ты всегда жив в моем сердце. Мама». Да, Иван, недолго ты пожил… Гемского я помню спокойным, сдержанным парнишкой, пользующимся заслуженным уважением в нашем классе за целеустремленность и тягу к справедливости. Его девизом, помнится, было «Проблем нет, есть только решения!» А дело было так: Вернувшись по окончании университета в родной город, Иван, презрев беззлобные насмешки друзей, вновь поселился у своей овдовевшей много лет назад и перебивающейся подсобными работами матери, в похвальном желании отдать ей свой сыновний долг за труды, связанные с его обучением и «поднятием на ноги». Ему везло, и с работой также проблем не возникло (только решения, помните?). Молодой энергичный инженер не мог не привлечь внимания представительниц нежного пола и, покуражившись для порядка, через пару-тройку месяцев и сам поддался пылкому чувству к одной казенной красотке, что-то там перекладывающей с места на место в отделе кадров одного из третьесортных городских предприятий. Образумившись и решительно отвергнув прежних ухажеров, многие из которых, по отдельной информации, весьма с ней преуспели, девица мертвой хваткой вцепилась в нашего мачо, убедив его, в конце концов, в искренности своих эмоций. Ну, повстречавшись для порядка года полтора, пара решилатаки оформить свои отношения, о чем подала заявление в соответствующую контору, после чего побывала в магазине для брачующихся и выложила солидную сумму заработанных женихом денег за ослепительно белое платье, рыжие кольца и прочую дребедень, необходимую для самоутверждения невесты. Причем, для этого Ивану пришлось, повинуясь капризу будущей жены, скрепя сердце перенести запланированную хирургическую операцию матери на срок, требуемый для сбора новой денежной суммы. Мать не обиделась: она чувствовала себя намного лучше и даже собралась на новогодние праздники навестить сестру, живущую в какой-то там таежной деревне, и провести у нее пару недель, предоставив таким образом молодым наслаждаться покоем и праздничной атмосферой совершенно уединенно, без назойливой возни и «шныряния туда-сюда старшего поколения», как изволила выразиться пару недель назад ее назревающая сноха. Таким образом, утром тридцатого декабря матушка покинула квартиру и город, а Гемский, проводив подругу на корпоративную вечеринку, вернулся домой, дабы приготовить возлюбленной не то ужин, не то еще какой сюрприз. Часов в десять вечера он, однако же, заволновался (не случилось ли чего?) и вновь выдвинулся в знакомом направлении в надежде если не забрать милую, то убедиться, что с ней все в порядке. С ней, и правда, все было отлично: она сидела на коленях лобызаемого ею взасос какого-то лысого пузача и, казалось, не обращала внимания на шарящую в ее трусах руку еще одного участника трио, несколько более хлипкого телосложения, чем первый. Третий же мужчинка, с рыжими усами и разорванной до колена штаниной, снимал веселье на камеру, подбадривая актеров утробным хохотом. Обезумевший Иван кинулся к «труппе» и, рывком отбросив в сторону хлюпика, зачем-то попытался оторвать вернейшую из женщин от потного пьяного толстяка, крича какие-то несуразности. Последнему сие, натурально, пришлось не по душе, поэтому он, свирепея, поднялся и, ухватив ревнивца за волосы своей огромной ручищей, два раза ударил того лицом о стену. Последнее, что услышал Иван, было премерзкое хихикание накачанной сивушным пойлом шлюхи, которую он собирался назвать своей женой.
Очнулся он на улице, лежа у крыльца все того же здания с адской болью в голове и сломанной переносице. С трудом поднявшись, Гемский побрел в сторону дома. Какие мысли роились в его голове в тот момент, никто не знает, но то, что радужными они не были, не подлежит сомнению. Придя домой и заперев дверь, Иван достал с антресоли старое охотничье ружье, оставшееся от отца, вставил в ствол патрон с картечью и, приняв удобную позу на диване, выстрелил себе в рот, нажав на спусковой крючок большим пальцем правой ноги.
Лишь на двенадцатый день соседи, почувствовав проникающий из-за не плотно прилегающей к косяку двери характерный тошнотворный запах, догадались вызвать сотрудников правопорядка, которые сломали дверь и, рыгая, первыми осмотрели труп. Вот и вся история. А диван тот пришлось впоследствии сжечь прямо во дворе, очень уж резким был исходящий от него дух смерти. Проблем для застрелившегося, как и всегда, не было, а решение он выбрал на собственный вкус. Я буду приходить к тебе, Иван. Ты уж, сам понимаешь, лучше не ходи ко мне…
О! Лена Рюмина! Совсем свежая могила. Дата смерти – тринадцатое июля 2004-го. Месяц назад. Я и не знал, что она умерла. Не дошла информация. Внизу, под именем, чуть косые буквы «Погибла трагически». Ну, в этом никто и не сомневался. Надо будет справиться. Адью, Лена!
Ну вот, еще пара повесившихся, несколько разбившихся, двое убиенных… Последний поворот… Скромный железный памятник с выполненной простой, чуть потекшей в отдельных местах, эмалью надписью: Калинский Альберт, 25.01.1979 – 18.10.1997. И все. Даже «любить, помнить и скорбеть», по видимому, никто не собирался.
Видимость с каждой минутой становилась все хуже и хуже, по мере сгущения сумерек – предвестников темной августовской ночи. Туман, впрочем, несколько поредел, то ли развеянный едва слышно шелестящим в кладбищенской траве ветерком, то ли сам по себе, устыдившись своей назойливости. Тем не менее, глаза приходилось напрягать все сильнее и было ясно, что уже через пару минут придется пробираться ощупью через нескончаемую гряду гнутых оградок да мусорных куч, молчаливо свидетельствующих об отношении аборигенов к своим предкам. Чуда в виде месяца, который осветил бы окрестности и избавил меня от слепого кружения по территории мертвых, ожидать не приходилось, поскольку плотные облака, пожалевшие и оставившие меня почти сухим, уходить и уступать место ночному светиле все же не собирались, обещая, напротив, долговременную оккупацию небосвода.
Ну, вот, я достиг цели моего путешествия и стою у могилы моего друга, покинувшего этот мир так рано и бесславно. Смерть его многих оставила равнодушными, а кое-кому даже принесла облегчение. Но здесь, в этом тихом, как принято думать, пристанище, все равны: как те, чьи похороны сопровождались криками отчаяния и крупными заголовками на первых полосах местных газет, так и те, чье небогатое погребение прошло незамеченным. Кого-то поминали громкими речами в шикарных ресторанах, иных же – стаканом суррогата на грязной кухне коммунальной квартиры. Но земля, давящая на крышку гроба, была одинаковой, и неизвестно, вторых или первых больше на скамье подсудимых небесной юрисдикции.
Я смотрел на небрежно намалеванные буквы, складывающиеся в имя лежащего в двух метрах под ними человека и недоумевал, размышляя о собственной наивности. Что привело меня сюда? Что надеялся я здесь найти? Неужели я и в самом деле ожидал увидеть сидящего на лавочке Альберта, готового рассказать мне очередную из его страшных историй? Полученное мною письмо казалось мне теперь чистейшей издевкой или даже приманкой, чтобы затащить меня сюда и расправиться. Кому и зачем это могло понадобиться, я не мог предположить, но начал чувствовать, как, зародившись в комке ноющей боли в животе, по всему моему телу мелкими волнами стал разливаться страх. Тот страх, который охватывает большинство людей, вздумавших в одиночку совершить вылазку на ночное кладбище, не будучи достаточно осведомленными о том, что их может тут ожидать, и уж, в особенности, пришедших сюда в поисках контакта с мертвецом и истины, как я. Мое сознание начало проделывать со мной разные фокусы, а мысли, сумбурные и прыгающие с одного на другое, были настолько уродливого содержания, что назвать их бредом было бы преуменьшением. Кто-то свыше немилосердно подбрасывал мне к размышлению все новые ужасные догадки, и я, проклиная тот миг, когда решил отправиться сюда, готов был уже завыть от съедающей меня жути.
Я скорее почувствовал, чем увидел, чье-то присутствие. Некая субстанция, угадываемая мною и доселе безмолвная, обреталась за стоящим чуть поодаль скрюченным временем язом, до поры не показываясь мне, но и не скрываясь особо, словно наслаждаясь последними мгновениями охоты. Охоты на меня. Я явственно чувствовал, как ЭТО наблюдает за мной, и словно окаменел в безмолвном крике отчаяния. Я не мог пошевелиться и дыхание мое парализовало; с меня даже пот не тек, словно тело мое отказалось поддерживать свои физиологические функции, осознав их ненужность. Я не мог и надеяться сопротивляться, ибо откуда-то знал, что ЭТО, в отличие от меня, было здесь дома. Происходящее со мной являлось, несомненно, платой за мое извечное любопытство и нездоровый интерес к миру духов, к той стороне бытия, познать которую дано лишь после того, как равнодушная сводня-смерть повенчает тебя с вечностью. Своими прогулками по кладбищам и курганам, посещениями моргов и детскими, неуклюжими попытками колдовства я выпросил-таки «снисхождения» к себе, и вот она здесь, наблюдает из-за язя за моей агонией…
Все еще не в силах отвести взгляда от масляных букв на железном памятнике, я боковым зрением увидел, как темный, но заметный даже в сумраке напавшей на мир ночи силуэт выдвинулся-таки из своего укрытия и замер, не оставляя, тем не менее, ни капли сомнений касательно цели своего появления.
Последним усилием воли преодолев онемение моего речевого аппарата, я, скорее от отчаяния, чем осмысленно, заговорил, и это, клянусь вам, был самый лаконичный торг, который я когда-либо вел, но предметом этого торга была сама жизнь:
«Уже?»
«Да», – голос, зазвучавший, казалось, прямо в моей голове, был низкого регистра и раздавался, как из бочки. В иной ситуации я подумал бы, что он принадлежит престарелой прокуренной шлюхе, до сих пор уверенной в неотразимости ее альта.
«Позже»
«Нет»
«Позже!»
«Нет»
«Проклятье! Немного позже! Я хочу все узнать»
«Хорошо. Но недолго»
«Будь по-твоему»
Когда я произносил последние слова, сверкнула молния, предшествуя рычащему раскату грома, и на долю секунды осветила стоящую у старика-ясеня фигуру, напоминающую вырезанный из черной бумаги силуэт монаха, закутанного в сутану и неподвижного. Ни лица, ни каких-либо других частей тела различить было невозможно. Когда же через несколько мгновений следующая вспышка озарила старое дерево, возле него никого не было. Видение исчезло, преподав мне урок.
Тут меня, что называется, отпустило. Скованность сняло как рукой и я, рыдая и сотрясаясь всем телом, не разбирая дороги бросился прочь со страшного места. Одержимый диким страхом, я, словно раненное животное, бежал куда-то, будучи не в состоянии задуматься над направлением моего спурта. Я натыкался на острые углы и прутья, падал, но тут же вставал и, не чувствуя боли, продолжал бегство.
Сам того не заметив, я оказался в самой старой и наиболее удаленной от центральных ворот части кладбища. Здесь не хоронили вот уже более пятидесяти лет, кругом лежали полусгнившие остатки крестов и кости, а редкие гранитные плиты настолько вросли в землю и позеленели, что пришлось бы приложить массу усилий, чтобы разобрать начертанные на них знаки. Кроме единичных любопытствующих эту часть кладбища никто не посещал и даже маломальское подобие порядка здесь не поддерживал, что придавало этому куску усеянной трупами земли и вовсе угрюмый вид, подчеркивая безысходность человеческого существования.
Поняв, что бежал совсем не в ту сторону я, руководствуясь первой с начала моего бегства мелькнувшей у меня мыслью, решил срезать угол и, отыскав какую-нибудь дыру или, на худой конец, перебравшись через забор, попасть, наконец, к людям.
Я рванулся было направо, огибая покосившийся каменный крест позапрошлого века, но удача окончательно отвернулась от меня в этот день и, запутавшись в чем-то обеими ногами сразу, я, словно мешок с мукой, рухнул на землю, ударившись головой о что-то твердое. Однако боль, едва вспыхнув, тут же погасла вместе с моим сознанием.
Когда я очнулся, то не сразу понял, где нахожусь. Какая-то колючая трава премерзко щекотала мне щеки, а предутренний холод, забравшись под рубашку, вытягивал, казалось, последние крохи жизни из моего тела. Лежал я в какой-то немыслимой позе, и оттого правая рука моя заснула, да так, что пришлось поддерживать ее левой, когда я, морщась от тупой боли в голове, все же приподнялся и сел, постепенно возвращаясь в реальность. Осмотревшись и оценив обстановку я, подбадриваемый холодом и подгоняемый болезненными ощущениями, смог, наконец, вспомнить все подробности моего «приключения», приведшего меня в такое, мягко говоря, неприглядное состояние, включая ночную фантазию или даже галлюцинацию с появлением темной фигуры за ясенем, а именно якобы приходившей за мной Смерти. Тут следует обмолвиться, что я, по натуре своей, не был человеком пугливым или как-то по особенному впечатлительным, оставляя эти качества женскому полу и истерикам. Напротив, свой образ мышления я всегда определял как прагматический и для того, чтобы произвести на меня сколько-нибудь сильное впечатление, требовалось нечто большее, чем ночное кладбище да туман. Даже та старая история с альбертовой квартирой не смогла, по большому счету, выбить меня из колеи, подвигнув мой рассудок, скорее, к глубокомысленным размышлениям, нежели к панике. Но, в свете всего произошедшего со мной в последнее время и принимая во внимание усталость после длительного перелета, нет ничего удивительного в том, что и самые крепкие нервы могут дать сбой, да еще этот удар головой…
Я уже не мог отделить события, имевшие место в реальности от композиций, зажигавшихся в моем мозгу в то время, когда я лежал без сознания между наполовину заросшей мхом могильной плитой и злосчастным каменным крестом – виновником произошедшей со мной коллизии. То, что на нем написано, я знал наизусть: «Под симъ камнемъ покоится прах младенца Ксении, дочери ٭٭٭ского первой гильдии купца». и так далее…
Между тем, кое-что вокруг меня изменилось, а именно – взошла луна, не оправдав, к моей вящей радости, мрачные прогнозы синоптиков, к которым я и сам ранее присоединялся. Чуть усеченная с одного края и уже клонящаяся к горизонту, завершая очередной обход своих владений, она ровным желто-зеленым светом озаряла спокойное величие города мертвых, посередине которого я и сидел на сырой от прошедших здесь за последние дни дождей земле, несколько отрешенно взирая на окружающую меня декорацию к фильму ужасов. Казалось, сейчас одна из плит бесшумно отъедет в сторону и из ямы покажется полусгнившая рука с длинными желтыми ногтями, как предвестник начинающегося кошмара. Я улыбнулся этой мысли и заставил себя подняться с сырой земли, ибо проведенная на ней ночь и без того могла сказаться на моем здоровье, по крайней мере, в будущем.
Отряхнувшись и заправив в штаны выбившуюся рубаху, я вдруг обратил внимание на плиту, подле которой лежал. Ничего необычного или примечательного в ней не было, но я, солидную часть своего детства посвятивший поискам острых ощущений и на пару с Альбертом изучивший почти все старые могилы этого кладбища, как казавшиеся нам хранителями каких-то страшных тайн, этой плиты почему-то не помнил. Быть может, она была скрыта землей или завалена мусором, и какой-то любознательный историк вновь явил ее свету Божьему, а может, я не заметил ее по детской невнимательности, что, впрочем, маловероятно. Как бы там ни было, плита существовала и, поскольку я уже здесь, то не уделить две-три минуты ее беглому изучению было бы непростительным проступком. К тому же, никаких планов у меня больше не было, и я, пристыженный и наглотавшийся галлюцинаций, собирался отправиться восвояси и пошляться по знакомым с пеленок улицам моего грязного города, а заодно и навестить оставшихся здесь друзей моего детства и за портвейном скоротать оставшиеся до отлета дни.
Прочитанное мною на замшелой поверхности плиты бросило меня в холодный пот и возвратило мне все мои страхи. Выбитые относительно недавно и потому еще достаточно четкие буквы сообщали мне, что под этой небольшой каменной плитою покоятся останки Калинского Альберта Альбертовича, умершего двадцать седьмого ноября 1930-го года. Даты рождения на плите выгравировано не было. Не менее примечательной была и подпись: «От друга Галактиона и меня». Я задышал чаще и несколько раз с силой зажмурился, стремясь прогнать очередное видение. Но, стоило мне открыть глаза, как я убеждался, что надпись реальна. Быть может, я все еще без сознания или брежу? Но все известные мне методы проверки этого, вроде щипков или ударов себя по роже ничего, кроме боли, не принесли. Должно быть, я все же сошел с ума, подобно бедному Альберту, и дорога моя лежит теперь в дом скорби, где я буду зарастать щетиной и опускаться или же буйствовать и бросаться на решетки, которыми меня, несомненно, изолируют от людей. Представив себе свою физиономию, в неистовстве грызущую прутья заграждения, я грустно усмехнулся и побрел к ближайшему выходу с кладбища, решив предоставить дальнейшее воле случая и разобраться со всем позже. В конце концов, все это могло оказаться простым совпадением, ничего общего с шизофренией не имеющим.
В по-прежнему неприветливом и скупом на эмоции родительском доме я, разместившись в старом потрепанном кресле в углу моей бывшей комнаты и прихлебывая какую-то наспех сотворенную бурду из коньяка и кофейного напитка, попытался упорядочить свои мысли, ошалевшим табуном скачущие по прериям моего рассудка. Мне необходимо было прийти к какой-то мало-мальски стройной концепции моих дальнейших действий, если таковые последуют, ибо та мешанина, которая мерзкой жижей залила, казалось, все мои извилины, откровенно никуда не годилась. Посему я постарался шаг за шагом восстановить все произошедшее со мной прошлым вечером и ночью и, помимо того, как-то увязать это с событиями давно минувшими, а именно, с альбертовой гибелью и той странной историей, случившейся со мною в январе 1989-го. Мне почему-то хотелось, чтобы все эти вещи оказались звеньями одной цепи и сторонами одной загадки, которую я непременно желал распутать.
Но, как ни старался я склеить воедино осколки неведомого мне сосуда, у меня ничего не вышло. Даже отбросив явление темной субстанции и глас смерти, якобы давшей мне отсрочку, как порождение собственной перекошенной психики, я не сумел подобрать ключа к остальным компонентам ребуса. Быть может, мне не хватало для этого проницательности или способности последовательно мыслить, но скорее – просто информации. Слишком много неясностей таила в себе вся эта история, и мое посещение кладбища, которого требовал в письме мертвый Альберт (если я, конечно, верно понял смысл послания), не принесло ничего, кроме новых загадок да нервного расстройства, следствием которого и стали, безусловно, мои мимолетные обманы восприятия в виде зрительных и слуховых галлюцинаций. Хвала Создателю, что они так же внезапно кончились, как и начались.
Все дальнейшие раздумья, с какой бы «точки опоры» я их не предпринимал, неотвратимо и безжалостно приводили меня к одной и той же мысли, столь ненавидимой мною, но, тем не менее, казавшейся наиболее конструктивной в сложившейся ситуации: я должен попытаться снова войти в ту квартиру и, если мне повезет и мистические «ворота» вновь для меня откроются, быть более разумным, нежели четырнадцать лет назад, когда детский страх ставил палки в колеса моей любознательности. Я не мог утверждать, что тот же страх или даже паника вновь не овладеют мной в схожей ситуации, но это было достаточно слабым аргументом для отказа от визита в их обитель, ибо сейчас на карту было поставлено несравнимо большее – мое спокойствие и самоуважение, вновь обрести которые я мог лишь разобравшись в этом сумбуре нереального. Может статься, конечно, что я переоценил свои силы и дело, в которое я собирался сунуться, окажется просто не по зубам человеческому отпрыску, но тогда я, по крайней мере, буду знать, что сделал все возможное для того, чтобы проникнуть в тайну, и не стану так мучиться. Или же погибну, что я склонен был рассматривать как наиболее вероятный вариант развития ситуации.
Тем не менее, я понимал, что действовать наобум было бы непростительной ошибкой. Я не только понятия не имел, что стоит за всем этим, но и абсолютно не представлял себе своих действий в случае, если все «сработает» и я вновь окажусь в неведомых мне тридцатых. К тому же, профессор наверняка ждет от меня новостей, и не поставить его в известность относительно моих планов было бы не только глупо, но и невежливо.
На этот раз дотошная экономка не стала мучить меня расспросами, а сразу соединила со своим сварливым работодателем. Когда тот ответил, мне показалось, что в голосе его промелькнула нотка интереса, что приободрило меня и добавило живости в мой монолог, который он выслушал не перебивая. Задав пару уточняющих вопросов, Райхель одобрил мое намерение, хотя и попросил быть предельно осторожным. Меня несколько удивило это его беспокойство, так как я искренне не понимал, что же такого опасного может меня ожидать там, куда я направляюсь. В конце концов, если что-то пойдет не так, я всегда могу вернуться назад, стоит мне лишь перешагнуть порог квартиры в обратную сторону. Эту мысль я и высказал моему телефонному собеседнику, чем возбудил его недовольство.
– Все это не так легко, как может показаться, бесшабашный Вы юнец! Достаточно малейшей неточности, самого пустячного прокола, и все полетит к чертям. Нужно держать в голове каждый предстоящий шаг, планировать каждый вздох и четко следовать плану, быть, если хотите, гением перевоплощения! Представьте себе, что Вы – разведчик, и за провал Вам будут выдирать веки плоскогубцами в коммунистических застенках и каблуком отдавливать мужское достоинство, приводя его в вид весьма недостойный, простите за каламбур. Кстати, это не абстракция, а вполне реальная перспектива, а посему заклинаю Вас быть хитрее и изворотливее Ваших соперников.
– Вы не усугубляете, профессор? Ведь, как известно, все гениальное просто…
– Кому известно? Мне не известно. Не повторяйте, молодой человек, чужих заезженных фраз, тем паче, таких откровенно глупых. Не кажутся ли Вам простыми, скажем, произведения Достоевского или работы Пикассо? Опусы Баха, в конце концов?! Впрочем, я готов изменить свое мнение, если Вы сейчас пойдете к фортепиано и сыграете мне с листа любую из его трехголосных фуг, ни разу не ошибившись! У Вас там есть фортепиано? Или, быть может, упомянутые мною персоны не достаточно гениальны для Вас?
Мне было слышно в трубке, как он отхлебнул воды и громко стукнул стаканом о стол. Затем он продолжил: – Зачем же Вы, как попугай, повторяете сказанную кем-то безграмотным пошлость? Это доставляет Вам удовольствие? Что ж, люди привыкли жить обезличенно, шаблонно… Сколько глупостей они говорят и делают совершенно бездумно, машинально, только лишь потому, что не дают себе труда или смелости усомниться в величии навязанных им авторитетов. Всю жизнь они вращаются, как шестеренка в часах, с определенной скоростью в определенную сторону, потому что так надо. А может, дорогой мой, Вы пойдете еще дальше и станете утверждать, что все простое – гениально? Тогда нам останется лишь возвести на престол очередного олигофрена и в кровь расшибить себе лоб, молясь на его тупую рожу! А все бредни, которые он изрыгнет, мы вставим в рамы и развешаем по улицам, испишем ими все дома и выколем их чернилами на собственных задницах! Но так уже было, братец, и ничего хорошего, осмелюсь напомнить, из этого не вышло. Вот к чему может привести в итоге простое, казалось бы, повторение чужих глупостей.
Интеллигент до мозга костей, профессор почти поверг меня в шок столь «изысканным» подбором терминов, которые он использовал с такой легкостью, словно всю жизнь провел в подворотнях. Я, признаться, не совсем понял, что именно так расстроило его и заставило с такой горячностью убеждать меня в моей недалекости, но то, что я разочаровал моего собеседника, было совершенно ясно. Я решил взвешивать впредь каждое слово, чтобы не усугублять произведенного мною негативного впечатления.
– Я понял Вас, профессор. Мне жаль, что Вы расстроились из-за меня. Конечно же, я постараюсь сделать так, как Вы говорите и буду осторожен.
– Вы не девица, которая постарается не забеременеть на мальчишнике, мой дорогой! Или Вы четко представляете себе, что ищете и ведете себя как взрослый, или не стоит и браться за эту затею. Это понятно?
Единственно, что мне было понятно, так это то, что профессор Райхель – самый невозможный брюзга из всех, с которыми я когда-либо имел дело, и общаться с ним, пожалуй, сложнее, чем с любым из университетских преподавателей времен моего студенчества. Лишь много позже я понял, почему моя осторожность была так важна профессору, и отдал должное его предусмотрительности.
Затем он просветил меня касательно некоторых технических аспектов и нюансов, которые я должен учесть, чтобы не оказаться белой вороной и, пожелав мне успеха, вновь скомкал разговор. У меня, однако, осталось чувство, что интерес его к этому делу стал лишь сильнее, а посему повесил я трубку вполне удовлетворенный и готовый к действиям.
Глава 6 Мертвый Улюк
Осень 1912-го года выдалась на редкость холодная, хмурая и неприветливая. На непостоянство погоды досадовали даже замшелые седовласые бородачи, боровшиеся со стихией всю свою жизнь и, казалось бы, к ней привыкшие. Текущий год ознаменовался небывало ранними заморозками, изобилием осадков и тягучими, словно высасывающими душу, ветрами. Да что говорить, с самой, почитай, весны мать-природа разобиделась на мужиков и всеми мыслимыми способами совала им палки в колеса, препятствуя привычному течению жизни и вынуждая тратить трижды больше усилий для достижения обычного результата. Чего стоит одно только половодье, когда разлившаяся внеурочно Урица погубила половину посевов, смыла едва посаженные огороды и залила подворья, испоганив остатки сена и затопив погреба с хранящимися там овощными запасами прошлого урожая! А ночной мороз в мае, убивший весь цвет фруктовых деревьев и лишивший тем самым сердца хозяек покоя, а детишек повидла да варенья разного на всю зиму? А июньский пожар, погубивший кучу скота и лишь чудом не спаливший всю деревню? Град нещадно побил капусту и помидоры, а наступившая затем засуха «позаботилась» о картошке, урожай которой, несмотря на отчаянные попытки искусственного орошения, едва ли превысил посев. Мужики ходили хмурые и нелюдимые, приветствовали друг друга сквозь зубы да баб своих хвостали до синевы, чтобы хоть как-то душу ноющую отогреть да пар выпустить. Ребятишки, стайками и в одиночку, рыскали по тайге в поисках даров природы, а более для того, чтобы взгляда сурового да руки тяжелой родительской миновать, ибо всякому было ясно, что время для продуктивного педагогического контакта крайне неудачное.
Впрочем, деревня есть деревня, тайга есть тайга и земля, хоть и кочевряжится, а родит худо-бедно, так что совсем сгинуть с голоду было бы, что и говорить, неловко. Природа, пусть и построжится, а не отнимет последнего.
Как бы то ни было, а описанные катаклизмы заронили в суеверные головы малограмотных сектантов зерно сомнения в справедливости божественного промысла, а особенно богобоязненные из гудиковцев уже и поспешили с пророчествами грядущего конца света да креативными помыслами касательно методов его отсрочки. Их незаурядная назойливость, подкрепляемая вздохами и искрами страха в глазах сочувствующих им домохозяек из малочисленных в деревне дырников, грозила обратиться воинственностью и прямыми призывами к активным действиям, апогеем которых, как явствует из истории, несомненно должно было стать прикрываемое религиозными воплями массовое самоубийство, сопряженное с обычным для такого рода акций избиением младенцев да сожжением скота. Память людская хранила еще последовавшее не далее чем пару весен тому назад «избавление» жителей Улюка, соседней деревушки, от тягот мирской суеты, посланных кознями беснующегося на земле Сатаны. Сатане-то этому сподобленные вкрадчивыми увещеваниями своего лидера сектанты-гудиковцы и показали дружно дулю, спалив свои подворья со всем скарбом, живностью, детьми и бабами и с радостью предав также и собственные бренные тела огню ради спасения души своей грешной. До сих пор проныра-ветер гуляет меж обугленных останков некогда крепких хозяйств, да острова неуемно разросшейся крапивы разбавляют своим сочным колером гнетущий вид памятника человеческой глупости. Жители же окрестностей и днем избегают ходить в сторону мрачного погибшего Улюка, а уж в сумерках или ночью – упаси Боже! – плетью не заставишь, ибо говорят, что все еще слышен в погибшей деревне плач детский жалобный да вой бабий обезумевший, а искры давно погасшего огня вновь тлеть начинают ночами, грозя разгореться и поглотить путника неосторожного, заставив тело его сгинуть в синем пламени, а душу вечно маяться в страшных недрах пожарища. Ямщик с уездного города, задержавшийся в пути и посему проезжавший проложенным рядом со сгоревшей деревней трактом уже около полуночи, видел якобы, как тени стонущие в длинных балахонах меж развалинами бродят да прохожих-проезжих случайных высматривают, чтобы на судьбу свою пожалиться да на погибель верную завлечь. Насилу-де избежал он злой участи, со страху обмочившись да исхвостав в кровь спину своего коня. Хоть и считался этот ямщик среди местных болтуном да пьяницей, и многие подозревали, что припозднился да штаны обмочил он совсем по иной причине, а мало кто возражать его россказням да смеяться над ним вздумал. Правда оно или нет, а лучше промолчать и не встревать в бесовские игры, дабы лишней беды на себя не накликать. Ну, а если уж гудиковцы на рожон не полезли, то дырники и подавно в стороне остались, перекрестившись двоеперстием да помолившись на восток, как вера их требовала. Дела живых, а тем паче мертвых их не интересовали.
Сам же «спаситель душ» сгинувших жителей Улюка, глава и пастырь созданной им секты-стада Илья Гудик не счел нужным разделить судьбу своих односельчан и «спастись» вместе с ними в пламени, разумно полагая, что не достоин пока сего блага, ибо миссия его на земле еще не окончена. Сама мысль о том, как много доброго он мог бы еще свершить и сколько заблудших на выцветших полях дырничества и прочего беспоповства овец наставить на путь истинный, приводила его в восторженный трепет и заставляла активно изыскивать пути воплощения своих возвышенных идей, что он и постарался донести до жителей Николопетровки, через несколько месяцев после пожара начав строиться и пускать корни в этой деревне. Местные, которые до сих пор искренне полагали, что Гудик принял смерть вместе со всей улюкской общиной, постепенно оправились от шока и, будучи, повторяюсь, людьми темными и суеверными, поверили в высшее предназначение пастора, активно включившись в строительство и последующее обустройство его нового жилища. В нем Илья Гудик и обосновался вместе со своею женою Зинаидой, которую по окончании работ перевез назад в родные места из уездного города. Надо ли говорить, что деревня, отдавшая все силы и средства на это инженерное мероприятие, исподволь и пядь за пядью покорилась воле вкрадчивого и обтекаемо-красноречивого Гудика, восторженно внимая его пространным рассуждениям и размашистым обещаниям, которые он раздавал сельчанам словно жменьки семечек, и даже многие исконные дырники, замазав и заколотив некогда священные дырки в своих избах, ринулись в пучину россказней впервые обретенного вожака, оставив своих бывших соратников по вере в явном меньшинстве. В общем, будни вошли в колею, и лишь свежие рассуждения о тяжких грехах и спасении души, которые все более настойчиво вел Илья Гудик среди своей паствы в этот неудачный год, заставили отдельных жителей Николопетровки внутренне напрячься, предчувствуя недоброе.
– Слышишь ли сам ты, что говоришь? И как не онемеют уста твои, столь бесстыдно сквернословящие?! Известно ли тебе, червь, какой лютой карой покарает тебя и отпрысков твоих до седьмого колена Господь за сомнения твои в силе и могуществе его, за нежелание твое упрямое пойти навстречу проповедующему Слово Его ради спасения души твоей и душ детей твоих, за то, что досадуя на деяния Его, ты мыслей своих богопротивных не устыдился и наглостью своею…
– Помолчи, Илья, хорош уж… А то заладил, «твоих» да «своих», – без особого почтения перебил вошедшего было в раж Гудика крестьянин лет сорока, с криво подрезанной литовкой рыжеватой бородой, свернутым на бок носом и уродующим старым шрамом в полщеки, придающим его лицу несколько угрожающее выражение. Голову его покрывало какое-то утратившее всякую форму изделие, а в неказистой дерюге, в которую он был облачен, с трудом можно было узнать овечий тулуп – обыкновенную зимнюю одежду крестьян здешних мест.
Яков Угрюмов – так звали собеседника самоназванного пастора – сидел на скамье в сенях своей избы и при тусклом свете толстой свечи что-то вырезал охотничьим ножом из куска мягкого кедра, придирчиво осматривая свое творение после каждых двух минут работы и, казалось, совсем не слушал разглагольствований крутящегося перед ним Гудика, ибо был беспоповцем-дырником и в назиданиях кого бы то ни было не нуждался, что, должно быть, и бесило его незваного крикливого гостя. В дом Яков Гудика не звал, предпочитая переждать его визит в морозных сенях, но не обременять жену свою, Киру Прокловну, присутствием в избе обрыднувшего сектанта.
Начав разговор в свойственной ему вкрадчивой манере и сопровождая каждое свое словесное утверждение серией гримас и ужимок, кажущихся ему уместными и весомыми, лиса-проповедник незаметно для себя самого повысил голос, засыпал предостережениями, все более напоминающими угрозы и, дав волю вызванному глубоко засевшим равнодушием и очевидной твердолобостью Якова раздражению, перешел, наконец, к обвинениям. Все повышая тон с тем, чтобы ни одно его веское слово не прошло мимо ушей находящейся в горнице через стенку жены хозяина, Гудик в самых черных и густых красках описывал ожидающие неверных детей Господа муки и страдания, которые-де непременно последуют как заслуженная кара за нежелание идти по тропе, указанной единственным человеком, знающим путь к спасению души, а именно скромным, богобоязненным и самоотрешенно радеющим за ближнего Ильей Гудиком, покорнейше тут перед вами, темными и неблагодарными, выплясывающим!
– Иди, Илья, домой. Поздно уж, да и слушать тебя тошно, с души воротит…
Яков говорил медленно, словно с ленцой, да позевывая, и по всему было видно, что человек он терпеливый и мирный, к ссорам не склонный и шума не любящий. Он не недоверчив и не враждебен к гостям, просто занят своим делом и не желает, чтобы ему в этом мешали, вот и все. Знающие его близко люди, однако, тут же поняли бы, что добродушный гигант находится сейчас в высшей степени раздражения и нужно лишь совсем еще немного, чтобы гнев его вырвался наружу, и тогда уж тесно станет в горнице не только назойливому проповеднику, но и чертям, незримой вереницей повсюду за ним таскающимся.
– Не гоже, сосед, вечерами по людям ходить да на ночь их страстями потчевать, тебе ли не знать этого, коли уж, как говоришь, о благе нашем печешься? Я, сосед, свои собственные мысли тут не торопясь собираю, в покое да раздумье их на ниточку насаживаю, как грибы для сушки на зиму, так что короб твоих измышлений оставляй в будущем за порогом моего дома, а ушат негодования твоего так и вовсе за воротами в грязь выливай, не нужно мне этого здесь… А теперь ступай, сосед, спать мы будем.
Как ни взбесился в нутре своем Гудик, как ни вскипела кровь его от столь откровенного хамства и наглости неотесанного дыромоляя, посмевшего не только на внушения его не поддаться, но и, по сути, на дверь ему указать, а стерпел Илья горечь поднесенного напитка, почуял печенками, что не будет добра, вздумай он продолжать разговор или, чего доброго, агрессией ответить на неприязнь Якова Угрюмова, столь неприкрыто ему продемонстрированную. Посему, сухо простившись, глава секты собственного имени ретировался в темноту осеннего вечера.
Выйдя из сеней на пробирающий до костей холод позднего сибирского ноября, Гудик разъяренно топнул облаченной в валенок ногой, сплюнул и, испуганно оглянувшись – не видел ли кто? – направился, пыхтя от гнева, к своему дому, стоящему на пригорке в паре сотен метров. Этот приземистый, худощавый человек с наружностью хорька и красным от постоянного насморка и алчности носом многое повидал на своем извилистом, похожем на заячью тропу, жизненном пути, многим пустил пыль в глаза, многих подмял под себя и, само собой, не собирался отступать и на этот раз, позволив какому-то барану вонючему волю свою изъявлять да от стада общего шарахаться! Не для того он по крупицам, камешек к камешку, возводил среди недоумков деревенских башню своего авторитета, не за тем он стройное древо власти своей взращивал да постулаты новой секты продумывал, чтобы случайный бунтарь, мышь землеройная, корни его подточил зубами своими неровными! В Улюке, чьи черные развалины портят теперь таежный ландшафт в паре верст к западу, ни один, дело прошлое, не решился перечить воле и силе убеждения главенствующего богомольца, ни одна бестолочь не посмела вопросов неугодных задавать или, упаси Бог, ослушаться приказа его! Ибо лишь он мог верно трактовать написанное в Библии, которой они, к слову, до него и в глаза-то не видели, лишь он умел предвидеть грядущее и позаботиться о спасении душ овец своих, направив взгляд их замыленный в нужную ему сторону, и именно ему несли они перед богоугодным самопожертвованием добро свое, меха да прочие ценности накопленные, дабы в райских чертогах, где все они вот-вот обретутся, вновь получить их в целости и сохранности, как он и обещал им…
Вот и здесь, в затерянной в таежной глубинке Николопетровке, куда судьба вновь забросила распрощавшегося было с деревенской грязью и неотесанностью Гудика, все должно было пройти без сучка и задоринки, позволив ему удвоить свое состояние и переселиться, наконец-то, куда подальше от этих мест, где религиозного радетеля знает, что называется, каждая собака и, пожалуй, не с лучшей стороны…
Кто-то, быть может, сейчас усмехнется: что взять-де с нищих крестьян, живущих частными посевами да таежным промыслом? Но Илья Гудик лучше других знал, что означает этот самый промысел в пересчете на звонкую монету; не раз и не два он сам, отложив на время заботы о душе, пытался посредничать при купле-продаже соболя да хариуса, щедро поставляемых тайгой да быстрой Урицей. Самих же добытчиков он призывал к скромности, дабы не растрачивали монету на мирские удобства да прочие излишества. Сам же Илья любил жить с размахом, со вкусом, да и в утонченных удовольствиях толк знал, о чем, впрочем, среди своей паствы не распространялся, предпочитая лицо делать постное и скорбное да вздыхать почаще, сожалея о греховности бытия человеческого.
Несмотря на все коммерческие потуги купца из Гудика не вышло, но вот проповедник и глава названной его именем религиозной общины, а вместе с тем вор и подлец получился славный, а удачная афера с Улюком и вовсе убедила красноносого ловкача в наличии у него особого дара – дара убеждения, открывающего перед ним резную дверь в красивую жизнь, которой он так жаждал. Сам крестьянский сын, Илья Гудик лучше других знал беды и страхи жителей таежных сибирских деревень, и именно из этого вязкого материала строил он свои зыбкие замки-миражи, в которые поселял веру и волю людскую.
Чуть поодаль хрустнула ветка, и где-то внизу, у самой реки, завыла потревоженная дурным сном собака, сетуя на свою несуразную собачью судьбу. Гудик вздрогнул, очнувшись от овладевших им дум, и прибавил шагу. Чуть слышно всхлипнув, калитка в высоком добротном заборе отворилась и пропустила его во двор, а секундой позже с крыльца раздался глухой топот избавляющихся от налипшего снега катанок, стук двери и скрежет массивного засова, отгородившего на ночь верховного верующего деревни от внешнего мира.
Глава 7 Переселенец
Да… Отвратительная сегоды погода, непредсказуемая. Но, видать, угодно было Господу послать отцу такие испытания, погнать его через степи да тайгу на поиски лучшего места для своей шестиголовой семьи, что укрылась сейчас под кучей наваленных циновок да полушубков в полуразвалившихся санях, влекомых такой же полуживой спотыкающейся лошадью по заметенной куражащейся метелью лесной дороге. Тощее изможденное животное едва передвигало ноги, и было неясно, движется ли оно собственными силами или покоряется воле подталкивающего его под иссохший зад ветра. Обрушившаяся внезапно, словно пролитая на дорогу из небесного ушата, темнота и вовсе лишила путников возможности видеть дорогу, и отец, который и без того вот уж второй день шел рядом с подводой, был вынужден пойти впереди нее, чтобы дать хоть какой-то ориентир глупой старой кляче, больше похожей на лошадиный призрак.
Ранним сегодняшним утром продолжили они начатый более недели назад путь, переночевав на подворье у какого-то отцовского знакомого из села Стояново, чья жена – награди ее Бог! – истопила путникам баню по-черному и даже дала поесть горячей похлебки из гусиных потрохов с горохом, показавшейся семилетней Аглае самым вкусным блюдом из всех, что ей когда-либо доводилось отведать. А как же! Продрогшему и уставшему за день детскому тельцу живительный пар бани да миска чудесного гусиного эликсира были как нельзя более кстати, чтобы хоть немного восстановить истраченные на борьбу с дорожными лишениями силы. Усиливающийся кашель и нездорово порозовевшие щеки ребенка родительского беспокойства не вызвали, а от замечаний встревоженной хозяйки по этому поводу отец просто отмахнулся: это, дескать, обычное дело, дите устало и все, что ему нужно – пара часов сна в тепле, которые Аглая и получила. Мать же – худощавая молчаливая женщина с запавшими от усталости потухшими глазами, была полностью поглощена заботой о годовалых близнецах, своей требовательностью отнимающих все ее время и силы. Она все еще кормила их грудью, и капли чудом не пропавшего до сих пор молока блестели на их лоснящихся и пышущих довольством физиономиях, что порой раздражало Аглаю и заставляло испытывать чувство неприязни к братишкам, укравшим у нее заботу матери и «титул» младшего, а значит и любимого, ребенка. Маленькое сердце Аглаи переполнялось горечью, когда она видела, как любой каприз «одинаковых мальчиков» сию минуту исполнялся имеющей собственное мнение о правильном воспитании мамашей, ее же желания и нужды попросту игнорировались, в лучшем случае находя отклик в виде подзатыльника или окрика. Ну, а Соня, старшая сестра, давно жила в своем мире, отгородившись от семьи и окружающих и оставаясь холодной ко всему происходящему, так что и у нее искать сочувствия и поддержки было бы «пустым мероприятием», как выражался отец. Вот и в эту ночь, разбуженная пылающей от жара и что-то лепечущей в бреду Аглаей, Соня лишь досадливо поморщилась, по привычке пробурчав что-то оскорбительное и, повернувшись на другой бок, продолжила просмотр своих эгоистичных снов, наполненных грезами о ее величии. Больной ребенок покричал что-то в немую темноту, бесслезно поплакал и затих до утра, впав в забытье.
После недолгих раздумий поднявшийся еще затемно отец решил все же продолжить двигаться к месту следования, ибо, по его расчетам, до деревни Николопетровка, в которую он с семьей направлялся, оставалось не более дня пути, и он, измотанный долгой дорогой, стремился достичь ее как можно скорее. По этой причине все другие мысли и аргументы отошли для него на второй план, и доводы хозяев, не желающих отпускать его в путь с разбитой болезнью девочкой, разумными ему не казались. Была и еще одна причина, вынуждавшая переселенца спешить: в санях, заваленный для маскировки тряпьем, находился сундук, в черном нутре которого скрывалось все, что отец заработал за всю свою жизнь в городе, вплоть до того самого времени, когда происки недоброжелателей вынудили его покинуть насиженное место и искать пристанища в глухой таежной деревне, скрытой от глаз людских лесными дебрями и расстоянием. Был ли он сам повинен в столь неприятном повороте его судьбы, или злая воля завистников принудила его набить этот сундук и искать спасения в бегстве, неизвестно, ясно лишь, что обещавший приютить его с домочадцами старовер Илья Гудик вызывал в нем больше доверия, нежели оставшиеся в уездном городе приятели и бывшие партнеры. Итак, все, что сподобился отец сделать для Аглаи в то утро, так это бросить в сани, к сундуку с ценным содержимым, пару-тройку дополнительных одеял и, поцеловав девчушку в лоб, пожелать ей доброго пути.
К добру ли, нет ли, но расчетам главы ютящегося в скрипучих санях семейства не суждено было сбыться: ранний ноябрьский вечер окутал окрестности густым сумраком, вновь пошедший снег засыпал и без того едва видимую санную колею, и хлипкая лошадь, не то испугавшись ночи, не то по каким-то иным, одной ей ведомым причинам, не возжелала продолжать путь самостоятельно, сколь суровы и зычны ни были окрики шедшего рядом с нею отца. Отчаявшись пробудить совесть в наглом безответственном животном, он пошел впереди, прокладывая путь собственными сапогами и таща за собою осыпаемую проклятиями и отборной руганью клячу. Хлопья снега залепляли ему глаза, мороз, попустивший было днем, к ночи снова крепчал, кусая сжимавшие узду пальцы отца даже через меховые рукавицы, а жаркое, с хрипотцой, отцово дыхание застывало на усах и бровях его тяжелыми ледяными каплями. К злости на себя, нерадивую лошадь и весь мир, несправедливый и гадкий, примешивался страх заблудиться и, так и не добравшись к ночи до спасительного теплого жилья, сгинуть в тайге, замерзнув насмерть. Переселенец в отчаянии добавил шагу, пробираясь уже практически на ощупь и каждую секунду рискуя свернуть с неразличимой уж почти дороги в густую неведомую чащу. Зачем пошел он сегодня один? Зачем не послушал совета приютившего его в предыдущую ночь Тимофея таежного знакомца и не взял себе провожатого, просившего не такие уж большие деньги за свои услуги, в сравнении с перспективой окоченеть и потерять все? Вот-вот! Именно этого-то он и боялся: как знать, не проведает ли чужак-проводник о ценностях, хранимых в наспех забросанном ветошью старом сундуке, и не возалчет ли их? Как бы то ни было, а в этих краях отец был чужим, и нравы местного населения были ему неведомы, что и вынуждало осторожного горожанина быть подозрительным и не доверять до конца никому. Да и Илья, к слову сказать, предупреждал его о том же: народ тут, дескать, недалекий, но до наживы охочий, а посему следует быть начеку и истинного своего положения, особливо финансового, не выказывать, дабы на грех неразумных детей Божьих не подвигнуть и целым остаться. Да и семью, по большому счету, лучше бы пока в городе оставить, не тащить за собой, дабы ненужным трудностям да лишениям не подвергать. Посему куда как разумней было бы сначала одному приехать и, воспользовавшись ильевым гостеприимством, осмотреться да быт, что называется, подготовить, а после уж и супругу с детьми тревожить, на новое место обитания перевозить. Доводы Ильи показались тогда отцу разумными и обоснованными. К тому же он, будучи человеком тактичным и понимая, что забота радушного знакомца вызвана не в последнюю очередь отсутствием у того энтузиазма привечать у себя на неопределенное время целую ораву, излишне обременять Гудика не желал, а посему заверил последнего, что приедет один и особых хлопот хозяину не доставит. На том и порешили.
Жизнь, однако же, мало интересуется нашими планами и намерениями. У нее свои расчеты и замыслы, менять которые в угоду нашим желанием ей не с руки. Вот и задумкам сегодняшнего переселенца не суждено было осуществиться: запутанные дела его финансовые и еще более осложнившиеся взаимоотношения с бывшим его окружением, которые он, будучи человеком хоть и разумным, но порой излишне эмоциональным, так и не сумел наладить, спутали ему все карты, заставив изменить планы. Он пожелал разом обрубить все концы и, какими бы пугающими ни казались тяготы предстоящего путешествия, все же решил сразу взять с собою жену, Соню, Аглаю и близнецов, которые менее всех представляли себе, какие разительные перемены уготовила им судьба.
Раздававшийся из саней надсадный кашель расхворавшейся семилетней дочери целый день рвал сердце отцу, а под вечер начал раздражать. Ведущий под уздцы сквозь темень сибирского леса опротивевшую ему лошадь, глава семейства стискивал зубы и напрягался при каждом его приступе, более всего на свете желая, чтобы эта пытка наконец прекратилась. Он остро ненавидел дочь за ее внезапную болезнь, за несуразную хворь, встревожившую его, и презирал себя за то, что испытывал это чувство по отношению к безвинному ребенку. Его отвращение к себе усугублялось сознанием, что вся вина за постигшие его близких злоключения целиком и полностью лежит на нем, а шансы на благополучный исход всего мероприятия с каждой минутой и каждым градусом все крепнущего мороза неумолимо тают. Нарастающее отчаяние и страх гнали его вперед, а бешеные мысли, крутившиеся вокруг его несчастной доли и вызывавшие острую жалость к себе не позволяли ни на минуту остановиться, чтобы осмотреться и трезво оценить возможные варианты дальнейших действий. Он просто остервенело рвал вперед, с силой вбивая каждый шаг в ненавистный снег и почти не чувствуя усталости. Он привык к трудностям и боролся с ними, как мог.
Сдавленный крик жены вывел отца из его отчаянного оцепенения. Он с раздражением остановил лошадь, оттолкнул от себя ее фырчащую и брызжущую теплой слизью морду и, повернувшись всем телом, грубо поинтересовался причиной несдержанности супруги.
– Аглая не дышит! Слышишь, она умерла! – крик матери перешел в истерику, звенящей струной пронзив относительную тишину мрачной ночной тайги. – Моя девочка умерла!
Двумя прыжками преодолев расстояние до саней, отец бросился к лежащему у сундука тельцу, оттолкнул причитающую над ним бабу и, разметав спутанные тряпки и одеяла, склонился над ребенком. Спустя несколько бесконечно долгих мгновений, во время которых его собственное сердце, казалось, перестало биться, ухо отца уловило чуть слышное сипящее дыхание Аглаи, говорящее о том, что жизнь еще теплится в этом маленьком слабом существе, все еще борющемся с почти одержавшей верх злой болезнью. Однако же, несмотря на то, что девочка еще жила, было ясно, что она стоит на краю пропасти, и лишь чудо могло бы спасти ее, отвести от края разверзшегося перед ней бездонного ущелья, тем более, что о врачебной помощи и лекарских снадобьях в сложившихся условиях не могло быть и речи.
Чуть было воспрянувший духом отец вновь впал в глубочайшее отчаяние, захрипел и, сдернув рукавицы, вцепился себе в волосы окоченевшими пальцами. Тупой осел! Проклятый детоубийца! Зачем он не послушал сегодня утром разумного совета и не переждал дочернину болезнь в той деревне?! Почему подался в зимний лес, в эту Богом проклятую тайгу, презрев голос разума? Зачем Господь позволил жить такому беспросветному идиоту?! Зачем он дал жизнь Аглае, если девочка должна распрощаться с нею столь юной?! Несчастный родитель готов был сию секунду подохнуть, как бездомная собака, если бы это могло спасти жизнь ребенка, почти не замечаемого им раньше и в один миг ставшего вдруг таким дорогим. В отчаянии он судорожно сжимал тонкие липкие пальцы умирающей девочки, потеряв всякую способность мыслить пред суровым лицом явившегося к нему горя.
Мать рыдала над сгорающим в лихорадке детским телом, то порывисто прижимая к себе голову девочки, то вновь опуская ее на тряпки, то наклоняясь к дочери, то отшатываясь от нее в припадке визгливого плача, когда ей казалось, что она снова не слышит ее дыхания. Брошенные близнецы исходили криком, насупившаяся Соня мрачно наблюдала за всеми, а время, казалось, остановилась, наслаждаясь постигшим неудачливое семейство несчастьем.
Вдруг Соня, в своей странной черствости оставшаяся внимательной к окружающему миру, тронула за плечо сидящего теперь на земле и раскачивающегося из стороны в сторону отца и, дождавшись, пока тот поднимет на нее полный боли взгляд, молча указала подбородком куда-то в сторону от дороги.
Ну, что там еще? Отец машинально повернул голову и посмотрел в указанном старшей дочерью направлении, не ожидая увидеть там ничего примечательного или полезного. Но увидел. Метрах в пятидесяти от остановившихся саней, справа от дороги, в темноте ночи мерцал огонек свечи, или, во всяком случае, что-то очень на него похожее. Огонек не стоял на месте, он передвигался, то скрываясь от глаз за одним из древесных стволов, то вновь появляясь в поле зрения путников, удивленных и завороженных неожиданным миражом. Странно, но шныряющему меж деревьями ветру, распоясавшееся веселье которого ощущалось довольно сильно, никак не удавалось одолеть трепещущий язычок пламени, неукоснительно и храбро движущийся в сторону замерших на дороге саней, то почти угасая под его порывами, то разгораясь с новой силой, словно в насмешку над терзающей его непогодой. Ни хрустом веток, ни шорохом одежды, ни какими-либо иными звуками видение не сопровождалось, что было весьма странно для ночной тайги, бесшумно и уверенно ступать в дебрях которой смог бы, пожалуй, лишь тот, для кого она была не просто родным домом, но периной, колыбелью и материнской грудью, мягкой, теплой и послушно-податливой.
В наступившей вдруг тишине не было слышно ни звука. Даже мать, пару мгновений назад бывшая самим отчаянием, прервала свою уже переходящую было в оплакивание истерику, с суеверным ужасом воззрившись на неожиданно возникшее в ночном лесу явление, несущее с собой горе, быть может, еще более всеобъемлющее и разрушительное чем то, что уже почти случилось. Не научена была темная жена переселенца ждать добра от незваных гостей, всегда приносящих либо плохие известия, либо хлопоты, а чаще и то и другое вместе. Здесь же еще хуже – незваными гостями были они сами, и хлебосольности от приближающегося хозяина можно было ожидать менее всего. В том же, что свечу сжимает рука именно того, кто имеет неоспоримые права и на лес, и на дорогу, и на жизнь передвигающихся по ней незадачливых путников, мать умирающей Аглаи не могла усомниться. Позабыв все запреты и обещания, она, как в детстве, быстро перекрестилась двоеперстием и, чуть улыбнувшись при мысли о скорой встрече с Богом, стала ждать гибели.
Тем временем огонек, приблизившись еще немного, замер саженях в шести от саней, словно несший его неизвестный решил рассмотреть свои жертвы повнимательнее, прежде чем вынести им окончательный приговор. Несмотря на то, что сани почти полностью скрывала тьма, было очевидно, что для пришедшего она препятствием не является, словно и свечу-то он нес скорее для того, чтобы быть замеченным путниками, нежели для собственного комфорта. Облепившим сани испуганным людям не оставалось ничего другого, как уповать на Господа в робкой надежде на его милость, и даже бесчувственная Соня замерла в ожидании, скованная цепью из странного сплава жути и восторга.
В темном небе, состоящем, казалось, сплошь из закрученного ветром в причудливые спирали снега, произошло вдруг нежданное изменение, словно сердце сурового царя небесного оттаяло, отледенело, и он, растроганный беспомощностью и отчаянием попавших в плен судьбы путников, чуть приоткрыл непроглядную завесу своих владений, велев бледному пажу-месяцу пролить несколько капель зеленоватого неровного света на ночную тайгу, бывшую в этот час ареной столь прискорбных событий. Как ни мутен и ни неверен был его свет, а и его оказалось достаточно, чтобы выхватить из тьмы худую, чуть сгорбленную фигуру, на первый взгляд женскую, закутанную, на манер богобоязненных нравственно крепких староверок здешних мест, в бесформенное одеяние темной ткани с капюшоном, напоминающим монашеский и почти совсем скрывающим лицо. Кажущиеся в лунном свете абсолютно белыми пальцы обхватывали длинную свечу, которую безмолвная неподвижная фигура держала перед собой, почти прижав к груди, так что язык свечного пламени плясал где-то на уровне предполагаемого лица, грозя опалить пришедшей ресницы. Теперь, при свете месяца, можно было различить, что ни тропы, ни просеки за спиной у обладательницы черного балахона не было, она просто появилась из гущи леса, наведя ледяную жуть не только на сгрудившихся у саней смертных, но и на рыскающий ветер, посчитавший разумным ретироваться и забиться, как обиженный пес, в какую-то свою ветряную берлогу.
Впрочем, можно думать, что в появлении этого нового персонажа пред кочующим по сибирской тайге семейством не было ничего странного, если не считать, разумеется, несколько неподходящего для заведения новых знакомств времени. Однако же, живописность проработанной умелой кистью небесного художника картины этого появления произвела на главу семьи, его жену и старшую дочь впечатление необычайно яркое, заставив душу поднять из своих глубин весь накопленный за жизнь страх, который, словно взболтанный в бадье браги осадок, в одно мгновение замутил неверный человеческий разум, принудив его искать спасения в спорном тепле накатившей вдруг лавины суеверий. Даже строптивые близнецы не подавали больше голоса, словно почувствовав важность происходящего.
Однако же, едва фигура произнесла первые слова, напряжение спало, как тяжелый тулуп с плеч уставшего ямщика, а гулкий, но спокойный женский голос, которым она обратилась к путникам, и вовсе успокоил тех, разрубив мучительные оковы ожидания и тревоги.
– Куда шли вы таежной ночной дорогой и чем вызвана заминка ваша в пути? – несмотря на мягкость тембра, интонации, с которыми незнакомка начала допрос, были властными, а чуть замедленный темп речи лишь усугублял весомость ее слов.
Поозиравшись по сторонам в поисках неведомой поддержки, отец вспомнил-таки о своей роли главы семейства и, чуть приосанившись, ответил:
– Да вот, видите ли… – в его голосе все же слышалась неуверенность, – дите больное у нас, почти помирать уж вздумало… В жару лежит да дышит через раз. Бьемся над ним, мать вон причитает, да что поделаешь? Незадача в пути случилась, одним словом. Я-то сам из города, да решил вот..
– Погоди, – пресекла странная женщина разрозненный поток речи растерявшегося переселенца. – Дите, говоришь? Что ж ты его, больного, в лес поволок? Борода вон, вижу, седая, а ума не нажил. Где парнишка-то?
– Девчоночка это, семи годов от роду. В санях вон, под тулупом, – не привыкший к чужой над собой власти, опешивший отец становился все покорней, словно смирившись с шальной судьбой, преподносящей ему сюрпризы. Он едва заметным движением подбородка указал в сторону чуть подернутых испуганно дрожащей лошадью саней и снова замер в ожидании дальнейшего распоряжения, которое тут же и последовало.
– Принеси ее и положи на снег между нами, сам же снова отойди. Не бойся, я лишь посмотрю, как ей помочь, – добавила фигура, заметив нерешительность явно удивленного ее словами бородача.
Пару мгновений помедлив, тот, оттолкнув руку пытавшейся было помешать ему жены, тяжело повернулся и, подсунув руки под груду тряпок, в середине которой умирала его младшая дочь, не без труда поднял ее и неуклюже вынес на три сажени вперед, где положил на покрытую ноябрьским снегом землю. Распрямившись, он попытался было получше рассмотреть лицо наблюдающей за ним таежной незнакомки, но та нетерпеливым жестом левой руки принудила его ретироваться, и лишь дождавшись, когда он вернется на свое прежнее место у саней, двинулась вперед.
Склонившись над ребенком, фигура несколько секунд всматривалась в его лицо, словно решая, стоит ли этот погибающий человечек ее помощи, после чего решительно подняла девочку на руки, странным образом не уронив свечу и даже не потревожив ее пламени, и, выпрямившись во весь свой рост, отчеканила:
– Если оставить ее здесь, с вами, она умрет. Жизни в ней не более, чем на час. Однако же, если я возьму ее с собою, она будет жить. Ты идешь в Николопетровку, к Гудику, и сбился с пути. Так разверни же лошадь и следуй за месяцем, между двух старых кедров. И, если Господь тебя не пощадит, ты дойдешь до места. Девочка же появится в деревне, когда поправится. Не знаю, суждено ли тебе снова ее увидеть, но она, повторяю, будет жить. Так что ты решишь?
Словно придавленный к земле каким-то внезапно наступившим прозрением, угрюмый бородач обхватил рукой стан своей метнувшейся было с воем в сторону незнакомки шипящей лебедицы-жены и рывком забросил ее в сани, где она продолжила биться в бесплодной истерике, после чего, с молчаливым остервенением хлестнув вожжами замершую в ужасе лошадь, направил ее в указанном таинственной спасительницей направлении, навстречу собственной гибели.
Глава 8 Лагерник
События, о которых я также должен вскользь упомянуть, произошли со мной во времена моей сопливой пионерской юности, когда я, облагороженный повязанной вокруг моей тощей шеи частицей трудового красного знамени, был насильственно водворен на все время летних каникул в один из ненавистных мне пионерских лагерей, в изобилии разбросанных вдоль поросших хвойным лесом и разнузданными нравами берегов вальяжной Тубы, неспешно несшей свои воды по восточно-сибирским просторам к батюшке-Енисею.
Ненавистными я назвал лагеря потому, что царящие там дикая муштра и атмосфера пафосной преданности возвышенным идеям были столь же противны моему юному сердцу, как и любые другие проявления человеческой глупости, а само устройство и распорядок жизни тем более напоминали оные в лагерях исправительно-трудовых, также широко представленных в нашей местности.
Разумеется, имея такой настрой, вжиться в какое-либо общество невозможно, и уже через несколько часов сам воздух в лагере мне опротивел, а шастающие строем гордые выкидыши коммунизма с приткнутыми к дебильным лицам медными горнами и гротескными, бездарно рифмованными речевками вызывали тошноту.
Похотливые тощие лярвы-пионервожатые, набранные из каких-то педучилищ для прохождения производственной практики, деловито сновали туда-сюда, раздавая нелепые приказы и без особого успеха пряча за спину дымящиеся дешевые сигареты при приближении суровых матрон-воспитательниц, с материнской назойливостью блюдящих моральный облик вверенных им институток. А поскольку общеизвестно, что мораль крепчает, когда дряхлеет плоть, то в радивости этих грузных теток можно было не сомневаться. Это значило, что всяким там плаврукам-дискжокеям, сальными глазами пожирающим представительниц молодого педагогического состава, придется проявлять чудеса ловкости, чтобы преодолеть сие препятствие и отправить-таки свою похотливую нужду в жарких объятиях этих никогда не возражающих чьих-то невест.
Бесцельная суета, примитивные, вмененные в обязанность развлечения и вечная твоя востребованность для производства каких-то грязных работ не оставляли времени ни полезным занятиям навроде чтения, ни просто размышлениям. Все твои мысли должны были быть направлены исключительно на изобретение новых способов воздаяния почестей твоей Советской Родине, а твое пионерское сердце трепетать от восторга при виде колышимого холодным утренним ветром вздернутого на флагштоке засаленного грязно-красного знамени, под которым тебе не возбранялось вместе с восходом солнца встать на перекличку в один ряд с такими же измученными и задерганными твоими товарищами, не засыпающими прямо здесь лишь потому, что линейке всегда предшествовала здоровая бодрящая зарядка, принять участие в которой тебя неизменно ласково побуждали пинки и брань комсомольцев – твоих старших братьев. Исключением были те дни, когда упомянутые братья (и, соответственно, сестры) сами не могли подняться после ночного потребления принесенного из близлежащей деревни спирта, и тогда их заменяли непосредственно воспитательницы, что было, впрочем, еще хуже.
«Бери ложку, бери хлеб, собирайся на обед!» – и очередной перл пионерской рифмы, надсадно выкрикнутый гордым своим постом дежурным по столовой, выводит тебя из чуждых нормальным советским гражданам раздумий, которым ты, по недомыслию своему, посмел было предаться. Отвратительный визг горна, выдавленный с обветшалой трибуны гномом в красной пилотке и черных шортах, заставляет тебя, передернувшись всем телом, подскочить с заплеванной скамейки и стремглав броситься в строй направляющихся в столовую ленинцев, на ходу подхватывая столь же залихватскую, сколь и тупую речевку, без которой допуск к еде для тебе закрыт, а, следовательно, ты рискуешь лишиться целой ложки водянистого толченого картофеля с накрученной из глаз и шкуры котлетой, а то и жирного пирожка с последами и тертыми деснами к прохладному чаю из опилок, которого так жаждет твое разгоряченное горло, истерзанное бесконечными хвалебными выкриками в адрес изображенного на пионерском знамени лысого вождя, которого ты так любишь.
«Спасибо нашим поварам за то, что вкусно варят нам!» – без этого бреда покинуть полутемный, провонявший прогорклым жиром и больше похожий на хлев обеденный зал было невозможно, как невозможно было и уйти без строя, который неизменно должен был протопать шестьюдесятьючетырьмя облаченными в разномастную гнилую обувь загорелыми ногами по лоснящемуся и скользкому от разваленной и размазанной еще во время завтрака липкой каши полу.
Вот и идешь, ретиво отбивая шаг и дожевывая худой капустный лист, из которого, помимо воды, состоял твой суп, в так называемый корпус, а по сути – барак, где ты и обитаешь в камере на тридцать человек, имея свою тумбочку, а в ней – кусок вонючего хозяйственного мыла, которым ты и чистишь по утрам зубы, ибо твою зубную пасту перепившиеся пионервожатые в первую же ночь выдавили тебе, спящему, частично в трусы, частично за шиворот, а зубную щетку твою забрали для чистки своих ботинок сливочным маслом, скудный паек которого ты им сам каждый день отдаешь после завтрака, дабы избежать педагогического тычка шваброй в рыло да сохранить неотбитыми почки.
Мне же, с моей мечтательно-рассеянной натурой и некоторой природной леностью было, пожалуй, немного хуже, чем другим, да и язык свой непослушный я никак не мог обуздать, – его скорость всегда была чуть выше скорости мысли, да и сами мысли нимало не соответствовали тем, которые, согласно указаниям ЦК и ГорОНО, должны были бурлить в голове десятилетнего парнишки, имеющего счастье идти славным путем, указанным хитро щурящимся с портретов «самым человечным человеком».
Человек этот, как оказалось, требовал моего неукоснительного бездумного послушания и раболепной тряски при виде символов власти навязанного им режима. Моя же неуемная фантазия и склонность к анализу переживаний явно противоречили вышеописанным ценностям, и возведенные в ранг церкви коммунистические святыни меня не трогали, что уже само по себе было сродни преступлению, за которое меня ждала самая страшная кара. Причем не только ждала, но неизменно находила, ибо за слова свои да вольность мыслей и поведения я наказывался столь же регулярно, как и ходил пописать, а посему такие меры, как назначенные мне дополнительные часы сбора окурков по лагерной территории или призывы к «бойкоту меня» не были мне в диковинку. Надо сказать, настоящему бойкоту я был бы только рад, так как это дало бы мне хоть немного продыху от назойливости моих многочисленных начальников, начиная от командиров звена, ячейки и прочей хрени до сурового Павла Степановича – директора лагеря, человека жирного, вздорного и в высшей степени отвратительного. По утрам Павел Степанович носил свое огромное, рыхлое и за версту воняющее кислым потом тело от одной хозпостройки к другой, ревностно проверяя исполняемость каких-то своих тайных распоряжений, жрал, чавкая, все что попадалось под руку и, едва скрывшись за каким-нибудь углом, вдохновенно и продолжительно испускал газы, энергично оттягивая при этом половину задницы для облегчения сего действа и полагая, что ненаблюдаем. В рядовых каждодневных линейках-перекличках, куда мы сгонялись, как скот, он участия не принимал, великодушно оставляя толику вожделенной власти своей заместительнице – престарелой крашеной шлюхе Светлане Ильиничне, женщине типично советской, то есть глупой и наглой, обладающей к тому же крысиной мордой и широченным, но, увы, давно уж невостребованным задом, противовесом которому при ходьбе служил ее поистине громадный бюст, который она носила перед собой, словно поднос с юбилейным тортом. В молодости она, похоже, не один десяток бравых молодцов подмяла под этот пресс, теперь же ей в своих утехах приходилось по большей части довольствоваться лишь собственным мужем, которого она пристроила на хоздвор при лагере не то истопником, не то свинопасом. Такое положение Светлану Ильиничну, натурально, злило и огорчало, и огорчение это проявлялось в наисуровейшем обращении с подчиненными ей более молодыми жрицами свободной любви – обладательницами порой тощих, но куда более вертлявых задниц. О нас же, воспитанниках, и говорить не приходилось: мы были просто горсткой вонючих, вызывающих зуд насекомых, которых она страстно и со знанием дела давила. Должно быть, опыт пришел к ней еще в молодости, при борьбе с собственными лобковыми вшами…
Так вот, днем Павел Степанович куда-то исчезал, чураясь летнего зноя, а к вечеру вновь объявлялся на территории лагеря, и его сиплое замученное дыхание можно было слышать то в столовой, где он продолжал набивать свою бездонную утробу, то в одном из корпусов, встречающем его встревоженными и полными брезгливости глазами юных вожатых, то на террасе деревянного клуба, являющегося местом проведения вечерних планерок лагерных надзирателей всех мастей. Там он, расстегнув рубаху и выставив на обозрение обильно поросшую слипшейся от пота шерстью грудь, восседал в массивном низком кресле и распоряжался из его глубин ничтожными судьбами нарушителей лагерного режима, обновленный список которых он каждый вечер получал от своей пораженной неврозом заместительницы. Других дел у него, похоже, и не было, так как судьба, к примеру, провианта была им уже давно решена: половину его жирный бздун сожрал прямо на месте, другую же велел переправить в город, получив в замен то, чем нас и кормили в пионерском лагере «Мечта», память о котором по сю пору волнует и трогает мое сентиментальное сердце. В вопросах же педагогики наш Павел Степанович был сведущ настолько же, насколько мерин в рукоделии и целиком полагался в этом на авторитетное мнение все той же Светланы Ильиничны, которая, помимо всего прочего, умудрялась где-то изыскивать для него бутылку марочного коньяка каждый вечер, да вовремя предлагала свои пышные формы под рюмочку. Так что наш новоиспеченный Черчилль предпочитал не рубить сук, на котором сидел или, если хотите, на которых лежал… В общем, это был сыгранный дуэт.
Меня же все эти вещи интересовали постольку поскольку. С одной стороны, я не хотел, что называется, отрываться от коллектива, и даже составлял иногда компанию смельчакам, затаив дыхание созерцающим сквозь царапины на закрашенном стекле душевой неприкрытые молочные железы заместительницы начальника лагеря и огромный вихрастый треугольник внизу ее массивного живота, поражающий своими размерами даже неискушенных десятилетних «стажеров». С другой же, я не понимал необходимости лезть на рожон, рискуя расплатиться собственным благополучием за это зрелище сомнительной ценности, да и собственные мысли, которым я любил предаваться в одиночестве, интересовали меня значительно больше, нежели все школярские приключения вместе взятые. Посему, отдав дань социуму, я спешил уединиться с книгой или же просто побродить по той части территории, где не было так шумно и не водились назойливые педагоги, которых в моей жизни было более чем достаточно.
Моим излюбленным местом времяпрепровождения стала старая каменная беседка в сосновом бору, не усеянная, как ни странно, экскрементами трудового или отдыхающего элемента и расположенная в небольшой низине, куда не проникал ни назойливый зной сибирского лета, ни раздражающие звуки однообразной лагерной жизни, навроде визга горна или ослинопионерских кличей. Беседка, правда, находилась уже за территорией нашей «зоны отдыха», и мое самовольное здесь пребывание могло иметь для меня весьма печальные последствия, если бы, конечно, о нем стало известно кому-то из персонала. Но ни стройные молчаливые сосны, ни столетний камень неизвестно когда и зачем здесь построенной беседки стучать не умели, а если бы и умели, то, полагаю, не стали бы. Я был здесь своим. Я был другом. Я просто садился на прохладную каменную скамейку и, взбивая перед собой каким-нибудь прутом слежалую пыль, отдыхал. Пахло хвоей, влагой и какими-то грибами. Были то съедобные грибы или ядовитые, я не знаю – собирать и есть я их не собирался. Поднятые мною частички пыли весело щекотали в носу, а сновавшие мимо ящерицы не обращали на меня никакого внимания, словно я был частью привычного им интерьера, такой же каменной статуей. Мысли мои текли неспешно, почти вальяжно, и эти самые ящерицы занимали в них немалое место, как что-то важное, принадлежащее тому же миру, что и я. То, что ликовало, визжало и бесновалось по ту сторону лагерного забора, пинало зачем-то по мячу, отбивало шаг по плацу под красным флагом и нечисто – кто во что горазд – распевало свои дикие гимны и здравицы, относилось к другой вселенной, чуждой мне и неприятной.
Единственным человеком в лагере, общение с которым я находил интересным, был Трофимыч, кочегар лагерной котельной, по долгу службы поддерживающий теплую воду в душе да выполняющий еще кое-какие незамысловатые работы. Жил он в близлежащем селе, а потому в отдельной комнате на хоздворе не нуждался, что было очень выгодно начальству, сдававшему эти комнаты залетным гастролерам. Трофимыч приходил еще затемно, часа, пожалуй, в четыре, и, заступив на свое рабочее место в жаркой, похожей на кузницу, котельной, проводил там весь день, горемычно куря одну папиросу за другой да время от времени подкидывая лопату-другую угля в прожорливую пасть топки. То ли хозяйства у него в деревне не имелось, то ли и вовсе не нужен он был никому, но возвращаться вечерами восвояси он не спешил, еще некоторое время после завершения работы ошиваясь вокруг хозяйственных построек, покашливая да дымя очередной «беломориной», запас которых у него, как видно, не иссякал. Нелюдимый и несловоохотливый, в одной и той же замызганной тужурке да с неизбывным запахом водочного перегара, который он всегда приносил с собой, Трофимыч не мог не стать предметом подзуживаний да насмешек со стороны как юных «невольников», так и более взрослых вожатых, не упускающих случая поддеть старика да бросить ему вслед одну из своих тупых шуток. Тот, казалось, пропускал колкости мимо ушей, не удостаивая обидчиков ни словом, ни взглядом, словно его их реплики вовсе и не касались.
«Эй, дурень! – кричал вслед безобидному кочегару какой-нибудь комсомолец, лезущий из кожи вон, чтобы произвести впечатление на окружающих его девиц. – Куда ж ты пошел? Тут девчонка в тебя влюбилась! Или тебе неловко, что ты так воняешь?»
Даже мне, десятилетнему тогда юнцу, подобные шутки казались глупыми и неостроумными, и я почему-то начинал краснеть за этого парня, столь неприкрыто демонстрирующему свою глупость перед взрослым человеком. Сам я немного побаивался Трофимыча, но отвращения к нему не испытывал. Напротив, мне было жаль старика, в чьей жизни, должно быть, случилась какая-то беда, – а иначе почему он такой… заброшенный?
Однажды, отправленный на хоздвор сжигать собранный ранее мусор, я обнаружил, что забыл позаботиться о спичках, а, следовательно, запалить кучу вонючей пакости мне было нечем. Возвращаться не хотелось – добрые шесть сотен метров босиком по раскаленному асфальту и колючей траве были приличным расстоянием, – и я в растерянности огляделся по сторонам, надеясь найти выход из положения. Но на всем угнетаемом невыносимым зноем пространстве хозяйственного двора я, как назло, никого не увидел, лишь чья-то рыжая собака пыталась немного покемарить, отыскав тонкую полоску тени у облупленной стены бани. Поскольку испрашивать у нее огоньку было бы глупо, я, вздохнув, собрался-таки вернуться в барак, но тут внимание мое привлекла приоткрытая дверь в котельную, где, как я знал, практически неотлучно обретается деревенский старик Трофимыч. Уж у него-то наверняка огня сколько хочешь – по должности положено. Но просто так войти и попросить у угрюмого старика спичку было жутковато: хоть я и не участвовал в акциях по его травле, неизвестно, насколько он обозлен. Однако, взвесив все за и против, я пришел к мысли, что из двух зол нужно выбирать наименьшее и, секундою решившись, проскользнул в полумрак котельной.
Немного присмотревшись, я разглядел сидящую на лавке в углу фигуру, еще ранее заподозрив ее там по вспыхивающему угольку папиросы. Мое появление не могло остаться незамеченным, однако кочегар молчал, то ли ожидая от меня приветствий, то ли вовсе мною не интересуясь. Откашлявшись, я кратко обрисовал ему свое затруднение и попросил одолжить мне коробок спичек для благого дела. Смурной дед глянул на меня исподлобья и изрек, что спичек мне не даст, так как я их, несомненно, ему не верну, но пойдет со мной и сам запалит мусор. Мне было все равно, хотя быть замеченным в компании Трофимыча означало бы и для меня изрядную порцию издевок на хлеб вместо масла. Через несколько минут я уже стоял рядом с кочегаром неподалеку от пылающей и источающей зловоние кучи и молча смотрел в огонь.
Когда мы чуть позже сидели рядом на лавке в котельной, прихлебывая крепкий и почему-то пахнущий табаком чай из мятых алюминиевых кружек, я рассказал Трофимычу о своей нерешительности и о том мерзком чувстве, охватывающем меня всякий раз, когда я становился свидетелем отвратительных издевок над ним. Я, конечно, немного приукрасил, стремясь выглядеть лучше, чем есть, но суть все же передал верно, и старик это понял. В ответ он произнес лишь, что каждому придется когда-то «оплачивать счет за бездумный пир жизни», и завсегдатаи боев быков, потех-карнавалов да прочих непотребных игрищ скорее всего изумятся его размерам. Когда же я спросил его, почему он молчит и не дает отпора обидчикам, Трофимыч усмехнулся и не совсем понятно пояснил: «Я молчу, чтобы забрать ветер из парусов их агрессии». Странно было слышать столь громкие метафоры из уст деревенского алкоголика, но тем отчетливее я осознал, что судьба свела меня с действительно интересным человеком. С тех пор я, наплевав на насмешки однокашников, стал бывать у него довольно часто. Мне нравилось слушать истории о его прошлой жизни, потягивать обжигающий губы несладкий чай из алюминиевой кружки, а то и просто молча смотреть на пробивающиеся сквозь дырочки и щели железной дверцы топки всполохи красно-синего пламени.
К сожалению, эти спокойные минуты выпадали мне нечасто. Большую часть так называемого свободного времени – представьте себе, в лагере отдыха было еще и свободное время! – я все же вынужден был проводить с отрядом (заметьте – все чисто уголовная терминология), потакая глупейшим приказам вожатых и претворяя в жизнь их прихоти-идеи, по своему содержанию очень похожие на хмельной сон слабоумного орангутанга, если, конечно, я верно представляю себе, что может пригрезиться пьяной обезьяне-дебилу. Однажды я должен был, напялив девчоночью юбку и позволив густо намазать себе рожу помадой, распевать песню про Андрияшку с Парашкой, не могущих поделить чьи-то там лапти, и энергично вертеть при этом задницей, покрытой полосатыми трусами семейного типа, которые мне почему-то воспитатели позволили оставить. В другой раз мне пришлось подскакивать в четыре ночи и спешить разыскивать некую военную тайну, для чего необходимо было оползти на брюхе все окрестные карьеры и усеянные дерьмом овраги, потому что, оказывается, это было двадцать второе июня и все должны были изображать войну. А то и вовсе все вдруг отправлялись в близлежащую деревню с целью возложения каких-то там веников к облупленному памятнику не то Вовы Ульянова, не то одного из его многочисленных подельников, взирающего на нас с постамента грозно, но с любовью, разумеется.
Помимо того, в нашем лагере, как и в любом другом советском воспитательном заведении, регулярно случались всякого рода ЧП, то бишь чрезвычайные происшествия. Наше начальство их обожало, лепя этот ярлык на любую мелочь, не стоящую и выеденного яйца. Узрела, к примеру, незабвенная Светлана Ильинична во время утренней переклички лагерников косо сидящую «частицу красного знамени» на чьей-то немытой шее… К концу дня виновный позавидует участи Карбышева, Лазо и эсэрки Каплан, ибо карающая длань блюстительницы лагерного порядка выдавит из него всю душу и распнет подлеца на кресте социалистического сознания, дабы в корне удавить зародыш индивидуальности, пусть даже столь негативной, как неряшливость. О собственной же влажной рыжеватой поросли, за версту благоухающей в ее подмышечных впадинах, разумеется, и не вспомнит…
Или же, скажем, отказался какой-то олух от роли уродливого посмешища, не соблаговолив плясать «веселого утенка» во всем известной детско-идиотской постановке – тем хуже: будет всю ночь плясать по всей территории лагеря, выполняя тройную норму по собиранию плевков и скользких шкурок противозачаточных изделий, щедро разбрасываемых разными хмырями, попользовавшими представительниц похотливой лагерной «номенклатуры». Вот такие чрезвычайные происшествия.
Ну и, конечно, была Анечка. То есть для нас, сопливых юнцов, она звалась, натурально, Анной Юрьевной, но за глаза ее никто иначе как Анечкой или Анютой не величал, и крылся в этом имени невероятный сарказм, поскольку ее поразительные в своей активности подвиги на внутрилагерном любовном фронте не были секретом даже для младшего поколения заключенных, к которому принадлежал и ваш покорный слуга, а восторженные отзывы о ее талантах всей лагерной шушеры мужеского пола раскатистым эхом достигали окрестных деревень, откуда спешили к нам толпы подвыпившего бичевья с целью вкусить сладости ее близости. Анечка была пионервожатой, комсомолкой, а посему отзывчивой и чуткой к чужим желаниям.
Про себя скажу, что у меня с Анечкой сложились совершенно особые отношения. Именно у меня с ней, потому что у нее со мной, разумеется, никаких отношений сложиться не могло по причине моей половой незрелости, на которую я тогда так досадовал.
В моей же юной душе возникло что-то наподобие не отягощенной похотливыми помыслами влюбленности в эту яркую, грудастую и донельзя развязную девку, одну из тех, о которых говорят, что им пальца в рот не клади (пальца, впрочем, никто и не клал). Всегда живая и готовая к действиям, Анечка появлялась и исчезала незаметно, но ее сумасбродные и порой отчаянные задумки по разнообразию нашей богатой впечатлениями пионерской жизни не давали нам забыть о ней ни на секунду. Иногда ее идеи были просто-таки нездоровыми, и упомянутое выше принудительное размалевывание ребят губной помадой было, что называется, просто цветочками. Чего стоит один только почетный караул у ведра с блевотиной, после того, как в отряде откуда-то появилась бутылка спирта? А поглощение окурка, произведенное пойманным ею за курением не то Степой, не то Семой? А проведенная Анечкой дележка продуктов после так называемого Родительского дня (который, заметьте, помимо пионерского лагеря проводится лишь на кладбище), при которой в нашем распоряжении, собственно, осталась лишь минеральная вода, да и та не в полном объеме? Да что говорить, воспитательный процесс у нас не оставлял желать лучшего. А самое главное – мы уже тогда учились плясать под дудку шлюхи, что многие из нас до сих пор и проделывают.
Мне же Анечка не казалась ни злой, ни пошлой. Я был от нее в тайном восторге и люто ненавидел каждого, кто осмеливался в моем присутствии пройтись по ее достоинствам или моральному облику. Правда, вслух я этого не говорил и даже поддерживал рассказчика отрывистым одобрительным смехом, дабы не навлечь на себя обоснованное подозрение в недопустимой лояльности и не стать посмешищем. Таким образом, я обучился и еще кое чему, а именно молчаливому предательству.
Находясь в тиши моей каменной беседки или прислушиваясь в ночи к ровному сопению спящих однокашников, я предавался своим неоформленным мыслям и мечтам о моей развратной пассии, безраздельно царившей в моей душе, когда Господь милостиво не дал мне еще ума для четкой формулировки моего чувства. Милостиво, потому что, пойми я тогда суть моих переживаний, безусловно сгорел бы от стыда и отчаяния.
Но в моих мечтательных томлениях все было иначе. Анечка, которая, живи она в другом месте и времени, несомненно стала бы портовой шлюхой или разменивающейся на стакан дешевого портвейна шалавой, рисовалась мне наделенной всеми мыслимыми благодетелями принцессой, самым ярким цветком райского сада, в котором я, конечно же, был садовником. Мне все было ясно: к ее сегодняшнему стилю жизни мою Анюту склоняет лишь непонимание того, какое бесконечно-лучистое счастье она обрела бы в моих объятьях! Злые испорченные люди используют ее наивность и девичью доверчивость, не подозревая, насколько омерзительна их гнусная похоть! Но я положу этому конец, непременно положу!
В моих ночных подвигах я неизменно избавлял Анечку из лап разбойников, насильников и директора лагеря, я спасал ее из самых, казалось, безнадежных ситуаций, а она, разумеется, платила мне за это страстной любовью и незыблемой верностью. Тогда я, пожалуй, еще верил в сказки со счастливым концом, и мечты мои не казались мне столь уж далекими от реальности.
И представьте, они сбылись! Правда, частично, поскольку предмет моего вожделения так никогда и не очутился в моих всепрощающих объятиях, но благодаря необъяснимому, мистическому случаю я все же сумел кое в чем помочь моей дорогой вожатой. Жаль лишь, что она об этом так и не узнала.
Началось с того, что на утреннем построении я не увидел объекта моих грез на ее обычном месте – возле флагштока с развевающимся лагерным знаменем. В этом, конечно, не было ничего удивительного – последствия бурной ночи могли просто не позволить Анне Юрьевне присутствовать на «распределении работ», принудив ее отдаться мягкому теплу кровати – однако тот факт, что не появилась она ни за завтраком, ни за обедом, а драйка полусгнившей сцены никому не нужного клуба контролировалась кем-то другим, заставил меня заподозрить Анечку в серьезной болезни, а то и вовсе в отъезде в город по каким-то делам. Однако, даже не дорисовав картинку о том, как чудно было бы, кабы я мог ее сопровождать, я был отвлечен приказом воспитательницы «убраться с глаз», а в суматохе наполненного новыми идиотскими работами дня более о ней не вспомнил. Следующий день прошел так же малопримечательно для меня: Анечка не появлялась, а без нее мое лагерное существование становилось и вовсе невыносимым. Не видя ее хотя бы издалека, не слыша ее характерного, с чуть заметной хрипотцой голоса и не наблюдая ее раскачивающегося на веревке за бараком нижнего белья советского производства я хирел и впадал в меланхолию, проникаясь ко всему миру неприязнью, граничащей со злобой. Я уверил себя, что зазноба моя проводит свои выходные дни в городе, и стал терпеливо дожидаться ее возвращения, привычно поглядывая на ведущую в ее закуток дверь в надежде, что та вот-вот откроется и Анечка вынесет на порог свое великолепное тело.
После обеда я случайно стал свидетелем разговора Светланы Ильиничны с одной из воспитательниц, стоящей перед ней с видом горемычным и виноватым. Начала их диалога я слышал, но концовка привлекла мое внимание: заместительница директора выговаривала подчиненной за нерадивость и непроизведение контроля за «этими безмозглыми кошками, позволяющими себе все, что им вздумается, нимало ни заботясь о своих обязанностях».
«И не пытайтесь ее выгораживать! Вы меня в гроб сведете вместе с этим разнузданным молодняком! Да что она себе позволяет?! Мало мне здесь ее шашней со всей округой, так она еще и исчезла, не сказав никому ни слова! Подумать только, Лидия Карповна, как они у Вас распоясались!» – с этими словами Светлана Ильинична, фыркнув, развернулась на каблуках и, исполненная величавого достоинства, удалилась, оставив отчитанную коллегу предаваться стыду за свою некомпетентность. Хотя эта грозная матрона и не упомянула имени той, чьим поведением была так раздосадована, мне было совершенно ясно, что речь идет о предмете моего вожделения, который, должно быть, презрев должностные обязанности, удалился по своим делам на несколько дней, чем ранил заботливую Светлану Ильиничну в самое сердце. Я усмехнулся и поспешил убраться восвояси, пока оплеванная Лидия Карповна не осознала, что я был свидетелем ее унижения.
Хвойный лес, обступавший беседку, источал неповторимый запах, а размеренное спокойствие его жизни наполняло и мою легкой приятной радостью. Я вновь пришел сюда, чтобы в тишине насладиться гостеприимным теплом природы и упорядочить скачущие газели-мысли, незатейливо раскрашивающие мое существование. У меня было хорошее настроение, подогреваемое красными лучами прячущегося в горы за Тубой солнца и мыслью, что до конца срока, простите, сезона, уже не так уж и далеко скоро я снова пойду в школу, обрыдшую зимой и кажущуюся теперь такой милой, а вечера стану проводить не за разучиванием новых речевок и поиском свободного места в загаженных сортирах, а в играх и беседах с моим другом Альбертом, по которому успел соскучиться. А еще я отыщу в городе Анечку, и она, не увлеченная более водоворотом нашпигованного пошлостью лагерного борделя, обратит на меня внимание и мы подружимся. Я был уверен в этом так же, как в том, что сижу на каменной скамье в таежной беседке и что тот, кто сейчас размеренно долбит клювом в ее крышу, является птицей. Скорее всего, сбрендившим обознавшимся дятлом, а быть может, и просто очумелой вороной, запутавшейся в своей вороньей жизни. Я лениво поднялся, чтобы проверить свою догадку и, выйдя из беседки, потянулся на носках, стремясь увидеть моего нежданного гостя, избравшего методом общения азбуку Морзе.
Но то, что я увидел, стало еще одной, предложенной мне судьбою, загадкой, ответ на которую я узнаю еще очень не скоро. Птицы, какой бы она ни была, на крыше каменного домика уже не было, но я заметил кое-что другое: на поперечной балке, под самым перекрытием, что-то тускло блеснуло, отразив заблудший луч солнца. Что-то неясное, размером чуть меньше кулака, плотно застрявшее между частями каменной конструкции. Сначала я не придал предмету никакого значения, приняв его за камень или нечто подобное. И лишь ленивое любопытство бездельника побудило меня влезть по богатой выступами шершавой стене беседки и, приложив определенное усилие, выдернуть эту приклеенную временем штуковину из ее, судя по всему, многолетнего гнезда.
Спрыгнув вниз и осмотрев свою находку, я пришел к выводу, что это – плотно смотанный кусок металлической фольги, в которую, похоже, было что-то завернуто. Осматривая сверток со всех сторон, я пытался отыскать край, с которого следовало начинать разворачивать фольгу, однако сделать это было непросто, так как время намертво спрессовало этот кусок цветного металла, сделав его практически однородным. Наконец я нащупал на гладкой поверхности предмета небольшую, едва ощущаемую выпуклость или, вернее сказать, зацепку, которая при ближайшем рассмотрении оказалась загнутым когда-то краешком свертка, словно тот, кто его упаковывал, специально позаботился о том, чтобы мой труд был не особенно кропотливым. Ведь, не найди я этого «ключика», то должен был бы, пожалуй, ковырять фольгу отверткой или даже разрубать топором, что, возможно, повредило бы содержимое.
Но даже подцепив ногтем загнутый уголок фольги, мне пришлось приложить немало усилий, чтобы отогнуть верхний слой металлического листа, прикипевший особенно основательно. Дальше дело у меня пошло значительно быстрее и уже через минуту я стоял, ошарашено воззрившись на слежалый, желтоватый, но вполне сохранившийся небольшой листок бумаги, вырванный, должно быть, из какой-нибудь канцелярской книги или чего-то подобного. Несомненным оставалось одно: листок этот был очень старым и происходил из той эпохи, когда учились грамоте мои предки во втором, а то и третьем поколении. Я же, словно рыбак, выловивший заплесневелую бутылку с запечатанным в ней посланием, готовился к посвящению в какую-то тайну, могущую в корне изменить мою жизнь.
На листке было что-то жирно написано простым карандашом, но я, не в силах совладать с дрожью в руках, долгое время не мог сосредоточиться и разобрать написанное: слишком необычным было для меня это приключение. Начав же читать, я приготовился к борьбе с изобилием всяких там «ятей» и прочих труднопонимаемых закорючек, которые, по моему мнению, обязательно должны были присутствовать в любом мало-мальски старом русском тексте. Но их там не оказалось. Мысль, содержащаяся в манускрипте, была нанесена на бумагу современным разборчивым рукописным шрифтом, изложена вполне доступным языком и заключалась в двух коротких фразах: «Тело Анны Юрьевны найдете в нижнем гроте. Сегодня в десять убийца попробует перенести его в лес».
Надеюсь, мне удалось не тронуться тогда умом. Наверное, что-то просто заблокировало тогда мою способность восприятия всякой чуши, иначе я бы, несомненно, свихнулся. Произошедшее не могло, не имело права быть правдой! Но неужели это так и Анечка мертва? В нижнем гроте? Ужасно! Однако же, насколько чудовищной ни была эта мысль, гораздо более интересовало и обескураживало меня другое: каким образом эта информация, или пророчество, или издевка – называйте это как угодно – попала в центр свернутого десятилетия назад алюминиевого рулона, обнаруженного мною сегодня по чистой случайности? И что значит «сегодня в десять»? Словно провидение знало, когда именно я наткнусь на этот комок фольги! Впрочем, на то оно и провидение…
Все это проносилось в моей голове в то время, когда я, спотыкаясь о сучья и торчащие из земли корни, падая, поднимаясь и снова падая, со всей возможной резвостью несся к лагерю, а затем через всю его территорию к административному бараку, где едва не сбил с ног Светлану Ильиничну, как раз выносившую свою тушу из директорского кабинета и захлопавшую от неожиданности своими густо накрашенными фиолетовыми ресницами. Я, как безумный, стал совать ей в руки желтоватый листок бумаги, будучи не в силах выговорить ни слова. Мне казалось, что легкие мои разорвались и до смерти от удушья остаются считанные мгновения.
Дальше все было просто: мне, абсолютно выбитому из колеи и, тем не менее, гордому выпавшей на мою долю миссией, досталось сопровождать директора и пару ленивых и уже чуть поддатых лагерных милиционеров к нижнему гроту, пробитому в незапамятные времена в прибрежной скале старушкой-Тубой. Вода из грота давно ушла, и эта небольшая пещера, отверстие которой, не зная о нем, было обнаружить не так-то просто, пользовалась заслуженной популярностью среди романтически настроенной лагерной детворы, организовывавшей здесь свои игры. Правда, по какой-то причине это было строжайше запрещено, как и все, доставляющее хоть какое-то удовольствие, а посему грот часто служил конечным пунктом здешних «самоволок», привечая ищущих наказания местных Томов Сойеров-мазохистов. Нижним его назвали лишь потому, что выше по течению Тубы имелся еще один, менее глубокий и интересный. Путь к гроту был весьма извилист и требовал, помимо желания попасть туда, еще и изрядной юношеской выносливости и сноровки, а посему, натурально, ни директор лагеря, ни его прислуга туда не совались. Это-то обстоятельство и вынудило моих взрослых напыщенных шефов взять меня с собой, дабы не сбиться с пути и не угодить в одну из змеиных нор, коих в этих местах более чем достаточно.
Разумеется, сразу после прибытия на место я был властной рукой Павла Степановича отодвинут в сторону, как сопливый и не нужный уж более элемент. Одержимый дурманящим и непривычным чувством деятельности, директор жаждал стать первооткрывателем чего бы там ни было, и даже его сиплая одышка и треснувшие по шву во всю задницу брюки не явились препоной на пути его всепоглощающей активности. И все же я первым, быстрее других адаптировавшись ко мраку грота, заметил лежащее под скальным выступом справа тело, завернутое в темно-синее клетчатое лагерное одеяло. Сладковатый запах наступившей двое суток назад смерти носился в затхлом воздухе грота, отбив у Павла Степановича страсть к подвигам и лишь раззадорив пьяненьких советских блюстителей порядка, деловито принявшихся за работу. Про меня забыли, и из-под руки одного из них мне удалось в свете его карманного фонарика разглядеть некоторые подробности и убедиться, что опасения и надежды мои в полной мере оправдались. Опасения, потому что убиенная и в самом деле оказалась глупо обожаемой мною когда-то Анной Юрьевной, которую я смог опознать даже несмотря на вывалившийся при удушении огромный лиловый язык и багрово-синюшний цвет лица, приобретенный ею безо всякой, насколько я мог судить, косметики. А надежды… Написанное на найденном мною при столь загадочных обстоятельствах листке оказалось правдой, а это означало, что необъяснимое и таинственное в нашем мире существует и даже является, пожалуй, его неотъемлемым атрибутом, что наполняло мое ищущее загадок юное сердце благоговейным трепетом и сладким ноющим ожиданием чего-то.
Впрочем, время близилось к десяти, и Павел Степанович указал милиционерам на необходимость приготовиться к тому, что и вторая часть изложенной в таинственной записке информации окажется правдой, в чем он, поначалу поднявший меня на смех, теперь практически не сомневался. Надо сказать, с него слетел теперь всякий кураж, он уныло поглядывал в сторону ведущей к лагерю тропинки и явно сожалел о том, что, повинуясь вызванной парами выпитого браваде, вообще ввязался в это дело. Поиграть в следователя, подняв мертвеца и отдавая приказания юнцам в синей милицейской форме – это одно дело, сидеть же в засаде, поджидая убийцу и не имея ни малейшего понятия о том, что с ним делать – уже другое, и Павлу Степановичу это отчаянно не нравилось. Но выбора не было и он, велев мне убираться в лагерь и не путаться под ногами, заозирался по сторонам в поисках подходящего места, куда бы он мог притулить свое грузное тело. Я же, сделав вид что подчинился, стал спускаться вниз по тропе, но только до того момента, пока деревья не скрыли мою фигуру от глаз остающихся. Разумеется, я не мог пропустить кульминации сегодняшнего вечера, тем более, что чувствовал себе непосредственно причастным к этому делу. Свернув с тропинки и углубившись в лес на несколько метров, я укрылся в густой растительности, не опасаясь быть замеченным и в предвкушении острых ощущений. Мне, никогда до этого не встречавшемуся с убийцами, он рисовался огромным, покрытым шерстью монстром, чем-то наподобие расписанных в журнале «Крокодил» капиталистов, норовящих ухватить кусок пожирнее из переполненной сказочными яствами совдеповской кухни. Он, несомненно, появится сейчас в маске, с пистолетом и рыча, и неизвестно еще, удастся ли Павлу Степановичу с молодчиками принудить его сдаться. Если можно верить прочитанным мною детективам, убийцы – народ не слишком-то сговорчивый.
Послышавшиеся снизу шаги и сопровождавший их шорох раздвигаемой растительности заставили меня прекратить бездумное философствование и напрячься. Рассуждать было легко, но сейчас, когда опасность была столь явной, холодный пот выступил у меня на лбу и ладонях, а ноги стали ватными. Почему он и в самом деле не дождался темноты? Еще какой-то час, и под покровом ночи он мог бы действовать, не подвергая себя опасности! Десять часов – немного рановато для восточно-сибирского лета, но так было написано в загадочном послании, а убийца, похоже, руководствовался именно им.
Однако десять секунд спустя я чуть было не рассмеялся своим страхам: по тропинке поднимался не кто иной, как мой старый знакомец Трофимыч, не то совершающий прогулку, не то просто болтающийся по окрестностям после окончания работы. И в самом деле – дома его никто не ждал, а лес и горы – лучшее место для размышлений и отдыха от мирской суеты. Но, в самом деле, как хорошо, что он здесь! Теперь-то, с его помощью, убийца точно не уйдет. За свою жизнь Трофимыч бывал в стольких переделках, что поимка какого-то трусливого дилетанта будет для него плевым делом.
Я собирался уже окликнуть его, чтобы объяснить положение вещей, как что-то меня остановило. Трофимыч, определенно, вел себя не как обычно. Всегда отрешенный и неторопливый, сейчас он продвигался вперед быстрым шагом, каждую секунду оглядываясь и настороженно прислушиваясь. От его чуть согбенной осанки не осталось и следа – он шел прямо, пружинящей походкой и всем своим видом напоминая сейчас охотящегося лиса.
Пройдя мимо меня он, постояв немного у входа в грот и для верности обведя взглядом окрестные кусты, скользнул внутрь. Пару секунд все было тихо, затем до меня донеслись звуки борьбы и крики, среди которых доминировал громогласный рык Павла Степановича, после чего раздался выстрел и все стихло.
Срочно вызванный воронок отвез Трофимыча в город, где он получил место в камере предварительного заключения по обвинению в убийстве. Ко всеобщему удивлению, Анечка не была изнасилована, кочегар просто удушил ее в припадке ярости, вызванной наглостью и откровенными провокациями разнузданной девахи. Ни на допросах, ни перед судом Трофимыч не раскаялся, сожалея лишь о том, что не успел избавиться от тела.
К вящей моей радости, меня вышвырнули из лагеря по причине нарушения режима. Ведь беседка, где я наткнулся на помогшее разоблачить и поймать убийцу странное послание, находилась за территорией лагеря, и мое там пребывание было рассмотрено как побег, который, натурально, карался. Правда, чистосердечное признание смягчило мою вину и вопрос об исключении меня из ленинской пионерской организации поставлен не был, но радостей уборки окурков и плевков я был-таки лишен. Что же до письма, происхождение которого долгое время оставалось для меня загадкой, то его мне так и не вернули.
Процесс над Трофимычем не был показательным, и убийцу не казнили, приговорив к высшему сроку тюремного заключения. Для меня же все было ясно: Анечка оплатила свой счет, который, согласно Трофимычу, когда-то ляжет перед каждым.
Глава 9 Гостеприимство
Вернемся в ноябрь 1912-го года, к нашему переселенцу, который, все еще растерянный и ошарашенный внезапной утратой младшей дочери, уныло брел в указанном ему направлении, ведя под уздцы вконец измученную худосочную клячу, из последних сил тащившую за собой сани с остатками его семейства.
Миновав два высоченных старых кедра, стоявших, словно гигантская супружеская пара, чуть в стороне от своих сородичей, отец и вправду заметил дорогу, озаренную лунным светом и явственно проступающую под белым покровом нового снега. Если бы путники продолжали двигаться в прежнем направлении, то, несомненно, ушли бы далеко в сторону от цели, и неизвестно, какая судьба ждала бы их.
Мысленно поблагодарив женщину в балахоне, бородач ускорил шаг, стремясь теперь как можно быстрее преодолеть оставшуюся часть пути, так измотавшего его и принесшего его семье беду. Впрочем, убедившись, что черная фигура – кем бы она ни была – не обманула его касательно местности, отец начал верить, что с отданной в ее руки Аглаей и впрямь ничего не случится. Должно быть, Господь услышал его отчаянные молитвы и послал дочери спасение. Он поделился этой мыслью с примолкшей в санях женой, но ответом ему было лишь молчание, изредка прерываемое невыносимым бабьим поскуливанием. Отец махнул рукой и зашагал еще энергичней.
Последний поворот дороги, пригорок, и запыхавшийся переселенец вышел на околицу ночной Николопетровки, избы которой были в это время суток различимы лишь благодаря луне, которую Божьей милостью тучи так больше и не заслонили.
Чуть отдышавшись, отец начал вглядываться в контуры домов и построек, пытаясь по описанию Гудика распознать его жилище и, положившись на гостеприимство знатного сектанта, насладиться, наконец, вожделенным отдыхом. Разорвав ставшую уже привычной таежную тишину, где-то залаяла собака, и эти звуки, являющиеся верной приметой людского присутствия, мятным бальзамом пролились на душу измучившегося человека, который сумел-таки победить все тяготы и неудачи, доведя задуманное до конца.
Тут кто-то окликнул отца по имени, заставив его вздрогнуть от неожиданности. После секундной паники он обругал себя за нервозность и, прокашлявшись, откликнулся. Зовущий его человек мог быть только Гудиком, так как никто другой не знал и не ждал его в этом краю. Старовер же вполне мог выйти ему навстречу, обеспокоенный долгим его отсутствием.
И хотя то, что Илья наткнулся в ночи на его сани, могло оказаться простой случайностью, бежавшему от долгов коммерсанту нравилась мысль о том, что кто-то его ждет и за него переживает. Эх, тайга! Тебе предстоит теперь стать родным домом смелому переселенцу и его дорогому семейству! И Аглая вернется. Поправится и вернется. Отец верил теперь женщине в черном.
Услышав подтверждение, Гудик вышел из тени развесистой ели и, с трудом выдергивая из глубоких снежных сугробов застревающие в них ноги, приблизился. Взяв отца за плечи, Илья чуть отстранился, дабы получше рассмотреть его раскрасневшееся от мороза лицо в свете луны, после чего порывисто обнял, безо всяких слов демонстрируя свою радость и облегчение по поводу того, что Бог довел-таки его старого друга до места, где ему окажут всяческий почет и уважение.
– Ну, долго же ты пропадал в тайге, старый бандит! Чуть не замерз, небось? Никак, дорогу потерял? – Гудик просто лучился счастьем и задавал вопрос за вопросом, не дожидаясь ответов. Он неустанно похлопывал старого приятеля по плечам и осматривал его со всех сторон, словно тот был редким музейным экспонатом.
– Да нет, нет, Илья… Все в порядке, – пытался вставить отец пару слов между перехватывающими дыхание порывистыми объятьями Гудика. – Были трудности, ну да я потом тебе расскажу. Пришлось, конечно, помучиться…
Тут встречающий заметил притихшие в санях неподвижные фигуры и нахмурился. По всей видимости, непослушание друга не привело его в восторг и в планы его не входило. Ожидая переселенца, он совсем упустил из виду, что неожиданно возникшие обстоятельства могут не позволить тому выполнить уговор и прибыть на новое место жительства без семьи. Илья Гудик, несомненно, христианин и гостеприимный человек, но проблему устройства быта новоприбывших придется теперь решать иначе. Одно дело – непритязательный одинокий гость, и совсем другое – целое семейство, да еще с грудными детьми…
– Видишь ли, Илья… – смущенно начал отец, заметив замешательство на лице друга. – Я и хотел бы иначе, да не вышло. Ты понимаешь, тот… – и, наклонившись к самому уху успевшего взять себя в руки Гудика, приезжий что-то быстро зашептал ему туда, стараясь как можно скорее объясниться и сгладить неловкость. Встречающий, однако, отмахнулся от его объяснений, словно говоря, что проблема-де пустяковая и не стоит долгого обсуждения, и взмахом руки предложил следовать за ним к дому.
Словно гора с плеч свалилась у незадачливого переселенца, так как он, признаться, всю многодневную дорогу волновался о том, какие последствия может иметь этот его поступок, который он в спешке просто не успел согласовать с Ильей Гудиком – единственным человеком, подавшим ему руку помощи в трудную минуту. Общаясь с банкирами, купцами да крупными помещиками, отец уверовал в их мощь и вездесущность, позабыв, что настоящая сила кроется как раз в таких деревенских мужиках, как его стародавний приятель Гудик, неуклюжих, грубоватых, порой немытых, но крепко стоящих на ногах, подпирая своими грязными сапогами родную землю. Здесь, в глубине сибирской тайги, устои незыблемы, а жизнь течет размеренно и спокойно, как воды матушки-Тубы. И, когда казавшаяся привычной и дружественной городская круговерть выплюнула отца из своих недр, как чахоточный больной выплевывает сгусток кровавой зловонной слизи, именно мрачный таежный старовер, и никто другой, откликнулся на его зов, не пожалев ни времени, ни стараний на то, чтобы помочь человеку. Отец что-то слышал об успехах старого знакомца на религиозной ниве, но тем лучше! Религиозные люди чутче, а посему и добрее… Да что там говорить: собственный быт собирался нарушить Илья ради гостя, разместив под своей крышей целую семью. Шутка ли! Вот если бы, напротив, Гудик обратился к нему в былые времена с подобной просьбой, он, пожалуй, отказал бы ему, придумав какую-нибудь весомую отговорку. Да и жена его, разнеженная и разбалованная сытной жизнью привилегированной горожанки, вряд ли потерпела бы в доме постороннего, да, к тому же, какого-то смердящего деревенского мужлана. Ишь как, однако, повернула жизнь! Теперь они сами должны идти на поклон к деревенщине, да слушаться его, не перечить, если собираются хоть как-то прожить…
Погрузившись в эти мысли, отец не заметил, как последние метры пути растаяли, и процессия, возглавляемая не произнесшим за всю дорогу ни слова Гудиком, уперлась в высокие глухие ворота, за которыми возвышался принадлежащий ему дом из лиственных бревен, самый большой в деревне. Илья велел подождать и пропал куда-то, однако уже через несколько мгновений ворота дрогнули и, открывшись достаточно широко, пропустили во двор сани с переселенцами и их нехитрым скарбом. Вышедший наружу хозяин проследил за санями взглядом и, внимательно оглядев с пригорка все еще освещенную зеленоватым лунным светом деревню, скользнул следом за ними.
После того как ворота снова закрылись и были накрепко заложены упавшей в скобы тяжелой длинной плахой, к хозяину снова вернулось былое хорошее настроение, испорченное было неожиданным своеволием гостя. Он вновь принялся шутить, называть отца прибывшего семейства «старым бандитом» и всем своим видом выражать неподдельную радость от встречи. Он даже полез в сани, где, знакомясь, долго тискал руки все еще не пришедшей в себя от обрушившейся беды матери утраченной Аглаи, после чего, извинившись за свою бестолковость и неотесанность, предложил всем пройти в дом, где прибывших ожидали обильный ужин, тепло и отдых. Забежав вперед, Илья шепнул несколько слов своей ничего не понимающей жене, вместо одного постояльца получившей сразу пятерых. Та, очевидно, поняла ситуацию и, скользом поприветствовав гостей, скрылась по домашним делам, которых теперь прибавилось.
Помогая бородачу переносить в дом немногочисленные узлы, сундуки и коробки, Гудик услышал от него историю о болезни Аглаи и ее чудесном финале, которая, как ни крути, волновала переселенца более всего. Когда тот в своем повествовании дошел до женщины в черном балахоне, возникшей прямо из чащи, хозяин вдруг напрягся и, резко повернувшись к рассказчику, севшим враз голосом спросил, с какой именно стороны та появилась. Услышав ответ он, казалось, забеспокоился еще больше и, вцепившись в руку отца, потребовал не пропускать ни одной подробности.
Тот, недоуменно пожав плечами, еще раз повторил все с самого начала, стараясь припомнить каждое слово и каждый штрих в облике виденной им таежной хозяйки. От него не укрылась очередная перемена в настроении Гудика, и он пожалел, что своим рассказом вновь встревожил этого чуткого, доброго человека.
– А что, Илья, ты знаешь ее? Скажи же мне, кто она! Вернет ли она дите, как думаешь? – забросал старовера вопросами отец, чувствуя, как голова его начинает кружиться от накопившихся за день неясностей и напряжения.
– Вряд ли вернется твоя дочка, – с неожиданной злостью бросил присевший на крыльцо Гудик, и отцу показалось, что лицо его собеседника передернула гримаса страха, а руки, теребящие стянутую со вспотевшей головы шапку, вдруг затряслись. – Ты, должно быть, не веришь в Бога, за то он и покарал тебя, – голос Гудика едва не сорвался на визг, и ему стоило немалых усилий взять себя в руки. – Нет такой бабы в округе! Но была! Была! Померла она давеча, в огне сгорела. Мучилась, говорят, да билась в нем, одержимая бесом, пока он из нее не выскочил. Вот и бродит теперь ночами, высматривает заблудших неверующих да расправу над ними чинит, ибо не защищенные они дланью Господней. Повезло тебе еще, что одним дитем откупился, могли бы и все сгинуть в ее потустороннем логове!
Похолодев от страха и отчаяния, отец опустился рядом с Гудиком на крыльцо. Мысль о том, что он собственными руками отдал родное чадо на расправу злой покойнице, погубив не только тело, но и душу безвинного ребенка, разрывала его грудь, не давая ни вздохнуть, ни выдохнуть. В голове нестерпимо клокотало, а глаза застила кровавая пелена. Еще никогда в жизни не было отцу так плохо. За что разгневался на него Господь? За что невзлюбил? Что бы там ни говорил Илья, а он верит в Бога, верит и боится, а теперь тем более! Он не всегда жил по Закону Божьему, это верно. Не часто преклонял колени в молитве и, помнится, даже сказал однажды, что не Богуде своим процветанием обязан, но собственной смекалке да сноровке. Но прости уж ты, Господи, пьяного невежду за гордыню да язык гнусный, назови это слабостью человеческой! Ведь верил отец, верил! Сделай же так, Господи, чтобы вернулась маленькая Аглая в мир, вырви ее из лап дьявола! И уж тогда он никогда более…
Но торговаться со Всевышним бессмысленно и, поняв это, отец оборвал поток сумбурной мольбы, бушующий в его голове, и, уткнувшись лицом в жесткий рукав тулупа, беззвучно заплакал.
Через несколько минут Гудик, все это время молча наблюдавший за гостем, коснулся его руки, напоминая, что горе горем, а надо завершать переезд. Он, конечно, имел в виду последний, самый тяжелый, сундук, под обитой кожей крышкой которого лежало все, что скопил за свою жизнь горемычный переселенец, так бестолково попавший в переплет с миром мертвых.
– Пойдем, дружок, нужно перенести его в дом и спрятать, а там уж и отдохнуть можно. Отогреешься сегодня да забудешься, а поутру уж и думать будем, как спасать положение. Есть у меня одна задумка…
Отец, подняв голову, с благодарностью и надеждой посмотрел на проповедника, чьей осведомленности и опыту в делах духовных доверял. Не даром же к мнению человека прислушиваются даже староверы-беспоповцы, не признающие, казалось бы, вообще никаких духовных авторитетов кроме преданий, а некоторые так и просто дырки в восточной стене дома. Скольким людям помог, должно быть, Илья своей мудростью! Может статься, и на этот раз сумеет он найти выход из положения и выручить из беды друга, который всю жизнь будет платить ему верностью…
– Спасибо тебе, Илья, за доброту и понимание! Ты не представляешь, как я тебе обязан. Даже деньги эти треклятые никакому банку не доверил, к тебе привез. Знаю я, что здесь они надежней всего укрыты будут. Человек ты, Илья!
Гудик чуть наклонил голову, словно смущаясь похвалой и, в то же время, признавая ее справедливость, затем сказал:
– Ну, благие дела – мое призвание. А сейчас поторопимся, не то наши домашние пойдут нас искать и придется изворачиваться. А дело ведь, между тем, такое, что бабьим глазам да ушам без надобности. Есть у меня, в общем, погребок с отдельным входом, – вытянув руку, Гудик указал куда-то в темноту, поясняя, где именно находится погреб. – Спустим туда осторожно добро да и закопаем – яму я уже приготовил. В доме моем, конечно, безопасно, и ни зверь, ни человек сюда не сунутся, но лучше перестраховаться. Мало ли чего, люди-то нынче дикие, хуже волков…
По тому, как энергично закивал переселенец при этих словах, Гудик понял, что тот целиком разделяет его мнение на этот счет.
– Пару дней отдохнешь, осмотришься, место для постройки выберешь. Знаю тут, кстати, лужайку симпатичную у реки, может быть, и подойдет тебе. Там правда, Яков Угрюмов косит, – при воспоминании о строптивом дырнике у сердобольного проповедника свело челюсть, – но мы уж его как-нибудь заставим посторониться… А как понадобится золото, так и станешь брать помаленьку. Ну, за дело!
Стащив с саней увесистый сундук, хозяин и гость с трудом перенесли его ко входу в набитый разной дребеденью сарай и затолкнули вовнутрь. Войдя вторым и прикрыв за собой дверь, Гудик рывком поднял крышку погреба, находящуюся у дальней стены, и продемонстрировал своему спутнику широкое черное отверстие с уходящей в темноту приставной лестницей.
– Сейчас спускайся, а я осторожно подам тебе сундук. Да смотри, не урони, собирать потом долго придется… – велел хозяин погреба, сунув в руку переселенца только что зажженную свечу. – Там увидишь яму, прямо возле нее и ставь. Я спущусь следом и зароем.
Все силы пришлось приложить отцу, чтобы удержать на плечах тяжеленный сундук, но мысль о том, что содержимое этого обитого кожей ящика обеспечит ему с семьей безбедное существование, поддерживала его. Наконец пытка кончилась: сундук стоял на краю приготовленной Ильей ямы, и осталось лишь погрузить его туда и забросать землей, горка которой лежала рядом. Тело отца заныло в предвкушении горячей еды и теплой постели, по которым он стосковался. Где же, наконец, Илья?
Слишком поздно доверчивый отец заметил, что свежевырытая яма была бы слишком велика для любого, даже самого внушительного сундука. Длинная и узкая, она скорее напоминала…
Страшный удар обрушился сверху на его затылок, расколов кость и расплескав содержимое черепной коробки по земляным стенам погреба. Жизнь погасла в широко открытых глазах отца, он осел на пол, так и не осознав, что случилось. Бесшумно спустившийся Гудик с трудом столкнул тело жертвы в подготовленную для нее могилу, после чего, отдышавшись, вновь поднялся по лестнице и вышел из сарая.
Несмотря на все свое желание казаться взрослой и хладнокровной, Соня все же не смогла сдержать детской радости, увидев приготовленную для нее женой хозяина дома постель – белую, хрустящую крахмалом и, как было заметно уже издалека по необычайно толстой перине, очень мягкую и удобную. При виде этого поистине царского ложа девушка еще явственней почувствовала накопленную за изнурительную дорогу усталость, наспех умылась и, насилу добравшись до кровати на ставших вдруг ватными ногах, сейчас же провалилась в сон, которому суждено было стать последним в ее короткой жизни.
Ей повезло лишь в одном: она не увидела, как радушная, излучающая тепло и доброжелательность хозяйка накинула кусок бечевы на шею ее склонившейся над близнецами и ничего не подозревающей матери и, стиснув зубы и побелев от напряжения, затягивала удавку до тех пор, пока конвульсии жены несчастного переселенца не прекратились и ее мертвое тело не вытянулось на чисто выскобленном деревянном полу горницы. Дорожное платье, которое мать так и не успела снять, задралось, открыв взгляду ее худые, некогда красивые ноги, обтянутые сейчас грубыми шерстяными чулками с начесом и как-то странно спутавшиеся меж собой, словно концы бечевки, по прежнему обхватывающей ее шею.
Расправившись с матерью, запыхавшаяся, но спокойная хозяйка перевела взгляд на близнецов, только-только уснувших и не прикрытых как следует одеяльцем отлучившейся умереть матерью. Один из мальчиков причмокивал и улыбался во сне, видя, должно быть, что-то приятное. В своем липком кулачке он зажал марлевый мешочек с размоченным хлебом, который только что сосал, по оставшейся с «беззубых» времен привычке. Его братец, напротив, хмурился и смешно шевелил губами, словно собираясь заплакать: в его сне мама что-то выговаривала ему, и он собирался защищаться единственным известным ему способом – ревом.
Они продолжали спать, когда над ними склонилось неподвижное, как гипсовая посмертная маска, лицо их убийцы. Ее тяжелое дыхание коснулось их щек, а глаза, зачем-то всматривающиеся в их лица, были подернуты мутной пеленой и холодны, как у рыбы. Когда она занесла над близнецами массивную подушку, один из них вдруг проснулся и, перепугавшись нависшей над ним тени, собрался испустить отчаянный крик. И в тот же миг братьев накрыла удушливая темнота, через несколько секунд ставшая вечной.
Так и не убрав подушку с детских трупов, хозяйка повернулась к двери, в которую в этот момент входил выполнивший свою часть работы Илья Гудик. Не снимая валенок, он беглым взглядом окинул комнату и, разглядев торчащие из-под подушки четыре детские ножки, ухмыльнулся. Переступив через тело матери, он хотел было заговорить, но жена, быстрым движением приложив палец к его губам, молча кивнула в сторону кровати, на которой безмятежным сном подростка спала враз осиротевшая Соня.
Гудик нахмурился и вопросительно посмотрел на супругу, явно не одобряя ее нерасторопности. Та, в свою очередь, пожала плечами и указала на себя большим пальцем правой руки, словно спрашивая о чем-то. Гудик отрицательно мотнул головой и, стараясь ступать как можно тише, подошел к кровати. Уставший и подгоняемый мыслью о предстоящей еще работе, он не стал тянуть время и просто обхватил руками горло еще пару часов назад своенравного и ершистого, а сейчас такого умиротворенного отпрыска своего сегодняшнего гостя. Соня не проснулась и не почувствовала ни боли, ни страха. Из глубокого сна она отправилась прямо в рай, сопровождаемая ласковыми смеющимися ангелами, поющими ей свои прекрасные песни. Туда, где она, быть может, встретится с матерью и братьями, а если повезет, то и с отцом.
Полночи провозился Илья Гудик, перетаскивая убиенную семью в знакомый уже нам погреб и укладывая тела во все ту же яму, в которой еще оставалось достаточно места. Хорошо, что он готовил ее «с запасом», словно предчувствовал, что вместо одного гостя получит пятерых. Пришлось, правда, несколько раз перекладывать трупы в яме, пока они не легли так, как нужно, и Илья изрядно намучился за это время и даже выругался в адрес жены, приводящей сейчас комнаты в их первоначальный вид и не знающей, как тяжело ему приходится. Но вот, наконец, и тело строптивой девчонки замерло в подходящей позе, погрузив левую пятку в проломленный череп отца и уткнувшись лицом в похолодевшую спину одного из братишек. Гудик, придирчиво осмотрев сложенную им «мозаику», завалил тела землей, а ее излишки за несколько раз поднял наверх и рассыпал по земляному полу сарая. С трудом ворочая тяжелый сундук, собственноручно спущенный жертвой в его тайник, Илья водрузил его на свежую могилу и прикрыл, для верности, куском мешковины. Он удержался от соблазна открыть сундук сейчас же и полюбоваться добычей – успеется еще. Главное сейчас – замести следы, да так, чтобы ни человек, ни зверь, ни сам черт ничего не заподозрили.
Вновь оказавшись в сарае и закрыв крышку погреба-тайника, он замаскировал ее тем, что попало под руку. Чужого вторжения и, тем более, обыска ушлый «старовер» не опасался, но природная трусливость, которую он именовал осторожностью, была, наряду с подлостью, основной чертой его натуры.
Потом очередь дошла и до клячи, на которой прибыли наивные переселенцы, голодной и все еще мелко трясущейся от усталости. Оставить ее у себя было нельзя: бродячих лошадей не бывает, а появление новой животины непременно вызовет расспросы односельчан, что недопустимо. Поэтому Гудик, подойдя к лошади сбоку, изо всех сил ударил ей по лбу обухом огромного топора для колки дров, а когда она, оглушенная, упала на колени, подскочил и перерезал ей глотку, кровь из которой хлынула на обледенелую землю пригона. Почти до утра Гудик при свете месяца, единственного свидетеля его сегодняшних злодеяний, снимал с туши шкуру и разделывал мясо, которое – не выбрасывать же! – сложил в своем леднике, пополнив запасы. Лишь засыпав лошадиную шкуру солью, радушный хозяин понял, как он устал. У него еще хватило сил добраться до кровати: он уснул, едва коснувшись головой подушки, как совсем недавно Соня, и не чувствовал, как жена, преданная и кроткая, стягивала валенки с его натруженных, пропахших потом ног.
Глава 10 Кара и спасение
Бледное вялое солнце поднялось над тайгой, озарив своими косыми лучами тихую Николопетровку, ее подворья и покрытые снегом огороды, редких прохожих, выдумавших себе какие-то дела вне дома и покинувших ради этих дел свои теплые избы. Скотина получила свой утрешний паек и стояла в загонах сытая и довольная, изредка мыча и шумно почесывая бока о шершавые стенки стойл. Проснулись детишки и начали уже свои однообразные игры: то тут, то там раздавался звонкий смех, и снующих туда-сюда фигурок становилось все больше. Не проснулся пока лишь Илья Гудик, который все еще отдыхал от ночных трудов, оповещая об этом окружающий мир булькающим раскатистым храпом. Не проснулась и прибывшая к нему поздним вчерашним вечером семья, начиная понемногу гнить в своей, придавленной сундуком с деньгами, могиле.
Но вот лучи поднявшегося достаточно высоко над горизонтом светила заглянули и в восточное окно гудиковских хором, чьи ставни расторопная супружница спящего сном младенца ночного трудяги открыла уже с первыми петухами. Наигравшись с беснующимися в струйке яркого света пылинками, солнце перешло к решительным действиям и ударило в глаза Гудику, который тут же перестал храпеть, поморщился и попытался было отвернуться, но уже через несколько секунд ругнулся и сел, одной рукой протирая глаза, а другой шаря у койки в поисках катанок. Его разбитый, недовольный вид свидетельствовал о том, что ночная суета не прошла бесследно, а в его возрасте подобное напряжение может плохо сказаться на здоровье. Проведя значительную часть своей жизни в городе и наслушавшись пропаганды ставшей модной медицины, Илья Гудик немалое значение предавал правильному образу жизни, в частности соблюдению режима сна и бодрствования, который был теперь так бесцеремонно нарушен свалившимися на его голову хлопотами. Но забота о безбедной старости была, конечно, важнее, и роптать на судьбу он не собирался. Что ни говори, а вчерашнее дельце он провернул весьма ловко. Оставалось лишь пересчитать содержимое сундука, дабы точно знать, на какую сумму выросло его благосостояние. Ну, а там завершить «работу» с этой забытой Богом деревней, и махнуть на юг, под пальмы, где и провести остаток жизни, наслаждаясь достатком и морским воздухом.
Одно лишь заботило и волновало Гудика – рассказ покойного ныне гостя о событиях в ночной тайге и престранной бабе, ему там повстречавшейся. Когда переселенец описывал ее, в животе у Гудика неприятно засосало, как бывает при отвратительном воспоминании или предчувствии неотвратимой беды. Смутные ассоциации, возникшие у него вчера во время этого рассказа, сегодня приняли совершенно определенную форму, и он, пожалуй, знал, о ком шла речь: облик и голос описанной гостем особы полностью соответствовали Дарье Ракшиной, которую Гудик всегда недолюбливал и даже побаивался за решительность и безаппеляционность. В присутствии этой женщины он тушевался и возыметь на нее влияние стоило ему непомерных трудов.
Вчера, на крыльце, Гудик сказал определенному на заклание переселенцу правду: Дарья Ракшина заживо сгорела два года назад в Улюке со всей своей семьей, поддавшись вызванному религиозными увещеваниями Гудика массовому психозу и предпочтя, подобно остальным жителям деревни, смерть во всепоглощающем пламени мукам дальнейшего богопротивного существования в угоду Сатане. Никто не вышел тогда из пламени, никто на спасся! Илья был в этом уверен, наблюдая со стороны полыхающую деревню и зорко следя за тем, чтобы ни в одной отдельно взятой жертве не победило малодушие. Вопли горящих заживо людей были громче треска разъяренного пожара, и ему казалось тогда, что в этом диком хоре он различает полный боли и ненависти крик строптивицы-Дарьи. Но все миновало, и воцарилось спокойствие, если не принимать во внимание нелепых россказней глупого ямщика о якобы чинимой улюкскими покойниками расправе над проезжими и прохожими. Илья подавил в себе тогда проклюнувшиеся было на почве суеверия ростки паники и списал все на пьянство и хвастливость этого мужлана. Но теперь беспокойство вновь охватило его, причем вызвано оно было не только пресловутой боязнью покойников, с чем еще можно было бы мириться, но и тем фактом, что младшая дочь убиенного гостя избежала участи своих близких и находится сейчас где-то в тайге неподалеку, не то в избе каких-то излишне сердобольных крестьян, не то в мрачной обители улюкских мертвецов, готовящих ее к мести. Вполне может быть, конечно, что она все же померла от своей лихорадки, и тогда беспокоиться не о чем. А если нет? Что, если она объявится через какое-то время в Николопетровке и начнет повествовать каждому встречному-поперечному о своей пропавшей семье и цели их путешествия? Что, если отец упоминал в ее присутствии имя Гудика?
Нет-нет, скользкий змей, называющий себя старовером, не опасался ни преследования со стороны властей, ни каторги. Даже узнав правду, безграмотные крестьяне не сумели бы причинить ему вреда – слишком ловок и хитер он был для них, но в этом случае, безусловно, под угрозу встали бы его намерения касательно судьбы самой Николопетровки, которую он тщательно, день за днем и месяц за месяцем подготавливал. Замутненные сейчас пылью экстремальной религии глаза деревенских жителей могут вдруг снова прозреть, и тогда вся кропотливая работа лидера новоиспеченной секты пойдет насмарку. Разве мало ему одного Якова Угрюмова?!
Нет, так этого оставлять нельзя, нужно принять меры. И, прежде всего, отправиться на развалины погибшего Улюка, проверить, не прячется ли там кто, не разыгрывает ли, в самом деле, прохожих навроде легковерного хмельного ямщика, не глумится ли над людскими суевериями? Даже если днем там и нет никого, какие-то следы, несомненно, должны были остаться, и он обнаружит их. А нет, так дом за домом, деревня за деревней он обойдет всю округу и отыщет пригревшегося где-то змееныша, а отыскав, церемониться не станет. Начатое должно быть доведено до конца, а иначе и начинать не стоило. Он не может позволить своим планам сорваться только потому, что какая-то там девчонка бегает по тайге от него и своей судьбы!
Эта мысль привела Гудика в такое негодование, что он, в считанные минуты собравшись и отмахнувшись от завтрака, тут же вышел из дома и, лишний раз убедившись в отсутствии преследования, скрылся в обступающей деревню густой тайге.
Но судьба человеческая – не план по уборке картошки и не воскресные блины с топленым маслом. Если уж Всевышний послал кому воздушный поцелуй, то он непременно долетит до адресата, частью духа его станет, и клопу зловонному не удастся сему воспрепятствовать, каким бы ушлым и подлым он ни был. Глупость и самонадеянность людская поражает, и когда видишь, с каким радением ищет очередной «архимед» точку опоры, дабы оскорбить незыблемое, остается лишь качать головой в неподдельном презрительном сочувствии и умолять Господа «простить им, ибо не ведают, что творят», чем, кстати, с незапамятных времен якобы и занимаются попы.
Часа через полтора пути Гудик достиг сгоревшей деревни, в которой когда-то жил и которую привел своими проповедями в ее сегодняшнее состояние. Черные, обугленные останки изб и стойл, на треть заваленные снегом, покосившиеся заборы, не разобранные на дрова из суеверного страха, и бродящие где-то между ними сто сорок душ загубленных крестьян, обманутых и неупокоенных… Ветер гулял по пожарищу, то постанывая, то рыдая, порой норовя оторвать очередную обгоревшую доску от какой-нибудь шаткой конструкции, порой угрюмо ворча в одном из углов, словно побитая недобрым хозяином собака.
Немного оробев при виде творения рук своих, Гудик быстро собрался с духом и, убеждая себя в том, что при дневном свете ничего непредвиденного с ним случиться не может, вошел в деревню. Беглое обследование останков двадцати восьми бывших хозяйств не должно было, по его расчетам, занять много времени, и он решил начать с ближайшего к нему участка, того, где когда-то обитал местный шорник с семьей.
Надо сказать, не много удовольствия может доставить этот вид деятельности, а уж развлечением его и вовсе назвать сложно. Посему Гудик, все более торопясь, ограничивался лишь беглым осмотром погибших усадеб, сосредоточившись, главным образом, на поиске свежих следов в снегу и мало прислушиваясь к раздающимся вокруг звукам, которые, между тем, становились все явственней и были все менее похожи на естественные звуки природы. Так, к противному вороньему карканью примешивалось теперь что-то вроде покашливания, перемежающегося со странным хриплым смехом, пощелкивание и треск проседающих балок напоминали теперь шаги крадущегося человека, да и сам ветер – хозяин развалин – превратился теперь в шепот заговорщиков, следящих за передвижениями незваного гостя и размышляющих, как с ним поступить. Пришедшая с запада туча закрыла холодное ноябрьское солнце, и вокруг сразу стало почти темно и как-то особенно мрачно. Илья вздрогнул, порывисто оглянулся и заметил, наконец, перемену в окружающем. Новые, пугающие звуки обступили его плотным кольцом, неумолимо сужающимся и словно обволакивающим его какой-то незримой оболочкой. Но это было еще полбеды: теперь Гудик увидел и тени, то тут, то там мелькавшие среди обугленных развалин, появлявшиеся внезапно и так же внезапно исчезавшие, прежде чем он мог что-то разглядеть. Всем своим телом ощущал он, как окружающая его атмосфера все более и более напрягается, словно натягиваемая струна, грозя вот-вот лопнуть, и тогда настанет его конец. Гудику стало страшно. Ужас сковал его, противной вязкой слабостью проникнув в мышцы и сделав всякую мысль о поспешном уходе нереальной. Он мог теперь лишь пятиться назад, с огромным трудом передвигая внезапно отяжелевшие ноги, и каждый шаг приближал его к унылым останкам последней не обследованной им избы, принадлежащей когда-то мужику Ракшину, чья жена, Дарья, так кричала и билась два года назад, умирая в диких муках. В тот момент она, должно быть, волею судьбы постигла истинные мотивы, движущие ее «духовным лидером», и ее вопль «Будь ты проклят!» все еще стоял в ушах Ильи, хотя он и не предавал ему до сих пор большого значения. Сейчас же прошлое вдруг приобрело для него иную окраску, как всегда бывает, стоит человеку оказаться меж молотом и наковальней, как оказался нынче замахнувшийся на Бога лже-старовер. Страх, острой иглой проникший в сердце, принес с собой отчаянное сожаление о содеянном, но не раскаяние, ибо преступнику такого ранга, как попавший сегодня в западню Гудик, оно неведомо. Он лишь посетовал на судьбу, погнавшую его в Улюк, и удивился тому обстоятельству, что мертвые и днем обладают такой силой. Впрочем, он знал: до полуночи он недоступен им физически, а посему имеет все шансы выбраться отсюда невредимым. Главное, не терять присутствия духа и не лишиться сознания от страха, каким бы сильным он ни был. И тогда он, конечно же, доберется до дома, а там посмотрим, кто кого…
Успокаивая себя таким образом, Гудик продолжал пятиться назад, дико вращая полными отчаяния глазами и судорожно ища выход из положения. Но на затылке глаз у него не было, и он не заметил открытого черного зева старого подпола в бывших сенях, порог которых он уже незаметно для себя переступил. Шаг, еще шаг и убийца, не найдя более опоры, рухнул в бесхозную теперь яму, угодив, словно волк, в заготовленную для него ловушку. Резкая боль в ноге замутнила на мгновение его сознание, а когда он немного пришел в себя, то понял, что подняться на ноги не может. По видимому, это был перелом – лодыжка нестерпимо горела, пульсировала и так распухла, что даже стянуть с ноги давящий валенок Гудику не удалось. Илья заплакал от боли и злости. Это надо же было попасть в такую переделку! Он, прожженный жизнью, опытный и повидавший все на своем веку, стал жертвой каких-то суеверных страхов, не стоящих и грязи с его подошвы! Подобно старой бабке, молящейся на телегу, он позволил бредовому благоговению перед мертвецами проникнуть к себе в душу и устроить в ней бедлам, который и привел к столь кошмарным последствиям! Что же теперь делать? Надеяться на то, что кто-то из окрестных крестьян вдруг забредет в погибший Улюк и поможет ему, было глупо: за два года, прошедших со времени пожара, ни один из этих суеверных бестолковых мужиков и подумать не смел о том, чтобы пройти поблизости, не говоря уж – откликнуться на исходящий отсюда зов. Слишком силен был в народе страх перед покойниками. Призрак голодной смерти замаячил перед Гудиком, и он заскулил в отчаянии, глядя со дна глубокого подпола в продолжающее затягиваться тучами мрачное небо.
Немного отдышавшись и собравшись с силами, пленник Улюка попробовал было рывком подняться на ноги и, полагаясь на милость небес, выбраться-таки из проклятой ямы. Но и эта попытка провалилась: пронзившая ногу, а затем и все тело боль была настолько острой, что Гудик вновь потерял сознание и рухнул без чувств.
Встряска для его непривыкшего к физическим трудностям и тяготам организма была столь сильной, что на этот раз его обморок продлился значительно дольше. Очнувшись, он не сразу понял, где находится, а поняв, вновь запричитал и завыл, прерываясь лишь для того, чтобы отпустить очередное ругательство в адрес Улюка, немилосердной судьбы и всего света. Посмотрев вверх, он проникся еще большим отчаянием: светлый прямоугольник над головой потух, и тьма, окутав мир, не оставила ни малейшей лазейки лунному свету, надежно запрятанному невидимым режиссером за кулисы небесной сцены. Гудик почувствовал, что заледенел. Сибирский мороз, окрепший к ночи, отыскал его, неподвижно лежащего на дне ямы, и атаковал всей своей молодой силой. Потрепав его играючи за щеки и нос, мороз не удовлетворился и пробрался под тулуп, заключив неблагоразумную жертву в свои ледяные объятья. Зуб на зуб не попадал у Гудика, губы его тряслись, а покалеченная нога буквально разламывалась от нестерпимой боли. Казалось, что она раздулась до размеров бочки, а жар в ней был такой, будто кость расплавилась и растеклась свинцовыми струями от пятки до самого колена. К тому же, Гудику ужасно хотелось помочиться, но одна мысль о том, что для этого нужно попытаться встать или, по крайней мере, перевернуться со спины на бок, приносила ему несказанные мучения. Когда терпеть стало уже невозможно, он, со стонами и руганью, все же несколько изменил положение тела и неуклюже справил нужду, обильно оросив при этом не только полы тулупа и перекосившиеся на животе, а потому ставшие крайне неудобными в обращении толстые штаны, но и собственные руки, которые он тут же поспешно сунул назад в рукавицы.
Внезапно возникшая жажда принесла Гудику новые страдания, напомнив, что есть нечто более страшное, чем голод. Если без еды можно продержаться, пожалуй, несколько дней, а то и недель, то обезвоживание выбьет из человека душу куда быстрее. Ну, а об испытываемых при этом муках и говорить не приходится.
Тут у Гудика впервые в жизни мелькнула мысль о самоубийстве. Она была настолько неожиданной и дикой, что он мгновенно вспотел и, поддавшись секундному порыву, закричал. Первый крик его был жалок и едва ли вышел за пределы ямы-ловушки, пометавшись от стены к стене и затихнув. Повторная попытка ничем не отличалась от предыдущей. Скукожившись на обледенелом дне погреба, Илья просто не мог набрать в легкие достаточно воздуха, чтобы испустить сколько-нибудь приличный зов о помощи. Тогда он, из последних сил отталкиваясь здоровой ногой, отполз к задней стене и, превозмогая боль и слабость, сел. Теперь дело пошло лучше и его вопли, исполненные страдания и страха, были слышны, пожалуй, на полверсты вокруг. Он не подбирал слов и не задумывался об интонациях – просто кричал. Беда в том, что криков этих никто, кроме леса, неба да ветра, не слышал. Никто не появлялся в окрестностях погубленной Гудиком деревни и не собирался разыскивать его, полуживого, в старом бесхозном погребе. Ну, или почти никто…
Снаружи вдруг что-то затрещало, защелкало, и стало будто бы светлее. Свет этот был красноватым и неровным, он дрожал и колыхался, словно наблюдаемый сквозь табачный дым закат, и источник его определить было невозможно. Он был, как… огонь. Хуже! Как пожар, бушевавший здесь два года назад и уничтоживший Улюк и его жителей. Господи! Неужто же не соврал старый ямщик, и погибшая деревня жаждет мести? Может ли быть, что мертвые крестьяне поднимаются ночами из праха и расправу лютую учиняют над проезжими чужаками? Какая же тогда участь уготована самому Илье Гудику, злая воля которого явилась причиной произошедшей здесь трагедии?
Он обезумел от ужаса, перестал контролировать вырывающиеся из его горла звериные крики и мочеиспускание, перестал что-либо соображать и, наконец, впал в неистовство: он рвал волосы у себя на голове, не чувствуя боли, раздирал пальцами веки, царапал лицо и шею, рычал, впивался зубами в запястья, затем вдруг принялся слизывать с пальцев струящуюся кровь, натянул на голову тулуп и, наконец, упав ничком и задрожав всем телом, затих. Но судьба не сжалилась над преступником: он не сошел с ума и продолжал в полной мере осознавать реальность происходящего.
Спустя несколько минут, в течение которых он неистово молил провидение, чтобы все это оказалось лишь кошмарным сном, Гудик, с трудом открыв окровавленные глаза, осторожно выглянул из-под тулупа, но лишь затем, чтобы окаменеть от новой волны животного ужаса: на краю ямы стояла, не издавая ни звука и не двигаясь, фигура в черном балахоне. На фоне бесновавшегося за ее спиной пожара можно было различить лишь ее силуэт, но Гудику было совершенно ясно, что внимание пришедшей обращено на него, и глаза, скрытые во мраке, смотрят с лютой ненавистью и приговором.
Не однажды в прошлом любовался самопровозглашенный религиозный лидер статной фигурой и осанкой Дарьи Ракшиной, и сейчас не мог не узнать ее. Она была самым проблемным звеном в ловко скрученной цепочке его злодеяния, и ему даже пришлось подмешать ей какое-то снадобье, одурманившее ее, чтобы ее муж – неотесанный мужик Ракшин, смог поджечь свой дом. Именно тот дом, в развороченном подполе которого Гудик сейчас и находился. Когда же изба заполыхала, Дарья опомнилась, и ее крики – крики боли, страха и ненависти – несколько мучительных минут оглашали всю округу, выделяясь на общем фоне какой-то особенной отчаянностью. Помнится, Гудик даже испугался тогда, не сможет ли зловредная баба каким-то бесовским способом выбраться из заложенной им снаружи избы, и на всякий случай поднял уже ружье, но погибшая замолкла, провалившись в пучину смерти, и стрелять не пришлось.
Теперь же Дарья Ракшина жаждала мести. Она вернулась с того света лишь за одним – поквитаться со своим убийцей, с тем, по чьему злому умыслу погибли ее дети и ни в чем не повинные невежественные односельчане. Но, быть может, все эти люди просто не могли уйти на тот свет, не рассчитавшись с лукавым проповедником за свое «душеспасение»? Гудик мысленно взмолился о скорой безболезненной смерти.
На фоне марева появилась еще одна фигура, в которой по растрепанным волосам и характерной осанке пленник узнал самого Гаврилу Ракшина, погибшего вместе с женой и за свою доверчивость получившего не ожидаемое спасение от Сатаны, а, напротив, покровительство последнего.
Склонившихся над бывшим подполом силуэтов становилось все больше, и с ужасом узнавал в них Гудик сгинувших в пожаре жителей Улюка. Наконец их стало так много, что он перестал различать отдельные силуэты – все они слились для него в сплошное кольцо, неумолимо сжимающееся вокруг него. Он уже не кричал, ибо страх был настолько велик, что дух его отделился от плоти и, не чувствуя физической боли, метался на краю пропасти, на дне которой его ждала расплата.
Яков Угрюмов возвращался с охоты. Особо удачной она сегодня не оказалась и, кроме лежащего в его ягдташе глухаря, который по глупости взлетел из-под его ног с час назад, похвастать Якову было нечем. Не обремененный грузом добычи, шел он легко, и оставленные за день позади версты тайги почти не утомили охотника. Вообще-то, это и охотой-то назвать нельзя было, так, прогулка по лесу, скорее чтобы отвлечься от грустных зимних мыслей, нежели с целью добыть что-нибудь стоящее.
Подгоняемый неудачей, сегодня он зашел дальше обычного и, чтобы успеть вернуться домой засветло, должен был срезать путь и пойти той частью леса, которой вот уже два года избегали даже самые отчаянные – местностью, окружающей мертвый Улюк.
Яков был не из робких, и россказни глупых баб, которым только повод дай лишний раз перекреститься, мало его интересовали. По крайней мере, виду он не показывал, хотя где-то в глубине его крестьянской души, быть может, все же шевелилось и постанывало суеверие, заставляющее и его, от греха подальше, избегать этого пользующегося дурной славой клочка тайги. Была ли деревня и в самом деле проклята, он не знал, но в том, что хорошего там было мало, Яков Угрюмов не сомневался. Что же, в самом деле, хорошего может быть в месте, где произошла столь лютая трагедия? Самосожжение, как и любое самоубийство, во имя чего бы оно ни было совершено, шло вразрез с его религиозными убеждениями, и Яков, среди жителей Улюка имевший немало добрых знакомых, до сих пор не мог понять, как такая дикость вообще могла произойти. Во всяком случае, с его представлениями о вере она не вязалась.
Несмотря на суеверия он, однако же, не собирался делать крюк в несколько верст только для того, чтобы обойти стороной сгоревшую деревню. Тогда он не успеет вернуться засветло, а ночная тайга, несомненно, населена опасностями куда более реальными, чем фольклорные выходки каких-то там мертвецов. Они, возможно, и появляются ночами в Улюке, но ему-то какое до этого дело?
В стланике справа от него что-то мелькнуло. Зверь, с которым ему сегодня целый день не везло. Возможно, соболь. Яков немедленно отреагировал и, быстрым движением вскинув ружье к плечу, выстрелил. В кустах приглушенно взвизгнуло, заметалось. В том, что попал, Яков не сомневался, но убил ли? Должно быть, нет – судя по звукам, зверь удалялся, поскуливая и ломая сучья в предсмертном беге. В своей агонии он вряд ли понимал, куда и зачем бежит, инстинкт гнал его вглубь леса, прочь от опасности, туда, где он сможет спокойно издохнуть, никому, кроме пожирателей падали, не доставшись. Довольно интересное различие между зверем и человеком: один прячет свою смерть, другой же выставляет ее напоказ, стремясь самой вульгарной кончине придать дух героизма. Каждый стремится стать Христом, но большинство таких «героев» достойны лишь зубов и желудочного сока упомянутых выше падальщиков.
Это и в самом деле оказался соболь. Небольшой, сантиметров шестьдесят вместе с хвостом, «воротовой» – светло-коричневый, с темной лентой вдоль спины. Много за такого не выручишь. Был бы хотя бы «подголовка»…
Но желанный «подголовка» – ценный обладатель меха темного окраса, сегодня Якову не встретился, предпочтя остаться в своем дупле или гнезде под корнями старого дерева и избежать незавидной участи быть убитым.
Шкура, конечно, была попорчена, так как стрелял Яков Угрюмов просто «наудачу». Да иначе и быть не могло: в это время года, после выпадения глубокого снега, на соболя обычно ставят капканы-самоловы или же плашки, так как лайки вязнут в сугробах и толку от них мало.
Как ни быстро решилась судьба незадачливого пушистого охотника за белками, а времени Яков потерял прилично. Связав лапы соболя и закинув его за спину, он заметил, что уже почти стемнело. Слабое зимнее солнце ушло за горизонт, и видны были лишь верхушки кедров, выделявшиеся на фоне неба. Стволы же, как и заросли стланика, поглотила тьма.
Яков тихо выругался. Несмотря на спешку и ухищрения по сокращению пути он все же не поспел домой к урочному часу, оказавшись в полной непредсказуемых ловушек ночной тайге, да к тому же еще и поблизости от страшного пожарища.
Разозлившись на заставившего его задержаться зверя, бездыханным болтающегося сейчас у него за спиной, Яков посмотрел в сторону находящегося всего в паре сотен метров от него и скрытого лесом Улюка, и само имя погибшей деревни показалось ему сейчас жутким. Наверное, такими булькающими звуками общаются меж собой лешие да упыри всякие. Нужно было поторапливаться, пока и в самом деле что-нибудь не произошло. Яков пружинисто зашагал в сторону дороги, которая приведет его в родную Николопетровку.
Идти оставалось меньше часа, и в предвкушении печного тепла и горячего ужина он несколько оттаял и перестал сердиться на злосчастного соболя. В конце концов, тот не виноват в том, что он его убил. Главное же теперь – побыстрее добраться до дома.
Еще не выйдя на дорогу, Яков Угрюмов сквозь заросли заметил всполохи огня в мертвой деревне, а мгновением позже до его слуха донеслись и приглушенные треском пожара крики. Ужасная догадка пронзила его с головы до самого копчика, а вслед за ней пришла и паника. Выходит, не врал ямщик про мертвецов Улюка, предающихся ночами своим оргиям! Значит, потусторонний пожар и впрямь снова и снова охватывает деревню, и души неупокоенные жертв своих высматривают! Разумеется, не мог знать Яков, что видимый им огонь запылал в ту ночь по особенному поводу – знаменуя месть улюкцев душегубу, забравшему их жизни. Илье Гудику.
Забыв обо всем, перепуганный крестьянин стремглав бросился в сторону Николопетровки, боясь оглянуться или хотя бы сбавить темп. И даже когда всполохи адского огня остались позади и спокойная, радующая теперь мгла вновь обступила его, он продолжал бежать, пока не достиг своего дома, где сейчас же заложил дверь и с побелевшим лицом опустился на лавку. Позабытый соболь остался вместе с тулупом лежать в сенях, словно бы и не был виновен в переживаниях своего убийцы.
А на следующий день в Николопетровке появилась девочка. Никто не знал, чья она была и откуда взялась, никто не видел, как она пришла и не догадывался, с какой целью. Девочка, которой на вид можно было дать лет шесть-семь, укутанная в грязное порванное одеяло и со следами сажи на худом лице, просто стояла посреди улицы, аккурат напротив дома Гудика, и безучастно смотрела по сторонам, словно ни окружающее, ни даже собственная судьба ее не интересовали. Несмотря на одеяло, подбородок ее трясся от холода, а зубы выбивали мелкую дробь – такой «наряд» был откровенно слабоват для поздней сибирской осени, более лютой, нежели зима в иных местах. Вид у девочки был чрезвычайно болезненный, словно она только-только оклемалась после тяжелого недуга. Румянца на детских щечках не было, а серые, не по годам серьезные глаза смотрели устало и равнодушно. Руки она прятала в складках своего одеяла, а огромные валенки на ногах были ей явно не по размеру.
Самым же странным в ее появлении было то, что, хотя пошедший под утро снег и засыпал всю округу свежим, на два пальца, слоем, следов вокруг девочки не было, как будто не сама она пришла сюда и даже не привезли ее в санях или верхом, а просто опустили с неба и оставили дожидаться чего-то посреди дороги. Заметив это, любопытствующие поначалу сельчане стали вдруг истово осенять себя крестом и не проявляли желания вступить в контакт с появившимся неизвестно откуда неведомым существом. Еще бы! Люди так не появляются, а обернувшегося ребенком демона привечать резону мало… Надо бы, пожалуй, к Илье Гудику за разъяснением да советом обратиться – уж он-то в таких делах сведущ, собаку на них съел, и нечисть распознать ему – раз плюнуть. Ну, а там и подумаем, что с ней делать…
Засуетились, забегали по деревне староверы, забили тревогу. Спит, видать, еще Илья, раз не заметил из окна своего происходящего да не вышел разобраться. Однако, как ни стучали в его ворота крестьяне, как ни призывали его голосами зычными, не вышел к ним главный деревенский пройдоха, и Зинаида, жена его благоверная, не появилась на крыльце, словно вымерла усадьба. Кто-то вспомнил, что видел, как она с час назад ушла куда-то, но сказал об этом не очень-то уверенно. Гудик же вечно по окрестностям разъезжал с делами какими-то, так что ничего удивительного в его отсутствии не было. Пожимая плечами, люди стали расходиться, удивительная же девочка за все это время не шелохнулась и не произнесла ни слова. Да никто с ней, впрочем, и не заговаривал.
Когда суеверные зеваки уже вернулись в свои избы и заняли свои извечные посты наблюдения у крошечных, частично замерзших окошек, на улице появился еще один человек, единственный, которому совесть и доброе сердце не позволили равнодушно наблюдать страдания попавшего в беду маленького создания. Сломав собственный, еще свежий, страх, Яков Угрюмов приблизился к ребенку и, присев возле него на корточки, что-то тихо спросил. Девочка, похоже, ничего не ответила, лишь подняла на него глаза и переступила с ноги на ногу. Тогда Яков молча взял ее за руку и повел за собой к своей избе. Девочка не противилась, она, казалось, полностью доверилась этому деревенскому великану со шрамом на лице, словно знала его всю жизнь. После того, как обе фигуры скрылись в доме, на улице воцарилась прежняя тишина.
Часть вторая Сумасбродство
Глава 11 В ловушке
Полночи пролежал я с открытыми глазами, уставившись в давно не беленый потолок с угловатым, образованным неровностями покрытия, похожим на медведя пятном, знакомым мне с самого детства. Мои попытки уснуть ни к чему не привели, и в конце концов я махнул на них рукой, полностью отдавшись захватившим меня в полон мыслям о бренности существования, предрешенности жизненных поворотов и моей необычной судьбе, которая могла бы показаться увлекательным приключением, не будь она моей собственной.
Было душно. Августовские комары, предчувствуя свою скорую кончину, бесновались в луче проникающего с улицы фонарного света, время от времени посылая ко мне разведчиков, чтобы выяснить, не сплю ли я еще и не пришло ли время приняться за меня основательно. Их отвратительный писк у уха действовал на нервы, и я досадовал на мать, которая наверняка намеренно не закрыла вовремя окно, чтобы доставить мне неприятности. Внезапно обрывавшееся у лица жужжание свидетельствовало о том, что атака началась, и тогда я вынужден был в сердцах хлестать себя по щекам и шее, тщетно стараясь уничтожить маленького противного неприятеля.
Наконец, под утро, часов около четырех, разрозненные мои думы приобрели определенную форму и, словно части упрямой мозаики, сложились в решение. Если до этого мною и владели еще какие-то сомнения или даже неясные страхи, то теперь вдруг улетучились, оставив мне ясную голову и спокойную внутреннюю решимость. Даже после последнего разговора с профессором Райхелем я не был уверен, готов ли пуститься в эту авантюру, попахивающую сумасбродством, и вновь переступить порог квартиры, предыдущие посещения которой едва не свели меня с ума. Но, к несчастью, так устроен человек – несмотря на гордое слово «разумный», имеющееся в латинском обозначении его биологического вида, он из всех возможных вариантов поведения неизменно выбирает самый идиотский, заставляя усомниться даже в наличии у него инстинкта самосохранения, а самая опасная черта его натуры – любопытство, подгоняет его при этом пинками под зад и зудит в ушах хуже сварливой жены, не давая продыху. Вот и я, не став исключением, убедил себя в собственной исключительности и, вместе с тем, важности намеченной миссии. Впрочем, насколько она была важна, судить вам – я лишь расскажу по порядку о том, что произошло и постараюсь сделать это спокойно.
Всю ночь я не спал, возбужденный предстоящим приключением, и в начале седьмого часа, дождавшись, пока мало-мальски рассветет, уже подходил к знакомому с детства дому. Уже издали я обратил внимание на полуразрушенное здание бывшего «Дворца пионеров», в чьих комнатах гнездились теперь вороны, имевшие туда свободный доступ сквозь черные оконные проемы с торчащими остатками выбитых стекол, и вновь вспомнил детство. Тогда эти окна светились, из открытых форточек доносился смех и режущие ухо звуки горна, а лужайка у крыльца с колоннами пестрела от детворы в непременных красных пилотках. Пилотки эти, вкупе с изображающими костер эмблемами на рукавах рубашек, были символом царившей тогда эпохи и говорили о профиле разместившегося в здании учреждения. Сейчас все это в прошлом – никаких детей здесь нет, штукатурка со стен осыпалась, а надпись на криво прибитой фанере, привязанной проволокой к погнутым прутьям сломанной железной калитки сообщает несведущим, что здание принадлежит некому ООО «Смак» и соваться на территорию чревато дикими ужасами.
Я усмехнулся – мне не было жаль ни пионеров, ни эпохи. Лишь моего несуразного детства.
Обогнув самолет «Ил-2» – гордую машину сталинских соколов, чей железный труп вот уже третий десяток лет возвышался наверху изогнутой мемориальной стелы, я, наконец, увидел дом, в котором когда-то жил мой друг со своими родителями, сестрой и стряпающей такие бесподобно вкусные пироги бабушкой. Елизавета Александровна, пожалуй, давно уж сгнила, как и сам Альберт, но память о делах людских зачастую живет дольше, чем они сами, будь это даже всего лишь пироги или рассказанная на ночь сказка.
Второе от балкона окно, прямо под неказистой телевизионной антенной, сконструированной еще Альбертом – это кухня. Именно там создавала когда-то добрая Елизавета Александровна свои шедевры из муки и капусты, а теперь, должно быть, хозяйничает мать Альберта. При одном воспоминании об этой женщине, вернее, о том, во что она превратилась, настроение мое начало портиться. Даже отсюда, со стометрового расстояния, было заметно, что окна в квартире давно не мылись и не красились, ремонт балкона не проводился и вообще одно из образцовых когда-то жилищ города превратилось в запущенную дыру, в которой людям и жить-то должно быть стыдно.
Однако, я довольно быстро вспомнил, зачем я здесь и успокоил себя мыслью, что, если все пойдет по плану, то ни с альбертовой матерью, ни с другими нынешними обитателями этой берлоги мне встречаться не придется, чему я был очень рад. Не мешкая и не терзая более душу воспоминаниями, я быстро пересек ничем не примечательный двор и вошел в темный подъезд, где мне сразу ударил в нос запах кислой капусты и кошек. Света, естественно, не было, а старые ступени были до того изношены, что я пару раз оступился и однажды даже чуть не упал, поднимаясь наверх.
Первый, самый маленький пролет, в шесть ступенек… Далее – гвоздь в перилах… Не задеть… Еще четыре пролета по десять… Все как раньше, все как всегда.
На предпоследнем этаже сердце мое все же чуть екнуло. Не сильно – просто остановилось на секунду и снова застучало как ни в чем не бывало. Где-то внизу заскреблась кошка, и ей сейчас же ответила еще одна – сидящая у меня в животе и точащая там свои когти.
Я был, конечно, готов к тому, что дверь окажется призывно приоткрытой, как много раз прежде, но все же, когда я увидел черную полоску между нею и косяком (в передней не горел свет), я почти струхнул. Только сейчас я осознал, что все это время втайне надеялся на провал всего предприятия, на то, что дверь окажется запертой, а на звонок откроет страшная мать Альберта, которая пошлет меня подальше и все закончится. Тогда я смог бы вернуться домой и лечь спать с чувством исполненного долга. Мною владели поистине противоречивые чувства, я снова не знал, чего на самом деле хочу, словно и не было всех этих лет и я все тот же десятилетний мальчишка, случайно проникший в тайну прошлого.
Устыдившись своей нечаянной слабости, я вновь отмел все сомнения и, сжав зубы, толкнул дверь и переступил порог.
Когда щелчок за моей спиной возвестил, что замок захлопнулся, я перевел дух и промокнул рукавом рубашки выступивший на лбу пот. Что ни говори, а спокойствия в такой ситуации можно требовать лишь от мертвого или каменного. А поскольку ни тем, ни другим я не являлся, то, наверное, был героем.
Приглядываться и бояться я не собирался, а потому, нашарив справа от двери большой полукруглый выключатель со шпеньком посередине, щелкнул им и включил свет.
Коричневый, похожий на вязаный, абажур под потолком засветился желтым тусклым светом и, порвав царивший здесь до этого плотный полумрак, озарил прихожую. Главной ее достопримечательностью оказалось висящее на стене напротив двери прямоугольное зеркало в резной деревянной раме, такое большое, что моя отразившаяся в нем фигура казалась маленькой и тщедушной. На полке под зеркалом лежали гребни и расчески, а еще ниже, на табурете – пара серых перчаток. Должно быть, один из жильцов бросил их сюда, придя домой, или же, наоборот, забыл надеть при уходе. На стене висел внушительных размеров телефонный аппарат с навесной трубкой и длинным, перекрученным шнуром. Такие экземпляры я до сих пор видел лишь в старых фильмах да музеях.
Я не спеша осмотрелся. Помимо зеркала, табурета и телефона в прихожей находился еще встроенный в стену шкаф-гардероб, дверцы которого были чуть приоткрыты, и помятое ведро в углу у входной двери, предназначенное не то для мусора, не то для зонтов. Если последнее было верно, то финансовое положение проживающего здесь семейства явно оставляло желать лучшего, что было весьма странно, если учитывать такую «экзотику», как телефон и перчатки. Вообще, при осмотре прихожей складывалось впечатление, что квартира нежилая, во всяком случае ни малейших признаков уюта, как я его себе представлял, в ней не наблюдалось.
Неожиданная мысль смутила меня: а что, если время здесь шло так же, как и в моей жизни, и я попал не в тридцатые, а в конец пятидесятых годов? Что я тогда должен делать и где искать следы интересующих меня загадок? Я еще раз окинул взглядом стены, ища знакомый мне портрет усатого вождя, но не нашел его. Не нашел даже гвоздя, на котором он висел – огромное зеркало наполовину закрывало собой то место на стене.
Все ясно. Разумеется, трагедия, разыгравшаяся здесь когда-то, давно забылась, и живущие здесь люди – по всей видимости, не очень опрятные – никакого отношения к событиям тех дней не имеют. Что до портрета, то, надо полагать, Двадцатый Съезд уже давно позади, культ личности Отца Народов разоблачен и авторитеты поменялись. Хрущов же, насколько я знаю, не преследовал граждан за отсутствие прижизненных себе памятников в их квартирах.
Мысль о том, что теперь я смогу спокойно вернуться назад, не будучи ни трусом, ни неудачником, и жить дальше своей жизнью, согрела меня, ибо несмотря на то, что я сам, по собственному почину сунул голову в это сомнительное приключение, чувствовал я себя не совсем уверенно.
Однако же, прежде чем отодвинуть собачку замка и покинуть логово моих детских кошмаров, я решил поддаться любопытству и осмотреть всю квартиру, которая, судя по царившей здесь тишине, была в этот час пуста. Конечно, кто-то мог просто спать и не храпеть при этом, но и тогда опасность попасться была минимальной.
Как можно догадаться, начал я с ванной комнаты, окрашенная в бежевый цвет дверь которой притягивала меня с того самого момента, как я переступил порог квартиры. Я знаю, что это звучит несколько странно, если принять во внимание, что люди обычно стараются избегать тех мест, где им пришлось пережить столь неприятные моменты – однако я всегда отличался перевернутым мышлением и всякая логика применительно ко мне была неуместна.
Я зажег свет и осмотрел помещение. Ничего примечательного там на этот раз не оказалось: чистые ванна и раковина, свежеокрашенные стены и так же мало предметов личного пользования, как и в прихожей. Возможно, мое первоначальное мнение об аккуратности хозяев было несколько поспешным, и люди просто совсем недавно въехали. Освежив в памяти реальность, я пришел к выводу, что ничего удивительного в отсутствии автоматической стиральной машинки и электрического титана тоже нет. Вместо последнего на меня открытым своим зевом смотрела топка, а лежащий рядом с ней горкой уголь указывал на то, что декоративной она не была. Неожиданно мне вспомнился давнишний рассказ Альберта о том, что при переезде в эту квартиру первым делом пришлось ломать старое сооружение для нагрева воды, находившееся здесь с самой постройки дома и утратившее свою функцию при вводе в эксплуатацию парового отопления. Я не знал, что имел в виду мой друг, но, похоже, речь шла именно об этом «сооружении», представшим сейчас передо мной в своем первозданном виде. Ну да Бог с ней, с топкой! Интересно было другое: поменяли ли новые жильцы ванну, или это – та самая, которую я видел когда-то наполненной кровавой водой, с торчащими из нее ногами? Наверное, та самая, так как «резвость» советских сантехников помнит еще даже мое поколение.
Не обнаружив в ванной комнате ничего интересного, я переключил свое внимание на находящуюся справа от входной двери маленькую комнату, которой суждено в будущем стать спальней Елизаветы Александровны – Альбертовой бабушки. Именно из этой комнаты выбежал когда-то мне навстречу маленький мальчик – Егор, не подозревавший тогда, что потерял мать и смотревший на меня так удивленно и растерянно. Интересно, какая судьба ему досталась? Какой рок мог в те годы постичь ребенка, чей отец был арестован по политическим мотивам, а мать зверски убита борцами за народное счастье? Достались ли и ему хоть крохи того самого счастья?
В комнате находились кровать, заправленная зеленым лохматым покрывалом, стол с бюро и секретером да стул перед ним, придвинутый к столешнице почему-то спинкой. Голые доски пола казались недавно уложенными, а отсутствие всяких украшений и элементарного уюта вновь привели меня к мысли, что квартира еще не обжита. На столе лежали какие-то бумаги, но шпионить в мои планы не входило, и я не стал к ним приближаться.
Из спальни я сразу прошел в кухню, решив оставить гостиную, в которой все же мог кто-то оказаться и поднять шум, напоследок. Обстановка кухни была мне незнакомой, но, в общем, вполне обычной. Выскобленный ножом обеденный стол в углу, ужасного вида печь, небольшая поленница у стены да кран с водой, высокий гусак которого блестел новизной, составляли весь ее интерьер. Висящий на крючке у мойки дуршлаг да пара брошенных на разделочную доску ножей немного оживляли обстановку, показывая, что кухня используется-таки по своему назначению. Я не стал бы проходить дальше порога, если бы не заметил висящий над столом отрывной календарь – непременный атрибут любой советской кухни. Ведомый все тем же любопытством, я заглянул в него и обомлел – на невзрачном листке серой бумаги была изображена большая цифра 26, выше ее стояло «1930, Август», а ниже – «Вторник». Шрифтом помельче тут значилось также: «Двенадцатая годовщина национализации театров».
Что должно это означать? Я не 37-ом или 38-годах, как ожидал и планировал изначально, и даже не в пятидесятых, как уже было подумал, а в 1930-ом? Году установки первого в СССР светофора и учреждения Ордена Ленина? Но как могло это произойти? По какой логике? И кто руководит всем этим бедламом, в конце концов?
Спокойствие, на которое я себя так тщательно настраивал, смело как рукой. Такие кульбиты судьбы я просто не мог предусмотреть и посему был совершенно выбит из колеи. Тридцатый год! Что я тут, собственно, потерял? Теперь мне понятно, почему все выглядит таким необжитым и новым – дом, видимо, только что построен и жильцы, на мое счастье сейчас отсутствующие – первые здешние новоселы. А это значит, что и мальчик Егор, и гибель его матери, и мое собственное посещение этих хором в конце тридцатых – будущее? И этой блестящей новой ванне только предстоит наполниться кровавой водой?
Я поежился. Нейтральная обстановка чужой квартиры внезапно показалась мне враждебной. Из каждого угла на меня теперь дышал рок, а тишина вдруг зловеще зазвенела. Я инстинктивно бросился к окну, как к единственному источнику дневного света, и выглянул на улицу. Странно, что мне не пришло это в голову раньше. Тогда бы я, несомненно, и без всякого календаря засомневался в том, что нахожусь в пятидесятых: ползущая вдалеке по непроходимой грязи странного вида автомашина с высокой, несуразной по моим представлениям кабиной, вынесенными на крылья фарами и прикрепленной к двери запаской, лошадь с телегой у соседнего дома, неестественное для моего глаза облачение снующих в спешке прохожих и, главное, огромное красное полотнище с надписью «Восемь лет пионерского движения!», прикрепленное к стене стоящего напротив большого деревянного здания – предшественника нашего «Дворца пионеров», в миг доказали бы мне мое заблуждение.
Во мне начала нарастать паника. О том, чтобы заинтересоваться увиденным и воспользоваться столь редкой возможностью воочию понаблюдать историю родного города, и речи быть не могло. Единственным моим желанием было как можно скорее убраться отсюда. Я не смог бы объяснить, что именно меня так испугало, но спокойствие покинуло меня тогда окончательно. Я бросился к входной двери, стремясь покинуть зловещую квартиру, чтобы никогда больше в нее не возвращаться. Профессор, Альберт, письмо, загадка – пусть все убирается к чертям собачьим!
Но, щелкнув замком и дернув ручку, я понял, что попал в ловушку. Нет-нет, никто не заложил дверь снаружи на швабру и не подпер ее роялем – она открылась! Но открылась именно туда, куда и должна была открыться по единственно возможной логике – в подъезд дома 1930-го года. Я понял это сразу, едва только выглянул наружу: новые перила, не вышарканные ступени, а железная лестница на чердак еще даже не окрашена…
Глава 12 Первая вылазка и ее итог
Я был заперт. Безнадежно заперт в чужом времени, чужом обществе и чужой жизни. Не просто чужой – чуждой мне! И тот, кто это сделал, поступил так со мной умышленно. Но зачем? И, главное, где выход? Сумею ли я отыскать его без знания здешних порядков? Я, разумеется, много читал о событиях этого времени и даже прослыл в определенных кругах знатоком истории, но пригодится ли мне все это в «боевых условиях»? Поможет ли не сгинуть в этом водовороте странностей, в который я, волею судьбы, угодил, и где, должно быть, сгинул Альберт? Потрясенный внезапным прозрением касательно судьбы моего друга, я стал медленно спускаться по лестнице.
Было, наверное, часов девять или около того, когда я, крадучись, словно вор, вышел из подъезда во двор. Часов я благоразумно не взял, отправляясь в путь сегодня утром, дабы избежать возможных недоразумений по поводу мигающих электронных значков и надписи «Casio» на циферблате. Можно было, конечно, порыться в материнских сусеках, в глубинах которых, возможно, и завалялся какой-нибудь подходящий часовой механизм довоенной эпохи, но в спешке это показалось мне несущественным, о чем я сейчас пожалел.
День обещал быть ясным. Солнце поднялось уже довольно высоко, и верхушки деревьев на другой стороне улицы искрились желтым цветом под его яркими, но, увы, уже не такими теплыми лучами. Сюда же, во двор, оно заглянет лишь к вечеру, на пути в свои западные покои, а сейчас тут было приятно прохладно и даже несколько темновато.
Справа от меня, возле новой бетонной скамейки с деревянной некрашеной спинкой, сидели на корточках две девчонки лет шести-семи. Их короткие летние платьица чуть развевались от легкого, шныряющего по двору ветерка, и у одной из них из-под подола выглядывало даже что-то похожее на панталоны, как я их себе представлял. Судя по сосредоточенному перешептыванию подруг, они были заняты каким-то весьма важным делом. Настолько важным, что на появившуюся во дворе странную личность (в том, что мое одеяние покажется им странным, я не сомневался) они не обратили ни малейшего внимания, хотя отпущенная мною дверь подъезда явственно хлопнула, притянутая к косяку большой блестящей пружиной.
Чтобы хоть как-то начать интеграцию, я приблизился к сидящим ко мне спиной детям и попытался разглядеть меж их светлых головок то, что приковало их внимание. Ничего особенного там не оказалось: руки одной из них были вымазаны в земле едва ли не по локти, другая же держала обеими руками стеклянную бутылку с широким горлышком, из которой она тонкой струйкой лила воду в небольшую ямку. Видимо, я наткнулся на юных мичуринцев, пытающихся вывести какой-то чудо-плод.
Как с ними заговорить? Как обратиться?«Привет»? «Салют пионерам»? Не пойдет – какие же они еще пионеры? Может быть – «Да здравствует…»? Чушь какая-то…
– Что это у вас там? – выбрал я невежливый, однако нейтральный вариант начала беседы. Девчонки одновременно повернули головы и молча воззрились на меня, словно обдумывая, достоин ли я быть посвященным в их девчоночий секрет. Наконец, та, что выглядела чуть постарше, ответила:
– Клен. Семечка. Мы ее сначала дома прорастили, а теперь вот в землю… Он высокий вырастет, если никто не сломает.
Действительно, клен! Как это я сразу не догадался? Как раз на этом самом месте. Только в моей памяти он всегда был старым и корявым, а здесь – ну надо же! – еще толком и не родился. А мы-то, помню, гадали, кому это пришло в голову посадить здесь клен?
– Не сломает, это я тебе обещаю. Никто никогда не сломает его и он переживет даже эту вот бетонную скамью.
Девочка с сомнением посмотрела на скамейку, словно долговечнее ее ничего и быть не могло.
– А Вы откуда знаете?
Надо же – «Вы»! Воспитанные они тут, похоже.
– Я много чего знаю, а про этот дом особенно. А вы, наверное, сестры?
Я присел на краешек скамьи, чтобы стать немного пониже ростом и расположить девиц к разговору.
Говорившее со мной создание поднялось на ноги и, стараясь не касаться платья заляпанными руками, отрапортовало:
– Меня звать Надя, а это вот – Ксюша. Она маленькая и просто помогает мне. Мама велела нам выйти во двор и не мешать ей двигать мебеля. Мы только вторую неделю здесь живем, а раньше в бараке жили в Шахтерском поселке и…
Я понял, что настало время ее перебить, иначе я рискую быть посвященным во всю подноготную девчонкиной семьи, чего мне вовсе не хотелось. Болтать можно долго, но тревога в моей душе еще отнюдь не улеглась, и я торопился выведать самое для меня важное:
– Постой, постой, Надюха… Скажи-ка мне лучше, не знаешь ли ты здесь кого-нибудь по имени Альберт?
В глазах ребенка мелькнула обида. Насупившись, Надежда все же закончила фразу:
– …и в подполе там жили крысы, и мы с Ксюшей их боялись. И… и никого такого я не знаю. И Ксюша не знает. Нам, наверно, пора домой.
Рывком поставив на ноги молчавшую все это время Ксюшу, моя недовольная собеседница деловито направилась в сторону соседнего с «моим» подъезда, в недрах которого мама, видимо, как раз закончила передвигать «мебеля». Уже у самой двери она обернулась и крикнула:
– Не трогайте семечку! Вы обещали, что клен вырастет!
Я успокаивающе помахал руками, хотя маленькая Надюха этого уже не увидела, скрывшись в подъезде.
Что ж, первый опыт общения с местными жителями удачным назвать было нельзя. То ли здешние нравы были столь круты, то ли моя случайная, юная знакомая обладала нетерпимым характером, но попытка провалилась. «И чего тебе вздумалось спросить про Альберта? – ругал я себя. – Откуда, в самом деле, ребенок может его знать? Или ты полагаешь, что детишкам в коротких платьицах нечем больше заняться, кроме как вызнавать у окружающих их имена? К тому же, тебе человеческим языком сказали, что с момента переезда прошло лишь две недели, и даже «мебеля» не стоят еще на своих местах, а ты про какого-то Альберта!»
Получив от себя взбучку за глупость и нетерпеливость, я решил выйти-таки за пределы двора и разведать обстановку. Я был один воин в поле, и полагаться мне приходилось только на себя. Хотя где-то здесь, в городе, должны жить родители моей матери, но они, должно быть, сейчас не старше Ксюши с Надей и вряд ли обрадуются визиту внучка, если таковой последует. Тьфу, до чего все запутано!
Поворачивая за угол дома, я почти налетел на молодую женщину с крупными светлыми локонами на голове, а-ля Марлен Дитрих, одетую в какое-то цветастое летнее платье. Женщина вздрогнула и замерла на мгновение, которого оказалось достаточно, чтобы я успел разглядеть ее красивые серые глаза и нитку бирюзовых бус на ее шее, которые ей очень шли. Но уже через секунду незнакомка, пробормотав незамысловатые извинения неизвестно за что, скользнула мимо меня и скрылась за углом, во дворе. Я пожал плечами и двинулся дальше.
Интересно, носит ли уже эта улица то славное коммунистическое имя, под которым я ее знаю? И отдан ли «Дворец пионеров» пионерам? Впрочем, я понятия не имею, был ли он когда-то им отдан или принадлежал сей организации изначально. Сколько же могло быть пионеров в нашем маленьком шахтерском городке в 1930 году? Вот так, неожиданно, стали всплывать пробелы в моем знании истории родного города. Мне стало стыдно и я перестал задумываться о всякой чуши. У меня были дела поважнее.
Внутренний голос шептал мне, что я должен проявлять максимальную осторожность и по возможности не высовываться. Я-де не могу быть уверен, что мой внешний облик и, в еще большей степени, мое поведение соответствуют принятым здесь шаблонам, а значит, возникновение неприятностей – и очень крупных! – лишь дело времени. И, хотя я тщательно, как мне казалось, готовился к визиту сюда, этот противный голос разума, почему-то говоривший с интонациями профессора Райхеля, был во многом прав. Однако я не прислушался к нему и не остановился, чтобы еще раз обдумать свои дальнейшие действия. Тогда голос с шепота перешел на крик, давая мне понять, что не отступит и навяжет-таки мне верное решение. Я же в ответ послал его куда подальше и скорчил ему такую гримасу, что, будь он осязаем и имей руки, то, несомненно, дал бы мне по роже от обиды.
Итак, наплевав на все предостережения, посылаемые мне неугомонным внутренним голосом, я смело отправился на прогулку по улицам города. Это было странное чувство – находиться там, где я по всем известным мне законам физики просто не мог находиться, и видеть то, что не мечтал увидеть даже в моих детских фантастических снах. Улицы, переулки, здания были вроде бы знакомы мне, но в то же время казались чужими. Многие из них я не помнил, потому что они, видимо, не дожили до моего рождения, иные же, напротив, казались почти такими, какими я их видел вчера или даже сегодня утром, когда шел к альбертову дому и таинственной квартире. Но, несмотря на всю схожесть, было очевидно, что большинство виденных мною сейчас зданий – новостройки, и должно пройти немало лет, чтобы они приобрели привычный мне облик. Пройдя по грязному серому переулку, выглядевшему таким, должно быть, из-за нескольких тонн белесой и чавкающей под ногами грязи, через которую мне пришлось несколько минут, ругаясь, пробираться, я вышел на смежную улицу, где мне сразу бросилось в глаза здание техникума пищевой промышленности, возвышающееся своими тремя этажами над окружающими его убогими лачугами. Я знал, что в 1996-ом году это убожество снесут и построят на его месте элитный жилой дом для пенсионеров государственной службы и прочих проходимцев, но сейчас, здесь, эта каменная новостройка являла собой поистине величественное зрелище, являясь, несомненно, одним из лучших строений города. Охваченный неясным мистическим трепетом, я стоял и смотрел, как открываются и закрываются могучие деревянные двери, пропуская в обе стороны каких-то невзрачных личностей, а за стеклами больших, поделенных на многочисленные квадраты, окон мелькают силуэты не то работников, не то жильцов. Впрочем, вряд ли этот дом когда-то был жилым, а посему силуэты принадлежали, скорее всего, каким-то казенным господам на окладе, исполняющим неясные, но, несомненно, важные функции.
Выведен из задумчивости я был хриплым сигналом приближающегося небольшого грузовика и, заметив, что стою почти посередине дороги, поспешно отскочил в сторону. Грузовик, переваливаясь с боку на бок, словно жирная утка, протащился мимо, попав задним правым колесом в находящуюся аккурат рядом со мной выбоину. Вырвав с корнем большой пук растущей у обочины пожухлой травы, я принялся с остервенением тереть им измазанную липкой грязью штанину, чтобы, насколько это возможно, вернуть ей исходный внешний вид. Это мне не очень удалось (в нашем городе всегда, оказывается, была довольно упрямая грязь), но я не потерял самообладания и энтузиазма продолжать знакомиться со здешней жизнью. Для того, чтобы вывести меня из себя, требовалось нечто значительно большее, чем ковш пролитой на мои брюки грязи, а уж в моем положении и вовсе выбирать не приходилось. К тому же, я предвидел нечто подобное и предусмотрительно прихватил с собой пятновыводитель, положив его в боковой карман моей спортивной сумки.
Однако, стоило мне подумать об этом, как настроение мое испортилось, так как сумки у меня с собой не было. Я оставил ее в покинутой мною квартире, не то в прихожей, не то на кухне, где бесновался по поводу не понравившегося мне тридцатого года. Проклятье! Что же теперь делать? Черт с ним, с пятновыводителем, но в сумке, помимо его, было полно других вещей, без которых ни один цивилизованный современный человек не мыслит дальних передвижений – от зубной щетки до завернутой в носовой платок горсти золота, которое я надеялся в случае нужды продать и обеспечить себе некриминальное существование на то время, пока отыщу Альберта или найду истину. Здешних денег в достаточном количестве мне, несмотря на все потуги, сыскать не удалось, а посему вариант с золотом показался мне там, в 2000-ых, наиболее подходящим. Лишь сейчас мне пришло в голову, что продажа здесь желтого металла уже сама по себе превращает меня в криминального элемента, причем несравненно более отпетого, чем простой уличный воришка. Но, как бы там ни было, золота было жаль. К тому же, в сумке еще находился цифровой фотоаппарат, который, будучи обнаружен хозяевами квартиры, кем бы они ни были, приведет их в известное замешательство и побудит обратиться за разъяснением к колдуну или, что гораздо более вероятно, в компетентные органы. Ну, а там его припишут какой-нибудь буржуйско-шпионской организации и, несомненно, свяжут с праздношатающимся человеком странного вида, то бишь со мной. Исход предсказуем, но крайне нежелателен…
Я с тоской посмотрел назад, в сторону отделенного от меня теперь серым переулком и несколькими сотнями метров грязи дома, в котором мать Ксюши-Надюши передвигала «мебеля», а где-то на кухне дожидалась меня моя злосчастная сумка. Все во мне заныло, но я должен был вернуться и забрать ее, прежде чем двигаться дальше. Находящейся в ней еды хватит, по крайней мере, дня на два, если экономить, а там, быть может, все и закончится – я найду ответ на свои вопросы, а заодно и способ вернуться домой.
Обратно я пошел другой дорогой, отчасти ради новых впечатлений, отчасти из жалости к своим ботинкам, не рассчитанным на такие дорожные условия. Мысли мои, однако, были заняты теперь лишь предстоящим повторным проникновением в эту, мучившую меня с детских лет, квартиру, а посему никакого удовольствия от увиденных мною кусочков действительности я не получил. Ни две ругающиеся в палисаднике бабы, ни чинно продефилировавший по дороге комичного вида легковой автомобиль с восседающей на заднем сидении представительной фигурой в шляпе, ни даже начавший хрипло орать что-то коммунистическое прислонившийся к плохо отесанному столбу пьяный парнишка не привлекли в должной мере моего внимания. Сначала – главное, потом – второстепенное. Правда, этот перефразированный девиз ленинских октябрят был в моей ситуации не очень уместен, так как я не имел ни малейшего понятия о том, что здесь главное, а что – нет. Это-то я и надеялся выяснить, а потому действовал так, как считал правильным.
Подойдя к уже знакомому двору, я сначала осторожно заглянул вовнутрь, вытянув шею и будучи готов к мгновенному бегству, если окажется, что меня там уже ждут. Начитавшись исторических откровений, я отнюдь не мог быть уверен даже в том, что, скажем, семилетняя Надя не окажется вдруг какой-нибудь тайной злодейкой, пустившей мне пыль в глаза своим кленом. А уж если кто-то уже нашел мою сумку…
Но страхи мои были напрасны – во дворе никого не было. Я быстро пересек его и поднялся по лестнице. Знакомого гвоздя в перилах еще не было, поэтому моя заученная с детства глупая считалка потеряла смысл и я шел молча.
Дверь оказалась закрытой. Я опешил и остановился на середине лестничного пролета. Забывшись, я совершенно упустил из виду, что она является теперь совершенно обычной дверью, а не порогом между слоями времени, и вполне может закрываться и открываться по желанию. Наверно, я сам захлопнул ее, уходя, и теперь пожинаю плоды собственной дурости. Хотя, с другой стороны, зачем мне было заботиться о ее замке и тому подобном, если я не собирался сюда возвращаться?
Как бы там ни было, а проблема существовала и требовала решения. Я осторожно нажал на дверь, сначала рукой, а затем и плечом. Она не поддалась, чего и следовало ожидать. Какой несчастье, что я не медвежатник! Мысли мои лихорадочно забегали в поисках выхода из этой глупейшей ситуации. Ломать нельзя – это безобразие, да и небезопасно. Что ж тогда?
Я вспомнил про окно, выходящее из спальни альбертовых родителей, которые еще не родились, на улицу. Прямо под окном проходил широкий карниз, по сидящим на котором голубям мы с Альбертом выпустили из рогаток, наверное, тонну камней, а прямо перед ним, на расстоянии вытянутой руки, рос большой тополь. Что, если…
«Идиот! Семена, из которых вырастет тот тополь, еще нескоро упадут в землю, а ждать так долго ты не можешь!» – внутренний голос, молчавший последние полчаса, снова высказался, и возразить я ему на этот раз ничего не смог.
Тут меня озарила новая идея, и дорого бы я дал в последствии, чтобы она меня не озаряла! Во время моей короткой прогулки я заметил неподалеку строящийся дом, похожий на этот, но, как мне показалось, понеказистей. Работа там, мне помнится, не очень-то кипела, то ли цемент не подвезли, то ли воду отключили, то ли еще чего. Но суть в том, что возле вросшего в землю строительного вагончика я заметил деревянную лестницу, длины которой, по моей оценке, должно было с лихвой хватить до карниза, раз уж под ним еще не вырос тополь. Ну, а там… Даже если окно закрыто, то слабый шпингалет – не замок и долго противостоять мне не сможет.
Обрадованный, я снова выскочил из подъезда и помчался на стройплощадку за заветной лестницей. Всосавшийся в грязь стройки ломаный кирпич попробовал было затруднить мое продвижение, но меня было не остановить. Наплевав на запоздалую мысль о возможном стороже, я схватил оказавшуюся тяжеленной от налипшей известки приставную лестницу и, раскачиваясь из стороны в сторону под ее весом, поспешил обратно. Сторожа, видимо, все же не было, так что совершенная мною кража не вызвала мгновенный общественный резонанс.
С трудом дотащив свою добычу до места я, сверившись с расположением в стене нужного мне окна, приткнул лестницу к карнизу и осторожно полез вверх, поплевав предварительно на руки. Вообще, я боюсь высоты, и вряд ли нашлась бы сила, могущая сподобить меня на такой подвиг при других обстоятельствах. Сейчас же мне было нечего терять и я отбросил на время все свои фобии. Даже страх перед блюстителями закона, крепко сидящий в душе каждого советского или постсоветского гражданина, отступил сейчас на второй план перед необходимостью во что бы то ни стало вернуть мою пропажу, важность которой трудно переоценить. Быть может, если бы я повел себя немного спокойнее и дал себе труд подумать, то нашел бы какой-то другой, более разумный и менее рискованный способ действия, но все произошедшее со мной за сегодняшний, едва начавшийся, день, не прошло бесследно для моей способности рассуждать, и в итоге я просто лез по заляпанной известкой лестнице в чужую квартиру.
Окно, как и следовало ожидать, я нашел закрытым. Хозяева, уходя, не побеспокоились о том, чтобы облегчить задачу взломщику, и я совершенно искренне досадовал на них. В конце концов, я ведь не собирался ничего у них красть!
Открытой ладонью я несколько раз без размаха ударил в верхнюю планку фрамуги, стараясь вкладывать в каждый толчок побольше силы и при этом производить как можно меньше шума. К тому же, следовало быть осторожным, чтобы не упасть с лестницы, иначе моя смерть победит в конкурсе на самую нелепую кончину.
После третьего или четвертого удара я почувствовал, что створка подалась и гвозди, которыми был прибит шпингалет, начали медленно выходить из мягкой сосновой рейки. Это обнадежило меня, и я, несмотря на боль в ладони, удвоил свои усилия, продолжив стучать до тех пор, пока щеколда не упала со звоном на пол, а створка окна распахнулась. Чуть переведя дух, я перевалился через подоконник и рухнул внутрь комнаты.
Первое, что я увидел, поднявшись, были круглые от ужаса серые глаза той самой женщины, с которой я уже имел честь сегодня столкнуться при выходе со двора после разговора с Надей. Локоны ее по-прежнему были тщательно уложены, а вот цветастое платье она сменила на домашний халат, который, видимо, только-только запахнула, так как пояс его не был завязан, а в глубокий кружевной разрез почти полностью выглядывала белая правая грудь. Должно быть, мой стук застал ее врасплох, и она, парализованная страхом, позабыла завершить туалет.
Я, признаться, перепугался не меньше ее. Мне как-то совсем не пришло в голову, что за время моего отсутствия в квартире может кто-то появиться, и уж менее всего я был склонен связать эту наводящую ужас берлогу с повстречавшейся мне во дворе красоткой. Скорее уж, я представил бы ее на сцене какого-нибудь кабаре (или что тут у них сейчас в моде?), но не толкущейся у плиты в убогой кухне с примитивными поварешками и скобленым столом, где я, проявив непревзойденную глупость, забыл свою сумку.
Однако мой испуг, который, несомненно, был написан у меня на лице, в расчет явно не принимался, потому что белокурый ангел вдруг молча, без единого звука, метнулся к платяному шкафу и, глухо стукнув чем-то о полку, направил мне в лоб черное дуло пистолета. Несомненно, это был браунинг, должно быть, один из тех, что большевики приобрели в начале века в Бельгии на вырученные от ограбления банка в Гельсингфорсе деньги. Я не знаток оружия, но излюбленный пистолет коммунистических террористов мы проходили еще в школе (правда, тогда они именовались не террористами, а борцами за народное счастье). Глаза дамочки метали молнии, и я заметил в них отчаянную решимость, не оставляющую сомнений в том, что, стоит лишь мне повести себя не так, как она ожидает, и маленький кусочек свинца положит конец моим чаяниям и надеждам. Этого я хотел менее всего, а посему мне оставалось лишь взять себя в руки и сохранять необходимую долю разума и спокойствия, чтобы остаться целым.
Держа пистолет двумя руками, женщина, скосив глаза вниз, наконец заметила, что одна из наиболее нежных частей ее молодого тела все еще нескромно выглядывает наружу, словно не пожелав воспользоваться уютом предоставленного ей убежища. Девицу это несказанно смутило, и она, поудобнее перехватив рукоятку оружия правой рукой, левой попыталась поплотнее запахнуть свой шикарный, по этим временам, халат. Ствол браунинга при этом чуть дернулся и смотрел теперь вправо вниз, что, безусловно, дало бы герою какого-нибудь дешевого боевика возможность броситься вперед и отважно перехватить руку своенравной красавицы, заставив ее кусаться, а затем плакать в его объятьях. Но я не был героем боевика и рисковать не стал, к тому же девицыны поцелуи отнюдь не являлись моей целью.
Вправив свой довольно пышный, несмотря на стройность фигуры, арсенал и наглухо запахнув полы халата, дамочка вновь перевела все свое внимание на меня, но теперь к торжествующей злобе в ее взгляде примешивалась толика смущения, так как женщины вообще неохотно демонстрируют свой бюст посторонним мужчинам, а уж грабителям тем более. А в том, что она приняла меня за одного из представителей этой милой профессии, я не сомневался. И действительно, что еще мог подумать человек, видя ввалившегося в его спальню через окно неопрятного болвана с измазанной дорожной грязью штаниной и рыскающим, неспокойным взглядом? Правда, для ловкого проныры-домушника я был чрезмерно упитан, да и способ моего проникновения в квартиру был несколько экзотическим, но вряд ли стоящая передо мной женщина могла взвесить все эти доводы в тот момент, когда впервые увидела меня. А уж если она до этого не имела опыта общения с уголовными элементами, то и подавно.
Сейчас она, конечно, спросит «Что Вам здесь надо?», и беседа завяжется, подумалось мне.
– Что Вам здесь надо? – не оказалась оригинальной хозяйка квартиры, и ее опрятная головка чуть качнулась, что, видимо, должно было означать грозное вздергивание подбородком. – Кто Вы такой?
– Я… Понимаете… Может быть, Вы опустите оружие, или хотя бы чуть отвернете, чтобы я мог восстановить нормальное дыхание и ответить Вам?
Нести чушь, глядя в черную пещеру револьверного дула, было и впрямь весьма неприятно.
– Не болтайте и не заговаривайте мне зубы! Отвечайте сейчас же!
Я вздохнул. Иметь дело с женщинами всегда трудно, ну а уж при наличии у них столь весомых аргументов…
– Вы знаете, я ищу моего друга, а здесь забыл сумку.
Я просто сказал ей правду, как она того желала. Ну, а верить моим словам или нет – ее дело. Робко и, пожалуй, чуть дурашливо я пожал плечами, затем понурил голову, как когда-то давно на школьной линейке, и стал ждать комментария, который немедленно и последовал:
– Вы что, совсем идиот? Или действительно полагаете, что у меня здесь в каждом углу сидит по Вашему другу? Да как Вы… Приличный вор, между прочим, хотя бы легенду какую-нибудь приготовил бы!
– Ах да, легенда! – встрепенулся я, вспомнив о своих небогатых «домашних заготовках». – Легенду можно… Так вот, послушайте! Я москвич, а здесь, в этой местности, когда-то проживали предки моего друга, тоже, как понимаете, москвича. Ну, и друг этот недавно отбыл на поиски возможных родственников, да сам пропал. Вот я и подумал, поеду-ка…
– Погоди! – довольно бесцеремонно прервала красавица мою тираду. – Из Москвы, говоришь? Это хорошо. Мы тут, в глуши, москвичей-то почти не видим, так что ты, ежели не врешь, ценная находка!
Мне показалось, что дуло браунинга начало опускаться, а в глазах женщины заплясали искорки интереса. Фу-у, должно быть, прошла моя легенда. Я попытался приосаниться, насколько позволяла ситуация, моя же визави продолжала:
– А что, и про Москву порассказать можешь?
– А как же! Могу, конечно.
Дамочка, чей говор, по моим понятиям, сильно смахивал на деревенский, опустила, наконец, руку с убийственной игрушкой, и расслабленно прислонилась к дверному косяку. У меня отлегло от сердца.
– Ну, а скажи мне тогда, правду ли говорят, что на похоронах председателя ОГПУ Менжинского было столько народу, что несколько человек даже задавило в толпе до смерти?
Ну надо же! И молодая, и провинциалка, а туда же – «ОГПУ»!
– Эх! – махнул я рукой с видом знатока. – Да что там нескольких! С полсотни, наверное, по ящикам деревянным разложили! Что сказать, популярный человек был в народе…
Запоздало мелькнула у меня мысль о провокации. Чертова баба! Мерзкий браунинг в мгновение ока взметнулся вверх и я снова увидел знакомое черное дуло едва ли не перед самым моим носом.
– Менжинский, к твоему сведению, еще жив, а ты – просто лжец и вор! Ступай в прихожую, живо!
Как я мог так проколоться! И прежде-то я всегда ругал себя за излишнюю поспешность в словах и ответах, принесшую мне в моей жизни немало неприятностей, но сейчас эта поспешность могла стоить мне жизни. Ив самом деле, лишь полный невежда мог не знать, что именно со смертью Менжинского, фактически, прекратило свое существование ОГПУ СССР, войдя в состав вновь созданного НКВД! И случится это лишь в 1934-ом году, то есть, через четыре года от сегодняшнего дня. Идиот. Беспросветный идиот! Мне стало себя жалко.
Не смея пререкаться, я, постоянно озираясь на готовый разразиться смертью револьвер, вышел из спальни, а через несколько секунд, повинуясь дальнейшим указаниям моей тюремщицы, переступил и порог ванной комнаты, после чего дверь за мной закрылась. Вспомнив увесистый засов снаружи, я совсем затосковал и, присев на край ванны, надолго замолчал.
А подумать мне было о чем. Почему девица задала мне именно этот вопрос? Ведь совершенно не обязательно быть москвичом, чтобы знать на него ответ! Я вполне мог быть грамотным крестьянином, политически подкованным рабочим или просто слышать где-то о смерти какого-то деятеля. Хотя, стоп!
Смерти-то как раз и не было! Вопрос-то и был задан «от обратного»! Об осведомленности провинциалов еще можно было дискутировать, но, будь я приезжим из Москвы, то просто не мог бы не знать истинного положения вещей, это же ясно! Или не ясно… У меня начинала кружиться голова от всех этих ребусов. Я уже не мог быть ни в чем уверен. Такая ли уж популярная фигура в сибирском захолустье этот Менжинский? Да и в самой Москве пошел ли бы кто-то за его гробом? Или, может быть, уже сама моя осведомленность об его личности была подозрительной?
Я решил прекратить мучить себя глупостями, ведущими меня все дальше во мрак, и сосредоточиться на сложившейся ситуации, которая представлялась мне отнюдь не радужной. Что ж это за напасть такая?! Не пробыв и двух часов «за порогом»(как я стал именовать для себя пространство и время, в котором по собственной глупости очутился), как я уже попал под арест, пусть пока и частно-домашний. И если даже он в моем представлении сильно попахивал несанкционированным лишением свободы, боюсь, что протестовать и жаловаться я вряд ли мог. Единственно, что я сейчас мог сделать, так это поклясться себе в двух вещах: в том, что я, находясь здесь, ни разу более не заговорю ни на одну тему, о которой не осведомлен самым глубочайшим образом, дабы избежать дальнейших курьезов, и в том, что, если Господь позволит мне выбраться отсюда живым, я навсегда забуду, где находится этот треклятый дом!
Не зная, чего ожидать, я на всякий случай заложил дверь изнутри найденной мною под ванной шваброй, обезопасив себя тем самым от посягательства лиц, не имеющих на это санкций. Если сюда сейчас явятся правоохранительные органы, то это еще полбеды, если же, к примеру, разгневанный супруг моей белокурой дуры-тюремщицы, которому она, безусловно, наплетет Бог весть что, то положение мое станет по-настоящему угрожающим. Тогда я мог быть обвинен в сексуальном домогательстве, попытке изнасилования или, что еще хуже, растления ее непристойными откровениями. Так всегда поступают гулящие жены, «сдавая» мужьям одного неудачника, чтобы усыпить их бдительность и обезопасить дальнейшие свои похождения от «необоснованных и ранящих нежную женскую душу» подозрений. Впрочем, окажись девица незамужней или сколько-нибудь порядочной, и у меня появлялся шанс избежать столь глупой участи, отделавшись клеймом разбойника. В любом случае, швабра не помешает.
Глава 13 В застенцах
После моего водворения в импровизированную темницу снаружи не раздалось ни звука, из чего я заключил, что дамочка отправилась за помощью. По некоторому размышлению я так же пришел к выводу, что она не могла быть простой смертной в этом городе, поскольку, насколько я знал, хранение в доме огнестрельного оружия в эти годы не очень-то приветствовалось, если не сказать более. Да и телефон, который я заметил ранее в прихожей, являлся отличительным признаком влиятельного жильца. Револьвер, конечно, мог оказаться муляжом, но черный, блестящий телефонный аппарат с позолоченным наборным диском и массивной навесной трубкой – вряд ли. К тому же, столь просторные квартиры в советские времена кому попало не раздавались, являясь прерогативой номенклатуры и ее выкормышей. Таким образом, постепенно картина начинала проясняться. Вместе с тем я понимал, что, чем серьезнее окажется здешний ответственный квартиросъемщик, тем внушительнее могут быть для меня последствия моего неосмотрительного сюда вторжения, которое вполне может классифицироваться не только как разбой, растление, насилие или террор, но и как растлевающий теракт с элементами разбойного изнасилования (антисоветский, разумеется).
Минуточку! Куда же она подалась, если в доме есть телефон? Не проще было бы поднять трубку и поведать доблестным милиционерам о собственноручном захвате взломщика? Те, подтянув галифе, тотчас же явились бы сюда, или я опять чего-то недопонимаю? Оставалось ждать.
Минут через десять, когда моя пятая точка начала уже затекать от сидения на твердом узком краю ванны, пространство за дверью вновь наполнилось звуками. По топоту тяжелых сапог нетрудно было догадаться, что моя персона привлекла-таки чье-то внимание, и этот внимательный пришел не один, но в сопровождении своих товарищей.
Щелкнул засов, и властная рука одного из пришедших дернула дверь. Не тут-то было – швабра надежно защищала меня от ошеломляющего вторжения. Снаружи дернули посильнее. Безрезультатно. Еще раз. Тот же эффект. Швабра напряглась и затрещала, но выдержала. С той стороны двери послышались невнятные голоса, обсуждающие, видимо, мою наглость и дальнейшие действия их обладателей, затем в дверь постучали.
– Гражданин, Вы понимаете, что затеяли сейчас опасную игру? Сопротивление отдельных граждан представителям власти при исполнении ими возложенных на них законом обязанностей…
– Вы из милиции? – решил справиться я для верности, лихорадочно соображая, открыть ли сразу или потянуть время.
– …карается лишением свободы или исправительно-трудовыми работами на срок до шести месяцев или штрафом до пятисот рублей! Статья семьдесят третья Уголовного кодекса! Добровольно откроете?
То, что здешние жители отличаются стремлением закончить любую начатую фразу, я понял уже во время разговора во дворе с Надюхой. Ну, а о решимости сотрудников правопорядка в этой стране ходили легенды.
– Так Вы – милиция?
– Милиция!
– Рабоче-крестьянская? – уточнил я.
– Она самая! Открывайте!
– Уездно-городская? – попытался я еще более сузить определение, но просчитался.
«Надо ломать, Леха», – сказавший это, видимо, услышал в моей интонации нотку издевательства, которую я туда невольно подпустил. Моей вины в этом не было, но происходящее казалось мне настолько нереальным, что я просто не мог настроиться на нужный, боязливо-раболепный, тон, коим следовало говорить с советской милицией. Последняя же его фраза, обращенная, как я догадался, к коллеге, не оставляла мне пространства для дальнейшего паясничанья, и я, взвесив возможные последствия неповиновения, поспешил вытащить швабру из дверной ручки, освобождая доступ в мою темницу и убежище. Дверь тут же распахнулась, и я увидел двух лобастых, похожих друг на друга, словно близнецы, ребят в мягких форменных фуражках, серых мундирах и портупеях, сидящих на них как-то неестественно. За спинами милиционеров угадывался третий служака, пришедший, должно быть, для порядка. В руке ближайшего ко мне парня находился револьвер системы «Наган», который он незамедлительно направил мне в живот. Что ж это у них здесь за привычка повальная, всех подряд огнестрельным оружием пугать? Этак к ним никто в гости ездить не станет!
– Без фокусов, гражданин, выходим и становимся к стене лицом, – приступил обладатель нагана к своим обязанностям, по извечной привычке советских казенных служащих обращаясь ко мне во множественном числе первого лица. – Руки поднять, ладони показать мне… Ладони… вот-вот… И без фокусов мне, без фокусов, – причитал он дружелюбным тоном рубахи-парня, в то время как его напарник быстро пробежался руками по моей одежде, похлопывая по карманам и, в итоге, велел снять ботинки. Осмотрев их и даже зачем-то понюхав, парень великодушно разрешил мне их надеть. Однако руки мои по-прежнему были подняты и ладони упирались в стену, что мешало мне последовать его указанию, так как ботинки, как назло, были на шнуровке.
– Ладно, можете опустить руки. Оружия при Вас, вроде, не имеется, продемонстрировал свою власть и дружелюбие первый, однако револьвер не убрал, а лишь опустил вниз, будучи по-прежнему готов в любую секунду им воспользоваться.
Надев обувь и для порядка пригладив руками волосы, я вновь повернулся к поразительно терпеливым народным милиционерам и вопросительно взглянул на старшего, которым мне представлялся «оруженосец». Впрочем, как я заметил, точно такой же «Наган» выглядывал и из кобуры обыскивавшего меня сотрудника, третий же, худой как смерть и сутулый, являлся, видимо, не то стажером, не то еще кем-то второстепенным и оружие было ему не положено.
– Чего смотришь, пошли! – бросил мне первый, видя, что я окончил свой незамысловатый туалет и не знаю, куда себя деть.
– Куда? – наивно спросил я, начиная двигаться в сторону входной двери.
– Куда следует. Там и расскажете, как и с какой целью Вы сюда попали, кто Ваш друг и что у него за родственники в нашем городе.
Я мысленно поблагодарил Господа, что место, куда я вломился – всего лишь квартира, а не завод или чертежная мастерская, иначе обвинения в шпионаже в пользу империалистических гидр мне было бы не миновать. Только сейчас я обратил внимание, что женщина, столь чудно приветившая меня в своем доме, все это время находилась здесь же – она стояла в дверях, ведущих в будущую спальню альбертовой бабушки, и внимательно наблюдала за происходящим. Я, наверное, просто не ожидал от нее молчания, а потому и не заметил ее сразу. За это время она вновь успела переодеться, и предстала теперь передо мной в длинном темном платье без выреза, достаточно ладном, чтобы подчеркнуть безупречные линии ее стана, и вместе с тем скромном, дабы не вносить сумятицу в неверные сердца народных милиционеров.
Пропуская меня к выходу, стажер повернулся к ней:
– А Вы, гражданочка, пройдемте с нами, требуется написать заявление, чтобы, знаете ли, все по форме!
В ответ на это женщина ядовито улыбнулась, а услышавший реплику своего молодого коллеги старший милиционер поперхнулся и закашлялся.
– Ты что, мать твою, одурел?! – зашипел он на паренька, вновь обретя дар речи. – Ты представляешь, сопляк, с кем разговариваешь?
Порывистым движением приложив руку к сердцу, милиционер продолжил совсем другим тоном, елейным и виноватым, обращаясь на этот раз к хозяйке дома:
– Простите, пожалуйста, товарищ Алеянц, не сердитесь. Молодой он совсем, только-только прибыл на службу в наш город, не знает еще ничего здесь… Но мы, конечно, обучим…
«Товарищ Алеянц» никак не отреагировала на извинения ретивого правоохранителя, поставленного в неловкое положение молодым остолопом-коллегой. Она манерно развернулась на пятке и скрылась в спальне, явно демонстрируя недовольство. Обескураженный владелец нагана скривил страшную рожу и замахнулся на стажера, цедя сквозь зубы проклятия. Потом, зачем-то изогнувшись в стане, срывающимся голосом прокричал вслед удалившейся женщине:
– Разумеется, товарищ Алеянц, Вам с нами идти не следует! Не извольте беспокоиться, товарищ Алеянц, заявление тут совсем и не нужно! Мы…это… без заявления разберемся, случай-то вопиющий!
Ткнув меня кулаком в спину, служака напомнил, что надо отправляться. Я же, завороженный негаданным величием «товарища Алеянц» и, прежде всего, ее грациозным кульбитом на пятке, совсем забыл о том, что арестован, как забыл и о своей сумке фирмы «Рибок», которая так и осталась лежать в кухне воинственной белокурой фурии, наводящей ужас даже на храбрейших советских милиционеров. Вздрогнув, я подчинился приказу и вышел в подъезд.
Третий правозащитник, все это время молчавший, уже находился снаружи и поджидал остальную процессию. Увидев, что я выхожу, он подкурил самокрутку и неспешно направился вниз по лестнице. Вонючий дым заставил меня закашляться, и я вынужден был остановиться и подождать, пока восстановится дыхание, а вместе с ним и память.
– Подождите! Моя сумка! Я забыл в квартире сумку! – спохватился я и попытался было повернуть назад, чтобы хоть как-то исправить ситуацию. Но железная рука и без того обозленного произошедшим конфузом старшего группы перехватила мое запястье, вынудив, во избежание перелома, придерживаться прежнего направления. Впрочем, так даже лучше. Что станет делать с моими вещами таинственная Алеянц, неизвестно, зато действия рабоче-крестьянской милиции вполне предсказуемы. Не хочется даже думать об этом.
Наручники, вопреки моим ожиданиям, на меня не надели, проигнорировав мои театрально заложенные для этой цели за спину руки. То ли это было здесь не принято – кто его знает! – то ли внешность моя была настолько невзрачной, что никакого опасения я у моих конвоиров не вызывал. Мне стало обидно. А что, если побежать и доказать этим придуркам, что я не столь безобиден, как кажусь? Вот будет потеха! Однако, вспомнив про наган и про то, с какой легкостью его применяли защитники новой власти, я изменил свои намерения, решив не дергаться. И в самом деле – моей задачей было выбраться живым и, по возможности, невредимым из этой передряги, а не демонстрировать свою дурость и недальновидность. Стоит мне ошибиться, и не Альбертова, а моя могилка появится в мистической части городского кладбища, где мне пришлось недавно побывать. Недаром твердил мне профессор Райхель об осторожности и осмотрительности: в чужой бордель, как известно, со своими бабами не ходят…
Оказавшись на улице, милиционеры взяли меня в треугольник и повели таким образом к единственному на данный момент выходу со двора. Это позже проломят дыру в полусгнившем заборе, сократив таким образом путь в восточную часть города, а сейчас забор этот, совсем недавно поставленный, сиял желтизной плохо отесанных сучковатых досок и казался мощной защитой от враждебных поползновений. Непонятно лишь, от чьих.
Я снова увидел знакомую уж теперь улицу. На протянутом от столба к столбу транспаранте, украшавшем противоположную сторону дороги, красовалась надпись красной краской по матерчатой основе: «Товарищ! Будь бдителен! Враг не дремлет!»
Конвоиры завертели головами, словно и впрямь выискивая неведомых врагов. Народу на улице прибавилось, но на нас, казалось, никто внимания не обращал. Да и что ж тут примечательного? Ни тебе наручников, ни кандалов, ни даже захудалого револьвера в спину! Совсем не по детективному. Признаюсь, я все еще не мог воспринимать происходящее серьезно и был склонен шутить и паясничать, словно это не меня вели конвоиры неведомо куда в далеком тридцатом году, а некоего киногероя, наподобие Гавроша или Павки Корчагина. Сейчас кино закончится, и мы все пойдем домой, весело обсуждая приключения хитрого оборванца. В кронах деревьев поют какие-то птицы, вдалеке, осерчав на что-то, лает собака, и все так, как и должно быть, если, конечно, не смотреть по сторонам.
Никакого милицейского транспорта поблизости не обнаружилось, и я, сделав вывод, что относительно молодая советская республика еще не изготовила достаточного количества воронков, чтобы снабдить ими такое захолустье, как наш город, настроился на долгий путь в участок. Однако моя догадка относительно недоукомплектованности народной милиции транспортными средствами оказалась в корне своей ошибочной и, когда мы через две минуты пути свернули во двор находящегося в непосредственной близости деревянного неказистого строения, я смог воочию в этом убедиться. К длинному крыльцу с широкими потрескавшимися ступенями были аккуратно прислонены штук шесть-восемь велосипедов, рядом с которыми стояли и сидели несколько человек в милицейской форме, точно такой, какая была и на моих конвоирах. Люди эти курили и смеялись, время от времени сплевывая на землю, на которой тут и там виднелись комья подсыхающей грязи. Должно быть, особой занятостью уездно-городская милиция здесь не отличается. Оно и понятно, это ж не Госбезопасность какая-нибудь, а служба по поимке всяких там бездельников и воришек, вроде меня. Хотя, надо сказать, я не очень-то сведущ в структуре силовых служб тех, вернее, этих, дней и запросто могу ошибиться при оценке принадлежности или значимости того или иного подразделения. Ну да ладно, чего уж там…
Неподалеку от крыльца я увидел также довольно помятый, неопределенного цвета небольшой грузовик с криво начертанным словом «Милиция» на борту, из чего сделал вывод, что механизированными средствами передвижения эта организация все же обладала, пусть и не в самом широком смысле слова. Время ГАЗов-полуторок еще не наступило, так что автомобиль был, похоже, детищем Ярославского завода. Ну, а факт, что мои поимщики явились по вызову пешком, объяснялся, видимо, незначительным расстоянием до места или же незначительностью самих сотрудников. Тут мне пришло в голову, что ни один из них даже не представился мне, хотя, впрочем, и моими персоналиями они до сих пор не поинтересовались. Весьма странно для социалистической законности.
Стоящие у крыльца сотрудники, увидев нас, замолчали, но лишь ненадолго, потому что, как я уже с огорчением понял, моя скромная персона здесь интереса не вызывала. Скользнув по мне безразличным взглядом, здоровенный усач, стоящий ближе всех к дверям, бросил владельцу нагана: «Еще одного сцапал, Гаврила? Ну-ну…», после чего отвернулся к остальным и продолжил внимать сидящему на корточках растрепанному парнишке-милиционеру, рассказывающему какую-то увлекательную, с точки зрения собравшихся, байку. Внешне парнишка этот походил на того курсанта, что опростоволосился перед товарищем Алеянц, но был, видимо, чином повыше, так как позволял себе сидеть в присутствии коллег, да и наплевано возле него было гуще. Проходя мимо, я уловил короткий обрывок разговора:
«Ну, а ты?»
«А что – я? Я, как водится, и вторую руку туда, да шарить – чуть плечо не вывихнул! А глаза-то у нее одуревшие, хлопает ими только да молчит. Расслабляется, наверно…»
Дружный хохот собравшихся был наградой довольному рассказчику; впрочем, чем закончилась эта история, и вывихнул ли он все же себе руку, я так и не узнал – дверь захлопнулась, и голоса стихли.
В душном, плохо освещенном помещении было так сильно накурено, что сидящие на скамейках вдоль стен фигуры я смог различить лишь спустя некоторое время, попривыкнув к сизому туману. Сами же стены были густо заклеены объявлениями, воззваниями и оборванными клочками старых прокламаций. Я успел прочесть лишь самое крупное из них, которое, видимо, нельзя было сдирать – «Работник милиции! Решительно пресекай всякое нарушение общественного порядка! Помни, что безнаказанность поощряет хулиганов и других нарушителей». Зачем они это себе здесь написали, интересно? Чтобы не забыть? Почему бы тогда, скажем, малярам не написать себе где-нибудь перед носом – «Работник кисти! Крась смело стену краской, ибо окрашенная стена выглядит иначе, нежели неокрашенная!» Тоже было бы хорошо, по-моему.
Насладиться глубоким смыслом и пролетарской открытостью остальных надписей мне не дали, приказав проследовать в один из находящихся дальше по коридору кабинетов, внутри которого было не менее дымно и удушливо, чем снаружи.
Переступая порог, я приготовился к побоям, которые, по моему опыту общения с милицией, непременно должны были последовать. А то что ж это за милиция, если она не способна нагнать страху на всяких там праздношатающихся, к числу которых, безусловно, принадлежал теперь и я? Не знаю как сейчас, в тридцатом, но позже, во времена моей юности, девизом этой братии в нашем городе станет «Один одного не бьет!», намекая на преимущество в силе шести окованных железом сапог над двумя твоими, резиновыми. Что поделать – революционная законность!
К моему удивлению, ни конвоиры, ни находящиеся в кабинете сотрудники не накинулись на меня тот час же с побоями, а, напротив, очень мило указали мне на стоящий в углу, образованном стеной и огромным лакированным шкафом, стул. Расслабляться я, впрочем, не собирался, мало доверяя наигранной миролюбивости хозяев кабинета, и оставался настороже.
Из конвоиров в кабинет по настоящему вошел один лишь Гаврила, который и впрямь оказался главным среди захвативших меня милиционеров. Оконфузившийся курсант даже не заглянул в помещение, а тот малый, что так ловко обыскивал меня в прихожей роковой квартиры, помялся пару секунд в пороге, словно ожидая дальнейших приказаний, и тоже исчез. Видимо, особа моя была столь ничтожна, что не имело смысла маяться в духоте, надеясь получить похвалу за доблесть, проявленную при моей поимке, а на улице все же можно было глотнуть чистого воздуха. Впрочем, возможно, все дело было в субординации, я не берусь судить.
За большим столом, из тех, что я до этого видел лишь в военных музеях, сидел крепко сложенный, с красным, блестящим от пота лицом правоохранитель, и что-то писал. Кончик его багрового языка выглядывал из угла рта, подчеркивая усердие своего обладателя и важность его работы. Пару раз хозяин кабинета даже обмакнул перо в стоящую на столе чернильницу, установленную, по недоумию, довольно далеко от пишущего, и я видел, как с кончика несомого через весь стол пера сорвалась жирная чернильная капля и упала на лежащий перед красномордым документ, который он так скрупулезно заполнял, а теперь испортил. Это его, как видно, не расстроило, он лишь промокнул кляксу куском лиловой бумаги и, полюбовавшись на творение своих рук, отложил бумагу в сторону, после чего переключил, наконец, свое внимание на меня. Барабаня толстыми пальцами по поверхности стола, который Советская Власть, должно быть, украла у царской, он измерил меня тяжелым взглядом маленьких свиных глазок, в которых, кроме снисходительного презрения, отчетливо читалась скука.
– Ну что, дурень, добегался? Много ли украл?
Я не понял, кому был адресован его последний вопрос, а потому из вежливости решил промолчать, опустив, как в далеком проказливом детстве, глаза долу.
– Молчишь, значит… Ну, молчи, молчи. Бить начнем, разговоришься. Один воровал-то, или с подельниками?
Похоже, он был не в курсе происшедшего, и угрозы свои выдавал скорее по привычке, чем целенаправленно. Злобы в его тоне не было, а скука, уже замеченная мною в его взгляде, зазвучала и в голосе. Он посмотрел на стоящего слева у стола сотрудника, исполняющего при нем, должно быть, обязанности денщика и повелел:
– Принеси-ка, Корнеев, чаю! Пить охота. Ну что за жизнь! Весь день пью да…
Корнеев бесшумно скрылся в смежной комнате, где сразу чем-то загремел. Оборвав себя на полуслове, сидящий за столом обратился к Гавриле:
– На рынке, что ли, словил? Не из тех ли, что третьего дня..
– Нет-нет, не из тех, товарищ начальник участка! – не посчитал невежливым перебить шефа торопливый служака. – Это особый случай, пренеприятный даже очень…
Толстяк нахмурился – должно быть, пренеприятные случае в своей работе он не очень-то жаловал, и, уставив зачем-то на меня указательный палец, замер в ожидании объяснений. Обращение «товарищ начальник» показалось мне поначалу несколько странным, однако вспомнив, что свои специальные звания эти люди получат лишь через несколько лет, в 1936-ом, я успокоился. Гаврила же поведал:
– Да он, знаете ли, забрался в дом самого товарища Алеянца, причем прямо через окно, по приставной лестнице… Ну, по счастью, супруга товарища Алеянца оказалась дома и сумела задержать его с помощью пистолета, который предусмотрительно хранился в шкафу. Пистолет был заряжен, но стрелять не пришлось – грабитель сдался. Супруга тов… ну, в общем, она заперла его в уборной да послала девчушку соседскую за нами – телефоны-то в доме еще не подключили, сами знаете! Девчушка эта, по случаю, во дворе обреталась. Ну, мы его и выкурили из уборной-то – вздумал, представляете, запереться!
На самом дне тусклых глаз начальника конторы, которые он во время всего объяснения переводил с Гаврилы на меня и обратно, заплясал азартный огонек, с каждой секундой становящийся все ярче и грозящий, подобно искре Ильича, разгореться в пламя. Могу себе представить, что за мысли, радостные да удалые, закрутились в небольшом мозгу народного милиционера! Впрочем, для меня лично они вряд ли могли означать что-то хорошее.
– Ну-ну! Так… Молодец, Дергачев! Пресек, что называется, на корню! Не пойму только, что же здесь для нас с тобой неприятного? По-моему, все идет как нельзя лучше!
Гаврила Дергачев помялся некоторое время и извиняющимся тоном пояснил:
– Все бы хорошо, товарищ Пузанов, да вот только новенького я нашего по недомыслию с собой взял. Этого… Колтыша. Пускай, думаю, молодой посмотрит да поучится малость…
– Ну, не тяни, скотина! Что еще?! – толстяк запыхтел и заерзал на стуле от нетерпения. Черт бы побрал этих нерадивых подчиненных! Мало того, что напортачил там чего-то, так еще и двух слов связать не может!
– Ну, а он возьми да и скажи супруге-то товарища Алеянца, пройдемте, дескать, с нами, гражданочка, заявление писать станете…
– А та?
– А что – та? И без того какая-то странная, а тут уж как осклабилась, так я и сам чуть в штаны не наделал. Беда теперь, однако, будет…
Дергачев, и без того чувствовавший себя не очень уверенно, теперь и вовсе сник, ссутулился и покрутил головой в поисках стула.
– Да нет уж, любезный, придется тебе теперь постоять! – зашипел на коллегу Пузанов, чуть оторвав свой зад от кресла и нависнув над столом. – Теперь долго навытяжку стоять будешь, падаль, а слово «сидеть» приобретет для тебя скоро совсем другой смысл!
– Да позвольте, товарищ Пузанов! Я-то тут причем?! Я ведь все по правилам, по инструкциям… Новеньких обучать надобно, вот я и… Да может, обойдется еще?
Голос еще совсем недавно такого бравого обладателя нагана звучал теперь жалобно и почти умоляюще. У меня складывалось впечатление, что набранная из местных бездельников захолустная милиция к тридцатому году совсем не набралась еще того опыта в интригах и закулисных играх, который я за ней знал. Где ж это было видано, чтобы правоохранители моей юности робели перед чьей-то там женой или, тем более, вели подобные разговоры в присутствии задержанного? Просто дикость какая-то!
Хозяин кабинета набрал полную грудь спертого сизого воздуха и с шипением выпустил его снова, а вместе с ним, казалось, и весь свой начальственный педагогический гнев. Затем он вновь опустился в свое потертое кресло и, скрутив толстыми, но ловкими пальцами себе папиросу, закурил. Плотная струя крепкого дыма влилась в насыщенную табачными смолами атмосферу кабинета и рассосалась в ней. Весь вид начальника участка выражал теперь готовность к обсуждению дальнейших действий и поиску разумного выхода из ситуации. Дергачев, несомненно, знал своего шефа и эту его склонность к быстрой смене настроения, потому что, отыскав-таки где-то некое подобие табурета, чинно на него уселся и даже несколько приосанился. Тем временем вернулся из соседней комнаты Корнеев и поставил перед Пузановым стакан горячего чаю в вычурном подстаканнике, должно быть, также выменянном пролетариатом у поработителей на «свои цепи». Видимо, глава участка рабоче-крестьянской милиции не употреблял сегодня спиртного.
– Вот мы и увидим, обойдется или нет. Точно, Корнеев?
– Что, простите? – переспросил вновь занявший свое место слева от стола «денщик», делая вид, что не имеет ни малейшего понятия о содержании произошедшего в его отсутствие разговора.
– А то ты не слышал! Тоже мне, дипломат… Да, кстати, Дергачев, знаешь ли ты, почему Николаша сегодня все время стоит? Не знаешь? Все просто – у него геморрой и он сесть не может! Ха-ха!
Кабинет заполнил булькающий смех Пузанова, которому осторожно вторил подхалимский смешок почувствовавшего облегчение Гаврилы. Николаша же Корнеев покраснел так, что даже в густом табачном дыму лицо его светилось краской.
– Вот я и спрашиваю его, – продолжал издеваться толстяк, – где это ты себе болезнь такую заработал? Может, развлекался где очень своеобразно? Ты знаешь, Дергачев, кое-кто тут у нас поговаривает, что водится такой грешок за нашим Николашей!
Его жирные щеки вновь затряслись от смеха, после чего начальник участка громко испортил воздух и заржал еще громче.
Мне стало жаль несуразного глупого Николашу, который даже теперь боялся что-либо сказать и тем самым накликать на себя гнев свиньи-шефа. Однако, представив картину, как Корнеев зарабатывает себе геморрой, я сам едва сумел удержаться от смеха. Мне стало стыдно, а потом все равно.
В дверь сунулась было какая-то девица казенного вида, наверно, секретарша. Пузанов, перестав смеяться, цыкнул на нее, после чего та исчезла, а обстановка серьезности в кабинете восстановилась. Откашлявшись и утерев пот со лба широким носовым платком, Пузанов обратился к Гавриле Дергачеву:
– Так что ж все таки хотел украсть этот хмырь у товарища Алеянца? Дом-то еще не обжит даже как следует!
– В том-то и штука, товарищ начальник, что неясно совсем, домушник ли он простой или что-то другое искал в квартире… Странный он какой-то, одна одежа чего стоит! У нас так не ходят. Как бы он засланным не оказался, за документами товарища Алеянца охотник или еще чего похуже. Убивец, например…
Оп-па! Ай да Дергачев! Уж чего-чего, а проницательности и способности к анализу я от этого верзилы с дебильным выражением лица не ожидал! Это ж надо было так влипнуть! Почему, ну почему я не побеспокоился по-настоящему о соответствии моего облика реалиям этого времени? Что это, в самом деле, за наряд двадцать первого века? Думал, спорю фирменные метки, и дело в шляпе? Не тут-то было!
Я вспомнил о своей, оставшейся в квартире, спортивной сумке «Рибок», и меня затошнило. Ну, что мне стоило украсть холщовый мешок времен гражданской войны или что-то в этом духе в каком-нибудь музее? Что стоило мне одеться и постричься, как подобает? Почему не догадался я, в конце концов, что ни с того ни с сего никто не станет держать в своем шкафу заряженный и готовый к бою пистолет? С горечью убедился я еще раз в правоте профессора Райхеля, предостерегавшего меня от необдуманных действий и глупостей. Первый тест на зрелость я не прошел, это было ясно. Одно хорошо, что во враги Революции меня пока не зачислили…
– Так чего ж мы на него смотрим? – встрепенулся Пузанов. – Сидит тут, понимаешь ли, слушает, не связанный! Ну-ка, Корнеев, позови!
Тощий Корнеев услужливо метнулся в коридор, откуда уже через несколько секунд послышался топот сапог, а еще через мгновение дверь кабинета вновь распахнулась, и на пороге появилось несколько рослых лбов, среди которых я узнал усача, совсем недавно внимавшего россказням местного ловеласа на крыльце учреждения.
– Кого? Его?! – взревел усач, указывая на меня толстым, как сарделька, пальцем, и собрался уже было заключить меня в свои медвежьи объятия, но голос начальника заставил его остановиться на полпути.
– Но-но! Потише, Паша, летишь как оголтелый! Стань спокойно у двери и жди команды. Главное, чтобы все выходы были надежно перекрыты, а то кто их знает, этих засланных!
Так… Похоже, это клеймо стало ко мне прирастать. Следующим этапом станет, безусловно, занесение меня в регистр шпионов, а с тем и врагов пролетариата. Ну, а как доблестные бойцы мировой революции поступают с персонами, в этот регистр занесенными, мне было очень хорошо известно из истории. Не из тех историй, что нам кропотливо вдалбливали в школе, а из той, настоящей, что смотрит на нас со страниц томов расстрельных дел и явствует из повествований редких правдивых летописцев.
Пузанов смотрел на меня задумчиво и, как мне показалось, несколько растерянно, словно не знал, что со мной делать. Вероятно, так оно и было, и городской милиционер, пусть даже начальник отделения, вряд ли мог точно представлять себе, как следует поступать с лицами, подозреваемыми в – кто бы мог подумать! – шпионской или сходной с ней деятельности. Поразмыслив и решив, видимо, схитрить, Пузанов изрек:
– Не-е, Дергачев, че-то не шибко он смахивает на шпиона… У тех личность совсем другая, да и работают они чище. Ну что это, в самом деле – средь бела дня приставить лестницу, карабкаться по ней, ломать оконную задвижку, да, к тому же, и сдаться бабе, не будучи вооруженным! Не клеится что-то тут со шпионскими штучками. Сказки бы тебе писать, Дергачев! Придумал тоже – засланный… Скорее уж, дурак, коли такую тактику избрал.
Слово «тактика» Пузанов выговорил настолько тщательно и аппетитно, что сразу стало ясно, что оно для него новое. Довольный тем, что удалось ввернуть в разговор этот солидный термин, он продолжал:
– Кстати, Дергачев, как тебе такая мысль? Может, он действительно…«того»? А? Тогда все сходится: приехавший издалека умалишенный… Ведь он издалека, или кто-нибудь знает его?
Все присутствующие энергично замотали головами, подтверждая догадку шефа.
– Так вот, приехавший или пришедший издалека умалишенный сдуру лезет в первое попавшееся окно, не ведая, что это – окно квартиры нашего уважаемого первого секретаря горкома товарища Алеянца, в надежде чем-нибудь поразжиться, да и попадает впросак. Ну, а мы, проявив при его захвате ловкость и профессионализм, изолируем его от общества. По-моему, достаточно правдоподобно, не так ли, Дергачев?
«Проявивший ловкость и профессионализм» владелец нагана откашлялся и, скосив глаза на толпящихся у дверей молодчиков, ответил:
– Да на умалишенного он тоже вроде не тянет, товарищ Пузанов. Не рычит, не бросается на Вас, не плюется в стены. Да и разговаривал правильно, без особой дурости…
Диагностические критерии Дергачева не показались, видимо, его начальнику убедительными. Он нетерпеливо взмахнул рукой, призывая психиатра-любителя к молчанию, и собрался уже что-то веско возразить, но вдруг заметил, что для столь щекотливой ситуации в кабинете собралось слишком много слушателей, которым вовсе не обязательно знать подробности дела, тем более, что он еще не принял окончательного решения в оценке мотивов моего преступления.
– А ну, хорош толпиться в дверях! – зарычал он, обращаясь прежде всего к похожему на медведя усатому Паше. – Пошли вон отсюда все! Стоять с той стороны двери, бдеть и не бздеть! Но не подслушивать! Ясно? Ты, Корнеев, кстати, тоже пошел вон отсюда! Стоишь тут, мнешься со своим геморроем…
Заметно расстроенный Паша собрал своих орлов в охапку и, покрикивая на них в свою очередь, покинул начальственный кабинет. Корнеев, привыкший, видимо, к подковыркам и грубости своего босса, подался следом за ними, комично подергивая коротко остриженной головой, сидящей на тонкой, как у ощипанного куренка, шее. Форменные штаны были ему велики и провисали на заднице, наводя на мысль о возможном неприглядном содержимом, а воротник рубашки, напротив, был чересчур узок и, застегнутый на верхнюю пуговицу, давил юному служаке в самый кадык, создавая трудности при каждом глотке. В общем, нормальный рабоче-крестьянский милиционер.
Дверь, выпустив Корнеева со товарищи, обиженно хлопнула, и Пузанов, поудобнее разместив в кресле свою тушу, вновь обратил свое внимание на меня. Странно, но до сих пор никто здесь не разговаривал со мной, если не считать первой «приветственной» фразы хозяина кабинета, и все дебаты по поводу моей дальнейшей судьбы велись без моего участия. Впрочем, на территории совдепов так было всегда, и ничего удивительного в этом не было.
– Задержанный! Берите свой стул и подходите ближе! Ну-ну, не так близко, просто поставьте его там, где сейчас стоите и садитесь. Ага. Сразу предупреждаю, мы все здесь люди подкованные и таких, как ты, целую кучу обезвредили, потому советую не юлить и на все вопросы отвечать прямо и искренне, как на исповеди. Тогда и нам проблем будет меньше, да и ты быстрее уйдешь отсюда. В камеру, – добавил он быстро, перехватив встревоженный взгляд заерзавшего при слове «уйдешь» Дергачева. Так будешь говорить честно?
Начав было разговаривать «по форме», Пузанов сразу же съехал на «ты», которое было более в ходу в среде его общения. Я не хотел портить кровь ни себе, ни этим милым людям и пообещал всячески сотрудничать со следствием, ежели таковое начнется. Начальник был доволен и начал с персоналий.
Мое имя не вызвало у него усмешки, из чего я заключил, что среди массы идиотских революционных имен, вроде «Баррикады» и «Вилена», мое не казалось столь уж вычурным. Затем настала очередь даты рождения. Понимая, что усложнить свое положение уже ничем не могу, я сдержал данное мною минуту назад обещание и сказал правду.
Народные милиционеры переглянулись и, после секундного замешательства, одновременно заулыбались. Похоже, наобум высказанная шефом версия начала находить свое подтверждение.
– А как же, простите, Вы оказались у нас, товарищ? Не заколдовал ли Вас кто-нибудь? – продолжил Пузанов елейным голосом, каким, по его мнению, было принято говорить со спятившими. – Или Вы, как часто бывает, просто проснулись однажды и… о чудо?
– Наверно, так, – понурив голову, подтвердил я. – Я не собирался никого грабить или калечить, мне просто нужно позарез найти здесь одного человека, после чего я уберусь восвояси.
В последнем своем утверждении я слукавил. В тот момент я и понятия не имел, каким образом мне удастся попасть домой, ведь ворота закрыты, и тот, кто это сделал, не поставил меня в известность касательно своих планов. Может статься, что мне придется остаток жизни провести здесь, в этом диком обществе борцов за народное счастье, и остаток этот, судя по всему, не будет слишком большим. Я почувствовал, как во мне поднимается клокочущее отчаяние, подобное тому, которое испытываешь в детстве, узнав, что по причине плохой успеваемости ты все же не получишь ко дню рождения обещанный злобными врагами-родителями велосипед.
– И что же это за человек, позвольте спросить? – издевался Пузанов, подмигивая мне и потирая руки в предвкушении дальнейшего удовольствия.
– Да это мой друг, Альберт Калинский. Он пропал, и следы его ведут к вам сюда. В моей жизни происходит черт знает что, и он, пожалуй, единственный, кто мог бы пролить свет на это. Вы его, случаем, не встречали?
– Конечно-конечно, мы его встречали, он тут совсем неподалеку. Вас к нему отвезут!
Молчаливо сидящий и слушающий этот клоунский диалог Дергачев не выдержал и бросил зло:
– Да врет он Вам все, товарищ Пузанов! Врет. Хочет за дурака себя выдать и наказания избежать. Пытать его надо, тогда расскажет, зачем пришел и что искал. А Вы тут с ним разговоры завели…
– Цыц, идиот! – внезапно рассвирепевший Пузанов сорвался со своего места и, подскочив к распоясавшемуся подчиненному, навис над ним и зашипел прямо ему в ухо:
– А что ты прикажешь с ним делать? Какого хрена ты умничаешь, если ни черта не смыслишь? Тут тактику нужно применить! Тактику! – не упустил он случая посмаковать любимое слово. – Куда мы его сейчас денем? У нас даже камеры подходящей нет, подвал лишь для бродяг да пьяниц! Он у тебя вмиг оттуда сбежит, и ищи-свищи! А вдруг он и впрямь шпион?
– Ну, вот я и говорю, надо передать его ОГПУ, и дело с концом! Звоните, да умоем руки! Нам своих проблем хватает.
– Ты еще больший придурок, чем я думал, Дергачев! Разве так задерживают шпионов?! Ты посчитай, сколько промахов ты сегодня допустил, сколько дров наломал, начиная с твоего безмозглого стажера Колтыша! Это ж надо, жене товарища Алеянца такое… А потом, сколько он тут у нас сидел? Чего говорили при нем? Чуть ли не всю милицейскую работу обсудили! Так вот и подумай, кем в первую очередь заинтересуется ОГПУ, если он там пасть откроет! Впрочем…
Толстяк повернулся и наотмашь ударил меня по лицу. Рука у него была тяжелая, под стать комплекции, так что мне, не ожидавшему такого выпада, не удалось сохранить равновесие и усидеть на стуле. Я грохнулся на пол и, проскользив до стены, в придачу ударился локтем о грубый деревянный плинтус.
– Я тебе, гад, покажу друга! – из слащавого безобидного «хрюши» с деревенскими замашками Пузанов вдруг превратился в зверя – истинного сына породившего его режима. – Сейчас ты у меня узнаешь – «восвояси»!
Он неуклюже отвел в сторону левую ногу, что должно было означать размах, и пнул меня в грудь. Удар я получил в очень неудачный момент, дыхание перехватило, и резкая боль за грудиной яснее ясного сказала мне о том, что радостным мое пребывание здесь не будет. Снова взмах сапога, и нестерпимое жжение в ухе… Взмах…
Сквозь красноватую пелену я еще слышал голос Гаврилы Дергачева, пытающегося вразумить разъяренного буйвола. Дескать, идиотов не бьют, и лучше будет, если они отправят меня в лечебницу в «товарном виде». Жена товарища Алеянца все равно, мол, не увидит и не оценит его стараний, да и он, Дергачев, сам еще раз ей все объяснит и постарается замять случившееся. В крайнем случае они отдадут ОГПУ Колтыша, а этого гада – то бишь меня – и в самом деле лучше всего сплавить в уездный город, в психиатрическую лечебницу. И какой, все же, молодец начальник участка Пузанов, что так ловко все придумал! Ему, Гавриле Дергачеву, учиться и учиться у него…
Наконец, удары прекратились. Не считая распухшего уха, голова была цела, да и почки, вроде, не отбиты, а это уже повод для радости. Какое странное все же существо человек! Мы перестаем злиться на обидчика за побои и начинаем благодарить его за их прекращение, нас предают, а мы радуемся мнимому раскаянию предателя, в нас плюют, а мы счастливы, что слюна не раскаленная! Какие вы молодцы, ребята, что закопаете меня, пристрелив, а не бросите на съедение пожирателям падали! Вот это по-нашему, это по-христиански! Лида, Люда, Лиза! Я буду и дальше дарить вам цветы, я даже начну пресмыкаться перед вами, только не позволяйте, Христа ради, топчущим вас петухам клевать меня в затылок. Ай, спасибо вам!
Господи, куда я залез?! Какого рожна я сюда приперся, чего мне не хватало? Глупые решения рождаются в мозгу, а расплачивается за них всегда рожа! Что мешало мне прожить свою жизнь по-человечески, не встревая в сомнительные приключения, грозящие потерей рассудка или просто глупой смертью? Поистине, сколько будет существовать человечество в мире, вертящемся вокруг желтой звезды, столько будет процветать, колоситься и разбрасывать свои пахучие плоды глупость. Если мы и учимся на своих ошибках, то это мало дает нам, ибо мы неустанно изобретаем новые и новые способы доказать создателю свою несостоятельность. Словно ребенок, наступивший на улице в собачье дерьмо и так проследовавший затем до середины ковра в гостиной, стоим мы перед лицом вечности, беспомощно озираясь и ожидая побоев. Мы знаем, что напакостили, но будем это делать и дальше.
Исчерпав запасы злости, Пузанов велел мнущемуся за дверью усатому Паше швырнуть меня в клетку, где я должен был дожидаться транспорта. Приказ Паша исполнил как нельзя более точно, и к моим уже имеющимся телесным повреждениям добавилось еще несколько ссадин и ушибов.
«Клеткой» оказалась маленькая темная каморка в цокольном этаже, с бетонным, в пупырышках, полом и длинным узким окошком под потолком, служащим, скорее, вентиляционным отверстием, чем источником света. Было совершенно ясно, что изначально сие помещение вовсе не было задумано как тюремная камера, и лишь революционная необходимость да фантазия новых властей превратили его в нее.
Ни шконок, ни нар здесь не было, и пристанищем должна была служить, очевидно, бесформенная куча не то войлока, не то стекловаты в углу каморки. Я не стал рисковать и сел прямо на холодный пол. Простатит, безусловно, штука весьма неприятная, но мысль о возлежании на вонючей куче была еще противней. Хотя, надо сказать, выглядел я сейчас так, что полностью соответствовал предоставленному мне ложу: грязный, избитый, с содранными о пол ладонями и засохшей на физиономии кровью я являл собою жалкое зрелище. О тряпье на моих ногах, бывшем когда-то брюками, я и говорить не хочу. Теперь они были не только измазаны грязью, но и разорваны во время скольжения по полу, а единственные сменные портки остались в моей фирменной сумке, которой теперь владела «обезвредившая» меня белобрысая стерва (от слов «белокурая красавица» я решил теперь отказаться). Интересно, что полезного для себя почерпнула она, осмотрев ее содержимое? При мысли об этом я злорадно усмехнулся. Представляю, в какое недоумение пришла эта злобная безмозглая девка, разглядывая мой новенький цифровой «Nikon»! Должно быть, она украдкой крестилась или молилась каким-то своим пролетарским богам, моля отвести от нее беду и изничтожить «адскую штуковину». Ну и пусть, поделом ей! Тем не менее, казалось странным, что она все еще не появилась здесь и не доложила о находке. По всей логике дамочка должна была это сделать сразу же, как только обнаружила сумку. Может ли быть такое, что она до сих пор не удосужилась зайти в кухню? Вряд ли. Тогда что же? Неужто она позарилась на горсть золотого лома и решила смолчать? Принимая во внимание известное мне теперь социальное положение сей барыни, это казалось мне маловероятным, хотя всякое случается… А может быть, она еще появится, и тогда уж мне не отделаться психбольницей! Как бы там ни было, мотивы поведения этой женщины оставались для меня загадкой.
Глава 14 Уринотерапия
Дороги наши жизненные длинны и запутаны. Они, словно извилистые лесные тропки, кружат нас по джунглям окружающего мира, то заводя в тупик, то обрываясь у края пропасти, а то и даря нам грибные места и сладкую пестроту ягодных полян. Поколения провидцев и предсказателей пытаются распутать клубок их замысловатого серпантина, но ниточка обрывается, и приходится все начинать с начала. Пустое это дело – выть на луну да лаять на тени, не принесет это пользы ни всему человечеству, ни отдельно взятому страдальцу. И лучше, пожалуй, не совать нос в чужие дела, а уж тем более – в божественные планы.
К сожалению, слишком поздно дошел я до этой простой истины. Дошел тогда, когда уж вряд ли мог что-то изменить и вынужден был, как выпущенная из лука стрела, продолжать бездумный полет в заданном направлении, пока не уткнусь своим излишне острым носом в пористую, кишащую насекомыми кору какого-нибудь дерева или вовсе в землю, и не замру там навеки. Я и дома-то, в двадцать первом веке, не отличался особенной удачливостью и способностью изворачиваться, а уж тут, где все мне было чуждым и незнакомым, мои шансы на успех и вовсе стремились к нулю.
Трясущийся и вздрагивающий всем своим деревянно-металлическим телом «Я-3», в грязном кузове которого меня транспортировали, утробно рыча пробирался по жирной пышной грязи проселочной дороги в направлении областного центра, где находилась единственная на всю округу психиатрическая лечебница. Над передней половиной кузова был натянут брезент, под которым укрылись сопровождающие меня сотрудники милиции, я же, связанный по рукам и ногам ремнями, словно буйный помешанный, был пристегнут к дребезжащему борту в самом заднике, у кормы транспортного средства. Брезентовый полог так далеко не распространялся, а посему внезапно налетевший ливень в мгновение ока промочил меня с головы до ног, принеся, впрочем, скорее пользу, чем неудобства, поскольку так я смог хоть немного освежиться и, подставив лицо потоку, избавиться от засохшей, тянущей кожу крови.
Ночь, проведенная в грязном подвале, не принесла мне отдохновения, и даже короткий сон, сморивший меня под утро на твердом бетонном полу, не позволил мне восстановить силы. Вечером мне дали, правда, горбушку липкого непропеченного хлеба (такой в нашем городе будут печь до самой середины девяностых) и теплой, пахнущей тиной воды вволю, так что особого голода я почувствовать не успел. Усмехнувшись по поводу своих недавних мыслей о куче разнообразной пищи и уютном ночлеге, которые я намеревался получить за часть своего сгинувшего теперь золота, я съел горбушку и стал дожидаться утра. Помыться мне не дали, а подбитый верхний левый мой клык шатался и ныл, что сделало сколько-нибудь продуктивный сон невозможным. Но, хвала Создателю, уже в начале восьмого утра (так мне сказал охранник) дверь подвальной камеры открылась и мне было приказано выходить. Руки и ноги мне теперь связали, так что передвигаться я мог только мелкими шажками, подобно стреноженному коню. Но я особенно не кручинился, надеясь, что врачи окажутся более или менее толковыми ребятами и не станут меня мучить. Ну, а там посмотрим.
Места, по которым мы ехали, я знал с детства, однако полвека, которые должны еще пройти до моего рождения, внесут, безусловно, огромные изменения в ландшафт и инфраструктуру этой местности. Там, где сейчас поля, вырастут городские кварталы, вместо верхушек сосен за холмом появятся цеха и трубы камвольно-суконного комбината, и даже эта разбитая дорога превратится в узкую, испещренную рытвинами и колдобинами, но все же относительно прямую автомобильную магистраль. Время меняет и мир, и живущих в нем людей. Каким станет этот смеющийся молодой охранник через пятьдесят лет? Будет ли он все так же смеяться, или станет угрюмым и мрачным, а то и вовсе не будет существовать, став жертвой власти, за которую так самозабвенно боролся? А второй, с красным носом, крутящий сейчас себе папиросу и боящийся просыпать хоть крупицу драгоценного табаку из кисета? Он постарше первого, лет сорока и вряд ли доживет до моего рождения, но, быть может, с его правнуками я буду ходить в одну школу, воровать ранетки в плодово-ягодном питомнике имени Мичурина или драться на перемене из-за какой-то мальчишеской глупости…
Шумный летний дождь кончился так же внезапно, как и начался, принесшая его туча поплыла дальше, искрясь электричеством и урча, а мы въехали во двор старого двухэтажного здания – цели нашего путешествия.
Двор этот был довольно большим, от внешнего мира его отгораживала внушительная изгородь из набитых крест-накрест и сикось-накось разнокалиберных досок, а по всей его территории были безо всякого порядка разбросаны сараи, стайки и прочие небольшие постройки, составляющие, видимо, хозяйственную часть учреждения. Там и сям, между лужами и кучками мусора, лежали растрепанные, все больше серые, собаки, разленившиеся от сытной прикухонной жизни, а какой-то дед в калошах и длинных трусах колол у поленницы дрова, долго устанавливая на колоду каждую чурку и взвизгивая «Э-эх!» при каждом взмахе огромного топора. Наверно, он тоже был частью учреждения.
«Приехали! Отстегивай этого!» – распорядился выскочивший из кабины усатый Паша, будучи, по всей видимости, главным в группе моего сопровождения. Его приказ поступил с некоторым запозданием, потому что один из сотрудников уже возился с ремнем у борта, и через минуту, поднятый на ноги Пашиным рывком, я смог выпрямить затекшую спину и похрустеть суставами, упиваясь разлившимся по телу блаженством.
Откуда-то вынырнула невысокая плотная женщина в грязном фартуке – видимо, работница кухни или свинарника, с большим достоинством поправила косо сидевшую на ее голове косынку и молча указала на крыльцо, как будто без этой ее любезности Паша не догадался бы, куда меня вести.
Одного взгляда на стены мрачного, напитанного запахом запревшего белья и блевотины вестибюля было достаточно, чтобы определить, что к задачам лечебницы относится не только забота о психически больных строителях коммунизма, но и о той их фракции, что не брезгует градусосодержащими напитками. «Невинно вино, а виновато пьянство» – гласила первая надпись. «Много вина пить – беде быть», «Кто начинает пить в молодости – не доживет до старости»… В глазах зарябило и я отвернулся. Довольно примитивная структура воззваний: утверждение – следствие. Очень даже знакомо, но, как всегда, насквозь лживо, ибо основная причина «недожития до старости» в стране Советов 30-ых годов всем хорошо известна.
А потом случилось самое интересное – я был введен в кабинет и представлен его хозяйке – докторше Полине Владимировне. Эта женщина сразу и на всю жизнь произвела на меня неизгладимое впечатление. Я видел мало людей, с первых секунд знакомства вызывающих такую антипатию, отвращение и чувство гадливости, как эта высокая, неопрятная дама, восседающая, сняв туфли и положив ногу на ногу, в большом кресле, так что ее желтая, покрытая толстой заскорузлой коркой левая пятка и огромный, красный, пораженный подагрой сустав большого пальца смотрели, казалось, прямо мне в лицо. Руки женщина завела за голову, и пучки длинных, склеенных потом волос в ее глубоких, сопревших и натертых до красна подмышечных впадинах удачно дополняли картину.
Завидев нас, врачица и не подумала изменить позу, она лишь сощурила глаза и заскрежетала носом, как будто собирая слизь для полноценного харчка. При этом она смешно задергала головой, и я заметил, что из ушей ее торчат массивные ватные тампоны, родные братья тех, что я разглядел также и в ноздрях монстра.
Стоящего рядом со мной усача-Пашу вид этого существа, судя по всему, также не оставил равнодушным. Представляясь, он смотрел в пол, а докладывая мои персоналии насколько раз сбился. Ему было явно не по себе, и он стремился завершить формальности как можно быстрее, что вело только к лишним заминкам. Кульминация последовала через минуту, когда женщина впервые со времени нашего прибытия открыла рот и, демонстрируя черные редкие зубы, громоподобным голосом поведала:
– Ни слова не разобрала из того, что Вы мне сказали. Вы не пробовали говорить внятно, а не мямлить?
Ха! Ты бы еще скафандр надела, а потом требовала разборчивости! С этакими тампонами в ушах ты не то что слышать – равновесие держать не сможешь!
Усатый, видимо, подумал то же, что и я, но ничего такого не сказал, а, повысив голос и старательно выговаривая каждое слово, повторил весь свой монолог еще раз. Я, дескать, такой-то, привез такого-то и так далее…
– Вы невозможны, товарищ! Я, кажется, просила Вас говорить громче и не мямлить, а Вы что?
– Что – я? – не понял Паша.
– Теперь наберите воздуху в легкие и скажите все это мне еще раз!
Разозлившийся сотрудник народной милиции послушался и, став пунцовым от натуги, буквально проорал свою информацию в заткнутые тампонами уши этой престранной особи, после чего внимательно посмотрел на нее, словно вопрошая «Поняла ли?».
– Чего вы так кричите? Я не глухая, – последовал ответ. – Ну, теперь, по крайней мере, все ясно, товарищ… Ну, да ладно. А я – Полина Владимировна, врач и буду заниматься этим случаем. Вы привезли какие-нибудь бумаги? Ну, там, протоколы допросов или еще чего?
Хлопнув себя по лбу, конвоир засуетился и, достав из внутреннего кармана кителя свернутые в рулончик записки товарища Пузанова, протянул их чудищу.
Та взяла бумаги двумя пальцами, развернула и минуты три внимательно изучала, оставшись в итоге явно недовольной.
– Что это? – произнесла она капризным голосом, перегнувшись через полкабинета и швыряя бумаги на стоявший чуть поодаль рабочий стол. При этом воздух в помещении пришел в движение, и моего обоняния достиг отвратительный кислый запах пота. – Кто это писал?
– Н-начальник участка, товарищ Пузанов, – профыркал Паша, едва сдерживая досаду. – Он тоже милиционер, – добавил он вдруг, словно это обстоятельство объясняло все мыслимые проколы в ведении записей.
– Что с Вами опять? Громче говорите, наконец!
– Да выньте же тампоны из ушей! Разговаривать ведь невозможно! – сорвался-таки на крик проклявший все усач, и даже замахал руками, подчеркивая свое негодование. Эту реплику Полина Владимировна услышала.
– Не могу, – сказала она с грустью в голосе. – Не могу, иначе все лечение пойдет насмарку. Время замены тампонов, к сожалению, еще не наступило.
Она посмотрела на часы и пожала плечами, давая понять, что это не обсуждается.
– У Вас там что, лекарство? – поинтересовался милиционер с ноткой участия и некоторого благоговения в голосе, которая появляется у всякого далекого от медицины человека при обсуждении терапевтических методов.
– И да и нет. Моча! – выстрелила Полина Владимировна этим словом, подняв вверх указательный палец, словно на митинге.
– Что, простите? – опешил сотрудник.
– Моча! Новейшее и вернейшее средство! Все прогрессивное человечество использует теперь мочу для лечения большинства заболеваний! Панацея!
– Да какое же у Вас заболевание? – вконец растерялся ничего не смыслящий в современных методах лечения милиционер. Он покраснел от смущения и губы его тряслись.
– Что? А, да! Пока никакого, но ведь может возникнуть. Профилактика, знаете ли, еще никому не вредила!
Я почувствовал, как внутри меня назревает паника. Ведь если любое заболевание эта спятившая медведица лечит мочой, то для меня это не означает ничего хорошего… О, Господи, пусть я окажусь преступником, но здоровым!
Полине Владимировне, видимо, понравилась живая заинтересованность собеседника в предмете разговора, поэтому она соизволила вынуть из кресла свою тушу и проследовала к шкафу с матовыми стеклянными дверцами, стоящему возле самого письменного стола. Походка ее была переваливающейся и неровной, а сама она дышала сипло и натужно, хотя и не была откровенно тучной.
Еще через минуту я убедился, что моя догадка насчет мучившей ее подагры была верной. Открыв шкаф, женщина вынула из него банку с мутной желтой жидкостью и поднесла ее поближе к нам, чтобы сморщившийся вдруг Паша мог ее получше рассмотреть. Когда же она сняла с горловины банки резинку и приподняла закрывающий ее кусок целлофана, в нос мне ударил такой острый запах аммиака, равный которому по тошнотворности не сыщешь даже в советских общественных туалетах. Огромных усилий стоило нам с конвоиром, волею судьбы ставшим моим коллегой по испытываемым сейчас мучениям, сдержать подступившую к горлу рвоту. Паша пробубнил что-то нечленораздельное и, не выдержав испытания, отвернулся. Полина же Владимировна, не заметив этого, величаво прошествовала назад к своему креслу и, развалившись в нем, достала из кармана замызганного халата марлевый тампон. Окунув его в банку со зловонным содержимым, она приложила тампон к багровому суставу большого пальца ноги, где закрепила бинтом. Эту же манипуляцию она проделала и с другой ногой, после чего гордо взглянула на моего конвоира.
– Ну как? Видели? Теперь нужно лишь время и подагры как не бывало! Это Вам не многолетнее отравление организма таблетками! Человеческое тело само продуцирует средство от всех болезней.
О, Бог мой! Я-то полагал, что фанатизм и бредовая, граничащая с психозом зацикленность интеллектуально слабых людей на уринотерапии, гомеопатии, астрологии и всяком там фэн-шуе – отличительный признак конца двадцатого – начала двадцать первого века, но, оказывается, психопаты рождались во все времена и всегда изводили окружающих своими бреднями! Жаль, что это заболевание ни мочой, ни экскрементами, ни даже банальными, «отравляющими организм» таблетками не лечится.
Фанатку же мочи Полину Владимировну было уже не остановить.
– Ежели у Вас, скажем, лихорадка или тиф, то все просто – принимаешь на ночь стакан подогретой мочи…
Это было выше моих сил. Усач, похоже, тоже был уже на грани, поэтому замахал при этих словах руками и попятился к двери. И действительно, демонстрации приема внутрь тухлых отбросов ее бренного тела ни он, ни я не вынесли бы.
Сочтя, что все формальности улажены, конвоир поспешил распрощаться с радушной хозяйкой кабинета и, хлопнув дверью, подло оставил меня с нею один на один. Ремень с моих рук он, правда, снять не забыл, и я мог теперь размять затекшие кисти.
Что интересно, оригинальная докторша не уделила мне еще ни секунды внимания, ни о чем меня не спросила и не попыталась выяснить, на самом ли деле я болен. Она была настолько поглощена собой и своей чудодейственной мочой, что, по-моему, просто забыла обо мне. Так оно было или нет, но я понял, что лелеемым мною надеждам на разумное здесь обращение с моей персоной не суждено стать реальностью. Благоухая аммиаком, Полина Владимировна проковыляла мимо меня и, выглянув в коридор, кликнула санитаров, которым велела препроводить меня в палату и «устроить». Хорошо, вздохнул я про себя, устроимся. Но то представление, что нам с усатым Пашей сейчас устроила эта эскулапша, я никогда не забуду.
Глава 15 Утро в лечебнице
Прутья решетки, которой было забрано окно палаты, проецировались на крашеную желтую стену, отчего вся комната походила на большую клетку. Лучи утреннего августовского солнца заглянули даже под кровать, высветив, словно театральная рампа, беспорядочный танец беззаботных пылинок. Было, похоже, довольно поздно, и солнце уже поднялось высоко, даря сибирской земле последнее тепло уходящего лета. Лета 1930-го года.
Что ж заставило меня так долго проспать? Неужели сказалась усталость последних дней, усиленная непрекращающейся нервотрепкой и мучительными переживаниями за свою судьбу, которые хоть и несколько притупились, но все же продолжали исподволь терзать меня? Пожалуй, нет. Скорее, тот проклятый болючий укол, которым им все-таки удалось «поощрить» меня за обеспокоенность и тягу к дискуссиям, сыграл свою роль, отключив мое сознание и позволив мне выспаться. Тот самый укол, что вогнала мне в «верхний правый квадрант ягодичной мышцы» – так они сказали – сестричка-практикантка, действующая под зорким приглядом умудренной опытом сестры постарше. Как угораздило это розовощекое создание с трясущимися от страха руками попасть на работу в эту мрачную, наполненную скорбью и нелепостями, клоаку? Неужто же это – ее призвание и будущее?
Впрочем, чего это я распричитался над мнимыми страданиями чужого мне человека? Что мне до нее и ее будущего, когда мое собственное сейчас так же мутно, как лужа с головастиками? Похоже на то, что влип я по полной программе, а эта девчонка, может статься, доживет до самого 21-го века, подъедаясь на ворованных у больных харчах третьесортной больницы. Вон какие справные ляжки проглядывали меж полей ее халата, загляденье! Представляю, во что они превратятся через семьдесят лет…
Дольше лежать я не мог. Во-первых, потому что не привык проводить утро в постели, позевывая и кончиком мизинца выковыривая засохший гной из уголков глаз, а во-вторых, положение мое требовало немедленных действий, и тянуть со своим освобождением я вовсе не собирался. Памятуя о вчерашнем инциденте с огромным стеклянным шприцем (почти как в сказке про Айболита), я все же заставил себя умерить пыл, дабы не наделать дополнительных глупостей и не ужесточить тем самым условия своего содержания. Я вовремя осознал, что любые разговоры здесь о правах человека или свободе принятия решений будут трактоваться как составляющие части моей бредовой системы, и ко мне применят, чего доброго, уринотерапию.
Грубое полотно постели, на которой я проснулся, пахло, как ни странно, чистым, отчего у меня возникло ощущение уюта, бывшее, пожалуй, было не совсем уместным. Какая нега может быть в стане врага?
Осторожно потрогав свое лицо, я не обнаружил на нем ни следов запекшейся крови, ни слоя грязи, еще вчера такой явной. Многострадальная моя одежда также не могла испачкать казенное белье, потому что ее у меня отняли, а взамен я получил тонкие застиранные кальсоны, больше похожие на шаровары, потрепанные, но – ура! – чистые. Я быстренько припомнил содержимое карманов моих штанов, за два дня скитаний превратившихся в тряпку, и, убедившись, что ничего сколько-нибудь важного там не было, успокоился. Наличие кальсон, правда, могло осложнить мне борьбу за свободу, но это было все же лучше, чем ничего, а от роскоши цивилизованного общества я начал уже отвыкать.
Но для начала неплохо бы осмотреться. Может быть, это – камера смертников или еще чего похуже, а я тут о свободе рассуждаю!
Комната была небольшой, метра два на три. Вместо двери я также увидел решетку, через прутья которой персонал из коридора мог наблюдать происходящее в палате. Сейчас у решетки никого не было, и обратиться было, соответственно, не к кому. А нужно. Дело в том, что, оглядевшись, я не обнаружил в комнате ни отхожего места, ни чего-нибудь, что могло бы сойти за него, а природа давала знать о себе с каждой минутой все нестерпимее. Мелькнула даже мысль влезть на подоконник и оросить оттуда двор, но ее пришлось отринуть за несостоятельностью, ибо неизвестно, не выйдет ли так кому незапланированной уринотерапии, за которую мне вряд ли дадут лицензию народного целителя.
За своими животными заботами я чуть было не пропустил самого интересного. В палате, кроме моей, находилась еще одна койка, которая, к слову сказать, не пустовала. На ней кто-то бесшабашно дрых, укрытый простыней. Храпа я, правда, не слышал, но то, что человек этот даже при ярком дневном свете и не очень-то удобном ложе мог безмятежно спать, выдавало в нем отпетого засоню. Проказливые солнечные лучи щекотали его торчащие из-под одеяла голые, желтые пятки, но он, казалось, не чувствовал их тепла. Надо же! Я тут крякаю с досады и раздраженно топаю по доскам пола, а ему хоть бы хны! Так и лежит, укрывшись с головой.
Ну, и хрен с ним, мне бы свои проблемы решить. Не зная, что предпринять, я решился потрясти арматуру дверной решетки, давая знать, что проснулся. Не звери же здесь работают, в самом деле! Решетка прилегала к косяку очень неплотно, и при моей, довольно осторожной, тряске ужасно загромыхала. Огромный навесной замок по ту сторону двери заколотился о железо, и шуму это произвело, по-моему, не меньше, чем товарный поезд. В полумраке коридора я смог рассмотреть и другие двери, самые обыкновенные, деревянные. Должно быть, я попал в какую-то особую наблюдательную палату, где за пациентами глаз да глаз…
– Э-эй!
Вдалеке послышались шаркающие шаги. Наконец-то! Я стиснул вместе колени и в нетерпении завозил пятками по полу. Что б им всем здесь!
К двери приблизилась сумрачная женская фигура в грязном, почему-то синем, халате и несуразном чепчике на голове. Остановившись чуть поодаль, женщина дребезжащим старушечьим голосом недружелюбно осведомилась:
– Чего тебе?
– Мне бы, понимаете, в туалет, – объяснил я свое поведение, ломаясь и приседая, как Пьеро.
– Какой еще туалет? Жди, пока вызовут тебя, там и туалет будет.
– Куда вызовут?
Больница начинала мне напоминать мое недавнее пребывание в отделении милиции родного города – те же замки и те же расплывчатые, неясные ответы.
Посчитав разговор оконченным, бабка повернулась и пошла прочь, играя в кармане дребезжащей связкой ключей, чей звон подействовал на меня, как красная тряпка на быка.
– Эй, стойте! – заорал я ей вслед. – Откройте дверь, мне нужно пописать!
Я намеренно сменил язык обращения на детско-крестьянский, полагая, что так она лучше поймет меня. Фигура чуть замедлила движение.
– Под кроватью горшок. А будешь еще стучать, так я тебя живо угомоню! Понял меня?
– Понял, мать, понял! – вскричал я обрадовано, чувствуя, как сердце мое наполняется теплым чувством к пожилой коридорной. Как это я не догадался обследовать клетку более внимательно?
Выдвинув из-под своей койки низкую ржавую посудину, я уже через минуту был почти счастлив. Затем я сел на кровать, набросил на плечи тонкое колючее одеяло и стал строить планы освобождения. Однако, за неимением точной информации касательно моего положения, мне это скоро наскучило. А может, я уже в тюрьме? Раз уж я, сваленный вчерашним уколом, не почувствовал, как меня переодевали и укладывали, то вполне мог не заметить и транспортировки в какие-нибудь застенки! Черт побери, как же узнать-то?
Мой сосед по несчастью по-прежнему спал, да так крепко, что даже не сменил позы за все это время. Вымотался, поди, человек совсем. Приблизившись, я осторожно коснулся его плеча, в надежде, что он проснется и даст мне необходимую информацию. Этого не произошло, а трясти его я не решился. Ну, да Бог с ним, пусть выспится, успеем еще наговориться. Если так дальше пойдет, то времени у нас будет уйма.
Я по натуре оптимист, но серия черных неудач, подобных тем, что преследовали меня, способна в корне изменить даже самое радужное мировоззрение. Как это отвратительно – быть запертым!
Разглядеть что-либо из окна мне не удалось. Пара пролетевших мимо голубей да качающаяся поодаль ветка тополя разожгли, скорее, тоску в моей душе, лишний раз напомнив, как близка воля и горька участь узника. Что за страна! За три дня, что нахожусь здесь, я лишь два часа был на свободе, остальное же время мыкал горе. Не жилось мне спокойно, не жилось! Приключений захотелось, тайны разгадывать возжелал!!! Ну не идиот? Ведь заранее известно было, что я – лишь игрушка в чужих руках, лишь орудие для достижения чье-то цели. Но чьей? И что это за цель? Как могу я, в конце концов, исполнить чью-то волю безо всяких инструкций, без малейшего знания вопроса? Нет ничего удивительного в том, что профессор поддержал эту сумасбродную идею и даже явился, по сути, моим вдохновителем, – он лишь проявил профессиональный интерес и только, о чем, кстати, честно заявил. Так какие тут могут быть претензии? Единственная надежда теперь на то, что Райхель и впрямь обладает теми знаниями, которые ему приписывают и, быть может, в состоянии как-то повлиять на ход событий. Но даже если и так, станет ли он помогать своему нерадивому «ученику», который даже элементарных мер безопасности предпринять не удосужился, несмотря на все предостережения и просьбы? Эх, как все глупо!
Какой-то звук отвлек меня от тяжких мыслей. Секундой позже я понял, что слышу стук каблуков по деревянному полу коридора. Каблучное цоканье сопровождалось уже знакомым мне шуршанием, из чего я сделал вывод, что визитеров будет как минимум двое. Если, конечно, речь шла о моих визитерах, на что я страстно надеялся.
Напротив двери остановилась Полина Владимировна, высокая, плотная, с торчащими из ушей и носа тампонами со свежей мочой. Свои похожие на подборные лопаты ступни она каким-то чудом умудрилась втиснуть в грубые тупоносые босоножки, да так, что сдавленная до бела кожа обнимала борта туфлей, а выше по ноге переходила в сизо-пунцовую варикозную икру. Ремешки босоножек въелись в эту пунцовость, и, чтобы избежать избыточного трения, Полина Владимировна подложила под них ватные прокладки. О том, чем эти прокладки были пропитаны, гадать не приходилось.
На нос Полина Владимировна нацепила роговые очки, через которые она рассматривала меня, стоящего по другую сторону решетки в одних кальсонах, пристально и очень неодобрительно.
– Ну, как чувствуете себя сегодня? Есть ли жалобы? – бросила она отрывисто, и заметно было, что мое самочувствие ее вовсе не интересует.
– Да что Вы, Полина Владимировна, какие жалобы? – ответил я, с великим трудом сдерживая язвительные нотки. – Я прекрасно выспался, ничего у меня не болит, а солнце душу согревает…
– Это хорошо, – врачица не заметила сарказма, однако скорее из отсутствия всякого интереса, чем по недоумию. – Как мочитеся?
О, Бог мой! Да есть ли в мозгах этой образины хоть что-то кроме этого! По употребленному ею окончанию «ся» я заподозрил в ней малограмотность, что давало мне шанс. К тому же, у меня зародилась кой-какая идея.
– Ой, Вы знаете, Полина Владимировна, очень хорошо, но…
– Что – но? – она сверлила меня глазами и уже начинала злиться за то, что я задерживаю ее всякими глупостями.
– Да вот, после услышанного вчера – я о Ваших методиках самолечения – я понял, что всю жизнь необдуманно разбрасывался столь ценным продуктом, как моча, вместо того, чтобы применять его для оздоровления и, как Вы вчера сказали, профилактики. Ведь профилактика не менее важна, чем лечение, не так ли? Но ведь, позвольте, как можно достичь хороших результатов, не имея никакого понятия о технике лечения? Вот вы… Неужели вы сами придумали все это?
Все! Сейчас мне крышка. Не разгадать столь открытого издевательства мог только умственно отсталый человек. Сейчас она, конечно, разорется и прикажет выпороть меня розгами и сослать на каторгу, или что тут у них принято… Ну, почему я не могу держать язык за зубами?
Однако Полина Владимировна не разоралась и даже не плюнула в меня сквозь решетку. Видимо, она и в самом деле была умственно отсталой и врачебный диплом получила в подарок от рабоче-крестьянской власти, потому что глаза ее вдруг потеплели, на дне их загорелся огонек и даже как будто легкая улыбка тронула ее омытые мочой уста.
– Вот! Вот, я говорила! – взглядом триумфатора посмотрела она на замершую чуть в стороне бабку-коридорную. – Я говорила, что человек мыслящий рано или поздно приходит к тому, чтобы помириться с природой и жить с ней в согласии! Говорила, а, Герасимовна?
Бабка, названная Герасимовной, поспешно закивала, но в испуганном взгляде ее явственно читалось желание видеть докторшу по другую сторону отделяющей их от меня решетки. Приободренный начальным успехом, я бросился в атаку:
– Полина Владимировна, голубушка, не расскажете ли мне поподробнее про это, не просветите ли? Глядишь, и я сумею жить в согласии с природой!
Я был сам себе противен. Безобразное слово «голубушка», почему-то всплывшее в памяти, жгло язык, а уж при мысли о том, как могут выглядеть семинары по уринотерапии у Полины Владимировны, мне и вовсе стало плохо. Надо держаться в рамках!
– Подумать только, Герасимовна! Они доставили его сюда как психбольного! Безобразие! Ни разобраться не могут, ни цветок от дерьма отличить!
Видимо, о последней упомянутой ею субстанции докторша была не столь высокого мнения, как о моче, что уже хорошо.
– Вас как звать? – начала она заново наше знакомство. – Кажется, Галактионом?
– Угу.
– А знаете что, Галактион? Давайте сделаем так: я закончу обход пациентов там, внизу, а после Вас приведут ко мне, и мы поговорим. Сдается мне, что нет у вас никакого душевного заболевания.
Понятно. Все не так просто, как я себе вообразил. Выпускать меня сию же секунду на все четыре стороны никто, похоже, не собирается. Ну, да ладно. Главное сейчас, втереться в доверие к чокнутой мегере. А там посмотрим. Вслух же я сказал:
– Очень хорошо, Полина Владимировна, спасибо Вам большое! Ну, а я пока с соседом пообщаюсь, чтобы время быстрее шло. Надеюсь, что он скоро проснется, – я обернулся и посмотрел на все так же лежащего в своей постели «коллегу».
– Что? – нахмурила брови женщина. – Ах, это… Да нет, он не проснется. Он вчера умер после обеда, а отвезти в морг было не на чем, вот и оставили здесь лежать до оказии. Да Вы не переживайте, он не от чахотки. Так что-то… Ну, не скучайте, я Вас приглашу.
Этими словами Полина Владимировна закончила нашу беседу и отошла от решетки. Ошарашенный, я еще секунд двадцать слышал цокот ее каблуков, сопровождаемый все тем же шорканьем тапочек старой Герасимовны.
Глава 16 Побег
Когда-то, в начале девяностых, в руки мне попала заметка, или, точнее сказать, послание некоего сеньора Аннучи, путешественника и естествоиспытателя, большую часть своей жизни проведшего на западных островах Океании, где он изучал взаимодействие культур аборигенов. Мне неизвестно, какие открытия он сделал в этой области и сделал ли вообще, так же как не знаю я, сумел ли он вернуться оттуда живым, но дневниковые записки отважного итальянца имеют, бесспорно, огромную если не научную, то историческую ценность.
Так вот, в той части дневника, которую мне посчастливилось прочесть (разумеется, в копии, ибо персона моя не столь значима среди естествоиспытателей, чтобы доверить мне оригинал), сеньор Аннучи описывает четверо незабываемых суток, что ему пришлось провести в обществе мертвеца. Дело в том, что пещера, в которую он спустился в сопровождении одного из своих компаньонов, оказалась весьма недружелюбной и, заманив путешественников в свою сырую, холодную утробу, отказалась выпустить их обратно, устроив каким-то образом обвал и завалив единственный известный выход. Аннучи был уверен, что пещера – живое существо, ибо слишком уж коварной была ее выходка. Более того, события, произошедшие в последующие четыре дня, заставили его в этом убедиться и наполнили душу его страхом.
Компаньон синьора, что сопровождал его, был в тот день менее удачлив, и один из камней, посыпавшихся со стен и потолка тесного прохода, угодил ему прямо в голову, лишив сознания. Аннучи, надо отдать ему должное, не бросил приятеля и, приложив немыслимые усилия, дотянул-таки его до ближайшей, более просторной, пещерной залы, где обвал уж не достал их. Старания героя, к сожалению, оказались напрасными, потому что парень пару часов спустя умер, не приходя в сознание. Аннучи ужаснулся гибели товарища, но еще более – перспективе дожидаться здесь смерти от жажды и истощения, так как иного выхода из пещеры не было. После того, как он при свете шахтерского фонаря обследовал помещение и убедился, что Тома Сойера из него не выйдет, незадачливый естествоиспытатель совсем загрустил. Одно радовало его – в пещере было достаточно холодно, и разложения тела компаньона в ближайшие дни опасаться не приходилось. А там уж он и сам преставится.
В двух рюкзаках нашлось литра полтора воды и немного снеди. Аннучи же скорее расстроился, чем обрадовался находке – она продлевала его мучения. Ну, о том, как ему было голодно и страшно, вы можете сами прочесть в его заметках, меня же в них наиболее заинтересовали описания его контакта с умершим. Нет-нет, никакой некрофилии! Просто уже в самую первую ночь (имевший часы путешественник уверен, что это была именно ночь), лежащий неподвижно компаньон вдруг заговорил с ним. Монотонным голосом он стал упрекать синьора Аннучи в недобросовестности и безоглядном использовании человеческого труда себе во благо. Он сам-де нанялся к нему лишь от безысходности, и вот к чему это привело! Почему он, сорока лет от роду, обречен медленно гнить в какой-то пещере, не будучи даже похороненным по-людски? Что может синьор ответить на это и, самое главное, чем заплатить за такую несправедливость?
Перепуганный до смерти Аннучи прижался к ледяной стене пещеры и протрясся несколько часов, не рискнув даже зажечь фонарь, опасаясь разрыва сердца. Он не помнит, когда сон все-таки сморил его, но, проснувшись, он стал посмелее и обследовал тело. Никаких изменений в позе или выражении лица покойного он при этом не обнаружил.
Все попытки растащить завал оказались напрасными. Он не знал, какая часть потолка осыпалась, но пришел к неутешительному выводу, что в одиночку и без специальных приспособлений с задачей ему не справиться. Вымотанный и голодный, он приготовился отдохнуть немного, а после попробовать найти хотя бы воду, капли которой, падая откуда-то, время от времени звонко разбивались о его лысую голову. Может статься, что ему удастся обнаружить хотя бы лужицу…
Однако заснуть сеньору не удалось, ибо покойный компаньон вновь заговорил с ним. Мертвый голос продолжил перечислять подлости, которые, по мнению его владельца, совершил за свою жизнь нерадивый Аннучи. Он забирался в такие дебри и упоминал события столь давние, о которых при жизни никакого понятия не имел. И, хотя ученый был ни в малой степени не согласен с обвинениями, он вынужден был признать, что сами по себе события описаны верно.
В третью ночь он услышал вещи, о которых не имел понятия и сам, но имена, фигурировавшие в повествовании мертвеца, были ему хорошо известны. О Господи, если бы у него был шанс выбраться отсюда, он бы уж разобрался со всеми этими проходимцами! Он бы навел порядок! Сам того не замечая, Аннучи начал воспринимать ночные монологи покойного как нечто само собой разумеющееся.
Затем начался кошмар. В четвертую ночь ему привиделось, что компаньон встал, бродил по пещере, ворочал камни и тихо бормотал что-то, а потом даже коснулся щеки ученого своими заледеневшими пальцами и зычно захохотал. Аннучи дико закричал и ничего уж больше не помнил.
Через несколько часов он был найден группой спасателей, которые четыре дня не покладая рук разбирали завал и, что самое интересное, собирались уже отказаться от поисков, потеряв надежду, когда услышали нечеловеческий крик Аннучи и перекрывающий его чей-то хохот. Оказалось, что они находились уже всего-то в паре метров от пещерной залы. Так казалось бы злой мертвец спас своего бывшего работодателя.
Думаю, вы догадались, почему мне вдруг вспомнилась эта история. Информации, что лежащий в моей – запертой! – палате холодный незнакомец умер не от чахотки, было почему-то недостаточно для моего успокоения. Вообще, надо постараться, чтобы заразиться чахоткой от усопшего! Ясно одно – какова бы ни была причина его смерти, уринотерапия оказалась бессильной. Или он умер как раз от переизбытка таковой? В таком случае мое положение еще более усложнялось.
Как бы там ни было, а такое соседство нельзя было назвать приятным. Не скажу, что отношусь к покойникам предвзято или излишне эмоционально, но само осознание того, что он лежит здесь, а пути отхода перекрыты, распаляло воображение. Подумать только! От свободы меня отделяет лишь забранное решеткой окно да пара метров расстояния до земли, а я вынужден сидеть здесь голодным – кстати, почему до сих пор не принесли ничего поесть? – и надеяться, что труп не начнет читать мне нотаций, как в случае со злосчастным Аннучи! И что это, вообще, за практика, живых с мертвыми селить? Мало мне того, что я застрял черт знает где? Там, дома, меня уж скоро хватятся, но ничего не смогут сделать. Короче, как и вначале, вся надежда на профессора Райхеля.
И где же, в самом деле, завтрак? Ведь какой-то же паек мне причитается?! Или они там хотят, чтобы я присоединился к своему соседу?
Тут вновь раздались шаркающие неторопливые шаги в коридоре и вскоре показалась Герасимовна, выполнявшая здесь, видимо, всю ту работу, которой не обучают в училищах, попросту – черную. В руках ее была оловянная чашка с кашей, а вернее сказать – запаренным дробленым зерном, и стакан остывшего слабо-коричневого напитка, должно быть – местного чаю. Расстояние между прутьями решетки было достаточно большим, и старухе не пришлось отмыкать тяжелый замок, чтобы передать мне съестное. На мой вопрос, как долго мне еще ждать вызова, Герасимовна, получившая, видимо, инструкции на мой счет, ничего не ответила. Моя неуклюжая попытка пошутить по поводу ее тяжелой доли также не вызвала никакой реакции, и я, убедившись, что разговорить Герасимовну мне не удастся, отступился.
Каша была пригоревшей и горькой на вкус, но я, испытывая волчий голод, не отступивший даже перед лицом моего отчаянного положения, проглотил все до крошки, запив бурду теплой жидкостью из стакана. Насытить меня это не могло, но было все же лучше, чем ничего. Через пару лет продовольственное положение в этой местности станет еще хуже, и тогда уж заточенным здесь несчастным сумасшедшим не придется рассчитывать даже на это. Плохо, что для мертвого моего соседа ничего не принесли – вторая пайка пришлась бы мне кстати.
Постепенно я стал привыкать к наличию мертвеца на соседней койке, и пару раз даже обратился к нему, жалуясь на свою судьбу, проклятую истеричную девку-Алеянц и вонючую Полину Владимировну. Опасаться, что остывший человек предаст меня и тем самым усугубит мои муки, не приходилось. Потом я усовестился своего поведения (в конце концов, ему повезло еще меньше, чем мне) и оставил его в покое.
Жизнь выкидывает порой удивительные штуки, и в совпадения, время от времени случающиеся в ней, никто никогда не смог бы поверить. Ну, как велики, скажем, ваши шансы столкнуться с бывшим одноклассником на улице мексиканской столицы или узнать в уличном попрошайке своего внебрачного сына? Вот и мне пришлось подивиться парочке таких совпадений, но об этом дальше.
От нечего делать я приподнял укрывающее покойника покрывало и посмотрел на его тощее, неестественно скрюченное тело. Человеку могло быть лет пятьдесят или около того, во всяком случае, он так выглядел. Жизнь, похоже, изрядно помотала его по своим буреломам, о чем ясно свидетельствовали многочисленные рваные шрамы на его конечностях, спине и даже лбу, и кахектичное телосложение. Выражение лица у покойника было настороженным, словно и после смерти он боялся чего-то и был начеку. Быть может, ему пришлось побывать и под пытками, иначе откуда у него это бурое, словно выжженное тавро на внутренней поверхности плеча? Неизвестный мне символ в виде соединенных линиями двух ромбов, могущий означать, например, принадлежность к какой-то, бытовавшей в это время, касте заключенных или же просто быть плодом издевательств. Символ был выжжен в скрытом от любопытных глаз месте, и лишь неестественная поза усопшего, о которой я уже упоминал, дала мне возможность рассмотреть его. У меня возникло смутное ощущение, что где-то я уже мог видеть этот знак, но, как ни копался я в кладовых памяти, таки не смог вспомнить, когда и где именно. Тем не менее, два связанных линиями ромба были мне странным образом знакомы.
Умерший был в одних трусах, одежду же его, убогую и изрядно поношенную, я нашел в полотняном мешке в ногах трупа, куда без зазрения совести заглянул, рассудив, что любопытство мое покойному не повредит, а обирать его я не собираюсь. Помимо штанов, тужурки и стоптанных ботинок, я обнаружил в мешке коробку спичек, кисет с самосадом и обрывок газеты, используемой, по всей видимости, для сооружения папирос, именуемых в народе «козьей ножкой». Судя по всему, финансовое и социальное положение умершего оставляло желать лучшего. Я положил все обратно в мешок и снова закрыл тело покрывалом. Ничего примечательного, кроме, пожалуй, странного клейма, в мертвеце не было.
Часов в палате, само собой, не обнаружилось, так что о времени я мог догадываться лишь приблизительно. Во второй половине дня старая Герасимовна вновь навестила меня, принеся какой-то серый несвежий суп в глубокой, заполненной лишь на треть, миске, кусок такого же серого липкого хлеба, какой мне уже приходилось едать в милиции, и стакан чуть теплого чаю, идентичного тому, что я получил на завтрак. Я попытался было дознаться, не забыла ли про меня Полина Владимировна (слишком уж долго длился ее обход!), однако на вопросы мои старуха вновь отвечать не пожелала, демонстративно их игнорируя. Я до конца уверился, что нахожусь под арестом и шансов на спасение не имею. Меня просто лишили всякого человеческого общества, и даже вчерашние изверги-медсестры вполне подошли бы мне сейчас в качестве собеседниц и, возможно, исповедников. Было тем тяжелее, что ни правил, ни нравов этой страны я не знал, а потому понятия не имел о том, как должен себя вести. Хотя, какие тут могут быть нравы?
День клонился к вечеру. Видимость в палате с каждой минутой становилась все хуже, а свет, как ни нажимал и ни дергал я выключатель на стене, не зажегся. Окно, как я определил еще утром, выходило на восток, а посему солнце, находящееся сейчас по другую сторону этого мрачного старого здания, посылало свои теплые вечерние лучи в чью-то чужую палату, не мою. Тени под кроватями сгустились, и тело на соседней койке выглядело все более зловеще. Почему они не забрали его отсюда? Неужели им не хватило целого дня, чтобы организовать транспорт? Еще немного, и труп начнет разлагаться, и тогда уж мне точно придется несладко. Я забрался с ногами на кровать и, словно гоголевский Хома Брут, стал ждать чего-то ужасного. К ночи, как известно, страхи обостряются, и бесчувственность с невосприимчивостью, отличающие нас при дневном свете, с наступлением темного времени суток уступают место тетушке-жути.
Когда я уже прошептал все известные мне молитвы и заклинания, уберегающие от мертвых и нечистой силы, и мне стало уже казаться, что покрывало на мертвеце зашевелилось, предвещая мистическую вакханалию, перед решеткой двери возникли два мужских силуэта. Еще через минуту зажегся электрический свет, включатель которого находился, как видно, снаружи, и в палату вошли двое санитаров с полотняными носилками, которые они развернули радом с койкой, где лежал покойник. На меня они никакого внимания не обращали и даже решетку оставили открытой. То ли их не предупредили, то ли им, занятым своей работой, было все равно, но небрежность их была налицо, хотя и неудивительна для общества без правил.
Сбросив покойного на носилки, санитары подняли их и, матерясь и пререкаясь друг с другом, понесли по коридору. Покрывало и полотняный мешок с вещами усопшего остались лежать на кровати.
Когда голоса их стихли, я осторожно выглянул из палаты, не сомневаясь, что увижу вездесущую старуху Герасимовну, которая, несомненно, обретается где-то поблизости. Халатность работников просто поражала: что могло быть сейчас проще, чем нейтрализовать старую, не ожидавшую нападения женщину и покинуть лечебницу?
Но старухи в коридоре не было. Не оказалось ее и в примыкающем к коридору переходе, куда я, дрожа от волнения, заглянул. Тогда я понял, что все будет зависеть только от моей ловкости и решительности.
Я действовал так, словно побег был заранее и в деталях продуман и даже отрепетирован. Быстро, насколько это было возможно, я натянул на себя штаны и тужурку покойного, которому они наверняка уж больше не понадобятся, и несколькими резкими движениями размял затекшие от долгого неподвижного сидения суставы. Найденные мною в мешке ботинки были слишком маленького размера, так что мне пришлось довольствоваться безобразными растоптанными тапками, оставленными кем-то для меня у кровати. По счастью, тапки были снабжены задниками, что значительно облегчало мне их носку. Согласитесь, что передвигаться по улице в шлепанцах было бы весьма проблематично.
Два коридора и лестничный пролет я преодолел быстро и без затруднений. Оказавшись в узком полутемном фойе, я остановился, чтобы обдумать свои дальнейшие шаги и не совершить непростительной ошибки. Стоило мне сейчас выбрать неверную дверь и наткнуться на кого-нибудь, как все мои старания пойдут насмарку – поднимется тревога и меня, несомненно, вернут в мою клетку. Я прислушался.
Из-за ближайшей ко мне двери раздавались голоса. В одном из них я, как мне показалось, узнал вызывающую содрогание фанатичную Полину Владимировну, дающую кому-то инструкции, которые я не смог разобрать. Итак, сюда соваться не следует.
Входная же дверь представляла, с моей точки зрения, еще большую опасность, ибо за ней, несомненно, размахивает топором утрешний дровосек и толпится всякий иной люд, большей частью недоброжелательный. Неужели ж у них нет черного хода?! Действовать надо было быстро, промедления я не мог себе позволить.
Совсем уж было собравшись принять независимый вид и выйти, как ни в чем не бывало, через главный вход, я вдруг услышал истошные вопли Герасимовны, исключительно резво для своего возраста поднимавшейся вслед за мной снизу. Смысл слов старой дамы я не смог разобрать, но этого и не требовалось, чтобы понять, что мое исчезновение обнаружено. Герасимовна топала и орала так, словно за ней гнались убийцы, и о том, чтобы незаметно покинуть лечебницу, не могло быть теперь и речи. Еще мгновение, и она будет здесь!
Беглым затравленным взглядом я обвел фойе и увидел незамеченную мною раньше нишу в самом дальнем и темном его конце, из которой, выбиваясь из-под неплотной занавески, торчало какое-то тряпье. Ее, должно быть, использовали как склад или хранилище. Ниша казалась забитой под завязку, и было совершенно неясно, найдется ли там достаточно свободного места для меня. Однако выхода не было – я метнулся в конец фойе и, с трудом протиснувшись-таки внутрь ниши, затаился в белье.
Я слышал, как поднятые по тревоге люди бегали по лестницам и кричали. Суматоха поднялась страшная, в больнице развилась столь активная деятельность по моей поимке, что я, съежившись, каждую секунду ожидал, что меня обнаружат. Случись это, меня, несомненно, подвергли бы экзекуции и, возможно, отправили на принудительные работы, но – о чудо! – никому не пришло в голову искать меня в куче слежалого затхлого белья, которое и в самом деле так воняло плесенью, что дух захватывало.
Постепенно суета сошла на нет и вокруг все стихло. Наверное, ответственные лица нашли другое решение вопроса, и от этого решения зависела, по сути, моя судьба. Они могли, разумеется, сообщить о моем бегстве в милицию, рискуя навлечь на себя гнев вышестоящих и обвинение в разгильдяйстве, но нельзя было исключать и той возможности, что они просто вычеркнули меня из списков пациентов и уничтожили документы, дабы не оставлять следов своей нерадивости. Я не знал, насколько важна была для них моя персона, как серьезно контролировалась здешняя документация и, что важнее, требовала ли спесивая Алеянц расправы надо мной. Почему Полина Владимировна не велела привести меня к себе, как обещала, и с какой стати дотошная и обязательная Герасимовна отлучилась при выносе трупа, дав мне тем самым возможность бежать? Вопросов было много, и ответы на них я вряд ли мог найти, сидя в набитой грязным бельем душной нише. Надо было выбираться.
Отодвинув полог, я еще некоторое время стоял, прислушиваясь, внутри своего убежища, при малейшем стороннем шорохе готовый юркнуть обратно. Однако тишина была такой, что у меня мелькнула мысль, не засада ли это? Но к чему им устраивать на меня засаду, если можно просто перерыть всю больницу и поставить все с ног на голову? Нет, скорее уж, мои преследователи поверили, что мне удалось покинуть лечебницу и скрыться. А это значит, что, если погоня и имеет место, то не внутри здания.
Приободрившись, я выбрался из ниши, пересек холл и уже через несколько секунд был на крыльце. Опасаясь выходить на середину двора, я прошел по бровке под самыми окнами, затем вдоль покосившегося забора и, прячась за сложенной прилежным дедом высокой поленницей, достиг ворот. Не потревожив завязанных веревкой жердевых створок, я скользнул в калитку и, обогнув угол больничной ограды, оказался на городской улице. Непосредственной за собой погони я не заметил, что, впрочем, было и не удивительно – стоял поздний вечер и вряд ли кто-то из работников лечебницы наблюдал из окна мои маневры.
Чем дальше я удалялся от отвратительного учреждения, тем увереннее себя чувствовал и тем спокойнее становилось у меня на душе. Несколько раз свернув, я шел теперь по обочине размытой дождем грунтовой дороги, проваливаясь время от времени в мягкую густую грязь, которой не замечал в сгустившейся темноте, и был почти счастлив. Задники моей обуви сослужили мне большую службу, и лишь один раз я чуть было не лишился одной из тапок, наступив в особенно глубокую рытвину, оставленную, должно быть, колесом телеги и засосавшую мою ногу едва ли не по колено. Выбравшись, я весело ругнулся и пошел дальше. Ни ночь, ни грязь, ни крепнущая прохлада не могли принести такого урона моему физическому и ментальному состоянию, как унылая больничная клетка, служащая одновременно покойницкой, и свирепые рожи товарища Пузанова и его сослуживцев, выместивших на мне свою «здоровую пролетарскую злость». Даже та мысль, что мне негде ночевать и нечем поддерживать силы, показалась мне не стоящей огорчения – ведь я на свободе и, несомненно, что-нибудь придумаю.
Окружающий меня город, который ко времени моего рождения станет довольно большим областным центром, насчитывал сейчас, должно быть, не более двух-трех десятков тысяч жителей, что объясняло наличие на всю округу лишь одной психиатрической лечебницы, да и то небольшой. Сейчас им здесь не до того – расширение будущего ГУЛага требует куда большего внимания властей и общественности!
Я совершенно не представлял себе, куда иду и что собираюсь делать, дорога просто вела меня меж засыпающих домов, а тонущие во мраке улицы никаких ассоциаций у меня не вызывали. Да и с чего бы? Бывать в этом городе мне случится лишь через пятьдесят с лишним лет, когда ни камня, ни доски от стоящих здесь сегодня ветхих лачуг не останется. Можно было, конечно, постучать в двери какого-нибудь дома и, словно в детской сказке про солдата, попросить каши из топора, но я воздержался от этого порыва, вспомнив также сказку про пряничную избушку и обитающую в ней злую колдунью. Случись в этом доме кто-то непредвиденный, и страх вновь оказаться в проклятой клетке станет реальностью.
Но что же тогда делать? Есть ли разумное решение? По мере того, как эйфория от удавшегося побега ослабевала, этот вопрос звучал в моей голове все отчетливей. Я, конечно, герой, потому что так удачно и смело обманул охрану в виде престарелой зазевавшейся Герасимовны и смог избежать очередной лекции по уринотерапии (вполне возможно, что и с курсом практического применения), но многого ли я достиг? Что даст мне эта свобода – от клетки, но не от коварства чужой реальности?
Между тем, становилось все прохладнее. Короткое сибирское лето явно сдавало свои позиции, и в воздухе, все еще теплом, уже чувствовалось холодное дыхание стучащейся в двери осени. Деревья уже покрыли землю отжившими свое листьями, слипшимися и скользкими после дождя, и зябли, оголенные. Налетевший вдруг порыв стонущего осеннего ветра напал на их оголенные верхушки, потрепал их, как уличную девку, и бросил внезапно. Я поежился. В моем старом, одолженном у покойника наряде я был безоружен перед стихией. Дождь, ветер, цунами или что угодно прочее могло беспрепятственно разорвать на мне единственное «наследство» умершего вчера человека – я был не в состоянии сопротивляться. Быть может, именно поэтому непогода не особо-то и усердствовала. Дождь не пошел, а ветер, пошалив в верхушках деревьев, куда-то умчался.
В кармане тужурки я нащупал кисет с махоркой, который сам переложил туда еще в палате вместе со спичками и обрывком газеты, прежде чем отбросить в сторону бесполезный, как мне показалось, грязный полотняный мешок. Не знаю, зачем я это сделал, наверное, машинально, так как я не курю и тяги ко всякому старью не испытываю. Но сейчас, не на шутку разнервничавшись, я решил-таки присесть где-нибудь и свернуть себе самокрутку, просто для того, чтобы занять чем-то руки и отвлечься от тяжелых мыслей.
Примостившись на краешек лежащего чуть в стороне от дороги пропитанного водой бревна и почувствовав, как влага в ту же секунда намочила мне причинное место, я пожалел о той поспешности, с которой избавился от того мешка, – сейчас он бы мне пригодился. Тишина стояла такая, что в пору было вообще усомниться в том, что вокруг живут люди. Однако люди эти, в отличие от меня, сидят дома, в тепле и относительной сытости, а не рыскают в украденных в психбольнице тапках по ночному городу, а уж тем более – чужой эпохе.
Неумелыми пальцами я начал скручивать себе папиросу. Первый оторванный мною кусок газеты оказался слишком мал, второй – чересчур неровен, а третий я и вовсе отшвырнул в сердцах после того, как упавшая откуда-то капля влаги промочила его и сделала непригодным. С четвертой попытки мне удалось-таки соорудить некое подобии «козьей ножки», просыпав немало табаку на землю и припомнив множество непечатных слов. Затем я наглотался табачных крупинок, пробуя залихватски закусить хлипкий мундштук, и достал из коробка толстую спичку, которая зажглась раза с четырнадцатого. Прикуривая от синего дрожащего пламени, я при его свете заметил какую-то надпись не то карандашом, не то чернилами на оборотной стороне спичечной коробки, но прочесть ее не успел и вынужден был зажечь вторую спичку, чтобы сделать это. Почерк был трудночитаемым, и мне пришлось пожертвовать еще одной палочкой из коробка, чтобы разобрать написанное до конца. Никакой полезной для меня информации два слова и цифра, стоящие на коробке, на первый взгляд не несли, да и вообще смысла не имели.
«Красных партизан 6»
Почему их шесть и чем они так заинтересовали бывшего владельца спичек? Может, он был противником Советской Власти и эти шестеро являлись его заданием по уничтожению? Бред. Мог бы и так запомнить…
Впрочем, через секунду мои спутанные за последние дни мысли потекли в верное русло, и сразу стало понятно, что «Красных Партизан 6» – это адрес. Да-да, прекрасное улицево имя, характерное для этого времени, и номер дома. Видимо, именно туда шел мертвый ныне страдалец, когда был схвачен и помещен в лечебницу. Или, напротив, должен был опасаться кого-то или чего-то, находящегося по этому адресу. Например, стукача, или сотрудника «органов», или еще кого, не менее мерзкого. Мне почему-то не верилось, что этот человек, заточенный, как и я, властями в сумасшедший дом, был отрицательным персонажем истории. Наверняка он был жертвой. Или же, в виде исключения, и вправду больным…
Как бы там ни было, мне это ничего не давало.
При всей моей осторожности табаку у меня набилось полный рот, а вонючий крепкий дым самосада вызвал тошноту. С отвращением я втоптал тапкой в грязь обмусоленную «козью ногу», не скуренную и наполовину, и поднялся с бревна, чуть чавкнувшего при этом. Со звуком смачного поцелуя отлепив мокрые штаны от ягодиц, я побрел дальше. Свет, льющийся из редких горевших еще окон, был таким тусклым, что приходилось сомневаться в том, что лампочка Ильича имеется здесь в каждом доме. Скорее уж, большинство хозяйств все еще пользовались старыми проверенными керосинками, если не вовсе свечами. А что, разве и керосину достать можно? Ну, процветание, да и только!
В этот момент у меня, как в детективном романе, возникло стойкое ощущение, что за мной кто-то наблюдает. Этот кто-то, как лиса, крался следом и был достаточно ловок, чтобы оставаться незамеченным. Он шел за мной от самой лечебницы, видел мою радость по поводу удавшегося побега и терпеливо ждал неподалеку, пока я курил и рассматривал спичечный коробок. Он не отставал, не забегал вперед и не атаковал, он просто следил за мной и моими действиями.
Я внезапно остановился. То, что шло за мною, чавкнуло грязью и тоже замерло. Я затаил дыхание и прислушался. Оно тоже не дышало. Я снова двинулся, сделав вид, что останавливался просто так, перевести дух да осмотреться. Важно было не дать понять моему преследователю, что я его обнаружил, иначе он может предпринять что-нибудь совсем уж непредсказуемое, например – наброситься на меня или просто выстрелить. Эх, иметь бы мне сейчас какой-нибудь автомат, пусть и плохонький, я уж попробовал бы вывести это существо из равновесия! А так мне оставалось только молча идти вперед да мучиться догадками касательно идущего за мной человека или зверя.
«Хорошо, если всего лишь человека или зверя, а то ведь это может оказаться и кто похуже…» – противно мелькнуло в мозгу.
Бежать смысла не имело – у моего преследователя – кем бы он ни был экипировка наверняка посолиднее моей и он не отстанет. Нужно было как-то изворачиваться. Плохо было то, что я не имел абсолютно никакого представления о его природе, а соответственно не мог и знать, что было бы наиболее действенно – скорость, сила или хитрость. По здравому размышлению, я избрал третий вариант, ибо должную скорость мне было не развить в расползающихся по швам больничных тапках, а сила, как правило, всегда на стороне преследователя, а иначе какой смысл преследовать кого-то, если рискуешь просто-напросто получить по башке?
К особо хитрым я себя, правда, также не относил, но можно было попробовать, по крайней мере, спрятаться или затаиться. Тот, кто идет следом, думает, что я не догадываюсь о его присутствии, и вряд ли захочет обнаружить себя, зажигая огонь. Да и к моему возможному кульбиту он, по той же причине, наверняка не подготовлен.
Пройдя еще несколько шагов я, сгруппировавшись и чувствуя ногу, прыгнул с дороги направо, аккурат за одно из растущих на обочине развесистых деревьев, и скатился на несколько метров вниз по склону обнаружившегося здесь весьма кстати небольшого оврага. Замерев под каким-то кустом, невидимым, как я надеялся, с дороги, я уткнулся в ворох мокрых листьев, пряча участившееся дыхание, и напряг слух.
Прошла минута, две… Ничего. Ни шороха, ни чавканья грязи, ни звука шагов. Одно из двух: или мой преследователь так же замер и ждет моих действий, или же я и впрямь перевозбудился от всех моих злоключений и он мне пригрезился. Последнее было бы мне, признаюсь, милее, так как даже галлюцинацию я предпочел бы противному сосущему страху – страху жертвы перед охотником. Как будто мало мне было того обстоятельства, что я здесь один-одинешенек, без крыши над головой, без легального источника питания и каких-либо шансов вернуться домой! Я влез в эту авантюру в надежде победить, но теперь не мог даже утереться и, признав поражение, убраться восвояси, так как ловушка захлопнулась. Пружина примитивной мышеловки уже пришла в движение, и осталось не так уж долго ждать, когда железная скоба перешибет мне хребет. Шансов на то, что все мои горести окажутся сметаной, из которой я при должном усердии смогу сбить масло и выбраться наружу, не было.
Время шло, но ничего не менялось, никаких признаков преследования я обнаружить не мог. К тому же, с неба упали первые капли дождя и, если я буду продолжать лежать здесь, то рискую попасть в страшную непогоду. Гром, зарокотавший сначала где-то вдалеке, повторил свой рык значительно ближе, и я понял, что гроза не пройдет стороной. Несмотря на то, что одежда моя и без того была мокрой от листьев, перспектива угодить под хлесткие плети холодного ливня меня не восторгала.
Я решил-таки подняться и, забыв про явно почудившуюся мне слежку, поискать на время грозы более подходящее мне убежище. Но тут провидение пришло мне на помощь и уберегло от этого шага: купол ночного неба прорезал зигзаг молнии, и на склон оврага легла на долю секунды огромная тень человеческой фигуры, замершей на дороге.
Оп-па! Благодаря молнии я воочию убедился, что мой преследователь не только реально существовал, но и не отступился от своей цели. Потеряв меня из виду, он просто терпеливо ждал, пока я выдам себя, чтобы продолжить слежку или даже напасть. Но кто это, черт возьми, такой и что ему надо? Вряд ли милиционер – тот арестовал бы меня, как только увидел, и все дела. Работник клиники? Но почему бы им просто не сообщить куда следует о моем побеге, вместо того, чтобы играть в прятки? Нет, пожалуй, к покинутой мною психбольнице это тоже не имеет отношения. К тому же, вопрос этот был сейчас второстепенным. Гораздо важнее для меня было определиться с моими дальнейшими действиями. Как обмануть затаившуюся под деревом фигуру и избавиться от преследования? Куда податься? А может, попробовать взять этого следопыта в плен и допросить?
Тоже не выход.
Небо вновь разорвали гром и молния, и сразу хлынул ливень. Я моментально промок насквозь. Тяжелые капли бомбардировали землю и все, что на ней находится, то есть и меня тоже. Свирепый ветер, вернувшийся из кратковременной отлучки, с новой силой напал на деревья, словно на личного врага. Стало еще холоднее, однако сейчас я смотрел на непогоду иначе. Если еще несколько минут назад гроза ассоциировалась у меня с неприятностью, то теперь я видел в ней возможное спасение. В такой неразберихе невозможно было уследить за кем-либо, а потому у меня появлялся шанс.
Я начал медленно отползать назад, в реве и грохоте бушевавшей стихии не заботясь о том, чтобы делать это тихо. Встать на ноги я, однако, не решился, потому что тогда он мог бы заметить меня в свете очередной вспышки молнии. Оглянувшись, я увидел несколько стоящих в ряд бараков, притулившихся между большими кучами не то мусора, не то строительных материалов. Когда-то их снесут и построят на этом месте комплекс невзрачных хрущовок, в одной из которых будет проживать моя тетка. Путем сопоставлений я узнал-таки эту местность и смог примерно представить себе возможные пути отхода: на запад идти бесполезно – там я упрусь в реку, из которой лет через тридцать отведут и пустят через город дренажную канаву; на восток – также мало смысла, там пустырь и негде укрыться… На дороге же меня ждал неизвестный. Оставалось одно – обогнуть бараки и держать влево, где, по моим представлениям, должны находиться основные городские кварталы, в которых я рассчитывал затеряться.
Я отползал все дальше, немало не заботясь о состоянии моей, вернее, покойницкой, одежды, которую я нещадно разрывал о невидимые сучья и камни. Ливень, хвала Создателю, утихать и не думал, и у меня еще было время.
Достигнув покореженного заплота, сооруженного из чего попало, начиная с жердей и заканчивая винными ящиками, я пополз вдоль него, пока не добрался до угла. Повернув, я смог наконец-то сесть и отдышаться. Недостаток тренировки сказывался, и такое довольно пустячное задание, как преодоление ползком нескольких десятков метров, потребовало от меня огромных физических усилий.
Оглядевшись, я понял, что нахожусь непосредственно во дворе одного из бараков, отделенном от другого такого же лишь узким проходом, весьма мало напоминающим переулок. Неподалеку от меня я заметил здоровенную бочку, должно быть, с водой для поливки маленького огорода, который угадывался справа от нее по все еще торчащим из земли стержням от помидорных кустов. Собачьей будки я не заметил, и это обстоятельство очень меня порадовало, ибо лающий, рычащий и беснующийся чей-то проклятый питомец привлек бы, несомненно, внимание не только своего хозяина, но и моего ненавистного преследователя.
Не собираясь долго здесь задерживаться я, полагаясь на довольно приличное сейчас расстояние до дороги и защиту заплота, поднялся на ноги и быстрым шагом устремился в проход между бараками. Чем быстрей я достигну основных кварталов города, тем надежней оторвусь от «хвоста».
В одном из окон, мимо которых я проходил, все еще горел свет. Я не знал точного времени, но, по моим расчетам, было уже довольно поздно и те незамысловато скроенные люди, что должны были населять эти бараки, давно уже спали. Но этот человек – не спал. Через мутное закопченное стекло я мог видеть его силуэт, неторопливо движущийся туда-сюда, словно при зубрежке лекции, и слышать слабый звон не то посуды, не то железа. А поскольку вероятность того, что это – фитнесс-клуб, была крайне небольшой, я заинтересовался происходящим в бараке и на секунду остановился. Тогда и произошло первое невероятное совпадение, о череде которых я говорил выше. Вновь сверкнувшая молния выхватила из темноты кусок висящей над окном фанеры с надписью краской и привлекла к ней мое внимание. Несмотря на небольшую высоту барака, прочесть написанное в ненастной темноте было невозможно, и мне пришлось терпеливо ждать следующей вспышки. Зато тогда я смог без труда различить поразившее меня сочетание букв, которое мне сегодня уже приходилось видеть: «ул. Красных Партизан, 6».
Глава 17 Дед Архип
Я с трудом разлепил глаза и посмотрел на согнувшегося над небольшой поленницей у печки деда Архипа. Дед кряхтел и одной рукой держался за спину, словно от боли. Но я-то знал, что никакой боли у него нет, да и кажущаяся его дряхлость – обманчива. Архип был здоров, как буйвол, а в смекалке и рассудительности мог дать сто очков вперед любому молодцу. Сейчас он подбросит дров в почти потухший огонь, и новое тепло разольется дурманящими волнами по горнице.
Вот уже четвертый день я нахожусь на попечении деда Архипа и полном его иждивении, с того самого момента, как, побуждаемый каким-то внутренним чувством, постучал в его слабо светящееся окно под фанерной табличкой со странным адресом. Впрочем, в самом адресе ничего странного не было, города этой страны полны улицами имени Диктатуры пролетариата, Семьдесят восьмой добровольческой бригады, Двадцати шести бакинских комиссаров да всяких там зой, олегов и павликов. Так что улица Красных партизан была еще очень даже ничего, но то, что адрес деда Архипа был нацарапан карандашом на коробке спичек моего покойного соседа по палате, придавало загадочности и соседу, и улице, и самому деду, суетящемуся сейчас у печки.
Я постучал тогда просто так, поддавшись секундному порыву и ни на что не рассчитывая, но Архип словно ждал меня. Первые секунды он, правда, смотрел на меня с удивлением и настороженностью, но затем, едва взглянув на протянутую ему мною спичечную коробку, молча кивнул и жестом пригласил войти внутрь барака. Мне почему-то показалось, что он узнал почерк – густые брови его удивленно изогнулись, а в усталых глазах мелькнуло что-то похожее на радость.
Последующий разговор я помню очень смутно, так как, попав в тепло после холодного, уже осеннего, ливня размяк и разомлел, да так, что, не проводи меня дед живо до лавки, наверняка упал бы. Голова кружилась, а зубы принялись неистово стучать, едва не отбивая друг с дружки эмаль.
«Откуда у тебя этот адрес? Как ты нашел меня? – спросил тогда Архип, заглядывая мне в глаза и словно все еще чего-то опасаясь. – Где Кирилл?»
«Н-не знаю я никакого Кирилла. Наверно, это тот человек, который умер в больнице? – ответил я через силу и то только потому, что опасался быть вышвырнутым за дверь. – А дом… Я случайно наткнулся. Можете не верить…»
«Ну-ну»
И на этом странном «ну-ну» наш разговор в тот день прекратился. Дед велел мне стянуть мокрую одежду и отдать ему для просушки, подбросил в печку дров и выдал мне суконные штаны и широкую деревенскую рубаху. Пока я, с трудом попадая в рукава и все еще дрожа всем телом, одевался, по комнате распространился дурманящий запах топленого молока, которого и дал мне выпить из железной мятой кружки хозяин. Голодный, я почти залпом проглотил обжигающее молоко и расхрустел большой черный сухарь, так что, когда чуть позже Архип предложил мне отведать свежесваренной картошки в мундире, я уже не был таким обессиленным. Одолев пару картошин, я завалился на лавку, которую хозяин барака предварительно покрыл каким-то тряпьем и даже большим, замысловато простроченным вдоль и поперек одеялом, и, внезапно почувствовав резь в глазах и легкую тошноту, попробовал уснуть. Наступившее состояние полусна-полубодрствования не было здоровым, и я помню, как дед несколько раз подходил ко мне, протирал мои лоб, губы и шею влажной тканью и поправлял сваливающееся на пол одеяло.
Так я пролежал три дня. Как оказалось, ни тепло барака, ни горячее молоко с сухарем, ни ароматная картошка не смогли защитить меня от злейшей простуды, схваченной мною под дождем и в итоге свалившей меня с ног. Промозглый ливень, дав мне возможность уйти от слежки, предъявил счет за свою помощь, и я, желая того или нет, этот счет оплатил. Лихорадка бушевала во мне, как никогда раньше, и лишь общее помрачение сознания с бредовыми кошмарами и лишенными смысла выкриками позволили мне не испугаться всерьез смерти, которая все это время стояла, словно почетный караул, в изголовье моего неказистого ложа.
В конце третьих суток лихорадка, вдоволь накуражившись, отпустила. Мое стеганое одеяло в одночасье пропиталось потом, температура спала, и я смог, наконец, взглянуть на окружающее осмысленно. Едва заметная улыбка пробежала через заросшее густой бородой лицо деда, и было видно, что он доволен результатом своего лекарства. Кстати сказать, мое собственное лицо мало чем отличалось от его, так как я ни разу не брился с того момента, когда переступил порог квартиры супругов Алеянц пять дней назад. Мало того, я не представлял себе, как буду обходиться дальше, потому что мои бритвенные принадлежности остались в спортивной сумке, владелицей которой теперь стала незабвенная мадам, вернее, товарищ Алеянц. Чертова бестия! Кабы не она, так и не было бы всего этого! Вечно страдать приходится из-за бабьей дурости.
Посмотрев на себя в осколок зеркала, прикрепленный над рукомойником, я ужаснулся. Щеки впали, глаза провалились, и в них застыли какое-то дикое отчаяние и бессильная решимость. Куда девалась моя румяная холеная рожа, какой она была еще несколько дней назад? Где те азарт и довольство жизнью, что были на ней выбиты, словно письмена на пилонах древнеегипетских храмов? Где сытость, граничащая с пресыщенностью? Все ушло. Все исчезло перед лицом отчаяния и постигших меня передряг, и вряд ли когда-нибудь появится снова.
Все это время дед наблюдал за мной и, должно быть, от него не укрылась вся гамма эмоций и переживаний, испытанных мною за эти несколько мгновений. Он смотрел на меня понимающе и серьезно, без тени иронии или издевки на лице, да и с чего бы вдруг? Он помог мне, быть может, спас меня от смерти, и, вероятно, не для того, чтобы потом всласть поиздеваться.
Тогда и произошел наш с ним первый настоящий разговор, знакомство, если хотите. Он вскипятил чайник, насыпал в две железные кружки пыльной мелкой заварки и, залив ее кипятком, жестом предложил мне сесть. Я послушался и примостился на краешке скамьи, служившей мне кроватью. Человеком он был гостеприимным, и уважение – самое малое, а сейчас еще и единственное, чем я мог отплатить ему за его доброту. Говорил дед медленно, с расстановкой, словно обдумывая каждое слово, хотя безупречной речь его назвать было нельзя. Он словно бы смаковал свои короткие, незамысловатые фразы, однако за всей этой его неторопливостью от меня не укрылось и нетерпение.
– Я – Архип, если помнишь. Да нет, впрочем, откуда там… Ты ведь так метался в горячке, что наверняка и свое-то имя забыл. Меня величал профессором и все просил, чтобы я тебя домой забрал. Ты что, у профессора жил?
Такая постановка вопроса заставила меня натужно улыбнуться, хотя одновременно с умилением кажущейся конкретностью старческого мышления во мне колыхнулась и настороженность: не наболтал ли чего лишнего в бреду? Если уж Райхеля упоминал, то мог и остальное озвучить. Нехорошо.
– Да нет, дед Архип, не живу я ни у профессора, ни у доцента, просто имел недавно случай пообщаться с одним… Вот, наверно, под впечатлением и разговорился.
Голос мой звучал после болезни хрипло и неузнаваемо. Я поперхнулся словами и закашлялся. Дед закивал большой, облаченной в седую лохматую бороду, головой.
– А, ну-ну… Как тебя называть-то, скажешь?
– А разве я не сказал?
– Да нет пока, как видишь. Иначе я бы, пожалуй, не спросил.
В глазах деда мелькнул лукавый огонек, но голос и выражение лица сохранили серьезность.
– Да Галактионом звать меня, дед Архип. Имя-то, как видишь, не ахти, так что и в бреду представляться не захочешь.
– Чего так? Имя как имя, по-моему. Не хуже других. Правда, и не лучше. Ты это, как его… Не закашляешься, ежели закурю? В тепле охота, промозгло на улице, – испросил дед извиняющимся тоном разрешения, словно это не я, а он находился у меня в гостях и был обязан мне исцелением.
Я машинально повернулся и посмотрел в окно за моей спиной, но вышло так, будто я и в самом деле оцениваю, достаточно ли на улице холодно, чтобы позволить деду закурить в его собственной горнице. Дед заметил это, и мне стало так неловко, что я поторопился ответить:
– Да чего ты спрашиваешь, в самом деле? Ты ведь у себя дома!
Архип, видимо, другого ответа и не ожидал, потому что уже набивал кривую коричневую трубку, старательно прижимая пальцем каждую вложенную в нее щепотку табаку.
– Ты-то не это…не дымишь?
– Не… не дымлю.
– То-то я смотрю, ты оборванный какой-то. Ну да ладно, время сейчас такое, чтоб его…
Я, признаться, на понял связи между пристрастием к табаку и презентабельностью внешнего вида, но переспрашивать и уточнять не стал. Старики, они по своему рассуждают.
Архип приоткрыл дверцу печи, впустив в комнату порцию свежего жара, вынул оттуда гнутыми длинными щипцами уголек и, раскурив с его помощью свою трубку, выпустил в потолок целое облако дыма.
– А ты это, малец, как его… Почему сказал, что Кирилл умер?
Опять он с этим Кириллом!
– Понимаешь, дед Архип, я ведь и в самом деле понятия не имею, кто такой Кирилл и почему он тебя интересует. Поверь уж – если бы я знал, сказал бы тебе.
– Но он дал тебе эту спичечную коробку, на которой сам написал мой адрес! Или это не он дал тебе ее?
Я вздохнул. Как мне хотелось сейчас быть знакомым с этим таинственным Кириллом и иметь возможность поведать о нем деду! Судя по всему, эта личность представляла для обогревшего меня человека какую-то особенную ценность, и мне было жаль его разочаровывать.
– Коробка со спичками, также как кисет с махоркой и лохмотья, что были на мне, принадлежат неизвестному мне человеку, с которым я не имел счастья даже поговорить, потому что он был уже мертв, когда меня запихнули в его палату. Был ли это твой знакомый, я не знаю, но сбежать из этой берлоги, где лечат мочой и держат в клетке, мне удалось именно в тот момент, когда его понесли в труповозку. Про холщовый мешок, принадлежащий трупу, они забыли и оставили его в палате. Спросить разрешения мне было не у кого, и я воспользовался имуществом мертвеца без спроса. Быть может, это и воровство, но…
Тут я заметил, что Архип больше не слушает меня, а смотрит невидящим взглядом в одну какую-то точку на полу, бормоча:
– Кирилл… Ну надо же, не дошел… Совсем немного не дошел, всего-то пары верст не хватило. Как это его угораздило подставиться им?..
Дед принялся раскачиваться из стороны в сторону, словно маятник, и видно было, как по посеревшему его лицу пробегали волны невеселых мыслей. Я не знал, как отвлечь его от них и что мне сейчас следует думать. Не считает ли дед, чего доброго, меня виновным в том, что так и не довелось встретиться с приятелем?
– Дед Архип, ты это, послушай… Может, еще и не Кирилл твой это был, может, другой кто? Мало ли, когда и зачем он подписал эти спички!
Хозяин лачуги поднял голову и взглянул на меня сквозь прищуренные веки, на секунду поверив в мой вариант событий.
– Опиши мне его. Подробно!
– Да я, дед Архип, и видел-то всего, что худое, скрюченное на кровати мертвое тело. Ногти длинные, желтые, да трусы… Не знаю даже, что и сказать-то тебе. Ах, да, совсем забыл! Знак был у него на руке, вот здесь, – я встал и, подняв левую руку, обвел пальцем кружок на том месте, на котором покойник носил свое клеймо. – Два ромба с линиями, не то выжженные, не то вырезанные. Может, секта какая или…
Услышав про знак, дед Архип с отчаянием махнул рукой и не стал слушать дальше, отвернулся со словами «Это Кирилл. Угодил-таки к ним в лапы!»
В чьи именно лапы угодил неудачливый Кирилл, старик мне не поведал. Расстройство и подавленность его, казалось, не знали границ, и мне было пронзительно жаль этого человека.
В тот день мы с ним больше не разговаривали, а если и перебросились парой слов, то лишь касательно нашего простецкого быта. Дед снова сварил картошки, не позволив мне почистить ее, как я было порывался, и, уйдя куда-то ненадолго, принес крынку еще теплого коровьего молока, которое пришлось очень кстати. Жил он небогато, но не голодал, а две полки с книгами на свежевыбеленной стене намекали на то, что Архип, возможно, знавал и другие времена, добарачные. Взгляд его из-под сросшихся густых бровей был неизменно проницательным, а движения точны и выверены, словно всю жизнь он только тем и занимался, что поддерживал чистоту в своем отсеке барака да выхаживал заблудших болезных.
Мне было неловко оттого, что деду приходится хлопотать и суетиться вокруг меня, и я пытался даже протестовать, но это ничего не дало, так как сил у меня почти не было, и я снова и снова проваливался в зыбкую тревожную полудрему, вызванную отступившей, но не ушедшей совсем болезнью. В ответ на мои протесты Архип лишь улыбался себе в бороду и ничего не говорил. Восторга по поводу моего здесь пребывания он не выражал, но и брюзжать, по видимому, не собирался, относясь ко мне с философским спокойствием. Уйти я пока не мог, и был ему за эту философию благодарен.
В окно я видел, как он колол дрова, захватывая при этом из лежащей у забора кучи чурок такие экземпляры, что не под силу были бы и молодому удальцу, а топором махал час напролет, словно это был не тяжелый громоздкий колун, а детская картонная сабля. Порой казалось, что сама колода не выдержит этих ударов и развалится. Затем, широко разметав руки, он захватил огромную охапку дров и, с трудом протиснувшись в двери, внес ее в комнату и бросил у печки, не проявляя и признаков одышки. Чего-чего, а здоровья Архипу было не занимать.
Итак, шел четвертый день моего злоупотребления его гостеприимством. Я чувствовал себя почти здоровым, во всяком случае, настолько, чтобы подняться и предложить деду свою помощь. Суставы мои еще немного ныли, но боль ушла и голова не кружилась, а сознание было ясным и готовым встретить новые передряги, которые непременно последуют, в чем я не сомневался.
Окончательно продрав глаза, я встал и пошел к умывальнику, где с наслаждением «обжег» руки и лицо холодной, недавно принесенной Архипом из колодца, водой. Дед по-прежнему возился у печки, словно не замечая меня, но я-то знал, что хитрый старик фиксирует каждое мое движение, все еще сомневаясь в моем полном выздоровлении. Он мурлыкал что-то себе под нос, и лишь минуты через две, водрузив на плиту тяжелый, начищенный до блеска, чайник, повернулся.
– Ну вот, ну вот… Славно, – дед словно сошел со страниц лесковских рассказов. – Не такой теперь уж бледный, как давеча. Кости-то не ломит?
– Нет, дед Архип, не ломит, – улыбнулся я его отеческой заботе. – Все прошло, кажись, можно и в путь.
– Прямо уж и в путь?! Ты бы это, парнишка, поосторожничал бы пока, всяко бывает – вроде и ушла хворь, да вернуться может. А куда пойдешь-то? К профессору своему, али еще кто ждет тебя с надеждой?
– Не издевайся, дед. Никто меня не ждет, сам знаешь, а уж профессор тем более. Он-то меня и втянул во все это, будь он неладен!
Так уж устроен человек, что любую свою глупую выходку, любую неудачу и наказание за собственную дурость готов поставить в вину кому-то другому. Именно он, этот другой, является причиной наших неудачных браков, нашего проигрыша в лотерею и увольнения с работы. Именно на нем неизменно лежит вина за потерянные ключи, осенний насморк и неурожай помидоров в нашем огороде. За смерть нашего приятеля-наркомана, за бесстыдное поведение нашей гулящей жены и за двойки наших бестолковых отпрысков ответственен тоже он, этот отвратительный, склочный, завистливый и порочный другой! Такие уж мы, люди, и я не исключение. Разумеется, мне нужен был крайний, повинный во всех моих злоключениях козел отпущения, и лучшей кандидатуры, чем профессор Райхель – человек, согласившийся мне помочь и поддержать меня советом, мне в голову не пришло. Конечно, и чванливая невротичка Алеянц, и тупой мужлан Пузанов, и фанатка уринотерапии Полина Владимировна – свиньи и виноваты, но больше всех виновен все же профессор оккультизма, решивший сделать из меня подопытного кролика и убедивший меня в необходимости этой дикой авантюры.
То ли все сказанное отразилось на моем лице, то ли дед Архип и сам был хорошо знаком с этим человеческим качеством и знал все наперед, но мое нападение на неизвестного ему профессора он не поддержал и не стал побуждать меня махать кулаками. Напротив, лицо его приняло осуждающее выражение и он, не дав мне развить мысль, одернул:
– Погодь-ка малость! Не спеши. Начнем с того, что я ни сном ни духом не ведаю всей этой истории, да и, честно тебе сказать, не особо-то желаю ведать. В лохмотья-то Кирилловы тебя, поди, не профессор нарядил, и не он погнал тебя в грозу по чужому городу. Чего ты слонялся-то без цели?
Прежде чем ответить ставшему вдруг суровым Архипу, я сел на край лавки и собрался с мыслями.
– То есть как это – «без цели»? Я, дед, от преследования уходил, от погони. Тут уж, сам понимаешь, не до мелочей было.
– От преследования? – старик прищурился и посмотрел на меня, как мне показалось, с некоторой настороженностью. – Кто ж тебя преследовал? Не работники ли больницы, из которой ты сбежал?
– Может, и они. Не знаю я. Слышал лишь спиной, что идет за мной кто-то, а потом и увидел… Силуэт на дороге. Тень человеческую. Думал, конец мне, да тут дом твой, адрес…
Налив в кружки кипятку, Архип, как уже бывало раньше, протянул одну из них мне.
– Слушай, парнишка, а ты, случаем, не… Ты как попал в ту лечебницу?
Ну вот, дождался. А на что я, собственно, рассчитывал? Приперся ночью, оборванный, грязный, из психбольницы, да теперь еще и про преследование какое-то рассказываю. Тьфу ты, черт!
– Да нет, дед Архип, ты не подумай. Не больной я, просто обстоятельства так сложились. Неудачно. Плохо знаком я со здешней жизнью, вот и наломал дров. Знал бы, чем все это обернется, ни за что не поехал бы к профессору за советом! Это надо же – триста километров промчался, больше двух часов пути!
Переполненный огорчением, я махнул рукой и посмотрел в оконце. По двору, греясь в последних теплых солнечных лучах этого года, торжественно вышагивали туда-сюда две курицы, выискивая что-то клювом в лежащих тут и там клочках навоза. Скоро и им в суп…
Дед вскинул брови:
– Как так, триста верст за два часа? О чем это ты, малец?
Я понял, что попался. Надо было выкручиваться.
– Да нет, дед Архип, это я так, утрирую. Да дело-то, собственно, не в верстах, а в самом этом профессоре. Слишком уж большой авторитет у него, колдуна проклятого! Вот и я клюнул на байки про измерения да ашрамы всякие. А, дурь это все!
Едва сказав это, я увидел, что не только не успокоил хозяина барака, но, напротив, привел его своим коротким рассказом в чрезвычайное возбуждение. Он вскочил и уставился на меня так, словно я был только что выскочившим из бутылки джинном.
– Что ты сказал про измерения? Повтори!
Я растерялся.
– Д-да… Как это… Профессор этот, Райхель… в общем, состоял когда-то не то учеником, не то послушником в каком-то индийском ашраме – это что-то типа секты у индусов…
– Я знаю, типа чего это! Быстрее! – старик проявлял все большее нетерпение.
– Ну, и напрактиковался там, вроде, штуки разные вытворять, сквозь время ходить и всякое такое. Книгу написал про это…
– Какую книгу? Где? Когда вышла?
Я вконец смутился и ляпнул совсем уж необдуманно:
– Да в конце девяностых где-то, почем мне знать! Лет двадцать мне было, наверно, когда я об этом услышал.
Архип быстро сделал шаг и, нависнув надо мной, прошипел:
– Теперь, малец, скажи мне медленно и подумав – в конце девяностых какого века?
Я немного пришел в себя и мое терпение тут же лопнуло:
– А какого хрена тебе от меня надо? – процедил я с тем же ударением, что и он. – Чего ты взбеленился?
Мой тон произвел, казалось, отрезвляющее действие на настырного старца. Он отступил и, как-то обмякнув, тяжело опустился на скамейку. Посмотрев оттуда на меня исподлобья, Архип проговорил уже вполне миролюбиво и даже несколько виновато:
– Ты это, Галактион… сердца не держи на меня – один живу, одичал совсем. С людьми отвык разговаривать. Жду все, жду…
– Чего ждешь-то? – согласился я на примирение.
– Да жду, пока все соберутся… Домой хочу я, Галактион!
Глаза старика подернулись пленкой мечтательной тоски, что так схожа с ностальгией. Все его тело, казалось, подалось вперед, словно так он мог на миг очутиться там, куда так жаждал отправиться.
– А разве ты не дома, дед Архип?
– Дома? Не-ет, я не дома. Я, как и ты, на чужбине, парнишка. Не думаешь же ты, что я живу тут затворником, потому что мне это нравится? – он обвел комнату презрительным взглядом.
– Как и я? Ты хочешь сказать, что и ты угодил в чужое время?
– Я угодил в дерьмо, Галактион! Я не просто в чужом времени, но вообще черт знает где! Мне все это надоело и я хочу домой! Сколько дней ты здесь?
– У тебя? Четвертый…
– Не у меня. Здесь! Ты только что сказал, что находишься не в своем времени.
Как ни странно, факт моего перемещения во времени Архипа совсем не удивил. Его интересовали какие-то второстепенные вещи и это было удивительно. Он, определенно, знаком с этим феноменом или же помутился рассудком, как его умерший в психиатрической лечебнице приятель. В любом случае, мне больше незачем было скрывать правду.
– Всего, пожалуй, седьмой…
– Ну вот, видишь! Седьмой день, а уже с ума сходишь. А я – тридцать пятую осень встречаю в этом чертовом закоулке! Тридцать пятую, Га… Галактион!! Ты прав, у тебя отвратительное имя…
Он вцепился себе в волосы скрюченными пальцами и заходил туда-сюда по маленькой барачной комнате, напоминая льва в клетке зоопарка. Вот так совпадение, вот так встреча! Выходит, не я один оказался в такой ситуации. Вот и Архип… А может, я просто раньше не задумывался об этом? Может, нас тут битком, глупых страдальцев, занесенных невесть куда невесть откуда? Мы живем, общаемся друг с другом, но каждый боится открыть свою тайну? И каждый хочет домой?
Старик прекратил свое бессмысленное хождение и сел.
– Так, парень, давай теперь успокоимся. Расскажи мне все по порядку. Если я правильно понял, ты не можешь вернуться к себе?
Я кивнул, чувствуя, как комок подкатил к горлу, а Архип продолжил:
– Кто такой этот профессор из ашрама и что ему надо?
– А что, ты сможешь мне помочь?
– Может быть. Помимо того, этот человек может оказаться и мне крайне интересным. Может статься, что это…
Я вкратце рассказал взволнованному деду о моих передрягах и о профессоре Райхеле. В подробности я не вдавался, равно как оставил в стороне свои личные переживания, сосредоточившись лишь на самой необходимой, с моей точки зрения, информации. Так, я поведал ему о своих детских приключениях в квартире Альберта, но умолчал о судьбе моего друга, сказав, что обратиться за советом к знатному оккультисту меня сподвигло простое любопытство. Не стал я рассказывать и о постыдном эпизоде с женой номенклатурщика Алеянц, когда я чуть в штаны не наложил под дулом ее браунинга, зато уделил много внимания терапевтическим предпочтениям произведшей на меня неизгладимое впечатление Полины Владимировны. Мерзкое чувство, возникшее у меня во время преследования неизвестным я описал, быть может, даже излишне красочно, так как живы еще были во мне испытанные тогда эмоции.
Архип слушал меня, не перебивая, а когда я закончил, сказал лишь:
– Несомненно, это они. Не мытьем, так катаньем…, – и задумался.
Не дождавшись продолжения, я первым возобновил беседу:
– Слушай, дед Архип, а чего ж ты не отправишься на твою родину, если так хочешь?
Дед вздрогнул, выдернутый из раздумий, и, горько усмехнувшись, ответил просто:
– Дороги не знаю я, парнишка. Дороги…
– Как так?
– А вот так. Так же, как и ты. Тебе профессор твой открыл двери, мне – другой. И без него мне назад не попасть, ибо только он знает дорогу.
– Кто же он?
– Он-то? Штурман.
– Что за штурман?
– Странный ты, парнишка, ей Богу! Штурман – тот, кто знает дорогу. Все очень просто. Как в море: в бурю, шторм, ночью кто-то должен вести корабль. Штурман нужен. Навигатор. Без него – пустое, пропадешь лишь.
– И где этот твой штурман?
– А кто его знает, Штурмана-то. Где-то есть…
Тут глаза деда Архипа неприятно забегали, словно он сболтнул лишнего. Видимо, велико было его почтение перед этим неведомым Штурманом-навигатором, так велико, что он – суровый аскет, смешался и недостойно заюлил. Что ж, у каждого – свое божество.
– Ну, а чего ж он не ведет тебя домой? – продолжал я допытываться, невзирая на явную неохоту собеседника продолжать разговор.
Дед встряхнулся и, грозно взглянув на меня, отрезал:
– Потому что не все еще в сборе. Как соберемся, так и отправимся. И все, парень, кончай расспросы!
После чего встал и, накинув дерюгу, вышел из барака.
Прошло еще несколько дней. Погода стояла осенняя, переменчивая, то потчуя землю проливным дождем, то одаривая улыбкой все более холодеющего солнца. В окрестных огородах закончили сбор урожая: выбрали остатки картошки, выкопали лук, и даже единичные засохшие стручки гороха подобрали с междугрядий – не пропадать же добру! Прилежные хозяева еще раз собрали повылезшие из земли булыжники и аккуратно ссыпали их у заплота, нерадивые оставили в земле даже деревянные колья, к которым привязывали помидорные растения: к чему лишний труд, когда сезон окончен? К весне колья сгниют и придется искать новые, но кого это сейчас волнует? Уверены ли вы, что вообще доживете до весны в нынешнее время? Для работы на земле крестьянские руки нынче без надобности, они нужнее в лагерях да на рудниках. Молибден стране нужен, молибден! А вы тут про помидоры да картошку с хлебом…
Дед не велел мне покидать его владений, дабы по незнанию и злому року не влипнуть еще куда-нибудь, а потому единственное, чем мне приходилось довольствоваться, были несколько метров двора да обшарпанное крыльцо барака, на котором я в хорошую погоду просиживал теперь часами, жуя сухие травинки да лениво бросая щепки в двух чудом выживших кур, составлявших мне компанию. Их жалкие хвосты с редкими перьями наводили грусть, заставляя проводить параллели с нашей, человеческой, жизнью. Вот так и мы, когда-то гордые и разноцветно-распушенные, блекнем, не выдерживая схватки с неумолимым временем, и, растеряв большую часть перьев, а с ними и всю свою удаль, обреченно повисаем, готовые быть выщипанными до конца. Куда деется наш лоск, наши цветастые мысли и далеко идущие планы, как сужается круг наших потребностей и желаний! Приходит время и мы, когда-то стремившиеся осчастливить человечество, мечтаем лишь о том, чтобы просто еще немножко пожить, не так быстро сгинуть в пучине чужих страстей и блажи. Дырка в собственных портках интересует нас теперь куда больше, нежели брешь в броне мирового империализма, и нам, по сути, совершенно все равно, победит ли в мире доброта. Вот так-то.
Дед Архип, чтобы не сдохнуть, подрабатывал где-то не то сторожем, не то истопником, и порой не ночевал дома. Уходя, он сообщал мне об этом, и тогда я управлялся один. Понимая, что попросту паразитирую на хозяйской доброте и харчах, я старался хоть как-то компенсировать возникающие от меня убытки, поддерживая в чистоте нашу халупу и готовя незамысловатую еду. Впрочем, очень быстро я понял бессмысленность этих действий, поскольку дед, хоть ничего и не говорил мне, явно оставался недоволен результатами моих усилий и, по приходу, принимался за уборку самостоятельно. Не думаю, что качество моей работы было столь уж плохим, просто люди, особенно пожилые и одинокие, имеют собственные привычки и представления, настолько укоренившиеся, что любое вмешательство в дела своей маленькой империи рассматривают как чужеземное вторжение, в сути своей враждебное.
Разумеется, такое положение дел меня не устраивало, я вовсе не собирался трутнем сидеть на старческой Архиповой шее, пусть и столь крепкой, да и роль домохозяйки мне претила. У меня было чувство, что я живу в анабиозе, когда обмен веществ замедлен и подвижность равна нулю. Время протекало бесполезно, и мое растительное существование с каждым часом все более раздражало меня.
Разумеется, я мог просто уйти – никто меня не держал, – и, наверное, так бы и сделал, невзирая на опасности и неясность будущего, если бы не увещевания деда Архипа. Он растолковал мне, словно первокласснику, значимость терпения, а насчет угнетающей меня бездеятельности заметил, что «посидеть в засаде и присмотреться порой много полезней, чем махать шашкой, не зная ни красных, ни белых». Он, Архип, понял-де мою проблему и думает над тем, как ее разрешить, а без него шансы мои не стоят и хвоста той курицы со двора, которая все же вдруг исчезла, порадовав хозяев наваристым бульоном. Я вынужден был признать его правоту, но попросил лишь думать чуточку быстрее, так как положение мое, и в самом деле, было незавидным. Дед посмотрел на меня с укоризной и ничего не ответил, а мне вновь стало стыдно.
Иной раз мы беседовали с ним, сидя у пузатой печки и прихлебывая обжигающий чай из металлических кружек. Архип рассуждал большей частью пространно и философски, чем, наверное, старался избежать моих любопытных расспросов. Думаю, что он считал меня недостаточно образованным и зрелым для того, чтобы говорить со мною откровенно, хотя, быть может, он просто не имел права посвящать меня в детали своей странной жизни. Я сумел лишь понять, что он, молодым тогда еще человеком, с группой подельников прибыл из глубин непостижимого (которое он именовал Большой Спиралью) с какой-то исследовательской миссией, суть которой осталась мне неясна. По прибытии группа рассеялась, условившись держать контакт и, собравшись затем снова, отправиться восвояси. Их привел сюда некий штурман, фигура весьма загадочная даже для участников экспедиции, который должен был ждать, пока все вновь соберутся, и провести их известными лишь ему одному лабиринтами назад, на родину. Но что-то пошло не так: Архип и его товарищи столкнулись с чем-то или кем-то, представляющим не только помеху для выполнения задачи, но и откровенную опасность. Противостояние с этой силой затянулось, контакт с подельниками оборвался, и вместо запланированных двух лет Архип отсутствует дома уже тридцать пятую осень.
«Мы не можем уйти, пока вся группа не соберется или мы не будем уверены, что отсутствующие мертвы, таков закон. Нарушить его невозможно, и говорить на эту тему смысла не имеет» – говорил стареющий Архип, удрученно качая головой и глядя, по своему обыкновению, в одну точку. На мой вопрос, о каком количестве людей идет речь, он бросил горько: «Нас было восемь. Всего восемь, не гвардия! Но мы ведь не крошки на столе, ладошкой в кучку не соберешь. Один погиб еще в самый первый год. Они его спутали с… неважно, и убили. Про Кирилла – мы его так здесь прозвали – ты вот принес печальную весть. С другой стороны, его теперь тоже искать не надо. Ну, пятеро уже в сборе, живут рассеянно по округе, боятся и ждут. Остается еще одна заблудшая овца, о которой вообще ничего неизвестно. Может статься, что он давно уж сгнил в безвестной могиле, и тогда плохи наши дела, ибо без него мы вернуться не можем».
Вот и вся информация, похожая на сказку, которую мне удалось выудить у Архипа. Половину его рассказа я не понял, другой – не поверил. Не сбрендил ли старик от одиночества и не пустился ли по тропе бредовой фантазии? С другой стороны, кто поверил бы мне, вздумай я рассказать свою историю? Тогда уж мне точно не избежать бы долгих лет психиатрической больницы! Как бы там ни было, а самым правильным решением в моей ситуации было все же довериться деду Архипу и его знаниям, тем более что иного выхода у меня все равно не было.
Я так долго и тщательно пережевывал этот рассказ, что мне стала сниться эта восьмерка отважных людей, пустившихся в путь сквозь бури и «враждебные вихри» ради достижения какой-то неведомой, но, несомненно, высокой цели. В моих снах я видел их почему-то на парусном корабле, скорее всего бриге, исчезавшем и вновь появлявшемся в высоких черных волнах страшного моря, с суровыми мужественными лицами и несгибаемой волей, в просоленных моряцких куртках и высоких, до колен, сапогах. И во главе их, словно дядька Черномор, неизменно стоял таинственный Штурман, лица которого я не видел, ибо оно было скрыто от меня в глубинах капюшона огромного плаща и представляло собой черное пятно. Держащая штурвал рука Штурмана была худой и белой, словно у Смерти, и ею он уверенно вел свой бриг в неведомые дали.
Вероятно, дело тут было не в моей излишней впечатлительности, которой, надо сказать, я никогда не скрывал, но в однообразии моей жизни последних дней и ее бедности на события. Неудивительно, что я занимал себя по мере сил и что сны мои соответствовали моим мыслям, разносторонне их приукрашая. Так или нет, но одно цеплялось за другое и фигура загадочного Штурмана, о котором дед Архип распространялся столь неохотно, не шла у меня из головы.
Между тем, в моей жизни намечались изменения. Как-то утром, придя с очередной ночной смены, хозяин барака с порога поведал мне, что имеет кое-какие идеи относительно моих дальнейших действий.
– Послушай-ка, парень, я не могу сейчас придумать, как тебе по-настоящему помочь, и не хочу подавать ничем не подкрепленных надежд. Ясно одно – от такого безвылазного сидения взаперти ты скоро совсем зачахнешь и превратишься в мумию, бледную и неподвижную. Ты молодой, и дух твой, как и тело, требует простора и возможности если не действовать, то, по крайней мере, шевелиться. Вместе с тем, на улице тебе показываться нельзя, слишком много у тебя здесь появилось «знакомых», от милиции и работников психбольницы до твоего ночного преследователя. Все они, думаю, не забыли о тебе – последний уж во всяком случае – и не упустят возможности взять тебя «в оборот», едва завидев. В общем, отправишься ты к одному моему знакомому, в деревню, где и пересидишь то время, пока я что-нибудь не придумаю. Это километрах в ста с небольшим отсюда, в тайге, где тебя, полагаю, искать никто не будет. Ну, о преимуществах свежего таежного воздуха и простора, где ты ничем не связан, я уж и не говорю. Так как, Галактион?
Что я мог сказать? С одной стороны, уезжать из города, где, как мне казалось, у меня было больше шансов найти дорожку к вожделенной двери домой, мне не хотелось, с другой же я понимал, что Архип абсолютно прав в своих рассуждениях, и здесь мне ничего не высидеть. Сам я тоже жаждал сменить обстановку – слишком душно и тесно было мне в бараке доброго старика, да и злоупотреблять его гостеприимностью я не желал.
– Спасибо тебе, дед Архип, за заботу. Я верну тебе долг, как только смогу, можешь не сомневаться. Когда ехать?
Дед, похоже, был рад моей покладистости.
– Да сегодня с вечера и поедем. Довезу тебя до соседнего городка – подальше от глаз, – а там с рассветом к почтовику подсядешь, что до села Стоянова отправляется. В Стоянове спросишь да пересядешь на следующего, который до самой Николопетровки довезет. В общем, найдешься как-то. Извини, ничего более приемлемого не могу тебе предложить. Я человек маленький, незаметный, ни к автомобилям, ни еще к чему мудреному доступа не имею. Водки вот дам тебе для шоферов да поесть чего в дорогу, а больше, пожалуй, ничего и не могу.
– Ничего и не требуется, дед Архип! Хороший ты человек, пропал бы я без тебя!
– Это так, парнишка, – пропал бы. Сгинул. Хотя, может, еще и сгинешь, кто знает. Места здесь суровые, жизнь несносная, да и сам ты как телок новорожденный, носом тычешься в зад корове, вымя ищешь. Ну, да ладно, чего там, и так все ясно. Давай-ка вот лучше картошечки сварим да с огурцами-то и посидим малосольными. Неизвестно, удастся ли свидеться когда…
Архип отвернулся и стал набирать в горшок картошку из куля у лавки.
– Послушай-ка, дед, а как этот твой знакомый узнает, что я от тебя? – задал я внезапно пришедший в голову вопрос, намеренно, однако же, не интересуясь личностью и происхождением этого дедова приятеля. Скорее всего, речь шла об одном из ожидающих отправления на родину странников, и я не хотел вновь поднимать неприятную Архипу тему.
– Да я тебе записку дам. Передашь ему, он все и поймет, приютит. Не боись, парень.
– Понятно.
В сентябре темнеет уже довольно рано. Солнце, словно большой раскаленный мяч, зримо закатилось за деревья на западе, живописно выделив красным их облетевшие, раскряжистые скелеты. Я в последний раз окинул взглядом двор барака, останавливаясь на каждой, даже самой несущественной детали, чтобы навсегда его запомнить. Память – самое ценное из того, что у нас есть, и относиться к ней надо бережно. Легкая грусть коснулась моего сердца: я понял, как сильно успел привязаться за эти несколько дней и к лачуге в барачном ряду, и к виду на холмы вдалеке, и к старому Архипу, стоящему сейчас спиной ко мне и поправляющему сбрую на одолженной им у кого-то лошади. Признаться, когда он сказал «довезу», я представил себе что-то вроде мотоцикла с коляской, и, конечно, ошибся. Как он сам сказал, дед был далек от всяких там «автомобилей и прочего», и единственное средство передвижения, которым он располагал, отдувалось и фыркало сейчас перед крыльцом, собираясь транспортировать нас в соседний город, откуда отходили почтовики в район моего назначения. Да и какие еще, действительно, мотоциклы в это время?
Дед выдал мне и кое-какую одежду поприличней, так как путешествовать в принадлежащей покойному Кириллу тесной робе и разваливающихся больничных тапках было не с руки, и снабдил меня добротными, хотя и изрядно поношенными, юфтевыми сапогами, которые неизвестно где отыскал. В холщовый мешок размером побольше я сложил незатейливую снедь на дорогу да несколько бутылок разбавленного спирта, вонявшего так, что голова кружилась от одного лишь запаха. Архип сказал, что это – самое ходовое здесь платежное средство, и лучшего для покупки дороги у таежных водителей и желать нельзя. Мне он, однако, не рекомендовал оттуда ни капли, «ибо яд».
В дороге большей частью молчали, лишь изредка перекидываясь парой слов по существу. Телега была узкой и неудобной, так что мне пришлось притулиться в задней ее части, что делало любое общение с возницей, то есть дедом Архипом, крайне затруднительным. Да и говорить-то нам было не о чем, все нужное уже было сказано, а пустой болтовней дед не марался. Старая лошадь быстро устала и шла медленно, постоянно испуская зловонные газы, а уснуть из-за дикой тряски и возбуждения не удавалось.
Мне даже показалось, что я быстрее добрался бы до места пешком, но Архип, которому я это сказал, велел мне беречь силы, «бо неизвестно еще, что тебе предстоит». Впрочем, какими-то урывками мне все же удалось наглотаться сна, и, когда мы наконец приехали на городской почтамт, я чувствовал себя относительно бодрым.
Солнце еще не взошло, и я не сразу рассмотрел, что низкое деревянное здание, стоящее чуть в стороне от тракта, и есть районное почтовое отделение. Я услышал оттуда чей-то хриплый кашель, а прохладный ветерок со стороны леса принес запах хвойной свежести. Старик, велев мне не отходить далеко от телеги, куда-то пропал. Однако, не успел я размять затекшие конечности, как он появился снова и доложил, что дело улажено и, пожертвовав одной бутылкой вонючей жидкости, я могу забираться в будку. Будкой именовалась большая крытая повозка, запряженная парой. Натянутый на жесткий проволочный каркас брезент образовывал некое подобие фургона, подняв полог которого, можно было проникнуть вовнутрь. Несмотря на романтический вид этого сооружения, подобного чувства у меня не возникло. Напротив, острая, режущая тоска поднялась на мгновения из самых глубин моей души, заклокотав в горле и вызвав тошноту, но, впрочем, быстро улеглась, оставив лишь необъяснимое чувство утраты чего-то важного.
Дед Архип вытащил из кармана свернутый вчетверо листок грубой желтой бумаги, который протянул мне.
– Возьми, как договаривались. Спросишь в деревне дом Якова Угрюмова, отдашь ему письмо. В нем я прошу его, чтобы принял тебя и обогрел пока. Сможешь чем помочь ему в хозяйстве – помоги. Люди они верующие, старой закалки и лодырей не любят. Ну, да я за тебя не беспокоюсь, ты не станешь злоупотреблять…
– Не буду ли я в тягость твоему другу, дед Архип? – забеспокоился я.
– Другу? – произнес старик, нажав на первом слоге, и хмыкнул. – В тягость, парень, приходится гость праздный или девица беременная, а нуждающийся в помощи и поддержке единомышленник в тягость быть не может. Да, кстати, это письмо адресовано ему, не тебе, это ясно?
– Да куда уж яснее, дед, не беспокойся, заглядывать не буду и тайн твоих не узнаю. Ну, бывай?
– Бывай.
Возница уже завершал последние приготовления, когда я сунул ему нагревшуюся за пазухой бутылку со спиртным и, прежде чем поднять полог будки, в последний раз оглянулся на деда Архипа. Таким я его и запомнил: бородатым, взлохмаченным и чуть сутулым, стоящим поодаль и смотрящим мне вслед. Не думаю, чтобы в нем взыграла сентиментальность – не тот это был человек, – скорее всего, он просто тоже хотел запомнить меня, ведь память – самое ценное, чем мы обладаем, помните?
Часть третья Товарка Алеянц
Глава 18 Яков
Конец августа – прекрасная пора. Что может сравниться с той легкой, вдумчивой тоской и необъяснимой сладкой грустью, которые она приносит с собой? Что заставляет мечтать и надеяться сильнее, чем прозрачные, дурманящие ночи позднего августа, напоенные спокойствием и самой жизнью? Это не просто ночи – это кладезь мудрости и романтики, это повод задуматься о вечном, это – как морозный воздух после жаркой парилки, когда вспоминаешь, что у тебя есть легкие. В Восточной Сибири – суровом таежном крае, эти ночи особенно хороши. Вызвездившее небо, от чарующей, непередаваемой глубины которого захватывает дух, метеоры, то и дело вспыхивающие и, пообещав кому-то желание, исчезающие где-то в тайге, запах реки и сена, приносимый еще теплым ночным ветром и робкое, бегающее туда-сюда вдоль позвоночника ощущение счастья – неотъемлемые атрибуты этих ночей. Вполне допускаю, что у каждого – свои воспоминания и свои ночи, но прекрасней этих для меня ничего нет, потому что я, как и все перечисленное, тоже являюсь их частью.
Вот такой теплой, ясной ночью, мгновенно вернувшей меня в мое пятнистое детство, я и прибыл в тихую, погруженную в сон Николопетровку. Деревня разместилась в уютной ложбинке меж темной кромкой тайги и чуть слышно журчащей Урицей, которая в этом самом месте делала изгиб и, бесстрашно пускаясь в чащу гигантских кедров, бежала дальше, в сторону мертвого Улюка.
Тогда я, разумеется, не знал еще ни Урицы, ни Николопетровки с ее угрюмыми жителями, как не слышал я и истории о погибшей деревне, чьи обугленные останки, заросшие бурьяном и колючками, все еще проглядывали из земли, напоминая о случившейся здесь двадцать лет назад трагедии. За прошедшее время сменилось поколение, но ни старики, ни молодежь, вскормленная жутким преданием, не забывают, что по соседству с ними находится нечто, с чем лучше не искать встречи. До сих пор никто не объяснил сельчанам ни колдовских всполохов огня, виденных когда-то на пожарище редкими очевидцами, ни таинственного исчезновения Ильи Гудика, которого ребятишки неких Суконниковых видели в тот день шествующим в направлении Улюка. Высказанная некоторыми версия, что Гудик-де сбежал, раскаявшись в обмане односельчан, не выдерживала никакой критики, а уж у рассудительных людей, раскусивших алчную душу самозваного проповедника, ничего, кроме ухмылки, не вызывала. Никоим образом не мог Илья Гудик оставить богатства, которыми полнились тайники и закрома его напоминающего терем дома, да и жена-служанка его – вечно насупленная нелюдимая Зинаида, выглядела не на шутку обеспокоенной и, как говорили в деревне, «вышибленной из катанок», а позже и вовсе сбрендила, запила и, во хмелю пребываючи, излагала каждому встречному-поперечному какую-то чушь про кару, мщение да огонь, пожравший грешного ее супруга. Поначалу односельчане жалели ее, затем начали подтрунивать, а в конце концов и вовсе насмехаться, отринув любовь к ближнему в пользу реванша за годы страха и унижений. Так и жила старуха одна, пропивая добро и бросая проклятия в спину проходящим, а ночами со свечой в руках шатаясь по заброшенному огороду в поисках «спасения», якобы зарытого где-то Гудиком.
Разумеется, въехав тогда поздним вечером в деревню, я, мучаясь головной болью в недрах запряженной гнедой парой повозки, ничего этого не знал. Из-за досадной поломки колеса на полпути мы значительно задержались, и похмельный возница, кнутом и проклятиями подгонявший измученных животных, призывал всех чертей на головы жителей Николопетровки, района, края и, на всякий случай, мою голову тоже. И действительно, в то время как ему приходится из шкуры вон лезть и бороться с «проклятой задышкой», всякие откормленные боровы возлежат тут в свое удовольствие на перинах в дилижансе и балуются сытой отрыжкой. Дилижансом он при этом именовал свою убогую, покрытую брезентом повозку, а периной – клок вонючей соломы, брошенный на дно «дилижанса». На мой счет он тоже ошибся – за последние дни я прилично схудал и даже осунулся от нескончаемых мытарств, так что замечание по поводу моей откормленности было ложным, как и то, что касалось сытой отрыжки. Одним словом, глупый врун-кучер порядком осточертел мне за дорогу, и я не знал, от чего у меня больше болит голова – от тряски или его бесконечных выкриков.
– Эй, парень! Хорош дрыхнуть! Сейчас еще раз с горки, потом поворот, и ты на месте! Наконец-то избавлюсь от лодыря. Послал Господь пассажира!
Я, насколько это было возможно, распрямил спину и даже позволил себе немного порадоваться. То, что мы наконец-то достигли Николопетровки, было, безусловно, хорошей новостью, но вот как мне теперь, в ночи, найти нужную избу? Да и с какой рожей я возникну на пороге незнакомых мне людей, после того как разбужу их бесцеремонным стуком в окно?
Несколькими часами раньше я, к моему стыду, не сдержал данное мною деду Архипу обещание и все же попытался прочесть записку, которую должен был, не читая, отдать некому Якову Угрюмову, после того как отыщу его в деревне. Однако, едва я развернул лист грубой желтой бумаги и прочел первые строки послания, жгучий стыд жидким свинцом потянул к земле мою бессовестную голову, заставив пылать щеки, нос и уши. Листок оказался двойным, склеенным, и на верхнем, доступном для меня, значилось: «Если будешь и впредь подводить людей, которые доверились тебе, Галактион, и изменять собственному слову, то не жди ничего хорошего в жизни, ибо она поставит тебя на колени. Теперь можешь разъединить листы и прочесть мое письмо к Якову, – в нем ничего секретного нет».
Злясь на пройдоху-Архипа и еще больше на себя самого, я так и поступил. Ничего интересного или познавательного я на внутреннем листе бумаги, однако же, не нашел – он весь был испещрен какими-то витиеватыми узорами, напоминающими шумерскую клинопись и расположенными, на первый взгляд, безо всякого порядка. Повертев «письмо» в руках, я понял, что старый прохиндей вновь одурачил меня, но не стал обижаться и бережно сложил лист, представляя себе выражение лица таежника, которому придется это читать. Мне мало верилось, что кто-нибудь знает толк в закорючках, кружочках и черточках, нанесенных на бумагу лукавым писакой.
Мне повезло – возница, собирающийся заночевать у кого-то из своих знакомых в деревне, спросил меня, к кому именно я еду и, получив ответ, заявил, что отлично знает и самого Якова, и его дом, который он мне с удовольствием укажет, если я поделюсь с ним остатками спирта, бутылку с которым он разглядел у меня под фуфайкой. Я сказал, что отдам ему все, что осталось, только бы побыстрее закончить измотавшее меня путешествие. Обрадованный мужик снова встал во весь рост и, гаркнув, принудил лошадей бежать быстрее – у него, должно быть, и в самом деле «горели колосники», а я лишний раз убедился, что водка – валюта куда более надежная, чем советские «деньги».
– А кто ты ему, Якову-то? – крикнул он через плечо, стараясь переорать стук копыт и громыхание телеги, – сродственник али свойственник?
– Ни то, ни другое! – заорал я в ответ, – дело у меня к нему, вот и…
– Первый раз здесь? Дома-то не знаешь!
– Первый раз! Но, наверно, надолго…
– Надолго? К Якову? Не болтай ерунды! Гришка Суконников говорил, у него и десяти минут никто не задерживается, – не любитель гостей хозяин-то! Как глянет из-под бровей да насупится, так и смотреть-то на него неохота. Или не веришь Гришке?
Судя по всему, этот Гришка Суконников являлся для возницы первейшим авторитетом, и усомниться в его слове значило проявить вопиющее неуважение.
– Гришка говорит, потому и дочки-то разлетелись из дома угрюмовского кто куда – чтобы папашу лишний раз не видеть да кровь себе не портить. И глаз не кажут, о как! А младшая-то у него, Гришка сказал, очень даже! Гришка даже думал, что…
Я так и не узнал, что же там думал всезнающий Гришка, потому что повозка угодила в яму, левое переднее колесо, недавно отремонтированное, внезапно провалилось вниз, и Гришкин друг-возница кувырнулся с телеги во тьму, словно и не было ни его самого, ни его речей. Лошади заржали и остановились, а несколькими секундами позже откуда-то из-под повозки донеслась выразительная хмельная ругань, свидетельствующая о том, что с кучером особой беды не случилось.
Человек, вышедший на мой стук на крыльцо, отрывисто поинтересовался:
– Чего тебе? Кто таков?
Не скажу, что я рассчитывал на радушный прием с цветами и шампанским, но от звука его голоса мне и вовсе стало не по себе, и первым моим побуждением было тихонько отойти от ворот и исчезнуть в темноте ночи, избежав тем самым необходимости отвечать. Однако уже через секунду я взял себя в руки и, устыдившись своей слабости, крикнул:
– Из города я! С письмом к вам.
«С каким письмом, прости Господи? – тут же осадил я себя, – когда этот парень увидит такое «письмо», то не только вышвырнет меня из деревни, но и будет гнать до самого города!»
– Чего ты мне голову морочишь? Какое еще письмо?
– Обыкновенно письмо, на бумаге. Непонятное, правда, но Вы, наверно, разберетесь, что к чему.
Человек на высоком крыльце ничего не ответил, повисло молчание. Выждав несколько секунд, я добавил:
– Дед Архип послал меня к Вам. Я, конечно, не должен был читать это письмо, но ведь все равно ничего не понял и…
«Что за чушь я несу, Бог мой? Причем тут это? Сейчас он точно швырнет в меня чем-нибудь»
– Архип?
Дверь наверху захлопнулась, но, не успел я удивиться, открылась снова и мужик неспешно спустился по деревянным ступеням крыльца, стуча сапогами, которые, должно быть, и натягивал во время этой паузы.
– Где твое письмо? Давай его сюда!
Голос звучал прямо передо мной и я вздрогнул, не сразу различив в темноте бородатое лицо и крупную фигуру его обладателя, протянувшего руку через невысокий заплот палисадника. Захлопав себя по карманам, я быстро нашел сложенный вчетверо лист бумаги и протянул его адресату. В том, что немногословный грубоватый крестьянин и был Яковом Угрюмовым, я почему-то не сомневался.
– Жди, – приказал тот и, отойдя вглубь двора, чиркнул спичкой и приблизил озаренное ее светом лицо к бумаге. Минуты две он читал, зажигая все новые спички, тогда как я, не будучи теперь уже уверенным не только в долговременном убежище, но и приюте на одну ночь, переминался с ноги на ногу у ворот, ожидая результата. Лишь в одном не было сомнения: этот человек явно понимал в каракулях, начертанных в послании, а это все же давало мне некоторую надежду на благоприятный исход. Может быть, я и не получу здесь крова, но, по крайней мере, уйду живым, а это уже немало.
Спичка погасла. Человек зашуршал бумагой, сворачивая письмо, трубно высморкался и вновь направился в мою сторону. На этот раз он открыл одну створку ворот, подбивая ногой скребущую землю нижнюю планку, и бросил в образовавшийся зазор:
– Заходи. Смотри только, без шума – не люблю возни. Свои, Дым!
Последние его слова относились, как я понял, к собаке, заворчавшей было за спиной хозяина, внезапно вспомнив про свои охранные обязанности. Войдя во двор, я увидел ее – огромную, величиной едва ли не с телка, псину, создававшую ветер энергичными взмахами своего лохматого хвоста и разгуливающую здесь безо всякой привязи. Похоже, в деревне не нашлось цепи, способной удержать этого зверя.
– Нравится? – спросил хозяин, кивнув в сторону пса, – доброе животное, послушное. Правда, старый он уже, двенадцатый год пошел, как я его принес.
– Принес? – переспросил я, из вежливости делая вид, что мне интересна история глупого кобеля.
– Из лесу. Дым – волк. Ну, да черт с ним, с Дымом, поднимайся на крыльцо, да смотри, шею себе не сверни в потемках! Живем мы тут просто, по старинке, и дома строим без расчета на городских визитеров, так что…
Камень, брошенный в мой адрес, нисколько не задел моего самолюбия, и вообще, я был так измотан дорогой, что почти не слушал сварливого таежника. Пусть бурчит себе на здоровье, мне-то что?
Войдя, хозяин немного покряхтел в дальнем углу избы, и комната озарилась тусклым желтым светом маленькой, висящей на согнутом из проволоки крюке, лампочки. Где-то отчетливо тикали ходики, прогоняя липучее время, а из-за перегородки раздавался чей-то жалобный храп. Я заметил, как большая полосатая кошка скользнула через выпиленную для нее дырку в подполье и уловил едва живой запах жареного лука, который, должно быть, был составной частью состоявшегося пару часов назад ужина.
Положив мне на плечо свою тяжеленную, словно налитую свинцом, руку, хозяин подтолкнул меня к большому деревянному столу с выскобленной до блеска столешницей и сказал:
– Садись-ка пока на лавку, покури малость, а я поесть тебе чего-нибудь сварганю. В дороге-то, поди, не особо подкреплялся?
Я вежливым кивком подтвердил его догадку, не зная, чего хочу больше – есть или спать. Моментами мне казалось, что, стоит мне принять горизонтальное положение, и я тут же провалюсь в сладкую яму сна, но ту вдруг желудок начинал урчать с такой силой, что мне становилось ясно – ни отдых, ни здоровый сон невозможны без утоления этого сосущего чувства голода.
Пошарив у печи, хозяин дома вернулся и поставил передо мною большую сковороду с еще теплой жареной картошкой с луком, от запаха которой у меня в буквальном смысле потекли слюни, да так, что мне с трудом удавалось их глотать, не позволяя капать на пол, как у собаки. Огромная кружка молока, наполненная для меня начинавшим мне нравиться таежным жителем, увенчала мою трапезу, сделав мечту реальностью. Я принялся жевать с таким воодушевлением, что у меня заломило в скулах и, мне кажется, я даже обломил кусок зуба о вилку, в которую по неосторожности впился. Однако эта коллизия не умалила моего аппетита.
По мере насыщения я стал с любопытством оглядывать комнату, не переставая удивляться своей странной судьбе. Подумать только: еще несколько дней назад я, самоуверенный и убежденный в благополучии своего будущего, внимал скупым философским изречениям профессора Райхеля, полагая, что участвую в приключении, и вдруг очутился в совершенно чужой для меня обстановке, где все так странно и незнакомо! А ведь я искренне думал, что хорошо знаю историю и представляю себе быт тех, вернее, этих лет! В одном я был уверен: как бы теперь ни повернулась моя жизнь, куда бы ни забросила меня моя хаотичная судьба – участь моя гораздо лучше, чем у многих, и, если даже тонкой струнке моего разума суждено оборваться, превратив меня в спятившее, затравленное животное – мне нет резона сожалеть об этом. То, что я уже увидел и пережил, как и то, что мне, возможно, еще предстоит испытать – не в пример важнее, красочнее и… реальнее, нежели наполненные рутиной и спесью судьбы тех, кто там, в моем прошлом-будущем, почитает себя всезнающими умниками, могущими влиять на мир.
Итак, на противоположной стене, густо побеленной с добавлением синьки, я увидел две прикрепленные сапожными гвоздочками желтоватые фотографии с едва различимыми изображениями каких-то людей, а также несколько поздравительных открыток, которыми так дорожат престарелые тетушки, хвастаясь друг перед другом безграничной любовью к ним их чад. К сожалению, эти цветные клочки бумаги, разносимые почтальонами по городам и весям, порой оказываются единственными свидетельствами той самой «любви», а скупые, полные банальных любезностей строчки на их обороте – единственной коммуникацией между поколениями.
С того места, где я сидел, лиц на фотокарточках было не разобрать, но мне этого, признаться, не очень-то и хотелось: в альбомах моих матушки и бабки этого добра было более чем достаточно, и я не помню, чтобы когда-то являлся фанатом размытых, плохо закрепленных изображений не то чьих-то племянниц, не то троюродных сестер с надписями типа «тете Люде от Татьяны и Галочки», или же толстощекого карапуза на руках у неизвестной особы – «Алешеньке семь месяцев. Вот мы какие большие!» У каждого, в конце концов, полно собственных галочек и алешенек, чтобы интересоваться еще и чужими…
Пол покрывали циновки темных тонов, лежащие одна на другой, и лишь у самой духовой печи меж ними проглядывал кусок голого дощатого пола, оставленный для ведра под золу, кочерги и ухвата, которым на циновках, видимо, было не место. Небольшое окошко с двойными рамами было задернуто ситцевыми занавесками в горошек, которые днем, похоже, аккуратно подвязывались по сторонам окна красными ленточками, свисающими сейчас с гвоздей в распущенном виде. В общем и целом изба представляла собой образцовое для крестьянского быта явление, словно хозяйка, наличие которой угадывалось по доносящемуся до меня храпу, специально готовила ее к приему важного иностранного гостя. Все здесь дышало чистотой и уютом, и я, по причине дальней поездки двое суток не видевший перед собой таза с водой, чувствовал себя нестерпимо грязным, буквально покрытым коркой спрессованной, пропитанной потом дорожной пыли, о чем и сказал хозяину, после того как поблагодарил его за ужин. Тот, понимающе кивнув, отвел меня в приютившуюся в закутке между пригоном и огородом баню, где нашлось достаточное количество прохладной воды для удовлетворения моих гигиенических нужд. Мне даже достало сил кое-как постирать свою одежду и примостить ее для просушки на забор, где уже висели во множестве какие-то горшки и ведра. К счастью, Архип снабдил меня кое-какой одежонкой на смену, так что мне было во что переодеться. Доставая из мешка свежую рубаху из льняной ткани, я сделал неприятное открытие – одна из бутылок с бурдой, отданная мною позже охочему до спиртного вознице, должно быть, просочилась, напитав содержимое мешка резким запахом сивухи, так что от меня теперь за версту разило винным духом, словно от заправского выпивохи. Так, благоухая, я и вернулся в избу, где свалился на указанную хозяином широкую лавку у окна и заснул, погрузившись в мир нелепых, сумбурных, навеваемых этиловыми испарениями сновидений.
Глава 19 Встреча
Так началась моя жизнь под кровом Якова Угрюмова. Проснувшись на следующее утро ни свет ни заря, я был скупо представлен Кире Прокловне – хозяйке дома, вставшей еще раньше, и получил от нее доскональные, хотя и ненавязчивые инструкции и разъяснения на тему порядка, расписания и правил вежливости, принятых в семье, частью которой мне, к ее бесталанно замаскированному неудовольствию, временно предстояло стать. Семья эта, правда, теперь состояла лишь из двух человек – Якова и самой Киры Прокловны, так как все три дочери хозяев, достигнув биологического и душевного расцвета, покинули родные пенаты, устремившись за лучшей жизнью в «беспутный хаос этих диких городов», как выразилась Кира, сетуя на своих непутевых отпочковавшихся девочек. Именно от них-то и происходили те немногочисленные поздравительные открытки, которыми хозяйка украсила стену в избе, и, конечно же, с ними связывала она отраду в старости, на которую надеялась. Мне, правда, показалось, что в словах Киры Прокловны было больше самоутешения, нежели уверенности, но мать на то и мать, чтобы принимать за предсказание самые несбыточные свои сны и «проглядывать все глаза», сидя у окошка.
Старшая из дочерей – Глафира – много лет назад отбыла со своим мужемученым на «севера», где, по ее словам, ведет сказочную, полную впечатлений и новых открытий жизнь, настолько захватывающую, что на подробное письмо матери находит время не чаще раза в год, а о том, чтобы приехать повидаться да отца проведать и речи не ведет. Машка же – вторая дочь, будучи на четыре года моложе Глафиры, оказалась проворнее и отхватила себе не кого-нибудь, а инженера, да еще горного, из обрусевших немцев. Тот подвизался начальником одной из шахт предпринимателя Ашанина где-то на Урале, под Челябинском, и именно там повстречал юную сибирячку, занесенную туда неведомым вольным ветром и воспылавшую любовью к сумрачному трудолюбивому горняку. Через два месяца после женитьбы, в 1914-ом, немец, почуяв в горном воздухе холодок политической непогоды, поспешил убраться с семьею на историческую родину, где его знания очень пригодились. Кире же Прокловне пришлось смириться с тем, что ее свидание с дочерью откладывается до лучших времен, ежели таковые наступят. Царская власть не додумалась преследовать людей за положительный ответ на вопрос «Есть ли родственники за границей?», да и до самого вопроса этого не додумалась, поэтому Яков с Кирой продолжали жить в своей деревенской избе, а не последовали в кандалах за «сказочной, полной впечатлений» северной жизнью. Да что там говорить! Сама местность, где они жили, Сибирь да суровая тайга и без того всегда были излюбленным ссыльным местом, так какого же еще Севера вам надобно?
Была и еще одна дочка у хозяев, последыш, так сказать.
«Эта и вовсе отличилась, – махнула рукой Кира Прокловна, – выскочила за номенклатурного деятеля, который тут, в Николопетровке, целый год руками махал да про светлое будущее рассказывал. Злил, в общем, сельчан дальше некуда. Сам невысокий, плюгавенький, совсем сосунок с виду, но усищи уже отрастил да папаху не снимал даже летом, чтобы выше казаться. По деревне расхаживал, заложив большие пальцы рук за пояс, и ноги, облаченные в блестящие яловые сапоги со складками, чванливо вперед выкидывал, словно управляющий какой. Власть собою представлял. Это позже, в двадцать восьмом, всяких коллективизаторов понаехало, людей в колхоз сгонять. Резвились все… Ну, а зять наш будущий людей еще не трогал, просто ходил туда-сюда да байки рассказывал, на собраниях глотку драл. А народ-то у нас больше набожный, а после разорителя-Гудика и вовсе пришлым не доверяет, вот и пришлось нам тяжело с новой властью…»
К тому времени я уже был наслышан о самозваном проповеднике Илье Гудике, смущавшем здесь народ лет двадцать назад. Слышал и о смертельном пожаре в соседнем Улюке, и о том, как сгинул Илья, подавшись зачем-то на пожарище в двенадцатом году. Да и вдову его, сумасшедшую бабку Зинаиду, показывала мне Кира Прокловна издалека, когда та дом свой обходила да клюкой по стенам лупила почем зря. Довольно жалкое создание эта Зинаида, скажу я вам. Россказням о ночных шабашах на пожарище я не очень-то верил, хотя предпочитал не высовываться со своим мнением. Всякое бывает. В конце концов, кто бы поверил мне, вздумай я повествовать в деревне о своих приключениях? Тогда бы я, пожалуй, довольно скоро оказался в незабываемом учреждении почитательницы мочи Полины Владимировны, при одном воспоминании о которой у меня мороз идет по коже.
– Так как же замужество, Кира Прокловна? Неужто любовь у вашей дочери возникла к этому усачу?
– Да какое там… Мы с отцом, видно, ее не устраивали, вот и подалась она в бега из дому, а тут уж, как говорится, все средства хороши! Подвернулся ей этот малахольный, сопли со слезами перемешал да порог обивать начал. Пойдем, говорит, да пойдем замуж… В город, грит, тебя увезу. Такая красавица, дескать, для умных речей да восхищения создана, а не коров доить. Чтоб его, окаянного! Какие коровы-то у нас, Галактион? Всех красноармейцы прибрали… Одна осталась, да и то полудохлая.
Кира Прокловна всхлипнула и промокнула глаза подолом, показывая, как ей тяжко.
– Он, стервец, даже с отцом-то не поговорил по-человечески! Сватовство, не с тем делом, суть пережитки темного прошлого. Коммунистам-де свататься не положено, когда подруг себе боевых выбирают.
– А Яков?
– А что Яков? Ты же знаешь его уже, наверное? Смолчал. Насупился, пожевал ус и смолчал. А что тут сделаешь? У них шашки да наганы, а у него, кроме вил да гордости, ничего и нету… Да Яков всегда такой – пока не бьют, молчит, бить станут – голову открутит молча, и вся недолга. Сам Гудик в свое время его стороной обходил, побаивался. Все, помню, нас в общину свою тянул, уговаривал, да как глянул на него Яков-то сподлобья, так и отстал, только морщился да воротился при встрече. Ну, да мир с ним, с Гудиком, – подвела черту Кира Прокловна и перекрестилась.
– И что, как теперь живется вашей дочери?
– Которой? Аглайке-то? А чего ей сделается? Поженились с этим шутом и живут себе в городе. На курсы какие-то партийные ходит, голову себе забивает…
– Пишет?
– Да пишет, но… Мне бы радостнее было, Галаня, от Глафиры иль Машутки весточку получить, вот как.
– Что так? Вижу, крепко насолила вам Аглая этим своим замужеством?
Хозяйка помолчала, раздумывая, может ли она быть со мной откровенна. Но желание выговориться одержало верх, и Кира Прокловна поведала мне, понизив голос:
– Сердце-то материнское не обманешь, Галаня. Не дочка мне Аглайка-то… Не дочка. Да-да, не смотри так на меня! Семь годов ей уж было, когда вышла она к нам в деревню из тайги. Яков пожалел сиротку, в дом привел. С той поры и живет у нас.
– Как так – вышла из тайги? – не понял я, – она ж, поди, не медведь?
Мало того, что хозяйка вывернула мне все нутро, назвав «Галаней», так еще и говорит тоном древнерусской рассказчицы!
– Да уж не медведь, – вздохнула Кира. – Да не знаю я толком-то. Слабенькая она была совсем, как после затяжной болезни. Что-то рассказывала сбивчиво, да мы особого-то значения ее словам не придавали – мало ли что говорит больное чадо! И во сне потом разговаривала, все какую-то «черную тетеньку» требовала… Потом уж, позже, Яков прознал, что в Стояново, верст за тридцать отсюда, семья одна ночевала с больным ребенком, вроде как купец-прохиндей какой-то от долгов бежал… Утром, якобы, в нашу сторону выдвинулись, про Илью Гудика речь вели. Знакомцы, видать. Но тайга наша, Галактион, страшная и непредсказуемая, ежели ее не знаешь. Да еще зимой. Вот и сгинул тот купец вместе со всем добром и душами, что с ним были. А девчушка, поди ж ты, выбралась как-то! Сам Господь Бог, знать, на деревню ее вывел. Вот так-то.
– Н-да… И что ж, так и не привыкли Вы к чужому дитю, Кира Прокловна?
– Да как же не привыкла? Как к родному всегда… Но свое-то, как ни крути, роднее, Галаня. Роднее! Вот и думаешь: как так? Аглайка, какая ни есть, а заезжает время от времени да пишет, хоть не так уж и интересна-то мне ее писанина, а Глашка с Машуткой совсем, почитай, забыли о матери! Разве ж правильно так, разве ж справедливо?
В голосе крестьянки послышалась горечь обиды, и она снова приложила к глазам подол своего деревенского платья, оголив отекшие, испещренные варикозными венами, икры.
– Но, как бы там ни было, переживаю и за Аглайку… Столько лет, почай, под одной крышей прожили! Что-то там у них не ладно, сдается мне.
– Так она, выходит, не счастлива в браке? Это Вы имеете в виду?
– Кто его знает, счастлива-несчастлива… Я так разумею, Галактион: коли здоровая баба за шесть лет замужества дите не родила, а цыцки носит лишь для украшения да для мужниных забав, то и нету там ладу! Не семья это, а недоразумение одно! Муж ее этот важным человеком теперь, говорят, стал, в автомобиле разъезжает да на больших сборищах выступает, так чем помешала бы деточка? А, Галактион? Чем помешала бы?
Я был абсолютно согласен с Кирой Прокловной. Так согласен, что даже простил ей этих бесконечных «Галактионов» и «Галаней». Но что я мог для нее сделать? Приказать незнакомой мне Аглае засыпать бабку внуками и проконтролировать целевое использование ее «цыцек»? Смешно. Да и так ли уж нужны Кире эти неродные внуки?
За всеми этими разговорами и непритязательными развлечениями я не забывал, однако же, о цели моего появления в Николопетровке. В последствии оказалось, что провидение ставило передо мною и другие задачи, приведя меня в эту деревню, но в то время моей единственной потребностью, помимо физиологических, было вернуться домой, разумеется, разыскав перед тем если не самого Альберта, то хотя бы его следы. Архип намекнул мне, что, возможно, сумеет помочь мне в этом, но время шло, а от него не было никакой весточки. Может ли быть, что добрый старик забыл обо мне?
Из разговоров с Архипом и истории с написанным клинописью посланием мне было ясно, что Яков Угрюмов, чьим квартирантом в силу обстоятельств я сейчас являлся, не совсем тот, за кого выдает себя. Возможно даже, что его жена, прожившая с ним многие годы, не догадывается об истинном положении вещей, то есть о том, что супруг ее – на самом деле член команды исследователей, прибывшей из чужого, параллельного нашему, мира, лелеющий надежду дождаться того часа, когда вся группа снова будет в сборе и загадочный Штурман, затаившийся где-то, уведет ее назад. В задумчивом, часто отстраненном взгляде Якова я ловил порой тоску и ностальгию; он мог подолгу сидеть, устремив взор в одну точку и словно отключившись от внешнего мира. Чего он ждал? Сигнала? Знака от своих товарищей по несчастью? Он, вынужденный многие годы таиться в чуждом ему окружении и делать вид, что все в порядке, на самом деле никогда не мог назвать ни Николопетровку, ни густую, первозданную тайгу, окружающую деревню, ни сам этот мир своим домом. Окружающие люди приписывали его суровую молчаливость и нелюдимость неудачным особенностям его характера и объясняли его недружелюбие нелюбовью к людям вообще, что было прискорбно, так как я, зная предысторию и беду этого человека, мог бы поручиться, что это не так. Но самого Якова все это, похоже, мало интересовало. Он жил своей странной жизнью, приспосабливался к претившим ему качествам окружающих людей и, казалось, смирился со своей участью затерянного на чужбине отшельника, поскольку, несмотря на наличие жены и дочерей, был одиноким.
Как-то, с любопытством изучая настоящую крестьянскую избу, я заметил в восточной ее стене небольшую дырку, плотно заткнутую затвердевшим пучком ветоши. Судя по всему, затычку давно не вынимали из отверстия, так что она почти вросла в него, не очень-то и бросаясь в глаза. Я слышал о существовавшей когда-то секте дырников, использующих в зимнее время для молитв не иконы, которые после церковной реформы патриарха Никона считались нечистыми, а такое вот отверстие в стене, поскольку молиться на улице, учитывая сибирские морозы, было бы довольно проблематично, а обращаться к Господу через стену – греховно. Заинтригованный, я спросил хозяина, та ли это знаменитая дырка, о которой я думаю. Помолчав, Яков с неохотой ответил, что я не ошибся.
«Но вы-то, как я вижу, отошли от этого верования, – дырка-то не используется…» – продолжал упорствовать я в своем любопытстве.
Еще раз стерпев мою навязчивость, Угрюмов дал мне исчерпывающее разъяснение:
«Мы, Галактион, не религиозны. У нас, как ты, наверное, догадываешься, иное видение божественной сущности… А дырку пробил я лишь для того, чтобы отвязаться от некоего разбойника – Гудика, желающего все тут огнем пожечь да на темноте людской нагреться. Насел он на нас тогда да в безбожии обвинять взялся. А время стояло такое, что опаснее того ничего не было, как безбожником прослыть. Крестьяне – темное стадо, но вилы в руках держать да огнем пользоваться умеют. Тут-то и пришлось нам с Кирой дырниками стать. Вот и весь мой сказ тебе».
«Как? Разве Кира Прокловна из… вашей группы? Я думал, там только мужчины были!» – не удержался я от очередного проявления любопытства. Однако на сей раз это не прошло, ибо Яков был сыт моей бесцеремонностью:
«Хватит рассуждать! На твои вопли вся тайга сбежаться может. Скромность и терпение – великое богатство, Галактион, не забывай об этом!»
Помня о наказе деда Архипа, да и сам будучи человеком совестливым, я предложил приютившим меня людям свою помощь в хозяйстве и, не дожидаясь особых указаний, взял вилы и направился в стайки, где всегда имелась работа. Таким образом, я не дал повода ворчливой Кире Прокловне окрестить меня лодырем, да и сам чувствовал себя лучше, зная, что отрабатываю свой кусок хлеба. В августе работы в деревне много и я радовался, что могу быть полезным. В свободное время я развлекался беседами с хозяйкой или шастал по тайге с ружьецом, которым меня снабдил Яков, не забредая, однако же, далеко, так как, несмотря на приобретенные мною здесь навыки, до истинного таежника мне было еще далеко.
Как-то раз, в начале сентября, когда мы с Угрюмовым разделывали первого убитого мной марала – чем я был чрезвычайно горд – я осторожно поинтересовался у него, нет ли вестей от деда Архипа. Посмотрев на меня задумчивым взглядом, он поведал мне страшную новость – через неделю после моего отъезда из города Архип погиб от руки бандита, защищая вверенный ему склад, на который был совершен налет бандой голодранцев – порождений Советской Власти. На что именно покушались преступники в этом полупустом складе барахла – неизвестно, но Архип, всегда верный своему долгу, не остановился перед толпой человеческих отбросов и был застрелен из обреза берданки.
«Не выдержал Архип, – сказал тогда Яков. – Устал ждать, вот и смерти искал»
Я понял, что имел в виду Угрюмов и мне стало грустно. Архипа жалко, но неужели даже смерть, к тому же столь нелепая, лучше, чем жизнь на чужбине? А что, если все мои надежды на возвращение – миф, и мне тоже придется когда-то броситься на амбразуру, чтобы только прекратить муки ностальгии?
Передо мною встало лицо Архипа – умное, сосредоточенное, с ясными, проницательными глазами и той же неизбывной грустинкой в них, что и у Якова… Вот он что-то говорит мне, но я не слышу – я, как и всегда, занят лишь собою и собственными проблемами, рядом с которыми весь мир кажется мне ничтожным и лишенным смысла. Архип… Он стоит и смотрит мне в след, провожая. У него чуть сутулые плечи и грустное лицо, словно он знает, что мы больше не увидимся. Он выходил меня в болезни и дал мне письмо к своему другу, в котором просил того помочь мне. Смог ли бы и я сделать для кого-то то же самое? Употребил бы все свои связи и средства, чтобы помочь малознакомому человеку? Не знаю… Но дед Архип сделал это – видно, и в нашем потухшем мире можно еще найти искорку доброты и бескорыстного человеческого участия.
Яков присел на край трухлявого бревна, лежащего здесь с незапамятных времен и, скрутив себе массивную «козью ногу», с видимым удовольствием затянулся крепким махорочным дымом, сизое облако которого окутало едва ли не всю его фигуру. Несмотря на старый шрам во всю щеку, свободный от клочковатой, неухоженной бороды, и сетки морщин вокруг усталых глаз, Угрюмов выглядел для своих лет довольно молодо. Ему должно было быть около шестидесяти, но он держался молодцом и, лишенный каких бы то ни было признаков биологической изношенности, мог дать фору любому деревенскому парню по части работы и резвости бега по тайге. Его выносливость удивляла меня, а точные, выверенные движение рук при разделке маральей туши не допускали и намека на подкрадывающуюся старость. Яков почти не снимал свою серую, безразмерную и бесформенную тужурку, в карманах которой носил все необходимое, но я догадывался, что ни отвислой требухи, ни старческой трясущейся дряблости под ней и в помине не было. Пробежав десяток километров по таежному бурелому, этот деревенский медведь, в отличие от меня, не задыхался и не норовил вытянуться для отдыха под первым попавшимся деревом. Я выбивался из сил, стараясь не отстать от него, он же, казалось, не замечал моих потуг, как не замечал и меня самого, за исключением тех редких минут, когда снисходил до беседы со мною. В одной из них он заверил меня, что знает о моей проблеме и думает над ее решением. Однако это я слышал и от Архипа, а посему особенного воодушевления не почувствовал. Заметив мелькнувшее на моем лице разочарование, Яков пожал плечами и сказал, что я, разумеется, волен поступать, как мне вздумается и, если я полагаю, что смогу решить вопрос иным способом, он охотно даст мне хлеба и воды на дорогу. Струхнув, я горячо заверил его, что такого у меня и в мыслях не было, и разговор был окончен.
Сложившаяся ситуация попахивала безнадегой, и однообразная, лишенная малейшего дуновения ветра перемен, сельская жизнь, состоящая, по сути, из ряда следующих друг за другом в определенной последовательности физиологических актов, не давала мне возможности отвлечься от моих невеселых дум. И, хотя моя надежда отыскать когда-нибудь моего друга Альберта, а вместе с ним и объяснение всем чудесам, происходящим со мною, не угасла, я все чаще ругал себя за принятое когда-то решение довериться хитрому Райхелю и сунуться в неизвестность. Я говорил себе, что поставленной цели все равно не добился, но, к тому же, погубил и собственную жизнь, решившись на безрассудство. Но разве, струсь я тогда, не ругал бы я себя точно также за малодушие и упущенные возможности? Разве не казался бы я сам себе слизняком и бесхребетным существом, отказавшимся от выпавшего мне великого шанса в пользу сытой жизни без движения? Помнится, кто-то проницательный сказал о женитьбе: «Независимо от того, какое решение ты примешь, потом ты будешь очень жалеть об этом». Так и в моем случае – как бы я тогда не решил, я обрекал себя на последующее раскаяние.
Однако просвет в моем однообразном деревенском существовании все же наметился, хоть свежий ветерок и подул совсем не с той стороны, откуда я его ждал.
Однажды, в конце сентября, когда урожай овощей, картошки и зерновых был давно убран, зароды душистого сена высились в колхозных пригонах, а охотники готовились бить драгоценного соболя, почтальон завез на двор Угрюмовых телеграмму, велев засуетившейся Кире Прокловне расписаться в получении, для чего ей пришлось наспех обтирать заляпанные тестом пальцы о чистый, только что надетый передник.
– Чтоб тебя, Гришка! – радостно ругала она возницу-почтальона. – Ни раньше, ни позже! Едва вздумала за лапшу приняться, и ты тут! Ну, давай, давай…
– Не ворчи, тетка! Мы тоже при своих обязанностях! – привычно бурчал Гришка, глядя, как образованная Кира Прокловна выводит на сером замызганном листке свою фамилию, в отличие от большинства своих односельчан, ограничивающихся при росписи крестиком.
Сев на завалинку, женщина тут же вслух прочла мне состоящую из трех слов информацию: «Приеду второго Аглая», и тут же прокомментировала прочитанное:
– О! Приедет она! Ишь, Галактион, как официально! Можно подумать, мы тут бароны какие, что нас заранее ставить в известность требуется! Небось, муженек ее велит дипломатничать. Ну, приедет так приедет, нам что с того? Тортов все равно не печь!
Сибирский климат суров и в воздухе уже запахло снегом. Откуда ни возьмись налетал порывистый ветер, срывая с зародов куски брезента и заставляя сельчан плотнее кутаться в фуфайки. Кое-кто уже потянулся за тулупчишками да катанками, а печи топились почти постоянно, так как каждый знал – поддерживать жилое тепло намного легче, нежели заново оживлять выстывшую избу.
До того ночевавший в душистом сене, где чувствовал себя свободней, я несколько дней назад окончательно перебрался в избу. На длинных широких лавках в кухне было достаточно места, хозяйка выдала мне добротное шерстяное одеяло, а излучаемое печью тепло и вовсе обещало сделать мое проживание здесь приятным. От предложенной мне в одной из комнат задней части дома кровати я по соображениям такта отказался, уверив, что жить по старинке гораздо приятнее. Теперь же, узнав о намерении младшей дочери хозяев приехать погостить, я заволновался.
– Удобно ли, Кира Прокловна, что я здесь, на кухне, обитаю? Ни пройти, как говориться, ни проехать! Аглая ваша, насколько я понял, барышня непростая, с запросами… Не будет ли она недовольна?
Кира Прокловна в ответ только фыркнула:
– Если кому что неугодно, так мы никого не держим. Как приедет, так и уедет! А ты что же, в подштанниках тут по кухне бегать собираешься?
– Нет, но…
– Тогда и разговоров нет. А Аглайкино место никто не занимал, кровать застелена, белье свежее. Ну, а если недостаточно белое да нежное для «госпожи», так уж ничего не попишешь – не привыкшие мы жен партийных работников привечать.
В словах и голосе Киры Прокловны сквозил яд, но было видно, что она довольна предстоящим приездом приемной дочери и ждет ее с нетерпением – вон даже порозовела вся, суетится да прибирается, а ворчит, скорее, по привычке.
Яков никак не отреагировал на известие, лишь пожал плечами и ушел по хозяйству.
Второго октября я еще затемно отправился на охоту. Впрочем, охотой это назвать было трудно – мне просто нравилось бродить по тайге, слушать птичье перекликание, бросать в рот пригоршни кислой брусники и наслаждаться запахами осенних трав, пока еще снег не похоронил их под собой. Сосны шумели над головой, где-то стучал дятел, а неподалеку захлопал крыльями глухарь, перемещая свое жирное тело из одной кучи валежника в другую. Я мог, конечно, пойти на этот звук и, быть может, подстрелил бы птицу из моей берданки, да поленился. Страстным охотником я не был, а живая природа привлекала меня больше, чем убитая.
За этим занятием я совсем забыл о гостье и вспомнил о ней, лишь переступив порог избы по возвращении. Уже в клети я почувствовал запах парфюма, а нарядный передник Киры Прокловны, который она надела поверх добытого по случаю со дна сундука цветастого платья, окончательно вернул меня в реальность.
– Садись, садись, – хлопотала хозяйка, освобождая мне место на заваленной всяким добром лавке. – Сейчас Аглайка переоденется в домашнее, и буду вас знакомить. Я ей уже о тебе рассказала, и она сгорает от любопытства.
Ну надо же, подумал я, что ж во мне такого любопытного? Этим бабам только дай волю – из ничего сенсацию вылепят!
Я тщательно вымыл руки и лицо над рукомойником у печки (грязные после таежной прогулки штаны я сменил еще в клети) и из вежливости поинтересовался у Киры Прокловны, не помочь ли ей чего. Она так же вежливо отказалась, велев мне «прижаться и не путаться под ногами». Я послушался.
Занавесь, отделяющая кухню от горницы, зашелестела и выпустила к нам Аглаю, приемную дочь хозяев, которая успела переодеться и привести себя в порядок с дороги. Увидев ее, я заерзал на лавке, как будто на меня набросился целый рой пчел, и приложил все усилия, чтобы глотнуть воздуха, так как моя дыхательная мускулатура совершенно отказалась работать. Неясный стон вырвался из моей груди и голова противно закружилась.
Товарищ Алеянц же лучше владела собой и, если не считать мгновенно преобразившейся осанки и широко открытых глаз, ничем себя не выдала. Она замерла на пороге кухни и смотрела на меня так, как будто впервые увидела привидение, про которое ей много рассказывали. Ее полная грудь вздымалась, словно после пробежки, а по розовой коже лица пошли белые пятна, выказывая волнение. Через несколько секунд молчания она закусила губу и сложила руки на груди, постепенно приходя в себя. Должно быть, она ожидала встретить меня здесь еще меньше, чем я – ее.
От Киры Прокловны не укрылись наши с Аглаей эмоции, но она, должно быть, объяснила их себе по-своему, потому что широко заулыбалась и, непристойно хихикнув, вновь отвернулась к печи, давая нам возможность рассмотреть друг друга повнимательней.
Что до меня, то я, часто вспоминая эту женщину, давно выработал иммунитет к ее красоте, и был занят сейчас поиском гораздо больше интересовавшей меня детали, без которой не представлял себе товарища Алеянц, а именно – браунинга. Несомненно, она сейчас выхватит его из-под мышки и все начнется сначала…
Вместо этого Аглая, проявляя чудеса снисходительности, села на скамейку по другую сторону стола и, чуть ухмыльнувшись, изрекла:
– Ну, что ж, будем знакомы. Я – Аглая, как Вам, должно быть, уже известно. Не соизволите ли вы сообщить мне Ваше имя?
Я решил не обижаться на язвительный тон, которым она начала разговор, приписав его тому, что дамочка просто не оправилась еще от потрясения, увидев меня здесь.
– Как! Разве ж Ваша матушка не соблаговолила поставить Вас в известность? – поддержал я игру. – Очень странно, зная… скрупулезность Киры Прокловны!
– Дотошность, Вы хотите сказать?
– Но-но, поосторожнее! – донеслось из печного кута. – Я еще не померла и не оглохла!
– Ах, мамочка, не обращай внимания! – тут же отреагировала Алеянц. – Все дети подтрунивают над родителями, разве не так?
Кира Прокловна запустила в наглую дочь полотенцем, которым вытирала какую-то миску, Аглая притворно охнула и, вскочив, порывисто обняла старушку. Рядом с высокой статной дочерью та казалась тряпичной куклой с ярмарки – в отличие от мужа, хозяйка выглядела, пожалуй, даже несколько старше своих лет.
– Пусти, пусти, баловница! – приговаривала она, не спеша, тем не менее, освободиться из дочерниных объятий. – Ну, что тебе за веселье, придумала!
– Ой, мамка, соскучилась-то я как! Век бы от тебя не отходила!
– Поди прочь!
Кира Прокловна, шлепнув подхолюзницу по облаченному в широкую деревенскую юбку заду, вышла за чем-то в клеть.
После того, как дверь за ней закрылась, Аглая вернулась на свое место за столом и посмотрела на меня без прежней игривости, скорее задумчиво. Ее большие серые глаза с длинными ресницами изучали меня так, как изучают засохшую тушку какого-нибудь пресмыкающегося в музее или заспиртованного уродца в кунсткамере – с интересом, но без участия. Я решил не нарушать молчания, ибо мне нечего было сказать. Мало того, я все еще чувствовал себя жертвой, а в этой холодной, успешной, по здешним понятиям, женщине видел охотницу, от которой ничего, кроме злых нападок и неприятностей, ждать не приходилось. Не она ли держала меня под дулом пистолета и без всякого сочувствия отдала на растерзание советской милиции, в застенках которой, как она знала, у меня не было шансов? Не она ли, напрочь забыв о моем существовании, приехала развлекаться к своим родителям а, увидев меня, позволяет себе язвить и издеваться надо мной?
– Конечно, я знаю, как Вас звать. Не уверена, что Вас утешит то, что я сейчас скажу, но, поверьте, все это время я сожалела, что не спросила Вашего имени еще там, в городе, когда… Ну, в общем, Вы понимаете.
– Натурально, я понимаю! – не оставил я насмешливого тона. – Поверьте уж и Вы мне, что за прошедшее время я неоднократно возвращался к Вам мыслями! Боюсь только, что с любопытством мои эмоции не имели ничего общего. Мною руководило другое чувство.
– Ненависть? Презрение?
– Мягко сказано, товарищ Алеянц! К сожалению, мое христианское воспитание довольно слабо, и по части прощения врагам своим я, боюсь, не на высоте.
– Товарка.
– Что? – не понял я.
– Товарка, я говорю. Это форма женского рода от слова «товарищ», которым Вы изволили сейчас меня именовать. И, даже если малограмотные милиционеры называли меня так в Вашем присутствии, это не повод, чтобы повторять глупости. Кстати, товарищ Алеянц – мой супруг, поэтому давайте не будем вносить путаницу в терминологию!
Я зло рассмеялся. Эта расфуфыренная номенклатурная подстилка будет учить меня грамматике! Что-то не больно она вдавалась в филологические дискуссии, когда я едва не обгадился под стволом ее вонючего браунинга, подаренного, очевидно, ее преступнику-мужу за «подвиги» в коллективизации!
К счастью, мне удалось быстро взять себя в руки и не дать вырваться наружу словам, в которых мне потом пришлось бы раскаиваться. В конце концов, я – гость в доме ее родителей, предоставивших мне кров и харчи, и должен проявлять уважение ко всей их семье, из каких бы ползучих гадин она не состояла. Поэтому я выдавил из себя подобие улыбки и пожал пальцы ее протянутой мне руки, оказавшиеся на удивление теплыми и приятными на ощупь, чего не встречается у пресмыкающихся.
– Пусть будет так, товарка Алеянц! А согласитесь, довольно забавно – я скрываюсь в доме Ваших родителей от Вашего преследования и произвола Вашей оголтелой власти! Это второе чудесное совпадение в моей жизни за последнее время. Кстати, что Вы думаете делать? Далеко тут до ближайшего отделения уездной милиции?
Вздохнув, Аглая встала и отошла в печной угол, где загремела чем-то. Вероятно, посудой, потому что через несколько секунд она вернулась и поставила на стол передо мной большую суповую миску и стакан, которые предварительно протерла полотенцем.
– Ты из тайги вернулся. Голодный, стало быть, а потому и злой. Сейчас я налью тебе щей, а стакан материнского самогона приведет тебя в чувства. Мать очень хорошо делает самогон, да вот зря первач туда же выливает, из жадности, наверно. Первач – это яд первейший, скажу я тебе.
Воркуя таким образом, Аглая незаметно наполнила стол незамысловатой деревенской снедью и вытащила откуда-то большую бутыль с мутной белесой жидкостью, от одного вида которой меня затошнило. Заметив, как я поморщился, она засмеялась и наполнила стакан, продолжая убеждать меня в отменном качестве пойла, несмотря на наличие в нем первача и сивушных масел. Чтобы не казаться капризным салагой, я несколькими большими глотками влил содержимое стакана себе в глотку и, когда вновь смог дышать, заел его жирными щами. Удивительно, откуда у людей мясо в разгар коллективизации? Не иначе, городской зятек пособляет…
– Послушайте, а где же все? – спохватился я, перепугавшись, не будет ли моя одинокая трапеза расценена как невежливость.
– Отец уже поел – по делам торопился, а мы с матерью успеем, не волнуйся. Да, и говори мне «ты», будь любезен!
– Да как могу я, товарка Алеянц? С такой персоной как Вы, и вдруг фамильярничать! Негоже.
– Ну-ну, не будь колючим. Или мы теперь не одна семья?
Она захохотала и выскочила в клеть вслед за так и не вернувшейся матерью.
Позже, ближе к вечеру, я снова увидел Аглаю, хотя совсем не стремился к этому. Эта женщина вызывала у меня противоречивые чувства, и я ругал себя за мягкотелость, проявляющуюся во внезапном ослаблении моей антипатии к ней. Но, как бы там ни было, любезничать и, тем более, панибратствовать с ней я вовсе не собирался.
Желая как-то отметить приезд дочери, Кира Прокловна собрала нечто наподобие праздничного ужина, который, однако, постаралась обставить как можно проще: она призналась мне как-то, что муж ее не выносит торжеств и их проявлений, вроде тостов, речей и затяжных посиделок. Поэтому, как ни хотелось ей сегодня выплеснуть толику радости на праздничный стол, она была вынуждена обуздать свою широкую душу.
Тем не менее, даже простецкий пирог с повидлом из сибирских яблок да чуть больше, чем обычно, разносолов на свежевыскобленном столе вызвали, похоже, неудовольствие Якова, и он, наскоро выхлебав миску супа и отказавшись от выпивки, ушел спать, велев всем «быть потише».
– Ну как, поладили? – спросила негромко Кира Прокловна, чуть испуганно поглядывая то на меня, то на дочь, словно наши с той взаимоотношения были для нее непомерно важны.
– А чего нам ладить? – удивилась товарка Алеянц, сидевшая по правую руку от меня и в течение всего ужина подчеркивающая свое ко мне безразличие.
– Не свататься, чай, пожаловал к нам молодец! Кстати, – повернулась она вдруг ко мне, – ты на отца батрачить собираешься, или как? Если батрачить, то тебе, пожалуй, в бане спать положено, а харчеваться – на скотном дворе!
– Аглайка! – вскричала перепуганная Кира Прокловна и тут же прикрыла рот рукой, оглядываясь на ширму, за которой давеча скрылся грозный хозяин дома. – Чего болтаешь-то, неразумная? Ты уж, Галактион, не серчай на нее, она это не со зла, а от нрава буйного… Даже за мужиком не угомонилась!
Я выпрямил спину и ободряюще улыбнулся старухе – чего уж там, дескать, я все понимаю, – но чувство неловкости уже сковало мои плечи, а соленая струйка из прокушенной губы испортила вкус только что разжеванной перловки. Нет, как же я, все же, ненавижу эту подлую тварь! Она прекрасно знает, что виновата предо мной, но продолжает изводить меня всеми доступными способами. Если бы я только знал, как ответить!
– Ах, наш гость оскорбился? Ну, перестаньте же, Вам, право, не к лицу! Давайте-ка, выплюньте уксус, что так скривил Ваше одухотворенное лицо, и улыбнитесь нам, ну же!
Говоря это, товарка Алеянц повернулась ко мне вполкорпуса и подперла щеку холеной рукою, с которой успела посдергивать все кольца. Ее массивные груди легли при этом на стол, сверкая ухоженной белизной в лифе простого серого платья, и мне невольно вспомнилась пара отвратительных сцен из пошлых фильмов моего времени. Я тут же проклял свой неподвластный контролю взгляд, потому что Аглая, перехватив его, вновь засмеялась, на сей раз с ноткой торжества.
– Ой, мамка, да ваш гость опасен!
Кира Прокловна осторожно хлопнула ладонью по столу и зашипела:
– Прекрати уже, черти бы тебя побрали, Аглайка! Не знай я тебя, то, честное слово, подумала бы, что ты – уличная девка!
Но это замечание лишь еще больше развеселило жену партийного работника.
– Много ли ты видывала уличных девок, мама, что так в них разбираешься?
Терпение хозяйки, наконец, лопнуло и она завершила ужин, приказав дочери помочь ей убрать со стола, а мне не болтаться при этом под ногами, что я тут же и исполнил, демонстративно уйдя спать в баню.
Уже через пару часов я пожалел о своем поспешном решении. Первый морозец, заскучавший за лето по своим проделкам, набросился на выстывшую баню и, с легкостью проникнув сквозь преграду в виде обитой войлоком двери, принялся за меня. Несмотря на большой овчинный тулуп, который я обнаружил в предбаннике и набросил на себя, кусачий холод заставил меня соскочить с полка и, постучав еще пару минут зубами, искать спасения в доме. Демонстрируя обиду и уходя спать в баню, я, признаться, рассчитывал на то, что сердобольная Кира Прокловна бросится отговаривать меня от этой затеи, а заодно и покарает злоязычную свою дочь, записавшую меня в батраки и вынудившую совершать глупости. Я мечтал, что Аглая начнет подступать ко мне с извинениями, и я, покочевряжившись некоторое время, приму их и вернусь героем в теплую избу. Но то ли мои представления о тактике психологического давления были в корне своем неверны, то ли здесь у них люди были гораздо черствее, чем в моем времени, но расчеты мои не оправдались и мне, словно побитой собаке, пришлось самому проявить инициативу и приползти к хозяйским сапогам. Я надеялся, что все, по крайней мере, уже уснули, и мой позор не бросится в глаза, но и этой моей надежде не суждено было сбыться. Едва примостившись на лавке в жарко натопленной кухне, я услышал шелест занавески и издевательский смешок отвратительной девицы, давшей мне тем самым понять, что мое унижение не осталось незамеченным. Я тихо ругнулся и уснул в прескверном расположении духа.
Глава 20 Аглая
В это время года, когда осень уже перевалила за свой экватор и первые, еще робкие заморозки тронули почву и дикие яблочки в палисадниках, в таежной деревне наступает затишье. Все полевые и огородные работы давно завершены, подполья наполнены свежезакрытыми соленьями да вареньями, а хозяйственные да колхозные хлопоты сводятся к кормежке животины да чистке хлева и стаек. Снег, в лучшем случае, лишь пробрасывает, сразу тая и не образуя стабильного покрова, на котором видны следы промыслового зверя, и сельчанам не остается другого заделья, кроме мелких домашних работ по починке мебели и одежды да плетения новых бредней, предназначенных для вылавливания карасей да сорожняка в мутных заводях Урицы. Другой рыбы тут, можно сказать, и не водится, хотя Пашка с Колькой Суконниковы в прошлом году удивили всю деревню, выловив бреднем тайменя килограммов на шесть, то-то было разговоров! Откуда, спрашивается, в хлипкой Урице, почти пересыхающей в разгар летнего зноя, таймени? Чудеса, да и только.
Раньше, в прошлом веке, мучимые начавшимся зимним бездельем мужики вырезали в это время ложки из мягких сосновых баклуш да гнули санные полозья и охотничьи лыжи. Ныне же, в тридцатых годах двадцатого столетья, эти занятия были заменены столь же регулярными, сколь и бессмысленными лекциями в абы как сооруженном бараке, приспособленном под клуб. Все это я видел когда-то в старых советских фильмах, но не представлял, что когда-нибудь увижу воочию.
В последующие дни товарка Алеянц вела себя на удивление скромно, не лезла ни в глаза, ни в уши и о неприятном для меня происшествии в день ее приезда не напоминала. Много времени она проводила с матерью, развлекая ее рассказами о своей городской жизни, а несколько раз, одевшись, уходила куда-то. Я подумал, что она навещает старых подруг, которых у нее не могло не остаться, но как-то увидел ее возвращающейся со стороны горы Киржатки, западный склон которой был утыкан небольшими зубастыми скалами, а восточный покрыт лесом, через который когда-то проходила заросшая ныне дорога, ведущая в Улюк.
В том, что женщина совершает прогулки и дышит свежим лесным воздухом, ничего необычного не было, я и сам любитель побродить в одиночестве, любуясь природой и разговаривая сам с собой на злободневные или же философские темы, однако маршрут, выбранный Аглаей Яковлевной, был более чем странным. Во-первых, упомянутая дорога давным-давно заросла, а шастанье по бурелому, кустарнику да мшистым, осклизлым камням трудно было назвать приятной прогулкой, а во-вторых, мертвый Улюк – не самое популярное здесь место для экскурсий, и товарка Алеянц, выросшая в Николопетровке и с самого детства предостерегаемая людской молвой от визитов в несуществующую больше деревню, не могла не знать об этом. И сейчас еще, как и двадцать лет назад, сельчане старались избегать появляться в окрестностях Улюка, один лишь Яков Угрюмов, пожалуй, не испытывал уж больше суеверного страха перед этой местностью, никогда не ища обходных путей и не осеняя себя крестом, если приходилось находиться неподалеку оттуда.
Однако, несмотря на столь нехорошую репутацию этого места, факт оставался фактом – жена номенклатурщика находила некую прелесть в этих прогулках, которые ей, разумеется, никто запретить не мог. Я как-то столкнулся с ней у ворот во время ее возвращения и даже, как человек вежливый, пробурчал какое-то приветствие, но она, казалось, не заметила меня и молча скрылась в доме. Меня удивило выражение ее лица в этот момент – отрешенное, безучастное ко всему окружающему и словно покрытое эмалью глубочайшей тоски, читающейся в застывшем взгляде и опущенных уголках побледневших губ. Такую маску одухотворенности можно увидеть на лицах людей, стоящих у гроба с молодым покойником, а иногда и у самого покойника.
Внутри меня шевельнулось беспокойство, которое я тут же нещадно прогнал. С какой стати мне переживать о человеке, поступившем со мною так гнусно? Мало ли что могло найти на смешливую, взбалмошную девку? Быть может, вспомнилась ей старая деревенская любовь, не нашедшая логического продолжения, а может и просто ностальгия по безвозвратно ушедшей юности нахлынула и терзает ее неугомонное естество. В любом случае это не мое дело. Не случись этой проклятой дамочки тогда в квартире и я, скорее всего, не испытал бы столько лишений и невзгод!
Когда через пару дней я вновь увидел Аглаю выходящей из дома, я вдруг решил, поддавшись сиюминутному порыву, последовать за ней и подсмотреть, куда именно она ходит и что же, собственно, является причиной происходящих в ней перемен. Мой замысел не казался мне недостойным, как не могла быть недостойной, скажем, установка капкана на промышляющую в амбаре крысу. Думая так, я еще не осознавал, что внешне непостоянная, язвительная товарка Алеянц уже прогрызла огромную дыру в амбаре моего сердца и, с комфортом разместившись внутри, вовсю ворошила отборное зерно моих чувств.
Запахнувшись поплотнее в фуфайку, с которой в последнее время почти сросся, я отправился вслед за удаляющейся в направлении горы Киржатки женщиной, стараясь не отстать, но и, вместе с тем, не быть замеченным ею.
Если бы это случилось, ко всем моим проблемам добавилось бы еще подозрение в шпионаже или, чего доброго, в склонности к извращениям.
Товарка Алеянц шла не торопясь, время от времени останавливаясь и оглядываясь по сторонам, но не как человек, опасающийся преследования, а словно старожил, хозяйским глазом окидывающий родные места. Ее высокая, стройная фигура куталась в драповое полупальто, по здешним меркам могущее считаться роскошным, и выглядела сейчас в высшей степени незащищенной. Мне почему-то захотелось обнять ее сзади за талию и даже, может быть, накинуть мою видавшую виды фуфайку на ее озябшие плечи. Я устыдился этих мыслей.
Свернув с разбитой деревенской дороги в сторону горы-Киржатки, Аглая еще убавила шаг, виной чему было рыхлое, богатое кочками и невидимыми впадинами бездорожье. Осторожно ступая, чтобы не споткнуться и, чего доброго, не повредить себе ногу, женщина вошла в густой ельник и стала огибать гору с восточной стороны, временами прикасаясь к рельефной, смолистой коре деревьев или наклоняясь, чтобы сорвать сухую травинку. Было видно, что она знает и любит этот лес, в котором чувствует себя привольно и уверенно. Этой дорогой она, несомненно, хаживала еще в детстве, и теперь наслаждается каждой секундой, проведенной в сказочной ловушке детских воспоминаний.
Наверное, у каждого из нас есть такие места, где остался кусочек мечты, юной и ничем не омраченной, где мы бываем с грустной радостью, и где особенно остро чувствуются кривляющиеся за спиной годы. В моих воспоминаниях это, без сомнения – чердак альбертова дома, где мы с моим другом провели столько интересных, полных приключений и жутких открытий часов, давших заряд любознательности всей моей последующей жизни. Быть может именно она, эта чрезмерная любознательность, и погнала меня навстречу испытаниям, конца которым не видно.
Я продвигался вперед короткими перебежками, как разведчик из дешевых фильмов про войну, которой здесь еще не было. Несколько раз под моими ногами хрустели сухие сучья, а однажды я даже поскользнулся и завалился в куст дикой малины, ободравший мне левую щеку и часть шеи. Шум при этом возник неимоверный, и я был искренне удивлен, что Аглая не обернулась и не высмеяла меня за неуклюжесть. Видимо, она была занята своими мыслями и не очень-то интересовалась происходящим вокруг, что было мне на руку.
Вот, наконец, показались мрачные останки Улюка. Было еще светло, и, если верить преданиям, нам с Аглаей не угрожало стать свидетелями огненных плясок мертвых самосожженцев, которыми они некогда развлекались. В деревне, правда, говорили, что после исчезновения Гудика оргии прекратились, но кто их знает, этих мертвецов? Каждому ребенку известно, что злое, нечистое место навсегда таковым остается, хоть даже уставь его горшками с геранью.
Куски обугленных стен еще виднелись из земли, являясь последними свидетелями произошедшей здесь трагедии. На месте же некоторых дворов и вовсе ничего не осталось, лишь неясные, заросшие землей очертания бывших фундаментов. Я представил, как когда-то здесь, меж избами и заплотами, бегали голопузые ребятишки, смеясь и бросая друг в друга колючками репейника, а на завалинках, переговариваясь да поплевывая шелухой от семечек, отдыхали после привычной работы их дородные мамаши, большей частью снова беременные. До их слуха доносился стук мужичьих топоров, рубящих новую избу, и на все это со своего небесного трона поглядывал Господь, радуясь своим творениям. Но деревенской идиллии пришел конец, когда жадный трусоватый Гудик, заманив этих людей с помощью своей ложной учености и – в чем я не сомневался – какого-то наркотического снадобья в липкие паучьи сети дикого обмана, повелел им сжечь себя в избах, якобы во славу Божью, а на самом деле – с целью разжиться тем скудным добром, которое они сдали ему на сохранение после проведенной здесь им же церемонии пожертвования во имя «истинной веры». Одна лишь Дарья Ракшина, норовистая крестьянка со светлой головой, в коей не было места елейным россказням лже-проповедника, попыталась было воспротивиться воле священника-самозванца, да родной муж опоил ее проклятым зельем, подсунутым ему Гудиком, и бесчувственную предал пламени. Слишком поздно пришла в себя Дарья, чтобы спастись самой и вырвать детей своих из лап смерти, и могла лишь воплями своими да проклятиями выразить подлецу-Гудику свой последний протест. Огонь сожрал ее, как и всех ее односельчан.
Напрасно я ликовал, полагая, что объект моей слежки не заметил меня. Лишь только я укрылся за пригорком, ближайшим к пожарищу, и вознамерился оттуда наблюдать за дальнейшими действиями товарки Алеянц, как она, не оборачиваясь, изрекла:
– Если хочешь, то можешь, конечно, продолжать падать, царапаться, рвать о сучья одежду и кожу и ползать в грязи, мне все равно. Но почему бы тебе просто не встать с земли и не быть, наконец, мужчиной? Я от самого дома слежу за твоими ухищрениями, и мне искренне жаль тебя, если ты думаешь, что в них есть хоть сколько-нибудь смысла. Ну, так что?
Голос ее прозвенел в прозрачном осеннем воздухе и запутался в соснах у подножия Киржатки. Мне же ничего другого не оставалась, как выйти из-за холма и «быть мужчиной», чувствуя себя сопливым юнцом. Разоблачение моей слежки было позорным, и нужно было хотя бы постараться сделать хорошую мину при плохой игре. К тому же, разоблачения, как такового, и не было – слежка провалилась в самом начале.
Я, сконфуженно, вобрав голову в плечи, подошел и стал рядом с Аглаей, замершей у самого входа в покрытый сажей «крематорий», некогда бывший Улюком. Я ожидал упреков или, что еще хуже – насмешек, но Аглая, лицо которой приобрело уже виденное мною когда-то у ворот дома выражение, неожиданно повела разговор совсем иначе:
– Там, в городе… Я ведь и вправду не знала, кто ты, а уж тем более представить себе не могла, что у тебя есть что-то общее с отцом. Я думала, ты – один из тех, что преследуют моего мужа, и испугалась. Ты ведь видел мой испуг?
– Да уж трудно было не заметить, – ответил я и тут же укорил себя за мелькнувшую в моем тоне нотку сарказма. – Но ты, насколько я помню, сориентировалась довольно быстро!
– Алеянц учил меня. Он… постоянно чего-то боится. Вечно настороже и как будто в ожидании нападения. Вот и мне… Стреляй да стреляй, говорит, по мишеням, чтобы, если придется, в лоб человеческий не промахнуться. Но я очень рада, что ты оказался покладистым и стрелять не пришлось.
– А что, смогла бы? – заинтересовался я судьбой, которой избежал.
– Почему нет? Ты ведь грабитель, а я – жена высокого партийца. Представь только, как забавно смотрелась бы маленькая круглая дырка у тебя меж бровей!
– Да уж, куда забавней…
Произнося все эти глупости, женщина сохраняла убийственно серьезное выражение лица, так что начало даже казаться, что она не шутит.
– Отец рассказал мне, в чем дело, хотя и не должен был. Так что я знаю эту часть твоей истории и не удивляюсь больше тем странным штукам, что нашла в твоей смешной сумке.
Я вздрогнул. Что значит – рассказал? Зачем?
– Так значит, фотоаппарат у тебя? – спросил я напряженно, хотя художественная съемка, признаться, интересовала меня теперь менее всего.
Аглая кивнула.
– Отец, думаю, поможет тебе, хотя…
– Что?
– Он должен убедиться, что ты тот, за кого себя выдаешь, а не из тех…
– Каких – тех?
– У него тоже есть враги, Галактион, и гораздо более могущественные, чем ты можешь себе представить. Если, конечно, ты не один из них.
– Я не один из них, – заверил я женщину, к которой по непонятным причинам вдруг перестал чувствовать ненависть.
– Посмотрим.
Мы помолчали, глядя поверх черных останков деревни на колышущиеся вдалеке верхушки сосен.
– Ты сказала, что кто-то преследует твоего мужа. Это правда?
– Не знаю. Он так говорит. Якобы кто-то принуждает его делать то, чего он не хочет. Но, думаю, это может быть и психическим заболеванием, что и немудрено в их змеином клубке, который они называют номенклатурой. Им на каждом шагу мерещатся враги.
Я огляделся по сторонам и, тронув Аглаю за плечо, указал на полусгнивший ствол упавшего дерева.
– Может, присядем?
– Не могу. Мое пальто слишком тонкое, а бревно холодное. Когда-нибудь мне, наверное, придется рожать детей, так что не стоит.
Я согласился. Не стоит.
– Зачем ты ходишь сюда, милая барышня?
«Милая барышня» не улыбнулась, словно не поняла призыва.
– Здесь моя вторая родина.
– Где – здесь? – не понял я. – В Улюке?!
– Нет, не в Улюке. В этих вот сожженных развалинах.
В воздухе повис немой вопрос. Аглая вздохнула.
– Тебе ведь известно, что Яков с Кирой мне не родители. То есть они, конечно, воспитали меня, помогли встать на ноги и все такое, но не их стараниями я появилась на свет… Отец мой был не то купцом, не то каким-то финансовым мошенником и жили мы в уездном городе, где у нас был дом со множеством комнат, лошади и прочее добро, без которого, пожалуй, жизнь превращается в каторгу во благо неизвестно кого. Была у меня, само собой, и мать, но ее я помню не очень хорошо – худая, неласковая и молчаливая с нами, детьми. Как ни мала я была в то время, а заметила, что у матери с отцом не все ладится: какое-то напряжение всегда висело в воздухе, отчего и мне, помню, редко бывало радостно. Тебе интересно?
Я заверил Аглаю, что очень, и она продолжила все так же монотонно:
– Потому, надо думать, и Соня – моя старшая сестрица – выросла такой злой и неуживчивой. Может быть, конечно, мне это только казалось в том возрасте, но я старалась по возможности избегать ее, а обиды сносить терпеливо.
Но однажды дела отца вдруг резко пошли под гору, да так, что он решился на переезд, то есть, скорее, на побег, иначе зачем же срываться так внезапно с насиженного места? Помню, как нас подняли среди ночи и приказали полезать в сани – дело было поздней осенью и уже лежал снег, после чего мы помчались в неизвестном направлении. Матери с близнецами на руках пришлось, пожалуй, труднее всего: младенцы беспрерывно уросили, ныли и требовали грудь, но она терпела и молчала.
Ехали долго. Так долго, что у меня начала болеть и кружиться голова, ломило кости, после чего меня вырвало. Где-то ночевали, и я помню восхитительную горячую похлебку из гороха с гусятиной, которой меня накормили те люди. Ни до, ни после мне не доводилось есть ничего подобного! К сожалению, это не помогло. Болезнь моя не отступала и я стала бредить: мне мерещились безобразные цветастые узоры, со всех сторон наступающие на меня, отчего я закричала и забилась в конвульсиях. Я не отличала дня от ночи, а голоса родных – от хриплого воя тварей из моих кошмаров. Краешком сознания я уловила слова «больна… лихорадка…», произнесенные неизвестно кем, да еще визгливые нотки голоса Сони, накричавшей на меня за что-то. Потом я вновь очутилась в санях – должно быть, батюшка мой не возжелал терять драгоценное время из-за такой мелочи, как здоровье дочки, – и помню немного. Духота, пекло, сменяющееся ознобом и черная пропасть, в которую я проваливалась все глубже и глубже. Полагаю, что была тогда на шаг от смерти.
Головокружение и неясные видения продолжались, и я вдруг увидела себя на руках у женщины, прижимающей меня к своей груди и медленно, тяжело бредущей через заснеженный лес. Ее голова и лицо были укутаны в платок так плотно, что я совсем не могла рассмотреть ее черты и чувствовала скорее инстинктивно, что это – женщина. Что-то странное было в ее походке, неестественное, словно она была не человеком, а старинными часами, стонущими при каждом покачивании маятника, но ни разу не сбившимися со своего размеренного ритма.
Что произошло потом – до сих пор для меня загадка. Я словно жила в каком-то неведомом мире, наполненном красками и диковинными узорами, подобными тем, что являет глазу детский калейдоскоп или дикая, разнузданная народная пляска. Причиной тому, несомненно, была моя разгулявшаяся хворь, но боли я не помню – сплошное лишь удивление. В те короткие мгновения, когда я приходила в себя, окружающее представлялось мне еще более странным, чем мои видения: свинцовое, чаще ночное небо с редкими блестящими глазками звезд или громадами туч, и неясные, расплывчатые силуэты, вращающиеся вокруг меня на фоне черных, обугленных останков каких-то строений. Тех самых, что ты видишь сейчас перед собой, Галактион. То были погибшие избы мертвой деревни Улюк. Тогда я еще не знала этого и воспринимала сию мрачную картину как еще одно «чудо» лихорадочного бреда, не желающего оставить меня в покое, но после, когда суть произошедшего стала мне более или менее понятна, я начала называть это место моей второй родиной. Я и сейчас не знаю точно, что это было, но одно мне ясно – не будь той женщины и этой деревни, не было бы уже на свете и меня. Я исчезла бы, испарилась так же, как пропали мои мать и отец, моя зловредная сестра Соня и те двое глупых малышей, что дрались и воевали друг с другом за право первому ухватить материнскую грудь.
Ну и, наконец, однажды ночью я вдруг осознала, что иду по лесу, а за руку меня держит та самая женщина, что когда-то несла меня, умирающую, через тайгу. Но теперь все было иначе: она больше не была мне чужой, я хорошо-хорошо знала ее, хоть и не смогла бы объяснить, откуда. Едва слышный звук ее мерных, похожих, как я уже говорила, на стук часов, шагов действовал на меня благотворно, а ее рука, жесткую силу которой я чувствовала через ткань моих рукавиц, вселяла в меня уверенность. Я отчего-то боялась поднять глаза и посмотреть на нее, словно кто-то невидимый, но очень влиятельный и могучий наложил табу на это, но мне было хорошо и так.
Мы вышли на дорогу и женщина, легонько подтолкнув меня в спину, шепнула: «Иди прямо. Не бойся. Как-то будет…». А через какое-то время я обнаружила себя стоящей на деревенской улице, где меня и увидел Яков Угрюмов, а затем привел в свой дом. Он ничего не спрашивал и не пытался разыскать моих родителей, не уговаривал домочадцев «быть со мной помягче» и не искал мне пристанища по соседям, – он просто взял меня к себе жить. Вот и все. Я ответила на твой вопрос?
– Более чем, – откликнулся я, хотя, вроде бы, ничего конкретного и не спрашивал. Ну, что ж… Иногда человеку просто хочется выговориться, и такой вот, как я – малознакомый и неинтересный персонаж, подходит для этой цели как нельзя лучше.
Внезапно что-то насторожило меня. Нет-нет, с товаркой Алеянц все было в порядке, – она стояла, кутаясь в свое не по сезону тонкое драповое полупальто, рядом и, кажется, думала о чем-то. А вот между улюкских развалин определенно что-то мелькнуло. Что-то быстрое, похожее на тень, выскользнуло из-за одной из обгорелых бревенчатых стен и тут же скрылось за бесформенной грудой полусгнивших досок забора, на мгновение заслонив собой блестевший меж руин скупой луч заходящего солнца. Что это могло быть? Животное? Человек? Галлюцинация?
Раздумывал я недолго. Сорвавшись с места, чем перепугал тихо вскрикнувшую Аглаю, я совершил огромный прыжок в том направлении, где мне почудилось присутствие неведомого шпиона. Я намеревался в несколько секунд достичь этого места и разоблачить мерзавца, но обидно просчитался: моя нога, не привыкшая к прыжкам по осклизлым, покрытым мхом таежным кочкам, предательски заскользила, и я, долю секунды безуспешно побалансировав на ней, рухнул на сырую землю, ударившись коленом о какой-то чертов выступ и мгновенно промочив насквозь брюки.
Когда смех Аглаи смолк, она весело поинтересовалась, что случилось. Подойти и заботливо помочь мне подняться она даже и не подумала, чем нанесла мне очередную смертельную обиду. Я что-то невнятно пробурчал, поднимаясь с земли – колено мое болело, и я не был расположен подыгрывать противной девке в насмешке надо мною. Хватит с нее и того, что я терплю ее издевательства и не пытаюсь мстить за выходку в городе.
Пошевелив руками и ногами и удостоверившись, что ничего не сломано, я заковылял прочь, чертыхаясь про себя и понимая, что выгляжу по-детски глупо. Разве обиделся бы на такую мелочь, скажем, Яков Угрюмов или профессор Райхель? Хотя этот бы, возможно, и обиделся… Как бы там ни было, я не желал сегодня более разговаривать с товаркой Алеянц, и мечтал об одном – поскорее добраться до дома и приложить что-нибудь холодное к начавшему опухать колену. К счастью, во дворе Якова имелся ледник, и кусок льда оттуда очень помог бы мне.
Я шел медленно, превозмогая боль, однако Аглая не обогнала меня, бесшумно двигаясь шагах в двадцати позади и наблюдая за моими мучениями. Наверное, она хотела продемонстрировать озабоченность моим состоянием и готовность прийти мне на помощь, но я в этом не нуждался. Она не пыталась со мной заговорить, и меня это вполне устраивало. Гораздо больше меня занимало другое: на самом ли деле я кого-то видел на развалинах Улюка или мне это лишь привиделось? Ни слух, ни зрение никогда еще не подводили меня, так с чего бы это мне начать видеть несуществующую чушь? Разве ж привиделся мне мой преследователь тогда, после побега из психбольницы? А может, вся та история в альбертовой квартире, пережитая мною в детстве, мне померещилась? Тогда уж и вся моя жизнь – мираж! С другой стороны, судя по снисходительному смеху Аглаи, она ничего не видела, хотя и смотрела в ту же сторону, что и я, и ничто не насторожило ее и не привлекло ее внимания.
Глава 21 Сосед и Карты
К сожалению, льда в леднике не оказалось, и проснувшись на следующее утро, я обнаружил, что почти не могу ходить: колено мое распухло настолько, что просто не проходило в штанину, и я был обречен провести весь день в подштанниках. Поход в туалет, находящийся как назло в дальнем конце огорода, отнял у меня целую вечность, так как после каждого шага я вынужден был подолгу отдыхать, морщась от боли и с шипением гоняя воздух между стиснутых зубов.
Яков, заметив мое состояние, молча взял вилы и отправился в стайки, освободив меня на сегодня от этой обязанности. Кира Прокловна наколдовала на печи какое-то народное средство, показавшееся мне просто вонючей жижей, и велела приложить смоченную этим зельем тряпку к больному месту, что я покорно и исполнил. Но, ожидая постоянного внимания хозяйки к моей беде, я ошибся – уже через минуту она, казалось, начисто забыла о моем существовании и занявшись починкой одежды, предоставив мне валяться на лавке сколько угодно и чувствовать себя отщепенцем и дармоедом в одном лице. Приемная же ее дочь, из-за которой – я свято верил – со мною и случилось несчастье, всю первую половину дня провела за чтением, сидя в каких-то двух метрах от меня и упорно делая вид, что находится на необитаемом острове. Перекладывая книгу из одной руки в другую, она демонстрировала мне поочередно свои белые, с просвечивающими сквозь кожу голубыми венками запястья, и я не сводил с нее глаз, потому что она была единственным заслуживающим внимания «событием» в крестьянской избе. Не имея ни чтива, ни другого какого занятия, я до той поры заскучал, что несколько раз был почти готов заговорить с ней, но мое упрямство, которое я именовал гордостью, не позволило мне это сделать.
За обедом Яков смотрел на меня как-то странно, и мне показалось даже, что у него есть ко мне дело, но потом, видимо, передумал и, не сказав мне ни слова, снова ушел по хозяйству. После того, как и Кира Прокловна отлучилась со двора, я вновь остался вдвоем с Аглаей. Она словно издевалась надо мной, с невозмутимым видом сидя у окна и поплевывая на стол скорлупу кедровых орехов. Перед нею лежала все та же книга, и вторая половина дня обещала стать столь же невыносимо скучной, как и первая. Если бы я был точно уверен, что дамочка затеяла со мною игру, то с удовольствием подыграл бы ей и молчание могло бы длиться вечно. Но что, если она и в самом деле увлечена этой своей – наверняка коммунистической!
– книжонкой и просто не замечает меня? Что, если, дочитав ее, она заскучает и попросту уйдет из кухни, а потом уедет? Я вдруг почувствовал, что мир, как это ни банально звучит, опустеет без товарки Алеянц, съежится до маленького грязного комочка и станет черно-белым. Если эта женщина исчезнет, тои дом, и тайга, и даже легенда о страшном Улюке потеряют смысл, обезвкусятся, станут дистиллированной водой, и мне не останется ничего другого, как перебраться жить в будку Дыма – волчьего сына, где я буду вместе с ним выть морозными ночами, проклиная свою злую судьбу.
Но что же это со мной? Как мог я позволить этим странным, недостойным меня мыслям возникнуть в моей, всегда такой светлой и рациональной, голове? Неужто это болезнь, телесная немощь измывается надо мной, размягчая волю и превращая меня в достойного жалости слюнтяя? Куда делись мой бодрый дух и мои принципы? Или амнезия поразила меня и я запамятовал, что есть для меня Аглая и какую роль она сыграла в моей судьбе?!
Я собрал в кучку все свои негативные мысли и взглянул на нее, нахмурив брови. Она сидела, подложив под себя ногу, и читала, наматывая при этом на палец выбившийся из прически локон столь трогательно, что вся моя напускная сердитость сразу улетучилась, а сердце начало выстукивать какие-то странные восточные ритмы. Я вздохнул и отвернулся к стене.
Незаметно для себя я заснул, а когда проснулся, вокруг меня была темнота. Должно быть, я проспал несколько часов и не слышал, как вернулись хозяева и отправилась спать Аглая. Должно быть, и ужин прошел без меня, если вообще состоялся… Мне стало обидно, словно я, сваленный водкой, отключился в разгар веселой попойки, а очнулся один в пустой комнате, с отвратительным привкусом во рту и горечью оттого, что пропустил все самое интересное. Спать мне больше не хотелось, а секунды, отбиваемые ходиками на стене, текли так медленно, что я вконец приуныл: ночь обещала быть нескончаемой. Приподнявшись на лавке, я дотянулся до часов и чуть приподнял сделанную в форме еловой шишки гирю – ходики замолкли. Отпустил – снова пошли. Приподнял…
Прекратив баловство, я решил последовать тянущему зову природы и выйти на двор. Уже перед обедом начинало снежить, и Яков даже предсказывал вьюгу. Пророчество его, судя по всему, сбылось – крыши, двор и даже приткнутую к стене сарая будку Дыма покрывал толстый, в две ладони, слой снега. Остановившись на крыльце, я с детской радостью набрал полные легкие колючего морозного воздуха, смахнул рукой снег с перил и осторожно, боясь поскользнуться, стал спускаться. Лишь взрыхлив носками наспех напяленных галош нетронутое снежное одеяло, я заметил, что почти не чувствую боли в ушибленном давеча колене. Я помахал ногой в воздухе, согнул-разогнул колено и даже попробовал присесть, держась рукой за стену дома – болезнь уступила терапевтическому натиску Киры Прокловны и – мне почему-то очень хотелось в это верить! – молитвам товарки Алеянц. Порадовавшись исцелению и тому, что моя роль трутня в доме Угрюмовых сыграна, я резво сделал первый шаг по чуть схватившейся морозцем земле и тут же, поскользнувшись, сел на снег. Посмеявшись над собой, я решил быть осторожнее.
Справив нужду в пригоне и вдоволь насмотревшись на усеянное мерцающими звездами безоблачное небо, я собрался вернуться в избу, так как в подштанниках и накинутой на плечи фуфайке Киры Прокловны уже порядком озяб. Дым, как ни странно, не вылез из своей будки, чтобы вместе со мной полюбоваться красотами зимней ночи. Как я его ни звал, он предпочел негу чуткого волчьего сна сомнительным человеческим удовольствиям. Ну и пусть себе дрыхнет!
Уже занеся ногу над первой ступенькой крыльца, я услышал какой-то шорох. Не шорох даже, а тонкий скрип со стороны надворных построек, будто кто-то отворяет дверь бани или ходит там по полу в скрипучих сапогах. Я насторожился и прислушался.
Звук повторился, но теперь я был уверен, что это снег скрипит под копытами какого-то животного, бродящего за стайками. Но какого? А может, это и не животное вовсе, а человек – притаился в ночной тиши двора и ждет, пока я уйду, чтобы продолжить начатое? Однако что же он мог замыслить такого преступного во дворе тихой таежной деревни, что вынужден был прятаться? Не иначе, мне все это померещилось! Нервы ни к черту с этим «средневековьем» да некстати проснувшейся чувственностью, чтоб ее!
«Есть здесь кто?» – крикнул я не очень уверенно, боясь разбудить спящих в доме людей. Никто мне не ответил, что, впрочем, было неудивительно. Ну, и черт с ними!
Обивая снег с галош о ступени, я поднялся на крыльцо и дернул дверь в избу, решив одеться потеплее, потом выйти еще раз и убедиться, что все в порядке и это мое воображение шутит со мною глупые шутки.
Никуда я, естественно, не вышел. Оказавшись в теплой избе, я не смог противостоять соблазну залезть под дожидающееся меня одеяло и, как ни странно, сразу же снова уснул, хотя и думал, что выдрыхся до этого. Обольстительница-Аглая поманила меня своим длинным ухоженным пальцем и, постоянно показывая мне почему-то запястья, увлекла меня с собою в сновидение, где шел снег, топилась печка и весело прыгал огромный непослушный Дым, заставляя меня хохотать и размахивать над головой старенькой фуфайкой Киры Прокловны.
Едва начало светать, меня тронул за плечо Яков.
– Ты, парень, это… Когда ночью во двор выходил, никого там не видел?
Я протер глаза и сел на лавке, не сразу сообразив, чего от меня хочет хозяин дома.
– Да нет… Никого. Хотя…
И я рассказал ему о звуках, слышанных мною и о том, что подумал, будто мне это померещилось.
– Выходит, не померещилось, – сокрушенно покачал головой Угрюмов. – Весь снег за стайками истоптан – кто-то там наверняка ошивался. И вот что странно – чуткий Дым даже не отреагировал, хотя ночной гость находился в каких-нибудь пяти-шести метрах от него! В другое время наслушались бы мы его рыка, а тут…
– Не хочешь проводить меня в Улюк? – неожиданно спросила Аглая сразу после обеда.
– Разве это входит в обязанности батрака? – схамил я и тут же раскаялся в этом. Если она сейчас пожмет плечами и уйдет, я никогда не прощу себе этой оплошности!
– Мне просто показалось, что мы оба не так уж равнодушны друг к другу, как хотим казаться. Но если ты не хочешь…
Вот те раз! И это говорит мне мужняя жена, отпущенная благоверным погостить к маме на месячишку! А я-то думал, что это только у нас, на рубеже тысячелетий, бабы краев не видят! Хотя, может быть, я льщу себе и она имела в виду нечто совсем иное?
Но я прекрасно знал, что ничего «иного» женщинам в голову прийти не может, а потому расцвел, как гладиолус, хоть и старался изо всех сил не показать виду.
– Послушай-ка, товарка Алеянц, я помню, чем заканчиваются походы в эти проклятые развалины, и не думаю, что смогу еще раз простить тебе насмехательство надо мной.
– Простить? – Аглая удивленно раскрыла глаза. – Разве я просила у тебя прощения?
Мне стало неловко от собственной неуклюжести. Надо подбирать слова! Теперь вот эта дамочка стоит и с довольной физиономией наблюдает за твоим смущением, а ты чувствуешь себя последним идиотом! Я решил в корне сменить тему и перехватить инициативу.
– Кстати, милая, сколько тебе лет? Только не надо жеманничать и рассказывать мне, что можно спрашивать у женщины, а чего нельзя, договорились?
Теперь Аглая смотрела на меня, как на диковинного павлина в зоопарке – ей нравились цветные перья моей бестолковости, ради них она даже готова была терпеть пронзительный надсадный визг, которым так славятся павлины.
– Почему я должна что-то такое рассказывать? – спросила она тоном, каким у ребенка спрашивают, почему он накакал в штаны. – Разве женщины могут выставлять себя на продажу, как товары в витрине?
Вспомнив витрины Сан Паули (квартал удовольствий в Гамбурге – прим. авт.), я хотел сказать, что видел много таких женщин, но промолчал.
– Ярлык должен соответствовать товару, не правда ли, милый Галактион? – вернула она мне это противное слащавое слово «милый». – Я родилась в пятом году и ты, если немного знаком с арифметикой, можешь легко подсчитать, что мне – двадцать пять. Ты, полагаю, увидел мир немного раньше?
Да уж… Я представил себе, как она будет выглядеть в год моего рождения – если доживет, конечно, – и улыбнулся.
– Я не помню пятого года, Аглая. Но, в любом случае, ты ошиблась – я прожил на два года меньше тебя.
– Вот как? Тогда должна сказать тебе, что ты порядком поистаскался!
Я вновь смутился, хотя и не считаю, что мужчины должны столь же ревностно относиться к своим годам, как их подруги.
– Ладно, – буркнул я, – пошли в твой Улюк.
Был поздний вечер. Легкий морозец пощипывал кончик носа и пальцы на ногах. Днем снег немного подтаял и я не стал надевать катанки, чтобы не замочить их. Сейчас, после наступления темноты, приближающаяся зима явственней давала себя знать, подморозив образовавшиеся во время дневной оттепели лужи и теперь вот добравшись до моих ног. Товарке Алеянц, вероятно, тоже было не жарко, но она не подавала виду.
Побывав в Улюке и даже успев поваляться там в большом мокром сугробе, где я, вспоминая виденные когда-то наивные фильмы про любовь, как бы невзначай тронул губами мочку уха моей спутницы, мы решили вернуться в Николопетровку другой дорогой, для чего нам пришлось довольно долго подниматься в гору и срезать кусочек леса. Зато прогулка получилась куда более продолжительной, чем в прошлый раз, когда я убегал от Аглаи как угорелый, и, несомненно, более продуктивной. Мы успели обсудить все мировые проблемы, и знали теперь друг о друге гораздо больше.
«Я постоянно забываю, откуда ты, – говорила моя спутница. – Да и, сказать по правде, вся эта история кажется мне вымыслом. Одного не могу понять: зачем вам с отцом нужно было так все запутывать? Но, в конце концов, это не мое дело…»
В ответ на это я отмалчивался или отвечал уклончиво, стремясь перевести разговор на другую тему. Да и что я мог сказать?
Из рассказа Аглаи я понял, что супруг ее – товарищ Алеянц – летал довольно высоко на уровне областной партийной власти и рассчитывал даже со временем на перевод куда повыше, как и все чиновники местного пошиба, что бредили Москвой и считали себя достойными издеваться над народом в более крупном масштабе. Он чрезвычайно гордился своим участием в гражданской войне и своей смекалкой, позволившей ему вовремя переметнуться из стана эсэров к большевикам, а из именного браунинга с удовольствием палил каждую пьянку, то есть два-три раза на неделе. С собой он носил другое оружие, оставляя эту «игрушку» Аглае на случай самозащиты.
На невысоком, располневшем за последние годы Алеянце женщины никогда не задерживали взгляда, предпочитая краснолицему усатому коротышке кого угодно другого, поэтому занимаемый им пост был и тут весьма кстати: верные холуи заботились о том, чтобы поток миловидных дамочек к нему не прекращался, немало не беспокоясь при этом моральной стороной столь щепетильного дела. Да и сам он расхрабрился, почувствовал силушку, и не стеснялся уж более говорить красоткам скабрезности, вербуя их во взвод своих любовниц. Одну из них он даже поселил в том доме, куда въехал сам, ловко обосновав перед жилищной комиссией необходимость выделить целую квартиру двукратной матери. Девочки-дочки этой особы – Ксюша да Наденька – целыми днями резвятся теперь во дворе, напоминая Аглае о ее позоре. Наверное, она жутко ревновала бы, если бы испытывала к Алеянцу хоть какое-то человеческое чувство, но была спасена от этого тем, что он – напоминающий краба самодовольный болван – ничего, кроме брезгливости, в ней не вызывал. Я не стал спрашивать Аглаю, какие мотивы подвигли ее на замужество с этим типом, раз уж он такой отвратительный – мне и так все было ясно. Свободолюбивая красавица просто презрела родительский дом, работу в стайке да коровьи лепешки под ногами и использовала первую же подвернувшуюся возможность перебраться в город, наслушавшись банальных, заезженных увещеваний деревенских бабок навроде «стерпится – слюбится». Такие рассуждения мне отлично знакомы – и в моем времени недалекие колхозные шлюшки-простушки, возомнив себя богинями, целыми пачками отправляются «покорять столицу», большей частью оказываясь именно там, чего и достойны – на пятачке перед входом в вокзал, именуемом в народе шалавой…
Незавидная эта судьба, однако же, миновала Аглаю, вместо дешевой проститутки вылепив из нее Товарку Алеянц – особу важную и чрезвычайно заносчивую, как и все выходцы из «низов». Она и не думала устраивать мужу скандалы по поводу его справляемой на стороне похоти, а жила в свое удовольствие, радуясь, что не надо доить и провожать в стадо коров, а вечерами штопать пропахшую потом трухлявую одежду супруга.
Примерно год назад у партийного деятеля появились первые признаки психического недомогания: он начал утверждать, что кто-то якобы следит за ним, не спуская с него глаз и ловко прячась всякий раз, когда Алеянц пытается его застукать. Днем и ночью чувствовал первый секретарь горкома незримое вражеское присутствие и «склонялся к мысли, что речь идет об иностранных интервентах, пытающихся всеми силами навредить лучезарной Советской Власти». Он увеличил штат личной охраны и никогда не расставался с пистолетом. Свой именной браунинг он считал пригодным лишь для стрельбы по воронам и потому вооружился более массивным крупнокалиберным «Смит-Вессоном», который теперь постоянно болтался у него под брюхом.
Всякий раз, когда Алеянц выходил из дома или здания горкома партии, водитель обязан был открывать багажник и все двери автомобиля, демонстрируя параноику, что никто не укрылся внутри с целью напасть на него. Он запирал теперь в сейф даже газеты и часы, дабы английские шпионы не узнали последних новостей и местного времени, а карманы своего пиджака велел наглухо зашить, чтобы ненароком не забыть в них чего важного. На вопрос, почему шпионы должны быть именно английскими, он без малейших признаков логики ответил: «Потому что я ихнего англицкого языка не ведаю», из чего можно было сделать вывод, что языки всех остальных подозреваемых в шпионаже стран – а значит, всего мира – он ведает. А как-то ночью он вдруг вскочил с постели и бросился к входной двери, словно ему скипидару влили в известное место. Там он замер и битых полчаса напряженно прислушивался, уверенный, что на лестничной площадке притаились недоброжелатели. Просто открыть дверь и посмотреть он не решился.
«Совсем сбрендил, заморыш», – подумала тогда Аглая и укрылась с головой одеялом, чтобы быть как можно дальше от бесноватого супруга и не слышать его возни. Впрочем, когда она увидела в своей спальне меня, то первой ее мыслью было, что муж-то вовсе и не сумасшедший, и его враги перешли к более активным действиям. Тогда она проверила меня с помощью простой уловки, и я попался, как мог попасться только иностранный интервент. Тогда ей не пришло в голову, что шпион-то как раз и знал бы все нюансы советской политики и не опростоволосился бы.
Мужу она, однако же, ничего не сказала. Поступи она так, и меня, должно быть, уже не было бы в живых. Я был очень благодарен за это моей собеседнице, хотя и не исключал, что товарка Алеянц просто лжет мне, показывая себя в выгодном свете. Аглая не сомневалась, что ее супруга сразила некая «психическая лихорадка» и ничего хорошего его впереди уже не ждет. Иногда ему, впрочем, становилось лучше, и он по нескольку дней не заговаривал о преследовании, но потом все возвращалось, и мучения Аглаи продолжались. Потому-то она и приехала к родителям в деревню, чтобы хоть на несколько недель обрести покой.
Выслушав все это, я не стал рассказывать скорой на диагнозы товарке Алеянц о ночном происшествии во дворе, как и о человеке, что шел за мною от самой психбольницы в городе и явно имел нехорошие намерения. Да и про саму больницу я упомянул лишь вскользь, сказав, что там, дескать, разобрались в ситуации и выпустили меня. Словосочетание «разобрались и выпустили» граждане Страны Советов слышат каждый день по многу раз, а посему ни капли не сомневаются в его правдивости. Вот и Аглая, услышав это, не стала задавать дополнительных вопросов. Да и какие могут быть вопросы, если выпустили?
За разговором мы не заметили, как стемнело. Я машинально приобнял товарку Алеянц за талию – она не отстранилась. Ее мягкие волосы коснулись моей щеки, и по спине у меня пробежал легкий озноб возбуждения. До дома нам оставалось всего ничего – обогнуть холм, на котором возвышался так и стоящий особняком терем вдовы Гудика, да там еще метров двести по улице. Минут за десять дойдем. Мне почему-то стало грустно – хотелось идти и идти рядом с такой живой, такой разносторонней и настоящей товаркой Алеянц, идти и ни о чем не думать.
Слева от нас, на холме, вдруг замигал огонек, а чуть позже до моего слуха донеслось невнятное бормотание безумной старухи Зинаиды. В этом не было ничего удивительного – старая вдова часто наматывала круги по ночному огороду, держа перед собой свечку и взывая к духу своего мужа. Никто, правда, не видел бесследно пропавшего Гудика мертвым, но в том, что нелюбимый персонаж деревенских преданий отжил свое, никто не сомневался. Должно быть, нарвался в тайге на медведя или в поле на дикого кабана, а эти, как известно, не церемонятся с нашим братом, а уж тем более, если наш брат – такой непривлекательный жадный поганец, каким был Илья Гудик. Даже религиозное «о мертвых – хорошо или ничего» не уберегло его от проклятий и злословия стряхнувших с плеч страх перед авторитетами сельчан. Вот и Зинаида – старая ведьма – отчаялась ждать сгинувшего муженька, и взывает теперь только лишь к его духу, который, по ее убеждению, почему-то обретается в огороде. Иногда она упрекает его в греховности и даже кричит на беспомощный дух, порой же жалуется ему на некого мертвеца, который охраняет свое добро столь ретиво, что ей-де и не подступиться. В деревне сначала гадали, о чем именно толкует старуха, но потом махнули на нее рукой, приписав эти бредни ее сумасшествию.
– Что-то там не так, – произнесла вдруг Аглая, остановившись и глядя на мерцающий огонек свечи.
– Что там может быть не так? – откликнулся я, уже неоднократно наблюдавший картину ночного блуждания Зинаиды. – Все как обычно – корит, наверно, Гудика-подлеца за что-нибудь.
– Нет-нет, Галактион! Она, похоже, с кем-то разговаривает.
Выражение лица товарки Алеянц было озадаченным. Она чуть сдвинула брови, закусила нижнюю губу и стала еще желанней.
– С ним, поди, и разговаривает, с кем же еще? Или ты думаешь, к ней ходят гости?
Но тут и до моего слуха долетел приглушенный, бубнящий мужской голос, что-то терпеливо объясняющий старухе. Та перебивала его, начинала сетовать на годы да немощь, но голос был неумолим. Мы осторожно приблизились к местами прохудившемуся забору из сосновых досок и прислушались.
«Не буду, не буду я тебе ничегошеньки толковать про то, окаянный! Живи себе, сколько хошь здесь у меня, а в илюшенькины гешефты носа не суй. Чего припрятано, то не про тебя» – бренчала старуха, постепенно выходя из себя от непонятливости ночного посетителя. Однако тот, похоже, сдаваться не собирался.
«Не нужно мне его добро, бабка, – терпеливо гнул незнакомец свою линию. Ни золота, ни каменюг этих цветных я не хочу. Мне надобны лишь карты, говорю я тебе, упрямая! Бумаги, черт бы их побрал! Я вот только гляну, не там ли они, и отстану тогда от тебя»
«Не знаю я никаких карт, тебе говорят! Нетути их там. Да и задерет тебя мертвец-то, если сунешься! Дюже осерчал он из-за семейства своего, какое Илюшенька загубил…»
«Авось не задерет, бабка, – приглушенно увещевал визитер. – Знаю я секрет один, чтобы не задрал. Давай-ка, значит, прямо сейчас покажи мне место, вместе и поглядим!»
«Да что ж ты за человек! Ни в избе, ни на дворе от тебя не избавиться! Сказано тебе – нету здесь твоих карт, значит, так оно и есть. А будешь дальше докучать – побегу по деревне да такой хай подниму, что не возрадуешься!»
«Успокойся, успокойся, старая, – успуганно-примирительно произнес бабкин собеседник. – Нет – значит нет. Я вот пока другую идейку попробую…»
Ничего из этой беседы я не понял, но упомянутые незнакомцем «карты» вызвали у меня неясную тревогу, а разговоры про «идейку» и вовсе не понравились. Я связал этого человека со слышанными мною на ночном дворе звуками, и на душе стало смурно.
Повернувшись к Аглае, я сказал как можно беспечней:
– Пойдем-ка, милая, домой, да поведаем папаше об услышанном.
Вместо ответа товарка Алеянц одарила меня долгим, упоительным поцелуем, от которого у меня в другой ситуации ослабели бы ноги.
Выслушав меня, Яков лишь невесело усмехнулся.
– Так я и думал, парень. Но теперь уж ничего не поделаешь – придется нам с тобой обсудить кое-что…
Чувствуя приближение развязки всей истории, я подобрался.
– Они все-таки выследили меня, проклятые, как я ни старался! Сели, сволочи, на хвост.
Он в сердцах хлопнул ладонью по колену, и было в этом жесте столько отчаяния, что мне стало жаль косматого таежника.
– Кто – они? – осторожно спросил я.
– Охотники за чужим добром, язви их в душу!«Прогрессивное человечество», чтоб им пропасть! Столь лет удавалось мне скрываться, и вот на тебе! Значит – где-то я прокололся.
Он вдруг замолчал и внимательно посмотрел на меня, словно оценивая.
– Ну-ка, Галаня, расскажи-ка мне поподробнее про этого твоего профессора!
– Профессора? – удивленно переспросил я, так как не помнил, чтобы когда-либо упоминал при Якове о Райхеле.
– Именно! Того самого, по чьей милости ты оказался в Аглайкиной квартире! В том письме, что ты мне передал от Архипа, находилась исчерпывающая информация на этот счет. К тебе нет никаких претензий – Архип прочитал твою душу, и она чиста, но я все же хочу услышать все из первых уст. Быть может, мне повезет, и я найду зацепку!
Я покорился неизбежному, и подробно, стараясь ничего не пропускать, рассказал странному крестьянину о моей встрече с профессором Райхелем и о том, что толкнуло меня на решение вновь войти в квартиру моих страхов. В конце своего повествования я спросил:
– Так что же, выходит, это не совпадение и профессор преследовал какие-то свои цели, посылая меня в прошлое?
– Какие-то цели?! Да у него, треклятого твоего профессора, всегда была одна-единственная цель – любыми средствами завладеть штурманскими Картами! Больше его в жизни ничего не интересовало.
– И ты тоже об этом! Что же это за карты такие, что не дают покоя стольким людям?
– Карты навигации. Навигации в Большой Спирали. Без них у этого человека нет никаких шансов разобраться во всех хитросплетениях спиральных тоннелей, а, следовательно, и внести сумятицу в порядок, установленный Всевышним.
– А он хочет внести сумятицу?
– В этом можешь быть покоен, – отозвался Яков, сопроводив утверждение энергичным кивком. – Таким заполошным и наглым субъектам, как он, веры нет.
– Выходит, Карты эти – у тебя?
Яков удивленно взглянул на меня и вдруг погрустнел.
– А у кого ж им быть? Карты навигации должны находиться у навигатора, разве это не логично? У штурмана, и ни в коем случае не у всякой неразумной швали наподобие твоего честолюбивого профессора.
– Ты – Штурман?! – воскликнул я, вспоминая все то, что говорил мне дед Архип, и даже подпрыгнул от удивления. – Никогда бы не подумал!
Яков хмыкнул.
– А ты что, имеешь другие представления о том, как должен выглядеть штурман?
– Нет, но…
– Так вот, послушай теперь… Я проиграл. Карты украдены.
– Как – украдены? – опешил я. – Когда?
– Вчера ночью. Это сделал тот человек, чьи шаги ты слышал, когда был во дворе.
Я вскочил.
– Это наверняка был квартирант бабки Зинаиды! Идем же и схватим его!
Угрюмов замахал руками и велел мне снова сесть.
– Нет-нет, Галактион. Он не делал этого. Ты ведь сам только час назад слышал, как этот тип разговаривал со старухой и собирался искать Карты среди ее барахла. Он не знает, что они исчезли, а потому еще доберется и до нашего дома, так как должен исполнить волю своего хозяина.
– Какого еще хозяина?
– Видишь ли… Человек, разговор которого со старой Зинаидой ты сегодня подслушал, и в самом деле не кто иной, как посланец твоего профессора. Все очень просто: Райхель знал, что ты встретишься со Штурманом, и ему оставалось лишь послать по твоему следу своего человека и проследить твой путь, чтобы найти меня и украсть карты. Его слуга, правда, допустил оплошность, потеряв тебя в городе, и переключился на Аглайку, зная, что она приведет его к тебе и, соответственно, ко мне. Ясно?
– Нет. Откуда он мог знать, что я встречусь с тобой? И почему Аглая должна была обязательно привести его ко мне?
– Не забывай, с кем мы имеем дело! Возможности этого подлеца неограниченны!
– Но ведь информация откуда-то же да берется!
Яков помолчал, почесывая подбородок, затем изрек:
– В данном случае, думаю, виной утечки информации является женская болтливость. Она же – причина мучений несчастного партийца Алеянца, едва не сошедшего с ума от преследования.
– Алеянца?
– Ну… Профессор ведь никогда не знал ничего о Штурмане, кроме того, что искать его нужно в окружении Аглаи, а потому поначалу подозревал Алеянца. Разве Аглая не рассказывала тебе, как бедняге вытрепали все нервы?
Я кивнул, и он продолжил:
– Так вот, убедившись, что этот юродивый понятия не имеет ни о каких Картах, Райхель послал сюда тебя, вернее, сделал так, чтобы ты помогал ему, сам того не ведая.
– Но почему я? И почему товарка… Аглая? Не понимаю…
Яков Угрюмов посмотрел на меня со снисхождением во взгляде.
– А я вот, боюсь, начинаю понимать. Поначалу и мне это казалось нелогичным – какая связь? – но сейчас… Ответ на твой вопрос столь очевиден и невероятен одновременно, что я, пожалуй, не скажу тебе ничего, так как это только внесет смятение в твою юную душу. Если Богу будет угодно, то ты и сам все узнаешь. Или твой профессор тебя просветит.
– Но, Яков… – попробовал я было протестовать, но безуспешно.
– Ты когда-нибудь видел, чтобы я менял принятое решение? – рассердился он.
– Я – Штурман, и слово мое так же твердо, как законы мироздания!
– Ну, хорошо, хорошо! Скажи мне только одно: если это был не тот человек, голос которого я слышал на усадьбе Гудика, то кто же еще знал о картах и имел возможность выкрасть их?
– Хм… Например – ты.
От возмущения у меня перехватило дух и я даже закашлялся, подавившись слюной, начать брызгать которой собирался.
– Что… Что ты такое говоришь?! – выплюнул я наконец, заикаясь. – Может быть, ты не в своем уме?
– Может быть. А может быть, и нет. Чудеса встречаются, – непонятно закончил свое высказывание Яков и почему-то улыбнулся, словно догадавшись о чем-то, но не желая посвящать меня в свои догадки. – Эти штурманские Карты – верь уж мне, Галактион, – еще объявятся. Крепись, малец, и сохрани рассудок!
Я засомневался, сохранил ли рассудок он сам? Что могут означать эти его зловещие предостережения?
На крики вошла Аглая.
– О каких картах вы говорите? Не о тех ли, которыми интересовался у бабки тот странный господин? Я начинаю думать, что важнее этих таинственных Карт ничего нет на свете…
Указывая подбородком на дочь, Яков грустно сказал, обращаясь ко мне:
– Ну, вот тебе, Галактион, и первое звено той цепочки, которая приведет тебя к ответу на твой вопрос «откуда профессор все знал?» Запомни хорошенько этот момент – потом ты сумеешь все связать воедино.
Глава 22 Поимка
Было уже далеко за полночь, но в доме никто не спал. Яков шептался о чем-то с Кирой Прокловной, Аглая томно вздыхала в своей комнатушке, и даже в бабьем куте вошкалась и урчала неугомонная кошка. Лавка, на которой я раньше чувствовал себя так уютно, вдруг показалась мне жесткой – кости мои болели, конечности затекли, и я бесперечь крутился, словно веретено, в поисках удобной позы.
Мне не давала покоя еще одна мысль, но я стеснялся лезть к хозяину с расспросами, хоть он и не спал, и решил дождаться удобного момента, чтобы обсудить с ним свои думы. Наконец Яков, набросив на плечи полушубок, вышел по нужде на двор. Я сейчас же последовал за ним, ибо волнующая меня неясность требовала немедленного разъяснения.
Зная, что Яков неподалеку и слышит меня, я спросил с крыльца в темноту:
– Значит ли это, что ты не сможешь теперь увести группу назад?
– О! Я вижу, Архип достаточно просветил тебя! – откликнулся возвращающийся из заведеньица Угрюмов. – Нет, Галактион, ни на мне, ни на группе это никак не отразится. Навигации в Большой Спирали нельзя обучиться, это – дар от Бога, и я, конечно, сумею найти дорогу.
Он поднялся на крыльцо и встал рядом со мною, облокотившись на перила.
– Вопрос в другом: что может натворить твой профессор, обладая таким оружием? Я очень хорошо представляю себе, что это за человек! Еще его учитель, вездесущий или, правильнее сказать, везде сующий свой нос индиец Абхинава грезил Картами Навигации, да не мог завладеть ими. Что он только ни делал, на какие низости ни пускался – все тщетно. Вместе со своим адептом – твоим знакомцем – они проводили самые изощренные эксперименты над временем, они издевались над ним, отслаивая все новые миры и надеясь схватить меня во время вынужденного перехода. Но простота – лучшее средство против заумности. Никто из них и не предполагал до недавнего времени, что я могу просто осесть в какой-нибудь деревне и десятилетиями вести крестьянский образ жизни. Они открыли на меня охоту в прилегающих тоннелях Спирали, но даже не подумали, что я могу и не захотеть этими тоннелями пользоваться. Но все когда-нибудь кончается, и удача в том числе. Путем долгой компоновки в измерениях Времени и Вероятности профессору удалось-таки «вылепить» мир, в котором он получит необходимую информацию для кражи Карт. И это, Галактион – наш мир, как это ни прискорбно.
Повисшая в воздухе тяжелая тишина длилась несколько минут, во время которых я старался вылущить из груды свалившихся на меня данных понятные мне зерна.
– И ничего нельзя сделать? – спросил я наконец, но лишь для того, чтобы сказать что-нибудь.
– Отчего же? Можно начать «лепить» самим… Пойдем-ка со мной!
Мы снова пересекли двор, обогнули угол бани и оказались позади хлева. Отодвинув одну из досок под самой его крышей, Яков показал мне тайник – сухую, выложенную сеном и бумагой нишу, в которой все эти годы хранились чудесные Карты навигации и которая теперь была пуста.
– Отсюда вор забрал то, чем так жаждет обладать Райхель. Открывается достаточно просто – нужно лишь вставить палец в маленькую выемку справа и поддеть доску. Он так и поступил, – видишь, ничего не сломано!
– Но как он догадался?
– Кто его знает…
Мне стало обидно за собственную нерасторопность: если бы я тогда, ночью, не убедил себя, что скрип шагов мне померещился, и заглянул бы за стайки, то схватил бы вора и драгоценные Карты были бы сейчас на месте! Яков просто очень добрый человек, потому и не упрекает меня в бестолковости…
– Но хоть как-нибудь можем мы еще предотвратить… отрицательные последствия? – выдавил я из себя, кипя лютой ненавистью к ворам и их вожаку-профессору.
– Это-то я как раз сейчас и сделал, – вновь непонятно ответил Яков и добавил уже более доходчиво:
– Иди-ка ты спать, мил человек. Утро, как говорят, укажет дорогу.
Утром, плотно позавтракав, Яков вдруг объявил о срочном своем отъезде в одну из соседних деревень, где у него неожиданно появились дела. Он не мог сказать точно, сколько времени пробудет в отлучке, а посему отданные им распоряжения остающейся за хозяйку товарке Алеянц были весьма объемными. Угрюмов был крестьянином-единоличником, всеобщая принудительная коллективизации еще не коснулась его, а значит и не отняла лошаденку, которая и должна была увезти его с Кирой Прокловной. Уже забравшись в сани, пришедшие на смену телеге, он бросил мне через плечо:
«Помни, парень, что я сказал тебе: постоялец Зинаиды не знает, что Карты украдены, и наверняка появится здесь. Так что будь настороже!»
Я степенно кивнул в ответ, приготовившись на правах хозяина дать отпор любому агрессору.
Целый день Аглая вела себя как обычно: деловито сновала по избе, выходила за чем-то в клеть, поставила под самый нос Дыму огромную чашку с какой-то бурдой, которую тот в одно мгновение сожрал, и даже видом не показывала, что помнит наше с ней вчерашнее романтическое настроение. Наблюдая это, я как-то тоже стушевался и потерял прежнюю уверенность; мне начало казаться, что, вздумай я приблизиться к ней, как встречу самое решительное «нет» из когда-либо слышанных мною.
Итак, я управился в стайках и пригоне, походил с озабоченным видом вокруг дома, якобы выискивая себе заделье, а потом, переодевшись во что-то поприличней ватных штанов и пропахшей дымом и навозом фуфайки, сел у окна с аглайкиной книжицей, которую она давеча так увлеченно читала. Надо же – «Нравственный идеал коммунистов»! Вот это да! Я, конечно, и не думал, что девка зачитывается любовным романом, обещающим ей страсть и лишающее сознания счастье в жарких объятьях принца, но «Нравственный идеал»!
Тем не менее, немного зная теперь приемную дочь Угрюмовых, я не мог себе представить, что она искренне увлечена текстами Бебеля и Розы Люксембург, да выдержками из энгельсовского «Анти-Дюринга». Это было бы слишком даже для такой необузданной натуры. Аглая, пусть и взросшая в проклятое время, все же производила впечатление настоящей женщины, а не похожей на топор в штанах кухарки, стремящейся во что бы то ни стало управлять государством.
Немного полистав коммунистический шедевр, я убедился в своей правоте – некоторые страницы оставались склеенными между собой и, соответственно, нечитанными и подтверждали мою догадку, что подруга-Алеянц просто-напросто пудрила мне мозги, изображая передо мной давеча увлеченную читательницу. На самом деле она, видимо, просто не пожелала оставить меня одного в болезни и не нашла иного способа это сделать. Такая мысль несказанно польстила мне, и я, взглянув на толкущуюся в бабьем куте Аглаю, почувствовал вдруг, что готов к атаке. Я весь подобрался, как тигр перед прыжком, и кровь застучала у меня в висках, как и всегда в подобных ситуациях. Но змея, которой товарка Алеянц, безусловно, являлась, почувствовала это и, не оборачиваясь, бросила:
– У меня руки в муке. Подожди минут десять.
Я человек не вредный. Я подождал.
За окном опять смеркалось. Зимний день – что он есть, что его нет: не успеет солнце выползти из-за горизонта и немного оживить тусклую черно-белую природу, как уже, покраснев от неловкости за свое поведение, ныряет за кромку тайги на западе, – словно в прятки играет. Замычит где-то в хлеву корова, надсадно кукарекнет чей-то охрипший петух, и наступит настоящая, таежная тишина, нарушаемая лишь всхлипами да протяжными жалобами заблудившегося в деревенских подворотнях ветра. В печке уютно трещат исходящие смолой сосновые поленья, со стола только что убрали, и не хочется не только ходить, но даже и шевелиться – так тепло и хорошо здесь.
Яков с Кирой Прокловной отсутствовали вот уже четвертые сутки, чему мы с Аглаей были чрезвычайно рады, ибо нашей идиллии ничего не мешало. Подробное описание происходящего между нами читатель может найти на страницах пошлых женских романов, ставших столь популярными в определенных кругах в конце двадцатого века, я же ограничусь признанием, что ни до, ни после этого мне не доводилось переживать ничего подобного, и дни эти, пожалуй, были самыми эмоциональными в моей жизни. Быть может, это и именуется счастьем во всех тех пошлых романах?
Внезапно ленивое течение моих сытых мыслей было прервано хриплым лаем и рычанием волка Дыма во дворе. Я приподнялся на локте, разбудив тем самым задремавшую на моем плече товарку Алеянц, и прислушался. Вне всяких сомнений – во дворе что-то происходило. Ни разу до этого я не слышал, чтобы старый Дым волновался по пустякам, а уж тем более – проявлял агрессию. Медлить было нельзя, и я, вскочив и на бегу цепляя на себя что попало, бросился в сени, а оттуда – наружу.
Желтая пятнистая луна освещала бегущую по направлению к тайге человеческую фигуру. Лишь только усадьба старой Зинаиды – вдовы Гудика находилась между нашим домом и темной хордой леса, и беглец, очевидно, направлялся именно туда. Он часто спотыкался, увязая ногами в рыхлом снегу, и даже однажды упал, однако тут же поднялся и продолжил бежать.
Бежал он как-то неправильно – скособочено и постоянно пригибаясь, словно одна его нога была намного короче другой. Присмотревшись, я увидел, что правую руку он прижимает к боку, и каждый шаг дается ему с огромным трудом. Было очевидно, что бегущий ранен и страдает от боли, а вперед его гонит животный страх. И было отчего: по пятам за ним гнался огромный волк – наш старый Дым, не простивший беглецу внедрения на его территорию. Мне трудно было представить, что Дым сам по себе выскочил на улицу деревни и атаковал ни в чем не повинного прохожего, а значит – налицо провалившаяся попытка чужака причинить вред нашему хозяйству. Подтверждением моей догадки служило то, что весь двор, от пригона до крыльца, был испещрен следами борьбы – перемешанный с землей снег и глубокие, прорезанные в образовавшейся слякоти борозды не давали усомниться в этом. Кое-где виднелись и бурые, похожие на кровь, пятна. Но человеку, атакованному волком, каким-то чудом удалось все же вырваться из власти зверя и пуститься бежать, хотя раны, полученные им, наверняка были серьезными.
Дым словно играл с беглецом. Наверняка он мог настигнуть его парой прыжков, но не делал этого, предпочитая упиваться страхом обезумевшего преступника. Преступником же, в волчьих глазах Дыма, был всякий, попытавшийся несанкционированно проникнуть в его вотчину. Сомневаться не приходилось – через какое-то время игра волку надоест и тогда для неосторожного чужака настанет «момент истины».
Я не мог этого допустить. Мне во что бы то ни стало нужно было допросить этого человека и выяснить, что привело его сюда и, самое главное, кто является его работодателем. Кроме того, меня очень интересовало, являлся ли беспардонный воришка тем человеком, что следил за мной в городе, когда лишь случай в виде деда Архипа позволил мне скрыться от него. Но Дым, конечно, не учтет всего этого и, без сомнения, порвет горло беглецу, превратив того в бесполезную, молчащую груду мертвой плоти.
– Дым! – закричал я что было сил. – Дым, стой! Стой, мать твою!
Я выскочил со двора и бросился вдогонку за человеком и зверем, хотя и понимал, что не успею.
– Дым! Ды-ым!!
Все напрасно. Старый волк не слышал меня, или же делал вид, что не слышит. Удивляться было не чему – я ведь не был его хозяином! Он настиг свою жертву почти у самых ворот усадьбы и повалил на липкий, немного подтаявший во время дневной оттепели, снег. Еще секунда, и он вонзит свои огромные желтые клыки в горло поверженного противника. Я в ужасе остановился, предчувствуя скорую развязку.
– Брось, Дым! – услышал я вдруг позади себя голос Аглаи, зазвеневший в морозной тишине и мгновенно достигший волчьего слуха. Несмотря на весь трагизм ситуации, я, не насытившийся еще близостью вожделенной Товарки, почувствовал, как ласково и протяжно заныла моя душа при звуке этого голоса.
Могу себе представить, сколько силы воли потребовалось Дыму, чтобы в самый последний момент отказаться от задуманного! Уже распахнув пасть и чуя перед собою теплую, богатую вкусной солоноватой кровью человеческую плоть, он вынужден был уступить властному призыву маленькой хозяйки, перед которой всегда неясно робел. Сверкнув желтыми глазами и облизнувшись, волк обиженно зарычал и убрал лапы с распростертого перед ним тела.
Вряд ли что-нибудь соображая, человек начал отползать к воротам, не сводя расширенных ужасом глаз со зверя. Оказавшись метрах в четырех от волка, он вдруг вскочил и попытался преодолеть отделяющее его от заветной калитки расстояние одним прыжком, но тут же вскрикнул и согнулся пополам, – очевидно, повреждения, нанесенные ему Дымом еще во дворе, во время первой схватки, оказались серьезнее, чем он думал. Наконец, человек вцепился слабеющей рукой в калиточное кольцо и ввалился во двор, пропав из виду. Калитка захлопнулась, оставив по эту сторону безмолвно наблюдающих за происходящим парнишку, то бишь меня, женщину и старого волка.
– Он ранен, – зачем-то констатировала очевидное Аглая.
– Н-да… Тяжело избежать царапин, схватившись с волком, особенно таким, как наш, – сделал я комплимент Дыму, которого тот не понял.
– Боюсь, царапиной это не назовешь. Посмотри, сколько крови!
Я и сам видел, что снег на тропе обильно усеян бурыми пятнами, отчетливо видными в лунном свете. Вся картина отдавала неким трагическим романтизмом, а Аглая, стоящая чуть поодаль с голыми, торчащими из огромных отцовских катанок ногами, и вовсе казалась сказочной феей, готовой вот-вот исчезнуть. Окоченевшими пальцами стягивала она на груди маленький полушубок Киры Прокловны, и вся ее фигурка казалась настолько хрупкой и незащищенной, что хотелось немедленно поучаствовать в ее судьбе.
Для неудачливого вора, нырнувшего только что под крылышко сумасшедшей бабки Зинаиды, товарка Алеянц и в самом деле по праву являлась феей, спасшей его никчемную жизнь. Хотя, судя по количеству крови на снегу, появление Аглаи смогло лишь оттянуть его печальный конец. Дым, должно быть, выхватил добрый кусок плоти из его бока, и это повреждение вполне могло оказаться смертельным.
– Как бы там ни было, – изрек я, подумав, – а мы должны с ним встретиться. И не откладывая, поскольку, если он умрет или впадет в бессознательное состояние, мы никогда не узнаем ответа на наши вопросы. Эх, был бы твой отец здесь!
– А ты знаешь, – с горькой усмешкой откликнулась Аглая, – мой отец действительно здесь…
– Прости?
– Мои приемные родители думают, что Илья Гудик лишил тогда жизни всю семью моего отца, в желании завладеть его имуществом, а я осталась жива лишь благодаря моей внезапной болезни и… заботам мертвых жителей Улюка.
– О Господи! Час от часу не легче! Ты уверена в этом?
– Папа… Яков так считает, а уж он-то почти никогда не ошибается! Да и то, что говорила безумная Зинаида в огороде своему постояльцу, подтверждает эту версию. Оказывается, мой почивший папаша все еще охраняет свое добро!«Загрызет», сказала бабка…
– И почему же никто ничего не предпринимает? Если это – правда, то ее легко доказать!
– Время докажет… Оно же и покарает виновных. Кстати, сам Илья, сдается мне, уже поплатился за свою преступную жадность, хотя может ли какое-либо земное наказание быть достаточным, если он и вправду совершил все эти преступления?
Заметив, что мы углубляемся в дебри философии, вместо того чтобы действовать, я предложил товарке Алеянц немедля ворваться в страшную обитель вдовы и разнести там все ко всем чертям.
– Этот скот все расскажет мне! Все! Не я буду, если не добьюсь от него правды! Дыма вон с собой возьмем на всякий случай, – вор уже знаком с ним и вряд ли его прельстит перспектива вновь оказаться в волчьих зубах!
– Нет, так не пойдет, – сказала Аглая, поеживаясь и потирая одну о другую озябшие коленки.
– Почему?
– Я голая. Давай-ка вернемся домой, оденемся и станем думать, как поступить. Поспешные решения обычно ни к чему хорошему не приводят.
– Да как ты не понимаешь, что этот хмырь может умереть или скрыться? – взорвался я, раздраженный неуверенностью и очевидной безалаберностью моей зазнобы. – Мы должны немедленно потолковать с ним, это наш единственный шанс докопаться до истины! Если мы сейчас же этого не сделаем, может быть поздно! Идем!
Я решительно направился к воротам гудиковской усадьбы. Сказать по правде, я надеялся, что поступком этим сподвигну Аглаю следовать за мной, и некоторое время даже усиленно прислушивался, ожидая услышать позади себя снежное чавканье ее шагов. Однако я, видимо, переоценил притягивающую силу моего обаяния, так как женщина вовсе не была послушной моим спонтанным решениям, но, напротив, начала удаляться в противоположную сторону.
«Черт с ней! – решил я, озлобившись, – если эта избалованная судьбой и мужем-красным проходимцем цаца хочет бросить меня в такой ситуации – то не о чем и жалеть!»
Однако горечь обиды лишь нарастала, – ведь я и вправду поверил было ей! Поверил ее мягким, теплым рукам, ласковому, с грустинкой, взгляду и горячему дыханию, паяльной лампой жгущему мою шею. Поверил в невозможное – в то, что растерявшая остатки чувственности и, – да что там говорить! – совести жена высокопоставленного партийца и впрямь способна на отклик моему захлебывающемуся влюбленностью сердцу…
Рывок мой к воротам усадьбы казался теперь мне, преисполнившемуся горьким разочарованием, излишним и неоправданным. Что мне стоило просто согласиться с товаркой Алеянц и уйти в теплую, пахнущую уютом избу, сделав вид, что поступаю так ради нее, моей голоногой, обутой в необъятные папашины катанки, страсти? Тогда, наверняка, все было бы по-другому и мне не пришлось бы так мучительно страдать!
Толкнув в сердцах тяжелую калитку, я почувствовал скользнувшее мимо меня вовнутрь крепкое, упругое тело животного и несколько воспрянул духом: по крайней мере, Дым не покинул меня и не променял честь и маячащие на горизонте приключения на убаюкивающий покой своей утепленной войлоком будки. Его волчье сердце оказалось куда вернее и отзывчивей бесчувственного мотора его хозяйки, за которой далеко позади меня как раз стукнули ворота.
Тишина двора сумасшедшей вдовы была тягучей и липкой. Все внутри меня заколотилось, словно я пришел украсть что-нибудь и боялся быть пойманным на месте преступления. Любопытная луна по-прежнему сияла над головой своим желто-голубым глазом, скупо освещая надворные постройки и узкую, протоптанную в свежевыпавшем снегу тропку от ворот до крыльца. По пятнам крови вдоль тропки нетрудно было догадаться, что преследуемый волком, а теперь и мною, человек скрылся в доме, потрудившись даже закрыть за собою входную дверь, что, впрочем, ускользнуло от моего слуха. Однако же в том, что он – этот вор, охотящийся за Картами навигации осторожного штурмана, – избрал себе прибежищем именно дом нехристя Гудика, а не отправился огородами куда подальше – сомнений быть не могло.
Я потянул тугую дверь и очутился в пахнущих сеном и молоком сенях, где было ненамного теплее, чем снаружи. Мне было известно, что полоумная вдова давно не держит хозяйства, но этот теплый деревенский запах был странным образом присущ и ее дому. Справа от меня угадывались очертания какой-то мебели и еще чего-то, в беспорядке разбросанного по полу. Зимой всем этим, разумеется, не пользовались, и нерасторопная хозяйка не дала себе труда привести сени в порядок. Впрочем, меня это мало интересовало.
Перед дверью в избу я чуть помедлил, – от свихнувшейся старухи можно было ожидать всего, чего угодно, и мне, признаться, стало несколько не по себе. Однако, наткнувшись левой рукой на жесткую шерсть чуть слышно сопящего рядом волка, я приободрился и потянул на себя дверь, из-за которой тут же вырвалось облако теплого печного воздуха. Мы с Дымом вошли вовнутрь.
Просторная комната с огромным дубовым столом персон на двенадцать посередине и с рядами широких, добротных лавок вдоль стен была скупо освещена двумя толстыми восковыми свечами, одна из которых находилась в красном углу, другая же – в центре стола. Ворвавшийся через входную дверь воздух взволновал доселе ровное свечное пламя, заставив его задрожать, отбрасывая на давно не беленые стены причудливые лохматые тени.
Почти сразу мне в глаза бросилась прямая, худощавая фигура бабки Зинаиды – рехнувшейся хозяйки дома – сидящей у задернутого плотными темными занавесками окна и держащейся скрюченными, неестественно изогнутыми пальцами обеих рук за край столешницы. Вся поза ее выдавала огромное напряжение и даже страх, – было ясно, что старуха не знает, чего ей ожидать от моего негаданного визита. Я тоже не сразу нашелся, что сказать, и некоторое время просто смотрел на это жалкое существо, чей покой вынужден был столь бесцеремонно нарушить. Наконец, терпению вдовы Гудика пришел конец и она прокаркала сухо и отрывисто:
– Зачем явился? Чего ищешь в моем доме?
– Ты знаешь, бабка Зинаида, чего я ищу и будет лучше, если ты не станешь чинить мне препятствий, – ответил я в тон недружелюбной хозяйке, начиная чувствовать себя увереннее.
– Не выйдет у тебя ничего, – заявила бабка с безапелляционностью судебного пристава, – ни денег, ни желтого металла ты здесь не найдешь!
Если и было что у Илюшеньки, то давно сгинуло, так что не теряй времени даром. Ничего твоя партия не получит.
Оп-па! Да старуха, никак, приняла меня за коммунистического бандита, явившегося с целью экспроприации ее добра! Ну-ну…
– Да нет же, бабка, барахло твое меня не интересует. За тобой и помимо грабежей грешков предостаточно, с ними-то вот и будем разбираться!
Воспользовавшись заблуждением старой женщины, я не преминул усугубить ситуацию, чтобы нагнать на нее побольше страху.
– Убери зверя!!! – взвизгнула вдруг старуха, да так пронзительно, что крупная дрожь волной пробежала у меня с головы до пят. Ее вытянутый вперед, трясущийся корявый палец указывал на вышедшего в центр комнаты Дыма, который в ответ на выпад утробно зарычал, не предвещая истеричке ничего хорошего.
– Убери зверя, тебе говорю! – вновь выкрикнула перепуганная бабка Зинаида чуть потише. – Убирайтесь отсюда оба, или я…
– Что – ты? – поинтересовался я с любопытством. Ей, как и мне, было ясно, что ситуация для нее складывается не самым благоприятным образом и угрозы в наш с Дымом адрес сейчас просто неуместны. Бабка замолчала и теперь лишь тихонько поскуливала, отодвинувшись со стулом еще дальше, в угол и с ненавистью взирая оттуда в сторону непрошенных гостей.
– Сиди тихо, бабка, и волк не тронет тебя, – великодушно пообещал я, хотя никакого понятия не имел о планах Дыма в отношении старухи. – Где твой квартирант?
– Кто? – не поняла хозяйка.
– Жилец твой, говорю, где прячется? Тот, чья кровь вон по полу размазана?
– А… – вдова проходимца Гудика, видимо, поняла, что запирательство ни к чему хорошему не приведет и решила не испытывать судьбу. – Чего ж ему прятаться? Это ж его волк твой погрыз, а не он волка… Да вон он, в горнице на полатях. Помирает чай… Послушай! – бабка вдруг порывистым движением приложила руки к груди в умоляющем жесте. – Ежели помрет, ты уж устрани его из моей-то избы, будь так люб… На что он мне здесь, померший-то?
Ничего не ответив полоумной старухе, я прошел в соседнюю комнату – мне не терпелось встретиться лицом к лицу с человеком, столько времени преследовавшим меня и заставившим меня пережить немало неприятных минут. Я не знал точно, что мне от него нужно, но он, безусловно, являлся важным звеном всей этой дьявольской цепочки, взаимосвязи внутри которой я непременно желал прояснить. Волк, помедлив, двинулся за мной, решив, видимо, что оставленная без надзора бабка Зинаида никакой опасности не представляет. Я был того же мнения и возражать не стал.
Собственного освещения в горнице не было, ее незамысловатое, большей частью прикрытое брезентом и тряпьем убранство едва-едва озарялось проникающим сюда из передней комнаты тусклым свечным светом. Под слоем покрывающих пол грязных циновок угадывалась мягкость укрытых от чужих глаз и времени ковров – остатков царящей здесь некогда гудиковской роскоши, а по углам, покрытая пылью, грустила невостребованная более корпусная мебель – столь редкое для деревенского дома явление. Большое, напоминающее огромную гитару трюмо с резными ножками было наглухо завешано мешковиной, словно в доме находился покойник; не по-деревенски большие окна были закрыты толстыми, прошлого века, гардинами, вряд ли снимавшимися и подвергавшимися чистке со времени исчезновения хозяина дома. По всему было видно, что быт этого жилища в свое время держался исключительно властным администрированием Гудика, хотя, конечно, влияние душевной болезни хозяйки на общее запустение дома тоже не исключалось. Как бы там ни было, впечатление от горницы у меня сложилось тягостное и, если бы не приведшее меня сюда дело, я, несомненно, поспешил бы покинуть эту тоскливую обитель.
Меж двумя окнами стояла большая кровать со стойками под паланкин, однако же без оного, которую бабка Зинаида почему-то изволила именовать полатями. Было заметно, что изначально эта комната вообще под спальню не планировалась, и безвкусное смешивание здесь предметов мебели различного назначение было ни чем иным, как позднейшим решением овдовевшей хозяйки, стремящейся по возможности сузить ареал своего обитания. Быть может, в других частях дома ей мерещился призрак сгинувшего мужа, или, того хуже, убиенной ими семьи? Мне стало понятно нежелание товарки Алеянц переступать порог этого дома, хоть я и относился с некоторым скепсисом ко всякого рода суевериям и людским предрассудкам. Что ж, у каждого человека – собственные взгляды на такие вещи, и взгляды эти надобно уважать, даже если они разительно отличаются от наших собственных.
Но приковала мое внимание в этой комнате вовсе не трухлявая ее обстановка, которую я лишь окинул беглым взглядом, и даже не поставленная здесь не к месту кровать, а лежащая на ней фигура. Даже в том скупом свечном свете, что проникал сюда из соседнего помещения, я смог различить человека, забившегося в самый дальний угол огромного ложа и съежившегося там от страха и боли. На фоне кроватных просторов его фигура казалась столь маленькой, несерьезной и несчастной, что мне на долю секунды стало жаль несчастного, словно безобидного котенка, сломавшего когти о мерзлую землю и трясущегося теперь на теплой крышке канализационного люка.
Подумав, что для плодотворной беседы мне необходимо видеть лицо моего визави, я метнулся назад, в первую комнату и вернулся через секунду со свечой в тяжелом подсвечнике, которую взял в красном углу. Напоминая сам себе средневекового рыцаря в мрачном замке, я торжественно прошествовал со своим канделябром через комнату и склонился над раненым, чье лицо в свете свечи мог теперь видеть достаточно отчетливо.
Это был худой, почти изможденный человек с впалыми щеками и лиловыми полукольцами сухой дряблой кожи вокруг глубоко посаженных, похожих на ямы глаз. Возраст было невозможно определить из-за густой, всклокоченной растительности на лице, начинающейся, похоже, от самой груди и покрывающей всю шею и лицо человека, кроме глаз, лба да малиновых, говорящих о начавшейся горячке, губ. Человек тяжело дышал, обеими руками держась за разодранный в схватке с волком бок: меж бледных, судорожно сцепленных друг с другом пальцев проступала кровь. Он, видимо, пытался укрыться, что было видно по запутавшемуся у него в ногах дурно пахнущему одеялу, но, судя по всему, оставил попытки из-за нарастающей слабости. Ворот рубахи он, однако, все же сумел разорвать, в тщетных потугах добыть себе воздуха. Раненый, должно быть, потерял уже довольно много крови, но все же не столько, чтобы лишиться сознания, – мало того, взгляд его блестящих глаз был осмысленным и, как мне почему-то показалось, даже несколько насмешливым.
Всматриваясь в черты лежащего передо мною человека, я не мог отделаться от ощущения, что они мне каким-то образом знакомы. Что это, наваждение или я и впрямь где-то видел уже это лицо? Разумеется, каждый человек может похудеть, постареть или отпустить бороду, но изменить свою наружность радикально не в силах ни один, а посему, если я на самом деле встречался с ним ранее, то непременно должен вспомнить, где и при каких обстоятельствах.
Как только я подумал про похудение и бороду, мое воображение принялось за работу и в мгновение ока исправило эти изъяны, сдернув со щек и верхней губы раненого волосяной покров и добавив ему здорового румянца. Лиловые круги вокруг глаз исчезли, а длинные спутанные волосы на голове снова приняли вид короткой мальчишеской стрижки за сорок копеек. Я вздрогнул от неожиданности и, охнув, присел на край кровати, рискуя уронить задрожавшую вдруг в моей руке свечу и устроить пожар. Сомнений быть не могло – передо мной лежал постаревший, поистаскавшийся и совершенно измученный Альберт Калинский – мой бедный, пропавший без вести друг, чье странное письмо и погнало меня в это дикое путешествие по запутанным дорогам времени.
Слабый, скрежещущий голос раненого вывел меня из оцепенения, промолвив едва слышно, но со знакомой насмешливостью в голосе:
– Я вижу, ты узнал меня, Галактион? Что ж, очень приятно, что годы не сумели обмануть старого друга. Хотя, надо сказать, я не думал, что это произойдет.
– Почему, Альберт?
– Почему? – он хмыкнул. – Я ведь теперь намного, намного старше тебя, дружок… В твоей памяти совсем не тот Альберт, какого ты видишь перед собой.
– Ну, знаешь ли… Все мы не молодеем, и если ты думаешь, что те несколько лет, что мы не виделись, могли…
– Ты не понял! – перебил меня лежащий. – Это для тебя прошло лишь несколько лет, для меня же… Мне пятьдесят два года, тебе же, должно быть, все еще чуть больше двадцати, вот в чем штука.
Я неожиданно вспомнил, что Альберт – психбольной и много времени провел в клинике для умалишенных. По всей видимости, болезнь его вновь протекает остро и с бредом, что и является причиной подобных высказываний. Лучше всего просто сделать вид, что я не придал этим его словам особенного значения и попытаться выяснить, что или кто заставило его следить за мной.
Однако Альберт не дал мне времени сформулировать какой-либо разумный вопрос, продолжив:
– Я знаю, о чем ты сейчас подумал. Однако же я вовсе не псих, и вообще, от прежней моей болезни не осталось и следа – она словно растворилась в том коридоре времени, через который мне, как и тебе, пришлось когда-то пройти. Разница лишь в том, что ты очутился тогда в тридцатых годах двадцатого века, я же – в 1896-м… Сейчас у нас 1930-йи, употребив элементарные знания арифметики, ты легко вычислишь, что я живу здесь вот уже тридцать четыре года и мне, таким образом, пятьдесят два, как я тебе и сказал. Неслабо?
Это, действительно, было «неслабо». Я ошарашено смотрел на моего друга, позабыв закрыть рот, и с каждой секундой размышлений все более убеждался, что он говорит правду. Никакой грим не смог бы сделать с ним того, что сделали годы, да и мои собственные приключения явственно показали мне, что невозможного нет, а время – так и вовсе самая неустойчивая из всех категорий.
Спохватившись, я бросился на поиски какого-нибудь перевязочного материала и, не найдя в грязной избе ничего подходящего, оторвал от замызганной простыни длинную полосу, которой и попытался перевязать рану Альберта, оказавшуюся не очень глубокой, но изрядно кровоточащей. Все мои действия Альберт сопровождал грустной полуулыбкой, доказывая мне, что в перевязке нет никакой необходимости, поскольку жить ему, дескать, так или иначе осталось недолго. Убежденный, что его слова – обычное нытье раненого человека, я не пытался его разубеждать, молча делая свое дело. Наконец, удостоверившись, что повязка сидит достаточно крепко и рана больше не кровоточит, я присел на край кровати и перевел дух. Альберт же не пожелал оставить начатой темы о своей обреченности:
– Напрасно это все, Галактион… Я ведь и действительно не жилец больше на этом свете, и твой проклятый волк здесь совершенно не причем, – он поморщился от воспоминания о встрече с Дымом. – Уж несколько лет как меня разъедает плохая болезнь, дружок, очень плохая… Думаю, что это рак или даже что похуже, но разве ж возможно здесь по-настоящему обследоваться? Врач перепугал меня, и первое время я, как сумасшедший, бегал и метался, надеясь хоть как-то повлиять на судьбу и заставить ее смилостивиться, пока не понял, что все мои потуги – тщетны. Тогда я махнул на все рукой и попытался добиться хотя бы одного – умереть дома, в нашем с тобой городе, куда он обещал вернуть меня, если я выполню его задание… Но, похоже, и это мне не суждено, – я подохну здесь, в тридцатом году и этом захолустье.
Больной прикрыл глаза и задышал глубже. На лбу его выступили капельки пота, а губы задрожали. Подумав, что он собирается заплакать, я потряс его за плечо, пытаясь вернуть к разговору.
– Погоди, Альберт, погоди! Может статься, не все так плохо. Ты устал, вымотался и ранен. Давай-ка отдохни сейчас хорошенько, а после мы обсудим с тобой…
– Ты не понял. Не будет у нас с тобой времени ничего обсудить, так как я вот-вот окочурюсь. Потому не болтай ерунды и не отвлекай меня, если хочешь успеть получить хоть какое-то представление о происходящем.
– А разве это как-то касается меня?
Альберт прищурился и усмехнулся:
– Думаю, да. Причем гораздо больше, чем меня. Я тут, так сказать, лишь для того, чтобы ты не заблудился.
– Вот как? А я-то думал, что отправился в это дурацкое путешествие, чтобы помочь тебе!
– Помочь мне?
– Из твоего письма я понял, что вся эта история тяготит тебя, где бы ты ни был. К тому же, согласись, не каждый день получаешь письма от мертвецов, которые призывают тебя «прийти и узнать» правду. Мне подумалось, что, не нуждайся ты в помощи, то не стал бы писать такие вещи.
Альберт, как мне показалось, задумался.
– Ты прав. Это, должно быть, прозвучало именно так. Но, уверяю тебя, это была не моя идея. Мало того, я должен тебе признаться, что подозревал какой-то подвох в отношении тебя но, мучимый желанием вернуться домой, все же пошел на это. Ну, и для успокоения моей совести мне было обещано, что ты не пострадаешь.
– Чья же это была идея? И что за подвох ты имеешь в виду?
Мой старый друг только вздохнул в ответ и мне показалось, что он прячет глаза. Дыхание же его между тем пришло в норму и боли в раненом боку он, судя по всему, больше не испытывал, что вселяло в меня надежду на то, что он все же поправится.
Я не шевелился, просто ждал. Наконец, когда молчание уже стало тягостным, он произнес:
– Думаю, из клочков информации ты не сумеешь сложить всю мозаику, поэтому стоит, пожалуй, рассказать тебе все с самого начала.
Я ничего не имел против.
Глава 23 Исповедь
«…Когда все это началось, ну, я имею в виду тот случай с тобой и нашей квартирой, о котором ты мне поведал, я, признаюсь, ужасно завидовал. Как же так, думал я, квартира моя, а приключение случилось с ним! Где же справедливость? Мне было стыдно за такие мысли, и я ничего не говорил тебе, но мои попытки повторить твой «фокус» не прекращались. Я, помнится, едва мог дождаться твоего ухода, чтобы тут же продолжить терзать входную дверь, рискуя нарваться на неприятности с бабушкой. Что я только не вытворял! Я пробовал входить в квартиру и ночью, и в полнолуние, и с первыми петухами, с завязанными глазами и приговаривая самолично сочиненные заклинания… Ничего не помогало – зловредная дверь оставалась лишь дверью в мою квартиру, но не в прошлое, такое волшебное и притягательное для меня. Потом я убеждал себя в том, что ты просто-напросто выдумал всю эту историю, желая порисоваться, но тут же понимал, что это лишь слабая, нашептанная неудачами отговорка. В глубине души я был уверен, что ты сказал мне правду – ведь мы никогда не лгали друг другу! – и терзался тем сильнее.
Чего бы я только ни дал за возможность побывать там, где побывал ты, и пережить нечто подобное! Я так громко вопил об этом в своих снах и вел себя столь неразумно, почитая то дикое искажение реальности, которое тебе пришлось испытать, за детскую игру, что просто не мог не стать жертвой своей детской глупости. И вот, через несколько лет, когда желание мое попасть в прошлое уже утратило свою актуальность, голос мой стал грубым, а над верхней губой начала пробиваться пушистая поросль, мучитель мой решил, что время пришло. О, тогда я еще не знал его и даже не подозревал о его существовании, а посему все произошедшее приписал случаю и даже – о Бог мой! – везению, вознаградившему меня за годы ожидания и ревности. Мне не была еще ясна извращенная природа искажения времени, и уж тем более не подозревал я тогда в случившемся чьего-то злого умысла.
Как-то ночью я, вернувшись домой с припозднившихся посиделок в саду Дворца Пионеров и толкнув приоткрытую почему-то входную дверь, прошел на кухню, чтобы съесть чего-нибудь. Понимая, что поведение мое не вызовет восторга у матери, я не пожелал будить ее и потому света включать не стал, полагая, что и в темноте не пройду мимо холодильника.
Оказавшись на кухне, я, к моему удивлению, сразу же наткнулся на какой-то шкаф, которого раньше и в помине не было, и даже занозил ладонь, неосторожно проведя по его поверхности. Опешив, я начал шарить по стене в поисках выключателя и вскоре обнаружил его. Однако это был не наш выключатель: вместо плоской пластмассовой пластинки с кнопкой из стены торчал шершавый полукруг с тумблером, подергав который, мне все же удалось зажечь свет.
Думаю, не стоит тебе описывать детали открывшейся мне картины, – ты ее видел. От осознания свершившегося чуда сердце мое екнуло и забилось быстрее, однако к охватившей меня поначалу радости тут же примешалась тревога. Да, безумная мечта моя сбылась, но что дальше? Кто живет в квартире, выпустит ли коварная дверь меня назад и… не лежит ли в ванной до сих пор труп той женщины, при убийстве которой ты присутствовал?
Ладони мои вспотели, а воротничок начал жать, хотя и был на размер больше, чем нужно. Я боялся обернуться, ожидая увидеть в темноте коридора нечто ужасное, и мерные капли воды, падающие из крана в железную мойку, долбили, казалось, мне в самое сердце. Единственной спасительной мыслью было, что все это сон, я вот-вот проснусь и уж точно никогда более не захочу повторения этого кошмара.
Я заставил себя посмотреть назад. В темноте чуть белела прикрытая дверь в спальню моих родителей, вернее, в ту комнату, которая много позже станет ею. Решившись, я крадущимся шагом подошел к двери и, затаив дыхание, приоткрыл ее, ожидая скрипа. Но его не последовало, и взгляду моему открылось внутреннее убранство комнаты, состоящее, главным образом, из покрывающих пол ковров и двуспальной кровати, – большой, хотя и поменьше той, на которой я сейчас лежу. Присмотревшись, я увидел разбросанные по подушке светлые волосы и уловил нечастое, поверхностное дыхание спящего человека. Больше в комнате никого не было. Я осторожно вышел и прикрыл за собой дверь, радуясь, что не разбудил эту женщину и намереваясь выскользнуть из квартиры, насытившись приключением. Но не тут-то было. Неожиданно я заметил пробивающийся из-под двери в гостиную тусклый дребезжащий свет, и, к моему несчастью, не смог совладать с любопытством. О, чего бы я только не дал, чтобы вернуть тот миг и пройти мимо этой ужасной двери, не открыв ее! Но нет, я уже представил себе изумление и зависть на твоем лице, когда я буду рассказывать тебе о своих похождениях, и сладкое чувство превосходства окрылило меня, заставив потянуть на себя половинку двустворчатой двери.
То, что я там увидел, уже само по себе было неприятным – посреди комнаты на двух табуретах стоял гроб, обитый почему-то не привычным нам красным бархатом, а темно-синей шелковистой тканью. В изголовье гроба горели две наполовину оплавившиеся свечи, освещая помещение тусклым, замогильным светом и бросая причудливые жутковатые тени на мебель, состоявшую из овального стола, нескольких стульев и закрытого черной тканью трельяжа, и иссохшее, заросшее сизой неопрятной бородой восковое лицо покойника. Руки мертвеца были сложены на груди и связаны вместе марлевой ленточкой, а простыня натянута до самого подбородка. В глаза мне бросились его длинные желтые ногти, словно в гротескных фильмах про вампиров, глаза же покойника располагались так глубоко, что мне сначала показалось, будто глазницы и вовсе пусты.
Меня передернуло от суеверного страха, и я, пораженный, долгое время не мог оторвать взгляда от мертвого лица, так что не сразу заметил человека, сидящего на стуле в тени, ближе к стене и, видимо, бдящего у гроба своего родственника или друга. Когда же я обратил на него внимание, то понял, что и он смотрит на меня немигающим взглядом, словно вопрошая, кто же я, собственно, такой. Я замежевался и не знал, что мне делать, – сказать ли что-нибудь или молча ретироваться. Человек спас положение, закачав вдруг головой и молвив: «Надо же… так и есть», после чего отвернулся и стал смотреть на покойника.
Тогда мне удалось сохранить рассудок, хотя я узнал его… Усилием воли я подавил готовый было сорваться с моих губ крик удивления и попробовал хоть как-то упорядочить свои мысли. Это мне плохо удалось…»
– Кто? Кто это был, Альберт? – затряс я в нетерпении плечо друга. – Ты сказал, что узнал его!
– Да, Галактион, я узнал его, но не тряси так, иначе меня стошнит…
– Извини. Ну, так все же, кто это был?
Альберт покачал головой.
– Нет-нет, потом… Помолчи еще немного, дружок, не трать зря времени, – его у нас мало.
Я вновь извинился и попросил Альберта продолжать.
«…Я бросился ко входной двери, страстно надеясь, что она выпустит меня назад, в девяностые…. Но тут произошло невероятное – сидевший у гроба человек вдруг вскочил и кинулся следом за мной! Ужас обуял меня, я был уверен, что он хочет схватить меня или даже убить, и я не помню, как преодолел пять лестничных пролетов и выскочил из подъезда. По счастью, преследования больше не было, и я поблагодарил Бога, что отделался лишь испугом.
Но тот, кто открыл мне врата в прошлое, оказался куда более жестоким и расчетливым, чем я мог себе представить. В его планы входило свести меня с ума, превратить меня в то рехнувшееся, опустившееся животное, каким ты меня еще помнишь! Тогда я не знал этого и, если бы мне кто-то сказал нечто подобное, то я наверняка подумал бы, что он шутит. Как можно сделать из человека сумасшедшего? Напугав его? Продолбив дыру в его голове? Как?!
Я был наивен, ибо искренне полагал, что законы бытия, вдалбливаемые нам в школе – незыблемы и любое событие, даже самое невероятное, всегда можно по раздумии подогнать под одну из внушенных нам догм.
Знаешь ли ты, Галактион, что-нибудь о пятом измерении? Его еще называют «измерением вероятности»? Нет? Так вот… Шизофрения, чтоб ты знал – не такое уж редкое заболевание, хотя и не такое частое, как, скажем, грипп или коклюш. Известно, что в человеческой популяции лишь один или двое на сотню страдают этим недугом, – такова статистика и такова же, если хочешь, вероятность заболеть. А это значит, что оккультисту, практикующему с пятым измерением, вовсе не нужно было ни бить меня по голове, ни как-то чрезмерно расшатывать мою психику, чтобы слепить из меня готового шизофреника. Ему достаточно было лишь чуть-чуть сдвинуть вероятность того, что я заболею, в нужную сторону… И вот мы уже имеем манифестацию психоза, влекущую за собою насильственную изоляцию от общества, сильнейшие медикаменты и положение изгоя! Да-да, именно изгоя! Скажи-ка мне, Галактион, признайся без напускной оскорбленности – очень ли ты желал в то время видеть своего свихнувшегося друга? Много ли удовольствия доставляли тебе утомляющие, вынужденные визиты ко мне в больнице и дома, куда ты, толкаемый чувством мнимого долга, время от времени забредал «поболтать со мной»? Это было отвратительно, Галактион, не правда ли?
Ну, да я не об этом. Невозможно винить кого-то в недостатке внимания к тяжелобольному, равно как и врать себе, что я-то бы, дескать, поступил иначе. Охотно верю, что мое тогдашнее состояние не располагало к частым посещениям и продолжительным беседам…
Так вот, дальше все было просто. В день одного из моих краткосрочных просветлений, которые случались все реже, ко мне в больницу пришел человек. Не знаю, что он там такого наплел церберу-санитарке, но она без лишних слов пропустила его в мою загаженную палату. Я как раз занимался своим утренним туалетом, то есть безучастно таращился на стоящий передо мною таз мыльной воды, будучи не в силах сосредоточиться на процедуре умывания. По причине этой болезненной расконцентрации я и на вошедшего не обратил особого внимания – мало ли, кто здесь шатается? Однако и тут он устроил маленькое чудо – повернул невидимый рычажок управления вероятностью в нужную ему сторону, и вот уже мысли мои вновь обрели последовательность и логичность, апатия сменилась живейшим интересом к происходящему, а собственная неопрятность начала вызывать отвращение. Все эти разительные изменения произошли со мной за считанные минуты и я, поняв, что человек этот явился не просто так и собирается говорить со мною о чем-то, попросил разрешения привести себя в порядок, против чего он не стал возражать.
Так я и познакомился с твоим старым «приятелем», Георгом Райхелем. Надо сказать, он с самого начала был довольно любезен и производил впечатление искреннего человека. Правда, он не признался мне тогда, что моя болезнь – дело его рук (об этом я догадался позже сам), но сказал, что поможет мне избавиться от нее раз и навсегда. Ни имени своего, ни рода занятий он не скрывал, а на высказанное мною предположение, что он – дьявол, – невесело рассмеялся. «Будь я дьявол, – сказал он тогда, – мне не пришлось бы являться к тебе через целую сеть препон и просить тебя о помощи». Подумав, я вынужден был признать, что это, скорее всего, так и есть и спросил, чем же я, собственно, могу служить ему. Не стану скрывать, я был очень осторожен в выборе выражений, ибо обещанная им мне перспектива избавления от моего ужасного недуга звенела в моей голове свадебным маршем, сменившим заунывный набат обреченности.
Тогда-то я и узнал о таинственных Картах Навигации. Райхель представился мне великим ученым, рассказывал о своих находках и планах и убеждал меня в том, что магии как таковой вовсе и не существует, и всякому чуду есть научное объяснение. Этим он, кстати, напомнил мне наших школьных учителей, твердо стоящих на почве партийного прагматизма.
Обретя Карты, он смог бы расширить ареал своих изысканий, что, несомненно, принесло бы огромную пользу всему человечеству. Сам он, к сожалению, не настолько одарен, чтобы суметь в одиночку пройти бескрайними просторами Большой Спирали и составить собственные Карты, а посему, к прискорбию, вынужден воспользоваться чужими. Проблема состояла в том, что тот, кто обладает Картами, а именно некий Штурман, – в силу своей гениальности настолько нелюдим и некооперативен, что все попытки профессора договориться с ним полюбовно окончились полным провалом. В довершение всего Штурман, испугавшись продолжения дискуссии, и вовсе исчез из его поля зрения и не совался уж более в Большую Спираль, зная, что именно в момент Перехода наиболее уязвим. Райхель же, однако, не терял надежды, поскольку был уверен, что Штурман не ушел в другие миры, так как не может этого сделать, не собрав своей команды. На мой вопрос, откуда ему известно, что команда все еще не в сборе, он лишь сказал, что информация эта достоверна, а значит, у нас есть время.
Когда я, взволнованный и едва ли соображающий, что делаю, пообещал помогать ему в розыске Штурмана, а значит и Карт, я поинтересовался, отчего же он не выбрал для этой цели тебя, за которым наблюдал значительно дольше?
«О, не сомневайся, твой друг Галактион обязательно будет вовлечен в игру, но у него другая миссия. Самая важная». Больше мы к этой теме не возвращались…»
Калинский замолчал, переводя дух.
– Как же так, Альберт? Что это может быть за миссия, если все то время, что нахожусь здесь, я лишь мешаю планам Райхеля?
– Думаешь? А ты уверен, что знаешь, какие у него планы?
– А как же! – удивился я. – Разве не о Картах Навигации, составленных Яковом, мы все это время говорим?
– Да, но… Какое отношение к Картам имеешь ты? До недавнего времени ты даже не знал об их существовании.
– А может, мне суждено спасти их! Не дать злобному Райхелю завладеть ими и натворить бед! – воскликнул я с излишним пафосом, однако манера раненого Альберта говорить со мною в снисходительном тоне начинала раздражать меня, и я искал возможности самоутвердиться.
Альберт чуть слышно засмеялся.
– Ну так и что? Спас?
– Может статься, еще и спасу!
– Все может быть… Вообще, сдается мне, старый друг, что ни ты, ни я не понимаем правил этой игры. Это, если хочешь, битва титанов, а мы с тобой в ней и не пешки даже, а просто пыль на шахматной доске.
Он вдруг закашлялся, и я заметил, что наложенная мною повязка уже насквозь пропиталась кровью. Я вскочил.
– Чего же мы ждем?! Тебя ведь в город везти надо! В больницу! Иначе ты просто изойдешь кровью!
Я попытался было рвануться из избы за помощью, но Альберт схватил меня за рукав старого полушубка и задержал.
– Не ходи никуда. Нет у нас на это времени, уж ты поверь мне! Я вот-вот шагну на тот свет, так позволь мне закончить рассказ. Осталось совсем немного!
Но я ничего и слушать не хотел. Выдернув руку, я выскочил в сени, оттуда во двор и на улицу. Что и говорить – я слишком поздно нашел Альберта, но в последние часы его жизни я сделаю все от меня зависящее, чтобы если не спасти его, то хотя бы облегчить его страдания.
С рассветом добротные крытые сани, нанятые мною на средства Аглаи у колхозного конюха, уносили четырех человек в районный центр, где я надеялся отыскать машину. Возница, угрюмый мужик, подняв ворот, целиком исчез в тулупе, и нам сзади были видны лишь его широкая, сгорбленная спина да клубы табачного дыма, которыми он окутывал себя всю дорогу.
Я полулежал на свежем сене, несколько навильников которого возница не пожалел бросить для мягкости на дно саней. Одной рукой я опирался о настил, другую же держал на плече моего друга Альберта Калинского, которого мы с Аглаей, несмотря на все его протесты и препирательства, уложили на «перину» из нескольких одеял и все того же сена, обернув предварительно большущим пледом, найденном в некогда богатом доме бабки Зинаиды. Ну и, наконец, позади меня расположилась сама товарка Алеянц, ни за что не согласившаяся остаться в деревне и дожидаться отца. По ее мнению, ничего, кроме неприятностей, без нее мы не найдем, и она ни за что не бросит меня на произвол судьбы еще раз. У меня нет документов, а липовая корочка Альберта, выписанная на чужое имя и неизвестно что вообще удостоверяющая, задачи нам не облегчит. Аглая была, безусловно, права, и я был чрезвычайно рад, что она начисто отмела все мои возражения и отправилась с нами. Лютые морозы еще не наступили, и изба Якова вряд ли совсем выстынет без протопки, а записку отцу с кратким описанием случившегося Аглая написать успела. Сейчас она обнимала меня сзади, и на моей шее, неплотно обмотанной колючим вязаным шарфом, я чувствовал ее теплое дыхание. В последние дни мы, безусловно, сроднились с ней, и мысли о том, не продрогнет ли она, не заболеет ли, по интенсивности не уступали, пожалуй, заботам о жизни моего вновь обретенного постаревшего друга.
Решив, что не очень холодно, я подальше отогнул угол прикрывающего лицо Альберта пледа, открыв доступ свежего воздуха больному. Альберт улыбнулся, поблагодарил меня взглядом и уже через несколько минут мне показалось, что щеки его порозовели.
«Ну, слушай дальше, дружок, – Калинский скосил глаза на Аглаю и убедился, что тихие его слова не долетают до ее изрядно пониженного мохнатой шалью слуха. – Согласно плану Райхеля, я должен был вновь вернуться в прошлое, найти Штурмана среди нескольких «подозреваемых» и любым путем заставить его расстаться с Картами. Если же последнее не удастся, то, по крайней мере, сообщить Райхелю точные координаты владельца Карт. Профессор не посвящал меня в подоплеку событий, но из того, что он рассказал, мне стало ясно, что круг поиска достаточно узок и ограничивается радиусом в сто пятьдесят-двести верст от нашего с тобой города. Это отчасти объяснило мне, почему выбор Райхеля при поиске слуг и исполнителей его воли пал на жителей этой местности.
Но это было не все. Свой повышенный интерес к квартире, где я жил в детстве, он без обиняков объяснил тем, что первым, кто, по его мнению, может являться Штурманом, является супруг Аглаи Яковлевны – партийный функционер Алеянц.
Дивясь внезапному улучшению моего психического состояния, врач уже через несколько дней после моего разговора с Райхелем выписал меня из больницы, и я, стремясь во что бы то ни стало выполнить поручение моего покровителя и окончательно вернуть себе здоровье, без оглядки ринулся в пучину тридцатых годов. Да-да, сначала именно тридцатых!
Задание мое казалось не таким уж и сложным, – подумаешь! – понаблюдать за Алеянцем, проследить, с кем и когда он встречается и, что самое главное, не собирает ли вокруг себя потихоньку группу каких-то людей, которые, по словам профессора, могут выглядеть вовсе непримечательно и даже, возможно, сторониться человеческого общества.
О! Я помню, до чего довел несчастного Алеянца! Бедняга просто места себе не находил, спасаясь от неопытной, плохо скрытой слежки, которую я за ним учинил! Он не вынимал из кармана оружия и затерроризировал всех своих подчиненных, требуя от них моей поимки. Безусловно, без всяческой поддержки и наущений Райхеля я бы вскоре попался, что было бы к лучшему, уверяю тебя! Но этого не случилось, я продолжал изводить издерганного партийца, пока, наконец, не получил от профессора команду «отбой», поскольку тот, якобы, убедился, что мы на ложном пути.
И тогда произошло ужасное. Райхель велел мне отправляться в конец девятнадцатого столетия, в то самое время, когда ведомая Штурманом группа только-только прибыла сюда. Моей задачей было проследить за членами этой команды с самых, что называется, истоков, и выявить-таки, кто из них – Штурман. После этого я, якобы, получу освобождение и от воли профессора, и от шизофрении. Помнится, я спросил у него, почему же он сам не отправится туда и не узнает все, что хочет? Ведь ему, с его знаниями и способностями было бы гораздо проще это сделать? На это он лишь криво усмехнулся и сказал, нисколько не щадя меня: «Я, в отличие от Штурмана, нахожусь в своем мире и старею, а потому провести годы черт знает где в погоне за ним, а потом вернуться сюда глубоким старцем и проиграть по причине естественной смерти я не желаю». Я тогда не очень понял, что он имел в виду, но одно мне было ясно: Райхель, что называется, намерен «загребать жар чужими руками», то есть моими!
Я попробовал протестовать. Да что там! – я попросту отказался выполнить это задание и обвинил его в недобросовестности. Тогда-то я, кстати, и начал догадываться, что болезнь мою наслал на меня именно он, проклятый оккультист!
Я выпалил все это ему в лицо и бросился бежать, с ужасом чувствуя, как сознание мое вновь начинает затуманиваться и мысли, только что еще такие ясные и стройные, вновь сбиваются в кучу и теряют нить логики. Я мог убежать от профессора, но не от его колдовской силы!
Как и следовало ожидать, уже через несколько часов я вновь оказался в больнице. Снова вязки, уколы и жестокость санитаров, снова грязь, запущенность и потерянность в окружающем… Я вернулся к тому скотскому состоянию, в котором находился до сделки с Райхелем. Смутно помню, как ты приходил ко мне с девчонками из нашего класса, но никаких эмоций я по этому поводу не испытывал, – мне снова было все равно.
Однако, стоило вам тогда уйти, как в палату вошел профессор Райхель. Приведя меня за считанные мгновения в мыслящее состояние, он заявил, что намерен дать мне последний шанс одуматься. Если я откажусь, то он исчезнет навсегда и предоставит мне возможность сдохнуть последней скотиной. Он прямо так и сказал, и этого оказалось достаточно. Я вновь дал свое согласие служить ему.
Мне предстояло снова войти в знакомую мне – да и тебе! – квартиру и нырнуть на без малого сто лет назад, где мне предстояло выслеживать загадочного Штурмана. Райхель рассказал мне, что все штурманы, или навигаторы – особенные люди и при известной внимательности вычислить такого не так уж и сложно. Во-первых, Штурман не стареет, находясь в чужом мире, а посему и через десять, двадцать или даже сто лет остается таким же, каким был в момент входа в этот мир. Однако же знание этой особенности штурманов ничем мне помочь не могло, поскольку, как я надеялся, мне не придется провести в прошлом столько времени, чтобы заметить ее у кого-нибудь. Некоторые люди тоже умудряются десятилетиями выглядеть одинаково… Более важной была информация о том, что Штурман, будучи одарен лишь способностью расплетать пути Большой Спирали, почти совсем не приспособлен ни для чего другого, – он не может изучить какую-либо иную профессию и быть в ней успешным, равно как не может и быть полноценным членом человеческого общества. Свои контакты с другими людьми Штурман ограничивает необходимостью, семьи не имеет и в общественную деятельность не суется. Вся его энергия, все его существование принадлежат лишь хаосу Большой Спирали. Вот этим-то мне и предстояло, прежде всего, руководствоваться при его поиске. Карты Навигации Штурман наверняка хранит при себе, а посему проблему профессор Райхель видел лишь в том, чтобы разыскать его.
Однако, едва я оказался снаружи и вдохнул полной грудью свежего воздуха, не пахнущего аммиаком и миазмами психиатрической лечебницы, мне внезапно пришла в голову спасительная мысль: я должен встретиться с тобой и все тебе рассказать. Тогда, по крайней мере, хотя бы один человек будет знать, что же, на самом деле, со мной случилось и где меня искать! Я бросился на проходную какого-то общежития и вымолил у вахтерши один звонок. К чему привел этот звонок, ты помнишь…»
Я помнил. Да так помнил, что стыд за содеянное, боюсь, будет жечь мне лицо до конца жизни. Но было еще что-то в рассказе Альберта… Что-то, прошедшее мимо моего внимания, но оставившее осадок неясного беспокойства в душе. Но что?
«…Так вот, – продолжал мой друг, – услышав доносившуюся с улицы сирену «Скорой помощи», я понял, что ты не поверил мне. Страх быть схваченным и вновь запертым в этом адском месте погнал меня вперед. Как полоумный – а я им и был! – ворвался я в подъезд и, взлетев по лестнице на третий этаж, буквально перепрыгнул порог нашей квартиры. И вот, друг мой, с тех пор я здесь. Опасаясь моих выкрутасов, Райхель не позволил мне больше вернуться в мое время и отдавал мне приказы, коротко наведываясь сюда сам. Пару раз у меня мелькала мысль, а не лучше ли плюнуть на все и попробовать зажить здесь нормальной жизнью? Но нет! В моменты моих сомнений подлый профессор всегда напоминал мне о себе, заставляя мое мышление кривляться и повергая меня тем самым в ужас. Так и не сумел я, Галактион, избавиться от его влияния, а, поскольку миссия моя все еще не была выполнена, речи о моем возвращении домой не шло.
С огромным трудом удалось мне вычислить местонахождение Карт Навигации, но сейчас, когда кто-то умудрился увести их у меня из-под носа, последняя надежда потухла. Помнишь, как я шел за тобой от самой больницы, чем испугал тебя? Умудренному опытом, мне не стоило большого труда пробраться в здание и попридержать старушку-санитарку, чтобы дать тебе возможность улизнуть. Ты уж прости меня, но другого выхода я не видел. Одно меня утешает: мои действия не повредили тебе и даже, пожалуй, в чем-то помогли, – Альберт едва заметно улыбнулся и скосил глаза на Аглаю. – Кстати, письмо, в котором я зову тебя «прийти и узнать» я уже написал и передал Райхелю… Он теперь постарается, чтобы ты получил его там, в начале 2000-ых. Хотел бы я знать, зачем ты ему нужен!»
Альберт, утомленный, замолчал и прикрыл глаза. Он все сказал, обо всем поведал и хотел теперь отдохнуть с чувством исполненного долга. То ли рана была слишком тяжелой, то ли злая болезнь добивала моего друга, но сил у него оставалось все меньше и меньше. Я поплотнее укрыл его пледом и не стал больше ни о чем расспрашивать. Впрочем, необходимости в этом и не было, – все, что нужно, я уже знал.
Глава 24 Горестные часы
Румянца на щеках пятидесятидвухлетнего Альберта Калинского я уже никогда не увидел, как не услышал я и его голоса, слабого и чуть дребезжащего. Когда я, немного не доезжая районного центра, окликнул его, намереваясь дать указание «держаться», он мне не ответил. Испуганный, я велел вознице остановиться и, когда тряска прекратилась, убедился, что мой старый товарищ умер. Я долго смотрел в его еще сильнее осунувшееся, бескровное лицо с посиневшими ушами и торчащими изо рта верхушками желтых зубов, и чувствовал себя потерянным. Я понятия не имел, что следует делать, да и общая неправдоподобность ситуации мешала мне сосредоточиться.
Видя мою беспомощность, Аглая взяла ситуацию в свои руки, попросив возницу свернуть с дороги и подъехать к расположенной в сосняке недалеко от дороги каменной беседке, некогда принадлежавшей местному купцу Изотову и служившей его разнузданной компании местом пикников. Сейчас беседка была бесхозной, и Аглая сказала, что лучше всего будет оставить покойника там, под моим присмотром, пока сама она с помощью возницы ищет машину.
– Почему же нельзя поехать сразу? – спросил я ее, мало обрадованный перспективой потерять подругу из виду.
– Могут возникнуть вопросы, а мы понятия не имеем о личности покойника.
– Он мой друг.
– И ты скажешь это в деревне? – съязвила товарка Алеянц. – Тогда тебе, по меньшей мере, придется объяснять, кто такой ты, а это посложнее будет. В общем, ты останешься здесь и посторожишь труп, хотя не думаю, что кто-то на него позарится – таежный зверь днем так близко к жилью не подходит.
– Но что мы будем делать, если ты найдешь машину? Куда мы его повезем?
– В город, естественно, другого выхода нет. Или ты намерен провести несколько часов с лопатой, копая могилу для несанкционированных похорон? К тому же… Сейчас возница думает, что все в порядке и ничего противозаконного мы не совершаем, но стоит ему что-нибудь заподозрить… Тебе мало твоих мытарств?
Моих мытарств мне было более чем достаточно, и я выразил готовность во всем слушаться Аглаю, пока это необходимо.
Мы поплотнее завернули в плед начавшее коченеть тело и уложили его на бетонную, лишенную покрытия скамью в беседке. Слушая удаляющийся цокот копыт, я с грустью подумал, что, быть может, проведу в ожидании не один час. Сыскать автомашину в 1930-ом году может оказаться не таким уж легким делом!
Присев у противоположного бортика беседки, я огляделся. Сосны подступали к этому летнему убежищу праздных купеческих дружков почти вплотную, а по проклюнувшемуся на подходящих к лесному домику тропинках хвойному молодняку я догадался, что с того времени, как бравые красноармейцы исполосовали шашками семью купца Изотова и его самого, каменное это строеньице перестало выполнять свою увеселительную функцию.
Ну-ка, ну-ка… Вскочив и осмотревшись, я даже дышать перестал от удивления и неожиданности, потому что узнал это место. Ну конечно, это ведь та самая беседка, в которой я, прячась от назойливого пионерского сброда, провел столько незабываемых часов во время моего вынужденного «отдыха» в пионерском лагере! Вернее, проведу лет так через пятьдесят семь… Да, оптимистом был этот купец Изотов, возводя беседку для пикников на века! Да и что ей, каменной, сделается? Только мхом покроется.
Пейзажи вокруг домика были, разумеется, совсем иными. Ни тропинок, ни полянок к восьмидесятым годам двадцатого века здесь не останется, да и ни на каких санях подъехать так близко будет нельзя, но все же я был уверен, что не ошибся – бетонный лесной домик был тем самым. Для пущей уверенности я вышел из беседки и, посчитав, что тело Альберта никакой опасности не подвергается, прошел немного вглубь леса и поднялся на знакомый мне пригорок, с которого явственно различил на северо-востоке извилистую ленту неспешной Тубы.
Тут мне в голову пришла совсем уж дикая идея, но, поразмыслив, я нашел ее очень логичной. Вспомнив, как Альберт трясущимися руками разматывал платок, а затем бумагу и фольгу, чтобы предъявить нам с Аглаей свой тщательно сберегаемый липовый документ, я без промедления обшарил его карманы и уже через пару минут держал в руках добротный, хоть и несколько измятый, лист бумаги. Положив его для удобства на бетонную лавку рядом с трупом, я жирно написал на нем найденным у Альберта же карандашом: ««Тело Анны Юрьевны найдете в нижнем гроте. Сегодня в десять убийца попробует перенести его в лес». Свернув листок в рулончик, я плотно обмотал его фольгой, в которой Альберт хранил паспорт, и, встав на скамейку, плотно втиснул послание между верхней поперечной балкой и бетонным сводом. «Разгадав» таким образом загадку моего детского приключения, я остался очень доволен собой. Оказывается, все в жизни имеет простое объяснение, стоит лишь перестать изумляться по каждому поводу и поискать ответа.
Стараясь не удаляться от беседки слишком далеко, я немного побродил по той часть леса, где когда-то будет построен пионерский лагерь, гадая, что же побудило людей пожертвовать столь дивным уголком природы в пользу такого отвратительного учреждения, и пришел к выводу, что все дело в человеческой глупости и неумении отличать истинные ценности от мнимых. Когда я вновь мысленно переживал утреннюю лагерную линейку, издалека до меня донеслось утробное урчание автомобильного мотора, из чего я сделал вывод, что поиски Аглаи оказались успешными.
Так и было. Из кабины ужасного вида грузовика выскочила товарка Алеянц и, что-то на ходу объясняя ковыляющему рядом шоферу, направилась к беседке. Я тут же подоспел, и вместе с водителем мы переложили тело в кузов, куда запрыгнул и я, предоставив Аглае путешествовать с удобствами, в кабине. Во время погрузки женщина почти не разговаривала со мной, ограничившись парой-тройкой небрежно брошенных в мою сторону междометий. Я сразу обиделся было, но затем догадался, что весь этот спектакль рассчитан на шофера, дабы не позволить тому сконцентрировать свое внимание на такой незначительной персоне, как я. Съежившись от холода в углу кузова и завидуя температурной невосприимчивости мертвого Альберта, я приготовился к дальней дороге.
Судьба не всегда ставит нам палки в колеса, и удача золотой рыбкой нет-нет да и вынырнет из глубин удручающе-серого моря рутины, в котором мы все флегматично плещемся. Иногда везет даже в лотерее, хотя играть против государства – невиданная глупость.
Такая вот негаданная удача и улыбнулась нам на этот раз. Всю дорогу до города товарка Алеянц, как потом оказалось, ломала голову над почти неразрешимой проблемой, а именно: как уговорить мужа, сурового себялюбивого партийца, посодействовать нам в организации похорон моего умершего друга. Кроме того, ей нужно было придумать, кем меня ему представить, не рискуя навлечь на себя громы и молнии. Но, как я уже упомянул, провидение было милостиво к нам, и по нашему прибытию в город оказалось, что товарищ Алеянц три дня назад отбыл в столицу принимать участие в какой-то не то конференции, не то ассамблее. Он, должно быть, все еще не оставил надежды пойти на повышение по партийной линии и, оправившись от паранойи, вызванной неуклюжими действиями Альберта, вновь бросился на опасное покорение политического олимпа.
Эти его амбиции и связанное с ними отсутствие были нам очень на руку. Пользуясь своими связями жены номенклатурщика, Аглая без проблем уладила все необходимые формальности и договорилась о месте на кладбище. Ей даже удалось достать где-то синего бархата на обтяжку гроба, наспех сколоченного живущим в соседнем доме столяром. Синий гроб выглядел, конечно, не совсем обычно, но это было все же лучше, чем выставлять на обозрение горбыли, из которых, за неимением лучшего материала, упомянутый столяр соорудил стенки этого неуклюжего ящика. Впрочем, ни на чье обозрение мы Альбертову домовину выставлять не собирались.
Обошлись без морга, а посему выносить умершего предполагалось прямо из квартиры Аглаи, причем как можно быстрее. Ведомый чувством неловкости, я предложил было управиться поскорее и провести погребение ночью, но товарка Алеянц укоризненным тоном указала мне на мою неразумность: к несчастью, в городе мороз стоял более крепкий, чем в Николопетровке, земля уже успела промерзнуть и нуждалась в длительном отогревании кострами, а потому похоронить моего друга мы могли в лучшем случае через день, когда могила будет готова. Для мужа Аглая придумала сказку про неожиданно умершего бездомного родственника, которую Яков и Кира Прокловна должны были, в случае чего, подтвердить (перестраховываясь, она уговорила шофера заехать на обратном пути к приятелю Якова, где тот как раз гостил, и передать ему записку, в которой она слезно просила отца не откладывая приехать).
Уже на следующий день, когда на городском кладбище во всю полыхал костер на будущей могиле Калинского, а в квартире отлучившегося Алеянца повисла мрачная торжественность, которая всегда царит в домах, где лежит покойник, нетерпеливый стук в дверь возвестил о приезде сурового таежника. Несмотря на отсутствие нормального транспортного сообщения добраться он смог довольно быстро, чему, несомненно, поспособствовали щедро раздаваемое спиртное да определенная сумма денег. И вот он, встревоженный, стоит на пороге городской квартиры Аглаи, всем своим видом требуя объяснения срочного вызова.
Товарка Алеянц, разумеется, знала немного и смогла поведать отцу только то, что умерший – тот самый человек, что квартировал у бабки Зинаиды и охотился за странными Картами, на которых, мол, свет клином сошелся. Выбросить же тело на улицу или отдать на попечение властей нельзя, так как покойник, по дикому совпадению, являлся моим старым другом и так с ним поступить было бы несправедливо. Яков, услышав это, бросил на меня быстрый взгляд:
– Это он?
Я молча кивнул.
– Он получил, что хотел?
– Не знаю, что ты имеешь в виду, но Карт он не нашел.
– Бедняга. Неужели его задрал Дым?
– Похоже. Впрочем, по его словам, он и без того сильно болел.
Аглая, видя, что разговор предстоит чисто мужской, бесшумно выскользнула из кухни и прикрыла за собой дверь, проявив невиданную для нее тактичность. Яков покачал головой, раздумывая над чем-то.
– Мы отдадим ему последний долг. Большего, к сожалению, мы сделать не сможем. Да, Галактион… Мне жаль, но я, видимо, не смогу вернуть тебя в твое время. Понимаешь…
– Я знаю, Яков.
Крестьянин вздрогнул и посмотрел на меня настороженно.
– Откуда?
– Вернуть меня домой могут либо профессор Райхель, пославший меня сюда, либо же Штурман. Ты же ни тем ни другим не являешься.
– Как ты узнал? – Яков выглядел обескураженным.
– Это несложно. Мой мертвый товарищ натолкнул меня на эту мысль, рассказав, что Штурман, во-первых, чурается людей и не заводит семью, а во-вторых, не стареет. Наличие же у тебя Киры Прокловны и дочек противоречит первому утверждению, а, взглянув на твое фото двадцатилетней давности, что показала мне Аглая в твое отсутствие, я убедился, что и вторая особенность к тебе не относится. Таким образом мне стало ясно, что ты – не Штурман. Но вопрос в другом: зачем ты сочинил эту историю и попытался ввести меня в заблуждение? И почему Карты Навигации хранились у тебя? Ведь, насколько я знаю, штурманы-навигаторы крайне редко расстаются с ними?
Яков нахмурился, и было видно, что говорить на эту тему ему не особенно приятно. Шрам, пересекающий его щеку, побелел, а пальцы нервно забарабанили по столешнице, заставляя торчащие из стаканов чайные ложки позвякивать.
– Видишь ли… Когда ты появился у Архипа и рассказал ему свою историю, мы не могли быть уверены, что ты – тот, за кого себя выдаешь. У наших врагов тысячи рук и вполне могло оказаться, что тебя просто подослали к нам, чтобы добиться, наконец, успеха и завладеть Картами. Архип сразу же сообщил мне по нашим каналам подробности, и мы решили не выказывать своего недоверия, дабы не спугнуть твоего профессора и не заставить его быть более изобретательным. Но, присмотревшись к тебе и взвесив все «за» и «против» мы пришли к выводу, что ты не злоумышленник и не провокатор, хотя и связан, как и все мы, с этим делом о Картах. Однако это не исключало, что Райхель использует тебя вслепую, хотя бы для того, чтобы выйти на Штурмана, а потому мы должны были быть с тобой осторожны. Затем нам стало ясно, что эта догадка верна, но опасаться нам в первую очередь нужно было не тебя, а того человека, что помог тебе бежать из больницы и следил за тобой до самого дома Архипа. Тогда мы, отчаявшись, решили пойти ва-банк: Архип отправил тебя ко мне в деревню, куда, по нашим расчетам, за тобой должен был отправиться и агент Райхеля. Там мы намеревались схватить его и выведать кое-что. Так и вышло – он прибыл следом за тобой и поселился у сумасшедшей Зинаиды, которую запугал разоблачением убийства того купца – аглайкиного папаши. Убедившись в том, что мы не просчитались, я поспешил к моему другу в соседнюю деревню – одному из нас, – чтобы сказать ему, что пришло время действовать. Но, едва мы собрались в обратный путь, чтобы выполнить задуманное, как приехал тот человек на грузовике и передал мне записку Аглаи, после чего я срочно выехал сюда. Вот и все.
– Довольно путано… Почему же ты мне сказал, что Штурман – это ты? Ведь не тщеславия же ради!
Яков усмехнулся.
– Тщеславие… В моем положении и слова-то такие недопустимы. Тут не о тщеславии речь, а о том, чтобы выжить да с ума не сойти. Я уже сказал тебе, что не был уверен в твоей искренности, а значит, не мог и рисковать. Случись так, что ты – шпион Райхеля, то было просто необходимо ввести тебя в заблуждение и не дать профессору обнаружить грубейший просчет его учителя, – лишь тогда у нас оставался шанс когда-нибудь вернуться домой.
– Какой просчет? О чем ты говоришь?
– Дело в том, что примерно через год после нашего прибытия сюда Штурман исчез. Он вдруг пропал, как в воду канул, и это было не просто странно, но в высшей степени удивительно, ибо никогда еще ни один порядочный Штурман так со своей группой не поступал. Прибыв к нему в назначенный день для того, чтобы отправиться домой, мы не нашли его в той коморке, в которой он жил. Ожидание также не дало никаких результатов. Тогда мы приписали происходящее злой воле очередного недоброжелателя: для нас не было секретом, что всегда находится кто-то, мечтающий завладеть Картами Навигации, и в том, что это – очередная выходка одного из таких охотников, сомневаться не приходилось. Кстати, сами Карты нашлись в хижине Штурмана, что лишний раз убедило нас, что он покинул свое жилище не по своей воле. Ты правильно заметил: штурманы никому не доверяют своих Карт и не бросают их где попало, так что злой умысел был налицо. Тот человек – Кирилл – труп которого ты видел в психлечебнице, – один из нас и много лет занимался расследованием исчезновения Штурмана. К сожалению, мы – обычные люди и возможности наши ограничены, так что единственное, что ему удалось установить, так это личность некоего Абхинавы – индийского гуру и основателя собственного ашрама, в котором он проводил эксперименты со временем. Этот-то Абхинава, похоже, и устроил исчезновение одного их членов нашей группы, сделав это для того, чтобы не дать нам собраться вместе и отправиться восвояси. Таким образом он рассчитывал не позволить вожделенным Картам ускользнуть. Но самое печальное было то, что этот индиец, никого не зная в лицо, по ошибке убрал именно Штурмана, полагая, должно быть, что внешне хлипкий, невзрачный человечишко менее нас всех годится на эту роль.
Кирилл хорошо поработал, но, к сожалению, даже обладая этой информацией, мы ничего не могли изменить, так как в будущее, куда Абхинава услал нашего Штурмана, нам было не проникнуть. Поняв это, мы решили не терять контакт друг с другом и ждать возможности повлиять на ситуацию. Карты Навигации хранились у меня, но что нам с них толку без Штурмана? Так и старели… А недавно отчаявшийся Кирилл решил отправиться в Индию на поиски Абхинавы… Конец этой истории ты видел сам, в больнице.
– Погоди-ка, Яков! А как же Райхель? Ведь ты говорил о нем!
Таежник вздохнул, как в разговоре с недоразвитым ребенком.
– Райхель послал тебя сюда с определенной целью, он – верный последователь своего учителя Абхинавы и добивается того же. Но здесь, в 1930-ом году, его еще нет. Он попросту еще не родился.
У меня все смешалось в голове. О Господи, как это трудно – размышлять о времени и пытаться вникнуть в его суть и структуру! Абхинава был, Абхинавы не было, кто-то умер, но еще не умер, некто еще не родился, но уже вредит кому-то, Карты украли, но не украли…
– Так как же быть? – задал я глупый вопрос, говорящий, скорее, о моей беспомощности, чем о способности трезво рассуждать. – Что теперь будет с группой?
– С группой? – с горечью в голосе отозвался Яков. – Да ничего с ней не будет, ее уже почти нет. В живых остались единицы, а Штурман по-прежнему неизвестно где…
Он резким движением сдернул рубаху, обнажив левое плечо и руку, и продемонстрировал знакомый мне уже знак в виде двух ромбов, соединенных линиями.
– Вот – единственное напоминание о существовавшей когда-то группе, не считая наших редких встреч да воспоминаний. Кира моя и вовсе приросла к этому миру и с удовольствием живет здешней жизнью, так что…
Внеся в мою душу смуту и не пожелав остаться на ночь, Яков уехал. Он объяснил это тем, что не хочет, якобы, терять представившуюся оказию (машина, с которой он добрался, отправлялась в обратный путь сегодня же), но мне было ясно, что ему просто в тягость наши ничего не обещающие беседы, да и сладковатый трупный запах в квартире, с каждым часом становящийся все более отчетливым, желания ночевать здесь не добавлял.
Эту последнюю ночь я решил провести у гроба Альберта. Аглая вызвалась было разделить со мной этот скорбный ритуал, но я, видя ее усталость, уже около полуночи отослал ее спать. В изголовье гроба мы, как полагается, зажгли две свечи, а стоящий в углу трельяж занавесили отрезом черной ткани, из которой Аглая когда-то собиралась заказать себе вечернее платье.
Я смотрел на покойника и вспоминал все то, что нас ним связывало: детские игры, мечты, захватывающие дух приключения на населенном мнимыми привидениями чердаке, его болезнь и мое предательство… Но было ли это предательством в истинном смысле слова? Я утешал себя, что не было и пытался переквалифицировать свое тогдашнее действие в ошибку или даже оплошность. Это мне не удавалось. В таких вот бесплодных попытках помириться с самим с собою я и проводил час за часом у альбертова гроба.
Часа в три ночи мне вдруг показалось, что я слышал какой-то шорох, донесшийся из прихожей. Сначала я не придал этому значения, – мало ли что может показаться? – но после того, как звук повторился, я понял, что он – не иллюзия и в прихожей действительно кто-то есть. Будь это Аглая, она, несомненно, заглянула бы ко мне или же я услышал бы скрип открываемой двери в ванную (эта дверь была единственной, которая скрипела, даже будучи новой). Слышанный же мною шорох был таким, словно кто-то крался по коридору, не желая включать свет и потому легко касаясь в потемках стен и предметов. Однако мне точно было известно, что в квартире, кроме меня, Аглаи и покойника, никого нет, а если бы кому-нибудь вздумалось открывать входную дверь, то щелчок замка тотчас же известил бы меня об этом. Кто же это тогда?
Первым моим побуждением было встать и распахнуть дверь в прихожую, застав непрошенного гостя врасплох, однако я подавил в себе это желание, решив оставаться на месте и выжидать. Быть может, это все же Аглая встала за чем-нибудь и, не желая мешать моей скорби, старается вести себя потише? Я уставился на дверь и, подозреваю, частота моего пульса в этот момент сильно повысилась.
Ждать мне, впрочем, пришлось недолго. Минуты через две-три дверь начала медленно открываться, и еще спустя мгновение я увидел в ее проеме фигуру невысокого, худого человека, показавшегося мне почему-то растерянным или даже испуганным. Он занес было ногу, но не решился переступить порог комнаты и замер, не отводя широко раскрытых глаз от покойника. Затем, очнувшись, обвел взглядом гостиную и встретился глазами со мной. К тому времени моя возбужденность уже сменилась любопытством, и я пытался вспомнить, где уже видел этого человека.
Ах ты, черт! Ну конечно же, как я мог забыть! Ведь Альберт, лежащий теперь в гробу, рассказывал мне об этом! Если бы я меньше витал в облаках и внимательнее относился к окружающим, то, несомненно, не испытал бы трудностей с опознанием вошедшего. Он ведь сказал тогда, что узнал того, кто сидел у гроба, но почему-то не пожелал назвать его имя! Безусловно, передо мной стоял сейчас сам Альберт Калинский, но не тот несчастный старик, что лежит в гробу, а молодой, полный любопытства и жажды приключений парнишка начала девяностых. Так что же, выходит, он смотрит сейчас на самого себя?!
««Надо же… так и есть!» – невольно вырвалось у меня, и я тут же вспомнил, что именно эти слова упоминал Альберт в своем предсмертном рассказе. Пораженный, я отвернулся и еще раз посмотрел на лежащего в гробу человека.
Тут стоящий на пороге комнаты парнишка дернулся назад и, гонимый внезапным страхом, метнулся к входной двери. Он явно хотел уйти, сбросить с неокрепших плеч тяжесть ситуации, и я не собирался ему мешать. Но в ту же секунду меня вдруг пронзила мысль, вернее идея, как я могу перехитрить гнусного профессора и спасти свое положение! Альберт рассказывал, что, войдя в квартиру из девяностых годов, он сумел в тот день беспрепятственно вернуться назад, а человек, сидевший у гроба, якобы погнался за ним!
Медлить было нельзя, и я, забыв обо всем, бросился вслед за убегающим парнем. За долю секунды до того, как дверь за ним захлопнулась, мне удалось вставить носок ботинка в стремительно сужающуюся щель и таким образом не позволить вратам в девяностые годы закрыться. Минутой позже я уже стоял посреди ночного двора, с каждой секундой убеждаясь, что расчет мой оказался верен и я действительно сумел покинуть злобные тридцатые. Мальчишку-Альберта я, разумеется, преследовать не стал, – у меня были другие дела и другие планы.
Часть четвертая Штурман
Глава 25 Почти дома
Эйфория, охватившая было меня при мысли о том, что я сумел-таки вернуться в знакомые мне времена, испарилась после того, как я проанализировал ситуацию, в которой оказался. Во-первых, это – все же не мое время, и где-то здесь обретается четырнадцатилетний мальчишка, носящий те же имя и фамилию, что и я, то есть я сам. При мысли о случайной встречи с самим собой мне почему-то стало страшно: что тогда произойдет? Не свернется ли привычный мир в трубочку и не исчезнет ли, возмущенный столь бесцеремонным искажением его законов? Или, быть может, эти две «части меня» объединяться тогда воедино, явив миру монстра? Я поежился и решил быть предельно осторожным и любым путем избежать этой встречи.
Во-вторых, у меня не было ни документов, ни жилья, ни даже смены одежды. Единственно, чем я обладал, была моя злосчастная сумка «Рибок», которую я, хвала Создателю, догадался захватить, покидая квартиру. Я быстро проверил ее содержимое: все было на месте, и даже носовой платок с золотым ломом никто не разворачивал, – завязанный мною узел я бы не спутал. Должно быть, Аглая и в самом деле недолюбливала своего мужа столь сильно, что не желала доставить ему даже мимолетного удовольствия, передав сумку «интервента». Иначе как объяснить тот факт, что она, тогда еще не зная меня и, более того, отдав меня на расправу милиции, все же припрятала мое барахло от посторонних глаз, тем самым спасая меня от несравненно более суровой участи?
И, наконец, в-третьих… Вспомнив об Аглае, я вдруг почувствовал угрызения совести. Мне стало тошно от того, что я совершил. Ведь я, по сути, просто бежал от нее, бежал от того чувства, что зародилось было у нас и, помимо того, бросил на нее похороны моего несчастного друга, которыми она вынуждена будет теперь заниматься сама. Я знаю, что она справится, – ведь видел же я на том мистическом кладбище иного мира могилку с надписью «От друга Галактиона и меня»! Никто, кроме моей Товарки, не мог установить там той плиты… Но представляю, что она подумает, когда проснется и не обнаружит меня у гроба Альберта! Какой же свиньей я буду выглядеть в ее глазах! О, черт! Зачем я поступил так подло с единственной запавшей мне в душу женщиной? Почему судьба, лишив меня на мгновение рассудка, отняла ее у меня?
Я стремглав бросился назад, вверх по лестнице, но лишь для того, чтобы убедиться, что сделанного не исправить: дверь в проклятую квартиру была заперта, а это значило, что портал не функционирует. Звонить я не стал, так как вовсе не жаждал видеть заспанные лица Елизаветы Александровны и Альбертовой матери и слушать угрозы милицией.
На душе было скверно, но я не стал, словно девица, заламывать руки и убиваться, решив пройтись по улицам ночного города и без спешки обдумать сложившееся положение и возможные пути выхода из него. Да и что мне оставалось делать?
В сравнении с тридцатыми годами, у меня теперь было одно весомое преимущество – я жил здесь когда-то и отлично знал, что называется, все входы и выходы. Ряды разномастных ларьков, горы мусора и прочая атрибутика раннего постсоветского периода, как ни странно, радовала глаз, и я был уверен, что смогу что-нибудь придумать, если не поддамся панике.
Увлеченный своими мыслями, я только сейчас заметил, что портал на этот раз открылся не с «годичным тактом», а иначе, и тот факт, что я забыл в квартире мой старый полушубок, не играл никакой роли – здесь было лето. Теплый воздух, напоенный доносившимися со стороны маленького продуктового рынка запахами гнилых овощей и канализации, как нельзя лучше поведал мне об этом, и я настолько приободрился, что даже начал насвистывать что-то веселое, уверенный, что жизнь налаживается.
Пробродив до рассвета, я составил себе более или менее четкий план действий. Прежде чем отправиться к профессору Райхелю и потребовать у него ответа, я должен был побеспокоиться о формальной стороне дела. Разумеется, я отдавал себе отчет, что без документов, денег и какого-никакого официального положения в обществе я далеко не продвинусь, и уж во всяком случае не сумею поехать за границу, где окопался ненавистный оккультист. Потому, первым делом мне надлежало позаботиться именно об этом.
Паспорт я решил позаимствовать у собственного отца, на которого, по всеобщему мнению, очень походил. Разумеется, на фотографии он должен был выглядеть несколько старше меня, но это не было проблемой – не бреясь и нацепив на нос большие круглые очки, я вполне сойду за него. В правильности этого своего решения я уверился, когда вспомнил, что отец летом 1993-го года и в самом деле необъяснимым образом потерял свой паспорт, который просто исчез из его коробки с документами и никогда уж более не нашелся. Предку пришлось тогда выстоять несколько нескончаемых очередей в паспортном столе и одну – в сберегательной кассе для уплаты госпошлины, но на том его злоключения и окончились, не причинив ему иных неприятностей. Я осмелился думать, что отец, знай он о моем положении, согласился бы отстоять даже очередь в мавзолей ради спасения своего отпрыска, а посему не посчитал предстоящее «одалживание» у него документа преступлением. Мало того, я собирался все рассказать ему, если когда-нибудь вернусь в свое время, и покаяться.
Рассвело. Первые фургоны, расплескивая грязь, начали доставлять крикливым, облаченным в грязные клеенчатые фартуки базарным торговкам полугнилые продукты, ларьки с дешевым китайским ширпотребом распахнули свои железные ставни, а из подъездов уныло потянулись к местам службы бедно одетые сутулые женщины, надеющиеся когда-нибудь получить свою зарплату. В общем – девяностые.
Позвонив к себе домой и представившись черт знает кем, я узнал у матери, что отец уже заступил на смену в шахте, а сама она вот-вот отбудет в свою амбулаторию, где с незапамятных времен переставляет с места на место какие-то пробирки. Спустя полчаса я не без трепета проводил глазами четырнадцатилетнего, чуть полноватого парнишку в безобразной самоваренной куртейке, отправившегося, должно быть, к своему закадычному другу Альберту Калинскому, и заскочил в полутемный, пропахший мочой подъезд.
Ключ от квартиры мы, как и все, всегда «прятали» под коврик у двери, на котором громоздились вперемешку кирзовые сапоги, галоши и старые стоптанные кеды, так что найти его мне не составило никакого труда. Переступив порог, я чуть помедлил, свыкаясь с обстановкой и вспоминая, где что лежит, потом, не давая воли нахлынувшей ностальгии, прошел в большую комнату и вытащил из «стенки» картонную коробку из-под туфель, где родители хранили документы. Отцовский паспорт я нашел быстро – он, серпасто-молоткастый, лежал почти на самом верху, – и, не задерживаясь долее, поспешил назад. Мне пришло было в голову разжиться и кой-какой одежонкой, но я отказался от этой мысли, так как пропажа драгоценных по этим временам штанов или рубашки несомненно была бы обнаружена и могла привести к заявлению в милицию о краже, что в мои планы не входило. Затем я решил было пошалить и подбросить мне – «местному» – что-нибудь в комнату, но и тут я остановил себя: я не помню, чтобы обнаружил в детстве что-то необычное, а это значит, что такое не должно случиться.
Захлопнув дверь, я положил ключ под коврик и вышел на улицу. Теперь я чувствовал себя гораздо более уверенно, хотя и не припоминал, чтобы паспортный режим здесь был сколь-нибудь строгим.
Следующей моей остановкой должен был стать скупщик драгоценных металлов, которому я вознамерился продать свое золото. Насколько я помнил, самый известный в городе ломбард находился всего в трех кварталах от моего дома, а потому, не раздумывая, направился туда и вступил в жесткий торг с лысым, страдающим болезнью Паркинсона стариком, необычайно въедливым и борющимся за каждую копейку. Он тоже был частью этого общества и знал, в каком бедственном положении находится большинство жителей, вынужденных закладывать и продавать за гроши даже семейные реликвии, а потому не спешил предложить за горстку высыпанного мною на прилавок желтого металла нормальную цену, приняв меня, должно быть, за воришку-наркомана, жаждущего дозы. Однако я четко представлял себе, сколько хочу выручить за свою собственность и быстро разубедил жадного старика в том, что и меня он сможет так же легко надуть, как какую-нибудь отчаявшуюся домохозяйку. Даже на слова «позвоню в милицию», лукаво ввернутые пройдохой в разговор, я не отреагировал нужным ему образом, но стал ссыпать желтые кусочки с прилавка в сложенную лодочкой ладонь, что вынудило раздосадованного носатого мародера назвать, наконец, приемлемую цену. Остальную часть золота я до поры припрятал, надеясь позже с его помощью попасть в Европу.
Приодевшись на вещевом рынке в китайско-кооперативное барахло и кое-как умывшись в туалете техникума пищевой промышленности, я наконец-то почувствовал себя человеком. Некая баба Клава, живущая в частном секторе неподалеку и так же, как все, имеющая весьма смутное представление о том, как выглядит ее пенсия, согласилась за умеренную плату пустить меня пожить на веранде ее дома, с условием, что я не стану «баловать». Я уверил ее, что вышел из того возраста, и таким образом приобрел крышу над головой. В моем распоряжении была также и баня, где я мог мыться хоть с утра до вечера, если натаскаю воды и украду где-нибудь угля на протопку. Чемоданов у меня не было, и весь «переезд» мой заключался в том, что я, бросив в угол веранды осточертевшую мне сумку, с удовольствием вытянулся на кушетке, покрытой стареньким одеялом, и уснул, отложив все свои размышления на потом.
То ли свежий воздух веранды действовал на меня благотворно, толи я и в самом деле несказанно вымотался, но проспал я до самого следующего утра. Никто не потревожил меня – ни ночная прохлада, ни снующая туда-сюда баба Клава, нажарившая мне с вечера картошки, да не посмевшая меня разбудить.
Правда, мысли, занимавшие меня днем, не отступили и, преобразовавшись в причудливые сновидения, продолжали одолевать меня. Мне снилась Аглая – моя несравненная товарка Алеянц, которую я так безмозгло потерял, снился приемный отец ее Яков, так много сделавший для меня в трудное время, и, конечно, снился Альберт, который в моем сне почему-то сидел в своем гробу, обиженно тер глаза и жаловался, что я не пришел на его похороны. Был он при этом не изможденным, ожесточившимся на весь мир стариком, а таким, как в детстве – молодым, безусым и немножко робким. Мне было жаль его и я, оправдываясь, похлопывал его по плечу, на котором почему-то красовались соединенные волнистыми линиями ромбы. Затем лицо Альберта вдруг начало меняться, постепенно приобретая черты совсем другого человека. Человека, которого я знал в прошлом, но никак не мог вспомнить. Эти ромбы, эти линии, – когда-то, давно, я уже видел их… Недаром же тогда, в больнице, этот знак, изображенный на плече мертвого Кирилла, показался мне знакомым! Но кто же он? Кто этот человек, смотрящий сейчас на меня из гроба Альберта настороженно и, вместе с тем, как будто насмешливо?
Я проснулся и, мокрый от пота, сел на кушетке. Сердце мое рвануло в карьер и его глухие, частые толчки я ощущал теперь не только в груди, но и в горле. От резкого движения старая кушетка жалобно заскрипела, и на этот звук тут же появилась баба Клава, с нетерпением дожидавшаяся моего пробуждения, чтобы озадачить меня поиском топлива для ее старой, чадящей печки. Я с радостью помог бы старушке, спасшей меня от бродячего существования, но мысли мои были теперь заняты совсем другим: мне нужно было срочно действовать, так как я вспомнил, где уже видел это странное клеймо – два ромба, соединенные волнистыми линиями. Почему же я, черт возьми, раньше не дал себе труда покопаться в своих воспоминаниях? Тогда бы все могло сложиться совсем иначе и я, быть может, не потерял бы мою Аглаю! Или не приобрел…
– Ты не помнишь меня?
– Наверно, нет.
– Как же так? Ведь мы были знакомы и даже провели немало часов за беседами…
– Я не могу помнить всех, с кем перебросился когда-то парой слов. Но… тебя я, пожалуй, помню. Ты – причина того, что я здесь.
– Не нужно меня винить, я сделал лишь то, что должен был сделать. К тому же, я не знал тогда, что…
– Я и не виню. Здесь мне, пожалуй, лучше, чем снаружи.
Сидящий напротив меня человек в робе арестанта тусклым взглядом посмотрел в забранное арматурой окно, в которое злой, взбесившийся ветер бросал пригоршни дождя. Лицо его, мохнобровое и изрезанное глубокими морщинами неудач, выражало полное равнодушие к окружающему, словно речь шла о чем-то совсем пустячном, и находился он не в зоне – исправительно-трудовой колонии, а все в той же кочегарке пионерского лагеря, где я с ним когда-то познакомился.
Я вспомнил, что, учитывая все мои «кульбиты во времени», прошло не более пяти-шести лет с того дня, когда он был арестован. Не много, но люди порой стареют и быстрее. Трофимыч же за эти годы совершенно не изменился, и даже число его морщин, пожалуй, осталось прежним. В другом случае меня, наверное, удивило бы сие обстоятельство, но не сейчас, когда я знал причины этого феномена.
– Послушай, Трофимыч, я ведь тогда и в самом деле не знал, кто убийца. Я лишь прочитал в записке, что…
– А если бы знал, поступил бы иначе?
Я мысленно поскреб в затылке и решил быть честным.
– Тогда, наверно, нет. Я убедил себя, что обожаю убиенную Анечку, и жаждал возмездия. Господи, Трофимыч, какой глупой бывает молодость! Сейчас я могу лишь сказать, что полностью согласен с твоими словами о том, что каждый рано или поздно должен платить по своим счетам, сколь высоки бы они ни были. Впрочем, я не судья и не знаю, насколько кара в том случае соответствовала преступлению.
– Это теперь не имеет значения.
– Ты прав… Кстати, Трофимыч, – начал я издалека, – тебя не удивляет, что я за столь малый срок так повзрослел? Тогда мне было девять, а прошло всего пять лет…
Трофимыч оторвал, наконец, взгляд от окна и посмотрел на меня чуть насмешливо.
– Может быть, я и произвожу впечатление уставшего от жизни человека, и даже готов признать, что некоторые мои поступки достойны удивления, однако я не поглупел. Совершенно ясно, что ты каким-то образом вляпался в эту грязную историю с моими Картами и алчным Абхинавой, а возможно и служишь ему. Если это так, то я должен с огорчением констатировать, что безумный индиец докопался-таки до сути. Только скажу тебе сразу: все ваши усилия бесполезны, поскольку Карт у меня нет. Я потерял их.
– Да нет, Трофимыч, не потерял. Долгие годы Яков Угрюмов хранил Карты у себя, дожидаясь твоего появления, и лишь в тридцатом году кто-то увел их у него. Может быть, это был упомянутый тобой Абхинава, но, скорее, адепт его ашрама профессор Георг Райхель. Однако верь мне – ни одному из них я не служу, мало того – имею к подлецу-оккультисту кое-какие претензии.
При упоминании Якова заключенный вздрогнул и впервые с начала разговора посмотрел на меня внимательно.
– Ты знаешь Якова? Откуда? И как тебя, черт возьми, угораздило влезть во все это?
– Это длинная история, Трофимыч, и если я сейчас начну ее рассказывать…
– Не думаешь ли ты, что у меня здесь нехватка времени при сроке в пятнадцать лет? – осклабился Штурман, и я, понимая, что другого выхода у меня просто нет, как на духу выложил ему все.
Все время, пока я говорил, Трофимыч сидел с опущенной головой, уставившись в пол, и лишь изредка, если я делал паузу, нетерпеливыми жестами побуждал меня продолжать. Пару раз он задавал мне уточняющие вопросы, а услышав про загадочное исчезновение Карт Навигации из тайника в стене сарая, всплеснул руками.
Когда я закончил, Трофимыч еще некоторое время оставался неподвижен, размышляя о чем-то, затем вдруг лукаво посмотрел на меня и спросил:
– Ты точно запомнил, где находится тот тайник?
– Конечно. Яков показал мне это место.
– И ты смог бы открыть его, не взломав?
– Ну да. Только я не понимаю, к чему твои вопросы. Ведь Карты исчезли, а я здесь, а не в прошлом.
– Ты забыл, кто я? Или просто не хочешь помочь мне и себе?
Я от чистого сердца заверил его, что готов на все, лишь бы положить конец всей этой неразберихе и вернуться к нормальной жизни.
– Тогда слушай. Я вычислю нужную тропку и отправлю тебя туда. Там ты вынешь Карты из тайника до того, как они исчезнут, и принесешь их мне. За это я постараюсь исправить глупость твоей молодости и вернуть тебя в твое время. Идет?
Пуститься в очередную авантюру со временем? Я поежился. Пусть я сейчас и не дома, но ведь девяностые годы – не тридцатые с их ужасами и оголтелым коммунизмом и, если я отрину чрезмерные амбиции, то, возможно, смогу вполне сносно здесь устроиться! Если же я вновь нырну в дикие времена, то не останусь ли там на этот раз навсегда? Я отчаянно не хотел рисковать и вспомнил даже пословицу про синицу в руке, но… Подумав о ласковых глазах товарки Алеянц, сказал почему-то:
– По рукам, Трофимыч! Надеюсь, на этот раз обойдется без коллизий!
– Отлично! На твоем месте я поступил бы так же. Чтобы твое наземное путешествие не было столь трудным, сделаем так: ты отправишься в Николопетровку на обыкновенном автобусе, честно заплатив за билет, и там найдешь врата…
После короткого объяснения я, подивившись сказочным возможностям Штурмана, не мог не спросить:
– Скажи мне, Трофимыч, почему же ты сам тогда не вернулся назад? Для тебя это – плевое дело, и Абхинава…
– Вот именно – Абхинава! Открыв врата, я тут же дал бы ему понять, что я и есть тот, кого он ищет, и это погубило бы все. В этом случае я никогда не смог бы вернуть команду домой.
– Но ведь с твоими способностями ты мог бороться!
– Я не борец. Я штурман, и оставим этот разговор. Мне и без того было тошно все эти годы. Так тошно, что порой хотелось убить кого-нибудь!
Сказав это, он осекся и посмотрел на меня исподлобья. Я сделал вид, что не обратил на его слова никакого внимания.
Вот так и вышло, что я вновь оказался в этой таежной сибирской деревне, в которой мне довелось когда-то испытать столь противоречивые чувства и эмоции. Наверное, никогда больше мне не случится столь глубоко копнуть собственную душу и узнать о себе и жизни так много, как я узнал здесь, во время моего трехмесячного проживания у крестьянина-единоличника Якова Угрюмова в странном 1930-ом году.
Попросив водителя высадить меня на околице, я выпрыгнул из маленького желтого «Пазика» и медленно побрел в сторону главной улицы, перебирая в памяти все то, что здесь со мною случилось.
Саму деревню было не узнать – она расстроилась, география улиц и переулков изменилась, многих крестьянских изб не существовало больше, а на их месте выросли новые, более современные и основательные, и лишь гора Киржатка все так же виднелась чуть в стороне от деревни, указывая направление к мертвому Улюку.
Однако у меня не было охоты любоваться новой Николопетровкой, – я спешил поскорее справиться с поручением Штурмана и вернуться наконец-то домой. К тому же был вечер, солнце почти зашло и я не хотел медлить. С трудом отыскав среди новостроек место, где когда-то стояла изба Якова, я пошел в том направлении.
…Дом вырос передо мною, словно гриб атомного взрыва – разрастаясь и заполняя собою пространство. Проходя через открытые для меня Штурманом врата, я сосредоточился на том, что видел и потому успел восхититься непередаваемым в своей грандиозности визуальным искажением пространства и времени. На долю секунды я почувствовал себя избранным, ибо лишь немногим удается поучаствовать в чем-то подобном. А сознание того, что своими действиями я, быть может, сумею помешать гнусному профессору в его гадких планах, наполняло меня какой-то жутковатой гордостью.
Я похвалил себя, что догадался одеться потеплее – погода была зимней и температура воздуха – заметно ниже нуля. Видимо, недавно прошел снег, и белый, пушистый его слой, еще не попорченный следами людей и животных, покрывал всю округу, создавая какое-то нелепо-предновогоднее настроение.
Я осмотрелся. В опустившихся сумерках я узнал знакомый лог, забор и очертания надворных построек. Проведя за работой в хозяйстве Якова многие часы, я был хорошо знаком с расположением всех служб усадьбы и смог без труда отыскать нужный мне хлев, в стене которого находился тайник. Я исходил из того, что Трофимыч не ошибся в расчетах и Карты Навигации, о которых я уже столько слышал, все еще находятся там.
Снег скрипел под моими сапогами, когда я, идя задами вдоль забора, миновал баню и остановился у стенки хлева. Уже совсем было собравшись вскрыть тайник, я услышал, как хлопнула дверь сеней и кто-то вышел на крыльцо.
Этот вышедший замер ненадолго, не то размышляя о жизни, не то просто наслаждаясь свежим зимним воздухом, затем прошел в пригон и, справив малую нужду, о чем свидетельствовало шипение разбиваемого струей снега, вернулся назад к крыльцу. Испытывая нетерпение, я переминался с ноги на ногу, не догадываясь, что выдаю себя снежным скрипом.
«Есть кто здесь?» – донеслось со стороны крыльца, и я, обомлев на мгновение, чуть было не прыснул со смеху, так как узнал в этом голосе свой собственный. Ну, конечно же! Я отлично помнил, как стоял этой ночью с ушибленным коленом во дворе и прислушивался к скрипу снега за сараями, гадая, человек это или животное! Значит, сейчас я – тот, который у крыльца, – решу зайти в дом, чтобы одеться потеплее, но так и не выйду больше, смалодушничав. Нужно лишь немного терпения…
Так и вышло. Минутой позже я беспрепятственно приблизился к задней стене хлева, сунул палец в предусмотрительно показанную мне когда-то Яковом выемку и поддел доску, закрывающую небольшую нишу-тайник. Волк Дым, разумеется, не шелохнулся в своей будке, так как мой запах был ему отлично знаком. Зачем попусту суетиться? Пошарив в выложенном сеном ящике под крышей, я нащупал перевязанный шнурком сверток плотной шероховатой бумаги и, сунув его за пазуху, приткнул доску на место, не повредив «запорного приспособления». Я тихо засмеялся, поняв смысл показавшихся мне когда-то странными слов Якова, намекнувшего, что он предотвратил кражу Карт тем, что показал мне тайник. Теперь-то я знал, кто был тем загадочным «вором»!
Искушение приблизиться к окну и попытаться еще раз – хотя бы раз! – увидеть мою Аглайку было велико, но я поборол его, испугавшись мысли, что могу тем самым погубить всю затею и, не дай Бог, нарушить ход событий. Я не решился сунуться в божественный замысел, хотя давно уже и не был уверен в том, что Богу есть дело до выкрутасов проститутки-истории, изменчивой и беспомощной в руках такого проходимца, как треклятый профессор Райхель. Бесконечное разрастание Древа Миров было, должно быть, самой сутью бытия, и то, что где-либо происходит в настоящий момент, не имеет абсолютно никакого значения в глобальном масштабе. Я не знаю, как поступил бы профессор с Картами, окажись они у него, и допускаю даже, что великое знание, заключающееся в них, он употребил бы на что-то весьма непотребное, но вот удалось ли бы ему поколебать равновесие вселенной? Пожалуй, на этот счет я останусь скептиком.
Морозец, пробравшийся под хлипкую мою телогрейку, что я одолжил у бабы Клавы, напомнил мне о реальности окружающего и уязвимости моей телесной оболочки, которую я срочно должен был переносить назад, дабы не замерзнуть. Бросив прощальный взгляд на казавшуюся мне теперь такой уютной и родной избу Якова Угрюмова, я с сожалением вернулся в лог и вошел во врата, которые честный Трофимыч держал для меня открытыми.
Глава 26 И снова профессор
В глазах Штурмана заблестел огонек надежды, когда я, удостоверившись, что никто не наблюдает за нами, протянул ему добытый мною сверток. Возможность длительных бесконвойных свиданий, заслуженная Трофимычем безупречным поведением, сильно облегчала мне задачу, а паспорт моего отца – респектабельный и нигде не «засвеченный», убирал последние преграды. Мне, правда, пришлось несколько замаскироваться, чтобы скрыть возраст, но рыжеватые пушистые усы и недельная щетина меня отнюдь не портили, и я даже подумывал о том, чтобы навсегда оставить себе этот облик.
Меня, признаться, распирало от гордости за свой отважный поступок, я уже отвел себе роль едва ли не спасителя человечества от козней мерзавца-чародея и предвкушал триумфальное возвращение домой, в двадцать первый век, где я смогу наконец отдохнуть и спокойно насладиться воспоминаниями о своих мытарствах. Однако меня ждало горькое разочарование.
С видимым волнением развернув сверток, Трофимыч покрутил в пальцах и с нескрываемым отчаянием бросил на стол смятый лист толстой упаковочной бумаги, внутри которой ничего не оказалось.
– Так я и думал, – изрек он с горечью в голосе. – Пусто. Он снова обвел нас вокруг пальца.
Я не верил своим глазам. В чем же дело? Почему наша задумка провалилась? Ведь и Яков, и Трофимыч, а нынче и я решили задачу на отлично!
Все это я почти прокричал Штурману. Он же, видя мою беспомощность и навернувшиеся на глаза слезы отчаяния и обиды, сжалился надо мною и объяснил:
– Ты совершаешь ту же ошибку, что и большинство людей – придаешь слишком много значения словам, характеризующим время. Вот ты только что употребил термин «нынче»… Но уверен ли ты, что он вообще хоть что-то значит в этом деле? Твое «нынче» свершилось шестьдесят три года назад, так неужели ты думаешь, что Райхель, человек гораздо более сведущий в вопросах пространства и времени, нежели ты, не нашел мгновения и исполнителя, чтобы упредить тебя и выкрасть Карты еще раньше, а тебе, словно в издевку, оставить пустой сверток? Твоей вины в этом, разумеется, нет, и кусать себе локти – путая затея. Просто мы столкнулись с соперником, могущество которого огромно, и нет ничего удивительного в том, что ты запутался во всем этом сумбуре.
– Но ты?! Ты-то ведь знаешь и умеешь не меньше, чем он? Почему же ты ничего не можешь сделать?
– Я уже говорил тебе: я не борец и не воин, я – штурман, и это, к сожалению, единственное мое умение.
– Но ведь сумел же ты удавить Анну Юрьевну тогда, в лагере? Или твои «бойцовские навыки» избирательны?
Я был до того расстроен, что совсем не думал о том, что говорю, и сейчас же пожалел о своих словах. До бесславно погибшей потаскухи, которой судьба руками Трофимыча «выставила счет», мне давно не было никакого дела, однако мой собственный рок по-прежнему интересовал меня, что и стало причиной моей достойной сожаления несдержанности. Трофимыч же, похоже, нисколько не обиделся. Он лишь грустно посмотрел на меня и сказал немного непонятно:
– Если я верну Карты, то вернусь назад и уведу группу в срок, в 1897-ом году. Таким образом, случится так, что в 1988-ом, когда была уничтожена твоя, с позволения сказать, вожатая, меня здесь вовсе и не было, усекаешь?
– Так значит, она останется в живых? – спросил я оторопело, будучи не в силах ухватить нюансы быстрой мысли Штурмана. Вид у меня при этом был, должно быть, достаточно дебильным, потому что тот, взглянув на меня, рассмеялся и подвел черту:
– Я же говорил тебе когда-то: счет выставляет судьба, ну, а кто уж его предъявит к оплате – дело десятое…
Я предпочел не продолжать тему, чтобы еще больше не запутаться в материи, сути которой не понимал. Вместо этого я вернулся к вопросу более актуальному:
– Разве ты не можешь уйти и увести группу без Карт навигации? Ведь ты же Штурман!
– Уйти могу, – последовал ответ, – но не могу допустить, чтобы Карты оставались у Райхеля. Если это произойдет, то – с его человеческими качествами – беды будет не миновать.
Я подумал и вздохнул.
– Что я должен сделать, Трофимыч? Но постарайся, ради Бога, чтобы на этот раз все сработало!
Штурман посмотрел на меня долгим немигающим взглядом.
– Тебе будет, возможно, очень тяжело… Ты уверен, что действительно хочешь помочь?
– Я уже сказал.
– Тогда… сначала я бы убедился, что Карты действительно у Райхеля. Тебе придется с ним встретится.
Я нахмурился, – одна только мысль о встречи с подлецом профессором приводила меня в негодование.
– Итак, ты готов?
Колеса моего «Ауди» вновь зашуршали по покрывающему площадку перед особняком профессора гравию. Сначала мы с Трофимычем надеялись, что мне удастся попасть в Германию на месте, то есть в 1993-м году, но, после серии тщетных попыток получить заграничный паспорт по документу моего отца, мы решили, что использовать временной коридор – несравненно более легкий способ для того, чтобы покинуть бывшую советскую территорию. Подозреваю, что Штурман пошел на это без особенного энтузиазма – слишком велик был риск того, что я, очутившись дома, в своем времени, просто напросто позабуду о нашей договоренности и продолжу жить той жизнью, из которой был вырван когда-то коварством Райхеля. Однако Трофимычу не оставалось ничего другого, кроме как положиться на мое слово.
Точно так же, как и в первый мой приезд сюда, смеркалось, и экономка профессора уже зажгла фонари над массивными воротами, дабы у возможных визитеров не оставалось сомнений в том, что они на виду у хозяев, и делать глупости не уполномочены. На шпиле одной из башен дома, несущей скорее декоративную функцию, я заметил флюгер в виде петуха, чей клюв указывал точно на восток. Странно, что в прошлый раз я не видел этого украшения. Должно быть, волнение мое тогда было несравненно более сильным, и я просто не мог позволить себе отвлекаться на несущественные мелочи. Сейчас же, когда я знал об истинной природе профессорских «исследований» и, к тому же, сам некоторым образом пострадал от них, основным моим чувством по отношению к хозяину этих хором была клокочущая злоба, граничащая с ненавистью. Мало того, что этот человек обманул меня самым гнусным образом, сыграв на моем мнимом чувстве вины, он еще попытался стряхнуть меня, словно пыль с рукава, оставив гнить в мрачных тридцатых!
Однако ко всем моим негативным чувствам примешивалось еще и любопытство: я до сих пор не знал, какую именно цель преследовал Райхель, отправляя меня в прошлое. Ведь, по сути, никакой прямой пользы я ему и его планам не принес, скорее, наоборот – мешался под ногами и чуть было не увел у него из-под носа Карты Штурмана. Если и был во всем этом какой-то смысл, то он упорно не давался моему пониманию, хотя мне и показалось, что Трофимыч знает обо всем этом больше, чем говорит мне. Ну, да ладно, быть может, теперь мне удастся выяснить, что за роль отводил мне с самого начала гадкий профессор.
Мне открыли. На высокое, серого мрамора крыльцо вышла все та пожилая женщина и, поприветствовав меня сухим кивком, провела в дом. Света в коридорах было мало – видимо, хозяин предпочитал полумрак, – но все предметы были хорошо различимы.
Оказавшись здесь, я вновь ощутил некоторую скованность, как и в прошлый мой визит сюда, что заставило меня немного поостыть эмоционально и утратить долю своей категоричности. Я не мог не осознавать, что нахожусь не на молодежной вечеринке, где допустимо любое поведение, но в частных владениях большого ученого, величайшего в своей области, каковы бы ни были мои убеждения на счет его морального облика. Подумав об этом, я решил вести себя, как подобает взрослому мужчине, а не истеричной болезненной девице, что, несомненно, получилось бы, вздумай я поддаться переполнявшим меня изначально эмоциям.
Я ожидал, что меня вновь проведут в рабочий кабинет профессора, и был удивлен, когда женщина распахнула передо мной двустворчатую дверь в большую комнату, где, как я сразу понял, находился приемный зал. Массивная ореховая мебель, несколько кожаных диванов вдоль стен, высокие, под потолок, напольные часы и огромный обеденный стол овальной формы с расставленными вокруг стульями составляли его обстановку, в которой, как и в жизни самого профессора, не было ничего лишнего. Аристократическая утонченность и продуманность деталей странным образом граничила здесь с простотой и отсутствием претенциозности, и ясно было, что каждый предмет, каждый штрих обстановки служат уюту и удобству, но никак не показушной помпезности, что и отличает истинных хозяев жизни от слюнявых нуворишей и разбогатевших голодранцев. Видя все это, я, к своему удивлению и досаде, вновь начал испытывать неподдельное восхищение жизнью и достижениями живущего здесь человека, мысль же о самой его персоне заставила меня боязливо поежиться.
Широким жестом обведя зал, женщина дала мне понять, что я-де волен выбрать себе место по вкусу, и сообщила скрипучим, нерадостным голосом, что господин профессор извиняется и прибудет с минуты на минуту, мне же в это время дозволяется выпить фруктовой воды. Шурша широкой юбкой-под монашку, она удалилась и неслышно прикрыла за собой двери, оставив меня одного. Похоже, Райхель устроил это все специально, чтобы дать мне возможность прочувствовать и «насладиться» величием его жилища и собственной его грозностью. Я не возражал.
На обеденном столе ничего не было, кроме приборов, но на журнальном столике возле одного из диванов я нашел несколько бутылок минеральной воды на любой вкус и чистые стаканы. У меня пересохло в горле, и я разрешил себе открыть одну из бутылок, к тому же, позволение экономки у меня на это имелось. Утолив жажду, я развалился на диване в самой беспечной и расслабленной позе, дабы профессор не возомнил, что я робею перед ним. Да будь он хоть трижды прославленный оккультист, что мне до того? Он сломал жизнь моему другу и попытался сломать ее мне, так чего ж мне стесняться? Я пришел сюда за объяснениями, а не затем, чтобы изображать бандерлога перед удавом!
Жажда получить разъяснения и была официальной целью моего визита, которую я обозначил, договариваясь по телефону о встрече. Основную же свою задачу – разведку судьбы Карт Навигации, я по понятным причинам не упомянул, воображая себя хитроумным стратегом. Главное сейчас – узнать, у него ли Карты, ну а после уж действовать по плану, намеченному Штурманом.
Ждать мне пришлось недолго. Минут через пять дверь зала распахнулась, и появился профессор. Я не узнал его – вместо угрюмого, раздражительного и болезненного старика, каким я помнил его по прошлой встрече, передо мной предстал подтянутый, жизнерадостный человек, в открытой, дружелюбной улыбке продемонстрировавший два ряда прекрасных белых зубов и горячо, с чувством, стиснувший мою кисть сразу двумя руками. Я, поначалу планировавший вовсе не подавать ему руки, немного опешил и пошел на поводу гостеприимного хозяина, будучи не в силах сопротивляться такому проявлению радушия. Что поделать, большинство наших планов приходится корректировать, когда доходит дело до их исполнения, и роль, так хорошо отрепетированная, требует порой кардинального своего пересмотра уже в ходе премьеры.
Райхель сел в кресло напротив меня и протянул мне стакан с только что собственноручно смешанным им в баре коктейлем.
– Немного отдохните, друг мой, расслабьтесь с дороги, а после будем ужинать. Вы, должно быть, утомились, ведь пути Ваши в последнее время не всегда были легкими!
Он глумится надо мной или мило шутит?
– Да уж, – ответил я осторожно, боясь неверной реакцией выдать в себе нетерпеливого вспыльчивого юнца. – Диспетчер, прокладывающий мои маршруты, не был снисходителен…
Райхель рассмеялся.
– Ну, знаете ли! Что диспетчер! Гораздо важнее иметь хорошего штурмана, не так ли?
– Вы издеваетесь, профессор? Боюсь, я сейчас не в состоянии адекватно реагировать на шутки такого рода, хотя Господь и помог мне выбраться невредимым из западни, в которую Вы меня заманили.
– Заманил? Бог с Вами, Галактион! Ничего плохого касательно Вас я и в мыслях не имел, поверьте! Но ведь человек – существо биосоциальное, не так ли? А если так, то не должны ли мы помогать друг другу в затруднениях? Согласитесь, ведь я помог Вам, когда Вы, отчаявшийся и ищущий ответа на подкинутые Вам судьбой загадки, обратились ко мне? Теперь вы знаете ответы на свои вопросы, так что Вам еще нужно?
Я был обескуражен такой откровенной наглостью и несколько секунд просто учащенно дышал, не в силах сказать что-нибудь. Наконец, я перевел дух и выпалил:
– Судьба?! Я поражаюсь вашему цинизму, господин профессор! Мы с Вами отлично знаем, что эти, с позволения сказать, загадки подкинула мне вовсе не судьба, а Вы, причем сделали это преступно! Для того, чтобы заставить меня отправиться в тридцатый год и испытать там кучу дерьма, Вы погубили моего друга, наслав на него психическое заболевание и позволив умереть на чужбине, никем не оплаканным!
– Не горячитесь так, друг мой! Вы, насколько я помню, тоже не особо-то оплакивали этого молодого человека, бросив его в гробу посреди ночи и предоставив заботы о похоронах чужим людям? – проговорил профессор будничным тоном, словно речь шла о воскресном пикнике.
Я молчал, так как сказать мне было нечего.
– Ну-ну, не все так плохо, – примирительным тоном изрек мой собеседник, видя мое замешательство. – Человек склонен замечать чужие ошибки и даже осуждать за них других людей, что же до собственных промахов, то они кажутся нам по меньшей мере простительными, а то и вовсе несуществующими. Не Вы один такой, этим грешит все человечество. Но все же очень рекомендуется не спеша разобраться в ситуации и выслушать все стороны, прежде чем делать какие-либо выводы, и особенно в вопросах вины и невиновности.
Он встал и, приоткрыв одну створку двери, крикнул в образовавшуюся щель:
– Подавайте! – давая знать прислуге, что настал момент ужина. Затем он снова обратился ко мне:
– Давайте-ка сейчас подкрепимся немного, а Вы тем временем подумаете, желаете ли Вы быть несколько более терпеливым и менее категоричным. Сегодня у нас замечательные перепела в чесночном соусе и форель, запеченная в фольге. Думаю, Вам понравится. Ну, а после, за кофе, мы продолжим нашу беседу.
Ужин и впрямь оказался восхитительным. Перепела удались на славу, а форель прямо таяла во рту. Подаваемые экономкой вина очень гармонировали со снедью, изменив мое, доселе скептическое, отношение к этому продукту виноградной лозы.
За все время ужина профессор ни разу не вернулся к теме нашего разговора, развлекая меня рассказами о своих странствиях и людях, с которыми ему приходилось встречаться. Некоторые из этих коротких баек были столь забавными, что я, позабыв о своей антипатии к Райхелю, от души хохотал, живо рисуя себе картинки описываемых им ситуаций. Показал он мне также и магический Жезл Ганги, полученный им от его гуру и позволяющий ему искажать пространство и время, как заблагорассудится. Правда, притронуться к артефакту профессор мне не позволил, сказав, что жезл слишком опасная игрушка для неискушенного человека. На мой вопрос, где же теперь сам великий Абхинава Сингх, Райхель лишь неопределенно махнул рукой и доложил, что того де «унес Жезл». Поняв, что тема эта закрыта, я более не интересовался судьбою таинственного индийца.
Вообще, за ужином у меня создалось впечатление, что хозяин дома всеми силами старается расположить меня к себе, пускаясь для этого на всевозможные ухищрения. Если бы я не знал его, то, пожалуй, подумал бы, что пожилой профессор искренен в своих эмоциях, однако, после всего пережитого по его вине и будучи в общих чертах осведомлен о его целях, я не позволял себя обмануть. Видя это, Райхель умерил свой пыл и, свернув трапезу, предложил выпить кофе в его кабинете и продолжить начатый ранее разговор.
– Думаю, теперь Вы догадываетесь, кто была та женщина, смерть которой Вам довелось наблюдать в детстве, в той квартире? – спросил он, откинувшись в кресле и отхлебнув из чашки ароматного напитка.
– К сожалению, да. Мне невыносимо горько сознавать это, но… Быть может, останься я там тогда, не сбеги, и все могло бы быть иначе. Аглая могла бы остаться жива.
– Сомневаюсь, – отрезал профессор категорично. – Ей суждено было погибнуть, и это, уверяю вас, имело не только минусы, но и плюсы.
– Что Вы имеете в виду?
– Только то, что сказал. Не всегда смерть является отрицательным событием, во всяком случае – не для всех. Согласитесь, мало кто пострадал, к примеру, от смерти некоторых диктаторов, а выиграли от нее многие, оставшись в живых.
– Да, но товарка Алеянц…
Профессор расхохотался.
– Товарку Алеянц, как Вы ее называете, Вы видели лишь с одной стороны, а именно как любовницу, я же знавал ее и в другом ракурсе.
– И это Вы знаете? Зачем Вам нужно было копаться в таких… подробностях? И что вы имеете в виду, говоря, что знали ее иначе?
Райхель прищурился и, следя за моей реакцией, изрек:
– Аглая Яковлевна Алеянц – моя мать.
Здесь я вник в смысл поговорки «отпала челюсть». Я был настолько ошарашен, что в прямом смысле лишился дара речи. Вытаращенными от изумления глазами я глядел на спятившего старика-ученого, не в силах связать этого пожилого, едкого человека со свежей, молодой, непредвзятой товаркой Алеянц, единственной женщиной, которую я мог бы назвать своею.
Видя мое замешательство, профессор встал и, вынув из ящика стола какие-то бумаги, протянул их мне.
– Я знал, что до этого дойдет, потому и приготовил их. Думаю, по прочтении Вам все станет ясно.
Я схватил листки и попытался сосредоточиться на том, что читаю. Это было нелегко, строчки расплывались у меня перед глазами, а буквы прыгали. Что за черт?!
Первый, более ранний документ, был выдан Народным Комиссариатом Иностранных Дел СССР и датирован сентябрем 1938-го года. Из него следовало, что некоему Кристофу Райхелю, гражданину Германии, разрешалось усыновить и вывезти за пределы Советского Союза осиротевшего племянника его жены, родившегося второго августа 1931-го года Егора Григорьевича Алеянца, на момент подачи ходатайства находящегося на попечении государства. Произвести процесс усыновления и забрать ребенка Райхелю разрешалось в течение шести недель с момента подписания сего документа. Внизу красовалась собственноручная подпись некоего Потемкина Владимира Петровича, первого заместителя Наркома Иностранных Дел СССР.
Второй же документ, выданный месяцем позже одним из немецких Standesamt-ов, являлся свидетельством о смене имени и нарекал новоиспеченного гражданина Третьего Рейха Георгом Райхелем…
Я уронил пожелтевшие листы на колени и молча воззрился на стоящего у письменного стола и криво улыбающегося профессора, в котором никогда и ни при каких обстоятельствах не смог бы узнать того шестилетнего парнишку, представившегося мне Егором во время моего первого посещения той проклятой квартиры. Худенькое тельце в пижаме и взъерошенные со сна светлые волосы мальчугана вновь встали перед моими глазами, словно это было вчера, и я как будто опять услышал его вопрос «Где мама?», который он мне задал тогда со всей своей детской непосредственностью.
И вот этот беспринципный, холодный эгоист, задумавший поставить весь мир с ног на голову и не гнушающийся ничем для достижения своей цели – тот самый Егор?!
Профессор, по-видимому, остался доволен произведенным на меня впечатлением. Он рассмеялся глухим хриплым смешком и, отвернувшись на несколько секунд к резному бару старинной работы, плеснул в два стакана по нескольку капель коньяку и протянул один из них мне, словно предлагая отпраздновать мои успехи в познании истины. Я машинально принял стакан и отхлебнул немного. Я был настолько возбужден, что не почувствовал ни крепости, ни аромата напитка.
– Все это, признаться, довольно неожиданно, профессор, но как же, черт возьми, могли быть изготовлены и подписаны такие документы? Насколько я знаю историю, ни о чем подобном тогда и помышлять было нельзя! Как Советский Союз никогда не позволил бы иностранцу усыновить одного из своих граждан, так и помешанный на расовой чистоте Третий Рейх, несомненно, казнил бы каждого, посмевшего заикнуться об усыновлении «недочеловека»…
Райхель, усмехаясь, потер руки.
– Вы уже так много испытали, молодой человек, но до сих пор не уяснили, что существует множество способов добиться желаемого! Вот Вы говорите, что получение таких разрешений было бы маловероятно… То есть, как видите, речь вновь заходит о вероятности, которая, как Вам известно, является ничем иным, как пятым измерением, в котором можно существовать и передвигаться так же легко, как и в знакомых Вам трех пространственных измерениях! Разумеется, при наличии определенных навыков…
– Ах, во-от что… – протянул я, досадуя, что сам не дошел до столь простой отгадки. – Значит, Вы и здесь успели! Но, как же, черт возьми…
– Только, ради Бога, не начинайте о курице и яйце! Этим треклятым вопросом я уже сыт по горло, и пусть им задаются глупцы, именующие себя философами, но абсолютно беспомощные в практике! К тому же, в этом деле осталось еще кое-что, представляющее для Вас интерес гораздо более острый, чем какие-то там философские мудрствования. Вы хотели узнать, какую цель я преследовал, отправив туда именно Вас?
– Да уж извольте, просветите!
Я одним махом допил коньяк.
– Все очень просто. Как Вы помните, в ноябре 1930-го года, как раз тогда, когда умер Ваш друг и Вы собирались его хоронить, номенклатурщик Алеянц отсутствовал в городе, отправившись якобы на какую-то партийную конференцию в Москву. И действительно, в те дни он был в столице, но отнюдь не на конференции, как сказал, а в клинике, где обследовался крупными специалистами в связи с бесплодием. К сожалению, оно оказалось врожденным, так что ничего поделать было нельзя. Однако удивлению его не было конца, когда верная супруга вскоре после его возвращения начала выказывать явные признаки беременности и в начале августа 1931-го года осчастливила мужа здоровым, доношенным младенцем! Темнота и необразованность Алеянца, как и большинства коммунистических деятелей, не оставляет сомнений, но мы то с Вами знаем, что произойти такое могло лишь в одном случае, а именно, если имели место соответствующего рода контакты Аглаи Яковлевны в ноябре 1930-го с кем-то, кто бесплодным не был. Я же, мой дорогой Галактион, умею считать до двух, а потому и отправил Вас туда в нужное время. Не сделай я этого, то просто не родился бы. Ну, Вы и теперь вините меня за содеянное?
Напольные часы у стены своим тиканьем раскалывали мой мозг. Воздух в комнате раскалился, и дышать им стало невозможно. Мне с трудом удавалось различать окружающие предметы в его колыхающемся мареве. Что-то неладное творилось в мире, что-то неправильное! Старик, сидящий сейчас напротив меня и внимательно наблюдающий за моей реакцией – мой сын?! Мой и товарки Алеянц, с которой я и вправду провел в то время несколько потрясающих ночей? Так вот что породила тогда наша бездумная страсть! Поистине, судьба – самый насмешливый из палачей! В каких небесных скрижалях было прописано это, почему именно я и Аглая должны были зачать этого седого монстра, в чьих жилах течет не кровь, а холод Вселенной?
Колючие глаза следили за мной, и мне уже начало казаться, что он унаследовал их от меня, а тонкие, изогнутые в усмешке губы – от моей Аглайки. Я почувствовал тошноту и попросил воды, стакан которой профессор налил и поднес мне сам, издевательски заметив, что рад поухаживать за занемогшим отцом.
Внезапно в голове у меня мелькнула еще одна страшная догадка.
– Скажите, профессор, почему ее… Аглаю убили? Мне всегда казалось, что НКВД в этом никакого интереса не было.
Райхель вздохнул.
– При чем здесь НКВД? Люди готовы на него всех собак повешать… Все было иначе: я, разумеется, понимал, что, останься мать жива, и я век должен был бы прозябать по ту сторону железного занавеса и наверняка не стал бы тем, кем являюсь. Клянусь, я обдумывал и другие возможности, но ни одна из них не могла бы привести к позитивному для меня результату. Поэтому мне пришлось прибегнуть к чрезвычайной мере, наняв пару головорезов. Но, как говорится, цель оправдывала средства.
– Какая же твоя цель, ублюдок? – выдавил я из себя, клокоча от гнева. Райхель же весело рассмеялся.
– Ублюдок – это Вы верно заметили! Именно так! Но разве Вы не знали, чем чреваты внебрачные связи? Цель же у меня была одна – Карты Навигации, с помощью которых я могу перевернуть…
– Не слишком ли замахнулся?
– Увидим. – Так Карты у тебя?
– А как же иначе? Я с самого детства знал, где их искать, хотя и не точно. Укладывая меня спать, мать вместо сказок рассказывала мне истории из тех дней, и слова «Карты Навигации» мелькали в ее рассказах довольно часто. Тогда я, разумеется, не понимал, о чем речь, но позже вспомнил эти вечерние беседы и сделал вывод, что Карты у кого-то из ее окружения. Признаться, сначала я ошибочно подозревал Алеянца и даже заставил твоего друга Альберта поработать над этой версией, но затем решил иначе. Бедный Штурман! Все его ухищрения пропали в зародыше, а идея моего убийства с целью отнять Карты – ведь за этим ты здесь, не правда ли? – была и вовсе верхом глупости. Это невозможно, потому что невероятно!
– Значит, я – в ловушке?
Мне было уже все равно, и я задал этот вопрос просто так, чтобы еще раз удостовериться в подлости моего, с позволения сказать, отпрыска.
– Отчего же? Ловушки расставляют на кого-то нужного, либо опасного. Ни тем, ни другим ты для меня не являешься, а потому можешь идти и существовать спокойно. Я же сегодня развлекся, как никогда! Забегай, если будет время – приятно смотреть на твою глупую физиономию!
Глава 27 Отчаянный шаг
Я сидел в машине и боялся начать движение – так меня мутило от стыда и бессильной злобы. Экономка Райхеля выключила фонари у ворот, и дом злодея погрузился в темноту. Я открыл окно, чтобы дать доступ свежему воздуху и подумал, что это – самый скверный день в моей жизни. Чувство униженности и растоптанности было таким сильным, что я просто не мог представить себе, как стану жить дальше, сознавая, что потерпел сокрушительное поражение по всем статьям. Я не только дал жизнь этой скотине, но еще и не сумел спасти ни друга, ни дорогую мне женщину, которую этот гад, оказывается, уничтожил в угоду своим амбициям! Впору сдохнуть…
Я включил зажигание. Доска приборов вспыхнула разноцветными огнями, высветив мои трясущиеся руки и лежащую на соседнем сидении полупустую упаковку «Ципробая», который я принимал из-за бронхита еще во время моего первого визита сюда. В голове почему-то появились мысли о чудодейственности антибиотиков и о том, сколько людей погибали в прежние времена только потому, что не имели их. А если бы имели…
Будь я Архимедом, то, несомненно, завопил бы «Эврика!» Неужели, неужели я нашел решение?! Господи! Неужели это так просто?!
Взвизгнув колесами, я сорвался с места, грозя кулаком дому ненавистного профессора, к которому я, кстати сказать, не испытывал никаких отцовских чувств. Моей целью было как можно быстрее добраться до Штурмана, ибо только он один мог сделать осуществление моего безумного плана возможным.
Вечер с востока наползал на раскинувшееся в устье привередливой Урицы село Стояново, известное на всю таежную округу хлебосольством и радушием хозяев здешних дворов – людей суровых, но дружелюбных и не скупящихся ни на кусок хлеба, ни на доброе слово, в отличие от жителей той же Николопетровки, расположенной в одном дне пешего пути отсюда. Извинением последним, впрочем, могло послужить то обстоятельство, что их деревня лежала в гораздо более глубоких таежных дебрях, а следовательно, в стороне от всех мало-мальски оживленных торговых путей, по которым пусть и слабенько, но все же текла какая-никакая культура.
Место, на котором стояло село, было выбрано его основателями более чем удачно. Навигация по широкой, полноводной Тубе, чьим притоком и являлась неугомонная Урица, замирала лишь на пяток зимних месяцев – с ноября по апрель, – в остальное же время река снабжала сельчан не только превосходными налимом да щукой, но и настоящими фабричными товарами, что доставляли сюда торговые суда. Тем более важным оказалось это положение в нынешнем, 1912-ом, году, когда рассвирепевшая стихия продемонстрировала населению всей округи свой буйный нрав и на Тубу-кормилицу была вся надежда. Стояново, правда, пострадало от фокусов природы в меньшей степени, чем злосчастная Николопетровка, но и здесь людям пришлось покрепче затянуть пояса и поглубже нырнуть в сусеки да сундуки, где хранились прибереженные «на черный день» запасы.
Этой скудной, но могущей оказаться полезной информацией я разжился еще там, в девяностых, когда обсуждал план возможных своих действий с дотошным Штурманом, не упустившим, казалось, ни одной мелочи и настоявшим на том, чтобы и я уделил всем этим мелочам достаточное внимание. Меня, впрочем, не нужно было уговаривать, так как, памятуя свои ляпсусы и неудачи прошлой попытки, я охотно вникал во все детали, какими бы несущественными они на первый взгляд ни казались.
Выйдя из рощи, где Штурман на этот раз открыл мне врата, я, немного поплутав по вечерним переулкам, выбрал себе достаточно удобный пункт наблюдения, устроившись на завалинке покосившейся и, судя по всему, пустующей избушки, расположенной, однако, очень удобно с позиции открывающегося отсюда обзора. С этого места очень хорошо просматривались не только обе улицы села, но и, что самое главное, дорога, ведущая в город, за которой мне надлежало внимательно наблюдать.
Закутавшись поплотнее в добротный заячий полушубок, я прислонился к стене домишка и начал ждать. Я не знал точно, когда появится интересующий меня объект, но надеялся провести здесь не более нескольких часов, так как поздняя осень давала о себе знать и с каждой минутой становилось все холоднее, а околеть в ожидании не входило в мои планы. Главное, чтобы Штурман не ошибся в дате, а уж пару часов я как-нибудь выдержу.
Однако любые физические лишения и даже муки казались мне глупой игрой по сравнению с моральными увечьями, которые я сам себе нанес, решившись на этот шаг. То, что мне предстояло сделать, было поистине ужасным с человеческой точки зрения, а для меня и вовсе актом нравственного самоубийства. Мое сердце буквально разрывалось в груди, когда я, рассказав о своем плане Штурману, клялся в своей готовности привести его в исполнение. Помню, как он долго смотрел на меня, а потом грустно отметил, что лишь очень мужественный человек согласился бы, как я, так истязать свою душу, пусть даже ради столь высокой цели. Похвала эта, впрочем, не умалила горечи яда, к чаше с которым я в тот миг приложился.
Мы, разумеется, обсудили все мыслимые способы достижения нашей цели, но ни один из них не стоил ни гроша и не мог тягаться с каверзами гениального мозга профессора Райхеля. Зайдя в тупик, мы с горечью должны были признать, что существует лишь один способ избавиться от противника…
В морозном воздухе зазвенел колокольчик, – кто-то ехал. Я поднялся со своего места и, поглубже натянув на уши беличью ушанку, стал неспешно продвигаться навстречу звуку. Вскоре я увидел и его источник, – на дороге показалась лошаденка, тянущая сани. Через минуту она перешла с мелкой рыси на шаг – было ясно, что она почти выбилась из сил. В санях кто-то разговаривал, и на фоне густого, бубнящего баса я различил слабый женский голос. Похоже, это именно те, кого я дожидался!
Проехав еще сотню метров, сани остановились у ворот стоящего на углу улицы дома. Я привалился к чьему-то заплоту и сквозь ветви облетевшей осины стал наблюдать за развитием событий, оставаясь незамеченным.
Грузный мужчина в черной шубе слез с саней и, кряхтя, потопал валенками о землю, разминая затекшие ноги. Сняв большие рукавицы, он сунул их за пазуху и размашисто, с силой постучал кулаком в ворота. Тем временем с саней поднялась женщина и, тихо говоря что-то, помогла спрыгнуть вниз девочке лет семи, при виде которой у меня захолонуло сердце.
– Не думаю, что ты заболела, Аглая, это просто кашель. Наверно, воздуху холодного хватанула, вот и першит в горле. Надо быть осторожнее!
Голос женщины был слабым и замученным, мне показалось, что она на самом деле не очень-то и интересуется девочкой. Причина этого стала мне ясна, едва я увидел два закутанных в одеяльца комочка, которые разразились криком, как только мать взяла их на руки. С другой стороны саней соскочила девушка-подросток, – она не требовала к себе внимания, а, отряхнувшись, молча встала рядом с отцом, дожидаясь, когда на стук кто-нибудь выйдет. И действительно, через несколько минут послышался скрежет отодвигаемого в сенях засова и мужской голос поинтересовался личностью стучавшего.
– Встречай гостей, Тимофей, ночь застала! – крикнул отец и машинально приобнял за плечо подошедшую к нему Аглаю. Девочка сотрясалась от непрекращающихся приступов кашля, иные из которых доводили ее почти до рвоты. Было очевидно, что она не просто «хватанула холодного воздуху», как предполагала ее мать, а по-настоящему больна, и болезнь эта набирает обороты. Зная, чем все это должно закончиться, я посетовал на глупость родителей маленькой товарки Алеянц, отнесшихся к серьезным симптомам столь безалаберно.
Хозяину, видимо, голос прибывшего был хорошо знаком, так как он без лишних слов спустился с крыльца и отворил ворота. Поздоровавшись с приезжими, он немедля провел их в дом, но сам, правда, вскоре вернулся, чтобы позаботиться о лошади, которую распряг и отвел в стойло. Ворота закрылись, дверь в избу стукнула и снова настала тишина.
Пришло время действовать. Поправив на плече дорогую кожаную сумку, я для верности пошевелил приклеенными усами и решительно постучал в тимофеевы ворота. Засов снова взвизгнул, но на крыльцо на этот раз вышла хозяйка, оказавшаяся, видимо, ближе к двери.
– Кто здесь еще?
На ее вопрос я откашлялся и, стараясь придать своему голосу побольше солидности, представился фельдшером Селиверстовым из уездного города, навещавшим их приболевшего соседа.
– Марьяса, что ль? – уточнила женщина.
– Его. Ему уже лучше и я собирался отправиться в обратную сторону, но, проезжая мимо, услышал, как ужасно кашляет ваша девочка и решил, что моя помощь может понадобиться.
Признаться, в моем плане было одно слабое звено: вздумай хозяйка выйти за ограду и осмотреться, то, несомненно, была бы удивлена отсутствием у меня лошадей и, несомненно, заподозрила бы неладное. Ну, а тот факт, что упомянутый ею Марьяс назавтра опровергнет мои слова о его лечении, меня не интересовал, – к тому времени все будет кончено.
По счастью, хозяйка не усомнилась в истинности моих слов, уточнив лишь, что девочка – не их с мужем ребенок и она не знает, как ее родители отнесутся к моему предложению. В ответ на это я выразительно фыркнул и порекомендовал начинать оплакивать малышку прямо сейчас, ибо она, несомненно, погибнет. Мой расчет оправдался, и перепуганная хозяйка тут же впустила меня в дом.
Обстучав в сенях яловые сапоги, в каких, по словам Трофимыча, хаживали местные лекари этого времени, я прошел к больной. Хозяйка дома уже успела оповестить присутствующих о счастливой случайности, и меня сопровождали лишь озабоченные взгляды женщин и Тимофея, да настороженный – отца Аглаи, готового в каждом незнакомом ему человеке видеть врага. Жаль, что завтра он не разглядит мерзавца в своем знакомце Гудике и погубит тем самым всю свою семью…
Меня встретили блестящие, больные глаза девочки, смотревшей на меня с интересом, но без страха. Когда я протянул руку, чтобы посчитать пульс у нее на запястье, она неверно истолковала мое движение и пожала мне пальцы липкой от пота ручонкой, выказывая свое расположение. У меня заныло сердце и я чуть было не бросил начатое на полпути, не в силах совладать с охватившими меня чувствами. Ведь это была Аглая! Та самая Аглая, что держала меня под дулом браунинга, отчаянно дразнила в доме ее приемного отца и… обнимала. Вернее, будет обнимать, поправился я и тут же с горечью осадил себя: «Не будет…»
– Это, несомненно, воспаление легких, – безапелляционно заявил я родителям девочки, выслушав ее грудную клетку допотопным «стетоскопом» начала века. – Но у меня есть снадобье, которое ей поможет, и оно обойдется вам весьма недорого…
Разумеется, я был здесь не для того, чтобы набить себе мошну, но иное мое поведение показалось бы этим людям странным, – они ведь не дожили еще до развитого социализма!
Заручившись заверением отца девочки в том, что я получу свои деньги, я вынул из сумки «снадобье» – склянку с капсулами «Ципробая». С тяжелым сердцем вложил я в ладошку ребенка сразу две и проследил, чтобы она проглотила их, запив водой из поданного хозяйкой дома ковша. Потрепав маленькую Аглаю в последний раз по головке, я поднялся и с достоинством получил с ее отца плату за лечение. Он дал мне даже немного больше того, что я затребовал, но просил никому не говорить в городе о том, что я встречался с ним. Я уверил его в этом, сославшись на врачебную этику.
Не слишком доверяя перегруженной хлопотами матери больного ребенка, я оставил хозяйке дома еще шесть капсул антибиотика да несколько таблеток жаропонижающего, расписав часы приема лекарства. По моим расчетам, ударная доза «Ципробая» уже к утру вернет здоровье ребенку, сделав ненужной помощь мертвой жительницы погибшего Улюка. Раскланявшись и отказавшись от похлебки с гусиными потрохами, я покинул дом, ибо моя неприятная миссия была завершена. Еще раз оглянувшись, я попросил у Аглаи прощения и зашагал прочь.
Проходя через врата, я словно воочию увидел, как обрадованный чудесным исцелением дочери отец гонит заморенную лошаденку в сторону Николопетровки, и никто не смеет приблизиться к саням, поскольку никакой необходимости в этом нет. И вот, следующей ночью когтистые лапы Зинаиды, сумасшедшей жены Гудика, стискивают горло семилетнего ребенка – моей Аглаи, которой суждено существовать впредь лишь в моей памяти, поскольку своим поступком я лишил ее будущего. Слабым утешением мне служило то, что теперь, конечно, не случится и того страшного убийства в ванной, свидетелем которого я стал в детстве, и судьба Альберта Калинского, моего несчастного друга, вероятно, сложится теперь иначе. Но самое главное – теперь не родится тот, благодаря кому мне вообще пришлось участвовать во всей этой истории, тот, кто посмел назваться моим сыном и ограбил могучего, но уязвимого Штурмана…
Да, конечно, выбор мой был мучительным, но он должен был быть сделан, ибо, как говорят венгры – одной задницей два пера не удержишь…
Эпилог
Вечер. Я вновь сижу за столом в архиве ***ского Районного Отдела Внутренних Дел, куда добился пропуска используя случайные, но влиятельные связи, и листаю те же папки, что и в первое мое посещение этого заведения. Я ищу доказательства того, что я не сумасшедший и история, частью которой я был, произошла в действительности. Произошла? Но позвольте, ни в одной из папок нет и упоминания об этом! Нигде не нахожу я ни имен известных мне людей, ни хроники событий, происходивших на моих глазах… Значит ли это, что ничего не было?
«Было, не было – все это термины, характеризующие время, а его, как известно, не существует», сказал бы мудрый Абхинава. Он прав, а это значит – мне здесь нечего больше делать. Мне пора, так как мой старый друг Альберт совсем уже заждался меня, проверяя, достаточно ли остыло пиво в холодильнике…
За окном архива совсем стемнело. На черном небосклоне зажглась первая звезда, мерцая и подмигивая мне. Что это? Просто небесное тело или новая надежда? А может, это всего лишь увел домой свою многострадальную команду мрачный, загадочный Штурман?
Август 2009 – Март 2011




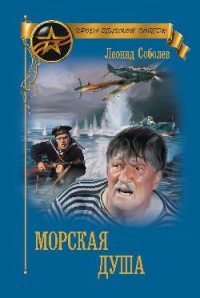
Комментарии к книге «Штурман», Людвиг Павельчик
Всего 0 комментариев