ЖЮЛЬ ВЕРН Дунайский лоцман • Кораблекрушение «Джонатана»
Дунайский лоцман
Глава I НА СОРЕВНОВАНИИ В ЗИГМАРИНГЕНЕ
В субботу 5 августа 1876 года множество шумных громкоголосых мужчин заполняли кабачок «Свидание рыболовов». Не взглянув на знакомую вывеску, начертанную красивыми готическими[1] буквами, сюда входили члены «Дунайской лиги», международного общества удильщиков, люди разных наций, живущих в верховьях величайшей реки Центральной Европы. Окошки заведения смотрели прямо на берег: то была окраина славного, уютного Зигмарингена[2], главного города одного из прусских владений князей Гогенцоллернов[3].
Как известно, не бывает веселых сборищ без знатных выпивок. Кружки наполнялись отличным мюнхенским пивом, стаканы — до краев добрым венгерским вином. В большой зале сделалось темно от ароматного табачного дыма длинных курительных трубок. Песни, звон посуды, аплодисменты смешивались в невнятный шум, среди него порой выделялись крики «хох!» — выражение радости и восторга, достигнувших предела.
Спокойные и молчаливые в повседневной жизни, а особенно за рыбалкой, удильщики становятся необыкновенно говорливыми, когда откладывают в сторону свои снасти. В повествованиях о поединках со всякой водяной живностью они, право, не уступают охотникам, мастерам поведать о всевозможных невероятных историях, будто бы случившихся с ними в лесу или в поле.
Близился к концу весьма основательный завтрак, он собрал сотню с лишним фанатиков крючка, а также приглашенных. Утренние приключения изрядно иссушили их глотки, если судить по количеству бутылок, выставленных за десертом. После десерта пришла очередь многочисленных ликеров: ими решили заменить кофе — дамский, по суждению господ рыболовов, напиток.
Застолье завершилось в три часа пополудни. Кое-кто пошатывался и вряд ли поднялся бы с лавки без помощи ближних. Но большая часть крепко держалась на ногах, как твердые и храбрые завсегдатаи долгих священных заседаний, которые ежегодно возобновлялись несколько раз по случаю соревнований «Дунайской лиги».
Слава этих превращенных в праздники состязаний была велика на всем протяжении великой реки,— между прочим, не голубой, а желтой, вопреки сказанному в знаменитом вальсе на музыку Иоганна Штрауса. Соперники-рыболовы съезжались на поединки из герцогства Баденского, из Вюртемберга, Баварии, Австрии, Венгрии, из Румынии, даже из турецких провинций Болгарии и Бессарабии.
Общество действовало уже пять лет. Прекрасно управляемое президентом, мадьяром[4] Миклеско, оно процветало. Все возрастающие средства позволяли вручать победителям изрядные призы на соревнованиях, а знамя сверкало как чешуя несметными медалями, завоеванными в тихой, но ожесточенной борьбе с другими рыболовными содружествами. Перед рассветом, в пять часов, конкуренты покинули городок и собрались на берегу чуть пониже Зигмарингена в щегольской униформе: короткая блуза, не стесняющая движений; панталоны, заправленные в сапоги на толстой подошве; фуражка с большим козырьком. Разумеется, каждый владел полным набором различных приспособлений, перечисленных в «Руководстве для рыболова»: удилищами, подсачками, лесками, упакованными в замшевые чехольчики, шнурками, флорентийской жилкой[5], поплавками, глубиномерами, свинцовыми дробинками всевозможных размеров для грузил, искусственными мушками… Правила ловли не отличались строгостью: любая вытащенная из воды рыба шла в зачет; каждый мог приманивать ее как заблагорассудится.
Когда пробило шесть на городской башне, девяносто семь соперников с удочками заняли отведенные по жребию места. Труба проиграла сигнал, и девяносто семь лесок одновременно взвились над водой.
Было объявлено несколько призов: два первых, по сто флоринов[6] каждый, назначались тому, кто поймает самое большое количество рыбы, и тому, кому достанется самый крупный экземпляр.
Соревнование закончилось в одиннадцать. Добычу предъявили жюри, оно состояло из президента Миклеско и четырех членов «Дунайской лиги». Хотя рыбаки-удильщики ревнивы к чужим успехам и, что скрывать, завистливы и подозрительны, здесь никто ни на мгновение не сомневался, что эти высокие, могущественные и доверенные особы примут решение со всем беспристрастием. Приходилось только вооружиться терпением: распределение наград держалось в секрете до момента выдачи. Рыболовы и любопытствующие зигмарингенцы удобно уселись перед эстрадой, где совещались президент и другие члены жюри.
Всем хватило стульев, скамеек и табуреток; было достаточно и столов, а на столах — кружек с пивом, бутылок с горячительными напитками, маленьких и больших стаканов.
Снова вовсю дымили трубки.
Наконец президент встал.
— Слушайте! Слушайте! — раздалось со всех сторон.
Господин Миклеско осушил кружку пива, и пена еще висела на кончиках его усов.
— Мои дорогие коллеги,— заговорил он по-немецки, на языке, понятном всем членам лиги, без различия национальностей,— не ждите от меня классически построенного рассуждения с введением, главной частью и заключением. Нет, мы здесь не для того, чтобы упиваться красноречием торжественных официальных речей, и я скажу только о наших маленьких делах, по-товарищески, даже по-братски, если такое выражение приемлемо для международного общества.
Эти две фразы, чересчур длинные, как все, какими обычно начинается речь, даже когда оратор не хочет быть многословным, вызвали единодушные аплодисменты и многочисленные прерываемые икотой возгласы «очень хорошо!» и «хох!». Потом президент снова поднял бокал, остальные охотно последовали его примеру.
Продолжая речь, господин Миклеско определил рыболова-удильщика в высший разряд человечества и подчеркнул все качества, все добродетели, коими наградила этих замечательных людей щедрая природа. Он указал, сколько нужно терпения, изобретательности, хладнокровия, подлинной интеллигентности, чтобы преуспевать в рыболовном искусстве,— да, это не ремесло, это именно искусство, и оно намного выше подвигов, которыми понапрасну хвалятся охотники.
— Разве можно сравнивать,— воскликнул он,— какую-то пальбу с рыбной ловлей?!
— Нет, нет! — хором ответили присутствующие.
— Какая заслуга убить куропатку или зайца, когда видишь их на расстоянии выстрела и когда собака,— а мы разве имеем собак? — отыскивает дичь? Эта дичь заметна издалека, в нее целятся не спеша и выпускают бесчисленное количество дробинок, большая часть которых пропадает напрасно!… А за рыбой вы обычно не можете следить взглядом… Она сокрыта от нас… Сколько нужно искусных маневров, уловок, ума и хитрости, чтобы заставить ее взять крючок, чтобы ее подсечь, вытащить из воды — то недвижно висящую на конце лески, то трепещущую и как бы аплодирующую вам за победу!
На этот раз ответом были громовые возгласы «браво!». Решительно, президент Миклеско умел затронуть чувства членов «Дунайской лиги». Понимая, что любая похвала сотоварищам не будет воспринята как чрезмерная, он осмелился, не боясь быть обвиненным в преувеличениях, поставить их благородное занятие выше всех других и вознес до небес горячих приверженцев подлинно научного рыболовства.
Эти слова, разумеется, вызвали настоящую бурю энтузиазма.
Переведя дыхание и осушив еще кружку пенистого пива, президент продолжал:
— Мне остается только поздравить вас с растущим процветанием Общества, оно каждый год пополняется новыми членами, и репутация его прочно утвердилась во всей Центральной Европе. Не стану говорить о наших успехах. Вы их знаете, вы в них участвуете. Но знаем не только мы. Немецкие газеты, чешские издания, румынские журналы не скупятся на похвалы, столь драгоценные и, добавлю без ложной скромности, столь заслуженные! Я поднимаю тост, и прошу поддержать меня, за господ сотрудников печати, преданных международному делу «Дунайской лиги»!
Конечно, все откликнулись на призыв президента Миклеско. Бутылки опорожнялись в стаканы, а стаканы опорожнялись в глотки с такой же легкостью, с какой вода великой реки и ее притоков изливается в море.
Можно бы на этом остановиться, если бы речь президента окончилась на последнем тосте. Но предлагались и другие спичи[7], очевидно, столь же необходимые и уместные.
В самом деле, президент выпрямился во весь рост между секретарем и казначеем,— они тоже встали. Каждый из троих в правой руке держал бокал шампанского, а левую прижимал к сердцу.
— Я пью за «Дунайскую лигу»! — воскликнул господин Миклеско, окидывая взглядом присутствующих.
Все поднялись, наполнив бокалы. Некоторые влезли на скамейки, другие на столы и все с великолепным единодушием ответили на предложение господина Миклеско.
А президент, после того как бокалы вновь наполнились из казавшихся неисчерпаемыми бутылок, что стояли перед ним и его сотоварищами, заговорил вновь:
— За братские народы: за баденцев, за вюртембержцев, за баварцев, за австрийцев, за мадьяр, за сербов, за валахов, за молдаван, за болгар, за бессарабов, которые «Дунайская лига» объединяет в своих рядах!
И бессарабы, болгары, молдаване, валахи, сербы, мадьяры, австрийцы, баварцы, вюртембержцы, баденцы ответили ему, как один человек, поглотив содержимое своих посудин.
Наконец президент закончил выступление, объявив, что он искренне желал бы выпить за здоровье каждого члена общества, но так как их количество достигает четырехсот семидесяти трех, он, к несчастью, вынужден провозгласить общую здравицу за всех.
Ему ответили «хох!».
Наступал главный номер программы: объявление имен лауреатов.
Президент Миклеско с нарочитой торжественной медлительностью начал оглашать список награждаемых.
В соответствии с уставом Общества наименьшие призы зачитывались первыми, что придавало процедуре все возрастающий интерес.
Услышав свои имена, лауреаты представали перед эстрадой в порядке, соответствующем количеству пойманных рыб. Президент обменивался с награжденными рукопожатием, вручал дипломы и денежные призы.
Рыбы, уже заснувшие в сетках, были те, какие только водятся в Дунае: колюшки, плотва, пескари, окуни, лини, щуки, карпы и другие. А в перечне лауреатов фигурировали валахи, мадьяры, баденцы, вюртембержцы…
Второй по значению и величине приз вручили за семьдесят семь пойманных рыб немцу по имени Вебер, успех его встретили особенно шумными и сердечными рукоплесканиями. Вебера хорошо знали сотоварищи. Уже много и много раз на предыдущих соревнованиях имя его стояло в первых рядах, и в этот день ждали, что он, как обычно, получит высшую награду.
Но нет, лишь семьдесят семь рыб трепетали, затихая, в его садке, семьдесят семь хорошо сосчитанных и пересчитанных, тогда как его конкурент, если не более искусный, то, по крайней мере, более счастливый, предъявил девяносто девять!
Этим мастером оказался мадьяр Илиа Бруш.
Удивленное собрание, услышав незнакомое имя лишь недавно принятого в «Дунайскую лигу», в растерянности даже не аплодировало.
Так как лауреат не счел нужным явиться за получением своих ста флоринов, президент Миклеско после некоторого замешательства перешел к чтению списка победителей по весу выловленных рыб. Премии получили румыны, славяне, австрийцы. Когда прозвучало имя второго призера, его опять встретили аплодисментами, как и имя немца Вебера. Господин Иветозар одержал победу над карпом в три с половиной фунта весом; он наверняка ускользнул бы от менее искусного и хладнокровного рыболова. Господин Иветозар по праву считался одним из самых видных, самых деятельных, самых преданных содружеству членов Общества и имел к тому времени самое большое количество премий. Потому-то его и приветствовали весьма бурно.
Оставалось только присудить первый приз по этой категории, и все сердца затрепетали в ожидании.
Каково же было удивление, даже больше, чем удивление,— всеобщее остолбенение, когда президент Миклеско голосом, дрожь коего не мог сдержать, с трудом произнес:
— Первый приз по весу за щуку в восемнадцать фунтов присуждается мадьяру Илиа Брушу!
Опять этот таинственный Бруш!
Гробовое молчание наступило в собрании. Руки, собравшиеся хлопать, опустились, рты, готовые восславить победителя, молчали. Все присутствующие словно окаменели.
Появится ли наконец Илиа Бруш? Придет ли он получить от президента Миклеско сразу два самых почетных диплома и присоединенные к ним двести флоринов?
Внезапно по собранию пронесся ропот.
Один из рыболовов, до того державшийся в стороне, направился к эстраде.
Это и был дважды лауреат.
Судя по гладкому, тщательно выбритому лицу, по густой черной шевелюре, Илиа Бруш выглядел не старше тридцати лет. Роста выше среднего, с широкими плечами, крепко стоящий на ногах, он, вероятно, обладал редкой силой. Можно было в самом деле удивляться, как молодец такой закваски увлекся тихим занятием — рыбной ловлей на удочку, да еще и приобрел в этом трудном искусстве мастерство, неопровержимым доказательством чего служили сейчас результаты конкурса.
Другая достаточно странная особенность: Илиа Бруш, очевидно, страдал каким-то недостатком зрения: большие темные очки скрывали его глаза. А ведь зрение — самое драгоценное из чувств для тех, кто живо интересуется чуть заметными движениями поплавка и кому необходимо улавливать и разгадывать многочисленные рыбьи хитрости.
Но каково бы ни было всеобщее удивление, приходилось подчиняться правилам этикета. Собрание наконец ожило, и достаточно звучными ударами в ладоши приветствовало триумфатора в момент, когда он получал дипломы и премии из рук президента Миклеско.
После этого Илиа Бруш, поговорив с президентом, не спустился с эстрады, а повернулся к заинтересованному собранию и жестом попросил молчания.
— Господа и дорогие коллеги,— начал Илиа Бруш,— я прошу позволения обратиться к вам с несколькими словами с ведома нашего многоуважаемого господина президента.
Можно было услышать, как звякает стакан о стакан в зале, только что перед этим такой шумной. Что означает выступление, не предусмотренное программой?
— Я имею честь поблагодарить почтенных коллег,— продолжал Илиа Бруш,— за дружественность и приветствие, но прошу верить, что я не возгордился сверх меры выпавшим мне двойным успехом. Я сознаю, что призы, приличествующие наиболее достойным, должны были бы принадлежать кому-нибудь из старейших членов Лиги, столь богатой выдающимися рыболовами, а я удостоен высокой награды не столько благодаря моим заслугам, сколько счастливому случаю.
Скромность вступления понравилась собранию; раздалось несколько приглушенных возгласов: «Браво!», «Хох!»
— Я рад, что благоприятный случай позволит осуществить давно задуманный проект, который, хотел бы надеяться, заинтересует присутствующих здесь знаменитых рыболовов. Вы, конечно, знаете, многоуважаемые коллеги, сейчас мода на рекорды. Почему бы нам не последовать примеру чемпионов в других видах спорта и не попытаться установить международный рекорд рыбной ловли на удочку?
Приглушенные восклицания пробежали по аудитории. Раздавалось: «Ах, ах!», «Слушайте, слушайте!», «Почему бы и не так?» Каждый член Общества выражал впечатления сообразно своему темпераменту.
— Правда, масштаб территории вынужденно ограничен,— продолжал тем временем оратор.— Я член «Дунайского общества» и потому только на Дунае должен искать счастливого моего предприятия. И я задался целью спуститься по нашей знаменитой реке от самого ее истока до Черного моря и питаться во время этого плавания, протяженностью, как известно, немногим менее трех тысяч километров, исключительно плодами моей рыбной ловли.
Сегодняшняя удача еще более увеличила мои желание и возможность выполнить путешествие, интерес которого, я уверен, вы оцените; вот почему я решил отправиться десятого августа, то есть в ближайший четверг, и назначаю всем желающим свидание в этот день там, где начинается Дунай[8].
Легче вообразить, чем описать, энтузиазм, вызванный столь неожиданным сообщением. В продолжение двух, а то и пяти минут гремела буря возгласов «хох!» и безудержных рукоплесканий.
Столь важное событие должно было получить достойное завершение. Господин Миклеско это понял и, верный себе, поступил как настоящий председатель. Немного тяжеловато, быть может, он встал еще раз, поддерживаемый двумя помощниками.
— За нашего коллегу Илиа Бруша! — воскликнул он взволнованно, расплескивая из бокала шампанское.
— За нашего коллегу Илиа Бруша! — отозвалось собрание, как раскат грома, за которым немедленно последовало полное молчание, ибо, к сожалению, человеческие существа не способны кричать и пить в одно и то же время.
Однако молчание продолжалось недолго. Пенящееся вино придало пересохшим глоткам новую силу, что позволило провозгласить еще бесчисленное множество здравиц до того момента, когда при всеобщем веселье завершился знаменитый конкурс рыболовов, открытый в этот день, 5 августа 1876 года, «Дунайской лигой» в славном и уютном городке Зигмарингене.
Глава II В ВЕРХОВЬЯХ ДУНАЯ
Хотел ли добиться славы Илиа Бруш, когда объявил коллегам, собравшимся в «Свидании рыболовов», о своем намерении спуститься по Дунаю с удочкой в руке? Если такова была цель, он мог порадоваться, ибо достиг ее.
Печать заговорила о дерзновенном плане, и едва ли не все газеты Дунайского бассейна посвятили ему репортерские сообщения — более или менее объемистые и, во всяком случае, способные приятно пощекотать самолюбие зигмарингенского триумфатора, имя его становилось все более популярным.
Уже на следующий день, 6 августа, венская «Нойе Фрайе Пресс» писала:
«Последнее соревнование «Дунайской лиги» по уженью закончилось вчера в Зигмарингене настоящим театральным эффектом, героем которого стал мадьяр Илиа Бруш, еще вчера никому не известный, а сегодня почти знаменитый.
Вы спросите: что же такое сделал Илиа Бруш, чтобы заслужить внезапную славу?
Во-первых, этот искусник завоевал два первых приза — по весу и по количеству рыбы, далеко оставив позади конкурентов, чего, кажется, не случалось за все время, сколько существуют подобные соревнования. Это уже превосходно. Но дальше рыболовов ждал еще один сюрприз.
Когда Илиа Бруш собрал богатую жатву лавров, думалось, он вправе пожинать плоды популярности. Нет, не таков оказался удивительный человек, поразивший нас окончательно.
Если мы хорошо осведомлены — а исключительная точность нашей информации господам подписчикам известна,— Илиа Бруш объявил коллегам, что он намерен спуститься с удочкой в руке по Дунаю, от верховья в герцогстве Баденском до устья в Черном море, проделав путь приблизительно в три тысячи километров. Мы будем регулярно оповещать наших читателей о всех перипетиях этого уникального предприятия.
Илиа Бруш должен отправиться в путь десятого августа, в следующий четверг. Пожелаем ему счастья, но попросим также сверхудачливого рыболова не истреблять, вплоть до последнего экземпляра, водяное население великой интернациональной реки!»
Так восторгалась венская газета. Не меньше восхищений проявили будапештская «Пестер Ллойд», белградская «Србске Новине», а в бухарестской «Романул» заметка разрослась до размеров статьи.
Все эти сообщения, умело и живо написанные, сразу привлекли внимание к Илиа Брушу, и если правда, что печать есть отражение общественного мнения, то можно было ожидать, что путешествие по мере его продолжения будет возбуждать все возрастающий интерес.
В самом деле, разве в прибрежных городах не живут члены «Дунайской лиги», разве не сочтут они своим долгом содействовать росту славы своего сотоварища? И нет сомнения, что он получит в случае надобности не только восхищение и сочувствие, но и реальную поддержку и помощь.
Не зря ведь, и не только из любопытства некоторые члены Лиги, участники конкурса в Зигмарингене, задержались тут, чтобы участвовать в старте отважного чемпиона «Дунайской лиги».
Хозяину кабачка «Свидание рыболовов» не приходилось жаловаться на продолжение их пребывания в Зигмарингене. Более тридцати собутыльников продолжали веселиться в большой зале, доставляя владельцу непредвиденные доходы.
Однако вечером 8 августа в городке разговаривали не о герое дня. Другое событие, еще более важное для жителей столицы Гогенцоллернов, стало темой пересудов и общего волнения, как, впрочем, и в других прибрежных населенных пунктах.
Дело в том, что уже многие месяцы жители их подвергались постоянным нападениям. Не счесть было обкраденных ферм, разграбленных замков, обворованных деревушек. Несколько человек заплатили жизнью за сопротивление, когда пытались оказать его неуловимым злодеям.
По всей вероятности, столько преступлений не могло совершить несколько отдельных лиц. Ясно, что дела вершила хорошо организованная банда, без сомнения, весьма многочисленная, судя по ее «подвигам».
Странным казалось, что банда действовала только в непосредственной близости к Дунаю. Уже километра за два от берегов никакое злодеяние нельзя было отнести на счет этой шайки. Зато поле ее деятельности простиралось в длину, и берега австрийские, венгерские, сербские или румынские одинаково подвергались нападениям преступников, которых еще никогда не удавалось захватить на месте с поличным.
Правительства придунайских стран в конце концов пришли к выводу о недостаточной связи между полицией разных государств. Произошел обмен дипломатическими нотами, и, как сообщила печать в тот самый день 8 августа, переговоры привели к созданию интернациональной полиции; она должна была действовать под управлением одного начальника на всем течении Дуная.
Выбор начальника представил большие трудности, но в конце концов сошлись на кандидатуре мадьяра Карла Драгоша, полицейского комиссара, хорошо известного по всему Дунаю. Теперь всем казалось: нельзя было выбрать более достойного. Сорокапятилетний, среднего роста, худощавый, наделенный более силой духа, нежели физической силой, он отличался способностью стойко переносить профессиональные трудности службы и храбростью, чтобы не бояться опасностей. Драгош жил в Будапеште, но чаще всего находился в провинции, занятый какими-нибудь сложными расследованиями. Прекрасное знание всех языков Юго-Восточной Европы — немецкого, румынского, сербского, болгарского и турецкого, не говоря уже о родном мадьярском, позволяло ему выходить из многих затруднений. Старый холостяк, он не боялся, что семейные заботы ограничат его долгие отлучки.
Печать хорошо отозвалась о назначении Драгоша, публика тоже одобрила его единодушно. В большой зале «Свидания рыболовов» новость приняли крайне лестным образом.
— Нельзя было лучше выбрать,— утверждал в тот момент, когда в кабачке зажглась лампа, господин Иветозар, обладатель второго приза по весу рыбы на только что законченном конкурсе.— Я знаю Драгоша. Это — человек.
— И весьма храбрый и искусный человек,— добавил президент Миклеско.
— Пожелаем,— вскричал хорват с труднопроизносимым именем Сврб, владелец красильни в предместьях Вены,— чтобы ему удалось оздоровить берега реки! Жизнь здесь стала прямо невозможной!
— У Карла Драгоша сильный противник,— сказал немец Вебер, покачивая головой.— Посмотрим его за работой.
— За работой!…— вскричал господин Иветозар.— Он уже за ней, будьте спокойны!
— Конечно,— поддержал господин Миклеско.— Не в духе Карла Драгоша терять время. Если его назначение произошло четыре дня назад, как утверждают газеты, то он, по крайней мере, уже три дня делает свое дело.
— С чего бы ему начать? — спросил господин Писсеа, румын.— На его месте, признаюсь, я был бы в крайнем затруднении.
— Потому вас и не поставили на его место, мой дорогой,— благодушно заметил серб.— Будьте уверены, что Драгош не затруднится. А уж докладывать вам свой план, это извините. Быть может, он направился в Белград, быть может, остался в Будапеште… Если только не предпочел явиться как раз сюда, в Зигмаринген, и если его нет в сей момент среди нас здесь, в «Свидании рыболовов»!
Это предположение вызвало бурный взрыв веселья.
— Среди нас! — вскричал Вебер.— Вы смеетесь над нами, Михаил Михайлович! Зачем он явится сюда, где на людской памяти никогда не совершалось ни малейшего преступления?
— Гм! — возразил Михаил Михайлович.— А может, для того, чтобы присутствовать послезавтра при отправлении Илиа Бруша. Может, он его интересует, этот человек… Если только Илиа Бруш и Карл Драгош не одно лицо.
— Как это — одно лицо? — закричали со всех сторон.— Что вы под этим подразумеваете?
— Черт возьми! А это было бы здорово… Никто не заподозрит полицейского в облике рыболова-лауреата, и он будет инспектировать Дунай без всякой огласки.
Фантастическая выдумка заставила собутыльников широко открыть глаза. Уж этот Михаил Михайлович! Только ему и могут явиться подобные идеи!
Впрочем, Михаил Михайлович не очень держался за предположение, которое только что рискнул высказать.
— Если только…— начал он оборотом, который, очевидно, был его излюбленным.
— Если только?
— Если только Карл Драгош не имеет другой причины присутствовать здесь,— продолжал он, переходя без передышки к другой, не менее фантастической версии.
— Какой причины?
— Представьте, например, что замысел спуститься по Дунаю с удочкой в руке покажется ему подозрительным.
— Подозрительным!… Почему подозрительным?
— Черт побери! И впрямь было бы совсем не глупо для преступника скрыться под маской рыболова, особенно столь известного. Такая популярность стоит любого инкогнито в мире. Можно нанести сто ударов, где только захочется, а в промежутках ловить рыбку. Хитрая выдумка!
— Но надо уметь удить,— поучительно заметил президент Миклеско,— а это привилегия честных людей.
Такой вывод, быть может, несколько натянутый, польщенные рыболовы встретили овацией. Михаил Михайлович с замечательным тактом воспользовался всеобщим энтузиазмом.
— За здоровье президента! — вскричал он, поднимая стакан.
— За здоровье президента! — повторили собутыльники.
— За здоровье президента! — повторил один из посетителей, он одиноко сидел за столом и в течение некоторого времени с живым интересом внимал разговору.
Господин Миклеско, тронутый любезностью незнакомца, из благодарности поднял в его честь бокал.
Одинокий посетитель, посчитав, без сомнения, что этим вежливым поступком отчужденность сломана, решил, с позволения почтенного собрания, выразить и свое мнение.
— Хорошо сказано, господин президент, честное слово! — заметил он.— Да, конечно, уженье — занятие порядочных людей.
— Мы имеем честь говорить с коллегой? — спросил господин Миклеско.
— О! Всего лишь любитель, который восхищается блестящими подвигами, но не имеет дерзости им подражать,— скромно ответил незнакомец.
— Тем хуже, господин…
— Иегер.
— Тем хуже, господин Иегер, так как я, к сожалению, должен заключить, что мы никогда не будем иметь чести видеть вас среди членов «Дунайской лиги».
— Кто знает? — возразил господин Иегер.— Может быть, и я когда-нибудь решусь протянуть руку к пирогу… к удочке, хотел я сказать, и в этот день я, конечно, стану вашим, если только сумею удовлетворить условиям, необходимым для вступления в ваше почтенное Общество.
— Не сомневайтесь в этом,— горячо заверил господин Миклеско, воодушевленный надеждой завербовать нового приверженца.— Эти условия очень просты, и их всего четыре. Первое — платить незначительный ежегодный взнос. Это — главное.
— Разумеется,— смеясь подтвердил господин Иегер.
— Второе — это любить уженье. Третье — быть приятным компаньоном, и мне кажется, что это третье условие уже выполнено.
— Очень любезно с вашей стороны! — заметил господин Иегер.
— Что же касается четвертого, то оно состоит в том, чтобы внести свою фамилию и адрес в список Общества. Имя ваше известно, и когда я буду иметь ваш адрес…
— Вена, Лейпцигерштрассе, номер сорок три.
— …вы будете полноправным членом Лиги за двадцать крон[9] в год.
Оба собеседника рассмеялись от чистого сердца.
— И больше никаких формальностей? — спросил господин Иегер.
— Никаких.
— И не надо удостоверения личности?
— Ну, господин Иегер,— возразил президент,— рыба на крючке не спросит у вас документ…
— Это верно.— Господин Иегер улыбнулся.— Но ведь все должны знать друг друга в «Дунайской лиге».
— Как раз наоборот,— заверил господин Миклеско.— Вы только подумайте! Некоторые из наших товарищей живут здесь, в Зигмарингене, а другие на берегу Черного моря. Не так-то легко поддерживать добрососедские отношения.
— В самом деле!
— Так, например, нашего поразительного лауреата последнего конкурса…
— Илиа Бруша?
— Его самого. И что же? Его никто не знает.
— Невозможно!
— Но это так,— уверил господин Миклеско.— Ведь он всего две недели назад вступил в Лигу. Совершенно для всех Илиа Бруш удивительное…— что я говорю! — поразительное явление.
— Это то, что на скачках называют «темная лошадка»?
— Именно.
— А из какой страны эта темная лошадка?
— Он мадьяр.
— Так же, как и вы. Ведь вы относитесь к этой весьма уважаемой нации, господин президент?
— Да, господин Иегер, я и все мои предки родом из Будапешта.
— А Илиа Бруш?
— Из Сальки.
— Где же эта Салька?
— Это местечко, маленький городок, если угодно, на правом берегу Ипеля, реки, что впадает в Дунай на несколько лье[10] выше Будапешта.
— Значит, с ним, по крайней мере, господин Миклеско, вы можете считаться соседями,— смеясь заметил Иегер.
— Не раньше, чем через два или три месяца,— таким же тоном возразил президент «Дунайской лиги».— Столько времени ему понадобится для путешествия…
— Если только оно состоится! — ядовито молвил веселый серб, бесцеремонно вмешиваясь в разговор.
Другие рыболовы придвинулись к ним. Иегер и Миклеско оказались в центре маленькой группы.
— Что вы хотите этим сказать? — спросил господин Миклеско.— У вас блестящее воображение, Михаил Михайлович!
— Простая шутка, господин президент,— ответил спрошенный.— Впрочем, если Илиа Бруш, по-вашему, ни полицейский, ни преступник, почему он не может посмеяться над нами и оказаться просто хвастуном?
Господин Миклеско стал серьезным.
— У вас недоброжелательный характер, Михаил Михайлович,— возразил он.— Когда-нибудь он сыграет с вами скверную шутку. Илиа Бруш производит на меня впечатление человека честного и положительного. Кроме того, он член «Дунайской лиги». Этим все сказано.
— Браво! — закричали со всех сторон.
Михаил Михайлович, казалось, совсем не сконфуженный уроком, с замечательным присутствием духа воспользовался новым предлогом.
— В таком случае,— сказал он,— поднимаю тост за здоровье Илиа Бруша!
— За здоровье Илиа Бруша! — хором ответили присутствующие, не исключая господина Иегера, который добросовестно осушил стакан.
Последняя выходка Михаила Михайловича была, впрочем, не менее лишена здравого смысла, чем его предыдущие.
Эффектно объявив о своем проекте, Илиа Бруш больше не показывался. Никто ничего о нем не слышал. Не было ли странно, что он держался где-то в стороне, и возникало вполне законное предположение, что он хотел одурачить своих чересчур легковерных товарищей. Как бы то ни было, ожидать приходилось недолго: через тридцать шесть часов все станет ясным.
Тем, кто всерьез интересовался проектом, требовалось только подняться на несколько лье вдоль реки выше Зигмарингена. Там полагалось сейчас находиться Илиа Брушу, если он в самом деле серьезный и надежный человек, как утверждал президент Миклеско.
Но здесь могла возникнуть трудность. Было ли установлено местонахождение истока великой реки? В точности ли указывали его карты? Существовала ли полная уверенность в этом вопросе, и, когда попытаются встретить Илиа Бруша в одном пункте, не окажется ли он в другом?
Конечно, нет сомнений в том, что Дунай, Истр древних, берет начало в великом герцогстве Баденском. Географы даже утверждают, что это — на шести градусах десяти минутах восточной долготы и сорока семи градусах сорока восьми минутах северной широты. Но и такое определение — допустим, что оно справедливо,— доведено только до дуговой минуты, а не до секунды, и это может вызвать широкие разногласия. Ведь речь шла о том, чтобы забросить удочку точно там, где первая капля дунайской воды начинает, скатываться к Черному морю.
Согласно одной легенде, которая долго считалась географической истиной, Дунай рождался в саду принца Фюрстенберга. Колыбелью его будто бы был мраморный бассейн, в котором многочисленные туристы наполняли свои кубки. Не у края ли этого неисчерпаемого водоема нужно ожидать Илиа Бруша утром 10 августа?
Нет, не здесь подлинный источник великой реки. Теперь известно, что он образован слиянием двух ручьев, Бреге и Бригаха, которые ниспадают с высоты в восемьсот семьдесят пять метров и протекают через Шварцвальдский лес. Их воды смешиваются у Донауэшингена, на несколько лье выше Зигмарингена, и объединяются под общим названием Дунай.
Если какой-либо из ручьев больше другого заслуживает считаться рекой, то это Бреге, длиною тридцать семь километров, и начинается он в Брисгау.
Наиболее осведомленные сказали, что местом отправления Илиа Бруша,— если он все же намерен осуществить свой план,— будет Донауэшинген. Там и собрались провожающие, в большинстве члены «Дунайской лиги», во главе с президентом Миклеско.
С утра 10 августа они, как по команде, сошлись у слияния двух ручьев. Но время шло, а герой дня не показывался.
— Он не явится,— сказал один.
— Просто мистификатор,— молвил другой.
— А мы настоящие простаки! — добавил Михаил Михайлович, скромно торжествуя.
Только президент Миклеско настойчиво защищал Илиа Бруша.
— Нет,— уверял он,— я никогда и мысли не допущу, что член «Дунайской лиги» вздумает дурачить своих товарищей!… Илиа Бруш запоздал. Наберемся терпения. Мы вот-вот его увидим.
Господин Миклеско оказался прав в своем доверии. Незадолго до десяти часов кто-то наиболее внимательный и зоркий крикнул:
— Вот он!… Вот он!…
Из-за поворота показалась лодка. Минуя быстрину, она жалась к берегу. На корме стоял человек с веслом,— тот самый, который несколько дней назад появился на конкурсе «Дунайской лиги» и завоевал два первых приза, мадьяр Илиа Бруш.
Возле группы провожающих лодка остановилась, на берег полетел небольшой якорь. Рыболов высадился, любопытные сгрудились вокруг него. Без сомнения, он не ожидал увидеть такую многочисленную компанию и выглядел несколько смущенным.
Президент Миклеско подошел к чемпиону и протянул руку, которую Илиа Бруш почтительно пожал, сняв шапку из меха выдры.
— Коллега Илиа Бруш,— произнес господин Миклеско с чисто президентской важностью,— я счастлив видеть достославного победителя на нашем конкурсе.
Победитель поклонился в знак благодарности. Президент продолжал:
— Раз мы встретились с вами у истоков нашей интернациональной реки, мы заключаем, что вы начинаете приводить в исполнение проект спуститься до устья с удочкой в руке.
— Разумеется, господин президент,— ответил Илиа Бруш.
— И вы начинаете плавание сегодня?
— Вернее, сейчас же, господин президент.
— В этой лодке?
— Именно так.
— Никогда не причаливая к берегу?
— Нет, кроме как ночью.
— Но вы ведь знаете, что речь идет о трех тысячах километров?
— По десять лье в день это займет немногим более двух месяцев.
— В таком случае счастливого пути, Илиа Бруш!
— Благодарю вас, господин президент!
Путешественник поклонился в последний раз и ступил на борт своего суденышка, любопытные же теснились, чтобы увидеть, как он отправится.
Он взял удочку, насадил наживку, положил удилище на скамейку, поднял якорь на борт, оттолкнул лодку сильным ударом багра, потом, сев на корме, закинул удочку.
Минутой спустя он ее вытащил. На крючке бился усач[11]. Это показалось счастливым предзнаменованием, и вся компания приветствовала криками «хох!» лауреата «Дунайской лиги».
Глава III ПАССАЖИР ИЛИА БРУША
Он начался, этот спуск по великой реке. Илиа Брушу предстояло путешествие через одно герцогство — Баден, через два королевства — Вюртемберг и Баварию, через две империи — Австро-Венгрию и Турцию, через три княжества — Гогенцоллерн, Сербию и Румынию. Оригинальный рыболов мог не страшиться усталости во время этого долгого плавания протяженностью около семисот лье. Течение Дуная должно было донести его до самого устья со скоростью немного больше лье в час, то есть в среднем пятьдесят километров в день. Через два месяца он будет, таким образом, у цели путешествия при условии, что никакая случайность не задержит его в пути. Но почему он должен подвергнуться задержкам?
Лодка Илиа Бруша, схожая с плоскодонной баржей, была двенадцати футов[12] длины, шириной в четыре фута посредине. Впереди под круглой крышей — рубка, или, если угодно, каюта, где могли укрыться двое. Внутри ящики по бокам содержали скромный гардероб владельца и предназначались для отдыха. Задняя часть сундуков образовала скамейку, и на ней помещались кухонные принадлежности.
Излишне говорить, что на барже имелись все снасти, что полагаются всякому настоящему рыболову. Илиа Бруш не мог без них обойтись, ибо обязался во время путешествия существовать исключительно плодами ловли, если не питаясь рыбой, то меняя ее на звонкую монету, что позволило бы разнообразить меню, не нарушая условий своего плана.
Впрочем, наблюдатель, который не сводил бы глаз с Илиа Бруша, по справедливости удивился бы тому малому усердию, с каким лауреат «Дунайской лиги» относился к ужению, что являлось единственным оправданием эксцентрического предприятия. Когда Бруш чувствовал, что за ним не следят посторонние взгляды, он спешил сменить удочку на весло и греб изо всех сил, стараясь ускорить бег лодки. Напротив, когда несколько любопытных появлялись на берегу или встречался перевозчик, чемпион тотчас схватывал свое профессиональное орудие и с обычной ловкостью почти немедленно вытаскивал из воды прекрасную рыбу, что вызывало аплодисменты зрителей. Однако как только зевак скрывало течение реки, а паромщик исчезал за поворотом, удильщик снова брался за весло и разгонял баржу.
Имел ли Илиа Бруш причину сократить срок путешествия, каковое, впрочем, никто не вынуждал его предпринимать? Что об этом ни думай, а продвигался он довольно быстро. Увлекаемый течением, быстрым у начала реки, а в дальнейшем более медленным, гребя всегда, когда представлялся благоприятный случай, он делал восемь километров в час, если не больше.
Миновав несколько мелких поселений, он оставил позади Тутлинген, более значительный городок, не останавливаясь, хотя несколько почитателей подавали с берега знаки причалить. Илиа Бруш отклонил жестом приглашение.
В четыре часа пополудни он очутился близ маленького Фридингена, в сорока восьми километрах от места отправления. Он охотно проскочил бы мимо, но энтузиазм публики не позволил ему этого. Как только он появился, несколько барок, откуда доносились восклицания «хох!», отделились от берега и окружили знаменитого лауреата.
Илиа Бруш принял их приветливо. Разве не нужны были ему покупатели для рыбы, наловленной в те моменты, когда он действительно занимался ужением? Усачи, подлещики, плотва бились в садке, не считая нескольких голавлей. Явно, он не мог съесть все это один. Но местных жителей, казалось, его добыча не интересовала. Как только баржа остановилась, вокруг нее сгрудилось полсотни баденцев на своих суденышках, приглашая Бруша, воздавая ему почет, приличествующий лауреату «Дунайской лиги»:
— Эй! Сюда, Бруш!
— Кружку доброго пива, Бруш!
Другие спохватились:
— Мы покупаем вашу рыбу, Бруш!
— За эту двадцать крейцеров![13]
— За эту — флорин.
Лауреат не знал, кому и отвечать, и быстро получил за рыбу несколько приятных звонких монет. С премией, заработанной на конкурсе, это, в конце концов, составит хорошую сумму, если не иссякнет энтузиазм на всем протяжении реки.
А почему он, энтузиазм, должен прекратиться? Разве местному жителю не лестно принять хотя бы малую плотвичку из рук знаменитости? Конечно, не придется ходить по домам, предлагая свой товар, если публика спорит из-за его рыбы на месте. Решительно, такая торговля — гениальная идея.
Не было недостатка и в приглашениях. Илиа Бруш намеревался покидать судно как можно реже, отклонил их все и так же энергично отказался распить на берегу вина и пива, ссылаясь на усталость. Его почитатели вынуждены были расстаться со своим кумиром, выговорив у него свидание назавтра, перед отплытием.
Однако утром они не увидели баржи. Илиа Бруш отчалил до рассвета и, одинокий в этот утренний час, усердно греб, держась посреди реки, на равном расстоянии от довольно крутых берегов.
Пользуясь быстрым течением, он миновал в пять утра Зигмаринген, пройдя в нескольких метрах от «Свидания рыболовов». Без сомнения, немного позже кто-нибудь из членов «Дунайской лиги» выйдет постоять на балконе трактира, чтобы подстеречь появление прославленного одноклубника. Но он станет сторожить напрасно. Рыболов будет уже далеко, если не уменьшится скорость его баржи.
В нескольких километрах от Зигмарингена остался позади первый приток Дуная, простой ручеек Лушат, впадающий слева.
Слава Богу, населенные центры сравнительно редко встречались в этой части его пути, Илиа Бруш весь день ускорял бег своего суденышка и уделил ужению самое малое время. Поймав лишь столько, сколько требовалось для собственного пропитания, он заночевал в поле, неподалеку от городка Мундеркингена, обитатели которого, конечно, не предполагали, что знаменитый рыболов так близко.
Илиа Бруш опять отправился в путь до восхода солнца, и еще не пробило пяти пополудни, как он отшвартовался у железного кольца, вделанного в набережную Ульма, самого большого города в королевстве Вюртемберг после его столицы Штутгарта.
Прибытие лауреата осталось незамеченным. Его ждали только к вечеру следующего дня. Очень довольный своим инкогнито, Илиа Бруш решил употребить конец дня на знакомство с городом.
Впрочем, надо сказать, что набережная была не совсем пустынна. Там находился один гуляющий, и все заставляло думать, что он поджидал Илиа Бруша, ибо, когда баржа показалась, он следовал за ней вдоль реки.
Когда баржа пришвартовывалась к набережной, одинокий прохожий не приблизился. Он остановился на некотором расстоянии и, казалось, не обращал внимания на суденышко. Это был человек среднего роста, одетый по венгерской моде, сухой, с живым взглядом, хотя, наверное, прожил более сорока лет. Он держал в руке кожаный чемодан.
Илиа Бруш, не глядя на бездельника, крепко привязал баржу, уверился, что сундуки заперты, прикрыл дверь каюты, спрыгнул на землю и направился по первой улице, ведущей в город.
Человек, быстро положив возле рубки Илиа Бруша свой кожаный чемодан, тотчас пошел за приезжим.
Пересекаемый Дунаем, Ульм — город типично немецкий.
Гость брел по старинным улицам, сплошь застроенным торговыми лавками, в них покупатели не входят, и сделки совершаются через форточки в застекленных витринах. Дул ветер, и тяжелые железные вывески, вырезанные в форме медведей, оленей, крестов и корон, качались, шумели и звенели.
Миновав древнюю ограду, Илиа Бруш очутился в квартале, где держали свои заведения мясники, торговцы требухой и колбасники. Потом предстал перед собором. Угадав в Бруше приезжего, почтенный бюргер похвастался, что высота храма составляет по точному измерению триста тридцать семь футов, а вмещает собор тридцать тысяч человек…
Илиа Брушу не пришло в голову подняться на колокольню, откуда его взгляд мог бы охватить город и прилегающие поля. Если бы он это сделал, за ним наверняка последовал бы неизвестный, который не покидал его, стараясь остаться незамеченным. По крайней мере он ждал Бруша и тогда, когда тот вошел в собор и любовался его прекрасным и богатым убранством.
Вместе, но на расстоянии друг от друга, они прошли мимо городской ратуши, почтенного здания XII века, мимо красивого фонтана, мимо промышленного музея и снова спустились к реке.
Прежде чем вернуться на набережную, Илиа Бруш задержался, чтобы посмотреть на компанию горожан, взгромоздившихся на ходули; этот вид спорта весьма уважаем в Ульме.
Ради короткого отдыха и удобства смотреть на представление,— участниками его были веселые юноши и девушки,— Илиа Бруш занял место в кафе. Незнакомец не замедлил усесться за соседний стол, и оба приказали подать себе по кувшину знаменитого местного пива.
Через десять минут они пустились в путь, но уже в обратном порядке. Незнакомец теперь шел впереди скорым шагом. Когда Илиа Бруш, следуя за ним без всяких подозрений, приблизился к барже, то обнаружил на борту непрошенного посетителя, комфортабельно усевшегося на заднем ящике с желтым чемоданом у ног. Очень удивившись, владелец суденышка не скрыл своего раздражения.
— Простите, сударь,— сказал он, прыгая в лодку,— вы, по-моему, ошиблись?
— Ничуть,— ответил незнакомец.— Именно с вами я желал бы поговорить.
— Со мной?
— С вами, господин Илиа Бруш.
— О чем?
— Хочу сделать вам предложение.
— Предложение?— повторил крайне удивленный и рассерженный рыболов.
— И даже превосходное,— уверил незнакомец, жестом пригласив собеседника сесть.
Конечно, это приглашение было весьма неприличным со стороны незнакомца, который вел себя как хозяин. Но посетитель говорил с такой решительностью и уверенностью, что это, как ни странно, успокаивающе подействовало на Илиа Бруша. Он молча повиновался.
— Я, как и все,— снова заговорил незнакомец,— знаю ваш проект и, следовательно, знаю, что вы рассчитываете спуститься по Дунаю, существуя исключительно за счет рыбной ловли. Я сам страстный любитель этого искусства и кровно заинтересован в успехе вашего предприятия.
— Каким образом?
— Я и собираюсь сказать это вам. Но сначала позвольте предложить один вопрос. В какую сумму оцениваете вы стоимость рыбы, которую предполагаете поймать в продолжение всего путешествия? Я подразумеваю то, что вы продадите, не считая съеденного самим.
— Я не задумывался над этим… Полагаю, может быть, сотню флоринов.
— Я предлагаю пятьсот.
— Пятьсот флоринов! — вскричал ошеломленный Илиа Бруш.
— Да, пятьсот флоринов, и плачу вперед.
Илиа Бруш был поражен этой странной сделкой, и, видимо, взгляд его был так красноречив, что собеседник ответил на мысль, не высказанную рыболовом.
— Успокойтесь, господин Бруш. Я в здравом уме.
— Но тогда какова же ваша цель? — спросил мало убежденный лауреат.
— Я вам это сказал,— объяснил незнакомец.— Я хочу постоянно наблюдать за вашими успехами, присутствуя при них. А потом, есть и азарт игрока. Оценив ваши шансы в пятьсот флоринов, я буду наслаждаться, видя, как эта сумма возвращается ко мне частями по вечерам после окончания продажи улова местным жителям. Ведь пойманная рыба мною заранее оплачена, и ежедневную выручку вы отдадите мне.
— По вечерам? — настойчиво переспросил Илиа Бруш.— Значит, вы намереваетесь отправиться со мной?
— Безусловно,— ответил незнакомец.— Разумеется, мой проезд не входит в наши условия и будет дополнен такой же суммой в пятьсот флоринов, что составит в целом тысячу флоринов, полностью оплаченных авансом.
— Тысяча флоринов! — повторил Илиа Бруш, все более и более изумляясь.
Конечно, предложение было соблазнительным. Но, надо полагать, рыболов предпочитал одиночество, так как коротко ответил:
— Сожалею, сударь! Я отказываюсь!
Перед таким недвусмысленным ответом, высказанным решительным тоном, полагалось только отступить. Но, без сомнения, не таково было мнение страстного любителя рыбной ловли, который совсем не казался обескураженным твердостью отказа.
— Вы позволите теперь мне, господин Бруш, узнать вашу причину? — спокойно спросил он.
— Мне незачем объяснять. Я отказываюсь, и все тут. Я полагаю, это мое право,— отвечал Илиа Бруш, начиная проявлять нетерпение.
— Конечно, это ваше право,— продолжал его собеседник, не трогаясь с места.— Но и я в своем праве, когда прошу вас объяснить мотивы вашего решения. Мое предложение отнюдь не является нелюбезным, и, естественно, со мной надо обращаться вежливо.
Эти слова были сказаны, разумеется, без всякой угрозы, но таким твердым, уверенным тоном, что Илиа Бруш был несколько сконфужен и растерян. Однако он не только дорожил уединением, но еще больше старался избежать нескромных расспросов.
— Извините, сударь,— молвил он.— Прежде всего я скажу, что мне просто совестно вовлекать вас в такую невыгодную операцию.
— Это мое дело.
— Но также и мое, потому что я намерен удить не более часа ежедневно.
— А остальное время?
— Я буду грести, чтобы ускорить ход моего суденышка.
— Значит, вы спешите?
Илиа Бруш кусал себе губы.
— Спешу или нет,— сухо ответил он,— но это так. Вы должны понять, что принимать при таких условиях тысячу флоринов — настоящий грабеж.
— Ничуть, раз я предупрежден,— настаивал покупатель, не теряя непоколебимого спокойствия.
— Все-таки,— возразил Илиа Бруш,— я не хочу быть вынужденным ловить рыбу каждый день, хотя бы и в течение часа. Нет, я не могу принять на себя такое обязательство. Я намерен действовать по своей фантазии. Я хочу быть свободным.
— Вы и будете,— объявил незнакомец.— Вы станете удить, когда вам захочется,— и только тогда. Это даже увеличит прелесть игры. Впрочем, я знаю, вы достаточно искусны, чтобы двумя или тремя счастливыми забросами принести мне выгоду, и я все же рассматриваю эту сделку как превосходную. Я настаиваю на своем предложении: пятьсот флоринов за рыбу и столько же за проезд.
— А я настаиваю на своем отказе.
— Ну, тогда я вновь повторяю свой вопрос: почему?
В таком упорстве было что-то неуместное. Илиа Бруш, по природе очень спокойный, начал терять терпение.
— Почему? — более живо ответил он.— Я, кажется, вам уже сказал. И я добавлю, раз вы требуете, что я не хочу никого на борту. Я думаю, никому не запрещено любить одиночество.
— Конечно,— согласился собеседник, не показывая ни малейших признаков того, что намерен оставить скамейку, к которой точно прирос.— Но со мной вы и будете один. За весь день я не тронусь с места и даже не скажу ни слова, если вы поставите мне такие условия.
— А ночью? — возразил Илиа Бруш, его стал разбирать гнев.— Уж не думаете ли вы, что двоим будет удобно в моей рубке?
— Она достаточна для двоих,— сказал незнакомец.— Впрочем, тысяча флоринов может несколько вознаградить за тесноту.
— Я не интересуюсь, может ли она или нет,— отпарировал Илиа Бруш, все более и более раздражаясь.— А вот вашему предложению — нет, сто раз нет, тысячу раз нет. Это ясно, по-моему.
— Очень ясно,— согласился незнакомец.
— Итак? — спросил Илиа Бруш, указывая рукой на набережную.
Но собеседник, казалось, не понял столь внятного жеста. Он вытащил из кармана трубку и начал старательно раскуривать. Такой апломб взбесил Илиа Бруша.
— Вы хотите, чтобы я вас высадил на землю? — вне себя вскричал он.
Незнакомец кончил возиться с трубкой, пыхнул дымом.
— Вы совершаете ошибку,— молвил он, и в голосе его не было ни малейшей боязни.— И вот вам три довода. Первый: удалить меня с борта вы можете только силой, я стану сопротивляться, драка не замедлит вызвать вмешательство полиции. Нас обоих доставят к полицейскому комиссару, чтобы мы объявили наши имена и фамилии и отвечали на нескончаемые вопросы. Это совсем не забавно, признаюсь, и, кроме того, такое приключение совсем не ускорит ваше путешествие, как вы того хотите.
Рассчитывал ли упрямый любитель рыбной ловли на успех этого аргумента? Если был такой расчет, он оправдался. Внезапно укрощенный, Илиа Бруш, казалось, решил выслушать речь до конца. Впрочем, словоохотливый оратор, очень занятый постоянным разжиганием трубки, не заметил эффекта своих слов. Он собирался продолжить доказательства, но в этот самый момент на баржу спрыгнул второй посетитель, чьего приближения Илиа Бруш, поглощенный спором, не заметил. Вновь пришедший носил форму немецкого жандарма.
— Господин Илиа Бруш? — спросил представитель власти.
— Это я,— ответил спрошенный.
— Ваши документы, пожалуйста.
Вопрос упал словно камень в середину спокойного болота. Илиа Бруш был, видимо, сражен.
— Мои документы? — забормотал он.— Но у меня нет документов, если не считать конвертов от адресованных мне писем и квитанций в уплату за квартиру, где я жил в Сальке. Этого достаточно?
— Это не документы,— строго возразил жандарм.— Свидетельство о рождении, проездной служебный билет, рабочая книжка, паспорт — вот документы! Есть у вас что-нибудь в этом роде?
— Абсолютно ничего,— в отчаянии признался Илиа Бруш.
— Это печально для вас,— пробормотал жандарм, который, казалось, был искренне раздосадован необходимостью прибегнуть к суровым мерам.— И для меня,— прибавил он.
— Только для меня! — протестовал рыболов.— Но прошу поверить, что я честный человек.
— Я в этом убежден,— заявил жандарм.
— Меня, наконец, хорошо знают,— не очень уверенно бормотал Илиа Бруш.— Ведь я лауреат последнего рыболовного конкурса «Дунайской лиги» в Зигмарингене, о котором говорила вся печать, и даже здесь я, конечно, найду поручителей.
— Будьте спокойны, они найдутся,— заверил жандарм.— А пока я вынужден попросить вас последовать к комиссару, он желает удостовериться в вашей личности.
— К комиссару! — вскричал Илиа Бруш.— Но в чем меня обвиняют?
— Совершенно ни в чем,— объяснил жандарм.— Но только я имею приказ. Мне предписано наблюдать за рекой и приводить к комиссару всех, у кого бумаги окажутся не в порядке. Вы на реке? Да. Имеете бумаги? Нет. Ну что ж, я вас увожу. Остальное меня не касается.
— Но это оскорбление! — в отчаянии протестовал Илиа Бруш.
— Пусть так,— флегматично согласился жандарм.— Но приказ есть приказ.
Кандидат в пассажиры, убедительную речь которого внезапно прервали, прислушивался к разговору с таким вниманием, что у него даже погасла трубка. Наконец он решил, что пришел момент вмешаться.
— А если я поручусь за господина Илиа Бруша,— сказал он,— этого будет достаточно?
— Ну, еще посмотрим,— произнес жандарм.— Вы сами — кто такой?
— Вот паспорт,— ответил любитель рыбной ловли, протягивая развернутый лист.
Жандарм пробежал документ глазами, и его поведение сразу изменилось.
— Это совсем другое дело,— сказал он.
Он бережно свернул паспорт и возвратил владельцу. После этого выпрыгнул на берег и сказал, отвесив почтительный поклон незнакомцу:
— До свиданья, господа!
Илиа Бруш, удивленный как внезапностью этого неожиданного инцидента, так и его завершением, следил за отступавшим неприятелем.
А в это время его спаситель, начав нить своего рассуждения с пункта, где оно было прервано, продолжал неумолимо:
— Второй мотив, господин Бруш,— это тот, что по причинам, вам, может быть, неизвестным, за рекой тщательно следят, как вы в этом только что убедились. Надзор станет еще более строгим по мере того, как вы будете спускаться вниз, и даже усилится, если только это возможно, когда вы будете пересекать Сербию и болгарские провинции Оттоманской империи[14], страны, охваченной смутой и даже официально находящейся в состоянии войны с первого июля. Думаю, что немало инцидентов случится на вашем пути и что вы не будете досадовать, если к вам, в случае надобности, придет помощь честного горожанина, который, к счастью, обладает некоторым влиянием в здешних краях.
Искусный оратор мог надеяться, что этот второй аргумент, весомость коего была очевидна, окажется очень убедительным. Но он, без сомнения, не рассчитывал на такой безусловно полный успех. Илиа Бруш, совершенно убежденный, только и искал случая уступить. Затруднение состояло лишь в том, чтобы найти удобный предлог для отступления.
— Третья, и последняя, причина,— продолжал между тем кандидат в пассажиры,— это та, что я обращаюсь к вам от имени вашего президента, господина Миклеско. Так как вы поставили свое предприятие под покровительство «Дунайской лиги», то она по меньшей мере должна иметь контроль за его выполнением, чтобы иметь возможность засвидетельствовать, в случае нужды, полное соблюдение его условий. Когда господин Миклеско узнал о моем намерении составить вам компанию в путешествии, он дал мне почти официальный мандат в этом смысле. Я сожалею о том, что, не предвидя вашего непонятного сопротивления, отказался от рекомендательного письма, каковое он мне предлагал для вас.
Илиа Бруш испустил вздох облегчения. Мог ли найтись лучший предлог, чтобы согласиться на то, от чего он так яростно отказывался?
— Нужно было сказать об этом! — вскричал он.— Это совсем другое дело, и я виноват в том, что так долго отклонял ваши предложения.
— Итак, вы их принимаете?
— Да, и с благодарностью.
— Очень хорошо! — сказал любитель ужения, добившийся исполнения своих желаний, и вытащил из кармана несколько банковских билетов.— Вот тысяча флоринов.
— Нужна расписка? — спросил Илиа Бруш.
— Если это вас не затруднит.
Рыболов вытащил из ящика чернила, перо и записную книжку, вырвал из нее листок и при последних лучах солнца начал составлять расписку, в то же время ее оглашая.
— Получил в уплату за рыбу, которую я поймаю на удочку в течение моего настоящего путешествия, и в уплату за проезд от Ульма до Черного моря, сумму в тысячу флоринов от господина… От господина?…— повторил он вопросительным тоном, подняв перо.
Пассажир Илиа Бруша снова раскуривал трубку.
— Иегера, Вена, Лейпцигерштрассе, номер сорок три,— ответил он в промежутке между двумя затяжками табаку.
Глава IV СЕРГЕЙ ЛАДКО
Из различных частей земного шара, которые с начала исторического периода особенно подвергались военным испытаниям,— если бы только какая-нибудь страна могла похвалиться тем, что она извлекла из этого хоть маленькую пользу! — нужно упомянуть в первую очередь юг и юго-восток Европы. Вследствие географического положения расположенные здесь страны вместе с частью Азии, заключенной между Черным морем и Индом, являлись ареной, где роковым образом сталкивались в соперничестве народы, населяющие старый материк.
Финикийцы, греки, римляне, персы, гунны, готы, славяне, мадьяры, турки и многие другие спорили за право владеть этими пространствами. Там проходили племена, чтобы потом осесть в Центральной или Западной Европе, где после медленного развития они породили современные национальности.
Различные народы, в течение веков наслаиваясь один на другой между Средиземным морем и Карпатами, кончили тем, что осели со всем своим добром, и в странах Восточной Европы стал утверждаться относительный мир между так называемыми цивилизованными нациями. Местные смуты, грабежи, убийства, кажется, с этих пор ограничились частью Балканского полуострова, еще управляемой турками.
Пробившись в Европу в 1356 году из Малой Азии, турки столкнулись с прежними завоевателями, которые, придя прежде них из Центральной Азии и давно уже приняв христианство, начали сливаться с туземными народами и превращаться в устойчивые нации. В постоянно возобновлявшейся вечной борьбе за существование эти новорожденные нации защищались с ожесточением, которому учились друг у друга. Славяне, мадьяры, греки, тевтоны противопоставили турецкому нашествию живой барьер, который местами прогибался, но нигде не был полностью опрокинут.
Задержанные по сю сторону Карпат и Дуная, турки оказались даже неспособными удержаться в этих границах, и так называемый «восточный вопрос» есть история их векового отступления.
В отличие от тех давних завоевателей, которые им предшествовали и кого они хотели заменить, этим азиатским мусульманам никогда не удавалось ассимилировать народы, подпавшие под их власть. Водворившись военным путем, они и оставались победителями, распоряжаясь покоренными как господа рабами. Такой метод управления — вдобавок при различии религий — мог иметь последствием только постоянные восстания угнетенных.
В самом деле, история полна такими народными возмущениями, которые после столетий борьбы завершились в 30-70-х годах XIX века установлением более или менее полной независимости Греции, Черногории, Румынии и Сербии. Что же касается других христианских народов Европы, они продолжали терпеть владычество последователей Магомета.
Это господство в первые месяцы 1875 года стало еще более тяжелым, нежели обычно. Под влиянием мусульманской реакции, которая тогда торжествовала при дворе турецкого султана, христиане Оттоманской империи были придавлены налогами, их убивали, подвергали мучениям. Ответ не заставил себя ждать! В начале лета поднялась Герцеговина.
Отряды патриотов вышли на бой и под предводительством храбрых командиров отвечали ударом на удар посланных против них регулярных войск.
Скоро пожар распространился, захватив Черногорию, Боснию, Сербию. Новое поражение, которое турецкие войска потерпели в январе 1876 года, воспламенило мужество патриотов, и народный гнев начал подниматься в Болгарии. Как всегда, он начался скрытыми заговорами, тайными объединениями, где собиралась пылкая молодежь страны.
В этих тайных сообществах быстро выделялись руководители и утверждали свой авторитет над более или менее многочисленными товарищами, одни — красноречием, другие — силой ума или горячностью патриотизма.
Группы создавались в короткое время, и в каждом городе все они объединялись в одну.
В Рущуке[15], значительном болгарском центре, расположенном на берегу Дуная почти напротив румынской Журжи, наибольший авторитет среди заговорщиков завоевал лоцман[16] Сергей Ладко. Вряд ли они могли сделать лучший выбор на место своего командира.
Достигший примерно тридцати лет, высокого роста, белокурый, как истинный северный славянин, геркулесовой силы, необыкновенной ловкости, привычный ко всяким телесным упражнениям, Сергей Ладко обладал всеми физическими качествами, которые так нужны военному предводителю. Но, что было, пожалуй, еще важнее, он отличался и высокими свойствами духа: энергией, благоразумием, страстной любовью к своей стране.
Сергей Ладко родился в Рущуке, где изучил профессию дунайского лоцмана, и покидал город только для того, чтобы проводить в Вену или еще выше или ниже — к волнам Черного моря — баржи и шаланды, владельцы и капитаны доверялись его превосходному знанию великой реки. В промежутках между этими полуречными, полуморскими плаваниями Ладко посвящал свой досуг ужению и достиг удивительной ловкости в этом искусстве, а доходы, присоединенные к лоцманскому заработку, обеспечивали ему полный достаток.
Работа лоцмана и страсть к рыболовству вынуждали Ладко проводить четыре пятых жизни на реке, и он воспринимал воду как родную стихию. Переплыть Дунай, возле Рущука весьма широкий, наподобие морского пролива, он считал простой игрой, и не счесть было спасенных им.
Еще до антитурецких волнений такое достойное и честное существование сделало Сергея Ладко популярным в городе. Бесчисленны были его друзья и поклонники, иных он даже и не знал. Можно было бы сказать, что эти друзья составляли все городское население, если бы не существовал Иван Стрига.
Он был уроженцем Болгарии, этот Иван Стрига, как и Сергей Ладко; между ними, однако, не было ничего общего.
Наружность их была совершенно различна, хотя в паспорте, который содержит лишь общие приметы, пришлось бы употребить одинаковые термины, чтобы описать и того и другого.
Так же как и Ладко, Стрига был высок, широк в плечах, силен, имел белокурые волосы и бороду. У него также были голубые глаза. Но этими общими признаками и ограничивалось сходство. Насколько лицо одного с благородными чертами выражало откровенность и сердечность, настолько грубые черты другого свидетельствовали о лукавстве и холодной жестокости.
В нравственном отношении различие еще более увеличивалось. Ладко жил открыто, а что касается Стриги, никто не мог сказать, как добывает он то золото, какое он тратил не считая. Поскольку об этом ничего не было известно, людское воображение давало себе полную волю. Толковали, что Стрига — предатель своей страны и народа, служит наемным шпионом у турецких угнетателей; говорили, что к занятию шпионажем он добавляет контрабанду, когда представляется случай, и что всевозможные товары переправляются благодаря ему с румынского берега на болгарский и обратно без уплаты таможенных сборов; утверждали даже, покачивая головой, что всего этого еще мало и что Стрига добывает средства грабежом и разбоем; говорили еще… Но чего не скажут? По правде, никто ведь ничего не знал о делах этой подозрительной личности, и, если обидные предположения публики отвечали действительности, Стрига, во всяком случае, был очень увертлив и никогда не попадался.
Впрочем, об этих предположениях сообщали друг другу по секрету. Никто не рискнул бы громко поднять голос против человека, чьи жестокость и цинизм всех устрашали. Стрига мог притворяться, что не знает мнения, какое о нем создалось, и приписывать всеобщему восхищению дружеское расположение, которое многие выказывали ему из трусости; он проходил по городу как завоеватель и возмущал его обитателей скандалами и оргиями в компании самых развращенных городских кутил и наглецов.
Между таким субъектом и Ладко, который вел совсем иной образ жизни, не могло быть никаких отношений, и в самом деле, они знали друг друга только как бы понаслышке. Логически рассуждая, так должно было и остаться. Но судьба смеется над тем, что мы зовем логикой, и, видно, где-то было предписано, чтобы эти два человека встретились лицом к лицу и стали непримиримыми противниками.
Натче Грегоревич, известной всему городу своей красотой, исполнилось двадцать лет. Сначала с матерью, потом одна, она жила по соседству с Ладко, он знал ее с детства. В течение долгого времени в доме госпожи Грегоревич не хватало мужской руки. За пятнадцать лет до начала нашего рассказа ее муж пал под ударами турок, и воспоминание об этом отвратительном убийстве еще приводило в яростьугнетенных, но не порабощенных патриотов. Вдова вынуждена была в жизни рассчитывать только на себя. Опытная в искусстве вязания кружев и изготовления вышивок,— ими у славян самая бедная крестьянка охотно украшает скромный наряд,— она сумела обеспечить свое и дочери существование.
Для бедняков особенно мрачны периоды смуты, и не раз уже кружевница страдала бы от постоянной анархии в Болгарии, если бы Ладко тайно не приходил ей на помощь. Мало-помалу большая дружба установилась между молодым человеком и двумя женщинами, у них Ладко не раз проводил время досуга. Часто он стучался вечером в их дверь, и часы мирно протекали у кипящего самовара. Иногда Сергей предлагал им в благодарность за сердечный прием прогулку или рыбную ловлю на Дунае.
Когда госпожа Грегоревич умерла, истощенная беспрестанной работой, Ладко продолжал покровительствовать сироте.
День ото дня любовь укреплялась в сердцах молодых людей. Они поняли это благодаря Стриге.
Заметив ту, кого обычно называли «красавицей Рущука», Стрига увлекся ею внезапно и яростно. Как человек, привыкший, чтобы все склонялись перед его желаниями, он явился к девушке и без всяких лишних формальностей предложил ей руку. Впервые в жизни он столкнулся с непобедимым сопротивлением. Натча с риском навлечь на себя ненависть такого жестокого и необузданного человека объявила: ничто не заставит ее решиться на подобное замужество. Стрига напрасно возобновлял попытки. Он только добился, что его перестали пускать на порог.
Тогда злоба Стриги перешла границы. Дав волю своей дикой натуре, он разразился такими проклятиями, что Натча испугалась. В тревоге поделилась опасениями с Сергеем Ладко, и доверие девушки зажгло его бешенством, таким же сильным, как испугавший ее гнев Стриги. Не желая ничего слушать, Ладко в необычайно резких выражениях бранил человека, осмелившегося поднять взор на Натчу.
Однако Ладко заставил себя успокоиться. Последовало весьма сумбурное объяснение, но результат его был заведомо ясен… Часом позднее Сергей и Натча радостно обменялись первыми поцелуями жениха и невесты.
Когда Стрига узнал новость, он смело ворвался в дом Грегоревичей с оскорблениями и угрозами. Выброшенный железной рукой, он зарубил себе на носу: отныне здесь живет мужчина, притом настоящий мужчина!
Быть побежденным!… Другой взял верх над ним, Стригой, так гордившимся своей атлетической силой!… Этого унижения он не мог вынести и решил отомстить. С несколькими подобными себе авантюристами он поджидал Ладко вечером, когда тот поднимался с берега реки. На этот раз дело шло не о простой драке, а об убийстве. Нападающие размахивали ножами.
Однако, действуя веслом как дубиной, лоцман отразил нападение противника, и Стрига с приятелями постыдно бежал.
Через год после свадьбы Сергея и Натчи в Болгарии началось знаменитое Апрельское восстание[17]. Как ни была глубока любовь Сергея Ладко к жене, она не заставила его забыть долг перед родиной. Без колебаний Ладко присоединился к тем, кто начал собираться в отряды, изыскивать средства прекратить несчастья родной страны.
Прежде всего следовало достать оружие. Многочисленные молодые люди эмигрировали с этой целью, перебрались через реку, поселились в Румынии и даже в России. Среди них находился Сергей Ладко. Твердый в исполнении долга, он отправился, оставив дома любимую жену, хотя и знал, какие опасности угрожают ей, подруге партизанского вожака.
Мысли о Стриге еще более увеличивали его опасения. Не воспользуется ли бандит отсутствием счастливого соперника, чтобы отомстить? Но Сергей Ладко заставил себя преодолеть страх. Впрочем, по слухам, Иван Стрига сравнительно недавно покинул страну без намерения возвратиться. Говорили, что он перебрался куда-то на север. Россказней ходило много, но они оставались несвязными и противоречивыми. Общественное мнение обвиняло Ивана во множестве преступлений, но в точности никто не знал ни об одном. Однако отъезд Стриги казался достоверным фактом, и это успокаивало Ладко.
События оправдали его уверенность. Во время его отсутствия ничто не угрожало безопасности Натчи.
Вскоре после его возвращения оказалось необходимым отправиться снова. Вторая экспедиция обещала быть продолжительнее первой. До этого повстанцам удавалось добывать только незначительное количество оружия. Транспорты из России перевозились по суше через Венгрию и Румынию, с их плохо развитой системой железных дорог. Болгарские патриоты надеялись легче достигнуть желаемого результата, если один из них отправится в Будапешт — собирать посылки с оружием, приходящие по железной дороге, и перегружать их на шаланды, которые будут быстро спускаться по Дунаю.
Это важное поручение доверили Ладко. Он отправился в путь не медля. Вместе с одним соотечественником, который должен был вернуть лодку на болгарский берег, он пересек реку, чтобы добраться до столицы Венгрии наиболее кратким путем, через Румынию. И тут произошел случай, который заставил Сергея очень призадуматься.
Он с компаньоном находились не дальше пятидесяти метров от берега, когда раздался выстрел. Пуля, очевидно, предназначалась им, лоцман в этом почти не сомневался: просвистело совсем близко; а в стрелке, неясно видном в сумерках, Ладко вроде бы узнал Стригу. Значит, тот вернулся в Рущук?
Смертельная тоска, которую Ладко испытал в эти минуты, не поколебала его решимости. Прежде всего родине он должен пожертвовать свою жизнь. Он знал также, что, если нужно, он пожертвует для нее собственным счастьем.
Он быстрее погнал лодку к румынскому берегу. Ладко деятельно занялся выполнением поручения.
Он вышел на связь с посланцами русского царя, одни из них оставались на русской границе, а другие пробрались инкогнито в Будапешт или Вену. Вскоре несколько шаланд, благодаря общим заботам нагруженных оружием, спустились по течению Дуная.
Сергей часто получал от Натчи письма, посылаемые на его вымышленное имя и передаваемые на румынскую территорию под покровом ночи. Вести, сначала добрые, постепенно стали очень беспокойными. Натча, правда, не называла имени Стриги. Казалось, она даже не знала, что бандит возвратился в Болгарию, и Ладко начал сомневаться, обоснованны ли его страхи. Но вскоре сделалось очевидным, что Стрига донес на соперника турецким властям: полиция ворвалась в его жилище и произвела обыск, впрочем, безрезультатный. Значит, Сергей не должен был спешить с возвращением в Болгарию: это оказалось бы подлинным самоубийством. Его роль знали, его выслеживали день и ночь, и стоило показаться в городе, как немедленно арестовали бы. Арест у турок означал казнь, и Ладко вынужден был отказаться от возвращения на родину до того времени, когда широко разгорится восстание и не будет опасений навлечь самые худшие несчастья на себя и на жену, которую пока не беспокоили.
Этот момент не замедлил наступить. Болгария поднялась в мае. По мнению лоцмана — слишком преждевременно.
Но как бы ни рассуждал Сергей, он должен был спешить на помощь своей стране. Поезд доставил его в Сомбор, последний венгерский город на железной дороге, наиболее близкий к Дунаю. Там он сядет на судно, и ему только останется отдаться на волю течения.
Известия, полученные в Сомборе, заставили его прервать путешествие: опасения оказались верны, даже чересчур: болгарская революция была раздавлена в зародыше. Турки уже сосредоточили многочисленные войска в обширном треугольнике, вершинами которого были Рущук, Видин и София, и их железная рука тяжко легла на несчастную Болгарию.
Ладко вынужден был вернуться назад и ждать лучших дней в маленьком городке, где он устроился на жительство.
Письма Натчи, полученные вскоре, подтвердили невозможность иного решения. За его домом следили усердней, чем когда-либо, и Натча оказалась настоящей пленницей.
Ладко изнывал от нетерпения в своем бездействии; пересылка оружия сделалась невозможной после неудачи восстания и сосредоточения турецких отрядов на берегу реки. Но это ожидание, тягостное само по себе, сделалось для него совершенно невыносимым, когда в конце июня он перестал получать известия от своей Натчи.
Он не знал, что и подумать, и беспокойство сменилось мучительной тоской по мере того, как двигалось время. Действительно, он вправе был опасаться всего. Первого июля Сербия официально объявила войну султану, и с тех пор дунайскую область наводнили войска, постоянные передвижения которых сопровождались самыми ужасными насилиями. Оказалась ли Натча в числе жертв этой смуты, или, быть может, турецкие власти заключили ее в тюрьму как заложницу или как предполагаемую сообщницу своего мужа?
После месяца томительного молчания он не мог больше терпеть и решил пренебречь всеми опасностями и проникнуть в Болгарию.
Но в интересах и общего дела, и Натчи ему следовало действовать благоразумно. Бессмысленно рисковать попасть в руки турецких часовых, если его возвращение не принесет пользы, если он не сумеет проникнуть в Рущук и относительно свободно обитать там, невзирая на то, что его подозревают. Нужно действовать умно, смотря по обстоятельствам. В худшем случае, если придется быстро возвратиться за границу, он, по крайней мере, хоть накоротке повидает жену.
Несколько дней Сергей Ладко искал решения трудной задачи. Наконец показалось, что он его нашел, и, не доверяясь никому, немедленно принялся за выполнение задуманного им плана.
Удастся ли этот план? Это покажет будущее. Следовало, во всяком случае, попытать судьбу, и вот почему утром 28 июля 1876 года ближайшие соседи лоцмана, из которых никто не знал его настоящего имени, увидели наглухо закрытым маленький домик, где он одиноко проживал в последние месяцы.
Каков был план Ладко, каким опасностям он шел навстречу, пытаясь его осуществить, каким образом события в Болгарии, и в частности в Рущуке, оказались связанными с соревнованием удильщиков в Зигмарингене, читатель узнает при дальнейшем чтении этого ничуть не вымышленного рассказа.
Глава V КАРЛ ДРАГОШ
Господин Иегер положил расписку в карман и начал устраиваться. Получив разрешение расположиться на сундуке-кушетке, он с чемоданом протиснулся в каюту. Десять минут спустя он вышел, преобразившись с головы до ног. Одетый как настоящий рыбак — грубая куртка, высокие сапоги, шапка из меха выдры,— он казался копией Илиа Бруша.
Господин Иегер немного удивился, обнаружив, что за время его краткого отсутствия хозяин покинул баржу. Верный взятому на себя обязательству, гость не позволил себе ни одного вопроса, когда владелец судна вернулся через полчаса. Но и без хлопот со своей стороны он узнал, что Илиа Бруш счел долгом послать несколько писем в газеты, чтобы объявить о своем прибытии в Ратисбон на следующий день и в Нейштадт послезавтра вечером. Теперь, когда в игру вмешались интересы господина Иегера, столь выгодные рыболову-лауреату, не следовало пренебрегать публичными встречами. Илиа Бруш даже выразил сожаление, что не сможет остановиться в городах, которые минует до Нейштадта, а именно в Нейбурге и Ингольштадте, довольно значительных пунктах. Эти остановки не входили в его план, и он принужден отказаться.
Господин Иегер казался восхищенным заботой о его выгоде и не досадовал вслух на то, что им не придется остановиться в Нейбурге и Ингольштадте. Напротив, он одобрил своего хозяина и еще раз заявил, что ничуть не желает стеснять его свободу, как они условились.
Два компаньона поужинали, сидя лицом к лицу на скамейках. Господин Иегер достал все из того же неистощимого чемодана великолепный окорок, и это произведение города Майнца было по достоинству оценено Илиа Брушем, он начал признавать, что гость — добрый малый.
Ночь прошла без приключений. Перед восходом солнца Илиа Бруш поднял якорь, не смущая глубокого сна своего приятного пассажира.
Скорость течения, уже очень замедлившегося, едва достигала одного лье в час. Баржи всевозможных размеров, иногда тяжелые, нагруженные до предела, спускались по течению, помогая себе широкими парусами. Погода обещала быть прекрасной, без дождя.
Оказавшись посреди потока, Илиа Бруш принялся действовать веслом, ускоряя ход суденышка. Несколько часов спустя господин Иегер, проснувшись, нашел его за этим занятием, чему рыболов предавался до вечера, кроме короткого перерыва для завтрака. Пассажир не сделал никакого замечания и если удивлялся такой поспешности, то делал это про себя.
Мало слов было сказано в течение дня. Илиа Бруш энергично греб. А господин Иегер наблюдал за судами, бороздившими Дунай, с таким вниманием, которое, конечно, удивило бы его хозяина, если бы тот был менее поглощен своим занятием; иногда же Иегер пробегал взглядом по обоим берегам Дуная. Они здесь значительно понизились. Река расширилась за счет окрестностей. Левый берег, наполовину затопленный, уже нельзя было ясно различить, по правому же берегу, искусственно поднятому для прокладки железной дороги, бежали поезда, пыхтели паровозы, смешивая свой дым с копотью пароходов, чьи колеса били по воде с изрядным шумом.
На следующий день, после такого же трудного перехода, как и предыдущий, якорь бросили в пустынной местности, в нескольких километрах выше Нейбурга, и снова, когда наступил рассвет, баржа уже находилась посреди потока.
На вечер этого дня Илиа Бруш назначил прибытие в Нейштадт. Было бы стыдно явиться туда с пустыми руками. Погода благоприятствовала, переход оказался значительно короче, чем предшествующие, и Илиа Бруш решил заняться рыбной ловлей.
Утром он тщательно проверил снасти. Компаньон, сидя на корме, с интересом следил за приготовлениями, как и полагается истинному любителю.
Работая, Илиа Бруш не пренебрегал разговором.
— Сегодня, как видите, господин Иегер, я рассчитываю удить, и приготовления к ловле немного затянулись. Рыбы недоверчивы по натуре, и не могут быть лишними никакие предосторожности, чтобы их привлечь. Некоторые из них крайне хитры, и среди них линь. С ним надо сражаться хитростью же, и губы у него такие жесткие, что он может оборвать лесу.
— Не слишком замечательная рыба линь, как мне кажется,— заметил господин Иегер.
— Согласен, ибо он предпочитает болотистую воду, что придает его мясу неприятный привкус.
— А щука?
— Щука превосходна,— объявил Илиа Бруш,— но при условии, что она весит не менее пяти-шести фунтов[18], а в маленьких одни кости. Притом щуку нельзя поместить в разряд хитрых, умных рыб.
— В самом деле, господин Бруш? Итак, акулы пресной воды, как их называют…
— Так же глупы, как акулы соленой воды, господин Иегер. Настоящие скоты, на том же уровне, как акулы и угри! Их ловля может доставить выгоду, но славу — никогда… Как заметил один тонкий знаток, это рыбы, «которые ловятся», а не те, «которых ловят».
Господину Иегеру осталось только удивляться такому убедительному рассуждению Илиа Бруша, а равно тщательному вниманию, с каким он готовил снасти.
— Ну! Все готово, и остается только попытать счастья,— объявил наконец лауреат.
В то время как господин Иегер прислонился к кровле каюты, рыболов сел на скамейку с подсачком под рукой, потом забросил удочку.
Понятно, что глубокое молчание воцарилось в лодке с этого момента. Шум голосов, известно, отпугивает рыбу, да у серьезного рыболова есть и другое занятие помимо болтовни: он должен внимательно следить за всеми движениями поплавка и не упустить момент, когда следует подсекать добычу.
В это утро Илиа Бруш мог быть довольным. Он не только вытянул два десятка плотвы, но и дюжину карпов и несколько подлещиков. Если господин Иегер в действительности был страстным любителем, каким он старался себя показать, ему оставалось лишь восхищаться быстротой и точностью, с какой его хозяин подсекал так, как это требовалось для данного вида рыбы. Едва только он замечал, что рыба взяла, он остерегался тотчас выводить добычу на поверхность воды, он давал ей походить в глубине и устать от напрасных усилий освободиться: Бруш показывал непоколебимое хладнокровие — необходимое качество рыболова, достойного этого звания.
Ужение закончилось около одиннадцати часов дня. В хорошее время года рыба перестает клевать, когда солнце, поднимаясь до высшей точки, заставляет блестеть поверхность воды. Добыча, впрочем, казалась достаточно обильна. Илиа Бруш даже опасался, что ее слишком много, из-за незначительности городка Нейштадта, где баржа остановилась в пять часов пополудни.
Он ошибся. Человек двадцать пять или тридцать сторожили его появление и приветствовали аплодисментами. Не пришлось много хлопотать, в несколько минут рыба оказалась продана за двадцать семь флоринов, Илиа Бруш немедленно вручил их в качестве первого дивиденда господину Иегеру.
Этот последний, сознавая, что не имеет никаких прав на публичное восхищение, скромно укрывался в каюте, где к нему присоединился Илиа Бруш, отделавшись от своих восторженных почитателей. Нужно было не терять времени для сна, так как ночь предстояла очень короткая. Желая добраться пораньше до Ратисбона[19], куда считалось около семидесяти километров, Илиа Бруш решил отправиться в час ночи, что давало ему возможность поудить днем, несмотря на продолжительность перегона.
Тридцать фунтов рыбы поймал Илиа Бруш до полудня, так что зеваки, толпившиеся на набережной Ратисбона, ждали не напрасно. Энтузиазм публики, видимо, увеличивался. Любителями был устроен на свежем воздухе аукцион, и дневная распродажа принесла лауреату «Дунайской лиги» сорок один флорин.
Он и не мечтал о подобном успехе, и ему пришла в голову мысль, что господин Иегер, пожалуй, заключил превосходную для себя сделку. В ожидании, пока это дело выяснится, он готов был вручить сегодняшний заработок законному владельцу, но Илиа Брушу оказалось невозможным выполнить свой долг. Господин Иегер скромно оставил баржу, предупредив компаньона, что его не надо ждать ужинать и что вернется поздно вечером.
Илиа Бруш нашел вполне естественным, что господин Иегер хочет посетить город, который был в продолжение почти полустолетия местопребыванием немецкого райхстага[20]. Может быть, он испытал бы меньше удовлетворения и больше удивления, если бы мог видеть, каким занятиям предавался там пассажир, и если бы он узнал его подлинное имя.
«Господин Иегер, Вена, Лейпцигерштрассе, номер 43» — послушно написал Илиа Бруш под диктовку незнакомца при первой их встрече. Однако вновь обретенный спутник очутился бы в большом затруднении, если бы рыболов оказался более любопытным и, предприняв со своей стороны расследование, неприятности какового только что испытал на себе, он, по примеру нескромного жандарма, попросил господина Иегера предъявить документы.
Илиа Бруш пренебрег предосторожностью, законность которой ему, однако, продемонстрировали, и это пренебрежение должно было повлечь для него более чем серьезные последствия.
Какое имя немецкий жандарм увидел в паспорте, поданном ему господином Иегером, никто, кроме них двоих, не знал; но, если это было действительно имя владельца настоящего документа, страж порядка прочитал имя Карла Драгоша.
Страстный любитель рыбной ловли и начальник дунайской полиции были в действительности одним и тем же человеком. Решившись попасть во что бы то ни стало в лодку Илиа Бруша и предвидя возможность непобедимого сопротивления, Карл Драгош заранее принял меры. Вмешательство жандарма было подготовлено, сцену разыграли, как в театре.
Успех был такой полный, что Драгош даже смутился. Почему, прежде всего, Илиа Бруш так сильно взволновался после приказа жандарма? Почему он так боялся быть доставленным в полицию, боялся так, что даже пожертвовал любовью к одиночеству, причем самая сила этой любви представлялась чрезмерной? Честный человек, черт возьми, не трусит до такой степени перед полицейским комиссаром: ведь самое худшее, что могло из этого выйти — задержка на несколько часов, а когда не спешишь… Правда, Илиа Бруш спешил, над чем тоже стоило пораздумать.
Недоверчивый, как всякий хороший полицейский, Карл Драгош размышлял. Он был достаточно наделен здравым смыслом, чтобы придавать значение случайным обстоятельствам. Он просто регистрировал эти мелкие замечания в памяти и прилагал все силы ума к разрешению более серьезной задачи, которую возложил на себя.
План, который Карл Драгош приводил в исполнение, напросившись к Илиа Брушу в качестве пассажира, не зародился целиком только в его мозгу. Подлинным творцом был Михаил Михайлович, который, впрочем, об этом совсем не подозревал. Когда этот веселый серб от нечего делать намекал в «Свидании рыболовов», что лауреат «Дунайской лиги» может оказаться либо преследуемым преступником, либо преследующим полицейским, Карл Драгош обратил серьезное внимание на это предположение, брошенное скорее шутки ради. Серб прекрасно знал, что между удачливым рыболовом и сыщиком Карлом Драгошем нет ничего общего. Посмеявшись, он сообразил, что вероятность какой-либо связи между рыболовом и разыскиваемым разбойником также бесконечно мала. Но Карл Драгош прикинул иначе. Если ничего не случилось, то из этого не следует, что ничего не может случиться. Драгош тотчас подумал, что благодушный серб, возможно, прав и что сыщик, желающий наблюдать Дунай на полной свободе, оказался бы очень удачлив, появившись под маской рыболова настолько известного, чтобы никто не мог заподозрить обман.
Но как ни соблазнительна была такая комбинация, от нее пришлось отказаться. Конкурс в Зигмарингене прошел, Илиа Бруш, победитель турнира, объявил публично о своем проекте, и, конечно, он не согласится по доброй воле на подмену его персоны, подмену тем более сомнительную, что внешность лауреата отныне стала известна большому количеству его коллег.
И все же, размышлял Драгош, если приходилось отказаться от мысли, что Илиа Бруш позволит другому выполнить под своим именем задуманное им путешествие, быть может, существовало иное средство достигнуть той же цели. Раз невозможно стать Илиа Брушем, не может ли Карл Драгош удовольствоваться проездом у него на борту? Кто обратит внимание на компаньона человека, который почти прославился и поэтому употребляет себе на пользу всеобщее внимание и восхищение? И даже если кто-нибудь нечаянно бросит взгляд на незаметного компаньона, придет ли ему в голову подумать о связи между этой неопределенной личностью и полицейским, который, таким образом, будет выполнять свою миссию в спасительной тени?
Подробно обдумав проект, Карл Драгош нашел его превосходным и решил осуществить. Он с большим искусством и успехом разыграл начальную сцену, но ведь за этой сценой, если первая не удалась бы, могли последовать другие эксцессы. Если бы потребовалось, Илиа Бруша потащили бы к комиссару, даже посадили бы в тюрьму под удобным предлогом, запугали бы десятком способов. И можно быть уверенным, что Карл Драгош разыграл бы роль благожелательного посредника и устрашенный рыболов увидел бы спасителя в пассажире, которого он чуть не оттолкнул.
Сыщик был доволен, что восторжествовал без такого жестокого нравственного насилия, и не продолжил комедию дальше первого акта.
Теперь он занял место, и настолько прочно, что, если бы сделал вид, что хочет покинуть хозяина, тот воспротивился бы его уходу с такой же энергией, с какой сопротивлялся водворению. Оставалось извлекать пользу из своего положения.
Для этого Карлу Драгошу пришлось только отдаться на волю течения событий. Пока его компаньон удил или греб, сыщик наблюдал за рекой, где ничто более или менее важное не ускользало от его опытного взора. Во время пути он виделся со своими людьми, рассеянными вдоль реки. Если поступит известие о преступлении, он покинет Илиа Бруша, чтобы броситься по следам злодеев; а когда при отсутствии разбоя или грабежа какое-нибудь подозрительное событие привлечет его внимание, он вмешается и тут.
Все это было задумано умно, и чем усерднее об этом размышлял Карл Драгош, тем больше хвалил себя за идею, которая обеспечила ему инкогнито на всем протяжении Дуная и увеличила шансы на успех.
К несчастью, рассуждая таким образом, опытный сыщик не учитывал возможные случайности. Он не подозревал, что совокупность самых странных событий через немногие дни повернет розыски в непредвиденном направлении и придаст его миссии неожиданную широту.
Глава VI ГОЛУБЫЕ ГЛАЗА
Оставив баржу, Карл Драгош направился в центр города. Он знал Ратисбон и без колебаний шел по молчаливым улицам, где по бокам там и сям возвышались старинные дворцы в десять этажей, останки некогда шумного города, чье население теперь упало до двадцати шести тысяч.
Карл Драгош не думал осматривать достопримечательности, как предполагал Илиа Бруш. Он явился не в качестве туриста. Невдалеке от моста он очутился перед кафедральным собором с незавершенными башнями, не бросил даже рассеянного взгляда на прекрасный портал[21] XV века. И, конечно, не остановился, чтобы восхититься дворцом князей Тур и Таксис, готической[22] капеллой[23] и стрельчатым монастырем с его курьезной ценностью — коллекцией курительных трубок. Тем более не вздумал посетить ратушу, где некогда заседал райхстаг. Зала этого здания, знал он, украшена старинными коврами, и привратник не без гордости показывает камеру пыток с различными приспособлениями. Драгошу не пришлось давать «на водку», чтобы оплатить услуги проводника. Без советов прохожих нашел почтовую контору, где его ждало несколько писем на условленные инициалы. Когда Карл Драгош прочитал послание, причем на лице его не отразилось никаких эмоций, он направился к выходу, но у двери его остановил довольно плохо одетый человек.
Он и Драгош узнали друг друга, но сыщик жестом остановил встречного, когда тот собрался заговорить. Очевидно, этот жест обозначал: «Не здесь!» Оба направились на соседнюю площадь.
— Почему ты не ждал меня на берегу? — спросил Карл Драгош, удостоверившись в отсутствии нескромных ушей.
— Я боялся проглядеть вас,— ответил тот.— И поскольку я знал, что вы непременно придете на почту…
— Ладно, ты здесь, это главное,— перебил Карл Драгош.— Ничего нового?
— Ничего.
— Даже самого простенького налета в окрестностях?
— Ни в окрестностях, ни в других местах по всему Дунаю.
— Давно ли получены последние новости?
— Телеграмма из Будапештского центрального бюро пришла не больше двух часов назад. По всей линии спокойно.
Карл Драгош немного подумал.
— Ты сошлешься в прокуратуре на меня. Назовешься своим именем, Фридрих Ульман, и попросишь, чтобы тебя осведомляли о всех событиях, вплоть до самых мелких. Затем отправишься в Вену.
— А наши люди?
— Я сам ими займусь. Увижу их в пути. Встретимся в Вене через неделю. Это приказ.
— Значит, вы оставляете верхнее течение без надзора? — спросил Ульман.
— Местной полиции там достаточно,— ответил Драгош,— и мы появимся при малейшей тревоге. До сих нор, впрочем, выше Вены не случалось ничего такого, что входило бы в нашу компетенцию. Не так они глупы, эти молодчики, чтобы действовать так далеко от своей базы.
— От базы? — переспросил Ульман.— Вы получили какие-нибудь сведения?
— У меня, во всяком случае, сложилось определенное мнение.
— Какое же?
— Ты слишком любопытен! Как бы то ни было, я тебя предупреждаю, что нам придется дебютировать между Веной и Будапештом.
— Почему не в другом месте?
— Потому что там совершено последнее преступление. Ты помнишь фермера, которого они «поджаривали», найденного обожженным до колен?
— Тем больше причин, чтобы они в ближайший раз стали действовать в другом месте.
— Почему?
— Да ведь они скажут себе, что район, где совершено последнее преступление, будет особенно тщательно охраняться. Они пойдут пытать счастья подальше. Нет смысла действовать дважды подряд в одном месте.
— Тогда они будут рассуждать, как ослы, и ты им подражаешь, Фридрих Ульман,— возразил Карл Драгош.— Я именно и рассчитываю на их глупость. Все газеты, как ты знаешь, приписывают мне такое намерение: они единодушно опубликовали, что я покину верхний Дунай, так как, по их мнению, преступники не рискнут туда вернуться. Вот поэтому я отправлюсь в южную Венгрию, рассуждают эти писаки. Бесполезно тебе говорить, что во всем этом нет ни слова истины, но можешь быть уверен, эти тенденциозные сообщения не минуют заинтересованных лиц.
— Вы так думаете?
— Они не направятся в южную Венгрию, чтобы не броситься в волчью пасть.
— Дунай велик,— заметил Ульман.— Есть Сербия, Румыния, Турция…
— А война? Там им нечего делать. Впрочем, увидим.
Карл Драгош немного помолчал.
— Мои инструкции выполняются точно? — спросил он.
— Точно.
— Надзор за рекой продолжается?
— День и ночь.
— И не открыли ничего подозрительного?
— Абсолютно ничего. На всех баржах и шаландах бумаги в порядке. По этому поводу я должен сказать, что проверка вызывает много недовольства. Владельцы судов и капитаны протестуют, и, если хотите знать мое мнение, они правы. На судах не найдешь того, что мы ищем. Ведь преступления совершаются не на воде.
Карл Драгош нахмурился.
— Я придаю большое значение досмотру барж, шаланд и даже маленьких суденышек,— повторил он сухим тоном.— Повторяю последний раз для всех, что я не люблю возражений.
— Хорошо, сударь,— поспешно согласился Ульман.
Карл Драгош сказал:
— Я еще не знаю, что буду делать… Может быть, задержусь в Вене. Может, доеду до Белграда… Пока не решил. Очень важно не терять связи, извещай об обстановке, посылай сообщения всем нашим людям, размещенным между Ратисбоном и Веной.
— Слушаюсь, сударь,— ответил Ульман.— А я?… Где я увижу вас снова?
— В Вене через неделю, как я тебе сказал.
Драгош поразмышлял несколько мгновений.
— Можешь идти,— добавил он.— Не забудь заглянуть в прокуратуру и садись на первый поезд.
Ульман уже удалялся, когда Драгош снова позвал его.
— Ты слышал о некоем Илиа Бруше? — спросил он.
— Это рыболов, который решил спуститься по Дунаю с удочкой?
— Вот именно. Так если увидишь меня с ним, не показывай вида, что мы с тобой знакомы.
Фридрих Ульман исчез в верхней части города, а Карл Драгош направился в гостиницу «Золотой крест», где заказал обед.
Десяток застольников уже разговаривали о том о сем, когда Карл Драгош занял место. Он ел с большим аппетитом и не вмешивался в разговор. Напротив, он слушал как человек, имеющий привычку не пропускать мимо ушей всего, что говорится вокруг. И он услышал: один из собеседников спросил у другого:
— Ну, что новенького об этой знаменитой банде?
— Не больше, чем о знаменитом Бруше,— ответил тот.— Его ждут в Ратисбоне, но, кажется, он еще не появлялся.
— Это странно.
— Если только Бруш и глава шайки не одно и то же лицо.
— Вы смеетесь?
— Гм… Кто знает?
Карл Драгош широко раскрыл глаза. Вот уж второй раз предлагалась его вниманию эта гипотеза, очевидно, висевшая в воздухе. Но он окончил обед, не сказав ни слова. Все это шутки. Видно, неважно осведомлен этот болтун, если даже не знает о прибытии Илиа Бруша в Ратисбон.
Карл Драгош спустился на набережную. Там, вместо того чтобы сразу направиться к барже, он задержался на старом каменном мосту и задумчиво смотрел на реку, где еще скользили суда, спеша воспользоваться угасающим светом дня.
Он совершенно забылся в созерцании, когда чья-то рука коснулась плеча, и он услышал знакомый голос:
— Можно подумать, господин Иегер, что все это вас интересует.
Карл Драгош повернулся и увидел перед собой улыбающееся лицо Илиа Бруша.
— Да,— отвечал он,— движение по реке очень любопытно. Я не устаю его наблюдать.
— Ну, господин Иегер, оно вас заинтересует гораздо больше, когда мы спустимся в низовье реки, где судов намного больше.
Вечерний мрак совсем сгустился. Большие часы Илиа Бруша показывали девять.
— Я был внизу, на барже, когда заметил вас на мосту, господин Иегер,— сказал рыболов.— Я подошел сюда напомнить, что завтра мы отправляемся очень рано и потому сделаем хорошо, если сразу ляжем спать.
— Я с вами согласен, господин Бруш,— ответил Карл Драгош.
Оба спустились к реке. Когда они обогнули мост, пассажир спросил:
— А как с продажей нашей рыбы, господин Бруш? Довольны вы?
— Спросите лучше, не в восторге ли я, господин Иегер! Я вручу вам сорок один флорин!
— Что составит уже шестьдесят восемь с полученными ранее двадцатью семью. И мы еще только в Ратисбоне!… Ого, господин Бруш, дельце кажется мне не совсем плохим!
— Я тоже начинаю так думать,— согласился рыболов.
Спустя четверть часа они спали друг против друга, и с восходом солнца суденышко находилось уже в пяти километрах от Рагисбона.
Ниже этого города берега Дуная совершенно различны. На правом расстилаются до горизонта плодородные равнины, богатая сельская местность, где нет недостатка ни в фермах, ни в деревнях; левый берег изобилует глухими лесами, и там поднимаются холмы, сливающиеся с Богемским лесом.
Проезжая, господин Иегер и Илиа Бруш могли заметить повыше городка Донаустауфа летний дворец князей Тур и Таксис и старинный епископский дворец Ратисбона. Далее, на горе Сальватор, возвышалась Валгалла, или «Жилище избранных», род Парфенона, построенная королем Людвигом под баварским небом и не имеющая ничего общего с греческим. Внутри музей, где находятся бюсты германских героев, но коллекция не так восхищает, как прекрасная внешность здания. Если Валгалла и не может равняться с афинским собратом, она лучше того сооружения, которое воздвигли шотландцы на одном из холмов Эдинбурга, этой «старой коптильни».
Велико расстояние от Ратисбона до Вены, особенно по извилинам Дуная. На этом водном пути длиной около четырехсот семидесяти пяти километров значительные города редки. Можно отметить только Штраубинг, складочное место земледельческих продуктов Баварии, где баржа остановилась вечером 18 августа, Пассау, куда она прибыла 20-го, и Ленц, оставшийся позади днем 21-го. Кроме этих городов, из которых два последних имеют некоторое стратегическое значение, но не насчитывают и по двадцать тысяч жителей, здесь больше нет значительных поселений.
За отсутствием созданий рук человеческих турист может бороться со скукой, наблюдая разнообразное зрелище берегов великой реки. Ниже Штраубинга, где Дунай достигает ширины в четыреста метров, он снова начинает суживаться, меж тем как первые отроги Ретийских Альп мало-помалу подымают его правый берег.
В Пассау, построенном при слиянии трех рек — Дуная, Инна и Ильса, из которых две первые входят в число самых значительных в Европе, Германия остается позади, и правый берег становится австрийским чуть пониже города; левый же берег начинает входить в империю Габсбургов только на несколько километров ниже. Здесь ложе реки представляет собой долину шириной всего около двухсот метров, а дальше, на пути к Вене, оно то расширяется, образуя настоящие озера, усеянные островами и островками, то еще больше сжимается, и тогда воды глухо шумят среди крутых берегов. Илиа Бруш, казалось, совсем не интересовался этой сменой разнообразных и всегда привлекательных картин и лишь старался во всю силу мускулов ускорить бег лодки. Впрочем, такое равнодушие к природе вполне можно было объяснить тем вниманием, с каким требовалось следить за движением суденышка. Помимо трудностей, представляемых песчаными мелями, трудностей, являющихся, так сказать, разменной монетой дунайской навигации, требовалось бороться и с более серьезными. Брушу пришлось преодолевать стремнины, пороги, водовороты, теснины.
Все это делал он с поразительной ловкостью. Это умение и ловкость рыболова восхищали Карла Драгоша, но вместе с тем он удивлялся, что простой удильщик так превосходно знает Дунай с его предательскими сюрпризами.
Удивление было взаимным. Бруш восхищался, ничего в этом не подозревая, обширностью связей своего пассажира. Каким бы незначительным ни было местечко, выбранное для ночлега, редко случалось, чтобы господин Иегер не находил там знакомого. Едва лишь причаливала баржа, он выскакивал на землю, и почти тотчас же к нему подходил один или двое. Обменявшись несколькими словами, собеседники исчезали, а господин Иегер возвращался на баржу.
Наконец Илиа Бруш не мог сдержаться.
— Вы всюду имеете друзей, господин Иегер? — спросил он однажды.
— Конечно, господин Бруш,— ответил Карл Драгош.— Я ведь часто проезжал по этим краям.
— Как турист, господин Иегер?
— Нет, господин Бруш. Я путешествовал в свое время по делам одного будапештского торгового дома, а при этом занятии не только видишь страну, но и заводишь многочисленные знакомства.
Таковы были немногие события — если только можно назвать их событиями,— которые отметили путешествие до 24 августа. В этот день после ночи, проведенной на реке, вдали от жилья, ниже маленького городка Тульн, Илиа Бруш пустился в путь до зари как обычно. Этот день не должен был походить на предыдущие. В самом деле, вечером они будут в Вене, и в первый раз за неделю Илиа Бруш собирался удить, чтобы не разочаровать поклонников, которые, без сомнения, найдутся в столице,— ведь он позаботился известить их о своем прибытии через стоголосую прессу.
Впрочем, разве он не должен был подумать о денежных интересах господина Иегера, забытых во время этой недели отчаянной гонки? Хоть спутник и не выражал неудовольствия, помня условие, но и не мог не досадовать, Илиа Бруш это хорошо понимал. Он возымел намерение дать пассажиру хоть некоторое удовлетворение и решил проплыть в последний день не более тридцати километров. Тогда они прибудут в Вену рано и успеют продать рыбу.
В момент, когда Карл Драгош вышел из каюты, улов уже был обильный, но лауреат не успокоился. Около одиннадцати часов он вытянул щуку в двадцать фунтов. Царская добыча, за нее венские любители, без сомнения, дадут высокую цену.
Ободренный успехом, Илиа Бруш решил попытать счастья в последний раз, и в этом оказалась его ошибка.
Как это получилось? Он не мог сказать. Дело было в том, что он, всегда такой ловкий, сделал неудачный заброс. Был ли это результат мгновенной рассеянности или другая причина, но леска получила неверное направление, и крючок после сильного размаха впился рыболову в лицо и прочертил кровавый след. Илиа Бруш закричал.
Расцарапав щеку, крючок зацепил очки с большими темными стеклами, которые рыболов носил и на свету, и в темноте, и очки описали опасную дугу в нескольких сантиметрах от поверхности воды.
Заглушив собственный крик, Илиа Бруш бросил беспокойный взгляд на господина Иегера, быстро подтащил блуждающие по воздуху очки и поспешил водворить их на место. После этого он, казалось, успокоился.
Инцидент продолжался несколько секунд, но в эти мгновения Карл Драгош успел заметить, что у хозяина великолепные голубые глаза, живой взгляд которых вряд ли свидетельствовал о плохом зрении.
Сыщик не мог не подумать об этой странности, так как привык анализировать все, что привлекало его внимание. Размышления Драгоша еще не пришли к концу, как голубые глаза снова исчезли за темными стеклами.
Бесполезно говорить, что Илиа Бруш в этот день больше не удил. Тщательно перевязав рану, он собрал удочки. Пока лодка плыла вниз по течению, пассажиры позавтракали.
Теперь чем ниже они спускались, тем больше оживление берегов говорило о близости большого города. Сначала шли деревни, чем дальше, тем ближе одна к другой. Потом заводы стали загрязнять небо дымом своих высоких труб. Скоро Илиа Бруш и его компаньон заметили на берегу несколько фиакров, которые придали этой пригородной местности совершенно городской вид.
В первые часы после полудня баржа оставила позади Нусдорф, пункт, где останавливаются паровые суда из-за своей низкой осадки. Для скромного суденышка рыболова не существовало таких препятствий. Впрочем, на нем ведь и не было, как на пароходах, пассажиров, которые потребовали бы, чтобы их доставили по каналу в самый центр города.
Ничем не стесненный в действиях, Илиа Бруш плыл по главному рукаву Дуная. Около четырех часов он остановился у берега и зацепил якорь за одно из деревьев Пратера, знаменитого парка, который для Вены то же, что Булонский лес для Парижа.
— Что у вас с глазами, господин Бруш? — спросил в это время Карл Драгош, после случая с очками не произнесший ни единого слова.
Илиа Бруш прервал работу и обернулся к пассажиру.
— С глазами? — повторил он, помедлив.
— Да, с глазами,— сказал господин Иегер.— Ведь я полагаю, вы не для удовольствия носите эти темные очки?
— Ах,— молвил Илиа Бруш,— мои очки?… У меня слабое зрение, и свет мне вреден, вот и все.
Слабое зрение?… С такими глазами!…
Дав объяснение, Илиа Бруш закончил устанавливать баржу на якорь. Пассажир смотрел на него с задумчивым видом.
Глава VII ОХОТНИКИ И ДИЧЬ
В это августовское послеполуденное время несколько любопытствующих прохаживались по набережной Дуная, там, где кончается парк Пратер. Дожидались ли они Илиа Бруша? Вероятно, потому что этот лауреат оповестил через газеты о месте и о вероятном часе своего прибытия. Но как эти люди, рассеянные по довольно обширному пространству, узнают баржу, которая ничем, по сути, не отличается от подобных ей?
Илиа Бруш предвидел это обстоятельство. Едва только суденышко причалило, он поспешил прикрепить к мачте большой плакат с надписью: «Илиа Бруш, лауреат «Дунайской лиги». На кровле каюты он устроил из пойманной утром рыбы нечто вроде витрины, где щука заняла почетное место.
Реклама в американском вкусе принесла немедленный результат. Несколько зевак остановились против баржи и глазели на нее от нечего делать. Эти праздношатающиеся привлекли других. Сборище быстро приняло такие размеры, что подлинно интересующиеся не могли его не заметить. Одни направились туда, видя, что многие спешат в одну и ту же сторону, а другие, следуя их примеру, поторопились не зная почему. Менее чем через четверть часа около пятисот человек собрались возле баржи. Илиа Бруш даже не мечтал о таком успехе.
Между публикой и рыболовом не замедлил завязаться разговор.
— Господин Илиа Бруш? — спросил один из присутствующих.
— К вашим услугам,— отвечал лауреат.
— Позвольте представиться, Клавдиус Рот, один из ваших коллег по «Дунайской лиге».
— Очень приятно, господин Рот.
— Здесь, впрочем, несколько наших сотоварищей. Вот господа Ханиш, Тьетце, Гуго Цвидинек, не считая тех, с которыми я не знаком.
— Я, например, Матиаш Касселик из Будапешта,— заявил один из зрителей.
— А я,— вступил другой,— Вильгельм Бикель из Вены.
— Я восхищен, господа, что оказался среди своих! — воскликнул Илиа Бруш.
Вопросы и ответы быстро чередовались. Разговор сделался всеобщим.
— Как плыли, господин Бруш?
— Превосходно.
— Быстро, во всяком случае. Вас не ждали так скоро.
— Однако я уже пятнадцать дней в пути.
— Да, но ведь так далеко от Донауэшингена до Вены!
— Около девятисот километров, что в среднем составляет шестьдесят километров в сутки.
— Течение делает их едва ли не в двадцать четыре часа.
— Это зависит от характера местности.
— Верно. А ваша рыба? Легко ли вы ее продаете?
— Прекрасно.
— Тогда вы довольны?
— Очень доволен.
— Сегодня у вас отличный улов. Особенно великолепна щука.
— Да, она в самом деле не плоха.
— Сколько за щуку?
— Как вам будет угодно уплатить. Я хотел бы, с вашего позволения, пустить рыбу с аукциона, оставив щуку к концу.
— На закуску! — пояснил один шутник.
— Превосходная идея! — вскричал господин Рот.— Покупатель щуки может, если захочет, сделать чучело на память об Илиа Бруше!
Эта маленькая речь имела большой успех, и оживленный аукцион начался. Вскоре рыболов положил в карман кругленькую сумму: одна знаменитая щука принесла тридцать пять флоринов.
Когда продажа закончилась, между лауреатом и его почитателями продолжался разговор. Узнав о недавно прошедшем, венцы интересовались его намерениями на будущее. Илиа Бруш отвечал весьма любезно и объявил, не делая из этого секрета, что посвятит следующий день Вене и завтра вечером остановится на ночлег в Пресбурге.
Мало-помалу с приближением вечера количество любопытных уменьшалось, каждый спешил обедать. Принужденный подумать и о своем пропитании, Илиа Бруш исчез в каюте, предоставив публике восхищаться пассажиром.
Вот почему двое гуляющих, привлеченных сборищем, которое все еще насчитывало сотню людей, заметили только Карла Драгоша, одиноко сидевшего под плакатом.
Один из вновь пришедших был высокий детина лет тридцати, с широкими плечами, с волосами и бородой того белокурого цвета, который считается достоянием славянской расы; другой, тоже внешне крепкий и замечательный необычайной шириной плеч, казался старше, и его седеющие волосы показывали, что ему перевалило за сорок.
При первом взгляде, который младший из двух бросил на баржу, он вздрогнул и, быстро отступив, увлек за собой спутника.
— Это он,— молвил младший глухим голосом, как только они отошли в сторону.
— Ты думаешь?
— Конечно! Разве ты не узнал?
— Как я узнаю, если никогда его не видел!
Последовал момент молчания. Оба собеседника размышляли.
— Он один в барже?
— Совершенно один.
— И это баржа Илиа Бруша?
— Ошибиться невозможно. Фамилия написана на плакате.
— Тогда это непонятно.
После нового молчания заговорил младший:
— Значит, это он делает такое путешествие с большим шумом под именем Илиа Бруша?
— С какой целью?
Человек с белокурой бородой пожал плечами.
— С целью проехать по Дунаю инкогнито, это ясно.
— Черт! — сказал старший.
— Это меня не удивляет,— заметил другой.— Драгош хитрец, и его замысел превосходно удался бы, если бы случай не привел нас сюда.
Старший из собеседников еще не совсем убедился.
— Так бывает только в романах,— пробормотал он сквозь зубы.
— Правильно, Титча, правильно,— согласился его товарищ,— но Драгош любит романтические приемы. Мы, впрочем, выведем его начистоту. Около нас говорили, что баржа останется завтра в Вене на весь день. Нам придется вернуться. Если Драгош еще будет тут, значит, это он влез в шкуру Илиа Бруша.
— И что мы сделаем в этом случае? — спросил Титча.
Его собеседник ответил не сразу.
— Мы посмотрим,— молвил он.
Оба удалились в сторону города, оставив баржу, окруженную все более рассеивающейся публикой.
Ночь прошла спокойно для Илиа Бруша и его пассажира. Когда Драгош вышел из каюты, он увидел, что Бруш собирается основательно проверить рыболовные принадлежности.
— Хорошая погода, господин Бруш,— сказал Карл Драгош вместо приветствия.
— Хорошая погода, господин Иегер,— согласился Илиа Бруш.
— Не рассчитываете ли вы ею воспользоваться, господин Бруш, чтобы посетить город?
— Честное слово, нет, господин Иегер. Я не любопытен по природе и буду занят целый день. После двух недель плавания не мешает немножко навести порядок.
— Как хотите, господин Бруш! А я не намерен подражать вашему безразличию к прекрасной Вене и думаю остаться на берегу до вечера.
— И хорошо сделаете, господин Иегер,— одобрил Илиа Бруш,— потому что вы ведь венский житель. Смею предположить, у вас тут семья, которая рада будет увидеть вас.
— Заблуждение, господин Бруш, я — холостяк.
— Тем хуже, господин Иегер, тем хуже. Даже и вдвоем не так легко нести жизненную ношу.
Карл Драгош разразился хохотом.
— Черт возьми, господин Бруш, вы невесело настроены сегодня с утра!
— Я всегда таков, господин Иегер,— ответил рыболов.— Но пусть это не мешает вам развлекаться как можно лучше.
— Я попытаюсь, господин Бруш,— сказал Карл Драгош, удаляясь.
Через Пратер он вышел на Главную аллею, место прогулок элегантных венцев в хорошую погоду. Но в августе, в ранний час, Главная аллея оказалась почти пустынна, и он мог ускорять шаги, не теснясь в толпе.
Не обращая внимания на двоих одиноко гуляющих, Карл Драгош спокойно продолжал свой путь и десять минут спустя вошел в маленькое кафе на круглой площади «Пратер Штерн». Его там ждали. Один из посетителей, уже сидевший за столом, поднялся и подошел встретить.
— Здравствуй, Ульман! — сказал Карл Драгош.
— Здравствуйте, сударь! — ответил Фридрих Ульман.
— Все еще ничего нового?
— Ничего.
— Это хорошо. На этот раз у нас в распоряжении целый день, и мы трезво обсудим, что нам делать.
Если Карл Драгош не заметил двоих праздных гуляк на Главной аллее, то они,— как раз те два субъекта, которых накануне случай привел к барже Илиа Бруша,— наоборот, превосходно видели его. Они круто повернули, разминувшись с начальником дунайской полиции, последовали за ним на достаточном расстоянии, чтобы не оказаться замеченными. Когда Драгош исчез в маленьком кафе, они вошли в такое же заведение, расположенное напротив, решив оставаться в засаде, если понадобится, целый день.
Их терпение подверглось большому испытанию. Потратив несколько часов, чтобы подробно договориться о будущих действиях, Драгош и Ульман не спеша позавтракали. Желая покинуть душную залу, они устроились на свежем воздухе и приказали подать по чашке кофе. Они уже начали наслаждаться им, когда внезапно Карл Драгош поднялся и, явно не желая быть замеченным, быстро скрылся в глубине ресторана, откуда через оконные занавески стал наблюдать за человеком, пересекавшим площадь.
— Это он, прокляни меня Боже! — пробормотал Драгош, следя глазами за Илиа Брушем.
И в самом деле, это был удильщик-лауреат, его легко было узнать по бритому лицу, темным очкам и волосам, черным, как у южного итальянца.
Когда рыболов повернул на Кайзер-Иозефштрассе, Драгош приказал Ульману, оставшемуся на террасе, дожидаться, сколько потребуется, и устремился по следу.
Илиа Бруш шел, не думая оглядываться, со спокойствием человека, чья совесть вполне чиста. Неторопливым шагом он достиг конца улицы, потом через парк Аугартен попал в рабочий поселок. Несколько мгновений он будто колебался, потом толкнул дверь в грязную лавчонку, бедная витрина которой выходила на одну из самых невзрачных улочек окраины.
Полчаса спустя он снова появился. Все время незаметно преследуемый Карлом Драгошем, рыболов следовал по улицам без видимой цели, сворачивая как бы наугад; но вскоре сыщику стало ясно: его спутник хорошо знает город и, пускай окольными путями, явно держит курс к месту стоянки баржи. Карл Драгош счел бесполезным продолжать слежку.
Он вернулся в кафе, где его ожидал верный Фридрих Ульман.
— Знаешь ли ты еврея по имени Симон Клейн? — спросил сыщик.
— Конечно,— ответил Ульман.
— Что он собой представляет?
— Мало хорошего. Старьевщик, ростовщик, при надобности скупщик и укрыватель краденого; я полагаю, этого достаточно, чтобы обрисовать его с головы до ног?
— Так я и думал,— пробормотал Драгош, казалось, погруженный в глубокие размышления. После недолгого молчания он спросил: — Сколько у нас здесь людей?
— Около сорока,— ответил Ульман.
— Этого хватит. Слушай меня внимательно. Надо перечеркнуть все, о чем мы говорили утром. Я меняю план. Чем дальше, тем больше я предчувствую, что дело, где бы оно ни произошло, случится при мне.
— При вас? Не понимаю.
— Это тебе ни к чему. Расставить людей попарно на левом берегу Дуная через каждые пять километров, начав за двадцать километров ниже Пресбурга. Их единственная цель — наблюдать за мной. Заметив меня, последняя пара любым способом достигает передней пары, опережает ее на пять километров и так далее. Понятно? И чтоб они не зевали!
— А я? — спросил Ульман.
— А ты устраивайся, чтобы не терять меня из виду. Когда я буду в лодке посреди реки, это не так трудно… Что же касается твоих людей, то они, отправляясь на посты, должны быть возможно лучше осведомлены. В случае надобности тот пост, который узнает о важном событии, должен назначить место сбора и предупредить других.
— Понятно.
— Отправляйтесь в путь сегодня вечером, чтобы завтра я нашел людей на постах.
— Они там будут,— сказал Ульман.
Два или три раза Карл Драгош без устали повторял свой план и, только когда уверился, что подчиненный отменно понял, решил вернуться на баржу; уже наступил вечер.
В кафе на противоположной стороне площади двое гулявших по Пратеру не прекращали свою слежку. Они видели, как Драгош вышел из кафе, но не поняли причины, потому что Илиа Бруш не привлек их внимания, как и всякий другой прохожий. Их первое движение было пуститься в погоню за Драгошем, но то, что Фридрих Ульман остался в кафе, их удержало. Успокоенные, они решили ждать, в уверенности, что Карл Драгош снова объявится здесь.
Возвращение сыщика доказало, что они поступили правильно, и, когда Драгош нырнул к Ульману в кафе, они оставались на страже вплоть до момента, покуда начальник полиции и его подчиненный не расстались.
Предоставив Ульману спокойно направиться к центру, два субъекта снова прицепились к Карлу Драгошу и проследовали за ним. После сорокапятиминутной ходьбы они остановились. Уже показалась линия деревьев, окаймлявшая берег Дуная. Не было сомнений, что Драгош возвращается на свое судно.
— Бесполезно идти дальше,— сказал младший.— Теперь мы знаем, что Карл Драгош и Илиа Бруш одно и то же лицо. Доказательства надежны, а следуя дальше, мы рискуем, что нас самих заметят.
— Что же теперь делать? — спросил его компаньон с наружностью борца.
— Мы еще об этом поговорим,— ответил другой.— У меня есть идея.
Пока эти двое так усердно занимались особой Карла Драгоша и вырабатывали планы, исполнение которых откладывалось не слишком далеко, сыщик возвратился на баржу, не подозревая о том, что за ним самим следили весь этот день. Он нашел Илиа Бруша, поглощенного приготовлением ужина, вскоре они разделили трапезу, как обычно.
— Ну, господин Иегер, довольны вы прогулкой? — спросил Илиа Бруш, когда трубки начали выпускать тучи дыма.
— Восхищен,— ответил Карл Драгош.— А вы, господин Бруш, не изменили своих намерений и не решились немножко прогуляться по Вене?
— Нет, господин Иегер,— заверил Илиа Бруш.— Я здесь никого не знаю. Пока вы отсутствовали, я даже не выходил на берег.
— В самом деле?
— Да, это так. Я не покидал лодки, где у меня, впрочем, хватило работы до вечера.
Карл Драгош ничего не сказал. Мысли, внушенные явной ложью хозяина, он предпочел сохранить при себе.
Глава VIII ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ
Отправившись за два часа до рассвета, Бруш не остановился в Пресбурге[24], хотя объявил об этом накануне. Двадцать часов отчаянной гребли позволили ему спуститься на пятнадцать километров ниже этого города, и после краткого отдыха он возобновил сверхчеловеческие усилия.
По-прежнему Илиа Бруш не считал себя обязанным объяснять господину Иегеру, почему так лихорадочно стремится ускорить путешествие; хотя интересы пассажира серьезно страдали, он, со своей стороны, верный данному слову, не проявлял никаких признаков досады, какую должен был испытывать от такой поспешности.
Занятия Карла Драгоша отвлекали, впрочем, внимание господина Иегера. Маленькие неприятности, которым мог подвергнуться второй, ничего не стоили в сравнении с заботами первого.
В это утро, 26 августа, Карл Драгош сделал, в самом деле, еще одно наблюдение, совершенно необычное; вместе с фактами предшествующих дней оно глубоко его смутило. Случилось это около десяти утра. Карл Драгош, погруженный в размышления, машинально смотрел, как Илиа Бруш, стоя на корме баржи, греб с упорством рабочего вола. Истекая потом, он бросил к ногам меховую шапку, которую обычно носил, и яркий солнечный свет насквозь пронизывал его обильную черную шевелюру.
И тут Карл Драгош приметил особенность, весьма странную: Илиа Бруш был брюнетом, но лишь частично. Черные на концах, его волосы у корней оказались на несколько миллиметров белокурыми.
Природное явление? Возможно. Но вероятнее, вовремя не возобновлена окраска волос.
Сомнение исчезло утром следующего дня: волосы Илиа Бруша потеряли двойную окраску; рыболов заметил свою небрежность и ночью исправил ее.
Эти глаза, так тщательно скрытые за непроницаемыми стеклами, эта явная ложь на венской пристани, эти белокурые волосы, превращенные в черные, эта непонятная поспешность, не совместимая с объявленной целью путешествия,— изрядная совокупность улик, из них следовало бы заключить… В самом деле, но что же следовало заключить? Карл Драгош не мог связать факты одной веревочкой. Поведение Илиа Бруша казалось подозрительным, но какой отсюда можно сделать вывод?
Карл Драгош упорно раздумывал над предположением, высказанным как бы в шутку. Сначала веселый серб Михаил Михайлович, потом собеседники в ратисбонском отеле говорили, независимо друг от друга, что под маской лауреата скрывается атаман шайки злодеев, терроризирующей целый край. Но стоит ли всерьез рассматривать гипотезу, если сами авторы вовсе не считали ее вероятной?
Но почему бы и нет? Правда, факты не давали никакой уверенности и вполне оправдывали всевозможные подозрения. И если последующие наблюдения установят основательность подозрений, получится весьма забавное приключение: одно и то же судно везет атамана бандитов и полицейского, которому предстоит разбойника арестовать.
Драма обещала превратиться в водевиль, и Карлу Драгошу это отнюдь не нравилось, выглядеть смешным он не любил. Однако дело есть дело, важен результат и совсем несущественно, благодаря каким обстоятельствам он достигнут.
И совсем нелогично отбрасывать факты лишь на том основании, что они кажутся ненормальными, неправдоподобными, нелепыми, водевильными.
Под властью этих забот Карл Драгош после ночи, проведенной в поле, завел разговор о том, чего до сих пор не касался.
— Доброе утро, господин Бруш,— сказал он, выходя утром из каюты, где подготовил план атаки.
— Доброе утро, господин Иегер,— ответил рыболов, он, как всегда, энергично греб.
— Вы хорошо спали, господин Бруш?
— Превосходно. А вы, господин Иегер?
— Гм… Гм… Так себе.
— Неужели? — сказал Илиа Бруш.— Почему же вы не сказали мне, если плохо себя чувствовали?
— Я совершенно здоров, господин Бруш,— возразил Иегер.— Но, тем не менее, ночь показалась мне чересчур длинной. Я совсем не огорчился, признаюсь, когда она кончилась.
— Потому что?…
— Потому что я немного побаивался, в чем хочу теперь признаться.
— Побаивались? — повторил Илиа Бруш тоном самого чистосердечного изумления.
— Это уже не в первый раз я боялся,— объяснил господин Иегер.— Мне всегда было не по себе, когда вам приходила фантазия ночевать вдали от города или деревни.
— Ба! — сказал Илиа Бруш удивленно.— Нужно было сказать, и я бы устраивался по-другому.
— Вы забываете, что я обязался предоставить вам полную свободу действий. Обещанное я привык выполнять, господин Бруш. Это не мешает мне по временам беспокоиться. Что поделаешь? Я горожанин, и на меня действуют и тишина, и пустынная природа.
— Дело привычки, господин Иегер,— весело ответил Илиа Бруш.— Вы к этому тоже приспособитесь, когда мы подольше попутешествуем; на самом-то деле куда меньше опасностей в чистом поле, чем на улицах большого города, где бродят убийцы и грабители.
— Вероятно, вы правы, господин Бруш, но впечатлениями не распоряжаешься. Тем более что мои страхи не совсем безрассудны в данном случае, ведь мы пересекаем область, пользующуюся особенно дурной славой.
— Дурной славой? — удивился Илиа Бруш.— Откуда вы это взяли, господин Иегер? Я здесь живу, ваш покорный слуга, и никогда не слышал, что у этой местности дурная слава!
Теперь была очередь господина Иегера выразить живейшее недоумение.
— Вы серьезно говорите, господин Бруш? — спросил он.— Тогда вы единственный человек, которому неведомо то, что знают все от Баварии до Румынии.
— А что же именно? — спросил Илиа Бруш.
— Черт возьми! Что банда неуловимых злодеев регулярно опустошает берега Дуная от Пресбурга и до устья!
— Впервые слышу об этом,— заявил Илиа Бруш с чистосердечным видом.
— Невозможно! — поразился господин Иегер.— Да ведь по всей реке ни о чем другом не говорят.
— Новости появляются каждый день,— спокойно заметил Илиа Бруш.— И давно начались эти грабежи?
— Уже около полутора лет,— отвечал господин Иегер.— И если бы речь шла только о грабежах!… Но негодяи не ограничиваются грабежами. Если им понадобится, они убивают. За эти восемнадцать месяцев погибли по меньшей мере десять человек, виновники остались неизвестными. Как раз последний такой случай произошел менее чем в пятидесяти километрах отсюда.
— Теперь я понимаю ваше беспокойство,— сказал Илиа Бруш.— Может быть, и я давно разделял бы его, будь я лучше осведомлен. Впредь мы станем швартоваться по вечерам как можно ближе к какой-либо деревне или городу, начиная с сегодняшнего ночлега, его мы устроим в Гроне.
— О,— одобрил господин Иегер,— там мы будем спокойны. Грон — значительный город.
— Я буду очень доволен, продолжал Илиа Бруш,— что вы будете чувствовать себя там в безопасности; я ведь намерен покинуть вас в следующую ночь.
— Вы будете отсутствовать?
— Да, господин Иегер, но всего несколько часов. Из Грона, где я надеюсь быть довольно рано, я хочу съездить в Сальку, она оттуда недалеко. Я ведь там живу, как вы знаете. Я, впрочем, вернусь еще до рассвета, и ваше отправление завтра утром не задержится.
— Будь по-вашему, господин Бруш,— согласился господин Иегер.— Я понимаю, что вам хочется побывать у себя, а в Гроне, повторяю, мне нечего бояться.
На полчаса разговор прекратился. Затем Карл Драгош начал снова.
— Очень любопытно,— сказал он,— что вы никогда не слыхали разговоров об этих дунайских злодеях. Это тем удивительнее, поскольку этим делом особенно усердно занялись за несколько дней до рыболовного конкурса в Зигмарингене.
— В связи с чем? — спросил Илиа Бруш.
— Была создана специальная полицейская бригада под командованием очень искусного, как утверждают, начальника, некоего Карла Драгоша, сыщика из Будапешта.
— Ему хватит работы,— заметил Илиа Бруш, на него это имя, по-видимому, не произвело никакого впечатления.— Дунай велик, и очень трудно разыскивать тех, о ком ничего не известно.
— Вы ошибаетесь,— возразил господин Иегер.— Полиция утверждает, будто ей кое-что известно. Совокупность свидетельств дает прежде всего почти полную уверенность насчет атамана шайки.
— И каков же этот субъект? — спросил Илиа Бруш.
— Вообще-то говоря, это человек, внешне похожий на вас…
— Очень благодарен,— смеясь перебил Илиа Бруш.
— Да,— продолжал господин Иегер,— он примерно вашего роста и вашего телосложения, но в остальном как будто никакого сходства.
— Ну, это еще хорошо,— вздохнул Илиа Бруш с облегчением, оно могло показаться нарочитым.
— Говорят, что у него прекрасные голубые глаза, и ему не приходится, как вам, носить очки. Впрочем, тогда как вы яркий брюнет и тщательно бреетесь, он ходит с бородой, как утверждают, с белокурой. Насчет этого последнего пункта, кажется, свидетельства не очень достоверны.
— Конечно, это является определенным указанием,— заметил Илиа Бруш,— но малоубедительным. Блондинов много, и нельзя всех подозревать в преступлениях.
— Знают и другое. Прежде всего, говорят, что этот атаман — болгарин… как и вы, господин Бруш!
— Что вы хотите этим сказать? — спросил Илиа Бруш равнодушно.
— По вашему акценту,— объяснил Карл Драгош с невинным видом,— я заключаю о вашем болгарском происхождении… Но, быть может, я ошибаюсь?
— Вы не ошибаетесь,— подтвердил Илиа Бруш после краткого колебания.
— Значит, этот атаман — ваш соотечественник. В народе его, имя даже переходит из уст в уста.
— Даже!… Так его знают?
— Разумеется, но это совсем не официально.
— Официально или полуофициально, но каково же имя этой подозрительной личности?
— Правильно или нет, но прибрежные жители относят злодеяния, от которых им столько приходится страдать, на счет некоего Ладко.
— Ладко!…— повторил Илиа Бруш и, не сдержав волнения, перестал грести.
— Ладко,— удостоверил Карл Драгош, наблюдая за собеседником уголком глаза.
Но тот уже овладел собой.
— Это странно,— сказал он просто, в то время как весло снова заработало в его руках.
— Что же здесь странного? — настаивал Карл Драгош.— Вы знаете этого Ладко?
— Я? — возразил рыболов.— Откуда мне знать? И ведь Ладко — не болгарская фамилия. Вот что я вижу здесь странного.
Карл Драгош не стал продолжать разговора, он мог сделаться опасным, результаты его уже удовлетворили сыщика. Заметное удивление рыболова, когда он услышал описание наружности преступника, некоторое смущение, когда была названа предполагаемая национальность, явное волнение, когда он услышал имя,— всего этого нельзя было отрицать, и это усиливало первоначальные подозрения, хотя и не являлось, конечно, решительным доказательством.
Как и обещал Илиа Бруш, еще не подошло к двум часам пополудни, когда баржа прибыла в Грон. Метров за пятьдесят до ближайших домов рыболов причалил к левому, почти безлюдному берегу, чтобы его не донимали любопытные, как он объяснил, и попросил господина Иегера одного переправиться на ту сторону, где и расположен город. Пассажир согласился охотно, взявшись за весла.
Поставив баржу на якорь, он выпрыгнул на набережную в поисках своих людей.
Он не сделал и двадцати шагов, как столкнулся с Фридрихом Ульманом. Между двумя полицейскими произошел быстрый разговор.
— Все идет хорошо?
— Да.
— Нужно замыкать круг, Ульман. Отныне посты наших людей ставь через километр один от другого.
— Значит, становится горячо?
— Да.
— Тем лучше.
— На завтра задача — не терять меня из виду. Я предполагаю ускорить дело.
— Понятно.
— И чтоб у меня не спали! Ухо востро! Спешить!
— Рассчитывайте на меня.
— Если что-нибудь узнаешь, сигнал с берега.
— Условлено.
Собеседники разошлись, и Карл Драгош вернулся на суденышко, поел в одиночестве — рыболов и в самом деле, видимо, отправился на свою родину.
Если бы отдых Драгоша не смущало прежнее беспокойство, то его нарушил бы в эту ночь оглушительный шум стихий. В полночь с востока пришла гроза и усиливалась с часу на час, дождь хлестал свирепо.
Илиа Бруш вернулся на баржу около пяти утра, с неба лило потоками, и ветер яростно дул как раз против течения. Но рыболов отплыл не колеблясь, выбрался на середину реки и возобновил привычную греблю. Нужна была подлинная смелость, чтобы приняться за работу при такой погоде.
Баржа, несмотря на помощь течения, с трудом продвигалась против бешеного ветра, и после четырех часов усиленной гребли удалось пройти только двенадцать километров от Грона до притока Ипель.
Гроза удвоила ярость, положение сделалось несколько опасным. Если Дунай и нельзя сравнить с морем, он все же достаточно широк, чтобы на нем при сильном ветре могли возникать большие волны. Так случилось и теперь. Сила бури заставила Илиа Бруша искать убежища у левого берега.
Рыболов не успел.
Его отделяло от земли примерно пятьдесят метров, когда произошло редкое и ужасное явление природы. Деревья с берега внезапно рухнули в Дунай, словно начисто срезанные гигантской косой. А вода, поднятая неизмеримой мощью, набросилась на берег и отхлынула от него огромной волной, подхватившей и закружившей баржу.
Смерч присосался к поверхности реки с неотразимой силой.
Илиа Бруш понял опасность. Энергичным ударом весла повернув лодку, он направил ее к противоположному берегу. Этому маневру рыболов и пассажир оказались обязанными спасением.
Подхваченная смерчем, продолжавшим свой яростный бег, баржа, по крайней мере, улизнула от поднимавшейся перед нею водяной горы. Поэтому суденышко не затопило, что стало бы неизбежным без маневра смелого и находчивого Илиа Бруша. Увлекаемая наружным краем воздушного водоворота, баржа помчалась по дуге большого радиуса.
В несколько секунд смерч пронесся мимо, и волны с ревом покатились вниз по реке, а сопротивление воды понемногу уменьшало скорость суденышка.
К несчастью, прежде чем эта скорость стала обычной, неожиданно возникла новая опасность. Прямо перед лодкой, рассекавшей воду со скоростью экспресса, рыболов заметил одно из вырванных деревьев, оно плыло по течению вверх корнями.
Лодка, налетев на корни, могла опрокинуться или по меньшей мере получить серьезные повреждения. Илиа Бруш непроизвольно вскрикнул от ужаса.
Но и Карл Драгош также увидел опасность и понял ее неизбежность. Не колеблясь, он устремился к носу лодки, схватил руками корни, торчащие из воды, силясь избежать столкновения.
Это удалось. Баржа, отклонившись в сторону, пролетела, как стрела, лишь слегка задев сначала за корни, потом за верхушку ствола. Мгновение спустя она должна была оставить позади дерево, увлекаемое потоком; но в это время одна из последних ветвей ударила Карла Драгоша прямо в грудь. Потеряв равновесие, он перелетел через борт и исчез в воде.
За его падением последовало другое, на этот раз добровольное. Илиа Бруш без колебаний бросился на помощь.
Нелегко было рассмотреть что-либо в грязной жиже. Целую минуту потратил Илиа Бруш напрасно и уже начал отчаиваться в спасении господина Иегера, когда наткнулся на беднягу под водой.
Иегер находился в бесчувственном состоянии, но это было к лучшему. Утопающий обычно бьется и бессознательно мешает спасти себя. Человек в обмороке — только неподвижная масса, жизнь его зависит исключительно от ловкости спасателя.
Илиа Бруш тотчас же поднял голову господина Иегера над водой и быстро поплыл к барже, удалившейся метров на тридцать. Опытному пловцу потребовалось всего несколько взмахов. Одной рукой он ухватился за борт, а другой поддерживал все еще бесчувственного пассажира.
Оставалось теперь втащить господина Иегера на борт лодки, что было трудной задачей. Илиа Бруш справился с ней.
Положив утопленника на кушетку в каюте, Бруш раздел спасенного догола, достал из сундука кусок шерстяной материи, начал энергичные растирания.
Вскоре господин Иегер открыл глаза и пришел в чувство. В общем, погружался в воду он ненадолго и можно было надеяться, что все обойдется без серьезных последствий.
— Ну, ну, господин Иегер,— вскричал Илиа Бруш, когда его пациент пришел в сознание,— вы решили понырять!
Господин Иегер слабо улыбнулся, не отвечая.
— Это не беда,— продолжал Илиа Бруш, не прекращая энергичных растираний.— Нет ничего лучше для здоровья, чем августовское купание!
— Спасибо, господин Бруш,— пробормотал Карл Драгош.
— Не за что,— весело ответил рыболов.— Это я должен вас благодарить, господин Иегер, потому что вы дали мне превосходный предлог искупаться.
Силы Карла Драгоша восстанавливались. Хороший глоток водки, и все будет в порядке. К несчастью, Илиа Бруш напрасно перерывал свои сундуки. Запасы спиртного на борту совершенно истощились.
— Вот досада! — вскричал Илиа Бруш.— Ни капли водки в нашей кухне!
— Не важно, господин Бруш,— говорил Карл Драгош слабым голосом.— Мне гораздо лучше, уверяю вас.
Однако Карла Драгоша трясло, несмотря на его уверения, и прием подкрепительного оказался бы весьма полезен.
— Вы ошибаетесь,— отвечал Илиа Бруш, не питая иллюзий насчет состояния пассажира,— это так просто не проходит, господин Иегер. Предоставьте мне действовать. Это не займет много времени.
Рыболов поспешно переменил одежду на сухую, потом сильными ударами весла перегнал баржу к левому берегу, где крепко привязал ее.
— Немножко терпения, господин Иегер,— сказал Илиа Бруш.— Я знаю эту местность. Менее чем в полутора километрах деревня, где я найду все нужное. Я вернусь через полчаса.
Оставшись один, Карл Драгош опустился на постель. Он был разбит больше, чем хотел признаться, и, утомленный, закрыл глаза.
Но жизнь быстро брала свое: кровь в его жилах заструилась быстрее. Скоро он открыл глаза и посмотрел вокруг.
Прежде всего его еще смутный взор привлек один из сундуков, который Илиа Бруш в спешке перед уходом забыл закрыть. Начинка сундука, развороченная в бесполезных поисках, представляла сейчас кучу разных вещей. Грубое белье, одежда, сапоги с толстыми подошвами громоздились там в беспорядке.
Почему Карл Драгош внезапно оживился? Неужели это зрелище, способное вызвать мало восторга, заинтересовало до такой степени, что он после нескольких секунд внимательного рассматривания поднялся на локте, чтобы лучше видеть внутренность ящика?
Конечно, ни одежда, ни белье, ни прочее барахло не могли возбудить такое любопытство нескромного пассажира, но среди этих предметов опытный взгляд сыщика увидел нечто более достойное внимания.
Это был наполовину раскрытый портфель, из которого вываливались многочисленные бумаги. Портфель! Бумаги! Здесь мог отыскаться ответ на вопросы, что Карл Драгош задавал себе уже несколько дней.
Сыщик, разумеется, нарушил закон благодарности за гостеприимство, рука его потянулась в сундук и вытащила соблазнительный портфель.
Прежде всего Карл Драгош начал немедленно читать письма; они были адресованы Илиа Брушу в Сальку. Затем незначительные документы, среди них квитанции об оплате квартиры на то же имя. Увы, ничто не представляло интереса.
Карл Драгош уже хотел положить бумаги и портфель на место, но последний документ заставил его вздрогнуть. Не было тут, среди бумаг, ничего более невинного, и следовало быть полицейским, чтобы испытать перед таким «документом» иное чувство, кроме глубокой симпатии.
То был портрет, фотоснимок молодой женщины, совершенная красота которой вдохновила бы и живописца. Но полицейский не был художником, и не от восторга перед этим восхитительным лицом забилось сердце Карла Драгоша. Он даже едва рассмотрел его черты. По правде говоря, он ничего и не заметил в этом портрете, кроме простой надписи, сделанной по-болгарски внизу фотографии. «Моему дорогому мужу от Натчи Ладко» — таковы были слова, прочитанные ошеломленным Карлом Драгошем.
Итак, его подозрения оправдались, и выводы, основанные на замеченных им странностях, оказались логичными. Ладко! Это все-таки с ним спускался сыщик по Дунаю столько дней. Это все-таки был опасный преступник, напрасно разыскиваемый до сих пор и скрытый под безобидной внешностью лауреата «Дунайской лиги».
Как же должен вести себя Карл Драгош после такого открытия? Он еще не успел принять решения, как шум шагов на берегу заставил его быстро бросить портфель в глубину сундука, крышку он захлопнул. Но идущий не мог быть Илиа Брушем, ведь тот удалился всего десять минут назад.
— Господин Драгош! — позвал голос снаружи.
— Фридрих Ульман! — пробормотал Карл Драгош, с трудом поднялся и, шатаясь, вышел из каюты.
— Извините, что вас позвал,— сказал Фридрих Ульман.— Но я заметил, что ваш компаньон ушел, и знал, что вы один.
— Что у тебя? — спросил Карл Драгош.
— Новости, сударь. В эту ночь совершено преступление.
— Этой ночью! — вскричал Карл Драгош, тут же подумав об отсутствии Илиа Бруша в соответствующее время.
— Поблизости отсюда разгромлена вилла. Пострадал сторож.
— Убит?
— Тяжело ранен.
— Хорошо,— сказал Карл Драгош, сделав знак молчать.
Он погрузился в раздумье. Что делать? Конечно, действовать, и для этого у него хватит сил. Новость, только что полученная, оказалась наилучшим лекарством.
Да, надо действовать, но как? Дождаться возвращения Илиа Бруша, или, теперь понятно, Ладко, и неожиданно положить ему руку на плечо жестом, указывающим задержание именем закона? Да, наиболее благоразумно, потому что сейчас нет никакого сомнения в истинной личности так называемого рыболова. Старание скрыть эту личность, имя, которое, как выяснилось, оказалось его собственное, имя, чье народная молва приписывала атаману бандитов, отсутствие лауреата в прошлую ночь, что совпадало с новым преступлением,— все говорило Карлу Драгошу, что Илиа Бруш и есть разыскиваемый бандит.
Но ведь этот бандит спас ему жизнь!… Вот что осложняло положение!
Как могло получиться, что грабитель, более того — убийца, бросился в воду, чтобы вытащить сыщика? И если эта невероятная вещь произошла, имеет ли право вырванный от смерти так ответить на благодеяние спасителя? Велик ли риск — хотя бы отсрочить арест? Теперь, когда фальшивый Илиа Бруш разоблачен, когда его личность установлена, ему немыслимо ускользнуть от полицейских агентов, разбросанных по реке, и если расследование приведет к так называемому рыболову-лауреату, у Карла Драгоша под руками окажется более многочисленный персонал, и арест легче будет произвести, не обнаруживая собственную роль…
Наверное, пять минут Карл Драгош на всякие лады обдумывал решение, какое предстояло принять.
Отправиться, не повидав Илиа Бруша? Или остаться, спрятать Фридриха Ульмана в засаду рядом с баржей и, когда рыболов появится, неожиданно броситься на него, отложив объяснения на дальнейшее?… Нет, решительно нет. Ответить предательством на самоотверженный поступок! Лучше было, рискуя репутацией, дать разбойнику возможность скрыться, потом начать розыски и на время забыть то, что знал. Если следствие все-таки приведет к Илиа Брушу, если долг заставит рассматривать своего спасителя как врага, тогда, по крайней мере, они станут биться лицом к лицу и после того, как Драгош даст противнику время приготовиться к защите.
Рассмотрев десяток последствий, вытекающих из его решения, Карл Драгош скрылся в каюте. Поспешно набросанной запиской он предупредил Илиа Бруша о своей необходимости отлучиться и просил хозяина подождать его по меньшей мере сутки.
— Сколько у нас людей? — спросил он, выйдя из каюты.
— На месте двое, но уже объявлен сбор. К вечеру станет двенадцать.
— Хорошо,— одобрил Карл Драгош.— Ты, кажется, сказал, что место преступления недалеко?
— Всего в двух километрах,— ответил Ульман.
— Веди меня,— сказал Карл Драгош и выпрыгнул на берег.
Глава IX ДВА ПОРАЖЕНИЯ КАРЛА ДРАГОША
В северной части Венгрии Карпаты описывают огромную дугу, кое-где разделяясь на второстепенные отроги. Один из них достигает Дуная в окрестностях Грона, где оканчивается на правом берегу горой Пилиш в семьсот шестьдесят шесть метров высоты.
Преступление совершилось у подножия этой невысокой возвышенности, к ней и отправился Карл Драгош, чтобы попытаться отыскать преступников.
Украдкой покинув баржу, он сделал над собой усилие и, несмотря на слабость, принял предложение Фридриха Ульмана.
А несколькими часами раньше тяжело нагруженная телега остановилась перед плохонькой гостиницей, построенной возле подножия горы Пилиш при спуске к Дунаю.
Постоялый двор расположился очень удачно: на скрещении трех путей.
Его не могли миновать ломовики, подвозившие товар для перегрузки на суда.
Приехали, когда солнце едва поднялось. В доме еще спали, надежно защищенные толстыми ставнями.
— Эй, там, в трактире! — закричал один из двоих, сопровождавших повозку, колотя в дверь рукояткой кнута.
— Сейчас! — отвечал разбуженный трактирщик.
Его всклокоченная голова показалась в окне.
— Чего вам? — бесцеремонно спросил трактирщик.
— Сначала есть, потом спать,— ответил возчик.
Повозка въехала во двор. Возчики поспешили распрячь лошадей и отвести в конюшню, где им засыпали обильный корм. Хозяин не переставал суетиться около ранних посетителей. Ему хотелось завязать разговор, но ломовики, напротив, не желали отвечать.
— Вы очень рано приехали, друзья,— не унимался трактирщик.— Наверное, находились ночью в дороге?
— Наверное,— ответил один из возчиков.
— И далеко направляетесь?
— Далеко или близко — это наше дело,— был ответ.
Трактирщик явно обиделся, но воздержался от замечаний.
— Зачем ты мучаешь этого добряка, Фогель? — вмешался другой возчик, до того не открывавший рта.— У нас нет причин скрывать, что мы направляемся в Сентендре.
— Возможно, мы и не скрываем,— грубо возразил Фогель,— но, я думаю, это не касается никого.
— Конечно,— согласился трактирщик, угодливый, как истинный коммерсант.— Я расспрашивал просто по привычке… Господа желают кушать?
— Да,— ответил тот из двух ломовиков, который казался менее грубым.— Хлеб, сало, окорок, сосиски — все, что у тебя есть.
Повозка, очевидно, прошла долгий путь: голодные возчики усердно налегли на еду. Они устали и потому не засиделись за столом. Съев последний кусок, отправились спать, один на соломе в конюшне, близ лошадей, другой в повозке.
В полдень они появились, опять потребовали еды. Теперь они отдыхали и не торопились. Водка исчезала в их грубых глотках, как вода.
После полудня несколько телег останавливалось возле трактира, да и многочисленные пешеходы заходили выпить. Это были по большей части крестьяне с котомками за спиной и с посохом в руке. Почти все — завсегдатаи, и трактирщику приходилось только радоваться, что у него столь необходимая в его профессии крепкая голова: ведь он прикладывался к стаканчику почти со всеми клиентами. Это называлось «делать коммерцию». Разговаривая, выпивали, а за разговором пересыхали глотки, и это требовало новых возлияний.
Как раз в этот день для бесед хватало пищи. Ночное преступление занимало все умы. Новость принесли первые прохожие, и каждый добавлял какую-нибудь неизвестную еще подробность или высказывал собственное мнение.
Так трактирщик постепенно узнал, что великолепную виллу графа Хагенау, в пятистах метрах от Дуная, разграбили основательно и что сторож Христиан серьезно ранен; что преступление, без сомнения, есть дело неуловимой банды, которой приписывали все нераскрытые злодейства, и что грабителей ищет бригада, недавно созданная для надзора за рекой.
Двое возчиков не вмешивались в крикливые разговоры и рассуждения о событии. Они молчаливо посиживали в сторонке, хотя, по-видимому, немало заинтересовались тем, что волновало всех.
Однако шум понемногу утих, и к половине седьмого вечера возчики снова остались одни в большой зале, откуда только что удалился последний посетитель. Один из них позвал трактирщика из-за стойки, где он старательно полоскал стаканы.
— Что угодно господам? — спросил он, немедленно побежав.
— Ужинать,— отвечал возчик.
— А потом, конечно, спать? — спросил трактирщик.
— Нет, хозяин,— ответил тот из ломовиков, что казался более общительным.— Мы рассчитываем отправиться к ночи.
— К ночи?…— удивился трактирщик.
— Конечно, чтобы к рассвету быть на месте назначения.
— В Сентендре?
— Или в Гроне. Это будет зависеть от обстоятельств. Мы дожидаемся приятеля. Он скажет, где выгоднее сбыть товар.
Трактирщик вышел из комнаты, чтобы приготовить кушанья.
— Ты все слышал, Кайзерлик? — тихо сказал младший возчик, наклоняясь к компаньону.
— Да.
— Дело раскрыто.
— Но ты же не рассчитывал, я полагаю, что оно сохранится в тайне?
— И полиция начала действовать.
— Пускай себе.
— Под начальством Драгоша, как утверждают.
— Ну и что? По-моему, те, кто боится только Драгоша, могут спать спокойно.
— Что ты хочешь этим сказать?
— То, что я сказал, Фогель.
— Значит, Драгош будет…
— Что?
— Устранен?
— Завтра увидишь. А пока молчок! — кончил возчик, увидев входящего трактирщика.
Тот, кого ждали ломовики, появился только с наступлением ночи. Между тремя сообщниками состоялся быстрый разговор.
— Уверяют, что полиция на следу,— тихо сказал Кайзерлик.
— Она ищет, но не найдет.
— А Драгош?
— Захвачен.
— Кто сделал дело?
— Титча.
— Тогда все хорошо… А нам что делать?
— Немедленно запрягать.
— Чтобы отправиться…
— В Сентендре. Но когда отъедете полкилометра — повернете назад. Трактир уже закроется, вас никто не увидит, и вы отправитесь на север. Вас будут считать в той стороне, а вы окажетесь в противоположной.
— Где шаланда?
— В бухте у Пилиша.
— Встреча там?
— Нет, поближе, на поляне, слева от дороги. Ты ее знаешь?
— Да.
— Полтора десятка наших будут там. Вы их встретите.
— А ты?
— Я вернусь за остальными, которых оставил сторожить. Приведу их с собой.
— Тогда в путь,— согласились возчики.
Пять минут спустя телега двинулась. Хозяин, полуоткрыв створку ворот, вежливо поклонился клиентам.
— Итак, решено, вы в Грон? — спросил он.
— Нет,— ответили возчики,— в Сентендре, приятель.
— Счастливого пути, ребята!
— Спасибо, друг!
Повозка покатилась к западу, по дороге в Сентендре. Когда она скрылась в темноте, субъект, которого ждали весь день Кайзерлик и Фогель, в свою очередь, удалился в противоположном направлении по дороге в Грон.
Трактирщик ничего этого не заметил. Не интересуясь проезжими, которых, вероятно, никогда больше не увидит, он спешил закрыть дом и отправиться на покой.
Телега через полкилометра повернула, следуя приказу, и направилась назад по только что пройденному пути.
Когда она снова оказалась против гостиницы, все было закрыто, и телега могла миновать это место без всяких происшествий, но собака, уснувшая посреди дороги, сорвалась с места с таким громким лаем, что испуганная пристяжная рванулась к обочине. Возчики быстро направили лошадь куда следует, и телега исчезла в темноте.
Было около половины одиннадцатого, когда, оставив наезженный путь, телега проникла в лесок, его темная масса поднималась налево. Вскоре остановились.
— Кто идет? — спросил голос из потемок.
— Кайзерлик и Фогель,— отозвались возчики.
— Проезжайте,— ответил голос.
Въехали на поляну, где, растянувшись на мху, спали десятка полтора людей.
— Атаман здесь? — спросил Кайзерлик.
— Нет еще.
— Он приказал нам ждать тут.
Через какие-нибудь полчаса атаман, тот самый субъект, которого так долго ждали в трактире, появился еще с дюжиной сообщников, так что численность членов шайки превысила два с половиной десятка.
— Все здесь? — спросил главарь.
— Да,— ответил Кайзерлик; он, казалось, пользовался в банде некоторой властью.
— А Титча?
— Я здесь,— послышался звучный голос.
— Ну? — с беспокойством спросил атаман.
— Полный успех. Птичка в клетке, на борту шаланды.
— В таком случае отправляемся, да побыстрее,— приказал атаман.— Шесть человек на разведку, остальные позади, повозка в середине. До Дуная не более пятисот метров, и перегрузку сделаем одним махом. Тогда Фогель уведет телегу, и все местные спокойно возвратятся к себе. Прочие сядут в шаланду.
Едва лишь начали выполнять приказ, как один из людей, оставленных сторожить близ дороги, примчал во всю прыть.
— Тревога! — тихо сказал он.
— Что там такое? — спросил главарь банды.
— Слушайте!…
Все навострили уши. С дороги послышался шум идущих людей, звуки голосов. Расстояние не превышало двух сотен метров.
— Оставаться на поляне,— приказал атаман.— Они пройдут, не заметив нас.
Конечно, это было вполне вероятно, но дело могло стать более серьезным: если, на их несчастье, по дороге двигался взвод полиции, то он направится к реке. Может быть, судно обнаружат, правда, все предосторожности приняты. Пусть агенты полиции переворошат шаланды сверху донизу, они не найдут ничего подозрительного. Но полиция, возможно, останется в засаде, тогда было бы уж совсем неблагоразумным отправлять туда повозку.
В конце концов придется действовать по обстоятельствам. Прождав, если потребуется, следующий день в лесу, некоторые из людей спустятся ночью к Дунаю и удостоверятся в наличии или отсутствии полицейских.
Сейчас главное — не быть обнаруженными, ничем не выдать себя приближавшейся группе.
Она достигла места, где дорога шла вдоль поляны. Можно было рассмотреть, что группа состоит из дюжины людей, и многозначительное позвякивание показывало, что они вооружены. Группа уже почти миновала поляну, когда неожиданный случай совершенно изменил положение. Одна из лошадей, испуганная появлением людей на дороге, звонко заржала, ей откликнулась другая.
Группа остановилась.
Это действительно был наряд полиции, он спускался к реке под начальством Карла Драгоша, который совершенно оправился от утреннего вынужденного купания.
Возможно, если бы люди на поляне знали о том, кто командует полицейскими, их беспокойство возросло бы. Но, как уже сказано, их атаман считал, что опасный сыщик выбыл из строя. Как вожак шайки допустил такую ошибку, почему он думал, что не придется считаться с противником, который стоял почти лицом к лицу с ним, вскоре будет ясно.
Когда утром Карл Драгош выпрыгнул на берег, подчиненный повел его вверх по реке. Метров через двести — триста они нашли спрятанную у берега лодку, куда и сели. Тотчас же весла, которыми сильно греб Фридрих Ульман, понесли легкое суденышко на другой берег реки.
— Значит, преступление совершено там? — спросил Карл Драгош.
— Да,— ответил Фридрих Ульман.
— Где?
— Вверху. В окрестностях Грона.
— Как? В окрестностях Грона? — вскричал Драгош.— Ведь ты мне только что говорил, что это недалеко.
— Это недалеко,— сказал Ульман.— Тут не больше трех километров.
На самом деле там было четыре, и этот переход не без труда перенес человек, только что ускользнувший от смерти. Несколько раз Карл Драгош должен был останавливаться, чтобы перевести дыхание. Около трех часов пополудни он достиг наконец виллы графа Хагенау.
Переведя дух, Карл Драгош приказал вести себя к постели Христиана Хоэля. Перевязанный несколько часов назад врачом из окрестностей, сторож лежал с бледным лицом и закрытыми глазами, тяжело дыша. Хотя рана была очень серьезной и затронула легкое, можно было надеяться, что Хоэль поправится, если его не станут беспокоить.
Все же Карлу Драгошу необходимо было получить некоторые сведения, и сторож дал их задыхающимся, прерывистым голосом. Терпеливо расспрашивая, сыщик узнал, что шайка преступников — пять-шесть человек самое меньшее — ворвалась в виллу, взломав дверь. Сторож Христиан Хоэль, разбуженный шумом, едва успел подняться, как получил удар кинжалом между лопаток. Поэтому он не знал, что было дальше, и не мог дать никаких показаний насчет нападавших. Впрочем, он услыхал, что атаманом был некий Ладко, имя которого сообщники назвали несколько раз с непонятным бахвальством. Лицо Ладко закрывала маска, это был высокий здоровяк с большой белокурой бородой.
Эта последняя подробность, способная укрепить подозрения, которые он питал против Илиа Бруша, однако, смутила Карла Драгоша. Илиа Бруш тоже был блондин, это несомненно, но перекрасился в брюнета, а краску нельзя смыть вечером, чтобы восстановить ее утром. В этом заключалось серьезное затруднение, его Карл Драгош решил прояснить на досуге.
Сторож Христиан не мог рассказать более подробно, ничего не мог сообщить о других нападающих; они, как и их вожак, замаскировались.
Заполучив скудные данные, сыщик задал несколько вопросов о вилле графа Хагенау. Как он узнал, это было очень богатое жилище, обставленное с княжеской роскошью. Драгоценностями, серебром и ценными предметами изобиловали шкафы, на каминах и столах размещались произведения искусства, на стенах — старинные ковры и картины мастеров живописи. Ценные бумаги оставались на хранении в несгораемом шкафу на первом этаже. Нет сомнений, что похитители получили прекрасную добычу.
Это Карл Драгош мог легко установить, пройдясь по комнатам. Грабеж был полный, совершенный с замечательной методичностью. Громилы, как люди со вкусом, не обременяли себя малоценными вещами. Дорогие предметы исчезли; большие голые квадраты на стенах остались на месте содранных ковров; лишенные лучших полотен, искусно вырезанных, печально висели пустые рамы. Несгораемый шкаф был взломан, и его содержимое исчезло.
«Это все не унести людям на спине,— сказал сам себе Карл Драгош, осмотрев опустошения.— Здесь было чем нагрузить целую повозку. Нужно ее искать».
Допрос и первоначальный осмотр отняли много времени. Приближалась ночь. Важно было до полного ее наступления обнаружить следы телеги, ею, по мнению полицейского, обязательно должны были воспользоваться грабители. Сыщик поспешил прочь из виллы. Ему не пришлось далеко идти. В обширном дворе он обнаружил следы колес, отпечатанные перед разбитой дверью, и почва оказалась изрытой копытами застоявшихся лошадей.
Оставив двор, сыщик тщательно осмотрел на протяжении сотни метров дорогу, ведущую от решетки виллы к шоссе, и участок шоссе.
Вернувшись, он позвал:
— Ульман!
— Сударь? — ответил агент, приблизившись к начальнику.
— Так сколько же у нас людей?
— Одиннадцать, я уже докладывал.
— Мало,— заметил Драгош.
— Однако,— заметил Ульман,— сторож Христиан считает, что нападавших было не более пяти-шести.
— У сторожа Христиана свое мнение, а у меня свое,— возразил Драгош.— Что ж, придется довольствоваться тем, что есть. Оставишь одного человека здесь, десять возьмешь с собой. С нами двоими набирается дюжина. Это уже кое-что.
— У вас есть какие-нибудь указания? — спросил Фридрих Ульман.
— Я знаю, где наши грабители… По крайней мере, в какой стороне.
— Осмелюсь ли спросить…— начал Ульман.
— …Откуда взялась такая уверенность? — закончил Карл Драгош.— Ну, это детская забава. Прежде всего, я увидел, что вещей взято слишком много,— значит, требовалась повозка. Я искал ее и напал на след. Это телега на четырех колесах, в нее запряжены две лошади; у пристяжной недостает гвоздя на правой передней подкове.
— Как вы смогли все это узнать? — спросил Фридрих Ульман.
— Ведь прошлой ночью шел дождь, и влажная почва сохранила отпечатки. Я также узнал, что телега, оставив виллу, повернула налево, в направлении, противоположном дороге на Грон. Мы пойдем туда по следу лошади с приметной подковой. Маловероятно, чтобы наши молодчики путешествовали днем. Они, без сомнения, прячутся где-нибудь до вечера. А эта область мало населена, и дома здесь немногочисленны. Мы осмотрим все те, какие попадутся на дороге. Собирай людей. Уже наступает ночь, и дичь должна выбираться на волю.
Карл Драгош и его подчиненные шли медленно, ища новых следов преступников. Около половины одиннадцатого, когда, напрасно посетив две-три фермы, они добрались до трактира на скрещении трех путей, где двое возчиков провели день и откуда они отправились недавно, Карл Драгош повелительно застучал в дверь.
— Именем закона! — провозгласил Карл Драгош, когда в окне показался трактирщик, сон его вторично нарушался за этот день.
— Именем закона?…— повторил трактирщик, испуганный тем, что его дом окружила многочисленная группа людей.— А что я такого сделал?
— Спускайся, и тебе все объяснят. Но не мешкай,— нетерпеливо сказал Драгош.
Когда полуодетый трактирщик открыл дверь, полицейский быстро его допросил. Прибыла ли сюда утром повозка? Сколько человек ее сопровождало? Останавливалась ли она здесь? Куда отправилась?
Ответы не заставили себя ждать. Да, повозка с двумя возницами прибыла в гостиницу рано утром. Оставалась до вечера и отбыла только с появлением третьего лица, которого ждали приезжие. Уже пробило половину десятого, когда телега удалилась в направлении Сентендре.
— В Сентендре? — настойчиво переспросил Карл Драгош.— Ты в этом уверен?
— Уверен,— утверждал трактирщик.
— Тебе сказали или сам видел?
— Сам видел.
— Гм!… — пробормотал Карл Драгош и распорядился: — Хорошо. Ложись спать, приятель, да держи язык за зубами.
Трактирщик не заставил просить себя дважды. Дверь закрылась.
— Минутку! — скомандовал Карл Драгош своим людям, которые неподвижно ждали, и с фонарем в руке тщательно исследовал почву. Сначала он не заметил ничего подозрительного, но вот, пересекая дорогу, он приблизился к обочине. Здесь земля, менее изрытая проезжающими телегами и не так основательно замощенная, сохранила некоторую мягкость. С первого же взгляда Карл Драгош увидел отпечаток подковы, где не хватало гвоздя, и понял, что повозка направлялась не к Сентендре и не к Грону, но прямо к реке. По этому же пути устремился Карл Драгош во главе своей группы.
Три километра миновали без всяких происшествий по совершенно пустынной местности, когда налево от дороги раздалось ржание. Удержав своих жестом, Карл Драгош направился к опушке леска, неясно видного в темноте.
— Кто идет? — вскричал громкий голос.
Никакого ответа не последовало. Один из агентов по приказу начальника зажег смолистый факел. Дымное пламя живо озарило безлунную ночь, но свет иссякал в нескольких шагах, бессильный рассеять мрак, еще более густой под деревьями.
— Вперед! — скомандовал Драгош, проникая в заросли впереди взвода.
Но лес имел своих защитников. Едва только полицейские миновали опушку, как повелительный голос произнес:
— Ни шагу дальше, иначе стреляем!
Угроза не могла остановить Карла Драгоша, тем более что при смутном свете факела он различил неподвижную массу, вероятно, повозку, а вокруг нее людей, численность которых сыщик не мог определить.
— Вперед! — скомандовал он снова.
Повинуясь приказу, полицейские продолжали продвигаться, правда, неуверенно, в этом незнакомом лесу. Внезапно кто-то невидимый вышиб факел из рук агента. Тьма сделалась полной.
— Черт побери,— заворчал Драгош.— Свету, Франц, свету!
Его досада возросла, когда при последнем мерцании угасавшего факела он увидел, как повозка начала отступать, удаляясь под деревья. К несчастью, о преследовании не могло быть и речи. Взвод полиции встретил живую стену. Перед каждым агентом было двое-трое противников, и Драгош немного запоздало понял, что не располагает достаточными силами для победы. Правда, до сих пор еще не было сделано ни одного выстрела ни с той, ни с другой стороны.
— Титча! — позвал в это время голос из мрака.
— Здесь! — отвечал другой голос.
— Повозка?
— Отправилась.
— Тогда надо с этим кончать.
Эти голоса Драгош крепко запомнил.
Когда закончился этот краткий разговор, в ход пошли револьверы, сотрясая воздух сухим треском выстрелов. Ранило нескольких полицейских, и Карл Драгош, поняв, что упорствовать бессмысленно, скомандовал отступление. Наряд полиции отошел на дорогу, и победители не рискнули его преследовать.
Сначала нужно было заняться ранеными: трое полицейских были задеты пулями. После перевязки их отправили назад в сопровождении четырех товарищей. Драгош с Ульманом и тремя другими агентами устремились через поле к Дунаю, слегка уклоняясь в направлении Грона. Сыщик без труда нашел место, где причалил за несколько часов перед этим, и лодку, в которой они с Ульманом переплыли реку. В нее сели пятеро и перебрались на левый берег Дуная.
Карл Драгош потерпел поражение и задумал взять реванш. Что Илиа Бруш и слишком известный Ладко были одним и тем же человеком, в этом сыщик теперь не сомневался; он убедил себя, что именно этот субъект был виновником преступления предыдущей ночи. Очевидно, Ладко спрячет добычу и, не зная, что его шайка раскрыта, поспешит снова принять фальшивый облик, какой до сих пор позволял ему обманывать полицию. Перед рассветом он, конечно, вернется на баржу и станет ждать своего пассажира, как сделал бы безобидный и честный рыболов, каким Ладко хотел казаться.
Решительные люди дождутся его в засаде. Эти пятеро, побежденные Ладко и его бандой, легко сломят сопротивление, которое может оказать Ладко, принужденный в одиночку играть роль Илиа Бруша.
Хорошо задуманный план, к несчастью, был неисполним. Карл Драгош и его люди могли сколько угодно обследовать реку, но баржу рыболова оказалось невозможно разыскать. Драгош и Ульман без труда обнаружили место, где была стоянка Бруша, но не увидели ни малейших следов баржи. Судно исчезло и Илиа Бруш вместе с ним.
С Карлом Драгошем сыграли злую шутку, и это наполнило его яростью.
— Фридрих,— сказал он подчиненному,— я выдохся до конца и не в состоянии сделать больше ни шагу. Мне надо уснуть хотя бы на траве, чтобы набраться немного сил. Но один из наших должен взять лодку и немедленно подняться в Грон. Как только откроется почтовая контора, он должен послать телеграмму. Зажги фонарь. Я буду диктовать, пиши.
Фридрих Ульман молча повиновался.
— «Этой ночью совершено преступление в окрестностях Грона. Добыча погружена на шаланду. Строго проводить предписанные обыски».
— Вот одна,— сказал Драгош, завершив диктовку,— А теперь другая:
«Мандат на арест так называемого Ладко, ложно именующего себя Илиа Брушем и играющего роль лауреата «Дунайской лиги» на последнем конкурсе в Зигмарингене. Упомянутый Ладко, он же Илиа Бруш, обвиняется в грабежах и убийствах».
— Пусть эту телеграмму немедленно передадут во все без исключения прибрежные населенные пункты,— приказал Карл Драгош и в изнеможении растянулся на земле.
Глава X ПЛЕННИК
Подозрения Карла Драгоша, окончательно подкрепленные для него самого обнаружением женского портрета, не были целиком ошибочны. В одном пункте, по крайней мере, Карл Драгош рассуждал правильно: да, Илиа Бруш и Сергей Ладко — одно лицо. Напротив, Драгош серьезно ошибался, когда приписывал своему компаньону по путешествию совершение грабежей и убийств, столько месяцев нарушавших спокойствие дунайской области, и, в частности, последнее преступление — разграбление виллы графа Хагенау и ранение сторожа Христиана. Ладко, впрочем, не думал, что его пассажир держал в голове подобные мысли. Он только знал, что его фамилией называли известного преступника, и не мог понять, как могло случиться такое недоразумение.
Сперва Ладко был поражен сообщением об ужасном однофамильце, который, к довершению несчастья, оказался его соотечественником, и испытал безудержный страх. Но затем понемногу успокоился: что ему, в конце концов, до преступника, с которым у него общим было только имя? Невиновному нечего бояться.
Вот почему Сергей Ладко — будем теперь называть его настоящим именем — спокойно оставил баржу в предыдущую ночь, чтобы побывать в Сальке, как он и объявил спутнику. Он действительно скрывался в этом маленьком городке после отъезда из Рущука; там в течение долгих недель он ждал под именем Илиа Бруша известий от своей дорогой Натчи.
Ожидание, как уже известно, сделалось для него невыносимым, и он напрасно искал средства проникнуть инкогнито в Болгарию, когда ему случайно попал на глаза номер газеты «Пестер Ллойд», где в весьма сенсационном духе сообщалось о предстоящем рыболовном конкурсе в Зигмарингене. Изгнанник, столь же искусный рыболов, сколь и признанный лоцман, решился на авантюру, причудливость ее обещала, быть может, успех.
Под именем Илиа Бруша, какое он носил в Сальке, Ладко вступит в «Дунайскую лигу», явится на конкурс в Зигмарингене и, благодаря своему виртуозному искусству рыболова, завоюет первый приз. Придав, таким образом, вымышленному имени известность, он с большим шумом и даже с возможным заключением пари объявит о намерении спуститься по Дунаю с удочкой от истоков до устья. Не возникало сомнений, что этот замысел взволнует любителей-рыболовов и создаст его автору репутацию среди остальной публики.
Обеспечив себе бесспорное гражданское положение, ибо к «звездам» обычно питают слепое доверие, Сергей Ладко в самом деле начнет спускаться по Дунаю. Разумеется, он будет, насколько возможно, ускорять ход своей лодки и станет тратить на рыбную ловлю минимум времени. И все же он заставит говорить о себе во время плавания, напоминая о себе и завоевывая право открыто высадиться в Рутцуке под защитой приобретенной известности.
Чтобы благополучно достигнуть этой единственной цели, никто не должен будет разгадать его настоящее имя или в наружности рыболова Илиа Бруша угадать черты лоцмана Сергея Ладко.
Первое условие легко осуществимо. Достаточно, преобразовавшись в лауреата «Дунайской лиги», в дальнейшем безошибочно играть эту роль. Сергей Ладко поклялся себе оставаться Илиа Брушем наперекор всему, что бы ни случилось во время путешествия. Удовлетворить второму условию оказалось еще проще. Бритва снесла его бороду, краска изменила цвет волос, большие темные очки скрыли глаза, и этого оказалось вполне достаточно. Сергей Ладко совершенно переменил наружность в ночь перед отъездом из Сальки и пустился в путь до рассвета, уверенный, что его никто не узнает.
В Зигмарингене события развернулись по его замыслу. Когда он стал бесспорным лауреатом конкурса, его проект благосклонно восприняла печать прибрежных стран. Став достаточно известной личностью для того, чтобы никто не мог заподозрить его подлинное имя, и уверенный, с другой стороны, что рассеянные по реке члены «Дунайской лиги» в случае надобности помогут ему, Сергей Ладко пустился по течению.
В Ульме его постигло первое разочарование: он убедился, что относительная известность не спасает его от зорких глаз администрации. И Сергей был совершенно счастлив, приняв на борт пассажира с бумагами в полном порядке и, по-видимому, пользующегося уважением полиции. Конечно, когда он прибудет в Рущук и спуск по Дунаю придется прекратить, наличие постороннего представит известные трудности. Но тогда он объяснится, а до того присутствие пассажира увеличит шансы на успех путешествия, его Сергей Ладко страстно желал привести к счастливому концу.
Известие, о том, что его имя носит ужасный бандит и что этот разбойник тоже болгарин, заставило Сергея Ладко снова испытать тягостное волнение. Какова бы ни была его полная невиновность, а следовательно, и безопасность, он понимал, что абсолютное тождество имен и национальности могло вызвать самые прискорбные для него ошибки и важные осложнения.
Если имя, которое он скрывает под псевдонимом Илиа Бруша, обнаружится, это помешает высадке в Рущуке; в лучшем случае приведет к долгой отсрочке.
Против этой опасности Сергей Ладко ничего не мог сделать. Впрочем, если она и была серьезной, не следовало ее преувеличивать. В действительности казалось маловероятным, чтобы полиция без особых причин обратила внимание на безобидного рыболова-удильщика, а если и обратит, то внимание благосклонное, как на увенчанного лаврами зигмарингенского конкурса.
Прибыв в Сальку после захода солнца и покинув ее до рассвета, так что никто его не видел, Сергей Ладко только заглянул в дом, чтобы удостовериться в отсутствии известий от Натчи. В продолжительности молчания было что-то очень тревожное. Почему жена не писала уже два месяца? Что с ней случилось? Времена общественных потрясений влекут за собой бедствия отдельных людей, и лоцман с тоской говорил себе, что если сумеет благополучно высадиться в Рущуке, то, быть может, появится там слишком поздно.
Эта мысль, разбивая ему сердце, в то же время удесятеряла мощь его мускулов. Это она дала ему после отправления из Грона силу бороться с грозой и остервенелым ветром. И это она заставляла его ускорять шаги, когда возвращался к барже, неся подкрепительное для господина Иегера.
Велико было удивление Ладко, когда он не нашел пассажира, оставленного в тяжелом состоянии, и обнаруженная записка это удивление не уменьшила. Какая важная причина заставила господина Иегера уйти при такой слабости? Какие могли быть у обитателя Вены настоятельные дела в чистом поле, далеко от населенных пунктов? Здесь заключалась загадка, которую лоцман вряд ли мог разрешить.
Но какова бы ни была причина отсутствия господина Иегера, она в любом случае создавала неудобство и удлиняла путешествие, и без того долгое. Без такого непредвиденного происшествия баржа уже шла бы посредине реки, и к вечеру много километров прибавилось бы к тем, которые остались за кормой.
Очень сильно было искушение, не считаясь с просьбой господина Иегера, отчалить и без потери времени продолжать плавание, цель которого неудержимо притягивала Сергея Ладко.
Лоцман, однако, решился ждать. Он обязался перед своим пассажиром, и со всех точек зрения лучше было потерять день, чтобы не доставлять предлогов к позднейшим упрекам и обвинениям.
Чтобы с пользой употребить остаток дня, ему, к счастью, хватило работы. Следовало привести в порядок баржу и исправить повреждения, причиненные бурей.
Сергей Ладко сначала принялся укладывать содержимое сундуков, которые перерыл во время утренних бесполезных поисков. Это не потребовало много времени. Когда он привел в порядок второй сундук, взгляд упал на портфель, который незадолго перед этим привлек внимание Карла Драгоша. Лоцман открыл портфель, как и полицейский, и, как он же, но с совершенно другими чувствами, вытащил портрет с трогательной надписью, портрет, подаренный Натчей в момент расставания. Сергей Ладко долго созерцал прекрасное лицо. Натча!… Это ее дорогие черты, ее чистые глаза, ее губы, полуоткрытые, словно вот-вот заговорит…
Со вздохом он положил фотографию в портфель, а его — в сундук, он спрятал ключ в тайничок и вышел, чтобы заняться другой работой.
Но дело не ладилось, руки опускались, и, сев спиной к берегу, он стал смотреть на реку. Он вспоминал Рущук. Он видел свою жену, свой дом, веселый, полный песен… Нет, он не жалел ни о чем. Он снова пожертвует своим счастьем для блага родины, если это понадобится… И, однако, как он страдал, что такая горестная жертва принесена бесполезно! Революция вспыхнула преждевременно и безжалостно раздавлена. Сколько лет суждено еще Болгарии изнывать под игом угнетателей? И, если он сможет пересечь границу, найдет ли ту, которую любит? Не захватили ли ее турки как заложницу, как жену одного из своих непримиримых противников? Если это так, что они сделали с Натчей?
Увы! Случись беда с Сергеем и Натчей — следы этой семейной драмы затеряются среди грозных событий, сотрясающих балканскую область. Кому есть дело до несчастья двух существ среди всеобщего народного отчаяния? Свирепые орды наводнили полуостров. От топота лошадей дрожит земля, и даже самые бедные деревушки опустошены войной.
Против турецкого колосса[25] поднялись два пигмея — Сербия и Черногория[26]. Сможет ли этот Давид победить Голиафа?[27] Ладко понимал, до какой степени неравны силы, и возлагал надежды на сильнейшего из всех славян, великого русского царя, который, быть может, благоволит протянуть мощную руку помощи угнетенным братьям.
Погруженный в свои мысли, Сергей Ладко совершенно забыл о том, где находится. По берегу мог промаршировать целый полк, а он бы не обернулся. Тем более не заметил приближения троих: они подкрадывались сверху с большой осторожностью.
Но, если Ладко не видел лазутчиков, они его заметили, как только баржа показалась из-за поворота реки. Трое остановились и стали тихо совещаться.
Один из них, Титча, был тот, кто в сопровождении спутника в венской гавани крался за Карлом Драгошем, пока тот, в свою очередь, выслеживал Илиа Бруша; тогда Титча обнаружил баржу, на которой плыли рыболов-лауреат и его спутник. В банде Титча значился вторым после атамана, злодеяния которого доставили лоцману Ладко, чье имя присвоил разбойник, незаслуженно постыдную славу. Двое других, Сакман и Церланг, были рядовыми исполнителями. Сейчас Титча и его сообщники решили захватить судно.
— Это он! — пробормотал Титча, останавливая жестом сообщников, как только перед ними открылась баржа.
— Драгош? — спросил Сакман.
— Да.
— Ты уверен в этом?
— Абсолютно.
— Но ведь лица не видно, а только спину,— возразил Церланг.
— Мне ни к чему смотреть ему в лицо,— сказал Титча.— Я его лица не знаю, я едва заметил его в Вене.
— Так как же…
— Но я прекрасно знаю судно,— перебил Титча,— я его очень хорошо рассмотрел, пока я и Ладко скрывались в толпе. Я уверен, что не ошибаюсь.
— Тогда за дело! — сказал один из бандитов.
— За дело,— согласился Титча, развертывая узел, который держал в руках.
Лоцман даже не подозревал, что за ним подсматривают, не заметил, как приблизились трое врагов; не слышал их шагов. Погруженный в мечты, он мысленно спешил по реке к Натче и родной стране.
Внезапно множество крепких веревок сразу обвилось вокруг него, сбило с ног, парализовало его члены.
Вскочив, он бился в напрасных усилиях, когда жестокий удар по голове ошеломил его и, запутанного в ловко брошенной рыболовной сети, сбросил на дно баржи.
Когда Сергей Ладко вышел из полуоцепенения, сеть уже сняли. Зато связали крепкой веревкой, и он не мог пошевельнуться; затычка во рту не позволяла крикнуть, непроницаемая повязка закрывала глаза. Первым чувством Сергея Ладко, когда к нему вернулось сознание, было непередаваемое изумление. Что с ним произошло? Что означало это необъяснимое нападение и что с ним хотят сделать? В одном он был, по крайней мере, уверен: если бы его собирались убить, это уже сделали бы. Раз он еще в этом мире, значит, на его жизнь не покушаются, и нападающие, кто бы они ни были, только хотели завладеть его особой.
Но зачем, с какой целью?
Ответить на вопрос было нелегко. Грабители? Они не стали бы трудиться и так старательно упаковывать жертву, когда удар ножа был бы быстрее и вернее. Впрочем, какие это жалкие, должно быть, грабители, если их привлекло имущество на бедной барже!
Мщение? Это еще более невозможно. У Илиа Бруша не было врагов. Единственные враги Ладко, турки, не могли подозревать, что болгарский патриот скрывается под именем рыболова, а если бы даже узнали об этом, не такой он был важной персоной, чтобы они рискнули на это насилие так далеко от границы, в центре Австрийской империи. Кроме того, турки умертвили бы его с большей вероятностью, чем простые разбойники.
Убедившись, что пока тайна неразрешима, Сергей Ладко, как человек дела, перестал об этом раздумывать и решил наблюдать за событиями и искать средства возвратить свободу, если только будет возможно.
Его положение не способствовало наблюдениям. Крепко обмотанный веревкой, он совсем не мог двигаться, а повязка закрывала глаза так плотно, что он не мог бы отличить дня от ночи. Весь уйдя в слух, он убедился, что лежит на дне судна — своего, без сомнения,— и что баржа быстро движется усилиями крепких рук. Он явственно слышал скрип весел в уключинах и плеск воды о борта.
Куда направлялась баржа? Такова была вторая задача, которую Сергей разрешил довольно легко. В момент нападения неизвестных солнце еще не удалилось от меридиана. Ладко без труда заключил, что половина его туловища находится в тени от борта лодки и что баржа плывет с востока на запад, следуя, таким образом, по течению, как и в то время, когда она повиновалась законному владельцу.
Те, кто держал его в своей власти, не обменялись ни словом. Молчаливое плавание продолжалось часа полтора, когда солнечные лучи упали на лицо Сергея, и он понял, что повернули к югу. Лоцман не удивился. Превосходное знание малейших извилин реки дало ему понять, что они плывут мимо горы Пилиш. Вероятно, скоро они направятся на восток, потом на север до того места, откуда Дунай начинает спускаться на Балканский полуостров.
Эти предвидения оправдались только частично. В момент, когда Сергей Ладко рассчитывал, что они достигли середины бухты Пилиш, шум весел внезапно прекратился. Баржа поплыла по течению, раздался резкий голос.
— Примите крюк,— приказал один из находившихся в лодке.
Почти тотчас послышался удар, затем скрип борта о твердую поверхность, а после Сергея Ладко подняли и стали передавать из рук в руки.
Очевидно, баржа причалила к большому судну, на его борт пленника грузили словно тюк. Ладко напрасно напрягал слух, чтобы уловить хоть какие-нибудь слова. Тюремщики обнаруживали себя только прикосновением грубых рук и прерывистым дыханием. Связанного Сергея Ладко дергали туда и сюда, но не лишили возможности соображать. Его сначала подняли, потом спустили по лестнице, ступеньки ее он пересчитал поясницей. По ударам и толчкам он понял, что его протащили сквозь узкое отверстие; наконец, освободив от кляпа во рту и повязки на глазах, его сбросили, как узел, и над ним, глухо стукнув, захлопнулась крышка люка.
Прошло много времени, прежде чем Сергей Ладко, оглушенный падением, пришел в себя. Он понял, что его положение не улучшилось, хотя к нему вернулись речь и слух. Если вынули затычку изо рта, это означало, что его криков все равно никто не услышит, и удаление повязки с глаз тоже не принесло пользы. Вокруг была темнота. И какая! Это не была темнота погреба, где глаз все же может различить смутный свет; это была тьма полная, абсолютная, какая бывает только в могиле. Да еще в трюме судна, где и находился Ладко.
Сколько часов прошло таким образом? Сергей думал, что наступила уже полночь, когда до него донесся шум, приглушенный расстоянием. Где-то бегали, топали ногами. Потом шум приблизился. Прямо над его головой волочили тяжелые тюки, и от грузчиков его отделяла всего лишь толщина одной доски.
Шум стал еще ближе. Теперь разговаривали возле него, без сомнения, за одной из переборок, но он не мог уловить смысла слов.
Скоро, впрочем, шум прекратился, и молчание снова водворилось вокруг несчастного лоцмана, окруженного непроницаемой тьмой.
Измученный, Сергей Ладко заснул.
Глава XI ВО ВЛАСТИ ВРАГА
После того как Драгош и его люди отступили, победители сначала оставались на месте битвы, готовые сопротивляться новому нападению, а повозка в это время отправилась к Дунаю. Прошло достаточно времени, чтобы убедиться: полиция удалилась. Банда по приказу атамана двинулась в путь.
Они скоро достигли реки. Телега ждала перед шаландой, темная масса которой виднелась в нескольких метрах от берега. Две лодки быстро перевезли на борт груз. Повозка сейчас же удалилась, и большинство сражавшихся на поляне рассеялись по окрестностям, получив плату за свою долю добычи. На палубе судна осталось всего восемь человек.
Только из них и состояла знаменитая дунайская банда. Да и отпущенные сейчас по домам были малой частью бесчисленного количества сообщников, которых использовали при совершении преступлений. Они никогда не участвовали непосредственно в деле и лишь выполняли обязанности носильщиков, стражников или конвоиров с момента, когда нужно было переправить к реке награбленную добычу.
Такая организация была весьма умной. Благодаря ей банда располагала на всем течении Дуная множеством соучастников, мало понимавших характер операций, коим они содействовали. Набранные из самого темного слоя населения, очень невежественные, они предполагали, что участвуют просто в перевозке контрабанды, и ни о чем не допытывались.
Зато восемь человек, оставшихся в шаланде, были тесно связаны и образовывали настоящую шайку. На своем судне они поднимались и спускались по Дунаю. Если где-нибудь предстояла выгодная операция, они останавливались, набирали сообщников, потом, когда добыча оказывалась в безопасности в плавучем тайнике, отправлялись на новые дела.
Когда шаланда наполнялась, они спускались по Черному морю, где специальный пароход ждал в назначенный день. Награбленные и добытые иногда ценой убийства богатства превращались в честный груз, его вполне открыто продавали в далеких странах.
На этот раз был исключительный случай, когда о банде заговорили столь близко от места преступления. Сейчас атаман имел особую причину не сразу удалиться, и в этом играла роль личность сыщика Карла Драгоша.
Когда главарь, сопровождаемый своим помощником Титчей, узнал в Вене сыщика, за Карлом Драгошем тотчас установили слежку с помощью местных сообщников шайки. Шаланда разбойников плыла перед баржей, опережая ее всего на несколько километров. Случаю было угодно, чтобы Карла Драгоша и рыболова-лауреата ни разу не видели вместе. Ничто не заставляло предполагать, что в барже два обитателя и, следовательно, можно ошибиться.
Атаман бандитов считал себя хозяином положения. Убивать сыщика он не хотел. Он решил им завладеть хотя бы на время. Когда Карл Драгош окажется в его руках, у преступника появится хороший козырь при переговорах с властями в случае серьезных осложнений.
Похищение приходилось откладывать в течение нескольких дней. Или баржа останавливалась на ночлег слишком близко от населенного пункта, или неподалеку оказывались полицейские агенты, рассеянные по берегу,— личность их легко определял опытный бандит.
Наконец утром 29 августа обстоятельства оказались вполне благоприятными. Буря, которая в предыдущую ночь помогла банде в нападении на виллу графа Хагенау, должна была разогнать полицейских, следовавших за начальником по реке. Вероятно, на время он останется один, без защиты. Этим и можно будет воспользоваться.
Как только повозка была нагружена имуществом из виллы, Титча выбрал из своих людей двоих наиболее решительных. Читатель уже видел, как авантюристы выполнили поручение и как лоцман Сергей Ладко стал их пленником вместо сыщика Карла Драгоша.
Сперва Титча мог сообщить атаману об успехе кратко. Подробный разговор обязательно должен был возобновиться, но пока было не до того. Прежде всего надлежало скрыться и спрягать многочисленные тюки, разбросанные по палубе, и этим немедленно занялись все восьмеро. Они быстро снесли или скатили по доскам внутрь судна добычу, что потребовало всего несколько минут; потом приступили к окончательной укладке. Часть днища в трюме безбоязненно подняли. Вода непременно должна была хлынуть в трюм, но этого не случилось.
Поистине замечательно было устроено судно, служившее одновременно средством транспорта, жилищем и тайным складом. Под судном, видимым снаружи, было приделано другое, меньших размеров, его палуба служила дном первому. Это нижнее судно, глубиной метра в два, поддерживало основную шаланду, она возвышалась ватерлинией[28] на фут или два над поверхностью воды. Чтобы хитрость не разоблачалась, подводное судно нагружали балластом, достаточным, чтобы притопить его целиком, так, чтобы ватерлиния оказывалась на должном месте, а не столь высоко.
Когда в тайник погружали награбленные товары, часть балласта выбрасывалась, и осадка судна не изменялась, равняясь полагающимся семи футам.
Полиция могла обыскивать судно сколько угодно. Она могла измерять внутреннюю и наружную высоту шаланды, не находя никакой разницы. Даже измеряя глубину воды вокруг судна, нельзя было обнаружить подводный тайник с меньшим обводом и линиями, круто убегавшими вкось. Любые обследования приводили к заключению, что шаланда пуста и сидит в воде настолько, чтобы лишь сохранять равновесие.
В отношении бумаг были приняты все предосторожности. Во всех случаях, поднималось ли по реке или спускалось судно, оно или шло за товаром, или возвращалось в порт приписки, выгрузив товар. Смотря по обстоятельствам, оно принадлежало то господину Константинеско, коммерсанту из Галаца, то господину Венцелю Мейеру, предпринимателю из Вены. Документы, в изобилии снабженные казенными печатями, содержались в порядке, и никому не приходило в голову проверять их подлинность. Да и случись такая проверка, она лишь показала бы, что в указанных городах действительно живут некие Константинеско и Венцель Мейер.
В действительности владельцем был Иван Стрига. Тот самый один из наименее достойных обитателей Рущука, кто исчез из города после того, как тщетно пытался помешать свадьбе Сергея Ладко и Натчи Грегоревич. О Стриге шли дурные слухи, и людская молва обвиняла его во всевозможных преступлениях.
Тем не менее Иван Стрига обеспечил себе почти полную безопасность. Вместо того чтобы скрывать свое имя и внешность, как сделал бы обыкновенный преступник, он решил устроить так, чтобы жертвы и свидетели его знали. Разумеется, не собственное его имя. Нет, то, какое он с бесстыдной ловкостью оставлял позади себя, было имя Сергея Ладко.
Скрываться под чужим именем, совершая преступления,— давно известная уловка, но Стрига очень хитро выбрал себе псевдоним.
Имя Ладко, как и любое другое, могло создать путаницу на месте преступления и отвести подозрения от действительного виновника; но оно имело только ему свойственные преимущества.
Во-первых, Сергей Ладко не был вымышленной личностью. Он существовал, если только ружейная пуля, пущенная при отъезде из Рущука, не прекратила навсегда его существование. Хотя Стрига и хвалился, что уничтожил своего врага, в действительности сам этого не знал. Да это было и не важно. Если вздумают производить розыск в Рущуке и выяснится, что Ладко уже мертв, полиция не поймет, почему на него пало обвинение. Если же лоцман жив, следователи встретят в нем человека с такой безукоризненной репутацией, что дело, по всей вероятности, этим и кончится. Тогда, без сомнения, начнут искать тех, кто имеет несчастье быть его однофамильцем. Но, прежде чем просеют через решето всех Ладко в мире, много воды утечет в Дунае!
Если же случайно подозрения против Сергея Ладко пробьют броню его честности, это будет для Стриги вдвойне счастливый результат. Бандиту всегда приятно, когда вместо него судят другого; вдобавок, подмена будет еще приятнее и потому, что он питал к своей жертве смертельную ненависть.
Быть может, эти рассуждения были не вполне убедительны, однако отсутствие Сергея Ладко делало их логичными, ведь никто не знал о его патриотической миссии. Почему лоцман исчез незаметно? Местная бригада речной полиции уже начала задавать себе этот вопрос как раз в то время, когда Карл Драгош, думалось, открыл истину; а ведь известно: если полиция начинает задавать себе вопросы, она редко отвечает на них благожелательно.
Итак, картина выстраивается во всей драматической сложности. Длинная цепь преступлений, которые приписывают некоему Ладко из Рущука; исчезнувший из родного города лоцман с той же фамилией, которого в Рущуке начинают подозревать, правда, пока еще смутно; в это же время за сотни километров оттуда Ладко, обвиняемый Драгошем на основе серьезных улик, скрывается под маской рыболова Илиа Бруша; и, в завершение всего, Стрига, пользующийся после каждого преступления своим подлинным именем, чтобы свободно разъезжать по Дунаю, тогда как молва приписывает злодеяния ни в чем не повинному лоцману Ладко.
Итак, добычу упрятали в тайник. Шум погрузки слышал настоящий Сергей Ладко в том самом подводном трюме, куда не могла прийти никакая человеческая помощь…
Было около трех часов утра. Экипаж судна, утомленный тревогами этой и предыдущей ночи, крайне нуждался в отдыхе, но об этом не могло быть и речи. Стрига, желая поскорее удалиться от места ограбления, приказал немедленно пуститься в путь, пока не рассветало; приказ был выполнен безропотно — ведь каждый понимал его резонность.
Пока поднимался якорь и шаланду выводили на середину реки, Стрига осведомился о подробностях утренней операции.
— Он был совсем один,— ответил Титча.— Драгош сразу запутался в сеть, как простая щука.
— Видел он вас?
— Не думаю. У него были другие заботы.
— Не сопротивлялся он?
— Попробовал, каналья. Пришлось его пристукнуть, чтобы успокоить.
— Но ты его не укокошил? — живо откликнулся Стрига.
— Да нет! Только оглушил. Я этим воспользовался, чтобы связать его покрепче. Я еще не кончил упаковку, как он не мог бы позвать ни папу, ни маму.
— А теперь?
— Он в трюме, в том, понятно, что с двойным дном.
— Знает он, куда его перенесли?
— Ну, тогда он чересчур большой хитрец,— объявил Титча с грубым смехом.— Я ведь не забыл снабдить его ни затычкой во рту, ни повязкой на глаза. От них его освободили только в трюме. Там, если ему угодно, он может распевать романсы и восхищаться картинами природы.
Стрига молча ухмыльнулся. Титча продолжал:
— Я сделал все по твоему приказу, но куда это нас заведет?
— По крайней мере, приведет в расстройство бригаду, лишенную начальника,— ответил Стрига.
Титча пожал плечами.
— Назначат другого,— сказал он.
— Не спорю, но новый, возможно, будет хуже того, кого мы схватили. И, во всяком случае, мы попробуем договориться. В обмен на пленного потребуем паспорта, которые нам так необходимы. Очень важно сохранить его живым.
— Он жив,— заверил Титча.
— А подумал ты накормить его?
— Черт… — Титча почесал в затылке.— Совсем об этом позабыли. Но двенадцать часов воздержания никому не повредят, и я отнесу ему обед, когда мы тронемся… Если только ты не захочешь отнести сам и кстати посмотреть на него.
— Нет,— быстро возразил Стрига.— Я предпочитаю, чтобы он меня не видел. Я его знаю, а он меня нет. Это — козырь, которого я не хочу терять.
— Ты можешь надеть маску.
— Это не пройдет с Драгошем. Он не нуждается в том, чтобы видеть лицо. Он распознает человека по росту, ширине плеч и другим приметам.
— Значит, это, на свою беду, я должен носить ему пищу!
— Нужно же кому-то это делать… Впрочем, Драгош сейчас не опасен, а когда станет опасен снова, мы уже скроемся.
— Аминь! — сказал Титча.
— Пока,— начал опять Стрига,— надо держать его в коробке. Но не очень долго, иначе он умрет от удушья. Поднимите его в каюту на палубе, когда минуем Будапешт, завтра утром после моего отъезда.
— Ты намерен оставить нас? — спросил Титча.
— Да,— ответил Стрига.— Я буду время от времени покидать шаланду, чтобы собирать сведения на берегу. Я узнаю, что говорят о нашем последнем деле и об исчезновении Драгоша.
— А если тебя сцапают? — возразил Титча.
— Опасности нет. Никто меня не знает, и вдобавок я появлюсь в совершенно новом облике.
— В каком?
— Знаменитого Илиа Бруша, знатного рыболова и лауреата «Дунайской лиги».
— Вот это мысль!
— Превосходная! У меня лодка Илиа Бруша. Я заимствую его шкуру по примеру Карла Драгоша.
— А если у тебя попросят рыбу?
— Я ее куплю, если понадобится, чтобы продать.
— У тебя готов ответ на все.
— Еще бы, черт возьми!
На этом разговор прекратился. Шаланда плыла по течению. Дул легкий ветерок, он стал попутным, и Стрига, спеша, вдобавок приказал грести двумя длинными веслами, ими обычно пользовались, идя против ветра. До Будапешта оставалось еще километров тридцать.
По мере того как спускались вниз, вид берегов становился более суровым. Чаще появлялись тенистые зеленые острова, иногда разделенные узкими каналами, где нельзя было пройти шаландам и где проскальзывали только изящные увеселительные яхты.
Шаландой, где Стрига был капитаном, следовало управлять очень умело. Она отличалась значительными размерами, так как водоизмещение превышало двести тонн. На палубе находилась надстройка — спардек, передняя часть его образовывала рубку, где помещался экипаж. На мачте поднимали национальный флаг, а у кормы был укреплен длинный брус, с его помощью поворачивали руль.
Оживление на реке все увеличивалось, как всегда при подходе к большим городам. Легкие паровые или парусные суда с гуляющими или туристами скользили между островов. Вдали дым фабричных труб затемнил горизонт, указывая на приближение к предместьям Будапешта.
В этот момент произошло странное событие. По знаку Стриги Титча с одним из членов экипажа прошел в рубку. Они скоро возвратились, ведя стройную женщину, черты ее лица под повязкой нельзя было рассмотреть. Женщина с руками, связанными за спиной, шла между двумя конвоирами и не пыталась сопротивляться, очевидно, зная по опыту, что это бесполезно. Она послушно спустилась по трапу в трюм, а затем в отделение с двойным дном, и над ней захлопнулся люк.
После этого Титча и его напарник возвратились к своим делам.
В середине дня шаланда оказалась против набережной венгерской столицы. Направо развертывалась Буда, старинный турецкий город; налево современный Пешт.
На обоих берегах, и в особенности на левом, следовали друг за другом дома с террасами, над ними возвышались позолоченные солнцем колокольни церквей; длинная цепь набережных выглядела торжественно.
Экипаж шаланды не обращал внимания на впечатляющее зрелище. Плавание мимо Будапешта могло грозить этим людям неприятными сюрпризами, и они следили только за рекой, где толпились многочисленные суда. Благоразумная осторожность позволила Стриге заблаговременно различить среди других лодку с четырьмя пассажирами, она направлялась прямо к шаланде. Узнав катер речной полиции, Стрига мигнул Титче, тот без дальнейших объяснений ринулся в трюм.
Стрига не ошибся. Катер причалил к судну. Двое поднялись на борт.
— Капитан? — спросил один из вновь прибывших.
— Это я,— отвечал Стрига, выходя вперед.
— Ваше имя?
— Иван Стрига.
— Национальность?
— Болгарин.
— Откуда судно?
— Из Вены.
— Куда?
— В Галац.
— Его владелец?
— Господин Константинеско из Галаца.
— Груженая?
— Нет ничего. Возвращаемся порожняком.
— Ваши бумаги?
— Извольте,— сказал Стрига, вручая чиновнику документы.
— Все в порядке,— одобрил тот, возвращая бумаги после тщательного просмотра.— Мы заглянем в ваш трюм.
— Прошу вас,— пригласил Стрига.— Осмелюсь только заметить, что это уже четвертое посещение после нашего отплытия из Вены. Извините, но весьма неприятно.
Полицейский, не отвечая, спустился по трапу. Сделал несколько шагов в трюме, осмотрел его и поднялся наверх. Ему, конечно, не пришло в голову, что под его ногами находятся мужчина и женщина, бессильные позвать на помощь. Шаланда действительно оказалась совершенно пустой, не приходилось перебирать груз, что, к удовольствию чиновника, значительно упрощало дело. Не задавая больше вопросов, полицейский отбыл на катере осматривать другие суда, а шаланда медленно продолжала путь вниз по реке.
Когда последние дома Будапешта остались позади, пришло время заняться пленницей из трюма. Титча и его напарник исчезли внизу, затем возвратились, ведя женщину, несколько часов назад запрятанную в темницу; теперь она снова была заперта в рубке.
Плавание перемежалось несколькими остановками, во время них Стрига покидал судно на лодке, захваченной, как полагали бандиты, у Карла Драгоша. Не думая скрываться, он причаливал к деревням, представлялся их обитателям как знаменитый лауреат «Дунайской лиги», заводил разговоры, которые ловко направлял на интересующие его темы. Сведения оказывались очень скудными. Имя Илиа Бруша почти не слышали в этих краях. Конечно, в Мохаче, Апатине, Нейзаце[29], Землине[30] или Белграде — в этих значительных городах — дело будет обстоять иначе. Но Стрига не намеревался показываться там и продолжал попытки собрать хоть какие-то данные в деревушках, где полиция менее бдительна и риск навлечь на себя подозрение был меньше. К несчастью, крестьяне и здесь не слыхивали о конкурсе в Зигмарингене и вообще не любили, когда о чем-либо их расспрашивали, от них ничего нельзя было и выпытать. О Карле Драгоше они знали не больше, чем об Илиа Бруше, и Стрига напрасно пускал в ход свои дипломатические тонкости и тратился на угощение в кабачках.
Во время одной из отлучек Стриги Сергея Ладко перевели наверх и поместили в маленькой каюте, дверь ее старательно закрыли. Это была излишняя предосторожность: пленник оставался крепко и умело связанным.
Гонимая течением и попутным ветром, шаланда делала до шестидесяти километров в сутки. Это расстояние могло стать значительно больше, кабы не частые остановки, из-за вылазок Стриги на берег.
Если его разведки и были бесплодными, то хотя бы одну из них Стрига сумел сделать выгодной с другой точки зрения, пустив в ход свои профессиональные навыки.
Пятого сентября шаланда остановилась на ночлег против маленького местечка. Стрига отправился на берег, как обычно. Наступил вечер. Крестьяне, которые ложатся спать с солнышком, по большей части уже ушли в свои жилища. Стрига разгуливал в одиночестве, когда заметил дом с виду побогаче других, хозяин которого, всецело доверяя традиционной деревенской честности, оставил дверь открытой, а сам ушел куда-то по делам.
Стрига, не колеблясь, вошел в дом, это оказалась мелочная лавочка. Вытащить из кассы дневную выручку было делом недолгим и нехитрым. Не довольствуясь этой скромной добычей, бандит обнаружил во внутренней комнате сундук; из него он извлек тяжеленький мешочек, издававший приятный металлический звон.
Весьма довольный, Стрига поспешил возвратиться на шаланду.
А вообще-то путешествие происходило без особых приключений.
Стрига время от времени исчезал в рубке или входил в каюту, расположенную против той, где поместили Сергея Ладко. Иногда эти посещения продолжались всего несколько минут, иногда затягивались. Нередко на палубу долетали отзвуки жестокого спора, где можно было различить спокойный голос женщины и злобный мужской. Результат был всегда одинаков: полное равнодушие экипажа и возвращение разъяренного Стриги, который спешил покинуть судно на лодке, чтобы в одиночестве успокоиться.
Обычно он высаживался на правом берегу. На левом города и деревни встречались редко; там до самого горизонта тянулась необозримая «пушта» — так обычно называют венгерскую равнину; на протяжении более чем в сто лье она граничит с Трансильванскими горами.
Железные дороги, которые по ней проходят, пересекают бесконечные пространства пустынных степей, обширных лугов, бескрайних болот, где изобилует водяная дичь. Пушта — это всегда щедро накрытый стол для бесчисленного количества четвероногих гостей, тысяч и тысяч животных, составляющих главное богатство венгерского королевства. Редко кое-где встречаются поля пшеницы или кукурузы.
Ширина реки становится здесь очень значительной, и ее течение разделяют многочисленные острова и островки. Часто Дунай разделяется ими на длинные рукава, где поток приобретает довольно большую скорость.
Эти острова неплодородны. На них растут березы, осины, ивы среди ила, наносимого многочисленными наводнениями. Там скашивают много травы, и барки, нагруженные до краев, перевозят сено на прибрежные фермы.
Шестого сентября шаланда бросила якорь с наступлением ночи. Стриги на борту не было. Он не рискнул появиться ни в Нейзаце, ни в соединенным с ним плавучим мостом Петервардейне, многолюдство их представлялось разбойнику опасным. Он избрал для расспросов Карловиц, расположенный в двадцати километрах ниже. Он приказал шаланде остановиться за два-три лье от города и ждать.
Около девяти вечера Стрига был недалеко от города. Он не торопился. Пустив баржу по течению, он отдался довольно приятным мыслям. Почему бы и не поблагодушествовать? Его уловка вполне удалась. Никто о нем не подозревал, ничто не мешало собирать сведения. Пускай, по правде говоря, не очень богатые. Но всеобщее незнание, граничившее с равнодушием, само по себе было благоприятным признаком. До этой местности доходили только самые смутные слухи о дунайской банде, и никто не подозревал о существовании Карла Драгоша, а значит, и его исчезновение не могло никого взволновать.
Здешние места производили на Стригу впечатление глухой провинции; ничто не свидетельствовало о бдительности речной полиции, такой деятельной за двести — триста километров выше по реке.
Все шансы были за то, что шаланда благополучно достигнет цели путешествия — Черного моря, где груз передадут на пароход. Завтра они минуют Землин и Белград. Нужно только плыть вдоль сербского берега, чтобы избежать всяких нежелательных сюрпризов. В Сербии из-за войны с Турцией хватало всякого беспорядка, и вряд ли речные власти всерьез заинтересуются невзрачным судном, порожняком спускающимся по течению.
Как знать, быть может, это последнее путешествие Стриги. Быть может, он укроется в дальних краях, богатый, уважаемый — и счастливый, думал он, вспоминая о пленнице, заключенной на судне.
Так размышлял Стрига, когда его взгляд упал на сундуки, крышки которых служили кушетками Карлу Драгошу и его хозяину судна. Вот уже восемь дней он владеет баржей и не подумал как следует осмотреть ее. Теперь выпало подходящее время исправить эту непонятную забывчивость.
В сундуке у правого борта оказались только белье и одежда, сложенные в порядке. Стрига не нуждался в старье, он небрежно захлопнул ящик и принялся за второй.
И там оказались предметы несложного быта рыболова-путешественника, разочарованный Стрига уже хотел все это оставить, как вдруг открыл в углу более интересный предмет. В туго набитом портфеле хранились, по всей вероятности, бумаги. Конечно, бумаги часто бывают и немыми, но во многих случаях ничто не может сравниться с их красноречием.
Из портфеля вывалились документы, которые Стрига внимательно рассмотрел. Попадались квитанции и письма, все на имя Илиа Бруша, ни одной — на сыщика Карла Драгоша.
Странно. Может быть, Карл Драгош вместо того, чтобы завоевать роль лауреата «Дунайской лиги», как до сих пор думал Стрига, заменил его самого по полюбовному соглашению? В этом случае он мог и должен был сохранить, с согласия настоящего Илиа Бруша, личные документы рыболова. Но это не самое главное и не самое загадочное. Почему здесь портрет? Портрет той самой женщины, которую он, Стрига, запер в каюте своей шаланды и которой так домогался? Почему на портрете надпись, адресованная Ладко, чьим именем прикрывался он, Стрига? Какая между всем этим связь? Кому в конце концов принадлежит баржа — Карлу Драгошу, Илиа Брушу или Сергею Ладко — и кого из этих людей, двое из них Стригу весьма интересовали, держит он пленником на шаланде? Впрочем, Сергея Ладко он сам объявил убитым в тот вечер, когда ружейная пуля свалила одного из двух рущукских беглецов. Но, быть может, он тогда плохо прицелился? О, если бы в таком случае в руках Стриги оказался не полицейский, а лоцман! Во второй раз ему не уйти; и держать как заложника Стрига его не будет, нет.
Камень на шее сделает дело, и, освободившись от смертельного врага, Стрига устранит главное препятствие для осуществления своих планов.
Бережно, в несколько слоев обернув портрет брезентом, бандит начал нетерпеливо грести, чтобы поскорее прояснить ситуацию, допросив пленника.
Скоро во мраке показался силуэт шаланды. Стрига быстро причалил, выпрыгнул на палубу и, подойдя к каюте, вложил ключ в замочную скважину.
В отличие от своего тюремщика Сергей Ладко не мог выстроить разумные предположения о причинах его похищения. Тайна казалась непроницаемой.
Когда после лихорадочной дремоты он очнулся в темнице, первым ощущением был голод. Ладко не ел уже, вероятно, более суток.
Сколько мог, он терпел, но желудок становился все более повелительным, Сергей утратил относительное спокойствие. Может, его решили уморить? Он позвал. Никто не отвечал. Он позвал громче. Тот же результат. Он закричал — никакого отклика.
Разъяренный, он попытался разорвать веревки. Но они были крепки, и Ладко напрасно катался по полу, напрягая мускулы. При одном из почти конвульсивных движений он наткнулся лицом на что-то мягкое, вкусно пахнущее. То был хлеб с куском сала, несомненно, положенный здесь, когда он спал. После нескольких бесплодных попыток пленнику удалось обойтись без помощи рук, ухватить еду ртом.
Когда голод был утолен, потянулись медленные монотонные часы. В тишине ропот, легкая дрожь, подобная дрожи листьев, взволнованных ветерком, коснулись его слуха. Нетрудно было догадаться, что судно, на котором он находился, плыло, рассекая воду… Сколько часов прошло до тех пор, когда над ним снова подняли трап? Подвешенная на конце бечевки порция, подобная первой, закачалась в отверстии, освещенном смутным светом, и легла возле него.
Еще протекли часы, и люк опять открылся. Спустился человек, приблизился к неподвижному телу, и Сергею Ладко снова заткнули рот. Очевидно, его криков боялись, и где-то близко находилась помощь? Без сомнения, это было так: едва удалился человек, пленник услышал, что по потолку его темницы ходят. Он хотел позвать… Но разве крикнешь, когда во рту кляп… Шум шагов прекратился.
На помощь уже не приходилось рассчитывать, это стало ясно позднее, кляп без всяких объяснений вытащили. Раз ему позволено звать, значит, для них это не опасно. А тогда какой смысл кричать?
После третьей порции еды, похожей на первые, время стало тянуться особенно медленно. Без сомнения, была ночь. Сергей Ладко прикидывал, что его заточение продолжалось около двух суток. Люк снова открылся, по трапу в трюм сошли четверо.
Сергей Ладко не имел времени разглядеть этих людей. Быстро ему всунули затычку, завязали глаза и, ослепив его и сделав немым, стали, как в первый раз, передавать из рук в руки.
По ушибам и толчкам он узнал узкое отверстие, трап, как он понял, через который его уже протаскивали раньше. Снова он пересчитал боками ступеньки трапа. Короткий переход, затем его бросили на пол, и он почувствовал, что у него вытаскивают затычку изо рта и снимают повязку с глаз. Едва он открыл глаза, как дверь с шумом захлопнулась.
Сергей огляделся. Хотя он переменил всего лишь тюрьму, но эта была неизмеримо лучше. Через маленькое окошко сюда проникал свет, позволяя рассмотреть положенную перед ним обычную пищу, которую до сих пор приходилось разыскивать на ощупь. Солнечный свет вернул ему бодрость, и положение показалось менее безнадежным. За окошком была свобода. Он постарается ее завоевать.
Долго и безуспешно искал он орудие, пока наконец, в сотый, возможно, раз обшаривая взглядом тесную каюту, он заметил у стенки что-то вроде железной полосы, она, выходя из пола и вертикально поднимаясь к потолку, вероятно, скрепляла доски обшивки. Возле пола железка прилегала к доскам неплотно, и представлялось возможным если не перерезать об нее веревку, то перетереть. Такое трудное предприятие заслуживало попытки. С большим усилием подобравшись к этому железному выступу, Сергей Ладко тотчас начал тереть об него веревку, стянувшую руки. Почти полная неподвижность, к которой его принуждали путы, делала работу тягостной, и движение рук, производимое только толчками всего тела, имело очень короткий размах. И мало того, что работа была медленной, она крайне утомляла, и уже минут через пять лоцману пришлось устроить передышку.
Дважды в день, в часы еды, он прерывал работу. Все один и тот же тюремщик приносил пищу, и, хотя лицо скрывалось под полотняной маской, Сергей Ладко, без сомнений, признавал его по седеющим волосам и замечательной ширине плеч. Впрочем, хоть он и не мог разглядеть лицо, общий вид человека создавал впечатление, что Ладко где-то его видел. Он не мог сказать точно, но эти могучие плечи, грубая походка, седеющие волосы под маской казались знакомыми.
Пища приносилась в определенные часы, а в другое время никто не входил в его тюрьму. Ничто не нарушало бы тишины, если бы порой он не слышал, как отворялась дверь напротив. И потом до него доносился звук двух голосов — мужского и женского. Сергей Ладко бросал работу и напрягал слух, пытаясь различить голоса, они вызывали какие-то смутные далекие воспоминания.
Пять дней прошли таким образом. Ладко уже начал спрашивать себя, достигнет ли он чего-нибудь, как однажды вечером веревка, связывавшая его кисти, внезапно лопнула.
Сергей Ладко попытался двинуть освобожденными членами. Сначала это оказалось невозможно. Остававшиеся связанными в течение долгой недели, его руки и кисти были точно парализованы. Мало-помалу способность шевелиться вернулась к ним и постепенно улучшалась. После часа усилий Ладко мог уже кое-как работать руками и развязал ноги. Он сделал первый шаг к свободе. Второй — выбраться наружу через окно, через которое он видел если не берег, скрытый темнотой, то дунайскую воду. Обстоятельства благоприятствовали. Ночь была темна. Кто поймает его в такую ночь, когда ничего не видно в десяти шагах? Впрочем, в каюту заглянут только утром. Когда заметят его исчезновение, будет уже поздно.
Серьезная трудность, более чем трудность — физическая невозможность остановила первую попытку. Достаточно просторное для гибкого, тонкого юноши, окно оказалось слишком узким, чтобы пропустить мужчину в цвете лет и наделенного такими достойными зависти плечами, как у Сергея Ладко. И он, напрасно истощив силы, должен был признать препятствие непреодолимым и, задыхаясь, упал снова на пол.
Неужели ему не суждено выйти отсюда? Он долго созерцал темный квадрат ночи в дразнящем окне, потом, решившись на новые усилия, снял одежду и яростным порывом устремился в зияющее отверстие, решив прорваться во что бы ни стало.
Текла кровь, трещали кости, но сначала одно плечо, потом рука прошли, и косяк окна уперся в его левое бедро. К несчастью, первое плечо тоже застряло, да так, что каждое новое усилие оказывалось бесполезным.
Одна часть тела освободилась и висела над рекой, а другая оставалась в плену; бока Сергея Ладко были так стиснуты, что он счел положение невыносимым.
Если бежать таким образом оказалось невозможно, следовало искать другие средства. Может быть, удастся вырвать один из косяков окна и расширить отверстие.
Однако для этого надо возвратиться в каюту, а Ладко понял, что и это неисполнимо. Он не мог двигаться ни вперед, ни назад и, если не позовет на помощь, неизбежно принужден будет оставаться в этой мучительной позе.
Напрасно он бился. Все было бесполезно. Он попал в ловушку.
Сергей Ладко перевел дыхание, когда неожиданный шум шагов заставил ощутить неизбывное отчаяние. Приближалась новая грозная опасность; произошло то, чего не случалось за время его пребывания в темнице: у двери остановились, шарили ключом возле замочной скважины, вставили ключ…
Движимый отчаянием, лоцман напряг мускулы в сверхчеловеческом усилии…
Тем временем ключ повернулся в замке… щелкнул пружиной… оставалось только толкнуть дверь.
Глава XII ИМЕНЕМ ЗАКОНА
Открыв дверь, Стрига в нерешительности остановился на пороге. В каюте было совершенно темно. Он ничего не видел, кроме смутного прямоугольника окна. Где-то в углу валяется пленник, но его не различишь.
— Титча! — нетерпеливо позвал Стрига.— Свету!
Титча поспешил принести фонарь, дрожащий блик осветил каюту. Двое обежали ее быстрым взглядом, удивленно посмотрели друг на друга. Каюта оказалась пуста. На полу — обрывки веревок, порванная брошенная одежда и никаких следов пленника.
— Ты объяснишь мне…— начал Стрига.
Вместо ответа Титча бросился к окну и провел пальцем по косяку.
— Удрал,— сказал он, показывая окровавленный палец.
— Удрал! — с проклятием повторил Стрига.
— Но недавно,— продолжал Титча.— Кровь еще свежая. Впрочем, не прошло и двух часов, как я приносил ему еду.
— И ты ничего не заметил?
— Совершенно ничего. Он был связан, как сосиска.
— Дурак,— заворчал Стрига.
Титча распростер руки, ясно выразив этим жестом, что он не понимает, как произошло бегство, и что, во всяком случае, не считает себя виноватым. Стрига этим не удовлетворился.
— Да, дурак,— повторил он яростно, вырвал фонарь из рук пособника и провел расплывчатым лучом по каюте.— Надо было почаще посещать пленника и не доверять видимости… Ага! Смотри на этот кусок железа, отполированный трением. Это им он перетер веревку… Ему понадобились на это дни и дни… И ты не заметил ничего!… Можно ли быть таким ослом!
— Когда ты кончишь? — возразил Титча, в свою очередь рассердившись.— Что я тебе, собака?… Раз уж тебе так нужен был этот Драгош, сторожил бы его сам!
— У меня хватает других обязанностей и забот,— сказал Стрига.— Но прежде всего, Драгоша ли мы тут держали?
— Так кто же это, по-твоему?
— А я знаю? Я вправе предполагать что угодно, раз ты так выполняешь поручения. Ты его узнал, когда схватил?
— Не могу поклясться, что узнал,— сознался Титча,— потому что он сидел спиной…
— Эх!…
— Но я прекрасно узнал лодку. Это та самая, которую ты мне показывал в Вене. Уж в этом-то я уверен.
— Лодка!… Лодка!… Наконец каков он был, твой пленник? Высокий?
Сергей Ладко и Иван Стрига были совершенно одинакового роста. Но лежащий человек кажется, неизвестно почему, гораздо выше стоящего, а Титча видел лоцмана только распростертым на полу тюрьмы. Вот почему он без всяких колебаний ответил:
— На голову выше тебя!
— Это не Драгош! — пробормотал Стрига, который знал, что он выше сыщика. Он раздумывал несколько мгновений, потом спросил: — Походил он на кого-нибудь из твоих знакомых?
— Моих знакомых?— возразил Титча.— Ничуть!…
— Например, не смахивал ли он на Ладко?
— С чего ты взял? — вскричал Титча.— За каким чертом Драгош будет смахивать на Ладко?
— А если нашим пленником был не Драгош?
— Тем более он не мог был Ладко, его-то я знаю достаточно, черт побери, чтобы не ошибиться.
— Отвечай на мои вопросы,— настаивал Стрига.— Походил он на Ладко?
— Ты бредишь,— протестовал Титча.— Прежде всего, у Ладко борода, а у пленника не было.
— Бороду можно сбрить,— заметил Стрига.
— Я не спорю… А потом, наш пленник носил очки.
Стрига пожал плечами.
— Брюнет он или блондин?
— Брюнет,— убежденно ответил Титча.
— Ты в этом уверен?
— Вполне!
— Тогда это не Ладко!…— снова проворчал Стрига.— Это должен быть Илиа Бруш…
— Какой Илиа Бруш?
— Рыболов.
— Ба! — воскликнул ошеломленный Титча.— Но если пленник не был ни Ладко, ни Драгошем, тогда не важно, что он улизнул.
Стрига, не отвечая, приблизился, в свою очередь, к окну. Осмотрел следы крови, высунул голову наружу и напрасно пытался рассмотреть что-нибудь в темноте.
— Давно ли он скрылся? — спросил он вполголоса.
— Не больше двух часов, я уже говорил,— ответил Титча.
— Ну, тогда он далеко! — вскричал Стрига, с трудом подавляя гнев. После момента раздумья он прибавил: — Сейчас делать нечего. Ночь слишком темна. Птичка улетела, доброго пути! А мы пустимся в путь перед рассветом, чтобы как можно скорее оставить позади Белград.
Мгновение он оставался в задумчивости, потом, не говоря ни слова, оставил каюту и вошел в противоположную. Титча навострил уши. Сначала он не слышал ничего; но скоро через закрытую дверь на него донеслись постепенно усиливающиеся раскаты атаманского голоса. С презрением пожав плечами, Титча пошел спать.
Стрига неверно рассуждал о бесполезности немедленных поисков: беглец ушел недалеко.
Услышав скрип ключа в замке, Сергей Ладко, отчаянно рванувшись, преодолел препятствие. Под яростным напором мускулов сначала плечо, потом бедро проскочили, он проскользнул сквозь узкое окошко, как стрела, и упал головой вперед в дунайскую воду, та почти бесшумно расступилась и сомкнулась над ним. Когда Ладко вынырнул, течение уже отнесло его от места падения. Он очутился за кормой шаланды, перед ним лежал свободный путь.
Он решил дать потоку отнести себя подальше. Когда окажется вне досягаемости, он поплывет к одному из берегов. Правда, он явится гуда голым, и это создаст большие трудности, но что поделаешь… Самое важное — удалиться от плавучей тюрьмы. А на берегу будет видно.
Внезапно перед ним во мраке возникла небольшая темная масса другого судна. Каково же было его волнение, когда он узнал свою баржу, что шла за шаландой на буксире! Он уцепился за руль и на мгновение замер неподвижно.
В ночной тишине он услышал голоса. Без сомнения, спорили об обстоятельствах его бегства. Он ждал, высунув только голову из непроницаемого покрова темной воды, скрывавшей его.
Голоса усилились, потом стихли, вновь наступило молчание. Сергей Ладко взобрался на баржу и исчез в своей рубке. Там, насторожившись, он продолжал слушать. Он не услышал никакого шума вокруг.
В каюте ночная тьма была еще гуще. Ничего не видя, Сергей Ладко шарил, как слепой, чтобы узнать знакомые предметы. Казалось, здесь ничего не тронули. Вот рыболовные снасти. На гвозде все еще висит шапка из меха выдры, ее он сам повесил. Направо его кушетка; налево — та, на которой так долго спал господин Иегер… Но почему открыты сундуки? Их, значит, взломали?… Руки во тьме неуверенно перебирали скромное имущество… Нет, у него ничего не взяли. Белье и одежда лежали в том порядке, как он их оставил; даже нож оказался на обычном месте… Обнажив лезвие, Сергей Ладко пополз на животе к носу лодки.
Как он передвигался! Уши настороже, глаза напряженно впиваются во тьму, дыхание замирает при каждом всплеске воды… Не меньше десяти минут потратил он, прежде чем добрался до цели. Потом схватил буксирный канат и перерезал его одним взмахом.
Веревка шлепнулась в воду с большим шумом. Ладко с бьющимся сердцем снова упал на палубу. Невозможно, чтобы не услышали падение каната в такой глубокой тишине…
Нет… Никто не движется… Лоцман, мало-помалу выпрямляясь, заметил, что он уже далеко от своих врагов. В самом деле, освободившись, баржа поплыла по течению, и вскоре ее и стоявшую на якоре шаланду разделила непроницаемая стена мрака.
Когда Сергей Ладко был достаточно далеко, чтобы не бояться погони, он взял весло, и несколько ударов быстро увеличили расстояние. Только тогда он заметил, что дрожит, и решил одеться. Он без труда нашел белье и необходимую одежду. Потом схватил весло и принялся яростно грести.
Где он был? Он не имел ни малейшего понятия. Ничто не указывало, в каком направлении шло судно, где он был заточен. Поднималась или спускалась по реке его плавучая тюрьма, он не знал.
Во всяком случае, теперь он снова поплывет вниз, потому что там Рущук, а в Рущуке — Натча. Если его увезли назад, он наверстает время усиленной работой рук, вот и все. Он решил грести всю ночь, чтобы оказаться как можно дальше от неведомых врагов. Он мог рассчитывать еще часов на семь темноты. За это время проплыть можно много. Когда настанет день, он остановится отдохнуть в первом попавшемся городке.
Сергей Ладко сильно греб минут двадцать, когда среди ночи раздался крик, заглушённый расстоянием. Что он выражал — радость, гнев или ужас? Ничего нельзя было сказать об этом смутном отдаленном крике. И, однако, как ни был слаб голос, долетевший к нему издалека, он наполнил сердце лоцмана неясной тревогой. Где он слышал такой голос?… Еще немного, и он поклялся бы, что это голос Натчи… Он перестал грести и прислушивался к глухим звукам ночи.
Крик не повторился. Пространство оставалось немым вокруг баржи, которая плыла, увлекаемая течением. Натча!… Сергей Ладко усилием воли отбросил навязчивую мысль и принялся за работу.
Время шло. Около полуночи на правом берегу смутно обрисовались дома деревни; Ладко миновал ее, не узнав.
Некоторое время спустя, на рассвете, показалось другое поселение; Сергей и его не узнал и тоже проплыл мимо.
Заря разгоралась, а берега опять стали пустынными.
Лишь только начало светать, Сергей Ладко поспешил исправить недостатки в своей маскировке, которые появились в долгом заточении. Через несколько минут его волосы снова сделались черными от корней до кончиков, бритва снесла отросшую бороду, а пропавшие очки заменены новыми. Проделав все это, он принялся грести с неистощимой бодростью.
Время от времени он бросал взгляд назад, но не видел ничего подозрительного. Очевидно, враги остались далеко.
Когда он покончил с неотложными заботами, ощущение завоеванной безопасности позволило ему снова подумать о странности его положения. Кто были враги, от которых ему удалось бежать? Чего от него хотели? Почему держали так долго в своей власти? Столько вопросов, и он не мог на них ответить. Но кто бы ни были эти враги, он должен, во всяком случае, бояться их в будущем, и эта забота осложнит его путешествие, если только он, несмотря на опасность такого поступка, не попросит защиты полиции от неизвестных похитителей в первом же встречном городе.
Какой это будет город? Он не знал, и ничто не давало ему указаний на пустынных берегах, где далеко одна от другой лепились бедные деревушки.
Только около восьми часов утра опять же на правом берегу обрисовались на небе высокие колокольни, а на горизонте показался отдаленный город. Сергей Ладко обрадовался. Он хорошо знал эти места. Ближе к нему был Землин, последний придунайский город Австро-Венгерской империи; вдали виднелся Белград, сербская столица, тоже расположенная на правом берегу после внезапного изгиба Дуная, при впадении Савы.
Итак, во время заточения он продолжал спускаться по реке, плавучая тюрьма приблизила его к цели, и, не подозревая об этом, он проделал более пятисот километров.
Сейчас Землин — это спасение. Если понадобится, он найдет там помощь и покровительство. Но решится ли он просить помощи? Если он пожалуется, если поведает о своем необъяснимом приключении, не начнется ли дознание, первой жертвой которого станет он сам? Быть может, пожелают узнать, кто он такой, куда направляется и, возможно, им удастся выведать имя, какое он поклялся не открывать, что бы ни случилось.
Так и не приняв решения, Сергей Ладко ускорил ход своего суденышка. На колокольнях города пробило половину девятого, когда он привязал лодку к кольцу набережной. Он навел в барже порядок и снова занялся проблемой: говорить или молчать. Наконец он решил воздержаться. Принимая во внимание все, лучше хранить молчание, отдохнуть в каюте, в чем он очень нуждался, и удалиться из Землина незамеченным, как туда явился.
Но тут четыре человека показались на набережной и остановились перед баржей. Люди спрыгнули в нее, и один из них, приблизившись к Сергею Ладко, смотревшему на него с удивлением, спросил:
— Ваше имя Илиа Бруш?
— Да,— ответил лоцман, с беспокойством глядя на чиновника.
Чиновник распахнул свое одеяние, чтобы показать опоясывавший его талию шарф, окрашенный в государственные цвета Венгрии.
— Именем закона, вы арестованы! — провозгласил он, кладя руку на плечо лоцмана.
Глава XIII СЛЕДСТВЕННАЯ КОМИССИЯ
Карл Драгош не помнил, чтобы в продолжение своей деятельности он занимался делом, столь богатым неожиданными инцидентами и столь загадочным, как дело дунайской банды. Невероятная подвижность неуловимой шайки, внезапность ее ударов заключали в себе что-то необычайное. И вдобавок, ее атаман, только что выслеженный, сделался недосягаемым и, казалось, смеялся над мандатами на его арест, разосланными по всем направлениям!
Черт возьми, он словно испарился. Никаких следов ни в верхнем, ни в нижнем течении реки. В частности, будапештская полиция, несмотря на усиленные розыски, ничего не могла открыть. И, однако, бандит должен был миновать Будапешт, потому что его видели 31 августа у дюны Фольдвар, на девяносто километров ниже венгерской столицы. Не зная, что роль рыболова в это время разыгрывал Иван Стрига, которому баржа обеспечивала верное убежище, Карл Драгош не мог ничего понять.
В следующие дни присутствие лауреата было замечено в Шекшарде, Вуковаре, Черевиче, Карловице. Илиа Бруш не таился. Он объявлял свое имя всякому, кто хотел знать, и даже иногда продавал несколько фунтов рыбы. Правда, другие очень удивлялись, заставая его за покупкой рыбы, что было достаточно странно для такого прославленного виртуоза-удильщика.
Так называемый лауреат показывал дьявольскую ловкость. Полиция, предупреждаемая о его появлении, очень спешила и всегда появлялась слишком поздно. Напрасно бороздили реку по всем направлениям, ни малейшего следа баржи не обнаруживалось; казалось, они буквально улетучивались.
И никому не приходило в голову, что ищут совершенно разных людей: мифического Илиа Бруша, под именем которого существовал лоцман Сергей Ладко; бандита Ивана Стригу, прикрывавшегося именем Ладко, полицейского Карла Драгоша, его приняли по ошибке за того же Ладко… И лишь настоящего Сергея — лоцмана и патриота не искал никто…
Карл Драгош приходил в отчаяние от постоянных неудач своих подчиненных. Неужели дичь ускользнет у него из рук?
Две вещи можно было утверждать наверняка. Первая — так называемый лауреат продолжал спускаться по реке. Вторая — он, по-видимому, избегал городов, где опасался полиции.
Карл Драгош приказал удвоить бдительность во всех сколько-нибудь значительных городах ниже Будапешта: в Мохаче, Апатине и Нейзаце, а свою штаб-квартиру устроил в Землине. Эти города стали барьерами на пути беглеца.
К несчастью, казалось, что этот последний смеется над всеми препятствиями, нагроможденными перед ним.
Сначала его видели ниже Будапешта, затем — но всегда слишком поздно — ниже Мохача, Апатина и Нейзаца. Драгош, кипя гневом и сознавая, что ставит последнюю карту, собрал настоящую флотилию. По его приказу более тридцати судов крейсировали день и ночь в окрестностях Землина. Уж очень ловок будет противник, если сумеет прорвать эту плотную преграду.
Но как ни были дельны эти распоряжения, они не имели бы ни малейшего успеха, если бы Сергей Ладко остался пленником в шаланде Стриги, там его никто бы не нашел. К счастью для спокойствия Драгоша, этого не случилось.
Драгош 7 сентября утром собирался отправиться к флотилии, как вдруг прибежал агент… Преступника арестовали и повели в землинскую тюрьму, доложил он.
Драгош поспешил туда. Агент не солгал. Чересчур знаменитый Ладко действительно был под замком.
Новость мгновенно распространилась и взволновала весь город. Только об этом и говорили, и на набережной целый день толпы народа торчали перед баржей известного преступника. Зеваки не обратили никакого внимания на судно, что три часа спустя прошло мимо Землина. Это судно, ничем не приметное, было шаландой Стриги.
— Что случилось в Землине? — спросил Стрига у верного Титчи, заметив оживление на набережной.— Уж не бунт ли?
Он взял зрительную трубу и долго всматривался.
— Дьявол меня забери, Титча,— вскричал он,— если это не лодка нашего молодчика!
— Ты думаешь? — спросил Титча, овладев трубой.
— Надо все разузнать,— объявил очень взволнованный Стрига.— Я отправляюсь на берег.
— Чтоб тебя схватили? Драгош — хитрец! Если это его баржа, значит, Драгош в Землине. Ты бросишься в пасть волку.
— Ты прав,— согласился Стрига, исчезая в рубке.— Я приму свои меры.
Через четверть часа он явился мастерски «камуфлированный», если позволительно употребить здесь это выражение. Бороду он сбросил и заменил фальшивыми бакенбардами, волосы спрятал под париком, широкая повязка закрывала один глаз, он с трудом опирался на палку, как человек, едва оправившийся от тяжкой болезни.
— Ну? — спросил он не без гордости.
— Великолепно! — восхитился Титча.
— Слушай,— сказал Стрига.— Пока я буду в Землине, продолжайте путь. На два-три лье ниже Белграда остановитесь и ждите меня.
— Когда ты рассчитываешь вернуться?
— Не беспокойся, вернусь.
В это время шаланда уже миновала Землин. Высадившись на берег достаточно далеко от города, Стрига направился к нему большими шагами. Но, подойдя к окраине, заковылял и, смешавшись с толпой, наполнявшей набережную, жадно прислушивался к разговорам.
Ему недолго пришлось ждать, чтобы узнать, что происходит. Никто среди оживленных групп не говорил о Драгоше. Не слышно было ничего и об Илиа Бруше. Рассуждали только о Ладко. О каком? Не о лоцмане из Рущука, чье имя использовал для своих целей Стрига, но о том воображаемом Ладко, каким его создали газетные статьи, о Ладко-злодее, Ладко-пирате, то есть фактически о нем самом, Стриге. Это его собственный арест служил темой всеобщих разговоров.
Он ничего не мог взять в толк. По-видимому, полиция допустила ошибку, арестовав невинного вместо виновного, и в этом не было ничего удивительного. Но как была связана эта ошибка, понятная ему лучше всякого другого, с присутствием здесь лодки, той, что его шаланда вела на буксире еще накануне?
Без сомнения, Стрига проявил слабость, интересуясь этой стороной вопроса. Пока существенным было то, что вместо него преследовали другого. Если подозревают этого, не подумают заняться им самим. Вот главный пункт. Остальное его не касается,— к таким выводам он пришел.
Но полная ясность не возникала. Судя по всему, получалось, что его пленник и хозяин баржи были одним лицом. Но кто же тогда был незнакомец, находившийся в заключении на шаланде и после этого так любезно заместивший ее владельца в когтях полиции? Понятно, Стрига не покинет Землина, пока не разберется. Ему пришлось вооружиться терпением.
Господин Изар Рона, которому поручили расследование, казалось, не спешил. Три дня протекло, прежде чем он подал признаки жизни. Такое предварительное выжидание составляло часть его системы. По его мнению, лучше всего было дать виновному «созреть» в одиночестве. Одиночество — великий разрушитель нравственной стойкости, и несколько дней, проведенных в одиночной камере, превосходно обезоружат противника, которого судья увидит перед собой.
Господин Изар Рона через двое суток после ареста объяснил свои идеи Карлу Драгошу, который пришел за информацией. Сыщику поневоле пришлось одобрить теорию.
— Ну, а все-таки, господин судья,— рискнул он спросить,— когда вы рассчитываете провести первый допрос?
— Завтра.
— Тогда я зайду завтра вечером, чтобы узнать результаты… Я думаю, нет нужды напоминать, на чем основываются наши предположения?
— Да, нужды нет,— заверил господин Рона.— Я помню наши предыдущие разговоры, да и мои записи очень подробны.
— Вы все-таки позволите мне, господин судья, напомнить вам о моем желании, которое я осмеливаюсь высказать?
— О каком желании?
— Чтобы обо мне не упоминалось в этом деле, по крайней мере, до нового решения о правилах моей игры. Как я вам докладывал, обвиняемый знает меня только под именем Иегера. Это еще может пригодиться. Очевидно, когда он предстанет перед судом, придется открыть мою подлинную фамилию. Но до этого еще не дошло, и, чтобы удобнее разыскивать виновников, не следует предварять события.
— Считайте, что это решено,— обещал судья.
В камере, куда его заключили, Сергей Ладко дожидался, пока им займутся.
Последовавшее за предыдущим приключением новое несчастье, такое же непостижимое, не сломило его бодрости. Не пытаясь оказать ни малейшего сопротивления в момент ареста, он позволил отвести себя в тюрьму. Чем он, впрочем, рисковал? Арест обязательно должен оказаться ошибкой, что выяснится при допросе.
К несчастью, первый допрос странно откладывался. Сергей Ладко, помещенный в строжайшую одиночку, день и ночь оставался в камере, куда время от времени сторож заглядывал через «глазок», просверленный в двери. Повинуясь приказу господина Изара Рона, этот сторож должен был заметить любые результаты метода изоляции. Однако надежда отличиться не давалась сторожу. Протекали часы и дни, а в поведении заключенного ничто не показывало перемен его настроения, даже поза оставалась неизменной. Сидя на табуретке, опершись руками на колени, с опущенными глазами и холодным лицом, он сохранял почти абсолютную неподвижность, не выказывая никаких признаков нетерпения. С первой же минуты Сергей Ладко решил держаться спокойно, и ничто не могло его взволновать. Хотя, по мере того как шло время, он начинал сожалеть о плавучей тюрьме, которая, по крайней мере, приближала его к Рущуку.
Наконец на третий день — это было уже 10 сентября — его пригласили выйти из камеры. Окруженный четырьмя солдатами со штыками наперевес, он проследовал по длинному коридору, спустился по нескончаемой лестнице, потом пересек улицу и ступил во Дворец Правосудия, построенный против тюрьмы.
Улица кишела народом, теснившимся позади шеренги полицейских агентов. Когда показался узник, из толпы донеслись свирепые выкрики ненависти к страшному преступнику, который так долго оставался безнаказанным. Каковы бы ни были чувства Сергея Ладко, подвергшегося незаслуженным оскорблениям, он их не показал. Твердым шагом он вошел во дворец и после нового ожидания наконец очутился перед судьей.
Господин Изар Рона, маленький, тщедушный, белокурый, с редкой бородкой, с желчным цветом лица, был чиновником с грубыми манерами.
Оперируя смелыми утверждениями, резкими отрицаниями, он нападал на противника внезапно, более желая внушить страх, чем вызвать доверие.
Конвоиры вышли по знаку судьи. Стоя посреди комнаты, Сергей Ладко ждал, когда судья соблаговолит начать допрос. В углу писарь приготовился вести протокол.
— Садитесь,— приказал господин Рона брюзгливым тоном.
Сергей Ладко повиновался. Чиновник продолжал:
— Ваше имя?
— Илиа Бруш.
— Местожительство?
— Салька.
— Профессия?
— Рыболов.
— Вы лжете,— заявил судья, уставясь на обвиняемого.
Легкая краска покрыла лицо Сергея Ладко, а глаза его блеснули. Но он принудил себя к спокойствию.
— Вы лжете,— повторил господин Рона,— Вас зовут Ладко. Ваше местожительство — Рущук.
Лоцман растерялся. Итак, его настоящее имя стало известно. Как это могло случиться? А судья, от которого волнение подсудимого не ускользнуло, продолжал резким голосом:
— Вы обвиняетесь в трех простых ограблениях, в девятнадцати грабежах со взломом, совершенных при отягчающих обстоятельствах, в трех убийствах и шести покушениях на убийство, и все эти преступления совершены умышленно в течение менее чем двух лет. Что вы можете на это сказать?
Ошеломленный лоцман слушал этот невероятный перечень.
Как! Путаница, которой он опасался, узнав от господина Иегера о существовании своего зловещего однофамильца, все-таки произошла. А если так, зачем же ему соглашаться, что он Сергей Ладко? Перед этим у него была мысль во всем признаться и просить судью не выдавать его туркам, против которых он боролся. Сейчас он понял, что такое признание скорее повредило бы, нежели оказалось полезным. Ведь именно его, Сергея Ладко из Рущука, а не кого другого, обвиняют в ужасной цепи преступлений. Без сомнения, назвав свое настоящее имя, он добьется, что его невиновность будет доказана. Но сколько на это уйдет времени? Нет, лучше играть до конца роль рыболова Илиа Бруша, потому что это имя человека, ни в чем не замешанного.
— Вы ошибаетесь,— заявил твердо лоцман.— Меня зовут Илиа Бруш, и я живу в Сальке. Вы легко можете в этом убедиться.
— Это будет сделано,— сказал судья, беря бумагу.— А пока вы должны узнать некоторые обвинения, которые над вами тяготеют.
Сергей Ладко стал еще внимательнее.
— На данный момент,— начал судья,— мы оставим в стороне главные преступления, в которых вас обвиняют, и займемся самыми свежими, совершенными во время вашего путешествия, закончившегося арестом.— Переведя дыхание, господин Рона продолжал: — Ваше присутствие впервые было замечено в Ульме. Мы считаем, что там и началось ваше путешествие.
— Простите, сударь,— живо перебил Сергей Ладко.— Мое путешествие началось значительно раньше Ульма[31], потому что я завоевал два первых приза на рыболовном конкурсе в Зигмарингене, и я начал спускаться по реке из Донауэшингена.
— В самом деле, верно,— согласился судья,— что некий Илиа Бруш был провозглашен лауреатом зигмарингенского конкурса, устроенного «Дунайской лигой», и что этого Илиа Бруша видели в Донауэшингене. Но или вы явились в Зигмаринген под вымышленной фамилией, или подменили указанного Илиа Бруша в то время, когда он плыл из Донауэшингена в Ульм. Это обстоятельство мы в свое время выясним, будьте уверены.
Сергей Ладко с глазами, широко раскрытыми от удивления, слушал, как во сне, эти фантастические умозаключения. Еще немного, и несуществующего Илиа Бруша внесут в список его жертв! Не желая отвечать, он пожал плечами, а судья, устремив на него пристальный взгляд, внезапно спросил:
— Что вы делали в Вене двадцать пятого августа у еврея Симона Клейна?
Сергей Ладко вздрогнул во второй раз. Знали даже и это посещение! Правда, в нем не было ничего предосудительного, но признаться — это означало открыть свою подлинную личность, и раз он уже решил все отрицать, нужно до конца идти по этому пути.
— У Симона Клейна? — переспросил он, точно не понимая.
— Вы отпираетесь? — молвил господин Рона.— Я этого ожидал. Так я вам скажу, что, отправляясь к еврею Симону Клейну,— говоря это, судья приподнялся на кресле, чтобы придать своим словам сокрушительную силу,— вы шли туда, чтобы условиться с постоянным укрывателем вашей шайки.
— Моей шайки!…— повторил остолбеневший лоцман.
— Ах, извините,— иронически согласился судья,— я не хочу сказать, что вы участник банды, ведь вы не Ладко, а безобидный рыболов-удильщик Илиа Бруш. Но, если вы в самом деле Илиа Бруш, почему вы скрываетесь?
— Я скрываюсь?…— запротестовал Сергей Ладко.
— Черт побери! — вскричал господин Изар Рона.— А для чего же в таком случае вы прячете под темными очками глаза, самые лучшие на свете,— да, кстати, потрудитесь их снять, эти очки! Зачем вы красите в черный цвет белокурые волосы?…
Сергей Ладко был уничтожен.
Полиция знала все, и сеть чем дальше, тем плотнее обтягивала его; как будто не замечая его смущения, господин Рона продолжал атаку:
— Ну, ну! Вот вы и сбавили прыть, приятель! Вы не знали, что нам столько известно… Но я продолжаю. В Ульме вы взяли пассажира?
— Да,— ответил Сергей Ладко.
— Его имя?
— Господин Иегер.
— Правильно. Не можете ли вы сказать, что случилось с этим господином Иегером?
— Я этого не знаю. Он покинул баржу почти у впадения Ипеля[32]. Я был очень удивлен, не найдя его, когда возвратился к барже.
— Возвратившись, говорите вы. А куда вы уходили?
— В деревушку в окрестностях, чтобы достать подкрепительного для моего пассажира.
— Он был болен?
— Очень болен. Перед этим он чуть не утонул.
— И это вы его спасли, я думаю?
— А кто же мог быть, если не я?
— Гм!…— сказал судья, немного смущенный. Потом он овладел собой.— Вы рассчитываете, без сомнения, растрогать меня этой историей о спасении?
— Растрогать? — запротестовал Ладко.— Вы допрашиваете, я отвечаю. Вот и все.
— Хорошо,— подытожил Изар Рона.— Но скажите, до этого случая вы никогда не покидали вашу баржу, как я полагаю?
— Один раз, чтобы побывать у себя в Сальке.
— Можете вы точно назвать дату этой отлучки?
— Почему же нет,— только немного подумаю.
— Я вам помогу. Не случилось ли это в ночь на двадцать девятое августа?
— Возможно.
— Вы этого не отрицаете?
— Нет.
— Вы в этом признаетесь?
— Если угодно, да.
— Итак, мы договорились… Салька находится на левом берегу Дуная, как мне помнится? — спросил господин Рона с простодушным видом.
— Да.
— И кажется, в ночь на двадцать девятое августа было темно?
— Очень темно. Была ужасная погода.
— Это и объясняет вашу ошибку. По вполне понятному заблуждению, вы, думая причалить к левому берегу, высадились на правом.
— На правом берегу?
Господин Изар Рона внезапно встал и, смотря обвиняемому прямо в глаза, произнес:
— Да, на правом берегу, прямо против виллы графа Хагенау!
Сергей Ладко напрасно перебирал свои воспоминания. Хагенау? Он не знал этого имени.
— Вы очень упрямы,— объявил судья, обманувшись в попытке запугать допрашиваемого.— Вы, понятно, в первый раз услышали имя графа Хагенау, и если в ночь на двадцать девятое августа его вилла была ограблена, а сторож Христиан Хоэль серьезно ранен, это все произошло без вашего ведома или участия. Где, к черту, у меня голова? Как можете вы знать о преступлениях, совершенных неким Ладко? Ладко, кой дьявол! Ведь это не ваше имя!
— Да, мое имя Илиа Бруш,— заявил лоцман, голосом менее уверенным, чем вначале.
— Прекрасно, превосходно! Это записано в протокол. Но если вы не Ладко, почему вы исчезли после совершения этого преступления, чтобы раскрыть инкогнито,— и очень осторожно притом! — только на весьма приличном расстоянии от виллы Хагенау? Почему вы, прежде так открыто рекламировавший свою персону, не были замечены ни в Будапеште, ни в Нейзаце, ни в другом сколько-нибудь значительном городе? Почему вы забросили роль удильщика до такой степени, что даже иногда покупали рыбу в деревнях, где соизволили останавливаться?
Все это окончательно сбивало с толку несчастного лоцмана. Ведь он исчез против своей воли. После той ночи на 29 августа разве не был он все время пленником? Если его похитили-тогда что удивительного, что он исчез? Напротив, следовало бы недоумевать, что нашлись люди, которые обратили на его пропажу внимание.
Но это заблуждение полиции, по крайней мере, легко рассеять. Достаточно чистосердечно рассказать о непонятном приключении, жертвой которого он стал. Может быть, правосудие окажется более проницательным и распутает темное дело. Решив все это рассказать, Сергей Ладко нетерпеливо ожидал, когда господин Рона позволит ему вставить слово. Но судью, что называется, понесло. Теперь он заходил по кабинету из угла в угол и бросал в лицо обвиняемому горстями аргументы, которые считал неотразимыми.
— Если вы не Ладко,— продолжал он с возрастающей горячностью,— как получилось, что после ограбления виллы Хагенау, совершенного по несчастной случайности как раз в то время, когда вы покидали баржу, произошло воровство — да, простое воровство! — в деревне Шушек в ночь на шестое сентября, именно в ту ночь, которую вы должны были провести против этой деревни? Если, наконец, вы не Ладко, почему и зачем находился в вашей лодке портрет, подаренный мужу вашей женой Натчей Ладко?
Господин Рона целил метко, и его последний аргумент произвел поразительный эффект. Лоцман опустил голову, и по его лицу катились крупные капли пота.
А судья продолжал еще громче:
— Если вы не Ладко, почему этот портрет исчез в тот день, когда вы почувствовали, что вам грозит опасность? Рисунок лежал в сундуке у правого борта. Его там больше нет. Его присутствие вас обвиняло; его отсутствие вас приговаривает. Что вы на это скажете?
— Ничего,— глухо пробормотал Ладко.— Я совершенно не понимаю, что со мной происходит.
— Прекрасно поймете, если захотите! Прервем на время наш интересный разговор. Вас отправят обратно в камеру, где вы можете предаваться размышлениям. А пока подведем итоги сегодняшнему допросу. Вы заявляете: во-первых, вас зовут Илиа Бруш; во-вторых, вы получили приз на конкурсе в Зигмарингене; в-третьих, проживаете в Сальке; в-четвертых, ночь с двадцать восьмого на двадцать девятое августа вы провели именно в этом поселке. Все это будет проверено. Со своей стороны я утверждаю; первое: ваше имя — Ладко; второе: ваше местожительство — Рущук; третье: в ночь с двадцать восьмого на двадцать девятое августа с помощью многочисленных сообщников вы ограбили виллу Хагенау и участвовали в покушении на убийство сторожа Христиана Хоэля; четвертое: вам приписывается кража в ночь с пятого на шестое в Шушеке, жертвой которого стал некий Келлерман; наконец, вы обвиняетесь в других многочисленных грабежах и убийствах, совершенных в придунайских областях. Расследование этих преступлений начато. Вызваны свидетели, будут устроены очные ставки… Подпишете протокол допроса… Нет?… Как угодно!… Стража, увести обвиняемого!
Чтобы вернуться в тюрьму, Сергею Ладко снова пришлось идти через толпу и слушать враждебные выкрики. Народный гнев, казалось, еще увеличился за время долгого допроса, и полиция с трудом оберегала заключенного от расправы.
В первых рядах ревущей толпы стоял Стрига. Он пожирал глазами узника, так неожиданно занявшего его место. Но он не узнавал этого человека: бритого, с черными волосами, в темных очках,— загадка оставалась загадкой.
Стрига задумчиво удалился вместе с остальными зеваками, когда двери тюрьмы закрылись. Решительно, он не знал арестованного. Это не был, во всяком случае, ни Драгош, ни Ладко. А если так, то какое ему дело до Илиа Бруша или всякого другого? Кто бы ни был обвиняемый, важно, что он отвлек внимание правосудия, и Стрига не видел больше причин задерживаться в Землине, он решил завтра же отправиться на свою шаланду.
Но утром чтение газет заставило его изменить свои намерения. Дело Ладко велось в строгом секрете, и потому печать настойчиво стремилась проникнуть в тайну следствия, и, надо сказать, ей это во многом удалось.
Газеты излагали достаточно подробно содержание первого допроса, сопровождая отчеты комментариями, неблагоприятными для обвиняемого. Вообще журналисты удивлялись упорству, с которым арестованный пытался представиться простым рыболовом Илиа Брушем из маленького городка Салька. Какой интерес держаться подобной линии защиты, если хрупкость ее очевидна? По сведениям прессы, господин Изар Рона уже направил в Грон следственную комиссию. Вскоре и в Сальку отправится чиновник и произведет дознание, оно разобьет, несомненно, все утверждения обвиняемого. Илиа Бруша будут искать и найдут… если он существует, что очень сомнительно.
Эти новости повлияли на Стригу. Странная мысль пришла ему в голову и вполне сложилась, когда он кончил читать. Разумеется, очень хорошо, что правосудие схватило невиновного. Но будет еще лучше, если оно его не выпустит. А что для этого нужно? Представить им Илиа Бруша во плоти и крови и тем самым окончательно уличить в обмане настоящего Илиа Бруша, рыболова-лауреата, того, кто под этим именем заточен в землинской тюрьме. Это доказательство добавится к тем, которые уже привели к аресту, и, может быть, окажется самым веским для решительного приговора, к большой радости подлинного преступника.
Стрига немедленно оставил город, но не вернулся на шаланду. Наняв экипаж, он отправился на железную дорогу, и поезд помчал его на север, к Будапешту.
В это время Сергей Ладко в уже привычной неподвижности считал часы. От судьи он вернулся, испуганный тяжестью предъявленных обвинений. Со временем он сумеет, конечно, доказать свою невиновность. Но надо вооружиться терпением, так как обстоятельства, видимо, сложились против него, а правосудие плохо руководствуется логикой, когда строит обвинение лишь на гипотезах.
А ведь от простых подозрений до формальных доказательств далеко, доказательств же против него никогда не будет. Единственным свидетелем, кого Ладко мог опасаться, и только потому, что тот знал тайну его имени, был еврей Симон Клейн. Но из чувства профессиональной честности Клейн вряд ли согласится его опознать. Да и захотят ли устраивать очную ставку Ладко с его старым венским посредником? Разве судья не объявил, что он прикажет произвести расследование, похоже, только в Сальке? Результат будет, несомненно, превосходным, и заключенный получит свободу.
Прошло несколько дней; Сергей Ладко возвращался к этим мыслям с лихорадочной настойчивостью. Салька недалеко, и не нужно столько времени для розысков. Но только на седьмой день после первого допроса его снова ввели в кабинет господина Изара Рона.
Судья сидел за столом и, казалось, был очень занят. Он оставил лоцмана стоять на ногах минут десять, как будто не замечая его присутствия.
— Мы получили ответ из Сальки,— сказал он наконец равнодушно, не поднимая глаз на обвиняемого, наблюдая за ним тайком сквозь опущенные ресницы.
— А! — с удовлетворением воскликнул Сергей Ладко.
— Вы были правы,— продолжал господин Рона.— В Сальке действительно есть Илиа Бруш, он пользуется прекрасной репутацией.
— А! — еще раз воскликнул лоцман, ему уже казалось, что двери тюрьмы раскрываются.
Судья прикинулся еще более равнодушным и незаинтересованным и пробормотал, как будто не придавая своим словам никакого значения:
— Полицейский комиссар из Грона произвел дознание, и ему удалось говорить с ним самим.
— С ним самим? — повторил, не понимая, Сергей Ладко.
— С ним самим, с Илиа Брушем,— подтвердил судья.
Сергею Ладко показалось, что кто-то из них двоих сейчас бредит. Как могли найти в Сальке другого Илиа Бруша?
— Это невозможно, сударь,— пробормотал он,— произошла ошибка.
— Судите сами,— возразил судья.— Вот рапорт полицейского комиссара из Грона. Этот уважаемый чиновник, исполняя поручение, отправился четырнадцатого сентября в Сальку и явился в дом, расположенный на углу набережной и будапештской дороги. Ведь вы, кажется, этот адрес давали? — перебил себя судья.
— Да, сударь,— ответил Сергей Ладко в полной растерянности.
— И будапештской дороги,— повторил судья.— Он был принят в этом доме господином Илиа Брушем лично, и тот объявил, что он только недавно возвратился после довольно продолжительного отсутствия. Комиссар добавляет, что сведения, которые он собрал о господине Илиа Бруше, устанавливают его безупречную порядочность и тот факт, что никакой другой обитатель Сальки не носит это имя… Имеете ли что-нибудь сказать? Прошу вас, не стесняйтесь.
— Нет, сударь,— пробормотал Сергей Ладко, чувствуя, что сходит с ума.
— Вот первый пункт и выяснен,— с удовлетворением заключил господин Рона и посмотрел на узника, словно кот на мышь.
Глава XIV МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ
После второго допроса Сергей Ладко вернулся в камеру, уже совсем не отдавая себе отчета в том, что происходит. Он едва слышал вопросы судьи после того, как ему прочитали донесение полицейского комиссара из Грона, и отвечал на них тупо, не всегда вразумительно. То, что случилось, превосходило его понимание. Чего хотели от него в конце концов? Похищенный, заточенный на борту шаланды неведомыми врагами, он только что добился свободы, чтобы сразу ее потерять; и вот теперь нашелся в Сальке другой Илиа Бруш, второй он сам, в его собственном доме!… Это переходило в какую-то фантасмагорию!…
Ошеломленный, чуть ли не сведенный с ума последовательностью и внешним правдоподобием необъяснимых событий, он чувствовал, что является игрушкой могущественных враждебных сил, что он, как безвольная и беззащитная добыча, втянут в колеса ужасной машины, называемой правосудием.
Это отчаяние, этот паралич воли так красноречиво выражались на его лице, что один из сопровождавших тюремщиков даже растрогался, хотя и считал узника самым отвратительным злодеем.
— Видно, дело идет не так, как вам хотелось бы, приятель? — проявляя и словами и интонацией желание хоть немного ободрить заключенного, спросил служитель, хотя и пресыщенный по своей профессии зрелищем людских бедствий.
Он мог говорить с глухим, результат оказался бы тот же.
— Ну,— снова начал добродушный страж,— не теряйте головы. Господин Изар Рона — славный малый, и, может быть, все устроится лучше, чем вы думаете… А пока я оставляю вам вот это… Тут есть кое-что о вашей родной стране… это вас развлечет…
Узник сидел неподвижно. Он ничего не понимал, ни на что не реагировал.
Он не слышал, как снаружи застучали засовы, и не видел газету, которую тюремщик положил на стол уходя.
Протекали часы. Кончился день, потом прошла ночь, и опять наступил рассвет. Словно прикованный к стулу, Ладко не чувствовал, как бежит время.
Однако когда солнечный свет ударил в лицо, он как будто вышел из оцепенения. Открыл глаза, и его блуждающий взгляд обежал камеру. Первое, что он заметил, была газета, оставленная накануне жалостливым тюремщиком.
Газета лежала на столе так, что открывала заголовок, напечатанный огромными буквами. «Резня в Болгарии» — объявлял заголовок, что сразу, конечно, бросилось в глаза Сергею Ладко. Он лихорадочно схватил лист. Трезвость рассудка быстро возвращалась к нему.
События, о которых Сергей Ладко узнал таким образом, в то время обсуждались всей Европой и возбуждали всеобщий ропот негодования.
Как уже говорилось в начале этого рассказа, вся балканская область оказалась тогда в огне. Летом 1875 года восстала против турецкого феодального и национального гнета Герцеговина[33] и турецкие войска не могли ее усмирить. В мае 1876 года поднялась, в свою очередь, Болгария[34]; Порта[35] ответила на восстание сосредоточением многочисленной армии в треугольнике, вершинами которого служили Рущук, Видин и София. Наконец, 1 и 2 июля того же 1876 года Сербия[36] и Черногория[37] выступили на сцену и объявили Турции войну. Сербы под предводительством русского генерала Черняева[38] сначала достигли некоторых успехов, но потом им пришлось с боями отступить к своей границе, и 1 сентября князь Милан[39] вынужден был просить перемирия на десять дней, во время которого умолял о вмешательстве могущественных христианских монархов, на что те, к несчастью, долго не решались.
«Тогда,— пишет Эдуард Дрио в своей «Истории восточного вопроса»,— произошел самый ужасный эпизод этой борьбы; он напоминает резню в Кио во время греческого восстания[40]. Порта, воюя с Сербией и Черногорией, боялась, что болгарское восстание в тылу армии помешает военным операциям. Отдал ли губернатор Болгарии Шефкаг-паша приказ подавить восстание, не считаясь со средствами? Это возможно. Банды башибузуков[41] и черкесов, вызванные из Азии, были брошены на Болгарию и затопили ее морем крови[42]. Они дали полную волю своим разнузданным страстям, жгли деревни, убивали мужчин после самых утонченных пыток, распарывали животы женщинам, резали на куски детей. Насчитывалось от двадцати пяти до тридцати тысяч жертв…»
Крупные капли пота катились по лицу Сергея Ладко, когда он читал газету. Что сталось с Натчей среди этих ужасных потрясений?… Жива ли? А вдруг она погибла, и ее труп, искрошенный на куски, вместе с телами стольких невинных жертв валяется в грязи, в крови, попираемый копытами лошадей?
Сергей Ладко яростно забегал по камере, точно ища выхода, чтобы мчаться на помощь Натче.
Этот порыв отчаяния был недолгим. Придя в чувство, он заставил себя успокоиться и с ясной головой стал искать средства вернуть свободу.
Обратиться к судье, открыть ему без обиняков правду, умолять о снисхождении?… Неверный ход. Какие у него шансы добиться доверия у предубежденного человека после долгого упорствования во лжи? Во власти ли арестованного разрушить одними лишь словами подозрения, тяготеющие над именем Ладко? Нет. Все равно понадобится следствие, и оно займет недели, а то и месяцы.
Надо бежать.
Еще когда он сюда только вошел, он исследовал камеру. На это не понадобилось много времени. Четыре стены с двумя проемами: с одной стороны дверь, с другой — окно. По бокам — другие камеры. Значит, только за окном была свобода.
Ширина окна, верхний свод которого упирался в потолок, составляла метра полтора. Окно внутри камеры закрывала решетка из металлических прутьев, верхний конец их упирался в потолок, а нижний в подоконник, сделанный из плиты песчаника. Поперечных прутьев решетка не имела, что, конечно, облегчало побег. Зато снаружи окно закрывалось деревянным ящиком без верхней стороны, в это отверстие виднелся маленький кусочек неба.
Судя по длине лестниц, которыми он проходил по вызовам к судье, Сергей Ладко считал, что камера помещается на четвертом этаже тюрьмы. По крайней мере, двенадцать — четырнадцать метров отделяло его от земли. Возможно ли их преодолеть, не повредившись? Он решил приняться за работу немедленно.
Понятно, прежде всего следовало обзавестись инструментом. При обыске карманный нож отобрали, а в тюрьме не видать ничего подходящего. Стол, табуретка и постель — каменный выступ, накрытый тощим соломенным матрацем,— вот вся меблировка.
Сергей Ладко долго и напрасно искал, когда, в сотый раз обшаривая одежду, наткнулся на что-то твердое. Ни его тюремщики, ни он сам не думали о такой незначительной вещи, как пряжка от брюк. Но какой нужной показалась ему эта ничтожная штуковина, единственный металлический предмет, которым он располагал!
Сняв пряжку и не теряя ни минуты, Сергей Ладко принялся за подоконник возле одного из прутьев, и камень, упорно царапаемый шпеньками пряжки, стал пылью осыпаться на пол. Эта работа, медленная и тяжелая, осложнялась надзором, которому подвергался узник.
Не проходило, видимо, и часа без того, чтобы тюремщик не заглядывал в дверной глазок. Поэтому приходилось все время прислушиваться к наружным шумам, при малейшем признаке опасности прекращать работу и быстро уничтожать уличающие следы.
Для этой цели Сергей Ладко догадался употребить тюремный хлеб. Сырым, липким его ломтем он придавливал пыль, падавшую с подоконника, пыль прилипала к ломтю и получалась замазка, ею Ладко затирал углубление возле прута.
После двенадцатичасовой работы прут удалось подкопать на глубину в три сантиметра, но шпеньки пряжки сточились. Сергей сломал пряжку и употребил в дело обломки. Еще через двенадцать часов и эти стальные кусочки словно растворились.
К счастью, удача, которая один раз улыбнулась узнику, точно не хотела его покидать. Когда принесли еду, он рискнул спрятать столовый ножик, и, поскольку тюремщик не заметил хищения, узник повторил его столь же успешно на следующий день. У него оказались два орудия, значительно более надежные, чем то, каким он до сих пор располагал. Это были скверные ножи грубой работы, но, неудобные для еды, они оказались весьма подходящими для столь же грубого дела.
С этого времени работа пошла скорее, хотя и недостаточно быстро: отвлекали обходы тюремщиков, вызовы к судье, участившему допросы.
Результат допросов был всегда один и тот же. При каждом вызове проходила вереница свидетелей, но их показания не вносили в дело никакой ясности. Если некоторые находили смутное сходство между Сергеем Ладко и преступником, которого они более или менее ясно разглядели в день, когда стали его жертвами, другие категорически отрицали всякую похожесть. Господин Рона напрасно приставлял обвиняемому фальшивые бакенбарды, подстриженные на всевозможные манеры, заставлял показывать глаза или прятать их под темными стеклами очков, но ему не удалось получить ни одного достоверного свидетельства.
Сергей Ладко совсем не интересовался допросами. Он послушно подчинялся экспериментам судьи, наряжался в парики и фальшивые бороды, снимал и надевал очки, не позволяя себе ни малейших возражений. Его мысли были далеко от этого кабинета, они оставались в камере, где железный прут, отделявший от свободы, мало-помалу вылезал из камня.
Четыре дня потребовалось, чтобы обнажить прут снизу целиком. Этот вечер 23 сентября Ладко хорошо запомнил. Теперь оставалось перепилить верхний конец.
Тут пришлось намного труднее. Уцепившись одной рукой за решетку, Сергей Ладко другой водил взад и вперед свое орудие. Нож плохо выполнял роль пилы и очень медленно вгрызался в железо. Да и утомительная поза требовала частых передышек.
Наконец 29 сентября, еще после шести дней тяжких усилий, Сергей Ладко почувствовал, что глубина надреза достаточна. Еще несколько миллиметров, и железо будет перепилено целиком. Значит, не трудно переломить металл. Произошло это вовремя: лезвие второго ножа уже превратилось в проволочку.
На следующее утро после обхода, свободно располагая целым часом, Сергей Ладко настойчиво продолжал делать задуманное. Как он и предполагал, прут согнулся и лопнул сразу. Через отверстие узник вылез за решетку, и, глядя поверх края деревянного ящика, жадно осмотрелся.
Как он и предполагал, от земли отделяло метров пятнадцать. Расстояние можно было преодолеть, только располагая веревкой. Но спуск на землю был наименее трудной частью задачи, хотя как ее решить— оставалось неясным.
Чем больше всматривался он, тем сложнее рисовалась ситуация. Тюрьму окружала дорога для часовых, с другой стороны примыкавшая к стене высотой метров в восемь, за нею виднелись крыши домов. Спустившись, нужно было перебраться через ограду, а это с первого взгляда казалось невыполнимым.
Судя по отдаленности домов, тюрьму, очевидно, окружала улица. Оказавшись там, беглец окажется беззащитным перед каждым встречным. Как выбраться из поселка незамеченным?
В поисках выхода из положения Сергей Ладко стал внимательно разглядывать все, что открывалось слева. Он увидел Дунай, с желтыми водами, покрытыми бесчисленными судами всевозможных размеров. Одни из них поднимались или спускались по реке, другие стояли на якорях у набережной. Среди этих последних лоцман сразу же узнал свою баржу. Она ничем не выделялась среди соседних судов, и ничто не показывало, что ее охраняли. Вот будет удача, если Сергей Ладко сможет ею завладеть! Тогда беглец менее чем через час пересечет границу, а на сербской территории он будет смеяться над австро-венгерским правосудием!
Он снова посмотрел направо и насторожился. Поддерживаемый на определенных расстояниях солидными скобами, вделанными в стену, с крыши спускался железный стержень,— очевидно, проводник громоотвода,— и проходил не очень далеко от окна камеры Сергея, чтобы потом уйти в землю. Стержень сделает спуск довольно легким, если удастся до него дотянуться.
Кажется, удастся. Вдоль стены снаружи род карниза, одно из нехитрых архитектурных украшений здания, образовал выступ шириной в двадцать — двадцать пять сантиметров. При хладнокровии и ловкости можно по нему пройти, достигнуть стержня громоотвода.
Но если и увенчается успехом такая безумно смелая попытка, наружная стена все-таки останется недоступной. Заключенный в камере или во дворе тюрьмы — все равно узник.
Сергей Ладко теперь разглядывал стену с таким вниманием, какого он ей до того не уделял; он заметил, что верхняя часть выложена с обеих сторон рядом квадратных выступов из камня. Еще одно архитектурное украшение и, кажется, тоже полезное… Он вернулся в камеру.
Он принял решение. Средство завоевать свободу наперекор всему было найдено. Каким бы оно ни казалось рискованным, оно могло, оно должно увенчаться успехом. И в конце концов, лучше смерть, чем продолжение подобной муки.
Терпеливо ждал он второго обхода. Время еще оставалось, он принялся заканчивать свои приготовления. Остатком ножа нарезал из простыни полсотни полос в несколько сантиметров шириной. Чтобы не привлечь внимания тюремщика, оставил часть полотна, и постель сохранила внешний вид. Ведь не придет же им в голову поднимать одеяло.
Нарезанные полосы он сплел по четыре в прочную веревку длиной от четырнадцати до пятнадцати метров, ее он тщательно спрятал под каменной кроватью.
Теперь готово, и он решил, что бегство совершится в этот же вечер, в девять часов.
В этот последний день Сергей Ладко продумывал мельчайшие подробности своего предприятия, перебирая в уме счастливые случайности и опасности. Что его ждет: свобода или смерть? Это решит ближайшее будущее. Во всяком случае, он рискнет.
Но перед тем как пробил час действия, судьба приготовила Сергею последнее испытание. Было около трех часов пополудни, когда засовы камеры отодвинулись с большим, нежели всегда, шумом. Чего от него хотят? Опять поведут к господину Изару Рона? Впрочем, для допросов обычный час уже миновал.
Нет, произошло что-то иное. Через распахнутую дверь Ладко увидел в коридоре помимо тюремщика, группу из трех незнакомых особ. Выделялась, конечно, женщина лет двадцати, с нежным и добрым лицом. Из сопровождавших ее мужчин один, очевидно, был ее мужем. Льстивое обращение и угодливая поза тюремщика перед третьим позволили угадать в нем директора тюрьмы.
Судя по особо почтительному отношению к ним, посетители принадлежали к людям высокого круга, возможно даже это была путешествующая княжеская чета, при ней директор играл роль чичероне[43].
— Сейчас занимает эту камеру,— объяснил он гостям,— не кто иной, как знаменитый Ладко, атаман дунайской банды, имя его, конечно, дошло и до вас.
Молодая женщина пугливо взглянула на знаменитого злодея. Но он совсем не внушал ужаса, этот прославленный преступник. Невозможно было представить себе атамана бандитов такой легендарной жестокости в облике исхудалого, изможденного, бледного человека, чьи глаза выражали отчаяние и глубокую тоску.
— Правда, он упорно настаивал на своей невиновности,— беспристрастно добавил директор,— но мы привыкли к таким песням.
Потом он указал посетителям на порядок и превосходную чистоту в келье. В пылу рассуждений он даже переступил порог и приготовился прислониться к окну, чтобы стать лицом к слушателям в позе лектора.
Сергей Ладко замер. Того не подозревая, директор слегка прикоснулся к тому месту, где работал узник, и каменная пыль начала сыпаться тонкой струйкой. Другим движением он тронул затычку из хлеба, она вывалилась из камня и упала на пол. Обнаженная оконечность прута ясно показалась в глубине ячейки.
Заметил ли это кто-нибудь? Да! Пока высокий гость и директор рассматривали жалкий стол, будто какую-то достопримечательность, а тюремщик почтительно отвернулся и глядел в глубину коридора, посетительница устремила взор на углубление, выдолбленное в стене, и выражение ее лица показало, что она поняла его значение.
Она собирается заговорить… одним сказанным словом разрушить столько трудов… Сергей Ладко ждал и чувствовал, что силы по капелькам уходят от него.
Немного побледнев, молодая женщина подняла глаза на узника. Увидела ли она слезы, готовые скатиться из-под век? Уловила ли его молчаливую мольбу? Поняла ли весь ужас его отчаяния?
Прошло десять трагических секунд, и женщина внезапно повернулась, испустив крик боли. Ее спутники кинулись к ней. Что случилось? Ничего серьезного, объяснила она дрожащим голосом, пытаясь улыбнуться. Просто она глупо подвернула себе ногу, вот и все.
Пока Сергей Ладко незаметно переместился к предательски обнаженному пруту, муж, директор и тюремщик суетились. Двое первых вышли, поддерживая мнимо пострадавшую; третий поспешил задвинуть засов. Ладко остался один.
Какой порыв благодарности к пожалевшему его нежному созданию переполнил грудь Сергея Ладко! Он спасен благодаря ей. Он обязан ей жизнью, больше чем жизнью — свободой.
Обессиленный, он упал на кровать. Волнение было слишком жестоким. Он враз ослабел под этим ударом судьбы.
День завершился без дальнейших происшествий, и наконец на городской башне пробило девять. Ночь выдалась самая подходящая. Густые тучи покрывали небо, усиливали темноту.
Отдаленный шум в коридоре возвестил о приближении обхода. Стража остановилась перед дверью. Тюремщик заглянул в глазок и, удовлетворенный, удалился. Заключенный спал, укрывшись одеялом до подбородка. Обход удалился, шум шагов затих.
Момент действовать настал.
Сергей Ладко тотчас вскочил с постели и сложил под одеялом матрац так, чтобы в полумраке камеры он походил на спящего человека. Затем взял веревку и, снова выскользнув за решетку, взобрался, как и в прошлый раз, на верхний край деревянного колпака.
Карнизы, украшавшие здание, располагались на уровне пола каждого этажа; значит, предстояло спуститься на четыре метра. Закинув веревку за один из прутьев и держась за нее, беглец очутился на выступе.
Опираясь спиной о стенку, он держался левой рукой за веревку и отдыхал.
Беглец благоразумно принудил себя к крайней медлительности; ему удалось перехватить веревку правой рукой, а левой он ощупывал стену; нащупал крюк, вделанный в стену.
Зацепившись за него пальцами, Сергей Ладко притянул к себе один из концов веревки, та с валилась ему на плечи. Теперь, если бы даже беглец и захотел, он не смог бы вернуться в камеру. Путь назад был отрезан.
Сергей рискнул повернуть голову к стержню громоотвода, в нем рассчитывал он найти поддержку при спуске. Каков же был его ужас, когда он увидел, что более двух метров отделяло стержень от него!
Однако следовало действовать. Он стоял на узком выступе, опираясь спиной о стену, поддерживаемый над пустотой ничтожным куском железа, готовым выскользнуть из его пальцев, и в таком положении не мог оставаться долго.
Беглец отклонился от окна, распрямил левую руку и — о счастье! — ухватился за громоотвод.
Теперь он скользил по стержню и останавливался у скобок, прикреплявших его к стене. Так он переводил дух.
До беглеца доносился равномерный звук шагов: там ходил караульный солдат. Судя по звуку, который то усиливался, то утихал, часовой, пройдя часть дорожки, примыкавшей здесь к зданию тюрьмы, поворачивал, чтобы обойти другой фасад, и снова возвращался. Сергей Ладко рассчитал, что отсутствие солдата продолжалось три-четыре минуты. За это время нужно преодолеть расстояние до наружной стены.
Он различил под собой ее гребень, но не мог разглядеть выступов, зубцов, украшавших ее верхушку. Приходилось действовать наугад.
Сложив веревку вдвое, Сергей сделал на ней скользящую петлю, получил подобие лассо и начал метать на верхушку стены, пытаясь зацепить за один из выступов.
Полный мрак скрывал цель, и следовало рассчитывать только на счастливую случайность. Больше двадцати раз он безрезультатно бросал веревку и наконец почувствовал сопротивление. Ладко напряг мышцы, веревка держалась крепко. Итак, попытка удалась: петля захлестнулась вокруг выступа. Беглец крепко затянул ее. Пропустил один из свободных концов веревки между стеной и стержнем громоотвода и надежно связал его с другим. Теперь между стеной тюрьмы и наружной оградой пролег воздушный мостик.
Уж очень это был ненадежный мостик! Не порвется ли веревка, не отцепится ли от камня, который ее держит? В первом случае совершится падение с десятиметровой высоты; во втором — он понесется к стене тюрьмы, наподобие маятника, и разобьется об нее.
Ладко не колебался перед такими опасностями. Веревка держалась прочно, он туго связал ее концы, потом, готовый устремиться в пространство, стал прислушиваться к шагам караульного.
Тот как раз проходил под беглецом. Потом завернул за угол здания, и его шаги затихли. Надо было не терять ни секунды.
Вися между небом и землей, Ладко продвигался осторожно и равномерно, не беспокоясь о том, что веревка провисала под его тяжестью. Он хочет пройти. Он пройдет.
Он прошел. Менее чем в минуту он преодолел головокружительную бездну и достиг гребня стены.
Он спешил все больше и больше. Едва ли десять минут прошло с тех пор, как он покинул камеру, но они ему показались длиннее часа, и он боялся, как бы обход не вздумал войти в камеру. Не откроют ли тогда его исчезновение, хотя он подложил под одеяло свернутый матрац? Нужно быть в этот момент далеко. Баржа здесь, в двух шагах от него! Несколько ударов весла, и он будет недосягаем для преследователей.
Прервав свою работу при приближении караульного, Сергей Ладко лихорадочно перетянул к себе узел веревки, развязал и подтащил веревку к себе; потом связал ее снова, обмотал вокруг выступа и начал спуск, уверившись, что улица пустынна.
Благополучно достигнув земли, он бросил веревку. Все кончено. Он свободен.
Но, когда он собрался идти разыскивать свою баржу, из мрака донесся голос.
— Черт побери! — послышалось менее чем в десяти шагах.— Да это господин Илиа Бруш, честное слово!
Сергей Ладко тихо улыбнулся. Судьба решительно стала на его сторону и посылает ему помощь друга.
— Господин Иегер! — молвил он в восхищении, в то время как прохожий вышел из темноты и направился к нему.
Глава XV ЦЕЛЬ БЛИЗКА!
Десятого октября рассвет наступил уже в девятый раз с тех пор, как баржа снова начала спускаться по Дунаю. За восемь предшествующих дней она оставила позади более семисот километров. Приближался Рущук, они будут там вечером.
На борту ничего не изменилось. Баржа несла, как и прежде, тех же двоих пассажиров, Сергея Ладко и Карла Драгоша, снова превратившихся — один в рыболова Илиа Бруша, другой в добродушного господина Иегера.
Впрочем, манера, с которой первый играл теперь свою роль, делала более трудной роль второго. Одолеваемый желанием как можно скорее приблизиться к Рущуку, работающий веслом день и ночь, Сергей Ладко пренебрегал самыми элементарными предосторожностями. Он не только сбросил очки, но и забыл о бритье и о краске; изменения, происходившие в его наружности по мере плавания, обличали мнимого Бруша со все возрастающей силой. Черные волосы бледнели со дня на день, а белокурая борода увеличивалась и начинала принимать вполне почтенный вид.
Было бы вполне естественным, если бы Карл Драгош выказал хоть некоторое изумление при таком превращении. Однако он помалкивал. Решив проделать путешествие до конца, как он обязался, он вознамерился не видеть ничего, что могло бы оказаться неделикатным. К тому моменту, когда он встретился лицом к лицу с Сергеем Ладко под стеной тюрьмы, прежние мнения Карла Драгоша уже сильно поколебались, и он был меньше склонен верить в виновность товарища по путешествию.
Случай со следствием в Сальке был первой причиной этой перемены. Карл Драгош сам произвел повторное расследование. Не так легко готовый верить услышанному, как полицейский из Грона, он долго расспрашивал жителей городка, и ответы очень его смутили.
Что некий Илиа Бруш, человек правильной жизни, обитал в Сальке и покинул ее незадолго до конкурса в Зигмарингене, было неоспоримо. Возвращался ли домой этот Илиа Бруш после конкурса, и именно в ночь на 29 августа? По этому пункту сведения неопределенны. Если ближайшие соседи как будто припоминали, что в конце августа ночью виднелся свет в окнах дома рыболова, тогда закрытых уже более месяца, но они все-таки не могли этого с полной уверенностью утверждать. Смутные и нерешительные ответы, естественно, увеличили сомнения полицейского.
Оставалось выяснить третий пункт. Кто же был тот, с кем как с Илиа Брушем говорил комиссар из Грона в доме, указанном обвиняемым. На этот счет Драгош не мог получить никаких данных. Илиа Бруша достаточно знали в Сальке, и если он еще раз побывал там, то, очевидно, и прибыл и отправился обратно ночью, так как его никто не видел. Таинственность, уже сама по себе подозрительная, стала еще загадочней, когда Карл Драгош принялся за хозяина трактира. Оказалось, что вечером 12 сентября, за тридцать шесть часов до визита полицейского комиссара из Грона, неизвестный спросил в трактире адрес Илиа Бруша. Положение запутывалось. Оно еще более осложнилось, когда допрошенный трактирщик описал наружность незнакомца в таких чертах, которые соответствовали облику атамана дунайской банды, каким его рисовала народная молва.
Все это заставило Карла Драгоша еще более задуматься. Он инстинктивно чувствовал, что дело нечисто, что сотворена какая— то грязная махинация, цель которой оставалась пока неясна, но возможно, что подсудимый как раз и явился ее жертвой.
Это впечатление еще более укрепилось, когда по возвращении в Землин он ознакомился с ходом следствия. После двадцати дней оно не продвинулось ни на шаг. Не установили ни одного сообщника, ни один свидетель формально не признал узника, против него не оказалось других улик, кроме того, что он изменил внешность и владел портретом, на котором обозначалось имя Ладко.
Эти сведения, присоединенные к другим, могли бы стать важными, но в отдельности теряли всякую ценность. Может быть, даже и переодевание, и наличие портрета имели вполне невинную причину.
Карл Драгош в таком состоянии духа склонялся к снисхождению. Вот почему он невольно растрогался от наивного расположения к нему Сергея Ладко, проявленного в таких обстоятельствах, когда было бы извинительно не довериться даже самому близкому другу.
Но разве невозможно было совместить человеческое сочувствие с профессиональным долгом, заняв, как прежде, место на барже? Если Илиа Бруш в действительности звался Ладко и если этот Ладко был преступником, Карл Драгош, присоединившись к нему, выследит сообщников. Если же, напротив, лауреат «Дунайской лиги» невиновен, быть может, он все-таки приведет к настоящему преступнику, тому, кто воспользовался расследованием в Сальке, чтобы отвести от себя подозрения.
Эти рассуждения, как будто не совсем обоснованные, однако, не были лишены логики. Жалкий вид Сергея Ладко, сверхчеловеческая смелость, какую он проявил, совершив свое фантастическое бегство, и особенно воспоминание об услуге во время бури, оказанной ему рыболовом с такой героической простотой, довершили остальное. Карл Драгош был обязан жизнью этому несчастному, что, задыхаясь, стоял перед ним с окровавленными руками, с исхудалым лицом, залитым потом. Мог ли он в награду за все доброе ввергнуть его обратно в ад? Сыщик на это не решился.
— Идем! — просто сказал он в ответ на радостное приветствие беглеца и увлек его к реке.
Немногими словами обменялись спутники за восемь дней, прошедших с тех пор. Сергей Ладко обычно хранил молчание и тратил все силы на то, чтобы увеличить скорость лодки.
Отрывистыми фразами, какие удавалось у него вырывать, он все-таки поведал о своих непонятных приключениях, начавшихся у притока Ипель. Он рассказал о долгом пребывании в землинской тюрьме, последовавшем за еще более странным заточением на борту неизвестной шаланды. Те, кто утверждал, будто видел его между Будапештом и Землином, лгали, ибо во время этого перемещения он был заперт со связанными руками и ногами в шаланде. Во время этих бесед прежние взгляды Карла Драгоша все более и более менялись. Он невольно устанавливал связь между нападением, когда жертвой стал Илиа Бруш, и поведением его двойника в Сальке. Без сомнения, рыболов кому-то мешал и подвергался ударам неведомого врага, чья наружность соответствовала описаниям подлинного бандита.
Так, мало-помалу Карл Драгош приближался к истине. Он не мог проверить свои умозаключения, но чувствовал, по крайней мере, как тают со дня на день его прежние подозрения.
Однако он и не подумал оставить баржу, чтобы вернуться и начать розыски снова. Нюх полицейского говорил ему, что этот след хорош и что рыболов, быть может, невиновный, все-таки каким-то образом связан с действиями дунайской банды. Впрочем, в верхнем течении реки все было спокойно, и последовательность совершенных преступлений доказывала, что их виновники тоже спускались по реке, по крайней мере, до Землина. И были все подозрения к тому, что продолжали спускаться и во время заключения Илиа Бруша.
В этом предположении Карл Драгош не ошибался. Иван Стрига действительно приближался к Черному морю, обогнав на двенадцать дней баржу в момент ее отправления из Землина. Но эти дни выигрыша он постепенно терял, и расстояние, разделявшее два судна, все уменьшалось. День за днем, час за часом, минута за минутой баржа под яростными усилиями Ладко неумолимо догоняла шаланду.
У Сергея была одна цель: Рущук. Одна мысль: Натча. Он пренебрегал предосторожностями, какие предпринимал раньше, чтобы поддерживать инкогнито, теперь он больше о них не думал. Зачем они ему сейчас? После ареста, после бегства называться Илиа Брушем было так же опасно, как и Сергеем Ладко. Под тем или под другим именем он отныне сможет пробраться в Рущук лишь тайно, под угрозой быть схваченным на месте. Поглощенный одной мыслью, он за все эти восемь дней не обращал никакого внимания на берега. Если он хотя бы заметил, что миновали Белград, поднимающийся по холму, где господствовал княжеский дворец Конак, и оставили позади его пригород, где перегружается огромное количество товаров, то лишь потому, что Белград обозначал сербскую границу, и тут кончалась власть господина Изара Рона. А потом он уже не замечал ничего.
Он не видел ни Семендрии, древней столицы Сербии, окруженной виноградниками; ни Коломбалы с пещерой, где, по преданиям, святой Георгий похоронил труп дракона, убитого собственными руками; ни Орсовы, миновав ее, Дунай течет между двумя старинными турецкими провинциями, позднее сделавшимися независимыми королевствами; ни Железных ворот, знаменитого прохода, окаймленного вертикальными стенами в четыреста метров высоты, там Дунай бешено мчится и с яростью разбивается о скалы, усеявшие его ложе; ни Видина, первого довольно значительного болгарского города; ни Никополя, ни Систова, ни других известных болгарских городов, какие он должен был миновать перед Рущуком.
Он предпочитал держаться сербского берега, где чувствовал себя в большей безопасности, и, в самом деле, до Железных ворот полиция его не беспокоила.
Только у Орсовы в первый раз катер речной полиции приказал барже остановиться. Обеспокоенный Сергей Ладко повиновался, ожидая, что ему неминуемо придется отвечать на вопросы. Но его совсем не допрашивали. По одному слову Карла Драгоша командир патруля почтительно поклонился, и об обыске не было и речи.
Лоцман даже не успел удивиться, как это горожанин из Вены распоряжается по своей воле здешними полицейскими силами. Слишком счастливый, что так легко отделался, он нашел вполне естественным могущество спутника, и не изумление, а лишь возрастающее нетерпение во время долгого разговора его пассажира с агентом испытал он.
Между тем в соответствии с приказами как господина Изара Рона, взбешенного бегством арестанта, так и самого Карла Драгоша, речная полиция удвоила бдительность. На определенных дистанциях суда должны были проходить заграждения, и среди них Орсова играла главную роль. Узость реки в этом месте облегчала надзор, никакому судну не удавалось проскользнуть здесь без тщательного осмотра.
Карл Драгош, расспрашивая подчиненных, с досадой узнавал, что обыски не дали никаких результатов: более того, новое очень серьезное ограбление произошло пять дней назад на румынской территории.
Итак, дунайская банда снова проскользнула через петли сети. Грабители забирали не только золото и серебро, но и ценности всякого рода, их добыча становилась очень громоздкой, и казалось просто невероятным, что ее не обнаруживали, когда ни одно судно не могло избавиться от обыска.
И однако, это было так.
Карл Драгош поражался такой ловкости. Но приходилось считаться с очевидностью; преступление показывало, что бандиты продолжают спуск по реке.
Единственный вывод из этих событий — следовало спешить. Место и день последнего грабежа показывали, что его виновники опередили баржу рыболова километров на триста. Сопоставив время, проведенное Илиа Брушем в тюрьме, то есть время, выигранное дунайской шайкой, можно было убедиться, что скорость шаланды вполовину меньше скорости баржи. Значит, настичь бандитов возможно.
Утром 6 октября путешественники пересекли болгарскую границу. Сергей Ладко старался держаться правого берега. Теперь Сергей Ладко по возможности прижимался к румынской стороне; впрочем, сейчас вдоль реки тянулась цепь болот шириной от восьми до десяти километров, мешавшая приближаться к берегу.
Сколь ни углублялся в свои мысли Сергей Ладко, но с тех пор, как он вошел в болгарские воды, река должна была внушать ему опасения. Ее беспрестанно бороздили паровые шлюпки, миноноски и даже канонерки под турецким флагом. Предвидя, что раньше или позже разразится война с Россией, Турция начала наблюдать за Дунаем и наполнила его своими флотилиями.
И там и здесь был риск, однако лоцман старался держаться подальше от турецких судов, если это даже грозило столкновением с румынскими властями; в последнем случае Ладко надеялся, что господин Иегер сможет его защитить, как это случилось в Орсове.
Однако не выпадало таких происшествий, какие снова доказали бы могущество пассажира; последняя часть путешествия прошла спокойно, и 10 октября, около четырех часов пополудни, баржа приблизилась наконец к Рущуку, неясно видневшемуся на другом берегу. Лоцман выплыл на середину реки и, впервые за много дней оставив весло, бросил якорь.
— Что случилось? — спросил изумленный Карл Драгош.
— Я прибыл,— лаконично ответил Сергей Ладко.
— Прибыл? Но мы ведь не у Черного моря?
— Я вас обманывал, господин Иегер,— без обиняков заявил Сергей Ладко.— У меня не было и намерения плыть до Черного моря.
— Ба! — сказал сыщик с возрастающим вниманием.
— Это так. Я отправился с мыслью закончить путь в Рущуке. Мы прибыли.
— А где же Рущук?
— Там,— ответил лоцман, показывая на дома отдаленного города.
— Почему же в таком случае мы не отправляемся туда?
— Потому что я должен дождаться ночи. Меня ищут, преследуют. Днем я рискую, что меня арестуют при первом шаге.
Это становилось интересным. Неужели все-таки оправдываются первоначальные подозрения Драгоша?
— Как в Землине,— пробормотал вполголоса сыщик.
— Как в Землине,— спокойно согласился Сергей Ладко,— но по другим причинам. Я честный человек, господин Иегер.
— Я в этом не сомневаюсь, господин Бруш, хотя причины бояться ареста редко вызывают сочувствие порядочных людей.
— Мои как раз таковы, господин Иегер,— холодно уверил Сергей Ладко.— Извините, что я не могу их открыть. Я поклялся хранить тайну и сохраню ее.
Карл Драгош выразил жестом полнейшее равнодушие. Лоцман продолжал:
— Я понимаю, господин Иегер, что вы не захотите вмешиваться в мои дела. Если желаете, я высажу вас на румынской территории, и вы избежите опасностей, которым я могу подвергнуться.
— Сколько времени вы рассчитываете оставаться в Рущуке? — спросил вместо ответа Карл Драгош.
— Не знаю,— ответил Сергей Ладко.— Если все пойдет, как я желал бы, я вернусь на лодку до утра, и в этом случае буду не один. Если получится по-другому, неизвестно, что я стану делать.
— Я последую за вами до конца, господин Бруш,— не колеблясь, объявил Карл Драгош.
— Воля ваша,— молвил Сергей Ладко и больше не сказал ни слова.
Когда наступила ночь, он приблизился к болгарскому берегу. В полной темноте он причалил немного ниже последних домов города.
Всем существом стремясь к заветной цели, Сергей Ладко действовал четко и точно. Слепой ко всему окружающему, он не заметил, как его компаньон исчез в каюте, когда якорь был поднят на борт. Внешний мир потерял для Сергея всякую реальность. Для него существовала единственная мечта. И этой мечтой был весь освещенный солнцем, несмотря на тьму ночи, его дом, и в этом доме Натча!… Кроме Натчи, для него ничего не было под небом.
Как только нос суденышка коснулся берега, он спрыгнул на землю, закрепил баржу и удалился быстрыми шагами.
Карл Драгош вышел из каюты следом. Он не терял времени. Кто мог бы узнать энергичного и подтянутого полицейского в этом увальне с тяжелой поступью, превосходно изображавшем венгерского крестьянина.
Сыщик, в свою очередь, сошел на берег и, следуя за лоцманом, снова отправился на охоту.
Глава XVI ОПУСТЕВШИЙ ДОМ
Через пять минут Сергей Ладко и следом за ним Карл Драгош очутились около домов. В Рущуке в ту пору, несмотря на его торговое значение, не существовало уличного освещения, и при всем желании трудно было составить понятие о городе, беспорядочно разбросанном по берегу Дуная. Близ пристани теснились ветхие строения, служившие складами или кабачками. Ладко и Драгош на все это не обращали внимания. Первый шел быстрым шагом, смотря прямо перед собой, как будто его привлекала цель, сверкающая во тьме. А второй старался не отставать от лоцмана и потому не сразу заметил двух людей, появившихся из улочки, мимо которой он проходил.
Когда эти двое оказались на дороге, ведущей к Дунаю, они разделились. Один пошел направо, вниз по реке.
— До свидания,— сказал он по-болгарски.
— До свидания,— отвечал другой и, повернув налево, двинулся в сторону Карла Драгоша.
При звуке этого голоса сыщик вздрогнул. Секунду он колебался, замедлив шаг, потом, оставив преследование лоцмана, круто повернулся.
Значительная совокупность природных и благоприобретенных способностей необходима сыщику, питающему честолюбивую мечту не застрять на нижних ступеньках служебной лестницы. Но наиболее драгоценны из многих качеств, которыми он должен владеть,— превосходная зрительная и слуховая память.
Карл Драгош владел этими преимуществами в высокой степени. Через месяцы и годы он узнавал с первого взгляда однажды увиденное лицо и услышанный голос.
Сейчас прозвучал как раз один из тех голосов, которые Драгош слышал, и не так давно, чтобы ошибиться. Этот голос донесся до его слуха на поляне, у подножия горы Пилиш, и он станет той путеводной нитью, какую сыщик столь долго искал. Как бы ни казались убедительными, изощренными умозаключения, относившиеся к компаньону по путешествию, это все-таки были только гипотезы. Напротив, голос принес ему наконец уверенность. Колебаться между вероятностью и уверенностью было невозможно, и вот почему сыщик оставил Ладко и устремился за новой добычей.
— Добрый вечер, Титча,— сказал по-немецки Карл Драгош, когда человек приблизился к нему.
Тот остановился, стараясь рассмотреть его в темноте.
— Кто это? — спросил он.
— Я,— ответил Драгош.
— Да кто ты?
— Макс Рейнольд.
— Не знаю такого.
— Но я вас знаю, раз назвал по имени.
— Это верно,— согласился Титча.— Видно, у вас хорошие глаза, приятель?
— Они в самом деле превосходны!
Разговор на мгновение прервался.
— Чего вы от меня хотите? — спросил Титча.
— Говорить с вами,— объявил Драгош.— С вами или с другим. Я только для этого в Рущуке.
— Значит, вы нездешний?
— Нет, я приехал сегодня.
— Хорошенькое время выбрали,— насмешливо заметил Титча, очевидно намекая на анархию, царившую в Болгарии[44].
Драгош, сделав равнодушный жест, добавил:
— Я из Грона.
Титча молчал.
— Вы не знаете Грона? — настаивал Драгош.
— Нет.
— Это удивительно, ведь вы были так близко от него.
— Близко? — повторил Титча.— Откуда вы взяли, что я был близко от Грона?
— Черт возьми! — смеясь воскликнул Карл Драгош.— Да ведь недалеко оттуда находится вилла Хагенау.
Титча задрожал. Он попробовал отделаться смелым отрицанием.
— Вилла Хагенау? — пробормотал он, стараясь попасть в насмешливый тон.— Странный разговор, приятель! Я не знаю такой.
— Правда? — иронически сказал Драгош.— А поляну возле Пилиша знаете?
Титча, быстро приблизившись, схватил за руку собеседника.
— Да тише же,— сказал он, уже не пытаясь скрыть волнения.— Вы с ума сошли, что так кричите!
— Здесь нет никого,— возразил Драгош.
— Кто знает? И наконец, чего же вы хотите?
— Говорить с Ладко,— ответил Драгош, не снижая голоса.
Титча крепче сжал его руку.
— Тише,— сказал он, бросая вокруг испуганные взгляды.— Вы дали клятву, чтобы нас повесили?
Карл Драгош расхохотался.
— Ну,— сказал он,— нам трудно будет договориться, если мы станем изображать немых!
— Тогда,— глухо проворчал Титча,— не нужно нападать на людей среди ночи без предупреждения. Есть вещи, о которых лучше не говорить на улице.
— А я и не собираюсь этого делать,— возразил Драгош.— Идем в другое место.
— Куда?
— Все равно. Есть тут где-нибудь кабачок?
— В нескольких шагах отсюда.
— Идем туда.
— Ладно,— согласился Титча.— Следуйте за мной.
Через полсотни метров вышли на небольшую площадь. Перед ними в темноте слабо светилось окно.
— Здесь,— сказал Титча.
Они вошли в пустынную залу скромной кофейни, всю обстановку которой составляли дюжина столиков и стулья.
— Тут будет превосходно,— промолвил Драгош.
Хозяин поспешил к неожиданным посетителям.
— Чего мы выпьем? Я угощаю,— объявил сыщик, хлопая себя по жилету.
— Стакан ракии?[45] — предложил Титча.
— Идет, ракия! А можжевеловой? Она вам нравится?
— Хороша и можжевеловая,— согласился Титча.
Карл Драгош обернулся к хозяину, ожидавшему приказаний.
— Вы слышали, дружище? Ну, живо!
Пока хозяин суетился, Карл Драгош с одного взгляда оценил того, с кем предстояла борьба. Широкие плечи, бычья шея, низкий лоб, прикрытый густыми седеющими волосами, одним словом, типичный экземпляр ярмарочного борца низшего сорта.
Когда принесли бутылки и стаканы, Титча завел разговор сначала:
— Вы сказали, что знаете меня?
— А вы в этом сомневаетесь?
— И что, вам известно дело в Гроне?
— Конечно, мы там работали вместе.
— Невозможно!
— Но верно.
— Ничего не понимаю,— бормотал Титча, напрасно стараясь вспомнить.— Нас было все-таки только восемь…
— Простите,— перебил Драгош,— нас было девять, потому что я был там.
— Вы приложили там руку? — настаивал мало убежденный Титча.
— Да, и в вилле, и на поляне. Это я вел повозку.
— С Фогелем?
— С Фогелем.
Титча одно мгновение раздумывал.
— Этого не может быть,— запротестовал он.— С Фогелем был Кайзерлик.
— Нет, я,— не смущаясь, возразил Драгош.— Кайзерлик оставался с вами.
— Вы в этом уверены?
— Вполне! — заявил Драгош.
Титча, казалось, заколебался. Бандит не блистал сообразительностью. Не заметив, что сам же и открыл существование Фогеля и Кайзерлика так называемому Максу Рейнольду, он посчитал доказательством, что тот действительно знал имена раньше.
— Стаканчик можжевеловки? — предложил Драгош.
— От этого не отказываются, — молвил Титча.
Потом, опорожнив стакан одним духом, он пробормотал, наполовину убежденный:
— Это любопытно. Мы в первый раз замешали чужака в наши дела.
— Надо же когда-то начинать,— возразил Карл Драгош.— Я не буду чужаком, когда меня примут в шайку.
— В какую шайку?
— Бесполезно хитрить, приятель. Ведь это уже решено.
— Что решено?
— Что я буду вашим.
— С кем решено?
— С Ладко.
— Да тише ты,— грубо перебил Титча.— Я уже предупреждал, что надо хранить это имя для себя.
— На улице! — возразил Драгош.— А здесь?
— Здесь, как и везде, как во всем городе, понятно?
— Почему? — спросил Драгош наудачу.
Но Титча еще сохранил остатки недоверия.
— Если вас спросят,— молвил он осторожно,— говорите, что вы его не знаете, приятель. Вам многое известно, но не все, как я вижу, и не вам водить за нос такую старую лисицу, как я.
Титча ошибался: не ему было тягаться с таким игроком, как Драгош, и старая лисица попалась умелому охотнику. Трезвость не была главным качеством бандита, и сыщик, как только это обнаружил, решил сразу же использовать уязвимое место противника. Его настойчивым предложениям бандит сперва сопротивлялся, но слабо. И вскоре стаканы можжевеловой следовали за стаканами ракии и наоборот. Воздействие уже сказывалось. Глаза Титчи начали блуждать, язык отяжелел, благоразумие исчезало.
— Итак, мы говорили,— вяло бормотал Титча,— что это условлено с атаманом?
— Условлено,— подтвердил Драгош.
— Он хорошо сделал… атаман,— заявил Титча, который в опьянении начал разговаривать с собеседником на ты.— У тебя вид настоящего парня, товарищ.
— Ты смело можешь это утверждать,— в тон ему ответил Драгош.
— Тогда, вот!… Ты его не увидишь… атамана…
— Почему?
Прежде чем ответить, Титча наполнил стакан ракией и выпил двумя глотками. Потом хрипло сказал:
— Атаман… отправился.
— Его нет в Рущуке? — настойчиво спросил сильно разочарованный Драгош.
— Нет больше.
— Значит, он здесь был?
— Четыре дня назад.
— А теперь?
— Отправился к морю на шаланде.
— Когда он должен вернуться?
— Недели через две.
— Две недели отсрочки! Эх, вот мое счастье! — вскричал Драгош.
— Ты, верно, очень раззадорился войти в компанию? — с грубым смехом спросил Титча.
— Черт! — ответил Драгош.— Я — крестьянин, а дельце в Гроне принесло мне за одну ночь больше, чем за целый год копания в земле.
— Это тебя и разлакомило! — решил Титча с раскатистым хохотом.
Драгош сделал вид, будто только заметил, что стакан его собутыльника пуст, и поспешил его наполнить.
— Ты совсем не пьешь, товарищ! — вскричал он.— За твое здоровье!
— За твое! — повторил Титча, опоражнивая стакан уже одним махом.
Сведения, полученные полицейским, оказались обильны. Он узнал, сколько сообщников в дунайской шайке: восемь, по словам Титчи; имена трех из них и даже четырех, считая атамана; назначение шаланды; море, где, без сомнения, судно заберет добычу; базу для операций: Рущук. Когда Ладко вернется сюда через две недели, все будет готово, чтобы арестовать его немедленно, если не удастся схватить бандитов в устье Дуная.
Но все-таки немало еще оставалось неразрешенных вопросов. Карл Драгош подумал, что, может быть, ему удастся прояснить, по крайней мере, хоть один, пользуясь опьянением собеседника.
— Почему же,— спросил он равнодушно после некоторого молчания,— ты не хотел, чтобы я произносил имя Ладко?
Совершенно пьяный, Титча бросил мутный взгляд на компаньона, потом, в приливе внезапной нежности, протянул ему руку:
— Я все тебе скажу, ведь ты друг! — пробормотал он.
— Да!
— Брат!
— Да!
— Молодец, боевой парень!
— Да!
Титча взглянул на бутылки.
— По стаканчику можжевеловки? — предложил он.
— Кончилась,— ответил Драгош.
Опасаясь, что новый знакомый упадет мертвецки пьяным, сыщик старался выплескивать на пол добрую часть содержимого бутылок. Потому выпитое количество не устраивало Титчу, узнав, что можжевеловой уже нет, он скорчил кислую гримасу.
— Тогда ракии! — умолял он.
— Вот,— согласился Карл Драгош и придвинул бутылку, в которой оставалось немного жидкости.— Но осторожно, товарищ! Мы не должны опьянеть.
— Я?! — запротестовал Титча, завладев бутылкой.— Я знаю, что могу и чего не могу!
— Мы говорили, что Ладко…— напомнил Драгош, осторожно направляя извилистый путь разговора к цели.
— Ладко? — повторил Титча, забыв, о чем шла речь.
— Да… Почему нельзя его называть?
Титча пьяно рассмеялся.
— Это тебя интересует, сынок! Это значит, что здесь Ладко именуется Стрига, вот и все.
— Стрига? — повторил Драгош, ничего не понимая.— Почему Стрига?
— Потому что так зовется это дитятко… Ну, вот ты, тебя зовут… В самом деле, как тебя зовут?
— Рейнольд.
— Ага… Рейнольд… Ну, хорошо! Тебя зовут Рейнольд… Его зовут Стрига… Это ясно.
— Однако в Гроне…— настаивал Драгош.
— Хо! — перебил Титча.— В Гроне это был Ладко… Но в Рущуке это Стрига!
Он подмигнул с хитрым видом.
— Да уж так, ты понимаешь, не пойман — не вор!
Что преступник принимает вымышленное имя, которым прикрывает свои злодеяния, это не может удивить полицейского, но почему именно фамилия Ладко, фамилия, написанная на портрете, найденном в барже?
— Однако существует и настоящий Ладко! — нетерпеливо промолвил Драгош, выразив, таким образом, свое предположение.
— Черт возьми! — сказал Титча.— Это-то и есть самое смешное.
— Но кто же тогда этот Ладко?
— Каналья! — энергично заявил Титча.
— Что он тебе сделал?
— Мне?… Ничего… Стриге…
— А что он сделал Стриге?
— Отнял у него женщину… Прекрасную Натчу.
Натча! Имя, написанное на портрете! Драгош, уверенный, что он на хорошем следу, жадно слушал Титчу, а тот продолжал, не дожидаясь, чтобы его просили:
— Потом, они совсем не друзья, понимаешь! Вот почему Стрига взял его имя. Он хитрец, Стрига!
— Я все-таки не понимаю,— упорствовал Драгош,— почему нельзя называть имя Ладко.
— Потому что это опасно,— объяснил Титча.— В Гроне… и в других местах, ты знаешь, что оно означает… А здесь Ладко — имя лоцмана, который восстал против правительства… он устраивает заговоры, бездельник… А улицы в Рущуке полны турок!
— Что с ним случилось? — спросил Драгош.
Титча жестом показал незнание.
— Он исчез. Стрига думает, что умер.
— Умер!
— И вероятно, это правда, потому что женщина — у Стриги.
— Какая женщина?
— Ну! Прекрасная Натча… Сначала имя, потом жена… Она недовольна, голубка… Но Стрига держит ее на борту шаланды…
Все стало ясно Драгошу. Он проводил долгие дни на барже не в обществе заурядного преступника, но с изгнанником-патриотом. Какова же в этот момент скорбь Ладко, когда, явившись к себе после стольких усилий, нашел опустевший дом?… Нужно спешить к нему на помощь… А дунайскую банду Драгош, отныне хорошо осведомленный, без труда найдет и уничтожит.
— Жарко,— вздохнул он, притворяясь опьяневшим.
— Очень жарко,— согласился Титча.
— Все ракия…— пробормотал Драгош.
Титча ударил кулаком по столу.
— У тебя слабая голова, малыш! — насмешливо сказал он.— Я… Ты видишь… Готов начать снова…
— Не могу состязаться с тобой…
— Воробышек…— издевался Титча.— Ладно, идем, раз уж тебе так хочется.
Расплатившись с хозяином, собутыльники очутились на площади. Перемена оказалась неблагоприятной для Титчи. На свежем воздухе его заметно развезло. Драгош боялся, что перепоил его.
— Скажи,— спросил он, указывая вниз,— этот Ладко…
— Какой Ладко?
— Лоцман. Там он живет?
— Нет.
Карл Драгош повернулся в сторону города.
— Там?
— Вовсе нет.
— Ну, тогда там? — Драгош указал вверх.
— Да,— пробормотал Титча.
Сыщик почти поволок любителя ракии и можжевеловой. Тот шатался и позволял вести себя, бормоча несвязные слова; после пяти минут ходьбы он внезапно остановился, силясь вернуть устойчивость.
— Что же толковал Стрига,— запинаясь, сказал он,— будто Ладко умер?
— Ну?
— Он не умер, потому что у него кто-то есть.
И Титча указал на лучи, пробивавшиеся невдалеке сквозь ставни и падавшие на дорогу. Драгош поспешил к окну. Через щели он и Титча заглянули в дом.
Они увидели не очень большую комнату, довольно хорошо обставленную. Беспорядок и слой пыли, покрывавший мебель, показывали, что эта комната, давно покинутая, послужила местом жестокой борьбы. В центре стоял большой стол, на который облокотился глубоко задумавшийся человек. Пальцы, судорожно вцепившиеся во всклокоченные волосы, красноречиво показывали смятение чувств.
Карл Драгош, конечно, сразу узнал товарища по путешествию. Но не один он узнал его.
— Это он,— бормотал Титча, делая энергичные усилия побороть опьянение.
— Он?
— Ладко!
Титча провел рукой по лицу и, казалось, немного пришел в себя.
— Он не умер, каналья…— сказал он сквозь зубы.— Но это еще лучше… Турки заплатят за его шкуру дороже, чем она стоит… Стрига будет доволен… Не двигайся отсюда, товарищ,— сказал он, обращаясь к Карлу Драгошу.— Вдруг он пойдет, хватай его!… Зови на помощь, если понадобится… А я побегу за полицией…
Не дожидаясь ответа, Титча убежал. Он почти не шатался… От волнения к нему вернулось равновесие.
Оставшись один, сыщик вошел в дом.
Сергей Ладко не пошевельнулся. Карл Драгош положил ему руку на плечо.
Хозяин дома поднял голову. Но мысли его были далеко, и блуждающий взгляд показал, что он не узнал своего пассажира. Тот произнес одно лишь слово:
— Натча!…
Сергей Ладко вскочил. Его глаза заблестели, встретившись с глазами Карла Драгоша.
— Идите за мной,— сказал сыщик,— и поспешим!
Глава XVII ВПЛАВЬ
Баржа, казалось, летела по воде. Опьяненный гневом, возбужденный, Сергей Ладко более яростно, чем когда-либо, налегал на весло. Поборов законы природы силой страсти, он каждую ночь позволял себе лишь совсем немного покоя. Он падал, погружался в свинцовый сон, пробуждался внезапно, часа через два, точно от удара колокола, и принимался за свой невероятный труд.
Свидетель этой остервенелой погони, Карл Драгош удивлялся, что человеческий организм одарен такой выносливостью.
Чтобы не отвлекать несчастного лоцмана, сыщик не нарушал молчания. Все, что следовало, было сказано при отплытии из Рущука. Как только лодка двинулась по течению, Карл Драгош объяснил все, что полагал необходимым. Прежде всего он открыл свое истинное положение. Потом в немногих словах объяснил, что отправился в путешествие для преследования дунайской банды, чьим атаманом народная молва объявила некоего Ладко из Рущука.
Лоцман выслушал рассеянно, нетерпеливо. Что ему до этого? У него одна мысль, одна цель, одна надежда: Натча!
Его внимание пробудилось лишь с того момента, когда Карл Драгош заговорил о молодой женщине, поведал, как он узнал от Титчи, что Натча спускается по реке пленницей на борту шаланды, где командует атаман шайки, подлинное имя его не Ладко, а Стрига.
При этом имени Сергей буквально взревел от ярости; рука еще сильнее сжала весло.
Он больше не расспрашивал. С тех пор он спешил почти вообще без отдыха, с наморщенными бровями, с безумными глазами, и вся душа его стремилась вперед, к цели. Он питал в сердце полную уверенность, что достигнет этой цели. Почему? Он не мог бы этого сказать. Он был уверен, и все тут. Шаланду, где Натча — пленница, он узнает с первого взгляда, даже среди тысячи других. Как? Он и этого не сумел бы объяснить. Но он ее найдет. Об этом не могло быть и спора. Теперь он понял, почему ему казалось, будто знает тюремщика, приносившего еду во время первого заточения там, на шаланде, и почему доносившиеся до него голоса будили смутный отзвук в его душе. Тюремщик был Титча. Голоса были голосами Стриги и Натчи. И больше того, крик, долетевший до него в ночи, оказался криком Натчи, бесполезно призывавшей на помощь. Почему он тогда не остановился?… Скольких сожалений, скольких упреков совести избежал бы он!…
После бегства он едва взглянул в темноте на сумрачную тушу плавучей тюрьмы, где он оставлял, сам того не зная, милую его сердцу. Ничего! Все придет в свое время! Невозможно миновать судно Стриги: властно заговорил таинственный голос из глубины его существа.
Расчеты Сергея Ладко были не столь самонадеянными, как можно подумать. Возможность ошибки сильно упала с уменьшением количества шаланд на Дунае. После Орсовы их число не переставало убывать, сделалось совсем незначительным ниже Рущука, и последние остались позади в Силистре. Ниже этого города, который баржа миновала через сутки, на реке осталось только два парусника, Дунаем завладели почти исключительно паровые суда.
Возле Рущука Дунай огромен. По левому берегу он разливается нескончаемыми болотами, и ширина русла достигает восьми километров. Ниже он становится еще обширнее, и между Силистрой и Браилой он доходит в иных местах до двадцати километров. Такое водное пространство — настоящее море, на нем хватает и бурь, и огромных пенистых волн; понятно, что плоскодонные шаланды, не приспособленные к морскому плаванию, избегают там появляться.
К счастью Сергея Ладко, погода выдалась хорошая. Такое маленькое суденышко со столь не морскими формами сильный ветер непременно принудил бы искать убежище в береговых заливах.
Карла Драгоша, от чистого сердца принявшего участие в заботах товарища, но имевшего и другую, свою цель, очень смущала пустынность обширного угрюмого пространства. Не дал ли Титча ложные указания? Исчезновение с Дуная шаланд заставляло Драгоша опасаться, не последовал ли Стрига их примеру? Наконец Драгош поделился беспокойством с Ладко.
— Может ли шаланда спуститься к морю? — спросил он.
— Да,— отвечал лоцман.— Это случается, хотя и редко.
— Вы и сами их водили?
— Иногда.
— Как они разгружаются?
— Заходят в укрытые бухты гирл[46] или передают груз на пароходы.
— Гирла, говорите вы. Ведь их на Дунае несколько?
— Главных два,— ответил Сергей Ладко.— Северное, у Килии; южное, у Сулины[47]. Это более значительное.
— Мы из-за этого не пойдем по ложному пути? — спросил Карл Драгош.
— Нет,— заверил лоцман.— Кто скрывается, тот не направится через Сулину. Будем догонять по северному рукаву.
Карл Драгош не совсем успокоился: бандиты могут рассуждать так же и, чтобы обмануть преследователей, ускользнут как раз по южному рукаву. Но тут приходилось рассчитывать только на удачу.
Угадывая его мысли, Сергей Ладко закончил объяснения убедительно:
— За килийским гирлом есть бухта, где шаланда может укрыться для перегрузки. А в сулинском рукаве надо разгружаться в порту Сулина, это опасно для разбойников. Что же касается третьего, георгиевского гирла, оно едва проходимо, хотя и шире всех. Мы не ошибемся.
На четвертый день после отплытия из Рущука баржа наконец вошла в дельту и двинулась по килийскому рукаву. В полдень миновали последний значительный пункт — Измаил. Завтра утром увидят Черное море.
До этого нагонят ли они шаланду Стриги? Едва ли. После того как они оставили главное русло, река стала совершенно пустынной. Насколько хватал глаз, нигде ни паруса, ни дымка. Карла Драгоша съедало беспокойство.
Однако Сергей Ладко не выказывал опасений, если они и были. Согнувшись над веслом, он неутомимо гнал баржу вперед, следуя по руслу, где только долгая практика позволяла находить путь среди низких болотистых берегов.
Его нетерпеливое упорство должно было быть вознаграждено. В тот же день около пяти часов пополудни показалась наконец шаланда, она стояла на якоре в десятке километров ниже Килии. Сергей Ладко остановил лодку, схватил подзорную трубу и внимательно рассматривал судно.
— Это он! — сказал Ладко глухим голосом, опуская трубу.
— Вы уверены?
— Уверен. Я узнал Якуба Огула, искусного лоцмана из Рущука, преданного сообщника Стриги.
— Что же делать? — спросил Карл Драгош.
Сергей Ладко не ответил. Он думал.
Сыщик продолжал:
— Нужно вернуться в Килию, а если понадобится, то и в Измаил. Там мы получим подкрепление.
Лоцман отрицательно покачал головой.
— Возвращаться против течения в Измаил или даже только в Килию — отнимет слишком много времени. Шаланда опередит нас, а в море ее не найдем. Нет, останемся здесь до ночи. У меня есть замысел. Если мне удастся, станем следить за шаландой издалека и, когда определим место ее стоянки, будем искать помощи в Сулине.
Когда совсем стемнело, Сергей Ладко подвел баржу на расстояние в двести метров от шаланды. Там он тихо опустил якорь. Не говоря ни слова удивленному Карлу Драгошу, он разделся и спустился в реку.
Рассекая воду сильной рукой, он направился прямо к шаланде, смутно видной во мраке. Приблизился настолько, чтобы не быть замеченным, обогнул судно, подплыл к рулю и ухватился за него. Он слушал. Кто-то напевал вполголоса над его головой. Цепляясь руками и ногами за скользкий борт, Сергей Ладко мощным усилием поднялся до верхней части руля и увидел Якуба Огула.
На борту все выглядело спокойно. Никакого шума не доносилось из рубки, где, без сомнения, находился Иван Стрига. Пятеро из экипажа спокойно беседовали, растянувшись на палубе в передней части шаланды. Их голоса доносились еле слышно. Якуб Огул сидел в одиночестве на рулевом брусе и, убаюканный ночным спокойствием, выводил любимую песенку.
Крепкие руки обхватили горло певца, и он, сдернутый с места, упал и остался недвижимым. Бесчувственное тело свешивалось как тряпка с той и другой стороны узкого рулевого бруса. Сергей Ладко ухватил Якуба за пояс, потом, слегка сжимая коленями руль, соскользнул вниз и тихо погрузился в воду.
На шаланде никто не заметил нападения. Иван Стрига не вышел из рубки. Впереди пять собеседников невозмутимо продолжали разговор.
Тем временем Сергей Ладко плыл к барже. Возвращаться оказалось, конечно, труднее, чем плыть туда. Приходилось бороться с течением и поддерживать тело Якуба Огула. Если тот и не умер, то был близок к этому. Свежесть воды не оживила его; он не шевелился. Сергей Ладко начал бояться, что поступил с ним слишком круто.
Достаточно было пяти минут, чтобы доплыть от баржи до шаланды; но больше получаса потребовалось для обратного пути.
— Помогите мне,— сказал он Карлу Драгошу, схватившись за борт.— Я притащил одного.
С помощью сыщика Ладко перевалил Якуба Огула на палубу.
— Он мертв? — спросил лоцман.
Карл Драгош наклонился над пленником.
— Нет, дышит.
Сергей вздохнул с удовлетворением и начал грести против течения.
— Тогда свяжите его, да покрепче, если не хотите, чтобы он ушел, не прощаясь, когда я ссажу вас на берег.
— Значит, мы должны разделиться? — спросил Карл Драгош.
— Да,— ответил Сергей Ладко.— Когда вы будете на суше, я вернусь к шаланде и завтра постараюсь войти на ее борт.
— Днем?
— Днем. У меня свои соображения. Будьте покойны, я не подвергнусь опасности, по крайней мере, в первое время. Позже, когда мы будем у моря, положение может измениться, согласен. Но я буду рассчитывать на вас в этот момент, который постараюсь всячески оттянуть.
— На меня? Но что я могу сделать?
— Привести помощь.
— Я все сделаю для этого,— заверил Карл Драгош.
— Не сомневаюсь в этом, но вас ждут затруднения. Постарайтесь как можно лучше преодолеть их, вот ваша задача. Не забывайте, что шаланда снимется с якоря завтра в полдень и, если ничто ее не задержит, будет в море к четырем часам. Так и рассчитывайте время. Если опоздаете — я, вероятно, погибну.
Глава XVIII ДУНАЙСКИЙ ЛОЦМАН
Когда Сергей Ладко исчез в темноте, Карл Драгош некоторое время раздумывал, что ему делать. Один, в начале ночи, на безлюдном участке бессарабской границы, с бесчувственным телом пленника, от которого долг службы запрещал ему отлучаться… Положение было весьма затруднительным. Но помощь сама не придет, если он не станет ее искать, следовало принять решение. Время не ждало. Одного часа, быть может, одной минуты окажется достаточно, чтобы решить судьбу Сергея Ладко. Оставив Якуба Огула, все еще без сознания, но крепко связанного, так что тот не мог убежать, даже очнувшись, Драгош быстро направился вверх по берегу Дуная.
Через полчаса ходьбы по пустынной местности он уже начал бояться, что ему придется идти до Килии, когда наконец заметил дом на берегу реки.
Нелегко было заставить открыть ворота этой довольно зажиточной фермы. В такой час и в таком месте недоверие простительно, и обитатели жилища не решались впустить незнакомого гостя. Трудность увеличилась тем, что крестьяне говорили на местном наречии, а Карл Драгош его не понимал. Изобретательно пользуясь смесью румынских, русских и немецких слов, он сумел завоевать доверие, и так энергично обороняемая дверь наконец открылась.
В доме сыщик подвергся форменному допросу, вышел из него с честью; не прошло и двух часов с момента высадки, как к Якубу Огулу подъехала телега. Пленник все не приходил в себя, не показал признаков жизни, когда с береговой травы его переложили в повозку, тотчас повезли к Килии.
Лишь за полночь Карл Драгош въехал в Килию. Все спало в городе, и нелегко оказалось найти начальника полиции. Но сыщику удалось, он приказал разбудить высокопоставленного чиновника, и тот, не слишком рассердившись, предоставил себя в распоряжение Драгоша.
Он поместил в надежное место Якуба Огула, тот приходил в себя, время от времени открывал глаза. Потом свободный в действиях Драгош мог наконец заняться арестом остальной шайки и спасением Сергея Ладко.
С первого же шага он столкнулся с немалыми трудностями. В Килии не нашлось ни одного парового судна, и еще начальник полиции решительно отказался послать своих людей на реку. Это гирло Дуная находилось тогда в нераздельном владении Румынии и Турции, и возникло опасение, что появление румынской полиции вызовет со стороны Высокой Порты[48] протест, очень нежелательный в момент, когда назревала угроза войны[49]. Если бы румынский чиновник мог перелистать книгу судеб, он прочел бы там, что эта схватка обязательно вспыхнет через несколько месяцев, и был бы, вероятно, менее боязлив. Но, в неведении будущего, полицейский страшился даже мысли оказаться быть замешанным в дипломатический конфликт и следовал мудрому правилу: «Не мое дело», которое, как известно, является девизом чиновников всего света.
Самое большое, на что он решился, это дать Карлу Драгошу совет отправиться в Сулину и указал ему человека, который мог довезти за пятьдесят километров по дунайской дельте.
Разбудить этого человека, уговорить запрячь телегу, переправиться на правый берег отняло много времени. Лишь около трех часов утра сыщика мелкой рысцой повезла лошадь, качества ее, к счастью, были лучше внешности.
Начальник килийской полиции справедливо предупреждал о трудностях переезда через дельту. По болотистой дороге, иногда покрытой слоем воды в несколько сантиметров, телега еле продвигалась, и, не будь извозчик опытен, они несколько раз могли заблудиться на равнине, где отсутствовали дорожные знаки. Ехали не быстро, приходилось время от времени давать отдых измученной лошадке. Пробило полдень, когда Карл Драгош прибыл в Сулину. Срок, назначенный Сергеем Ладко, истекал через несколько часов! Не теряя времени на то, чтобы подкрепиться, Драгош побежал разыскивать местные власти.
Сулина, позднее перешедшая к Румынии по решению Берлинского конгресса[50], была в эпоху этих событий турецким городом. Отношения между Высокой Портой и ее западными соседями были в ту пору крайне напряженными, поэтому Карл Драгош, венгерский подданный, не мог надеяться, что его встретят с распростертыми объятиями, хотя он и защищал интересы нескольких придунайских держав, и он не удивился, что местные власти оказали ему достаточно вялую поддержку.
Сулинская полиция, заявили они, не имеет судна, чтобы предоставить в распоряжение Драгоша; он должен рассчитывать на таможенный катер, тот обязан помочь, поскольку банду грабителей можно без большой натяжки приравнять к шайке контрабандистов. На беду, катер — паровой, с достаточно быстрым ходом — крейсировал в море, но, кажется, недалеко от берега. Карлу Драгошу надо только нанять рыбачью лодку, и когда они отойдут чуть подальше от берега, без сомнения, найдут там катер.
Сыщик, униженный своим бессилием, решил все-таки последовать совету. В половине второго после полудня лодка подняла парус и вышла за мол[51] в поисках катера. Оставалось чуть менее часа, чтобы явиться на помощь Сергею Ладко!
А тот, пока Карл Драгош распутывал цепь неудач, настойчиво проводил свой план.
Все утро он, держась настороже, скрывался с лодкой в береговых камышах, дабы удостовериться, что шаланда не готовится к отплытию. Завладеть Якубом Огулом,— быть может, несколько грубо, но тут не приходилось церемониться,— Ладко сумел. Как он и предвидел, Стрига не осмелился пуститься без лоцмана в весьма опасное плавание; обилие песчаных отмелей делало путь непроходимым для тех, кто не изучил его досконально. А в гирле Килии не много лоцманов, и до позднего утра воды реки оставались совершенно пустынны, если не считать неподвижной шаланды и скрывающейся баржи. Только в одиннадцать часов со стороны моря показались два судна. Сергей Ладко в подзорную трубу узнал в одном лоцманскую лодку. Теперь Иван Стрига получит помощь. Значит, момент действовать настал.
Баржа вышла из камышей.
— Эй, на шаланде! — закричал Сергей Ладко, подплыв на расстояние голоса.
— Эй! — был ответ.
На крыше рубки появился человек. Это был Иван Стрига.
Как ненавидел Сергей Ладко заклятого врага, негодяя, который столько времени держал Натчу в своей власти!
Но Ладко давно приготовился к этой встрече. Он сдержал гнев жестким усилием и спросил спокойно:
— Не нужен ли вам лоцман?
Вместо ответа Стрига, заслонив глаза ладонью, долго всматривался. По правде говоря, одного взгляда было достаточно, чтобы установить личность прибывшего. Но что перед ним муж Натчи, ему показалось таким необычайным, что он как бы не верил своим глазам.
— Не вы ли Сергей Ладко из Рущука? — спросил он в свою очередь.
— Да, это я! — ответил лоцман.
— Вы меня не узнаете?
— Для этого надо быть слепым,— возразил Сергей Ладко.— Я вас прекрасно узнал, Иван Стрига.
— И предлагаете мне свои услуги?
— Почему же нет? Я — лоцман,— холодно ответил Сергей Ладко.
Стрига заколебался. Тот, которого и он, в свой черед, ненавидел больше всего на свете, добровольно отдавался в его руки. Это, конечно, превосходно. Но не кроется ли тут ловушка? А с другой стороны, какую опасность может представлять один человек для решительного экипажа? Пусть он ведет шаланду к морю, раз имел глупость это предложить! А на море — ну, уж извините!…
— Причаливайте! — решил пират, губы его искривила жестокая усмешка, явно замеченная Сергеем Ладко.
Лоцман не заставил повторять приглашения. Баржа подошла к шаланде, он поднялся на ее борт. Перед ним стоял Стрига.
— Позвольте мне выразить удивление,— сказал он,— что я встречаю вас в устье Дуная!
Лоцман молчал.
— Вас считали мертвым,— продолжал Стрига,— после того как вы исчезли из Рущука.
Этот намек имел не более успеха, чем предыдущий.
— Но что же с вами случилось? — бесцеремонно спросил Стрига.
— Я не покидал морского берега,— ответил наконец Сергей Ладко.
— Так далеко от Рущука! — воскликнул Стрига.
Сергей Ладко нахмурился. Допрос начал его раздражать. Но, верный принятой на себя роли, он подавил нетерпение и просто объяснил:
— Смутные времена неблагоприятны для дел.
Стрига насмешливо посмотрел на него.
— А вас еще называли патриотом! — иронически вскричал он.
— Я больше не занимаюсь политикой,— сухо сказал Сергей Ладко.
Но тут Стрига разглядел баржу. Ошибки быть не могло. Та самая, ею он пользовался неделю и видел причаленной у набережной Землина. Значит, Сергей Ладко лжет, уверяя, что не покидал дельту Дуная?
— С тех пор как вы исчезли из Рущука, вы не удалялись из этих краев? — переспросил Стрига, глядя в глаза собеседнику.
— Нет,— ответил Сергей Ладко.
— Вы меня удивляете,— молвил Стрига.
— Почему? Разве вы встречали меня где-нибудь в другом месте?
— Вас? Нет. Но эту лодку… Я готов поклясться, что видел ее вверху, на реке.
— Это вполне возможно,— равнодушно ответил Сергей Ладко.— Я купил ее три дня назад у человека, который говорил, что приплыл из Вены.
— А каков он был? — живо спросил Стрига, чьи подозрения перенеслись на Карла Драгоша.
— Брюнет, в черных очках.
— Ага! — задумчиво сказал Стрига.
Ответы лоцмана, видимо, его поколебали. Скоро он отделался от всяких подозрений. Какое ему до всего этого дело? Правду или нет говорит Сергей Ладко, он все равно в его руках. Дурак, полез в пасть волку! Живым с шаланды не уйдет. Вот уже месяцы Стрига лгал Натче, уверяя, что она вдова. Как только они выйдут в море, ложь станет правдой!
— Отправляемся! — решительно сказал он.
— В полдень,— спокойно ответил Сергей Ладко и, достав провизию из мешка, приготовился завтракать.
Пират сделал нетерпеливый жест. Сергей Ладко притворился, что ничего не видит.
— Я должен вас предупредить,— сказал Стрига,— что рассчитываю быть в море до ночи.
— Будете,— заверил лоцман.
Стрига удалился на нос шаланды. Нет, его беспокойство не прошло. Что муж предложил провести по гирлу ту шаланду, где его жену держали пленницей, это выглядело, в конце концов, не слишком необычайным. И раз уж Сергей Ладко оказался один на борту против шести решительных людей, Стрига поступил бы благоразумно, если бы не стал расспрашивать дальше. Но он напрасно успокаивал себя таким непогрешимым рассуждением. Ему хотелось узнать, известно ли Сергею Ладко об исчезновении Натчи. Возбужденное любопытство не давало покоя, и он не выдержал.
— Получали ли вы известия из Рущука с тех пор, как его покинули? — спросил он, возвратясь к лоцману, тот спокойно продолжал завтрак.
— Нет,— ответил тот.
— Это молчание вас не удивляло?
— Почему оно должно было меня удивлять? — спросил Сергей Ладко, пристально глядя на Стригу.
Как ни был смел бандит, но и он смутился от твердого взгляда.
— Я думал,— пробормотал он,— что вы там оставили жену.
— А я думаю,— холодно ответил Сергей Ладко,— мы можем вести разговор на любую тему, кроме этой!
Стрига воздержался от замечания.
Через несколько минут после полудня Ладко отдал приказ сняться с якоря, потом подняли парус, и лоцман стал к рулю. К нему приблизился Стрига.
— Я должен вас предупредить,— сказал он,— что шаланде нужна глубина.
— Она под балластом,— возразил Сергей Ладко.— Двух футов воды достаточно.
— Ей нужно семь,— заявил Стрига.
— Семь? — удивился лоцман, он сразу понял, в чем дело.
Вот почему дунайская банда до сих пор ускользала от преследований! Ее судно было остроумно обманчивым. То, что виднелось из воды, было только фальшивой декорацией. Настоящая шаланда находилась под водой, и в этом тайнике укладывалось награбленное. Тайник, как Сергей Ладко знал по опыту, мог превращаться в тюрьму, не имеющую выхода.
— Семь,— повторил Стрига.
— Хорошо,— ответил тот без малейших вопросов или возражений.
В первые минуты после отплытия Стрига не переставал бдительно наблюдать. Но действия Сергея Ладко его успокоили. Лоцман старательно выполнял обязанности и, видимо, не имел враждебных намерений, доказывал, что репутация вполне им заслужена. Под его управлением шаланда послушно маневрировала между невидимыми отмелями и следовала с математической точностью по извилинам фарватера.
Мало-помалу последние опасения пирата исчезли. Плавание шло без происшествий. Скоро они будут в море.
Было четыре часа, когда на последнем изгибе Дуная море и небо слились на горизонте.
Стрига обратился к лоцману:
— Мы, кажется, пришли? Не пора ли передать управление нашему рулевому?
— Нет еще,— ответил Сергей Ладко.— Самое трудное впереди.
По мере того как приближались к устью, перед глазами открывался все более обширный вил… Стрига упорно смотрел на море. Внезапно он схватил подзорную трубу, направил ее на маленький пароход, что огибал мыс Северный, и после недолгого наблюдения приказал поднять флаг на верхушке мачты. Таким же сигналом ответили с борта парохода, который повернул направо и начал приближаться к лиману[52].
В этот момент Сергей Ладко сильно положил руль налево, шаланду кинуло вправо, она взяла направление на юго-восток, как будто для того, чтобы причалить к правому берегу.
Удивленный Стрига посмотрел на лоцмана, неподвижность которого его успокоила. Наверное, песчаная мель заставляла здесь суда следовать по столь извилистому пути.
Стрига не ошибся. Да, песчаная мель в самом деле лежала на дне реки, однако не в стороне моря, и прямо на эту мель Сергей Ладко правил твердой рукой.
Внезапно раздался громкий треск. Шаланда затряслась. От удара мачта начисто сломалась у основания, парус скатился, накрывая складками людей. Судно безнадежно село на мель.
На борту все свалились с ног, в их числе и Стрига, который поднялся, преисполненный бешенством.
Он бросил взгляд на Сергея Ладко. Лоцмана, казалось, не взволновало происшествие. Он стоял, бросив руль, с руками в карманах куртки, и наблюдал врага, выжидая, что будет дальше.
— Каналья! — заорал Стрига и, размахивая револьвером, бросился к корме.
На расстоянии трех шагов он выстрелил.
Сергей Ладко успел нагнуться. Пуля пролетела, не задев. Тотчас выпрямившись, лоцман прыгнул на противника и вонзил нож ему в сердце. Стрига рухнул.
Драма развернулась так быстро, что пять человек экипажа, запутавшиеся, впрочем, в складках паруса, не имели времени вмешаться. Но как они завопили, увидев, что их атаман упал!
Сергей Ладко бросился по верхней палубе вперед, чтобы их встретить.
— Назад! — вскричал он с двумя револьверами в руках (один был вырван у Стриги).
Бандиты остановились. Они не имели оружия и, чтобы им завладеть, требовалось проникнуть в рубку под огнем неприятеля.
— Одно слово, ребята,— сказал Сергей Ладко, не оставляя угрожающей позы.— У меня одиннадцать зарядов. Это больше, чем нужно, чтобы перебить вас до последнего. Предупреждаю, что буду стрелять, если вы не отступите немедленно на нос судна.
Экипаж совещался в нерешительности. Сергей Ладко понял, что, если они ринутся все враз, он, без сомнения, уложит некоторых, но остальные убьют его.
— Внимание! Считаю до трех! — объявил он, не давая времени опомниться.— Раз!
Те не двинулись.
— Два! — возгласил лоцман.
В группе произошло движение. Трое готовились к атаке, двое намеревались отступать.
— Три! — выкрикнул Ладко и спустил курок.
Один упал с плечом, пробитым пулей, остальные ударились в бегство.
Сергей Ладко, не покидая наблюдательного поста, посмотрел на пароход, тот, что повиновался сигналу Стриги. До него оставалось менее мили. Когда судно станет борт о борт с шаландой, когда его экипаж присоединится к пиратам, положение сделается более чем серьезным.
Пароход приближался. Он был не более чем в трех кабельтовых, когда, быстро повернув направо, описал большую дугу и удалился в открытое море. Что означал этот маневр? Обеспокоило ли его что-то такое, чего не мог еще заметить Сергей Ладко?
Он ждал с волнением. Прошло несколько минут, и другое судно показалось из-за мыса Южного. Труба выпускала тучу дыма. Держа направление на шаланду, оно мчалось на всех парах. Сергей Ладко рассмотрел на носу катера фигуру друга, своего пассажира, господина Иегера, он же сыщик Карл Драгош.
Сергей Ладко был спасен.
Считанные минуты спустя палубу шаланды наводнила полиция; экипаж сдался, понимая бесполезность сопротивления.
Сергей Ладко устремился в рубку. Он осматривал каюты, одну за другой. Одна была закрыта. Он высадил дверь ударом плеча и остановился на пороге.
Натча протягивала к нему руки.
Эпилог
Процесс дунайской банды прошел незамеченным в громе русско-турецкой войны[53]. Негодяи, включая и Титчу, легко пойманного в Рущуке, были повешены, не возбудив всеобщего внимания, что случилось бы в более спокойные для страны времена.
Судебный процесс позволил героям этой книги найти объяснение тому, что еще оставалось для них непонятным. Сергей Ладко узнал, как по недоразумению его заточили в шаланду вместо Карла Драгоша и как Стрига, прочитав в газетах сообщение о посылке следственной комиссии в Сальку, явился в дом рыболова Илиа Бруша, чтобы ответить на вопросы полицейского комиссара из Грона.
Ладко узнал также, как Натча, захваченная дунайской бандой, боролась против притязаний Стриги, а тот, уверенный в гибели врага, не переставал ей внушать, что она вдова. Однажды Стрига в подкрепление своих слов показал молодой женщине ее собственный портрет, утверждая, что отбил его в кровавой схватке у законного владельца. Произошла жестокая сцена, Стрига дошел до угроз. Тогда-то вырвался у Натчи крик, слышанный беглецом в ночной тиши.
Но это старая история. Сергей Ладко не вспоминал больше о тяжелых днях с тех пор, как нашел свою дорогую Натчу.
Счастливая пара не хотела возвращаться в Болгарию после того, как события их жизни стали широко известны. Устроилась сначала в румынском городе Хуржево. Там и жили они, когда в апреле следующего, 1877 года русский царь объявил войну султану. Сергей Ладко одним из первых вступил в армию России, оказал ей важные услуги благодаря превосходному знанию театра военных действий.
Война кончилась. Болгария стала наконец свободной. Сергей Ладко с Натчей вернулись в Рущук, в родной дом, и он снова стал лоцманом. Они жили там счастливые и уважаемые.
Карл Драгош остался их другом. Долгое время он спускался по Дунаю, по крайней мере раз в год, чтобы побывать в Рущуке. Теперь железные дороги, сеть которых быстро развивается, позволяют Драгошу сократить время переездов. А Сергей Ладко наносил визиты в Будапешт только по извилинам реки, во время своих лоцманских поездок.
Натча подарила ему трех сыновей, они теперь уже взрослые. Младший после строгого ученичества под началом Карла Драгоша стоит на хорошем пути к самым высоким ступеням судебной администрации Болгарии.
Средний, достойный наследник лауреата «Дунайской лиги», посвятил себя рыбной ловле. Его уженье осетров доставило всеобщую известность и состояние, которое обещает стать значительным.
Старший же заменил отца, когда для того пробил час ухода с реки. Он теперь лоцман, водит шаланды и пароходы от Вены до моря, через извилистые проходы и коварные отмели Дуная.
Но какова бы ни была разница их занятий, общественного положения, сердца трех сыновей Сергея Ладко бьются заодно. Разбросанные жизнью по различным дорогам, они сходятся на их перекрестке. Этот перекресток — почитание отца, нежность к матери, любовь к болгарской родине.
Кораблекрушение «Джонатана»
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Глава I ГУАНАКО
Однажды на небольшом острове Магеллановой Земли, на пригорке, среди необозримой, пустынной равнины, появился гуанако[54]. Так в Америке называют грациозное животное с длинной шеей, изящным туловищем, подтянутым животом и тонкими нервными ногами, с золотистой, в белых пятнах, шерстью и коротким пышным, как султан, хвостом. Издали стадо мчащихся гуанако напоминало кавалькаду всадников.
Кругом шелестели травы, пробиваясь сквозь пучки колючих растений. Легкий восточный ветерок доносил неисчислимые запахи прерии. Гуанако напряженно прислушивался, изредка вздрагивал, озирался, готовый ускакать прочь при первом подозрительном шорохе. Его опасения были не напрасны. Скрываясь за размытым ливнями холмом, по земле полз индеец. Полуобнаженный, едва прикрытый куском звериной шкуры, он бесшумно скользил в траве, боясь спугнуть добычу. И все же гуанако почуял опасность, забеспокоился, заметался. В тот же миг в воздухе просвистело гибкое лассо, однако, не достигнув цели, упало на землю, лишь коснувшись шеи животного.
Мгновенно вскочив на ноги, индеец взбежал на пригорок, но гуанако уже исчез среди деревьев.
Раздосадованный, потерявший бдительность, туземец не заметил, как сам стал предметом охоты. Не успел он спуститься с холма — с диким ревом на него кинулся огромный зверь. Серая шерсть пестрела белыми, похожими на глазки, пятнами с черной каймой. Ягуар! Зная силу и ловкость хищника, охотник молниеносно отскочил назад, но неожиданно споткнулся о камень и упал. Выхватив из-за пояса острый нож из тюленьей кости, он попытался защищаться лежа, и казалось, ему удастся встать на ноги, но раненый зверь рассвирепел, прыгнул на беднягу и, вонзив в грудь страшные когти, опрокинул навзничь. Вот-вот наступит кровавая развязка. И вдруг откуда-то грянул выстрел. Ягуар свалился, пораженный в самое сердце.
В сотне шагов от места схватки медленно таял легкий белый дымок. Там, на каменистом уступе прибрежной скалы, стоял человек, все еще держа карабин[55] у плеча.
Это был, бесспорно, характерный представитель белой расы. В коротко остриженных волосах и густой бороде незнакомца пробивалась седина. Высокий, крепкий, загорелый, лет сорока — пятидесяти, он казался наделенным недюжинной силой и несокрушимым здоровьем. Мужественные и благородные черты одухотворенного лица, высокий, изборожденный морщинками лоб мыслителя, осанка, движения — все было исполнено достоинства.
Убедившись, что второго выстрела не потребуется, незнакомец перекинул карабин через плечо и крикнул: «Кароли!», прибавив несколько слов на резком гортанном наречии.
Тотчас в расщелине скалы появились мужчина лет сорока и семнадцатилетний юноша — по виду индейцы из племени каноэ. Тог, кого звали Кароли, был пяти футов[56] роста, широкоплечий, мускулистый, с мощным торсом и почти квадратной головой на массивной шее, с темной кожей, иссиня-черными волосами. Глубоко сидящие глаза прятались под едва намеченными бровями. На подбородке росло лишь несколько волосков.
Юноша — его сын — с гибким, как у змеи, и совершенно обнаженным телом, видимо, намного превосходил отца по уму. Более высокий лоб, живой взгляд выражали душевную прямоту и искренность.
Обменявшись несколькими словами, мужчины направились к индейцу, распростертому на земле подле убитого ягуара.
Несчастный был без сознания. Из груди, разорванной когтями свирепого зверя, ручьем лилась кровь. Однако, почувствовав осторожное прикосновение, раненый открыл глаза, в них затеплился радостный огонек. Он узнал своего спасителя и, чуть шевеля губами, прошептал:
— Кау-джер!
«Кау-джер» на местном наречии означает «друг», «покровитель», «спаситель». Очевидно, это имя принадлежало белому человеку.
Пока тот осматривал раненого, Кароли снова исчез в расщелине скалы и вскоре вернулся с охотничьей сумкой, в которой находился перевязочный материал да несколько склянок с соком лекарственных растений.
Промыв ужасные следы когтей и остановив кровотечение, Кау-джер соединил края раны, покрыл их марлевыми повязками, пропитанными целебным настоем. Затем снял с себя шерстяной пояс и забинтовал грудь туземца.
Выживет ли бедняга? Спаситель сомневался в этом. Лекарство вряд ли могло помочь в данном случае.
Выбрав момент, когда охотник снова открыл глаза, Кароли спросил:
— Где твое племя?
— Там… там…— прошептал индеец, указывая рукой на запад.
— Это, должно быть, в восьми или десяти милях отсюда, на берегу канала, та стоянка, огни которой мы видели прошлой ночью.
— Сейчас только четыре часа. Скоро начнется прилив,— сказал Кау-джер.— Мы сможем отплыть лишь на рассвете.
— Да, не раньше,— согласился Кароли.
— Перенесите его в лодку. Мы сделали все, что могли.
Подняв индейца на руки, Кароли с сыном осторожно спустились к песчаному берегу. Потом один из них вернулся за ягуаром, шкуру которого можно было выгодно продать заезжим торговцам.
Тем временем Кау-джер поднялся на скалу, с которой хорошо просматривался весь горизонт.
Внизу причудливой линией извивалось северное побережье пролива шириной в несколько лье[57]. Противоположный берег, изрезанный заливами и бухтами, притаился за неясными, словно легкие облачка, очертаниями островов и островков. Вдоль пролива, которому не видно было начала и конца, громоздилась высокая каменистая гряда.
На севере тянулись бесконечные прерии и равнины, испещренные множеством рек, бурными потоками или шумными водопадами, которые низвергались прямо в море. В необъятных просторах четко выделялись зеленые пятна густых лесов, и лучи заходящего солнца обагряли верхушки деревьев. Замыкала горизонт массивная цепь гор с ослепительно белыми коронами ледников. И никаких следов человеческого жилья вокруг.
На востоке пейзаж был еще суровее. Скалистая гряда, нависая над морским берегом, поднималась почти отвесными уступами, а затем внезапно переходила в острые каменные пики, вонзающиеся высоко в небо. И здесь тоже ни малейшего присутствия человека: ни единой лодки — будь то пирога[58] под парусом или каноэ[59] из древесной коры, ни дымка.
Близились те часы, предшествующие сумеркам, которые всегда вызывают ощущение легкой грусти. Стаи больших, пронзительно кричавших птиц парили в небе в поисках ночного пристанища.
Скрестив руки на груди и застыв как статуя, Кау-джер стоял на вершине скалы, с восторгом и священным трепетом взирая на этот никому не подвластный, благодатный и необозримый простор.
Солнце освещало его одухотворенное лицо, морской ветер играл волосами. Глубоко вздохнув, Кау-джер распростер руки, словно хотел объять и вобрать в себя весь расстилавшийся перед ним мир, с вызовом взглянул на небеса, и вдруг из груди его вырвался ликующий крик, в котором звучало безудержное стремление к свободе.
— Ни Бога, ни властелина! — торжественно неслось с вершины скалы над бушующими волнами.
Это был девиз анархистов всего мира.
Глава II ТАИНСТВЕННЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ
Географы нарекли группу больших и малых островов, расположенных между Атлантическим и Тихим океанами, у южной оконечности Американского континента, Магеллановой Землей, или Магальянесом. Самая южная часть материка, Патагония (продолжением которой являлись два больших полуострова — Короля Вильгельма и Брансвик[60]), переходила в мыс Фроуард. Все земли, лежащие по ту сторону Магелланова пролива, входили в состав архипелага, справедливо названного в честь знаменитого португальского мореплавателя XVI века Магеллановой Землей.
До 1881 года эта территория Нового Света не подчинялась ни одному цивилизованному государству, даже самым ближайшим соседям — Чили и Аргентине, которые в то время вели борьбу за пампасы[61] Патагонии.
Поэтому все поселения, образовавшиеся здесь, могли иметь полную независимость.
На площади в пятьдесят тысяч квадратных километров, помимо множества небольших островков, располагались Огненная Земля, Десоласьон, Кларенс, Осте и Наварино, а также архипелаг мыса Горн, состоящий из островов Греви, Уоллестон, Фрейсинэ, Эрмите и Хершел.
Огненная Земля — самый крупный остров архипелага Магальянес — на севере и на западе ограничен извилистым побережьем, идущим от скалистого мыса Эспириту-Санто до пролива Магдалена. Образуя на западе причудливой формы полуостров, над которым возвышается гора Сармьенто, он заканчивался на юго-востоке мысом Сан-Диего, по очертаниям похожим на сидящего сфинкса[62], хвост которого опущен в воды пролива Ле-Мер.
На этом острове и происходили в апреле 1880 года события, описанные в первой главе. Пролив, что простирался перед глазами нашего героя, назывался проливом Бигл. Он омывал южное побережье Огненной Земли, а его противоположный берег составляли острова Гордон, Осте, Наварино и Пиктон. Еще южнее были разбросаны причудливой формы мелкие островки архипелага мыса Горн.
За десять лет до начала нашего повествования тот, кого индейцы позднее назвали Кау-джером, впервые появился на Огненной Земле. Как он туда попал? Вероятно, на одном из парусных или паровых судов, плававших по лабиринту проливов Магеллановой Земли, мимо рассеянных в Тихом океане многочисленных островов, где моряки скупали у индейцев шкуры гуанако и тюленей, шерсть американской ламы-викуньи[63], страусовые перья.
Таким образом, присутствие чужеземца на этом острове объяснить можно. Труднее ответить на вопрос о его имени, национальности, родине.
О нем ничего не знали. Впрочем, никого и не интересовало. Странно звучали бы подобные вопросы в стране, где не существовало никакой власти, не было ни одного полицейского, ни одного чиновника. Здесь можно было пользоваться полнейшей свободой, не считаясь ни с законами, ни с обычаями той или иной страны.
Первые два года после прибытия на Огненную Землю Кау-джер не хотел обосновываться в каком-нибудь определенном месте. Во время непрерывных скитаний он часто заводил знакомства с индейцами, но никогда не приближался к факториям[64], созданным белыми колонистами. Если же ему и приходилось для пополнения запасов пороха и медикаментов вступать в сношения с моряками, приплывавшими на один из островов архипелага, то он делал это всегда через кого-нибудь из огнеземельцев. Подобные сделки Кау-джер совершал либо путем обмена, либо расплачивался за покупки испанскими или английскими деньгами, в которых, видимо, не испытывал недостатка.
В остальное время он странствовал по острову, посещая различные племена, переходя из одного поселения в другое; находился то среди жителей побережья, то среди индейцев, кочевавших по центральной части острова; спал вместе с ними в хижинах или палатках, занимался, как и они, охотой и рыбной ловлей. Белый пришелец лечил больных, помогал вдовам и сиротам. Туземцы полюбили его всем сердцем и дали почетное имя «Кау-джер», ставшее известным на всех островах архипелага.
Несомненно, наш герой был образованным человеком, но особенно хорошо знал медицину. Кроме того, он свободно владел многими языками. Французы, англичане, немцы, испанцы и норвежцы легко могли принять его за соотечественника. Вскоре к своему багажу полиглота[65] таинственный незнакомец присоединил язык индейского племени яганов[66]. Он бегло изъяснялся на этом самом распространенном на Магеллановой Земле наречии, служившем миссионерам для перевода отрывков из Библии.
Огненная Земля, где поселился Кау-джер, отнюдь не является необитаемым островом, как обычно полагают ученые. В действительности страна эта гораздо интереснее и богаче, чем описана первыми исследователями. Конечно, было бы преувеличением считать ее земным раем или утверждать, что ее крайняя оконечность, мыс Горн, не подвержена частым и сильным бурям. Однако существуют же и в Европе плотно населенные страны, где климатические условия еще суровее, нежели здесь. Если климат архипелага характеризуется крайне высокой влажностью, то благодаря морю тут всегда держится довольно ровная температура и не бывает таких жгучих морозов, как в северной России, Швеции и Норвегии. Средняя годовая температура здесь не опускается зимой ниже 5°, а летом не поднимается выше 15° по Цельсию.
Но даже при отсутствии метеорологических данных один вид этих островов мог удержать исследователей от излишнего пессимизма хотя бы в оценке природных особенностей Магеллановой Земли. Такая пышная растительность вряд ли появилась бы в условиях полярной зоны. На архипелаге Магальянес немало густых лесов и обширнейших пастбищ, способных прокормить многочисленные стада.
И все-таки страна эта почти безлюдна. Население ее состоит лишь из небольшого числа индейцев, называемых «огнеземельцами»,— настоящих дикарей, которые почти не знают одежды и влачат нищенское существование, кочуя по необозримым и пустынным прериям.
Задолго до начала описываемых событий правительство Чили как будто заинтересовалось неизведанными территориями и основало у Магелланова пролива колонию Пунта-Аренас. Но последующих шагов в этом направлении не делалось, и, хотя молодая колония развивалась и процветала, Чилийская республика не предпринимала дальнейших попыток укрепиться на Магеллановой Земле.
Что же привело Кау-джера сюда, в никому не ведомый край? Это оставалось загадкой, которую, впрочем, можно было частично разгадать, вспомнив страстный возглас, брошенный им с вершины скалы,— своеобразный вызов небу и восторженную хвалу природе.
«Ни Бога, ни властелина!» — классический девиз анархистов. Судя по нему, можно предположить, что и Кау-джер принадлежал к этому движению, вернее — к разношерстной толпе, в которой встречается немало уголовных преступников и одержимых фанатиков. Первые, обуреваемые завистью и злобой, всегда готовы пойти на любое насилие и даже на убийство. Вторые же мечтают об утопическом[67] обществе, где навсегда будет уничтожено зло путем отмены законов, созданных якобы для искоренения того же зла.
Кем же был наш герой? Одним из сторонников крайних мер и решительных действий? Человеком, изгнанным из общества и нашедшим пристанище только здесь, у последней границы цивилизованного мира?
Подобное предположение никак не вязалось с его добрым и заботливым отношением к туземцам. Тот, кто стремится помочь людям, не может желать им зла. Да, он был анархистом (ибо сам подтверждал это), но примыкал к группе мечтателей, а не к приверженцам кинжала и бомбы. Его изгнание было добровольным — своеобразной логической развязкой внутреннего конфликта, а не наказанием властей. Опьяненный своей мечтой, Кау-джер не смог примириться с железными законами цивилизованного общества, помыкающими человеком на всем его жизненном пути — от колыбели до могилы. Он чувствовал, что задыхается в дремучих дебрях бесчисленных законов, в угоду которым граждане любого государства приносят в жертву свою независимость, получая минимум жизненных благ и относительную безопасность существования. А поскольку наш романтик вовсе не собирался насильно навязывать людям свои принципы и вкусы, ему осталось только одно: отправиться на поиски страны, где не знают рабства. Может быть, поэтому он и обосновался в конце концов на Магеллановой Земле, еще сохранявшей полную свободу. Первое время, почти два года, он не покидал острова, на который когда-то высадился.
Кау-джер пользовался у индейцев большим доверием, и влияние его непрерывно росло. К нему стали приезжать за советом туземцы с других островов, так называемые «индейцы на каноэ» или «индейцы на пирогах» — племена, несколько отличающиеся от яганов.
Белый пришелец никому не отказывал ни в советах, ни в помощи. Когда вспыхивала какая-нибудь эпидемия, он нередко рисковал жизнью в борьбе со страшными болезнями. Вскоре слава о нем распространилась повсюду и даже вышла за пределы Магелланова пролива. Там стало известно, что некий чужеземец, поселившийся на Огненной Земле, снискал у благодарных аборигенов почетное имя «Кау-джер», и его не раз приглашали в Пунта-Аренас, но на все настойчивые просьбы он неизменно отвечал отказом.
К концу второго года пребывания Кау-джера на острове произошел случай, повлиявший на всю его дальнейшую жизнь.
Нужно сказать, что патагонцы нередко совершали опустошительные набеги на территорию Магеллановой Земли.
За несколько часов они могли переправиться вместе с лошадьми на южный берег пролива и начать долгие походы по всему острову. Патагонцы безжалостно грабили местных жителей и похищали их детей, чтобы превратить в рабов.
Между ними и огнеземельцами существуют значительные этнические различия. Первые более воинственны и опасны. Они промышляют охотой и живут отдельными племенами, управляемыми старейшинами. Вторые — мирные существа; они селятся семьями и занимаются рыбной ловлей. Внешне огнеземельцы также отличаются от соседей. Они меньше ростом, с большой квадратной головой, выступающими скулами, сдавленным черепом и почти без бровей. В общем, считаются существами довольно примитивными. Тем не менее племя отнюдь не вырождается, ибо детей у них предостаточно.
Патагонцы же высокорослы и крепки, пропорционально сложены. Они выщипывают бороду, а волосы перехватывают повязкой. Их смуглые лица в скулах шире, чем у висков, носы приплюснуты, узкие раскосые глаза сверкают в глубоких глазницах. Этим бесстрашным и неутомимым наездникам необходимы пастбища для скота и бескрайние просторы для охоты.
Кау-джеру пока не доводилось по-настоящему встречаться с такими жестокими грабителями, которых не могли обуздать ни аргентинские, ни чилийские власти.
Только в ноябре 1872 года, находясь в западной части Огненной Земли, Кау-джер столкнулся с патагонцами близ бухты Инутиль.
Граничащая на севере с болотами, она образует глубокую выемку почти напротив того места, где когда-то Сармьенто[68] основал печальной памяти колонию Пуэрго-Хамбре.
Итак, отряд патагонцев, высадившийся на южном берегу бухты Инутиль, напал на поселение яганов, насчитывавшее не более двух десятков семейств. Численное превосходство было на стороне нападавших, к тому же более сильных физически и лучше вооруженных.
Огнеземельцы пытались обороняться под командованием индейца из племени каноэ, только что прибывшего к ним на своей лодке.
Звали его Кароли. Он работал лоцманом и водил каботажные суда[69] по проливу Бигл и между островами архипелага мыса Горн. Закончив в этот день проводку очередного корабля в Пунта-Аренас, он на обратном пути остановился в бухте Инутиль.
С помощью яганов Кароли попытался оттеснить захватчиков. Однако силы оказались слишком неравными. Огнеземельцы не смогли противостоять врагу. Поселение было взято приступом, палатки разорены, семьи разлучены.
Во время сражения сын Кароли, девятилетний Хальг, терпеливо поджидал отца в лодке. Он мог не рисковать, выйдя в открытое море, но тогда его отцу грозила бы смертельная опасность. Неожиданно два патагонца кинулись к шлюпке. Один из них схватил мальчика за руку и потащил на берег. Кто знает, чем это могло закончиться, если бы Кароли не удалось вырваться из цепких лап разбойников. Он бросился на помощь сыну. Две стрелы почти одновременно просвистели над его ухом. Вдруг откуда-то раздался ружейный выстрел. Один патагонец рухнул на землю, другие в испуге и недоумении отступили к поселку. Нежданным спасителем оказался белый человек, Кау-джер, случайно очутившийся на острове.
Не теряя ни секунды, пока нападавшие не опомнились, Кароли с сыном и их избавитель прыгнули в лодку и, неистово работая веслами, стали удаляться от берега. Когда патагонцы сообразили, что произошло, беглецы были уже довольно далеко. Тем не менее одна из тучи стрел, пущенных вдогонку, вонзилась Хальгу в плечо. Мальчик упал, обливаясь кровью, Кау-джеру пришлось основательно потрудиться, чтобы остановить кровотечение и обработать рану. Тем временем каноэ, обогнув Огненную Землю, прошло по проливу Бигл и наконец достигло маленькой, хорошо защищенной от ветра бухты на острове Исла-Нуэва, где жил Кароли.
Когда они подошли к берегу, индеец выпрыгнул из лодки и пригласил Кау-джера следовать за ним.
— Вот мой дом,— сказал он.— Здесь я живу с сыном. Если захочешь провести у нас несколько дней, будешь желанным гостем. Потом в моем каноэ переправишься на другой берег. Если же ты пожелаешь остаться здесь навсегда, мой дом станет твоим домом, а я — твоим верным другом.
С этого дня наш герой не покидал острова Исла-Нуэва. Он остался с Кароли и Хальгом, помог индейцу благоустроить жилище и даже облегчил его работу лоцмана: ветхое каноэ заменила прочная шлюпка «Уэл-Киедж», купленная после крушения одного норвежского судна. В нее-то и перенесли теперь раненного ягуаром охотника.
Так прошло несколько лет, и казалось, что Кау-джер навсегда останется свободным человеком на свободной земле, как вдруг одно непредвиденное событие резко изменило всю его жизнь.
Глава III КОНЕЦ СВОБОДНОЙ СТРАНЫ
Остров Исла-Нуэва, расположенный у восточного входа в пролив Бигл, имеет форму неправильного пятиугольника площадью восемь на четыре километра. Обширные луга и множество деревьев самых разнообразных пород оживляют его пейзаж. Здесь можно найти участки великолепной земли, вполне пригодной для выращивания овощей.
На склоне прибрежной скалы, обращенном к морю, и поселился около десяти лет назад индеец Кароли. Трудно было найти более удобное место для жилья. Отсюда он мог видеть все суда, выходившие из пролива Ле-Мер. Капитаны, державшие курс на Тихий океан мимо мыса Горн, не нуждались в посторонней помощи, но те, кто хотел пройти через многочисленные проливы архипелага Магальянес, не могли обойтись без лоцмана.
Однако в Магелланов пролив корабли заходят относительно редко, так что ремесло лоцмана не могло прокормить Кароли и его сына. Приходилось промышлять охотой и рыбной ловлей, а потом выменивать добычу на предметы первой необходимости.
Долгое время Кароли жил в естественном гроте, выдолбленном природой в гранитной скале, который был во всех отношениях удобнее, чем хижины яганов. Но после приезда Кау-джера индеец обзавелся настоящим домом. На его постройку пошли деревья из соседнего леса, камни, добытые около ближайших скал, и известь, полученная из размельченных раковин, усеивавших берег.
Дом состоял из трех комнат. В центре — общее помещение с большой печью, справа — комната Кароли и Хальга, слева — Кау-джера. Там, на полках, лежали его бумаги и книги — большей частью труды по медицине, политической экономике и социологии. В шкафу стояли склянки с лекарствами и лежали хирургические инструменты.
Сюда-то и вернулись все трое после посещения Огненной Земли, с которого началось наше повествование. Но еще раньше им пришлось доставить раненого туземца в его селение, расположенное у восточного входа в пролив Бигл.
Едва завидев шлюпку, несколько десятков мужчин и женщин выбежали на берег. Вслед за ними увязалась орава голых ребятишек. Как только белый человек вышел из лодки, индейцы окружили его. Все хотели пожать ему руку, высказать искреннюю благодарность за помощь, которую постоянно получали от него; он терпеливо все выслушал. Потом матери повели Кау-джера к больным детям и с упоением внимали его советам. Казалось, одно присутствие этого человека утешало их.
Тем временем индейца, растерзанного ягуаром и умершего по дороге, несмотря на полученную помощь, положили на берегу, и все жители поселка столпились вокруг него. Подробно рассказав об обстоятельствах гибели охотника, Кау-джер со своими спутниками отправился в обратный путь, великодушно подарив вдове погибшего шкуру ягуара, представлявшую целое состояние для бедных туземцев.
Приближалась зима. Жизнь в домике на Исла-Нуэва шла своим чередом. Несколько раз приходили каботажные суда для закупки пушнины до наступления зимних бурь, когда навигация в этих районах прекращалась. Охотники продавали или обменивали меха на предметы, необходимые на время холодов, длившихся с июня по октябрь.
В конце мая один из капитанов обратился за помощью к Кароли. Кау-джер и Хальг остались на острове одни.
Юноше исполнилось уже семнадцать лет. Он по-сыновнему привязался к старшему другу, который отвечал ему отцовской нежностью и всячески заботился о его развитии. Кау-джеру удалось вывести мальчика из первобытного невежества, и теперь тот резко отличался от соплеменников.
Нужно ли говорить о том, что он постоянно внушал юному Хальгу идеи независимости, в которые свято верил сам? Никогда не выказывал своего превосходства и вел себя с Кароли и его сыном как с равными. Недаром он всегда говорил, что человек никому не подчиняется, все люди свободны и равны.
Эти семена падали на благодатную почву. Ведь огнеземельцы — страстные приверженцы свободы. Ради нее они готовы пожертвовать всем, отказаться от любых благ. Как правило, большинство из них кочует с места на место, хотя оседлая жизнь обеспечила бы им относительно большее благополучие и безопасность. Они всегда спешат снова двинуться в путь — пусть голодные, пусть нищие, но зато свободные.
В начале июня на Магеллановой Земле наступила зима. Правда, больших морозов не было, но дули ураганные ветры, бушевали свирепые метели, и Исла-Нуэва совершенно утонул в снегу.
Так прошли июнь, июль и август. К середине сентября температура значительно повысилась, и каботажные суда с Фолклендских островов снова появились в фарватере[70].
Девятнадцатого сентября Кароли, оставив Хальга и Кау-джера на острове, повел по проливу Бигл американский пароход с лоцманским флагом на фок-мачте[71]. Индеец отсутствовал почти неделю.
Когда он вернулся домой, Кау-джер, по обыкновению, стал его расспрашивать, как прошло путешествие.
— Все в порядке,— ответил Кароли,— море было спокойно, а ветер попутный.
— Где ты сошел с корабля?
— В проливе Дарвин, у косы острова Стюарт. Там мы встретились с посыльным судном.
— Куда оно направлялось?
— К Огненной Земле. На обратном пути я видел его уже в бухте. С него высадился целый отряд солдат.
— Солдат?!— воскликнул Кау-джер.— Какой страны?
— Чилийцы и аргентинцы.
— Зачем они пожаловали?
— Сказали, будто сопровождают двух чиновников, которые ведут разведку на Огненной Земле и соседних островах.
— Откуда чиновники?
— Из Пунта-Аренаса. Губернатор дал в их распоряжение посыльное судно.
Наш герой задумался. Зачем приехали сюда представители властей? Что им понадобилось в этой части Магеллановой Земли? Может быть, дело касалось какого-нибудь географического или гидрографического[72] исследования и они хотели уточнить глубины морского дна в интересах навигации?[73]
Кау-джер никак не мог избавиться от какого-то смутного беспокойства. Неужели разведка будет производиться на всем архипелаге Магеллановой Земли и незваные гости появятся даже в водах Исла-Нуэва?
Особенность этой новости заключалась в том, что экспедиция была организована правительствами Чили и Аргентины. Возможно ли, что обе республики, до сих пор не установившие между собой нормальных отношений, вдруг договорились по поводу территории, на которую, кстати сказать, ни та, ни другая не имели законных прав?
После разговора с Кароли Кау-джер поднялся на холм, возвышавшийся над их домом. Отсюда открывалась бесконечная морская гладь. Его взгляд невольно устремился на юг, к последним рубежам Американского континента, составлявшим архипелаг мыса Горн. Неужели придется перебираться туда, чтобы найти свободную землю? Или еще дальше? Мысли Кау-джера уже бродили где-то у Полярного круга, он вступал в необъятные просторы Антарктиды, окутанной непостижимой тайной и недоступной даже самым бесстрашным исследователям…
Как бы он огорчился, узнав, насколько верны его опасения! На борту посыльного корабля находились чилийский и аргентинский комиссары, уполномоченные своими правительствами подготовить раздел архипелага Магальянес между двумя государствами.
Уже много лет вокруг этого вопроса шли бесконечные споры, но пока обе стороны не пришли к обоюдному согласию. Подобная ситуация могла со временем обостриться и привести к серьезному конфликту. Вот почему нужно было договориться как можно скорее — и не только с точки зрения коммерческой, но и с политической. Ведь ненасытная захватчица Англия находилась неподалеку и со своих Фолклендских островов вполне могла протянуть руку к Магеллановой Земле. Ее каботажные суда частенько наведывались в проливы, а ее миссионеры оказывали все большее влияние на обитателей Огненной Земли. Так что в один прекрасный день на каком-нибудь из островов мог взвиться английский государственный флаг, а всем известно, что нет ничего труднее, чем снять британский флаг с того места, где он был водружен.
Комиссары, закончив обследование архипелага, возвратились восвояси: один в Сантьяго, другой в Буэнос-Айрес. Месяц спустя, 17 января 1881 года, в столице Аргентины было подписано соглашение между двумя республиками, разрешившее проблему архипелага Магальянес.
По этому договору Патагония изымалась из-под власти Аргентины и переходила к Чили, за исключением территории, лежащей между 52° южной широты и 70° западной долготы. Взамен этого Чилийское государство отказывалось от части Огненной Земли, расположенной к востоку от 68° западной долготы. Отныне все остальные острова архипелага принадлежали Чили.
Итак, Магелланова Земля теряла свою независимость. Что же будет с Кау-джером, поневоле очутившимся на территории, принадлежащей теперь Чили?
На Исла-Нуэва о договоре стало известно только 25 февраля. Новость привез Кароли, вернувшийся из очередного лоцманского рейса.
Узнав об этом, Кау-джер не смог сдержать гнева. Хотя он не проронил ни слова, в глазах загорелись огоньки ненависти, он резко, негодующе махнул рукой к северу.
В сильном волнении он стал расхаживать взад и вперед по берегу. Казалось, земля уходила у него из-под ног.
Наконец ему удалось овладеть собой. Лицо вновь приняло обычное невозмутимое выражение, и, подойдя к Кароли, он спокойно спросил:
— Эти сведения достоверны?
— Ну конечно,— ответил индеец.— Я узнал все в Пунта-Аренасе, что у входа в пролив на Огненной Земле уже укрепили два флага: чилийский на мысе Орендж и аргентинский на мысе Эспириту-Санту.
— Значит, все острова к югу от пролива Бигл принадлежат Чили?
— Да, все.
— Даже Исла-Нуэва?
— И он тоже.
— Этого следовало ожидать,— прошептал Кау-джер. С подступившим к горлу комком он вернулся домой и заперся в своей комнате.
Кто же был этот человек? Что заставило его метаться с континента на континент? Уж не желал ли он заживо похоронить себя на Магеллановой Земле? Почему связь с человечеством ограничилась для него несколькими туземными племенами, ради которых он шел на любые жертвы?
Ответом на первый вопрос станут события, о которых читатель узнает из дальнейшего повествования. Остальное прояснит краткий рассказ о прежней жизни нашего странника. Дело в том, что это замечательный человек, глубоко постигший как гуманитарные, так и естественные науки, обладавший мужественным и решительным характером, был искренним приверженцем анархизма. Подобно многим он совершал двойную ошибку: считал некоторые идеи уже воплотившимися в жизнь, хотя они представляли собой всего лишь гипотезы, и следовал им до самых крайних пределов. Имена этих опасных реформаторов всем известны.
В самом понятии социализма, доктрины, претендующей на то, чтобы переделать общество снизу доверху, нет ничего нового. После множества имен, затерянных во мгле времени, предшественниками коллективизма можно считать Сен-Симона, Фурье, Прудона. Другие, более современные идеологи, приверженцы доктрин Лассаля, Карла Маркса, всего лишь переняли, слегка видоизменив, эти старые идеи и принялись с жаром прилагать их к национализации средств производства, уничтожению капитала, ликвидации конкуренции, замене общей собственности индивидуальной. Никто из них не желал принимать во внимание реальных обстоятельств: идеи должны были претворяться немедленно и абсолютно полно. Они требовали осуществления всеобщей экспроприации, установления коммунизма в мировом масштабе.
К ним-то и принадлежал Кау-джер. Его бунтарская, неукротимая, неспособная к повиновению душа восставала против любых, часто весьма несовершенных законов, при помощи которых общество пыталось хоть как-то упорядочить человеческие отношения. Однако он никогда не прибегал к насилию и потому не подвергался репрессиям со стороны государства. Ему настолько опротивела так называемая цивилизация, что, стремясь сбросить с себя бремя какой бы то ни было власти, он принялся искать тот уголок земли, где можно чувствовать себя абсолютно свободным.
Казалось, он нашел его именно здесь, на краю света, на одном из островов Магеллановой Земли.
Но теперь по договору между Чили и Аргентиной эта территория тоже теряла свою независимость, и маленькому Исла-Нуэва скоро предстояло перейти в подчинение губернатора Пунта-Аренаса. Отчаянию Кау-джера не было предела. Забраться так далеко, затратить столько сил, вести такую тяжкую жизнь — и ради чего?! Чтобы все пошло прахом?…
Нескоро оправился добровольный изгнанник от удара. Будущее представлялось ему мрачным и безрадостным. В Чили знали, что на Исла-Нуэва поселился белый человек. Присутствие чужеземца и его дружба с местными жителями вызывали беспокойство чилийского правительства. Конечно, губернатор, приняв под свою опеку остров, несомненно, пришлет чиновников, и те заставят незнакомца раскрыть свое инкогнито, которым он так дорожил.
Прошло несколько дней. Кау-джер становился все молчаливее и мрачнее. Тревожные думы не давали ему покоя. Как поступить? Быть может, следует покинуть Исла-Нуэва и укрыться в каком-нибудь недоступном для людей месте, чтобы вновь обрести вожделенную свободу и независимость? Допустим… Но если даже ему удастся найти пристанище на жалком скалистом островке у мыса Горн — не настигнет ли его и там бдительное око правительства Чили?
Было начало марта. До холодов оставалось еще около месяца. В это время — пока можно было пользоваться морским путем — Кау-джер обычно навещал индейские поселения. Однако на сей раз он не собирался отправляться в путь. Неоснащенная «Уэл-Киедж» стояла в глубине бухты.
Только 7 марта, после полудня, Кау-джер сказал Кароли:
— Приготовь шлюпку на завтра. С рассветом выйдем в море.
— На несколько дней?
— Да.
— Хальг с нами?
— Да.
— А собака?
— Тоже.
На заре «Уэл-Киедж» подняла парус. Дул восточный ветер. Бурный прибой бился о подножие утеса. На севере, в открытом море, перекатывались вздувшиеся длинные валы.
Шлюпка обогнула Исла-Нуэва и направилась к острову Наварино, чья двуглавая вершина смутно вырисовывалась в утреннем тумане.
Бросили якорь еще до захода солнца у южной косы острова. Там, в глубине маленькой бухты с крутыми берегами, можно было спокойно провести ночь.
На следующий день шлюпка пересекла по диагонали бухту Нассау и к вечеру прибыла на остров Уоллестон.
Погода заметно испортилась. Ветер, дувший с юго-востока, крепчал. На горизонте собирались густые тучи. Надвигалась буря. Чтобы плыть на юг, Кароли приходилось выбирать самые узкие проходы, где море было спокойнее. Поэтому, обогнув Уоллестон с запада, они направились в пролив, разделяющий острова Эрмите и Хершел.
Какую цель преследовал наш герой? Когда он достигнет последних полосок суши Магеллановой Земли, когда доберется до мыса Горн, когда перед ним будет расстилаться безбрежный океан, что он предпримет?
Пятнадцатого марта, во второй половине дня, шлюпка подошла к крайней оконечности архипелага, испытав немало опасностей среди разбушевавшейся водной стихии. Кау-джер тотчас же сошел на берег. Ничего не объясняя Кароли и Хальгу, он прогнал увязавшуюся за ним собаку и направился к скалистому мысу.
Остров Горн представлял собой хаотическое нагромождение колоссальных каменных глыб, у подножия которых скопилась масса сплавного леса и гигантских водорослей, принесенных течением. А дальше, среди белоснежной пены прибоя, виднелись острия мелких рифов.
На невысокий мыс острова Горн нетрудно забраться по северному пологому склону, на котором кое-где попадаются участки плодородной земли.
Этот маршрут и выбрал Кау-джер.
Буря разыгралась не на шутку. Дул такой неистовый ветер, что приходилось сгибаться в три погибели, чтобы не сорваться в море. Высоко взлетавшие брызги волн хлестали по лицу. Оставшиеся внизу Кароли и Хальг молча смотрели, как постепенно уменьшается силуэт их товарища и как нелегко тому бороться с ветром.
Изнурительный подъем продолжался почти целый час. Достигнув вершины мыса, Кау-джер приблизился к самому краю отвесного берега и застыл как изваяние, устремив взгляд на юг.
С востока уже надвигалась ночь, а с противоположной стороны горизонта все еще сверкали последние отблески солнца. Клочья огромных, разорванных ветром туч, похожих на клубы дыма, проносились со скоростью урагана. Вокруг бушевал океан.
Зачем же пришел сюда этот человек с мятущейся душой? За мечтой? За надеждой? Или, остановившись перед непреодолимым, думал о том, как обрести вечный покой?
Время шло. Кромешная тьма поглотила все…
Ночь.
И вдруг где-то далеко блеснула слабая вспышка света, а затем донесся глухой отзвук.
Это был пушечный выстрел с корабля, терпящего бедствие.
Глава IV ШТОРМ
Было около восьми часов вечера. Юго-восточный ветер с неистовой силой хлестал по берегу. Ни один корабль не смог бы обогнуть крайнюю оконечность Южной Америки, не рискуя при этом разбиться о рифы.
Именно такая опасность угрожала судну, известившему о ней пушечным выстрелом. По-видимому, капитан не смог поднять все паруса, чтобы держаться нужного направления среди бушующих волн, и корабль неудержимо несло на рифы.
Не прошло и получаса, как Кароли и Хальг, цепляясь за выступы скал и за мелкий кустарник, пробивавшийся в расщелинах, поднялись на вершину мыса. Теперь они втроем напряженно прислушивались к вою бури.
Раздался второй выстрел. На какую помощь надеялись несчастные моряки, оказавшиеся среди необитаемых островов во власти разъяренной стихии?
— Он на западе,— сказал Кароли, определив направление выстрела.
— Идет правым галсом[74],— добавил Кау-джер,— потому что теперь он ближе к мысу, чем когда стрелял первый раз.
— Ему не обогнуть мыс,— заметил индеец.
— Ни в коем случае. Слишком сильная волна… Но почему капитан не выходит в открытое море?
— Наверно, не может.
— А может быть, он не видит берега? Нужно дать ему ориентир. Скорее разожжем костер! — воскликнул Кау-джер.
С лихорадочной поспешностью они стали собирать по склонам мыса ветки кустарника, сбитые шквалом, сухую траву и лишайники, скопившиеся в углублениях почвы, складывая все это на вершине скалы.
Кау-джер высек огонь. Сначала загорелся трут[75], за ним отдельные сучья, а потом раздуваемое ветром пламя заметалось у ног. Не прошло минуты, как к небу взвился ослепительный огненный столб, окутанный густыми клубами дыма, которые клочьями уносились на север. Хворост трещал так громко, будто рвались патроны, и временами звуки эти заглушали рев бури.
Казалось, мыс Горн, находящийся на стыке двух океанов, специально создан для возведения маяка, который предотвращал бы частые здесь кораблекрушения.
Но маяка на нем не было, и сейчас его роль выполнял костер. Во всяком случае, огонь показывал судну, что берег близко. По этому ориентиру капитан мог бы выйти в фарватер с подветренной стороны острова.
Правда, осуществить такой маневр в полной темноте представлялось весьма опасным. К тому же, если на борту не было человека, знакомого с условиями плавания в этом районе, кораблю вряд ли удалось бы благополучно пробраться между рифами.
Тем временем костер все еще полыхал, вонзаясь яркими языками пламени в непроглядную тьму. Кароли и Хальг все время подбрасывали в огонь сучья.
Кау-джер тщетно пытался определить положение судна. Вдруг на какой-то миг, в просвете между тучами, выглянула луна и осветила большой четырехмачтовый корабль, корпус которого четко выделялся среди белой морской пены. Он действительно держал курс на восток, с трудом преодолевая натиск ветра и волн.
И в ту же минуту в тишине, наступившей между двумя порывами шквала, раздался зловещий грохот. Две кормовые мачты сломались у самого основания.
— Конец! — вскричал Кароли.
— В шлюпку! — скомандовал Кау-джер.
Все трое мгновенно, рискуя жизнью, сбежали с вершины мыса, через несколько минут очутились на берегу, вскочили в лодку и вышли из бухты. Хальг сидел на руле, Кау-джер и Кароли гребли изо всех сил. О том, чтобы поднять парус, не могло быть и речи.
С величайшим трудом им удалось вывести «Уэл-Киедж» за линию рифов. Шлюпку так бросало с волны на волну, то подкидывая кверху, то швыряя вниз, что она трещала по всем швам. Тяжелые валы перекатывались до самой кормы. Залитая водой, «Уэл-Киедж» могла в любой момент пойти ко дну. Хальгу пришлось бросить руль и орудовать черпаком.
Тем не менее они приближались к терпящим бедствие. Уже различались его сигнальные огни и темный корпус, покачивавшийся наподобие гигантского бакена[76] на светлом фоне неба. Две сломанные мачты, удерживаемые вантами[77], болтались за кормой. Фок-мачта и грот-мачта[78] описывали в темноте полукруги.
— Где капитан?— воскликнул Кау-джер.— Почему он не освободится от рангоута?[79] Ведь корабль не сможет войти в пролив с таким хвостом!
В самом деле, следовало как можно скорее перерубить снасти, на которых держались упавшие за борт мачты. По-видимому, на судне царила паника. А где же капитан? Даже в такой критический момент ничего не предпринималось для спасения корабля. Однако и команда должна была понимать, что парусник относит к берегу и что он непременно разобьется о скалы. А костер все еще горел на вершине мыса Горн, извивался огромными огненными змеями, взлетая от каждого порыва ветра.
— Значит, на борту никого не осталось,— ответил Кароли на замечание Кау-джера.
Конечно, вполне могло случиться, что экипаж покинул судно и теперь пытался добраться до берега на шлюпках, если… если только весь корабль не превратился в огромный гроб с мертвецами и умирающими. Даже в краткие мгновения относительного затишья с судна не доносилось ни единого крика о помощи.
Наконец «Уэл-Киедж» вышла на траверз[80] корабля в тот момент, когда его сильно накренило на левый борт, чуть не опрокинув. Но ловким поворотом руля судно выровняли. Кароли быстро схватил один из обрывков снастей, висевших вдоль борта парусника, и закрепил нос шлюпки.
Затем все трое, взяв собаку, перелезли через релинги и ступили на палубу.
О нет, корабль отнюдь не был покинут. Его переполняла толпа обезумевших женщин, мужчин и детей. Сотни несчастных пассажиров, охваченных паническим ужасом, лежали плашмя в рубках, коридорах, на нижней палубе. Страшная бортовая качка валила с ног, не давала подняться.
В темноте никто из них не обратил внимания на появление новых людей.
Кау-джер бросился на корму, к рулевому… Но его там не оказалось. Судно, лишенное парусов, плыло в буквальном смысле без руля и без ветрил.
Где же капитан и офицеры? Неужели, забыв о долге, они бросили корабль на произвол судьбы?
Кау-джер схватил за руку проходившего мимо матроса.
— Где капитан? — спросил он по-английски.
Тот, даже не обратив внимания, что с ним заговорил посторонний, только пожал плечами.
— В море… Убит сломанным рангоутом… И другие там же…— ответил матрос удивительно безразличным голосом.
Итак, на судне не было капитана, не хватало команды.
— А помощник где? — продолжал Кау-джер.
Матрос снова так же равнодушно пожал плечами.
— Помощник?— переспросил он.— Переломаны обе ноги, и пробита голова. Валяется на нижней палубе.
— А рулевой? Боцман?
Матрос жестом показал, что ничего не знает.
— Кто же, в конце концов, командует судном? — возмутился Кау-джер.
— Вы! — заявил Кароли.
— Тогда быстро за руль — и в открытое море!
Оба бросились на корму, изо всех сил налегли на штурвал. Корабль с трудом, как бы нехотя, перешел на левый галс.
Став под ветер, парусник понемногу начал набирать ход. Неужели удастся пройти на запад от острова Горн?
Куда держал путь корабль? Это выяснится позднее. А пока спасатели при свете фонаря смогли прочесть на рулевом колесе название судна и порт приписки: «Джонатан. Сан-Франциско».
Сильная качка мешала управлять парусником. Все же Кау-джер и Кароли пытались удержать его в пределах фарватера, ориентируясь на последние отблески костра, который еще несколько минут догорал на вершине мыса Горн.
Но этого оказалось достаточно, чтобы войти в пролив, видневшийся с правого борта, между островами Эрмите и Горн. Если бы «Джонатану» удалось проскочить рифы в средней части пролива, он смог бы стать на якорь в бухте, защищенной от ветра и волн, и спокойно дождаться восхода солнца.
Прежде всего Кароли с помощью нескольких матросов, в растерянности даже не заметивших, что ими командует индеец, быстро перерезал ванты и бакштаги[81] с левого борта, державшие обе обломанные мачты, которые волочились вслед за кораблем и так колотились о корму, что могли пробить корпус судна. Как только матросы перерубили снасти, мачты сразу унесло течением. Что же касается «Уэл-Киедж», то с помощью фалиня[82] ее отвели за корму.
Шторм крепчал. Огромные валы, перекатываясь через фальшборт[83], усиливали панику среди пассажиров. Лучше бы тем спуститься в кубрики и каюты, но несчастные не в состоянии были понять, что от них требуется.
Резко кренясь то на один, то на другой борт, захлестываемый волнами, корабль с трудом обогнул мыс. Скользнув по выступавшим из воды рифам, «Джонатан», на носу которого укрепили вместо кливера[84] простой кусок парусины, обошел остров Горн и укрылся за ним от неистовства бури.
Во время этого относительного затишья на полуют[85] поднялся человек и, подойдя к Кау-джеру, стоявшему у руля, спросил:
— Кто вы такой?
— Лоцман,— ответил тот.— А вы?
— Был боцманом.
— Где ваши офицеры?
— Погибли.
— Все?
— Все.
— Почему вы оставили свой пост?
— Меня сбило упавшей мачтой. Я только что пришел в себя.
— Ладно. Мы и вдвоем справимся здесь. Отдохните, а когда сможете, соберите ваших людей. Надо навести порядок.
Опасность еще не миновала — до этого было далеко. Как только корабль достигнет северной косы острова, на него снова обрушатся свирепые шквалы волн и ветра. Но выбирать не приходилось, ведь здесь не было даже плохонького убежища для якорной стоянки. А ветер, дувший теперь с юга, бесспорно, помешает добраться до этой части архипелага.
У Кау-джера оставалась лишь одна-единственная надежда: пойти на запад и достичь острова Эрмите. На его южном побережье имеются довольно глубокие бухты, и, возможно, «Джонатану» удастся укрыться от шторма. А когда море утихнет, Кароли, дождавшись попутного ветра, попытается провести пострадавшее судно через Магелланов пролив в Пунта-Аренас.
Но сколько опасностей впереди? Как избежать столкновения с многочисленными рифами, усеивающими море в этом районе? Как провести корабль по нужному курсу в полной темноте, с единственным парусом, сделанным из обрывка кливера?
Прошел мучительный час. Последние скалы острова Горн остались позади. Море снова обрушилось на корабль.
Боцману с помощью десятка матросов удалось установить фор-стень-стаксель[86], на что ушло не менее получаса. Наконец ценой сверхчеловеческих усилий парус подняли на блоке, посадили на галс и натянули шкот[87] талями[88].
Казалось бы, для судна подобного тоннажа действие этого жалкого куска парусины не будет ощутимым. Однако он сделал свое дело, а ветер был настолько силен, что судно прошло семь-восемь миль, отделявших остров Горн от острова Эрмите, меньше чем за час.
Кау-джер и Кароли уже полагали, что их попытка спасти корабль увенчалась успехом, как вдруг раздался оглушительный грохот, перекрывший на миг раскаты бури.
На высоте десяти футов от палубы сломалась фок-мачта. При падении она увлекла за собою часть грот-мачты и, разрушив фальшборт, свалилась в океан.
Эта роковая случайность погубила несколько человек. Послышались душераздирающие крики. В ту же минуту «Джонатан» накрыла огромная волна и он дал такой крен, что чуть не пошел ко дну.
Потом судно выровнялось, но по всей палубе опять прокатился стремительный поток, сметая все на своем пути. К счастью, такелаж[89] был уже разрушен и остатки снесенных ураганом мачт не угрожали кораблю.
Большой парусник превратился в беспомощный обломок, плывущий по воле волн.
— Погибаем! — раздался чей-то крик.
— Даже лодок не осталось! — простонал кто-то другой.
— А шлюпка лоцмана? — прервал третий.
Толпа бросилась на корму, где на буксире шла «Уэл-Киедж».
Но лоцман расставил цепью матросов, преградивших дорогу обезумевшим пассажирам. Теперь им приходилось только дожидаться развязки.
Через час Кароли заметил на севере мощный горный массив. Каким-то чудом корабль проскользнул невредимым через узкий пролив, отделяющий остров Хершел от острова Эрмите. Так или иначе, впереди уже высились скалы острова Уоллестон. Сильное течение мгновенно пронесло судно мимо них.
Кто же победит — ветер или течение? Пройдет ли «Джонатан», подгоняемый ветром, к востоку от острова Осте или же, уносимый течением, обогнет его с юга? Оказалось, ни то, ни другое. Среди ночи сильнейший удар потряс весь корпус корабля, и он неподвижно застыл на месте, резко накренясь на левый борт.
Американский парусник напоролся на рифы у восточного берега оконечности острова Осте, носящей название «мыс Горн Ложный».
Глава V КОРАБЛЕКРУШЕНИЕ
За две недели до памятной ночи, с 15 на 16 марта, американский клипер[90] «Джонатан» покинул калифорнийский порт Сан-Франциско, направляясь в Южную Африку. Любое быстроходное судно при благоприятной погоде могло проделать такой путь за пять недель.
Этот парусник водоизмещением в три с половиной тысячи тонн был оснащен четырьмя мачтами. Командир судна, капитан Леккар, весьма опытный моряк, имел в своем подчинении помощника Месгрева, лейтенанта Мэдисона, боцмана Хартлпула и команду из двадцати семи матросов.
«Джонатан» выл зафрахтован для перевозки завербованных Обществом колонизации эмигрантов в африканскую бухту Лагоа, где португальское правительство предоставляло им земельную концессию[91].
В трюме клипера, помимо необходимой на время путешествия провизии, имелось все, что могло пригодиться молодой колонии в период ее организации. Запасов муки, консервов и спиртных напитков хватило бы на первые несколько месяцев. Кроме того, «Джонатан» вез палатки, сборные дома и различные предметы домашнего обихода — словом, все, что нужно для устройства на новом месте. Чтобы скорее приступить к разработке земельных участков, Общество позаботилось о снабжении колонистов сельскохозяйственными орудиями, различными саженцами, семенами злаков и овощей, рогатым скотом, свиньями, овцами, всевозможной домашней птицей.
Таким образом, новая колония была бы надолго обеспечена и продовольствием, и орудиями труда. Впрочем, будущие земледельцы знали, что их и впредь не оставят на произвол судьбы.
Но с самого начала путешествия все силы природы словно объединились против «Джонатана». После долгого и тяжелого плавания корабль наконец достиг мыса Горн словно для того, чтобы стать жертвой самой жестокой бури, из когда-либо случавшихся в этих краях.
Капитан Леккар, не имея возможности определить свое точное местонахождение по солнцу, полагал, что судно находится далеко от берега. Он решил идти правым галсом, надеясь, не меняя курса, кратчайшим путем добраться до Атлантики, где рассчитывал на более благоприятную погоду. Но едва выполнили приказ, как огромная волна, обрушившаяся на клипер с правого борта, унесла в море нескольких пассажиров и матросов. Спасти несчастных не удалось — они мгновенно исчезли в пучине.
Вот тогда-то на корабле и начали палить из пушки, оповещая о том, что «Джонатан» терпит бедствие. Первый же выстрел был услышан Кау-джером и его спутниками.
Видимо, капитан Леккар не заметил зажженного на вершине мыса огня, иначе смог бы вовремя обнаружить свою ошибку. В довершение всего его помощник Месгрев попытался положить судно на другой галс, чтобы выйти в открытое море, хотя из-за сильного шторма и ограниченной парусности это казалось неосуществимым. Но когда после многих бесплодных попыток маневр почти удался, вдруг рухнул кормовой рангоут, сбросив Месгрева и лейтенанта Мэдисона за борт. В ту же секунду блоком ударило по голове боцмана, и он упал без сознания на палубу.
Остальное читателю уже известно.
И вот теперь плавание закончилось. «Джонатан», намертво зажатый острыми рифами, оказался прикованным у побережья острова Осте. Далеко ли земля? Это могло выясниться только утром. Теперь же непосредственная опасность миновала, ибо судно по инерции проскочило далеко за линию подводных скал, а рифы защищали «Джонатан» от бурных волн.
Можно было надеяться, что за ночь с кораблем больше ничего не случится, поскольку рифы крепко, как на стапеле[92], удерживали его.
Кау-джеру с помощью боцмана Хартлпула удалось кое-как втолковать обезумевшим от страха людям, что сейчас им ничто не угрожает. Несколько пассажиров — одни по своей воле, другие унесенные неистовым шквалом — оказались за бортом как раз в ту минуту, когда судно село на мель. Они упали прямо на рифы, откуда тотчас же были смыты волной, и теперь искалеченные тела погибших безжизненно покачивались на воде. Но неподвижность «Джонатана» подействовала успокаивающе на остальных переселенцев. Они укрылись в рубке или на нижней палубе от потоков дождя, водопадом низвергавшегося из грозовых туч. Кау-джер, Кароли, Хальг и боцман остались на вахте, охраняя покой и безопасность пассажиров.
Очутившись в судовых помещениях, где было относительно тихо, большинство эмигрантов сразу же забылись тревожным сном. Едва бедняги почувствовали над собой власть разумного и энергичного человека, они впали в другую крайность и моментально успокоились. Как-то само собой получилось, что они доверились и подчинились Кау-джеру, переложив на его плечи все заботы о своей дальнейшей судьбе. Эти люди не были подготовлены к подобным испытаниям. Привыкнув безропотно переносить повседневные лишения, они оказались совершенно беспомощными перед лицом грозной стихии. Бессознательно мечтали о том, чтобы нашелся какой-нибудь человек, готовый обязать каждого из них выполнить порученное ему задание. Среди эмигрантов находилось немало французов, итальянцев, русских, ирландцев, англичан и даже японцев, но больше всего — выходцев из североамериканских штатов. Столь же разнообразны оказались и их профессии. В большинстве своем это были люди холостые, лишь около сотни эмигрантов везли с собой детей.
Их объединяло то, что все они принадлежали к обездоленным слоям общества. Впрочем, нищих среди них не было, так как организация требовала от своих членов предъявления капитала в пятьсот франков. Ну, а кое-кто располагал сумой в двадцать — тридцать раз большей. Словом, это общество было во всех отношениях не хуже и не лучше любого другого. В нем проявлялись те же пороки и добродетели, те же противоречивые чувства и желания, что и везде.
Что же станется с этими людьми, заброшенными судьбой на необитаемый остров? Как им удастся выжить в этих невероятно трудных условиях?
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Глава I НА СУШЕ
Гористые места острова Осте поражают своим причудливым рельефом. Если северное его побережье, частично прилегающее к проливу Бигл, образует прямую линию, то остальные берега усеяны скалистыми выступами или изрыты узкими, глубокими заливами.
Осте — один из самых больших островов архипелага Магальянеса, шириной в пятьдесят километров, длиной — более ста, не считая территории полуострова Харди, изогнутого как турецкая сабля. Его коса, выдающаяся на восемь — десять лье к юго-западу, носит название «мыс Горн Ложный».
«Джонатан» был выброшен на огромную гранитную скалу, отделяющую бухту Орендж-бей от бухты Скочуэлл.
В смутном свете зарождавшегося дня, среди тумана, вскоре развеянного последним дыханием пронесшейся бури, проступили очертания диких отвесных берегов.
Клипер лежал на обрывистом мысе, выдававшемся в море острой косой и соединявшемся с основной территорией полуострова массивной горной цепью. У подножия этого скалистого пика тянулась каменная гряда, потемневшая от морских водорослей. Между рифами виднелись участки мокрого песка, усыпанного раковинами и моллюсками, которыми изобилуют берега Магеллановой Земли. На первый взгляд остров Осте казался не слишком гостеприимным.
Как только рассвело, большинство пассажиров «Джонатана» спустилось на рифы, выступавшие из воды, и поспешило на сушу. Бесполезно было удерживать их. После ночных волнений людям не терпелось ощутить под ногами твердую почву. Около сотни человек поднялось на холм, Обойдя его с противоположной стороны, чтобы лучше рассмотреть местность, расстилавшуюся перед ними. Одни отправились вдоль южного берега косы, другие — вдоль северного. Некоторые остались на песчаном берегу осматривать разбитый корабль.
Лишь несколько человек, наиболее разумных, дисциплинированных, хладнокровных, не покинули «Джонатан». Взоры их были устремлены на Кау-джера, словно в ожидании распоряжений этого незнакомца, принявшего столь деятельное участие в их судьбе.
Но, поскольку тот не собирался прерывать разговора с боцманом, один из эмигрантов, отделившись от группы пассажиров, направился к беседующим. По выражению лица, по походке, по другим едва уловимым признакам нетрудно было угадать, что этот пятидесятилетний мужчина принадлежал к более высоким слоям общества, чем остальные.
— Сударь,— сказал он по-английски своему спасителю,— прежде всего я хочу поблагодарить вас за избавление от неминуемой смерти. Без вас и ваших спутников мы наверняка погибли бы.
Кау-джер дружески пожал протянутую ему руку.
— Я и мои друзья,— ответил он на том же языке,— счастливы, что нам удалось благодаря знанию фарватера предупредить страшную катастрофу.
— Разрешите представиться. Я — эмигрант. Меня зовут Гарри Родс. Со мной едут жена, дочь и сын.
— Мой товарищ — лоцман Кароли. А это его сын Хальг,— представил своих спутников Кау-джер.— Они уроженцы Огненной Земли.
— А вы? — спросил Гарри Родс.
— Я — друг индейцев. Они зовут меня Кау-джер, и другого имени у меня нет.
Гарри Родс удивленно посмотрел на собеседника, спокойно выдержавшего его взгляд. Поняв, что настаивать не следует, эмигрант спросил:
— Как вы полагаете, что нам теперь делать?
— Как раз об этом мы и говорили с господином Хартлпулом. Все зависит от состояния «Джонатана». По правде говоря, я не обольщаюсь надеждами, но все же, прежде чем что-то решить, надо осмотреть судно.
— А в какой части Огненной Земли мы находимся?
— На юго-восточном берегу острова Осте.
— Близ Магелланова пролива?
— Наоборот, очень далеко от него.
— Черт побери! — воскликнул Гарри Родс.
— Потому-то, повторяю, все зависит от состояния корабля. Сначала его нужно осмотреть, а уж потом предпринимать что-либо.
В сопровождении Хартлпула, Гарри Родса, Хальга и Кароли Кау-джер спустился на рифы и приступил к тщательному осмотру клипера.
Вскоре все пришли к единодушному выводу: корабль ни на что не годен. Корпус его, пробитый почти по всему правому борту, треснул в двадцати местах. А поскольку он сделан из металла, исправить положение невозможно. Итак, всякая надежда спустить «Джонатан» на воду отпала.
— По-моему,— продолжал Кау-джер,— следует разгрузить судно и поместить груз в надежное место. А тем временем можно будет починить нашу шлюпку, сильно пострадавшую во время шторма. Потом Кароли отвезет в Пунта-Аренас кого-нибудь из эмигрантов, чтобы известить губернатора о случившемся. Несомненно, тот примет все меры, дабы ускорить ваше возвращение на родину.
— Что ж, все это весьма разумно,— согласился Гарри Родс.
— Я думаю,— снова заговорил Кау-джер,— что следует сообщить о нашем плане действий остальным пассажирам «Джонатана», а для этого, если не возражаете, соберем всех на берегу.
Пришлось довольно долго ждать возвращения эмигрантов, которые разбрелись в разные стороны. Однако к девяти часам голод заставил их вернуться к «Джонатану», застрявшему на рифах. Гарри Родс, взобравшись на скалу, рассказал о предложении Кау-джера.
Оно не встретило единодушного одобрения. Некоторые пассажиры были недовольны. Послышался ропот.
— Разгружать судно в три тысячи тонн! Этого еще не хватало! — проворчал один.
— За кого нас принимают? — возмутился другой.
— Мало мы намаялись,— буркнул под нос третий.
Наконец в толпе кто-то громко произнес на ломаном английском языке:
— Прошу слова.
— Говорите,— разрешил Гарри Родс, даже не узнав имени оратора, и тотчас же спустился со скалы.
Его сменил мужчина средних лет, с довольно красивым лицом, окаймленным густой каштановой бородой, и с голубыми мечтательными глазами. По-видимому, он чрезвычайно гордился своей великолепной шелковистой бородой, ибо то и дело любовно поглаживал ее белой, холеной рукой.
— Друзья,— начал он, расхаживая по скале, словно на ораторской трибуне, как некогда Цицерон[93],— кое-кто из вас только что выразил вполне естественное удивление. В самом деле: что нам предлагают? Жить в течение неопределенного времени на необитаемом берегу и выполнять бессмысленную работу по спасению чужого груза. Но зачем дожидаться возвращения шлюпки, если ее можно использовать для перевозки по очереди всех пассажиров в Пунта-Аренас?
В толпе раздались одобрительные возгласы: «Совершенно верно!… Он абсолютно прав!…»
Однако Кау-джер, стоявший в толпе, возразил:
— Само собой разумеется, «Уэл-Киедж» в вашем распоряжении. Но, чтобы перевезти всех в Пунта-Аренас, потребуется не менее десяти лет.
— Допустим,— согласился оратор.— В таком случае подождем возвращения лодки. Но это вовсе не значит, что мы обязаны заниматься разгрузкой корабля вручную. Никто не возражает против того, чтобы забрать из трюма свои личные вещи. Но остальное!… Разве мы чем-то обязаны Обществу колонизации, которому принадлежит груз? Наоборот, оно должно нести ответственность за все наши беды. Если бы оно не поскупилось и дало бы нам лучшее судно и более опытную команду, мы бы не очутились здесь. Но, как бы то ни было, не забывайте, что мы принадлежим к неисчислимой рати эксплуатируемых и не собираемся добровольно превращаться в рабочий скот.
Его доводы показались убедительными. Кто-то выкрикнул: «Браво!» Кое-где раздался громкий смех.
Ободренный оратор продолжал с еще большим пылом:
— Кто усомнится в том, что нас бессовестно эксплуатируют, нас, истинных трудящихся! (При этих словах он исступленно ударил себя в грудь.) Даже ценой тягчайшего труда мы не смогли на родине заработать куска хлеба, орошенного потом. Было бы глупо гнуть спины под тяжестью этого барахла, созданного руками таких же, как мы, рабочих, но ставшего собственностью угнетателей-капиталистов. Ведь это их необузданный эгоизм и алчность вынудили нас покинуть семьи и отчизну.
Некоторые эмигранты с растерянным видом слушали эту выспреннюю речь, произнесенную на скверном английском языке с резким иностранным акцентом. У других возникли сомнения. Несколько человек, стоявших у подножия «трибуны», выражали явное одобрение.
Кау-джер снова уточнил положение дел.
— Мне неизвестно, кому принадлежит груз «Джонатана»,— спокойно заявил он,— но, зная здешний климат, уверяю вас, что все эти вещи еще пригодятся. Мало ли что может случиться в будущем, и, по-моему, разумнее сохранить их для себя же.
Поскольку предыдущий оратор не выказывал желания вступить в спор, Гарри Родс опять взобрался на скалу и поставил предложение огнеземельца на голосование. Все руки взметнулись вверх: оно было принято.
— Кау-джер спрашивает,— продолжал Гарри Родс,— нет ли среди вас плотников, которые могли бы починить его шлюпку?
— Есть! — крикнул какой-то солидный человек, подняв руку над толпой.
— Есть! — заявили почти одновременно еще двое.
— Первый — это Смит,— сказал Хартлпул Кау-джеру,— рабочий, завербованный Обществом колонизации. Надежный парень. Других я не знаю. Мне известно только, что одного из них зовут Обар.
— А оратора знаете?
— Это эмигрант — видимо, француз. Мне говорили, что его зовут Боваль. Но я в этом не уверен.
Боцман не ошибся. Это действительно был француз по имени Боваль. Вот краткое описание его бурной, богатой событиями жизни.
Фердинанд Боваль начал с адвокатуры и мог бы преуспеть на этом поприще, так как обладал и умом и талантом. К несчастью, в самом начале своей карьеры он увлекся политикой. Стремясь к осуществлению своих пылких, но весьма туманных и честолюбивых замыслов, он без раздумий покинул Дворец правосудия и окунулся с головой в политическую борьбу, однако скомпрометировал себя в одном сомнительном деле, и с этого момента началось его падение. Постепенно докатившись сначала до бедности, а затем до нищеты, он был вынужден отправиться на поиски счастья в Америку.
Но и там судьба не улыбнулась Бовалю. Скитаясь из города в город, перепробовав все профессии, он попал наконец в Сан-Франциско. Понимая, что и здесь не добьется успеха, а положение безвыходно, адвокат решился эмигрировать еще раз.
Ознакомившись с проспектом, сулившим златые горы первым колонистам бухты Лагоа, он раздобыл требуемую сумму и записался в эту партию переселенцев. Кораблекрушение «Джонатана», выброшенного на скалы полуострова Харди, вело к полному краху всех его надежд.
Однако постоянные неудачи бывшего адвоката ничуть не поколебали его самонадеянности и веры в счастливую звезду. Свои беды Боваль объяснял человеческой злобой, неблагодарностью и завистью. Он слишком высоко ценил собственную персону, полагая, что таланты его восторжествуют при первой возможности.
Поэтому он ни на минуту не забывал о той роли вождя, которую — без излишней скромности!— взял на себя. Едва очутившись на борту «Джонатана», он с первых же дней попытался распространять среди окружающих полезные, с его точки зрения, идеи, делая это иногда столь невоздержанно, что капитану Леккару не раз приходилось пресекать его бурные выступления.
Несмотря на препоны, Фердинанду Бовалю в самом начале плавания удалось добиться кое-какого успеха. Некоторые товарищи по несчастью не без удовольствия внимали демагогическим разглагольствованиям бывшего адвоката, составлявшим суть его красноречия. Именно эти эмигранты образовали вокруг него сплоченную, хотя и довольно малочисленную группу.
Конечно, у Боваля нашлось бы больше сторонников, не столкнись он с опасным соперником — американцем из Северных Штатов, по имени Льюис Дорик. Этот человек с бритым лицом, холодным взглядом и резким голосом проповедовал те же теории, что и Боваль, но держался еще более крайних убеждений. Впрочем, их разделяли не столько принципиальные разногласия, сколько разница в характерах. Боваль — увлекающийся представитель латинской расы, обладавший пылким воображением, сам опьянялся собственными словами, но при этом имел довольно кроткий нрав. У Дорика же, исступленного и непримиримого бунтаря, было каменное, безжалостное сердце.
Один из них, хотя и мог силой убеждения довести слушателей до безумия и насильственных действий, оставался совершенно безобидной личностью. Другой же, несомненно, был опасным человеком.
Дорик проповедовал равенство, но делал это так, что не находил последователей. Все его помыслы были направлены не на облегчение жизни бедных, а на попытки самому проникнуть в высшие сферы общества. Жалкая участь подавляющего большинства человечества не вызывала у него ни малейшего сочувствия. Но сознание того, что ничтожная кучка богачей занимает более высокое социальное положение, заставляло Льюиса Дорика содрогаться от зависти.
Попытки образумить его не приводили к добру. Дорик сразу становился заклятым врагом всякого, кто пытался ему противоречить, и даже по отношению к самому кроткому противнику в споре способен был прибегнуть к насилию и даже убийству.
От уязвленного самолюбия и проистекали все его несчастья. В бытность свою преподавателем литературы и истории Дорик на занятиях не мог удержаться от изложения теорий, не имевших ничего общего с литературой. Он настойчиво проповедовал свои анархистские принципы, высказывая их в виде категорических утверждений, которые слушатели должны были принимать беспрекословно.
Такое поведение не замедлило принести свои плоды. Дорика уволили, и ему пришлось искать другое место. Но и в дальнейшем те же причины приводили к аналогичным последствиям. И на новом месте ему вскоре отказывали от должности, и на следующих повторялась та же история, пока он окончательно не потерял доступ в учебные заведения. Так бывший преподаватель превратился в эмигранта и очутился на борту «Джонатана».
В пути Боваль и Дорик вербовали приверженцев. Один использовал собственное красноречие, не охлажденное критическим отношением к излагаемым идеям, другой — силу авторитета, свойственную человеку, убежденному в своей абсолютной правоте. Внешне оба сохраняли дружелюбные отношения, но в их сердцах клокотала взаимная ненависть.
Едва вступив на берег острова Осте, Боваль решил, не теряя ни минуты, добиться превосходства над соперником. Улучив благоприятный момент, он взобрался на «трибуну» и произнес уже известную читателю речь. Тот факт, что доводы его не восторжествовали, не имел для него особого значения. Главное, что он оказался центральной фигурой.
Пока Кау-джер разговаривал с Хартлпулом, Гарри Родс продолжал:
— Поскольку предложение принято, надо поручить кому-нибудь из нас руководство работами. Разгрузить корабль в три с половиной тысячи тонн — нелегкая задача. Для этого нужна сноровка. Что вы скажете, если мы попросим руководить этим делом боцмана, господина Хартлпула? Пусть он распределит между нами работы и покажет, как лучше их выполнить. Кто согласен, поднимите руку.
Почти все подняли руки.
— Значит, договорились,— сказал Гарри Родс и обратился к боцману: — Каковы будут ваши распоряжения?
— Всем — завтракать,— коротко ответил тот.— Перед работой надо подкрепиться.
Эмигранты беспорядочной толпой устремились на корабль, где матросы раздали им консервы. Тем временем Хартлпул, отозвав в сторону Кау-джера, сказал ему с озабоченным видом:
— С вашего разрешения, сударь, осмелюсь утверждать, что я — опытный моряк. Но надо мною всегда стоял капитан.
— Что вы хотите этим сказать?
— А то,— ответил боцман, с лица которого не сходило выражение тревоги,— что я могу похвастаться точным выполнением любого приказа, но инициатива — не моя стихия. Крепко держать руль — сколько угодно. Но прокладывать курс — не возьмусь.
Кау-джер пристально взглянул на собеседника.
— Иначе говоря, вы охотно возглавите работы, но вам хотелось предварительно получить общие указания?
— Точно! — подтвердил Хартлпул.
— Ну что ж, нет ничего проще. Сколько у вас рабочих?
— При отплытии из Сан-Франциско экипаж «Джонатана» состоял из тридцати четырех человек, включая личный состав, повара и двух юнг. На борту числилось тысяча сто девяносто пять пассажиров. Всего — тысяча двести двадцать девять человек. Но многие погибли.
— Число погибших мы уточним позднее. Теперь же будем исходить из того, что у нас приблизительно тысяча двести человек. Если не учитывать женщин и детей, остается примерно восемьсот мужчин. Разбейте их на два отряда. Двести останутся на судне и начнут поднимать груз из трюма на палубу. Остальные пойдут со мною в ближайший лес. Там мы срубим деревья, очистим стволы от сучьев, сложим их в два ряда, вдоль и поперек, и прочно перевяжем. Получится несколько плотов. Вы соедините их по краям так, чтобы образовалось некое подобие широкой дороги от корабля к берегу. Во время прилива плоты образуют своеобразный плавучий мост, а при отливе лягут на вершины рифов. Вам придется лишь укрепить их, чтобы они не сдвинулись с места. Таким способом и при таком количестве работников для разгрузки потребуется не более трех дней.
Хартлпул подчинился распоряжениям, и, как предполагал Кау-джер, весь груз с «Джонатана» уже к вечеру 19 марта доставили на берег и надежно укрыли от волн. Кстати, при проверке оказалось, что паровая лебедка не пострадала, и это значительно облегчило работу.
В то же самое время три плотника — Смит, Обар и Чарли — закончили ремонтировать шлюпку, и 19 марта она тоже была готова к спуску на воду.
Оставалось только выбрать делегата. Фердинанду Бовалю снова представился случай взойти «на трибуну» и добиваться доверия избирателей. Но ему решительно не везло! Хотя за него подали около полусотни голосов, а за Льюиса Дорика (который, впрочем, и не выставлял свою кандидатуру) вообще никто не голосовал, большинство выбрало делегатом некоего Жермена Ривьера, фермера франко-канадского происхождения, отца пятерых детей. В данном случае избиратели, по крайней мере, были уверены, что он не сбежит и вернется за семьей.
«Уэл-Киедж», управляемая Кароли, подняла парус утром 20 марта. Кау-джер и Хальг остались на острове. Эмигранты принялись за устройство временного лагеря. До возвращения шлюпки (то есть примерно на три недели) не имело смысла обосновываться по-настоящему. Поэтому решили не ставить сборных домов, а обойтись палатками, найденными в трюме корабля. К ним добавили еще запасные паруса, и это помогло укрыть не только пассажиров, но и наиболее ценную часть груза. Из кусков фальшборта устроили нечто вроде птичника, а из брусьев и канатов — загон для скота, доставленного с клипера.
В общем, нельзя было сказать, что эмигранты попали в положение людей, выброшенных на необитаемую землю, лишенных средств к существованию и всяких надежд. Катастрофа с «Джонатаном» произошла в архипелаге Огненная Земля, в месте, точно указанном на картах, на расстоянии не более ста лье от Пунта-Аренаса. Продуктов хватало. Никаких причин для беспокойства. Если бы не суровый климат, переселенцы могли прекрасно прожить на острове до возвращения на родину,— точно такая же обстановка ожидала бы их и в начале пребывания на африканской земле.
Само собой разумеется, что при разгрузке «Джонатана» Кау-джер и Хальг принимали самое деятельное участие. Особенно ценной оказалась помощь нашего героя. Несмотря на всю его скромность и стремление оставаться незамеченным, его превосходство было очевидным. Поэтому у Кау-джера то и дело спрашивали совета. Заходила ли речь о переброске тяжелых грузов, об их размещении или о разбивке палаток — к нему обращался не только Хартлпул, но и все эмигранты, в большинстве своем непривычные к подобным работам.
Не успели переселенцы обосноваться на новом месте, как в конце марта им пришлось еще раз убедиться в суровости местного климата. В течение трех суток шел проливной дождь, сопровождаемый ураганным ветром. Когда же буря улеглась, «Джонатана» уже не оказалось на прежнем месте: только куски листового железа да обломки металлических брусьев — вот все, что осталось от великолепного клипера, чей форштевень[94] несколько дней назад гордо рассекал морскую гладь.
Хотя с судна сняли все, что представляло малейшую ценность, у потерпевших кораблекрушение сжалось сердце при виде жалких останков «Джонатана». Теперь они и впрямь оказались отрезанными от всего человечества, и, если шлюпка не достигнет благополучно Пунта-Аренаса, никто не узнает об их участи.
Решили подсчитать оставшихся в живых. Поименная перекличка, произведенная Хартлпулом по судовым книгам, показала, что при катастрофе погиб тридцать один человек, из них пятнадцать членов экипажа и шестнадцать пассажиров. Уцелели тысяча сто семьдесят девять эмигрантов и девятнадцать моряков. Вместе с двумя огнеземельцами и их спутником население острова Осте отныне состояло из тысячи двухсот одного человека.
Кау-джер предложил воспользоваться хорошей погодой и осмотреть прилегающую к лагерю местность. Его должны были сопровождать Хартлпул, Гарри Родс, Хальг и еще три эмигранта: итальянец Джимелли, американец Гордон и русский Иванов. Но в последний момент нежданно-негаданно явилось еще два необычных кандидата.
Признанный лидер переселенцев, направляясь к условленному месту встречи, заметил двух приближавшихся к нему мальчиков лет десяти. Первый, со смышленой и несколько дерзкой физиономией, старался идти непринужденно, вразвалочку, что придавало ему довольно комический вид. Второй робко следовал сзади.
Смельчак подошел к Кау-джеру.
— Ваше превосходительство…— начал он.
Это неожиданное обращение очень позабавило Кау-джера. Он внимательно посмотрел на мальчугана. Тот стойко выдержал его взгляд.
— «Превосходительство»?— рассмеялся Кау-джер.— Почему ты так называешь меня, малыш?
Парнишка, казалось, удивился.
— Разве не так полагается обращаться к королям, епископам и министрам? — спросил он, опасаясь быть невежливым.
— Что-что? — воскликнул пораженный Кау-джер.— А откуда ты знаешь, что королей, министров и епископов называют «превосходительствами»?
— Из газет,— уверенно ответил мальчик.
— Ты что же, читаешь газеты?
— А почему бы и нет? Когда дают…
— Так… так…— задумчиво протянул мужчина.— Как тебя зовут?
— Дик.
— Дик. А дальше?
Тот не понял.
— Как твоя фамилия? Как зовут твоего отца?
— У меня нет отца.
— А мать?
— И матери нет, ваше превосходительство.
— Ах, вот оно что!…— бросил заинтересованно Кау-джер.— Ну, насколько мне известно, я — не король, не министр и не епископ…
— Вы губернатор! — с жаром перебил его мальчик.
— Губернатор? — Кау-джер опешил.— С чего ты взял?
— Так уж…— смущенно пролепетал Дик.
— Но все же?
Паренек заколебался.
— Не знаю…— выдавил он наконец из себя.— Вы всеми командуете… Поэтому вас так называют…
— Да что ты! Ошибаешься, дружок. Я по положению не выше и не ниже остальных. Здесь никто не командует, так как нет начальников.
Дик недоверчиво, широко раскрыв глаза, посмотрел на необычного мужчину. Разве так бывает?
— Нет начальников,— повторил Кау-джер и спросил: — Где ты родился?
— Не знаю.
— Сколько тебе лет?
— Говорят, скоро одиннадцать.
— А ты в этом не уверен?
— Черт возьми, нет!
— А кто твой товарищ, что стоит как вкопанный?
— Сэнд.
— Брат?
— Вроде как брат. Друг.
— Вы вместе воспитывались?
— Воспитывались? — запротестовал Дик.— Мы вообще не воспитывались, сударь.
У Кау-джера сжалось сердце. Как печальны были эти слова, произнесенные задорным мальчишеским тоном. Парнишка походил на хорохорящегося боевого петушка.
— Где вы познакомились?
— На набережной во Фриско.
— Давно?
— Очень давно. Тогда мы были еще маленькими,— ответил Дик, пытаясь восстановить в памяти события.— Наверно, уже с полгода назад.
— В самом деле, очень давно,— подтвердил Кау-джер не моргнув глазом и обернулся к молчаливому спутнику Дика.— Подойди ближе и, пожалуйста, не называй меня превосходительством. Ну что ты молчишь? Может, проглотил язык?
— Нет, сударь,— еле слышно пролепетал мальчик, вертя в руках матросский берет.
— Тогда почему же ты молчишь?
— Потому что он очень робкий,— объяснил его друг.
Каким неодобрительным тоном это было сказано!
— Да? — засмеялся Кау-джер.— Он робкий? Зато про тебя этого не скажешь!
— Конечно нет, сударь! — простодушно ответил Дик.
— Ты вполне прав, черт возьми! Но как вы сюда попали?
— Мы — юнги.
Припомнилось, что Хартлпул, перечисляя команду «Джонатана», действительно упоминал о двух юнгах. Но до сих пор они ничем не отличались от других детей эмигрантов. Сегодня же мальчики сами обратили на себя внимание.
— Чего же вы от меня хотите?
— Нам хотелось бы пойти с вами, с господином Хартлпулом и с господином Родсом.
— Зачем?
У Дика заблестели глаза:
— Чтобы увидеть разные вещи.
Разные вещи! Весь мир отразился в этих детских словах. Все мечты о чудесном, еще невиданном… Все смутные ребяческие желания… Страстная мольба загорелась в глазах паренька, и его маленькая фигурка словно устремилась к тому, от кого зависело решение.
— А ты, Сэнд? Тебе тоже хочется увидеть «разные вещи»?
— Нет, сударь.
— Чего же ты тогда хочешь?
— Быть вместе с Диком,— тихо ответил малыш.
— Ты его очень любишь?
— Очень! — проникновенно, словно взрослый, воскликнул Сэнд.
Кау-джер, крайне заинтересованный, пристально рассматривал ребят. Какая странная и трогательная пара! Наконец он сказал:
— Хорошо, пойдете с нами.
— Да здравствует губернатор! — крикнули мальчики, подбрасывая береты, и принялись скакать, как козлята.
От Хартлпула Кау-джер узнал историю своих новых знакомых — по крайней мере все, что знал сам боцман, и, видимо, даже больше того, что знали о себе они сами.
Родители бросили их. И просто уму непостижимо, как им удалось выжить. Все же они не погибли, зарабатывая на хлеб с самого раннего детства всевозможными нехитрыми уловками: чистили обувь, открывали двери, продавали полевые цветы. Но чаще всего находили пропитание на мостовых Сан-Франциско,— как воробьи.
Еще полгода назад они даже и не догадывались о существовании друг друга. Судьба свела их случайно. Однажды, сдвинув берет набок, засунув руки в карманы и насвистывая сквозь зубы модную песенку, Дик брел по набережной. Вдруг он увидел мальчика, на которого с громким лаем, оскалив ужасные клыки, кидалась большая собака. Перепуганный мальчонка, плача, пятился от пса, неловко защищая лицо согнутым локтем. Не колеблясь ни секунды, отважный паренек одним прыжком оказался между робким малышом и его страшным противником, глядя прямо в глаза собаке, храбро ждал ее нападения.
Быть может, пес испугался этого смелого заступника. Кто знает? Во всяком случае, он отступил и, поджав хвост, удрал. Дик повернулся к испуганному малышу.
«Как тебя зовут?» — спросил он высокомерным тоном.
«Сэнд,— ответил тот, всхлипывая.— А тебя?»
«Дик. Хочешь дружить?»
Вместо ответа парнишка бросился своему заступнику на шею. Так они заключили нерушимый дружеский союз.
Хартлпул издали наблюдал за этой сценой. Подойдя к детям, он заговорил с ними и узнал их грустную историю. Боцману захотелось помочь Дику, храбрость которого успел оценить. Он предложил мальчику поступить юнгой на трехмачтовое судно «Джошуа Бреннер», где служил сам. Но тот сразу же поставил непременным условием, чтобы Сэнда взяли тоже. Пришлось согласиться, и с тех пор Хартлпул не покидал ребятишек, перешедших с ним вместе с «Джошуа Бреннера» на «Джонатан». Он обучил их читать и писать, то есть примерно всему, что знал сам. Его заботы были вознаграждены. Боцман не мог нарадоваться на своих питомцев. Характеры у мальчиков были совершенно разные. Один — вспыльчивый, подозрительный, задиристый, всегда готовый помериться силами с кем бы то ни было. Другой — молчаливый, мягкий, скромный, боязливый. Но обоих отличало трудолюбие, чувство долга и искренняя привязанность к старшему другу.
Вот такими добровольцами пополнилась экспедиция Кау-джера, отправившаяся в путь спозаранку 28 марта. Она должна была обследовать не весь остров Осте, а только районы, примыкавшие к лагерю. Сначала исследователи перевалили через центральный горный хребет полуострова Харди и вышли на западное побережье. Затем двинулись к северу, чтобы вернуться в лагерь по противоположному берегу, и пересекли таким образом южную часть территории острова.
С самого начала похода стало ясно, что суровый пейзаж, оказавшийся на месте кораблекрушения, не давал никакого повода судить обо всем крае. Если полуостров Харди представлял собой не что иное, как гряду голых, неприступных скал, переходящих в косу мыса Горн Ложный, то холмистая местность, видневшаяся на северо-западе, была вся покрыта богатой растительностью.
Обширные прибрежные луга, простиравшиеся у подножия невысоких лесистых гор, чередовались со скалами, увитыми морскими водорослями, и с оврагами, заросшими вереском[95]. Поражало обилие карликовых растений. Землю покрывали буйные травы, которых хватило бы на прокорм тысячеголового стада.
Маленький отряд разделился на группы соответственно личным симпатиям. Дик и Сэнд сломя голову неслись взад и вперед, что значительно удлиняло пройденный ими путь. Три фермера, удивленно оглядываясь по сторонам, перебрасывались на ходу скупыми словами. Гарри Родс шел с Хальгом и Кау-джером.
Последний был, как всегда, очень сдержан и сохранял свою обычную молчаливость. Однако все это не мешало ему испытывать чувство глубокой симпатии к семье Родс. Ему нравились все: мать, серьезная и добрая женщина; дети — восемнадцатилетний Эдуард и пятнадцатилетняя Клэри, открытые и простодушные; отец, лицо которого говорило о прямоте характера и здравомыслии.
Мужчины дружески беседовали. Родс воспользовался случаем, чтобы побольше разузнать об архипелаге Огненная Земля, и, в свою очередь, рассказал Кау-джеру много любопытного о наиболее примечательных эмигрантах.
Прежде всего о том, что сам он владел довольно крупным состоянием, разорился по чужой вине и после этого вынужден был эмигрировать, дабы по возможности обеспечить будущее жены и детей. Затем Гарри сообщил Кау-джеру все, что ему было известно из судовых документов о пассажирах «Джонатана». Среди них было семьсот пятьдесят земледельцев, многие с женами и детьми. Три представителя свободных профессий, пять бывших рантье[96] и сорок один рабочий. К последним следовало прибавить четырех рабочих не эмигрантов, а нанятых по контракту Обществом колонизации на службу в Лагоа — каменщика, плотника, слесаря и столяра. Всего — тысяча сто семьдесят девять пассажиров, отмеченных при перекличке.
Родс заметил, что братья Мур (один из них обратил на себя внимание своей грубостью во время разгрузки корабля), видимо, обладали буйным нравом, а что семьи Ривьеров, Джимелли, Гордонов и Ивановых — это добродушные и честные труженики.
Прочие представляли обычную толпу, в которой можно было найти и добродетели и пороки: лень, пьянство и тому подобное. Но пока еще трудно высказать окончательное суждение об остальных.
Еще Родс добавил, что четверо рабочих, нанятых Обществом колонизации после тщательного отбора, были настоящими специалистами, знатоками своего дела. Часть других рабочих имела весьма подозрительный вид. Судя по их отталкивающим физиономиям, можно предположить, что большинство этих людей привычно скорее к кабакам, нежели к мастерским. Двое-трое выглядели настоящими преступниками и только числились рабочими.
Из пяти рантье четверо принадлежали к семье Родс. Пятый же, по имени Джон Рам, представлял собой довольно плачевную фигуру. Этот господин двадцати шести лет от роду, изнуренный разгульной жизнью, промотавший целое состояние, казался совершенно никчемным существом, и то, что он присоединился к партии эмигрантов, было, по-видимому, просто его последней безумной выходкой.
Родс упомянул еще троих неудачников — представителей свободных профессий, выходцев из Германии, Америки и Франции. Немец Фриц Гросс, обрюзгший, с огромным животом, был неисправимый пьяница, доведенный алкоголем до скотоподобного состояния. Обычно он бесцельно бродил взад и вперед по палубе. Громкое сопение, багровая физиономия, лысый череп, отвисшие щеки, гнилые зубы и толстые, как сосиски, дрожащие пальцы производили отвратительное впечатление. Даже среди самых невзыскательных людей он славился невероятной неряшливостью. И этот выродок был музыкантом! Иногда в его игре чувствовался настоящий талант. Только скрипка пробуждала почти угасшее сознание Фрица Гросса. Когда немец был трезв, он с нежностью подолгу смотрел на свою скрипку, любовно поглаживая ее, как живое существо, но из-за конвульсивной дрожи в пальцах не мог извлечь из инструмента ни звука. Однако под воздействием алкоголя движения Гросса становились увереннее, его душу охватывало вдохновение, и скрипка начинала выдавать изумительные мелодии. Гарри дважды присутствовал при этом чуде.
Француз и американец — Фердинанд Боваль и Льюис Дорик — уже были представлены читателю. Родс не преминул изложить Кау-джеру их пагубные социальные теории.
— Как вы думаете,— спросил он в заключение,— не следует ли принять некоторые меры предосторожности против этих бунтарей? В пути они уже успели вызвать волнения среди пассажиров.
— Какие же меры вы предлагаете?
— Для начала сделать строгое предупреждение, а затем постоянно следить за ними. Если это не поможет, поставить их в такие условия, где они не смогли бы оказывать вредное влияние. В крайнем случае — изолировать.
— Черт побери! — воскликнул Кау-джер.— Вы, я вижу, не боитесь крутых мер! Да кто же посмеет посягнуть на свободу себе подобных?
— Те, для кого такие личности представляют опасность.
— А в чем, собственно, вы видите даже не скажу «опасность», а хотя бы вероятность опасности?
— В чем? В подстрекательстве к бунту несчастных невежественных людей, которых так же легко одурачить, как малых ребят. Ведь, чуточку польстив им, можно запросто опьянить их лишь красивыми словами.
— Но к чему же их нужно подстрекать?
— К присвоению того, что принадлежит другим.
— Разве «другие» обладают хоть чем-нибудь? — иронически спросил Кау-джер.— Этого я и не знал. Во всяком случае, здесь, на необитаемой земле, «другим» терять совершенно нечего.
— А груз с «Джонатана»?
— Груз — коллективная собственность, которая при необходимости будет использована для общих нужд. Это понимают все, и никто не посягнет на нее.
— Боюсь, что события докажут обратное,— горячо возразил Гарри Родс, взволнованный неожиданным разногласием.— Но у таких людей, как Дорик и Боваль, нет материальной заинтересованности. Им просто нравится приносить вред людям. И кроме того, их воодушевляет мысль о власти.
— Будь проклят тот, кого влечет к власти! — с внезапной силой воскликнул Кау-джер.— Всякий, кто стремится к господству над другими, должен быть стерт с лица земли!
Родс удивленно посмотрел на собеседника. Какая неуемная страсть таилась в этом человеке, чья речь всегда отличалась такой размеренностью и невозмутимостью!
— В таком случае, надо уничтожить Боваля,— сказал он не без иронии,— потому что под маской неограниченного равенства все теории этого болтуна сводятся только к одной цели — добиться власти.
— Система Боваля — просто ребячество,— резко возразил Кау-джер.— Это одна из теоретических форм социальной структуры, только и всего. Но та или иная форма, в сущности, всегда таит в себе несправедливость и глупость.
— Неужели вы придерживаетесь идей Льюиса Дорика? — живо спросил Гарри Родс.— Неужели вы тоже хотели бы вернуть нас к первобытному существованию? Свести все общественные формы к случайным соединениям индивидуумов[97], лишенных каких-либо взаимных обязанностей? Разве вы не понимаете, что все эти теории основаны на зависти? Ведь в них так и сквозит человеконенавистничество!
— Если Дорик ненавидит людей,— решительно заключил Кау-джер — значит, он просто безумец. Как! Человек является, независимо от своей воли, на эту землю… и находит здесь бесконечное множество себе подобных, таких же несчастных, страдающих, гибнущих существ… И вместо жалости испытывать к ним ненависть?! Такой человек — не в своем уме, а с потерявшим разум не вступают в споры. Но если теоретик безумен, это еще не значит, что сама по себе теория плоха.
— Однако,— настаивал Гарри Родс,— как только люди перестают жить в одиночку и объединяются в единый коллектив с общими интересами, тут-то и возникает необходимость в законах. Посмотрите, что происходит даже здесь. Этих людей никто специально не отбирал для создания какого-либо определенного коллектива, они представляют собой самую обычную толпу. И что же мы видим? Среди них есть несколько типов, кои, в силу той или иной причины, не в состоянии управлять собственными страстями! Сколько зла могут причинить эти личности, если законы не удержат их от дурных наклонностей.
— Но именно законы способствовали развитию этих наклонностей,— возразил Кау-джер с глубокой убежденностью.— Не будь их, человечество никогда бы не знало пороков и развивалось бы свободно и гармонично.
— Хм…— с сомнением произнес его собеседник.
— Здесь нет никаких законов,— продолжал сторонник анархии.— А все идет как по маслу.
— Зачем же брать именно такой пример? — запротестовал Гарри Родс.— Все знают, что настоящее положение вещей временное и пребывание на острове скоро закончится.
— Все обстояло бы точно так же, если бы пришлось остаться здесь навсегда.
— Сомневаюсь,— скептически протянул Родс,— и, признаюсь, предпочел бы не проверять это на опыте.
Кау-джер ничего не ответил, и они продолжали путь молча.
Возвращаясь обратно по восточному берегу, путники вышли к бухте Скочуэлл, которая совершенно очаровала их.
Сеть мелких бухточек, слипаясь, как бы образовала дельту быстрой и прозрачной реки, берущей начало в горах, что высились в центре острова. Богатейшие заливные луга, в соседстве с великолепными лесами, свидетельствовали о плодородии земли. Корни мощных, стройных деревьев уходили в мягкую, но упругую почву. Среди разбросанного мелколесья разросся густой мох. Под зелеными сводами ветвей носились тысячи различных пернатых величиной от перепелки до фазана. Берега были усеяны множеством морских птиц. На полянах резвились нанду[98], вигони и гуанако. Конечно, столь необычное зрелище не могло не вызвать удивления и восхищения путников.
Бухта Скочуэлл находилась на расстоянии около двух миль от места кораблекрушения «Джонатана». В нее впадала река с многочисленными притоками, извивавшимися среди густых зарослей. Если бы пришлось остаться на острове навсегда, лучшего места для поселения, чем эти берега, было не найти. Бухта, защищенная от свирепых ветров, могла бы служить прекрасным портом.
Когда экспедиция вернулась в лагерь, почти совсем стемнело. Кау-джер, Родс, Хальг и Хартлпул уже распростились со своими спутниками, как вдруг в ночной тиши до их слуха донеслись звуки скрипки.
— Скрипка? — удивился Кау-джер.— Наверно, это Фриц Гросс, о котором вы рассказывали?
— Значит, он пьян,— не задумываясь, ответил Гарри.
Он не ошибся. Фриц Гросс действительно был пьян. Через несколько минут путешественники подошли к музыканту и убедились в этом, увидев его багровую физиономию, блуждающие глаза и слюнявый рот. Он уже не мог стоять и, чтобы не упасть, прислонился к скале. Но спирт зажег в нем искру вдохновения — из-под смычка лилась божественная мелодия. Вокруг него столпилось около сотни эмигрантов. В эти минуты несчастные люди забыли обо всем на свете. Несправедливость судьбы, невеселое настоящее и будущее, которое вряд ли окажется лучше прошлого,— все исчезло из их сознания, и на крыльях музыки они уносились в мир грез.
— Искусство так же необходимо людям, как хлеб,— заметил Родс, указывая на скрипача и его увлеченных слушателей.— Какое место должен занять этот человек в социальной системе Боваля?
— Оставим в покое Боваля,— недовольно ответил Кау-джер.
— Но ведь многие поверили этому пустобреху,— возразил Родс.
Его собеседник промолчал.
— Меня занимает один вопрос,— снова заговорил Гарри.— Каким образом Фриц Гросс сумел раздобыть спиртное?
Оказалось, что пьян был не только скрипач. Через несколько шагов члены экспедиции натолкнулись на распростертое тело.
— Это Кеннеди,— сказал Хартлпул, наклонясь над лежавшим человеком.— Единственный прохвост среди судовой команды. Он не стоит даже веревки, чтобы его повесить.
Но, кроме Кеннеди, прямо на земле валялось еще несколько эмигрантов, напившихся до бесчувствия.
— Даю голову на отсечение,— воскликнул Родс,— что они воспользовались отсутствием начальника и ограбили склад!
— Какого начальника? — удивился Кау-джер.
— Вас, черт возьми!
— Я такой же начальник, как и все остальные,— раздраженно возразил тот.
— Возможно, но тем не менее все вас считают таковым.
Не успел Кау-джер ответить, как вдруг из ближайшей палатки раздался громкий хриплый крик женщины. Похоже, что ее душили.
Глава II ПЕРВЫЙ ПРИКАЗ
Семья Черони, состоявшая из трех человек — отца, матери и дочери,— происходила из Пьемонта. Семнадцать лет назад Лазар Черони, которому тогда исполнилось двадцать пять, и девятнадцатилетняя Туллия соединили свои судьбы. У них не было ничего, кроме самих себя; зато они любили друг друга, а настоящая любовь — это сила, помогающая не только сносить, но иногда и побеждать все тяготы жизни.
К несчастью, у Черони получилось иначе. Глава семьи, подпавший под дурное влияние, начал пить и вскоре превратился в заправского пьяницу. Одурманенный алкоголем, он постепенно переходил от мрачного озлобления к безудержной ярости. И вот в семье начались ежедневные жуткие сцены, о которых стало известно соседям. Туллия покорно переносила брань, оскорбления, побои и мучения. Сколько таких несчастных женщин смиренно несли и несут свой тяжкий крест!
Конечно, она могла (а может быть, и должна была) расстаться с человеком, превратившимся в дикого зверя. Но Туллия не сделала этого. Она принадлежала к женщинам, которые не отступают от однажды принятых решений, как бы тяжко ни приходилось. С житейской точки зрения подобные характеры можно назвать нелепыми, но в них есть нечто вызывающее восхищение. Именно такие люди дают возможность оценить красоту самопожертвования и показывают, какой моральной высоты способен достичь человек.
Поведение Лазара Черони вскоре принесло свои горькие плоды — в доме поселилась нужда. Иначе и не могло быть. За вино приходится платить, а, кроме того, когда человек пьянствует, он не зарабатывает. Получается двойной расход. Мало-помалу нужда перешла в нищету. Тогда-то Черони и вступили на путь всех отверженных — отправились в чужие края в надежде обрести лучшую жизнь под чужим небом. Так, не находя себе места ни в одной стране, они пересекли всю Францию, затем Атлантический океан, Америку и, наконец, добрались до Сан-Франциско. Скитания продолжались пятнадцать лет! В этом аду и выросла Грациэлла. С самого раннего детства она видела вечно пьяного отца и избитую мать. Ежедневно девочка присутствовала при диких выходках своего родителя, слышала потоки ругани, которые извергались из его уст, словно нечистоты из зловонного желоба. В том возрасте, когда другие дети не помышляют ни о чем, кроме игр, она уже столкнулась с грубой действительностью и — увы!— была вынуждена постоянно бороться с нуждой.
В шестнадцать лет Грациэлла превратилась в серьезную, рассудительную девушку. Благодаря раннему жизненному опыту и сильной воле она стойко переносила все невзгоды. Впрочем, каким бы безрадостным ни представлялось ей будущее, оно никогда не могло сравниться с ужасом прошлого. Высокого роста, худощавая, черноволосая Грациэлла не была красавицей, но большие глаза и ум, отразившийся в чертах лица, придавали ей удивительное обаяние.
В Сан-Франциско Лазар вдруг опомнился, и в нем заговорила совесть. Уступив мольбам жены — впервые за много лет! — муж дал обещание исправиться.
И сдержал слово. Начал усердно работать, забросил кабаки.
Прошло всего полгода, в семье не только появился достаток, но Черони даже смогли накопить нужную сумму, требуемую Обществом колонизации. Туллия снова поверила в возможность счастья, но… кораблекрушение «Джонатана» и неизбежное следствие катастрофы — вынужденное безделье — опять поставили будущее под угрозу.
Чтобы убить время, Лазар сошелся с другими эмигрантами, и, понятное дело, его симпатии оказались на стороне подобных ему субъектов. Те, также угнетаемые скукой, лишенные привычной выпивки, не преминули воспользоваться отсутствием человека, к которому все, не отдавая себе отчета, относились как к начальнику. Едва Кау-джер, в сопровождении своих спутников, ушел из лагеря, подозрительная компания завладела бочонком рома с «Джонатана» и устроила настоящую попойку. Лазар, подражавший новоявленным приятелям, не сумел проявить достаточной стойкости и вернулся домой, когда сознание затуманилось, а ноги стали заплетаться.
Едва переступив порог, Черони рассердился, что не готов ужин. Тотчас ему подали еду. Тогда его возмутили расстроенные лица обеих женщин, и, постепенно накаляясь, Лазар стал осыпать их отвратительной бранью.
Грациэлла, застыв на месте, с ужасом глядела на скотоподобное существо, в которое превратился ее отец. Стыд и горе затопили душу бедной девушки. Но Туллия не выдержала. Как? Опять рушились все их надежды? Снова начинается ад? Слезы фонтаном брызнули из глаз и потекли по увядшему лицу. Только этого не хватало, чтобы грянула буря.
— Я тебе покажу, ты у меня поревешь! — в бешенстве заорал Черони и схватил жену за горло.
Грациэлла бросилась на помощь матери, стараясь вырвать ее из рук отца.
События развивались почти в полной тишине. Лишь изредка слышалась глухая брань Лазара. Ни Туллия, ни Грациэлла не звали на помощь, считая позором избиение отцом дочери или мужем жены, что следует скрывать от посторонних даже ценой жизни. Но, когда изверг слегка ослабил хватку, Туллия издала хриплый крик, который и услышал Кау-джер.
Железная рука сдавила плечо пьяницы. Лазар, выпустив свою жертву, отскочил в другой конец палатки.
— Что такое?… В чем дело?…— пробормотал он.
— Молчать! — приказал властный голос.
Дважды повторять не пришлось. Возбуждение пьяницы мгновенно угасло, и он вскоре уснул мертвецким сном.
Туллия была без сознания. Кау-джер стал приводить ее в чувство. Хальг, Родс и Хартлпул с волнением наблюдали за его действиями.
Наконец женщина открыла глаза. Увидев чужие лица, она поняла, что произошло. Ее первой мыслью было выгородить мужа, проявившего такую гнусную жестокость.
— Благодарю вас, сударь,— произнесла она, приподымаясь.— Это пустяки… Все уже прошло. Я, глупая, так испугалась.
— Как тут не испугаться! — воскликнул ее защитник.
— Ничего страшного! — живо возразила Туллия.— Лазар совсем не злой… Он просто пошутил.
— И часто он так шутит? — осведомился Кау-джер.
— Такого, правда, еще не случалось,— решительно заявила женщина.— Лазар — прекрасный муж. И вообще добрейший человек…
— Неправда! — резко прервал ее чей-то голос.
Все обернулись и только теперь заметили Грациэллу. Девушка притаилась в темном углу палатки, скупо освещенном бледным огоньком коптилки.
— Кто вы, дитя мое? — спросил Кау-джер.
— Его дочь,— ответила та, показывая на пьяного, продолжавшего громко храпеть.— Мне очень стыдно, но я должна в этом признаться, чтобы вы мне поверили и помогли бедной маме.
— Грациэлла! — взмолилась Туллия, всплеснув руками.
— Я все скажу! — твердо заявила дочь.— Впервые у нас появились защитники. Они помогут нам.
— Говорите, девочка,— мягко произнес Кау-джер.— Можете рассчитывать на нашу поддержку и защиту.
Ободренная Грациэлла прерывающимся от волнения голосом поведала об их семейной драме. Ничего не утаив, она рассказала о преданной любви Туллии к мужу, описала постепенное падение отца и те мучения, которым он подвергал жену. Девушка вспомнила время черной нужды, когда они проводили целые дни без пищи, без огня, а иногда и без крова. Она воздала должное своей измученной матери, нежной и мужественной женщине, стойко переносившей жестокие испытания.
Туллия слушала и тихонько плакала. Все пережитые страдания снова выступили из мрака прошлого, напоминая о настоящем. Сердце ее больно сжалось. Она не протестовала — не хватало сил защищать своего палача.
— Вы хорошо сделали, девочка, что рассказали всю правду,— взволнованно произнес Кау-джер, когда Грациэлла кончила.— Будьте уверены, мы не оставим вас и поможем вашей матушке. Сегодня она нуждается только в покое. Пусть ляжет и постарается уснуть… в надежде на лучшее будущее.
Выйдя из палатки, мужчины молча переглянулись и глубоко вдохнули свежий воздух, словно избавляясь от удушья. Они уже собрались в путь, как вдруг Кау-джер заметил, что Хальг исчез.
Полагая, что юноша задержался у Черони, он возвратился в палатку. Хальг действительно находился там, не заметив, как ушли товарищи и как один из них вернулся. Стоя у входа, он смотрел на Грациэллу; на его лице были написаны и жалость, и искреннее восхищение. Девушка сидела в двух шагах от него и, опустив глаза, не без удовольствия позволяла себя рассматривать. Оба молчали. После пережитых потрясений их сердца охватило сладостное, волнующее чувство.
Кау-джер, улыбнувшись, тихо позвал:
— Хальг!
Юноша вздрогнул и тотчас же вышел. Вскоре они присоединились к остальным.
Четверо мужчин тронулись в путь, погруженные в свои мысли. Кау-джер, нахмурив брови, думал о случившемся. Самая большая услуга, которую можно было оказать этим женщинам, состояла в одном — лишить их мучителя спиртного. Возможно ли это? Несомненно, и даже легко осуществимо. На острове Осте вина не было, кроме привезенного на «Джонатане» и переправленного на сушу вместе с остальным грузом. Значит, достаточно одного-двух человек для охраны…
Прекрасно. Но кто назначит охрану? Кто осмелится здесь приказывать и запрещать? Кто присвоит себе право ограничивать свободу себе подобным и навязывать им свою волю? Ведь это значит поступить как тиран, а на острове Осте все были равны.
Равны? Ничего подобного! Власть уже обрела здесь своего представителя — человека, который повелевал другими. Разве не он спас всех от неминуемой гибели? Разве не он знал эту необитаемую землю? Разве не он превосходил всех умом, опытом и волей?
Подло обманывать самого себя. Кау-джер не мог не знать, что именно к нему обращены умоляющие взгляды несчастных, что именно ему поручили выполнить волю коллектива, именно от него ожидали помощи, советов, решений. Хотел он этого или не хотел, но уже нельзя было уклониться от ответственности, которую налагало на него их доверие. Независимо от его желания, он стал их вождем, избранным силой обстоятельств и по молчаливому уговору подавляющего большинства потерпевших кораблекрушение.
Как? Ему, свободолюбцу, человеку, неспособному перенести какое бы то ни было насилие, придется подчинять себе волю других людей? Указания и приказы будут исходить от того, кто отрицал любые законы? Какая ирония судьбы! Проповедника анархизма, приверженца знаменитой формулы «Ни Бога, ни властелина!» превратили в вождя и наградили неограниченной властью, тогда как он всем сердцем ненавидел самые ее основы!
Неужели согласиться! А не лучше ли бежать подальше от этих людей с рабскими душами?
Но что же тогда станет с ними, предоставленными самим себе? Сколько чужих бед ляжет на совесть отступника! Каждый вправе лелеять сокровенные мечты, но кто из-за принципа закрывает глаза на действительность, отрицает очевидность и не желает поступиться гордостью ради облегчения людских страданий, недостоин звания человека. Какие бы теории ни проповедовал Кау-джер, настало время отказаться от них. Этого требовало благо общества.
Разве мало этих веских доказательств? Только что он видел множество пьяных. А сколько еще осталось незамеченными! Можно ли терпеть злоупотребление алкоголем, что неизбежно приведет к распрям, дракам и даже убийствам? Впрочем, действие этого яда уже дало себя знать в семье Черони.
Путники подходили к палатке Родсов, где должны были расстаться, а лидер все еще колебался.
Но не такой это был человек, чтобы избегать ответственности. В самый последний момент, преодолев душевные муки, он принял окончательное решение. Обратившись к Хартлпулу, Кау-джер спросил:
— Как вы думаете, можно рассчитывать на преданность экипажа «Джонатана»?
— Ручаюсь за всех, кроме Кеннеди и Сердея-повара,— ответил боцман.
— Сколько у вас человек?
— Вместе со мною пятнадцать.
— Остальные четырнадцать подчинятся вам?
— Несомненно.
— А вы сами?
— Что — я?
— Есть ли здесь кто-нибудь, чью власть вы признаете?
— Конечно, есть, сударь. Вы,— ответил Хартлпул таким тоном, словно речь шла о само собой разумеющемся.
— Но почему я?
— Да как же, сударь…— растерялся тот.— Здесь, как и везде, кто-то должен управлять народом. Это ведь каждому ясно, черт возьми!
— Но почему именно я?
— Потому что больше некому,— твердо заявил боцман, подкрепив свои слова красноречивым жестом.
Такой убедительный довод нечем было опровергнуть.
После некоторого раздумья Кау-джер произнес повелительным тоном:
— С сегодняшнего вечера придется охранять имущество, выгруженное с «Джонатана». Ваши люди будут дежурить по двое. Задача: не разрешать никому приближаться к грузу. Особое внимание обратить на охрану спиртных напитков.
— Слушаюсь, сударь,— коротко ответил Хартлпул.— Будет исполнено. Через пять минут.
— Покойной ночи,— сказал Кау-джер и быстро удалился, недовольный собой и всем на свете.
Глава III В БУХТЕ СКОЧУЭЛЛ
«Уэл-Киедж» вернулась из Пунта-Аренаса 15 апреля. Едва завидев лодку, эмигранты высыпали на берег, сгорая от нетерпения скорее узнать о своей дальнейшей судьбе.
Люди разместились на берегу, следуя непреложным законам, управляющим любой толпой в любой части нашей далеко не совершенной планеты. Иначе говоря, самые напористые и грубые мужчины завладели лучшими местами — впереди, у самой воды. Женщин оттеснили назад, откуда они вообще ничего не видели, и им оставалось только оживленно и громко болтать, заранее обсуждая предстоящее известие. Дети, для которых все служит забавой, тоже примчались на берег. Самые маленькие, чирикая, как воробышки, резвились около толпы. Другие затесались в гущу эмигрантов и теперь не могли сдвинуться с места. Некоторым все же удалось пролезть в передние ряды и просунуть любопытные рожицы у ног взрослых. Наиболее шустрые оказались впереди всех.
Можно не сомневаться, что юный Дик находился среди ловкачей; причем, преодолев все препятствия сам, вдобавок притащил следом своего неразлучного Сэнда да еще одного мальчика, с которым они подружились за последнюю неделю, а им казалось давным-давно. Марсель Норели, их однолетка, вполне заслуживал дружбы хотя бы уже тем, что нуждался в покровительстве: у этого хилого ребенка с болезненным личиком правая парализованная нога была на несколько сантиметров короче левой. Но это ничуть не влияло на его веселый нрав и не мешало ему принимать горячее участие во всех играх. Удивительно ловко пользуясь костылем, он не отставал от других детей.
Пока переполошившиеся эмигранты сбегались на берег, Дик, а за ним Сэнд и Марсель пробрались в передние ряды и устроились впереди мужчин, которым были по пояс. Но, протискиваясь в толпе, они задели или толкнули кого-то из переселенцев. В частности, Фреда Мура, старшего из двух братьев, охарактеризованных Родсом как люди необузданные.
Фред Мур, рослый, крепко сколоченный парень, почувствовав, что его толкают, громко выругался. Это сразу же раззадорило Дика. Обернувшись к Сэнду и Марселю, он крикнул:
— Эй, вы! Осторожнее! Не толкайте этого джентльмена, тысяча чертей! Это вам ничего не даст! Мы ведь можем сзади смотреть поверх его головы.
Заявление, исходившее от крошечного человечка, показалось окружающим таким забавно-дерзким, что все разразились смехом. Здоровяк побагровел от злости.
— Молокосос! — презрительно бросил он.
— Благодарю за комплимент, ваша милость, хотя, признаться, у вас весьма невнятное произношение! — продолжал издеваться мальчуган. Фред Мур двинулся к нему, но соседи удержали парня, уговаривая не связываться с ребятами. Друзья, воспользовавшись этим, перекочевали на другое место, поближе к более покладистым людям.
— Ну подожди,— пригрозил ему вслед Мур,— я еще оборву тебе уши!
Дик, находясь на безопасной дистанции, смерил противника насмешливым взглядом.
— Для этого тебе понадобится лестница, старина! — заявил он с такой иронией, что все опять расхохотались.
Мур только пожал плечами. Дик, довольный, что за ним осталось последнее слово, перенес свое внимание на шлюпку, уже врезавшуюся форштевнем в прибрежный песок.
Причалив, Кароли спрыгнул в воду и укрепил якорь. Потом помог выйти пассажиру и ушел вместе с Хальгом и Кау-джером.
Говорят, что у огнеземельцев не развито чувство товарищества. Но в данном случае лоцман составлял счастливое исключение: даже в его взгляде, устремленном на сына и друга, сквозила любовь к ним обоим.
Его преданность белому человеку могла соперничать только с безграничной, но более сознательной привязанностью его сына к чужестранцу. Кароли был родным отцом Хальга, а их постоялец — духовным. Первый дал ему жизнь, второй развил в нем дремлющий интеллект.
Кау-джер отвечал молодому индейцу такой же любовью. Юноша стал единственной привязанностью, единственным существом, способным согреть его разочарованную душу.
Он не знал другой любви, кроме любви к этому ребенку, и альтруизма, общего, безликого, безусловного, всеобъемлющего, но которому скорее место в необъятном сердце Бога, чем в душе простого смертного. Может быть, именно оттого, что обычные люди имеют самое смутное представление об этой диспропорции, подобное чувство, несмотря на свою неземную красоту, лишь поражает, а не очаровывает их, и кажется совершенно нечеловеческим только потому, что превосходит их самих? Вполне возможно, что, чувствуя это своим обыкновенным сердцем, люди понимали, что на долю каждого приходится малая частичка любви, поделенной на всех, и что поэтому было бы гораздо приятнее, хотя и менее возвышенно, привязаться к отдельным личностям…
Пока трое друзей, обрадованных встречей, обсуждали между собой новости, эмигранты, столпившиеся вокруг Жермена Ривьера, сгорали от нетерпения узнать о результатах поездки. Со всех сторон сыпались вопросы, сводившиеся к одному: почему вернулась шлюпка, а не судно, чтобы взять на борт всех потерпевших кораблекрушение?
Оглушенный Жермен Ривьер поднял руку, требуя тишины. Затем, отвечая Гарри Родсу, единственному, кто задал разумный и краткий вопрос, рассказал о своем походе.
В Пунта-Аренасе он виделся с губернатором, господином Агире, который от имени чилийского правительства обещал помочь переселенцам. Но в данный момент в Пунта-Аренасе не было подходящего корабля, чтобы в один рейс забрать всех потерпевших. Оставалось запастись терпением, ведь эмигрантам пока ничто не угрожало — их обеспечили всем необходимым, по крайней мере, на полтора года.
Стало ясно: ждать придется долго. Осень только наступала. Было бы неблагоразумно посылать судно в такое время года без крайней нужды. В общих интересах следовало отложить возвращение до весны. Ну, а в начале октября, то есть через полгода, на остров Осте обязательно пришлют корабль.
Новость, передаваемая из уст в уста, немедленно стала известна всем. Она произвела на переселенцев ошеломляющее впечатление. Как? Им придется в течение шести долгих месяцев переносить жестокие холода в этой стране, где бессмысленно заниматься каким-нибудь делом, раз весной их увезут отсюда?
Шумная толпа сразу притихла. Все огорченно переглядывались. Потом общее уныние сменилось гневом. Губернатора Агире осыпали грубой бранью. Но, так как отвести душу было не на ком, ярость вскоре улеглась, и озадаченные эмигранты стали расходиться по своим палаткам.
Вдруг их внимание привлекла небольшая кучка людей, которая быстро разрасталась за счет проходивших мимо. Все машинально останавливались, не замечая, что сами примыкают к этой толпе, ipso facto[99] пополняя аудиторию Фердинанда Боваля. Оратор, решив, что настал подходящий момент, произносил с вершины скалы перед своими товарищами по несчастью новую речь. Как и следовало ожидать, убежденный анархист не выказал снисхождения ни к капиталистическому режиму вообще, ни к губернатору Пунта-Аренаса в частности. Последний, по его словам, являлся естественным продуктом буржуазного общества. Боваль красноречиво клеймил эгоизм этого чиновника, лишенного самой элементарной гуманности, беспечно обрекавшего несчастных людей на лишения и опасности.
Эмигранты слушали рассеянно. От его разглагольствований не становилось легче. Сейчас нужны были действия, а не слова. Но никто не знал, что предпринять. Опустив голову, бедняги мучительно искали выход из создавшегося положения.
Постепенно у этих отупевших от невзгод людей зрела одна и та же мысль. Кто-то ведь должен знать, что теперь делать. Быть может, человек, не раз выручавший их, снова придет на помощь? Они робко поглядывали в сторону Кау-джера, к которому уже направлялись Гарри Родс и Жермен Ривьер. Ни один из тысячи двухсот человек не решался взять на себя ответственность за настоящее и будущее. Казалось, проще всего опять обратиться к своему спасителю, к его самоотверженности и опытности. Это хотя бы избавит всех от мучительных раздумий.
Переселенцы по одному, по двое стали отходить от Фердинанда Боваля, и вскоре около него сиротливо топталось лишь несколько приспешников[100].
Гарри Родс в сопровождении Жермена Ривьера подошел к Кау-джеру, беседовавшему с двумя огнеземельцами, сообщил ему ответ губернатора Пунта-Аренаса, а заодно рассказал о волнениях и страхах пассажиров «Джонатана», обреченных на зимовку в антарктических условиях.
Кау-джер заверил их, что зима здесь менее сурова и менее продолжительна, чем в Исландии, Канаде и даже в северных районах Соединенных Штатов, а климат архипелага не хуже, чем в Южной Африке, куда направлялся корабль.
— Вашими устами да мед пить! — отозвался не без некоторого скептицизма Гарри Родс.— Но скажите, разве не лучше зазимовать на Огненной Земле, где все-таки можно найти хоть какое-нибудь убежище, чем на острове Осте, на котором ни единой живой души?
— Нет,— ответил Кау-джер.— Переход на Огненную Землю ничего не даст, потому что вы не сможете перевезти туда весь груз с «Джонатана». Надо оставаться на острове Осте, но как можно скорее перебраться в другое место.
— А куда?
— В бухту Скочуэлл, которую мы исследовали во время похода. Там нетрудно подыскать участок, удобный для постройки домов. Здесь же нет и дюйма[101] ровной поверхности.
— Как? — воскликнул Гарри Родс.— Вы советуете перетащить такой тяжеленный груз за две мили отсюда? И заняться настоящим строительством?
— Именно так,— подтвердил Кау-джер.— Бухта Скочуэлл расположена в прекрасном месте и защищена от западных и южных ветров, там протекает река, следовательно, не будет недостатка в питьевой воде. Что касается строительства, то я считаю его не только необходимым, но и безотлагательным. В этих краях очень высокая влажность. Прежде всего нужно оградить себя от сырости. Повторяю еще раз — время дорого. Зима может нагрянуть со дня на день.
— Вы должны сказать это остальным. Они лучше поймут, если вы сами обрисуете создавшееся положение.
— Предпочитаю, чтобы это сделали вы,— возразил Кау-джер.— Но я останусь в полном распоряжении всех, кому понадоблюсь.
Гарри Родс поспешил передать сказанное всем эмигрантам. К его крайнему удивлению, известие приняли лучше, нежели он думал. Пережитые разочарования так обескуражили людей, что они даже обрадовались предстоящей работе. К тому же нашелся смельчак, взявший на себя ответственность за ее результаты. Ну, а все остальное довершила присущая людям способность надеяться и верить в лучшее будущее. Эмигрантам казалось, что любые перемены помогут сохранить жизнь, а переселение в бухту Скочуэлл станет чудесным избавлением от грозящих бед.
Но с чего начать? Как организовать переноску грузов на расстояние двух миль вдоль скалистого, почти непроходимого берега? С общего согласия Родс снова обратился к Кау-джеру с просьбой помочь наладить работы, которые тот считал первоочередными.
Тот не заставил себя упрашивать, и под его руководством все принялись за дело.
Сначала создали некое подобие дороги на участках, недоступных прибою: выровняли почву около самых больших каменных глыб, убрали мелкие камни. 20 апреля, закончив подготовительные работы, приступили к переноске груза.
Для этого использовали плоты, уже послужившие однажды. Их разделили на несколько частей и подложили под них вместо колес очищенные и обтесанные древесные стволы. Таким образом получились примитивные повозки, в которые впряглись все эмигранты — мужчины, женщины, даже дети. И вскоре длинная вереница растянулась у самой воды, между отвесными скалами и морем. Зрелище было поистине любопытным! А какими лихими возгласами подбадривали себя тысяча двести запыхавшихся тружеников!
Большую помощь оказала шлюпка. В нее грузили наиболее тяжелые или самые хрупкие предметы, и Кароли с сыном непрерывно курсировали между местом кораблекрушения и бухтой Скочуэлл. Это значительно ускорило переброску груза и оказалось как нельзя более кстати, ибо не раз приходилось прекращать работу из-за непогоды. Начались штормы — предвестники близкой зимы. И переселенцы часто укрывались в палатках, выжидая затишья.
Кау-джер не только советовал и ободрял всех, но сам подавал людям пример. Он вечно был в движении: то возглавлял транспортную колонну, то помогал эмигрантам словом и делом. Они с удивлением наблюдали за этим неутомимым человеком, добровольным участником их тяжелого труда, ведь ничто не мешало ему уйти так же, как пришел.
Но он не помышлял об этом, весь отдавшись выполнению долга, уготованного ему судьбой. Одно сознание того, что люди очутились в беде, сближало Кау-джера с ними, а возможность помочь вызывала у него чувство глубокого удовлетворения.
Но не все потерпевшие кораблекрушение проявили такую же силу духа. Кое-кто помышлял о бегстве с острова. Захватить шлюпку, поднять парус и отправиться в страну с более мягким климатом не составляло особых трудностей. Других лодок, кроме «Уэл-Киедж», на острове не имелось. Преследования можно было не опасаться. Удивительно, как это никому не пришло в голову раньше.
Мешала, видимо, постоянная охрана «Уэл-Киедж». Днем на ней работали Кароли и Хальг, а ночью оба индейца со своим другом спали в лодке. Злоумышленникам приходилось выжидать удобного случая.
Он представился 10 мая. В этот день Кау-джер, вернувшись из бухты Скочуэлл, заметил на берегу обоих огнеземельцев, отчаянно размахивавших руками. «Уэл-Киедж» метрах в трехстах от берега неслась на всех парусах в открытое море. На борту ее находилось четверо мужчин, которых издали невозможно было разглядеть.
В нескольких словах Кароли и Хальг сообщили Кау-джеру о том, что произошло: воспользовавшись их кратковременным отсутствием, воры вскочили в лодку и вышли в море. Когда кражу шлюпки обнаружили, было уже поздно.
Все вернувшиеся из нового лагеря собрались около троих друзей. Беспомощные и обезоруженные эмигранты молча следили за лодкой, грациозно скользившей по волнам. Для переселенцев ее похищение было равносильно несчастью: они лишались возможности ускорить перевозку груза, и вместе с тем рвалась последняя связь с остальным миром. Что же касается владельцев «Уэл-Киедж», то для них это было настоящей катастрофой.
Тем не менее Кау-джер ничем не выказал гнева, переполнявшего его сердце. Как всегда невозмутимый, замкнутый, с бесстрастным лицом, он провожал взглядом шлюпку, пока та не исчезла за выступом прибрежной скалы, после чего обернулся к окружающим и спокойно распорядился:
— За работу!
И все снова с ожесточением начали трудиться. Приходилось спешить — зима была не за горами.
К счастью, кража произошла не в первые дни переезда, иначе все затянулось бы надолго. Теперь же, 10 мая, доставка груза была почти закончена, и требовалось совсем немного для благополучного конца.
Переселенцев восхищало спокойствие Кау-джера. Он ни в чем не изменил своего поведения, оставался таким же добрым и самоотверженным, как прежде.
К концу того же дня, 10 мая, произошло еще одно событие, также способствовавшее укреплению авторитета лидера.
Когда он помогал тащить повозку с несколькими мешками семян, вдруг послышался отчаянный вопль. Бросившись на крик, Кау-джер увидел мальчика лет десяти, лежавшего на земле и жалобно стонавшего. Малыш сказал, что он упал со скалы, повредил ногу и не может подняться. Несколько эмигрантов суетились рядом и громко давали не слишком разумные советы по поводу случившегося. В скором времени появились родители ребенка, их слезливые причитания усилили общий переполох.
Кау-джер решительным тоном потребовал тишины и приступил к осмотру пострадавшего. Окружавшие внимательно следили за его действиями, восхищаясь уверенностью и ловкостью. Кау-джер быстро определил перелом бедра и умело соединил кости. Затем при помощи щепок, заменивших лубки[102], и кусков материи вместо бинта он обеспечил ноге полный покой.
После чего утешил родителей, заверив, что все обойдется: перелом не тяжелый, никаких осложнений не предвидится, через два месяца от травмы не останется и следа. Понемногу мать с отцом успокоились, а когда, после перевязки, сын заявил, что ему уже не так больно, окончательно уверовали в целителя. На самодельных носилках мальчика перенесли в бухту Скочуэлл.
После этого события, получившего широкую огласку, эмигранты стали относиться к Кау-джеру с особым уважением. Поистине он оказался добрым гением потерпевших кораблекрушение. Его услуги и помощь были неоценимы. Постепенно все привыкли надеяться на него, и одно присутствие этого человека вселяло покой и уверенность в сознание переселенцев.
В тот же вечер наскоро произвели расследование кражи «Уэл-Киедж». Полученные у такой разношерстной толпы сведения оказались весьма скудными. Во всяком случае, отсутствие в течение целого дня четырех эмигрантов дало основание для подозрений. Двое из них принадлежали к экипажу «Джонатана» — повар Сердей и матрос Кеннеди. Остальные двое, выдававшие себя за рабочих, были Ферстер и Джексон. О них и раньше ходили дурные слухи.
На следующее утро Кеннеди и Сердей, как ни в чем не бывало, вышли на работу, хотя и казались совершенно разбитыми от усталости. Сердей едва держался на ногах, лицо у него было в глубоких ссадинах.
Хартлпул, давно приглядывавшийся к этому субъекту, искренне презирал его. Он резко остановил попавшегося навстречу повара:
— Где ты пропадал вчера, кок?[103]
— Пропадал? — лицемерно удивился Сердей.— Да там же, где и каждый день.
— Почему же тебя никто не видел, мошенник? Не заблудился ли ты, часом, где-нибудь на шлюпке?
— На шлюпке? — переспросил Сердей с непонимающим видом.
— Хм…— раздраженно промычал Хартлпул.— Можешь объяснить, где это тебя так разукрасило?
— Упал,— спокойно ответил Сердей,— и так расшибся, что вряд ли смогу сегодня таскать тяжести. Еле хожу.
Хартлпул сердито хмыкнул и, чувствуя, что от этого лживого типа ничего не добьешься, ушел.
А Кеннеди вообще не дал никакого повода для допроса. Хотя и был бледен как полотно и явно чувствовал себя неважно, но молча выполнял всю необходимую работу.
Итак, 11 мая, в обычное время, все приступили к переноске груза, не раскрыв тайны исчезновения лодки. Но эмигрантов, явившихся первыми в бухту Скочуэлл, ожидал «сюрприз»: на берегу, у самого устья реки, лежали два трупа — Джексона и Ферстера. Около них торчала наполовину погруженная в воду и занесенная песком «Уэл-Киедж» с пробитым дном.
Теперь нетрудно было восстановить ход вчерашних событий. Едва выйдя за пределы бухты, неумело управляемая лодка наскочила на рифы. Образовалась течь, и отяжелевшая шлюпка пошла ко дну. Из четырех находившихся в ней людей Кеннеди и Сердею удалось добраться до острова, а Джексон и Ферстер погибли, и первый же прибой выбросил на берег их тела вместе с покалеченной «Уэл-Киедж».
Внимательно осмотрев ее, Кау-джер нашел, что остов лодки вполне можно использовать. Правда, борта сильно пострадали, но шпангоуты[104] оказались почти все целы, а киль вообще не был поврежден. Разбитую шлюпку вытащили за линию прибоя и оставили здесь, чтобы починить при первой возможности.
Перевозка груза закончилась 13 мая. Сразу же, не теряя времени, взялись за возведение сборных домов. Конструкция их была чрезвычайно удобна, так что здания росли прямо на глазах. Едва заканчивали постройку очередного дома, как он сразу же заселялся, причем всякий раз дело доходило до крупных столкновений, ибо для тысячи двухсот человек домов не хватало. Только две трети эмигрантов могли рассчитывать на жилье. Естественно, людям приходилось как-то добиваться крыши над головой, даже с помощью кулаков. Те мужчины, которых природа не обидела силой, с самого начала захватили отдельные элементы зданий и не давали их остальным. Все же им пришлось уступить численному превосходству и войти в соглашение с теми, кого на первых порах хотели выбросить вон. Так, на основе применения физической силы, произошел своеобразный отбор второй очереди, и выявился состав «избранных». Когда наконец дома были уже переполнены и обитатели их могли успешно противостоять натиску бесприютных, стало ясно, что эти последние действительно остались без крова.
Таким образом, примерно пятистам потерпевшим кораблекрушение мужчинам, женщинам и детям пришлось довольствоваться палатками. Среди них мужчины составляли меньшинство. Это были отцы семейств или мужья, которым пришлось разделить участь своих близких. С ними находились Кау-джер и его друзья-индейцы, не боявшиеся ночевок под открытым небом, а также члены экипажа «Джонатана», приученные Хартлпулом стойко переносить лишения. Эти славные люди подчинились без малейшего ропота, даже Сердей и Кеннеди, после происшествия с лодкой являвшие пример необычайного усердия и послушания. В числе «бездомных» находились Джон Рам и Фриц Гросс, не участвовавшие в борьбе из-за физической слабости, а также семья Родса, считавшего для себя низким прибегать к силе.
Итак, пятьсот человек разместились в палатках. Поскольку большая часть эмигрантов перебралась в дома, оставшиеся палатки сделали двойными. Прослойка воздуха между парусиновыми стенками удерживала тепло, так что эти примитивные жилища оказались довольно сносными.
Едва переселенцы устроились, как 20 мая на остров Осте обрушилась зима (к счастью, запоздавшая в этом году). Разразилась грандиозная снежная буря. В несколько минут землю окутал плотный белый саван, из-под которого торчали деревья, покрытые инеем. На следующий день сообщение между отдельными участками лагеря оказалось почти невозможным.
Но эмигранты были защищены от лютых холодов. Укрывшись в домах или палатках, греясь перед ярким пламенем очагов, люди больше не боялись зимовки в холодном антарктическом климате.
Глава IV ЗИМОВКА
Две недели свирепствовала пурга. Снег валил густыми хлопьями. Все это время эмигранты почти не выходили наружу.
Вынужденное заточение особенно огорчило «счастливчиков», попавших в сборные дома. Строения были лишены элементарных удобств. Поначалу переселенцы, соблазненные не столько видом, сколько самим названием «дом», жаждали поселиться именно в них, что создало неимоверную скученность. Жилища превратились в настоящие ночлежки, где прямо на полу, впритык, лежали соломенные тюфяки. Эти же помещения в дневные часы служили общими комнатами и кухнями. Такая теснота неизбежно приводила к вынужденной близости, не способствовавшей чистоте и поддержанию добрососедских отношений. В домах, заваленных снегом, люди изнывали от скуки и безделья, что вело к явным ссорам.
Жители палаток, слабо защищавших от холода, оказались отчасти в лучшем положении, ибо располагали большей площадью. Некоторые семьи, в частности, Родсы и Черони, а также пять неразлучных японцев, даже занимали отдельные палатки.
Никто не планировал строительство поселка, поэтому жилища располагались где попало, и лагерь больше напоминал скопище хаотично разбросанных строений, проложить между которыми улицы было крайне затруднительно.
Впрочем, это не имело особого значения — ведь селение было временным, и весной эмигранты снова отправятся на поиски новой родины и новых злоключений.
Лагерь раскинулся на правом берегу реки, текущей с запада. В одном месте она подходила к самому поселку, потом изгибалась в противоположном направлении и через три километра, на северо-западе, впадала в море. Крайнее здание стояло на самом берегу. Еще в начале строительства один эмигрант, по имени Паттерсон, втихомолку завладел крошечным сборным домиком, в котором могло разместиться только три человека. А чтобы никто не претендовал на его жилище, предложил поселиться вместе еще двум эмигрантам. Выбор Паттерсона был не случаен: не обладая достаточной физической силой, он вполне разумно избрал в соседи мужчин атлетического сложения, способных отстоять их собственность.
Оба были американцами. Одного звали Блэкер, другого — Лонг. Первый — двадцатисемилетний крестьянин, довольно веселого и общительного нрава — отличался невероятной прожорливостью. Постоянный, болезненный голод усложнял ему жизнь, ибо вечная нужда не способствовала снижению его аппетита. Эти муки терзали Блэкера с самого рождения, в конце концов он решил эмигрировать, надеясь в Африке наесться досыта. Второй — кузнец, тупой детина с могучими бицепсами, крепкий и податливый, как железо в горне[105],— представлял послушное орудие в руках хозяина дома.
Сам же Паттерсон покинул родину вовсе не из-за крайней нищеты, а от страсти к наживе. Судьба поступала с ним и жестоко и милостиво. Он родился в бедности и вел одинокую жизнь, скитаясь по родной Ирландии. По своей натуре был стяжателем, стремившимся приобрести то, чего был лишен с детства. К двадцати пяти годам ирландцу удалось поднакопить деньжонок. Его не пугали ни изнурительная работа, ни суровые лишения. Не брезговал он эксплуатацией своих ближних. Но Паттерсон выбивался в люди с величайшим трудом, лишь настойчивость, изворотливость и постоянное самоограничение помогали ему достигать своей цели. Однажды до него дошли слухи, что в Америке человек без предрассудков может запросто нажить целое состояние. Наслушавшись всяких небылиц, он стал мечтать только о Новом Свете и решил отправиться на поиски счастья. При этом Паттерсон и не собирался следовать по пути сказочных миллиардеров, вышедших, подобно ему, из низов. Нет, он ставил перед собой более скромную и вполне достижимую цель — увеличить свои сбережения в более короткий срок, чем на родине.
Едва ступив на американскую землю, Паттерсон увидел заманчивую рекламу Общества колонизации бухты Лагоа. Поверив соблазнительным обещаниям, он решил, что там-то и найдет девственную почву, где его небольшой капитал принесет богатый урожай. Вместе с тысячью других эмигрантов ирландец отплыл в Африку.
Надежды его не осуществились. Однако Паттерсон был не из тех, кто падает духом. Несмотря на кораблекрушение, он упорно продолжал отыскивать пути к богатству.
С помощью Блэкера и Лонга выстроил домик у самой реки,— в единственном месте, где имелся спуск к воде. Выше по течению берег сразу же круто подымался вверх, переходя в отвесную скалу высотой метров пятнадцать, а ниже, за небольшой поляной, у края которой стояло их жилище, берег обрывался, и река, устремляя свои воды на этот своеобразный порог, превращалась в водопад. Между водопадом и морем тянулось непроходимое болото.
Другие строения расположились в живописном беспорядке параллельно морскому берегу, но между ними и океаном была непролазная топь. Кау-джер поселился в индейской хижине, сооруженной Кароли и Хальгом. Только человек, не боявшийся сурового климата, мог довольствоваться этим примитивным жилищем из ветвей и травы. Зато оно находилось в очень удобном месте — как раз на противоположном берегу реки, у самого причала «Уэл-Киедж». Это давало им возможность использовать малейшие проблески хорошей погоды для починки лодки.
Во время первого натиска зимы, продолжавшегося две недели, не было и речи о ремонтных работах. Тем не менее Кау-джер в сопровождении Хальга ежедневно переходил легкий мостик, наведенный Кароли, и навещал поселенцев.
Дел хватало. Несколько эмигрантов, заболевшие с наступлением холодов, обратились к нему за помощью. После успешного лечения мальчика, сломавшего ногу, репутация Кау-джера как врача установилась прочно. Перелом быстро срастался, и, вне сомнений, предсказание «хирурга» о полном восстановлении функции ноги подтвердится.
После «врачебного» обхода Кау-джер заходил в палатку Родсов и подолгу беседовал с ними. Он все больше и больше привязывался к этому семейству. Ему нравился добродушный характер жены и дочери Гарри, самоотверженно выполнявших роль сиделок возле больных эмигрантов. Он высоко ценил здравомыслие и приветливый нрав самого хозяина. Вскоре между обоими мужчинами зародилась настоящая дружба.
— Приходится только радоваться,— сказал однажды Родс,— что негодяи разбили лодку. Не случись этого, вы покинули бы нас, как только все устроилось с жильем. А теперь, вы — наш пленник.
— Тем не менее мне придется уехать,— ответил Кау-джер.
— Но не раньше весны. Здесь столько больных, которых некому лечить, кроме вас.
— Да, не раньше весны. Но когда за вами пришлют корабль, ничто не воспрепятствует моему отъезду.
— Вы вернетесь на Исла-Нуэва?
Кау-джер сделал неопределенный жест. Да, его дом находится там, где он прожил долгие годы. Но вернется ли он туда? Ведь причины, изгнавшие его с острова, не исчезли. Исла-Нуэва, бывший когда-то свободной территорией, отныне подчинялся Чили…
— Если бы я даже и захотел уехать,— сказал Кау-джер, стремясь перевести разговор на другую тему,— думаю, что мои товарищи не разделят этого желания. Во всяком случае, Хальгу будет жаль расстаться с островом Осте. А может быть, он и вообще откажется уехать.
— Почему? — удивилась госпожа Родс.
— По очень простой причине. Боюсь, что он имел несчастье влюбиться.
— Вот так несчастье! — засмеялся Гарри.— Ему по возрасту положено влюбляться.
— Я не отрицаю,— продолжал Кау-джер.— Но мальчик будет чрезвычайно огорчен, когда настанет день разлуки.
— Но зачем же Хальгу расставаться с любимой? — спросила Клэри, которую, как всякую девушку, интересовали сердечные дела.— Ведь они могут пожениться.
— Во-первых, она — эмигрантка и никогда не согласится остаться на Магеллановой Земле. А во-вторых, я не представляю себе Хальга в одной из ваших цивилизованных стран.
— Вы говорите — эмигрантка? — переспросил Гарри.— Уж не Грациэлла ли, дочь Черони?
— Я видел ее несколько раз,— вмешался в разговор Эдуард Родс.— Она очень мила.
— Так, значит, это она? — улыбнулась хозяйка.
— Да. В тот день, когда мы приняли участие в ее семейных делах, я заметил, какое сильное впечатление произвела Грациэлла на Хальга. Он был просто потрясен. Вы ведь знаете, как несчастны эта девушка и ее мать, а от жалости до любви — один шаг.
— Мне кажется, что вызвать жалость — это наилучший способ внушить любовь,— заметила госпожа Родс.
— Как бы там ни было, с тех пор Халы весь отдался своему чувству. Трудно представить себе, насколько он изменился! Приведу пример. Щегольство отнюдь не свойственно обитателям Магеллановой Земли. Несмотря на холодный климат, они ходят совершенно обнаженными. Хальг, смущенный остатками цивилизации в виде моего костюма, согласился прикрываться шкурой тюленя или гуанако, из-за этого у своих соплеменников считается франтом. А теперь он отыскал в поселке парикмахера и постригся. Первый огнеземелец, проявивший такую заботу о своей внешности. Это не все. Не знаю, каким образом он раздобыл настоящий европейский костюм, и впервые стал выходить из дому в одежде и башмаках, которые, мне кажется, очень стесняют его. Кароли просто растерялся от таких перемен, но мне понятно, в чем тут дело.
— Такое старание трогает сердце Грациэллы? — осведомилась госпожа Родс.
— Не знаю,— ответил Кау-джер,— но, судя по ликующему виду, полагаю, что дела Хальга идут успешно.
— Неудивительно,— заявил Гарри,— ваш молодой друг — красивый юноша.
— Согласен, он недурен собой, но его внутренние качества еще лучше. Это смелый, умный и самоотверженный молодой человек с добрым сердцем.
— Он ваш воспитанник? — спросила хозяйка.
— Можно сказать — сын,— уточнил гость.— Я люблю его не меньше, чем отец. Потому и переживаю за него. Ведь вряд ли что из этого выйдет, кроме страданий.
Предположения Кау-джера соответствовали истине. Между молодым индейцем и Грациэллой зарождалась взаимная симпатия. С той минуты, когда Хальг впервые увидел девушку, он все время думал только о ней и каждый день навещал палатку Черони. Зная о семейной драме итальянцев, юноша с обычной находчивостью влюбленных сумел использовать ситуацию. Под предлогом оказания помощи и защиты он проводил с обеими женщинами долгие часы. Все они свободно владели английским, что позволяло им говорить на любые темы.
Хальг еще раньше усвоил английский и французский, а теперь усердно посещал семью Черони под предлогом изучения итальянского языка.
Девушка быстро разгадала подлинную причину такого рвения к занятиям, но чувство, внушенное ею молодому индейцу, скорее забавляло, чем льстило ей. Хальг, с его длинными прямыми волосами, слегка приплюснутым носом и темной кожей, казался Грациэлле существом другой породы. По ее своеобразной классификации обитатели нашей планеты делились на две категории — люди и дикари. Хальг считался дикарем, следовательно, к нему нельзя было относиться как к человеку. Всякий компромисс исключался. Ей даже в голову не приходила мысль о возможной какой-либо связи между дикарем, едва прикрытым звериной шкурой, и ею, итальянкой, существом высшего порядка.
Но постепенно Грациэлла привыкла к чертам лица и к скромной одежде своего робкого поклонника и увидела в нем такого же юношу, как все остальные. Правда, и Хальг прилагал огромные усилия, чтобы понравиться девушке. В один прекрасный день он предстал перед Грациэллой подстриженным, с великолепной прической на пробор. Вскоре в своем рвении Хальг пошел еще дальше — явился одетым по-европейски. Он приобрел брюки, фуфайку, башмаки на толстой подошве — полный комплект! Конечно, одежда его была простая и грубая, но юноша придерживался иного мнения и, с удовольствием рассматривая свое изображение в осколке зеркала, казался себе образцом элегантности.
А сколько уловок потребовалось ему, чтобы отыскать человека, согласившегося стать парикмахером, а также раздобыть этот «превосходный» костюм! Труднее всего было найти одежду, и поиски ее вряд ли увенчались успехом, если бы юному индейцу не удалось войти в сношения с Паттерсоном.
Ирландец торговал всем, чем угодно, и никогда не упускал возможности подзаработать. Если в данный момент он не имел того, что нужно, то всегда умудрялся раздобыть необходимую вещь через кого-нибудь, попутно получая законные, по его мнению, комиссионные. Итак, Паттерсон достал для Хальга костюм, на что ушли все сбережения юноши.
Но тому было не жалко. Жертва вполне окупилась. Отношение к нему Грациэллы резко улучшилось: Хальг перестал быть дикарем и превратился в человека.
С этой минуты события стали разворачиваться с неимоверной быстротой. Любовь расцвела буйным цветом в сердцах молодых людей. Гарри Родс сказал правду: Хальг, если не принимать во внимание особенности его расы, был действительно красивым парнем. Высокий, сильный, привыкший к жизни на вольном воздухе, он отличался той благородной осанкой, для которой характерны мягкие и пластичные движения. Благодаря урокам Кау-джера молодой индеец обладал высокоразвитым интеллектом. Черты его лица выражали доброту и искренность. Всего этого вполне хватало, чтобы тронуть сердце девушки.
С того самого дня, когда Хальг и Грациэлла, даже не обменявшись ни единым словом, почувствовали себя сообщниками, время полетело стремительно. Какое значение имели для них бури и морозы? Непогода придавала особую прелесть их встречам, так что влюбленные не только не мечтали о весне, а, наоборот, страшились ее прихода, предвещавшего разлуку.
Но все же она наступила. Остальные эмигранты радовались каждому весеннему дню. Лагерь ожил, как по мановению волшебной палочки. Дома и палатки опустели. Мужчины, потягиваясь, расправляли онемевшее за время долгого заточения тело, а кумушки, спеша расширить круг слушателей, шныряли по соседям в поисках новых приятельниц. Следует заметить, что дружба между женщинами, прожившими бок о бок хотя бы две недели,— вещь невозможная!
Кароли вместе с плотниками, однажды уже помогавшими ему, использовал каждый погожий день для ремонта лодки. Но, поскольку погода часто менялась, шлюпку спустили на воду только через три месяца.
Кау-джер тем временем отправился на охоту с собакой Золом. Ему хотелось добыть свежего мяса для своих друзей и для больных эмигрантов. Хотя на архипелаге случались лютые морозы и снег покрывал равнины, а сверкающий лед увенчивал вершины гор, животных на острове было в достатке.
Вернувшись, Кау-джер принес не только изрядное количество дичи, но и известия о четырех семьях — Ривьерах, Джимелли, Гордонах и Ивановых, обосновавшихся на расстоянии нескольких лье от лагеря.
Трое, кроме Ривьера, сопровождали когда-то своего спасителя и Гарри Родса во время обследования острова, а первый ездил в Пунта-Аренас делегатом от эмигрантов. После его возвращения четыре семьи решили поселиться вместе. Славные, здоровые, уравновешенные и трудолюбивые люди, далекие от скаредности Паттерсона и расточительности Джона Рама, были земледельцами и жили одними интересами. Труд являлся первой необходимостью для самих фермеров, их жен и детей. Они просто не умели проводить время в праздности.
Именно по этой причине они и решили уехать из бухты Скочуэлл. Еще во время разгрузки «Джонатана», когда рубили деревья для плотов, Ривьера поразили богатейшие девственные леса острова. Он снова вспомнил о них в Пунта-Аренасе, когда узнал, что придется полгода прожить здесь. Ему пришла мысль использовать это обстоятельство для организации лесных разработок. Ривьер приобрел необходимое оборудование и перевез на шлюпке. Будущее предприятие обещало быть прибыльным — леса никому не принадлежали, следовательно, древесина становилась бесплатной. Существовала проблема транспортировки, но Ривьер полагал, что она разрешится сама собой и тес удастся выгодно сбыть.
Своими планами он поделился с Джимелли, Гордоном и Ивановым, с которыми сдружился еще на «Джонатане». Оказалось, у них были почти аналогичные замыслы. Во время похода по острову с Кау-джером эмигранты успели оценить плодородные почвы. Почему бы одному из них не заняться скотоводством, а двум другим — земледелием? Если через полгода результаты окажутся благоприятными, ничто не заставит их уехать. Магальянес или Африка — не все ли равно, в какой стране жить, если это не родина! А в случае неудачи… ну что ж, будет затрачен только труд — это неисчерпаемое богатство людей, обладающих сильными руками и мужественным сердцем. Они предпочли поработать шесть месяцев впустую, лишь бы не болтаться без дела. Обрабатывая даже самую бесплодную почву, можно хотя бы сохранить здоровье…
Четыре семьи, состоявшие из деловых мужчин, хозяйственных женщин, рослых, здоровых сыновей и дочерей, имели все данные, чтобы преуспеть там, где других ожидала неудача. Приняв окончательное решение и заручившись согласием и помощью Кау-джера и Хартлпула, они приступили к его реализации.
Пока остальные переселенцы занимались переноской груза в бухту Скочуэлл, эти семьи деятельно готовились к отъезду. Они соорудили повозку на деревянных осях со сплошными колесами, конечно, весьма примитивную, но зато вместительную и прочную. Туда погрузили провизию, семена злаков и овощей, сельскохозяйственные орудия, предметы домашнего обихода, оружие и порох — короче говоря, все необходимое для устройства на новом месте. Захватили с собою и домашнюю птицу, а Гордоны, решившие заняться скотоводством, добавили кроликов и несколько пар рогатого скота, свиней и овец. Заложив, таким образом, основу будущего хозяйства, они отправились на север в поисках подходящего для поселения участка.
Такое место нашлось в двенадцати километрах от бухты Скочуэлл. Это обширное плоскогорье, ограниченное с запада густыми лесами, а с востока — долиной, где протекала быстрая река. Пойма, поросшая густой травой, представляла собой великолепное пастбище. Плоскогорье же было покрыто толстым слоем чернозема, который после корчевки и вспашки сулил прекрасный урожай.
Колонисты сразу принялись за дело. Прежде всего построили из бревен четыре маленькие фермы, рассудив, что лучше хорошенько попотеть, но обеспечить каждую семью отдельным домом. Это залог добрых отношений в будущем.
Непогода, снег и холод не задержали строительства — ко времени прибытия Кау-джера дома уже были закончены, и Ривьеры устанавливали колесо с лопастями у водопада, по которому предполагали сплавлять деревья. Джимелли и Ивановы расчищали землю, готовясь к весенней пахоте. Гордоны уже устроили просторные загоны для скота.
Кау-джер был просто восхищен этими целеустремленными людьми. Он считал, что, если старания тружеников окажутся напрасными, их творческая активность все равно выше унылой пассивности других эмигрантов.
Последние, словно дети, радовались солнцу, пока оно светило; но лишь небо затягивалось тучами, снова прятались в свои убежища, выходя из дома только в ясную погоду. В течение месяца редко выдавались хорошие дни. Наступило 21 июня — день зимнего солнцестояния в Южном полушарии.
За это время, проведенное в бухте Скочуэлл, взаимоотношения эмигрантов заметно изменились. Ссоры или новые симпатии вызвали переселение среди обитателей сборных домов. Определились отдельные группировки, как маленькие островки на водной глади.
Одна из них состояла из Кау-джера, обоих огнеземельцев, Хартлпула и семейства Родсов. К ним тяготел экипаж «Джонатана», включая Дика и Сэнда.
Во вторую группу входили люди тоже спокойные и серьезные — четверо рабочих, законтрактованных Обществом колонизации: Смит, Райт, Лоусон, Фок и пятнадцать рабочих, отправившихся в Африку на свой страх и риск.
Третье объединение состояло из японцев, живших в молчаливом и таинственном уединении.
Лидером четвертой группы являлся Фердинанд Боваль. Этот пылкий оратор, подобно магниту, притягивал к себе около полусотни эмигрантов. Из них пятнадцать — двадцать были рабочие, остальные — земледельцы. Пятую, немногочисленную, кучку возглавлял Льюис Дорик. Перед ним особенно раболепствовали матрос Кеннеди, повар Сердей и еще пять-шесть человек, которые выдавали себя за рабочих, хотя больше напоминали профессиональных преступников. К этому воинствующему ядру присоединялись, скорее пассивно, чем активно, Лазар Черони, Джон Рам и еще с десяток безвольных алкоголиков — марионеток, пляшущих под дудку сильных.
В шестую, и последнюю, фракцию входило большинство переселенцев, также подразделявшихся на множество мелких ячеек, в зависимости от личных симпатий и антипатий, но в целом объединенных полнейшим равнодушием ко всему на свете.
Все остальные были одиночки — такие, как Фриц Гросс, дошедший до последней степени отупения, братья Муры, которые из-за буйного нрава не могли ни с кем дружить больше трех дней, Паттерсон, ведущий замкнутую жизнь вместе с двумя своими приспешниками, Блэкером и Лонгом, и вступавший в контакт только с теми, от кого можно получить выгоду.
Из всех партий, если такое определение не покажется слишком претенциозным[106], группа Льюиса Дорика лучше других сумела использовать сложившуюся обстановку.
Сам он жил согласно своим принципам. Когда позволяла погода, охотно посещал чужие дома и палатки. Под предлогом, что частная собственность — аморальное понятие и что все принадлежит всем и ничего — каждому, он завладевал лучшим местом у огня и бесцеремонно присваивал все вещи, которые ему приглянулись. Чутьем Дорик угадывал тех, кто мог дать отпор. С ними он не связывался. Но зато слабых, нерешительных и глупых людей бывший преподаватель грабил без зазрения совести. Несчастные эмигранты, буквально терроризированные невероятной наглостью и повелительным тоном политикана-грабителя, безропотно позволяли обирать себя до нитки. Достаточно было Дорику уставиться на них своим холодным пристальным взглядом, как у тех слова застревали в горле. Никогда еще этот субъект не имел подобного успеха. Для него остров Осте стал настоящей землей обетованной!
Справедливости ради стоит заметить, что он не отказывался применять свою теорию и в отношении самого себя. Если Дорик бессовестно отнимал чужое, то он во всеуслышание заявлял, что и другие вправе брать все, что принадлежало ему. Такое великодушие казалось тем поразительнее, что сам он абсолютно ничего не имел. Хотя… судя по тому, как развивались события, можно предположить, что его материальное положение должно измениться.
Последователи Дорика шли по его стопам. Не будучи столь ловкими вымогателями, они стремились не отставать от своего учителя. Еще немного усилий — и к концу зимы общественное имущество перешло бы во владение этих ярых противников частной собственности.
Кау-джер знал о злоупотреблениях и удивлялся странному применению принципов свободы и равенства. Воспрепятствовать тирании Дорика? Но по какому праву стал бы он вмешиваться? На каком основании мог защищать одних людей (которые даже не просили о помощи!) от других им подобных?
Кроме всего, у него хватало и собственных дел. Чем дольше тянулась зима, тем больше становилось больных, и Кау-джер был не в силах справляться один. 18 июня от воспаления легких умер пятилетний ребенок. Это была третья смерть, посетившая остров Осте после кораблекрушения «Джонатана».
Переживания Хальга также волновали Кау-джера. Он читал сердце молодого друга, переполненное наивной любовью, как раскрытую книгу. Чем это кончится, когда эмигранты покинут архипелаг? Неужели Хальг захочет последовать за Грациэллой? И не погибнет ли он от горя и нужды в чужих краях?
Как раз 18 июня Хальг вернулся после обычного посещения семьи Черони особенно встревоженный. Его наставник не успел ничего спросить, как юноша сообщил, что накануне, после его ухода, Лазар снова напился и буйствовал.
Кау-джер задумался. Если Черони пьянствует, значит, он сумел где-то раздобыть вино. Разве груз с «Джонатана» больше не охраняется командой?
Хартлпул заверял, что спиртные напитки по-прежнему находятся под охраной. Но, так или иначе, факт был налицо. Боцман обещал усилить бдительность.
И вот 24 июня, через три дня после солнцестояния, произошло вроде бы ничем не примечательное событие, которое впоследствии оказалось весьма значительным. В этот день была прекрасная погода. Легкий южный бриз расчистил небо, а небольшой морозец подсушил землю. Привлеченные бледными лучами солнца, эмигранты выползли из своих нор.
Разумеется, Дик и Сэнд, которых вообще никакое ненастье не могло удержать дома, находились среди любителей свежего воздуха. Вместе с Марселем Норели и еще двумя мальчиками друзья затеяли игру в классы. Забыв обо всем на свете, они не обратили внимания на расположившуюся поблизости группу взрослых, игравших в шары. Среди них был и Фред Мур, давнишний враг Дика.
Случилось так, что юла взрослых покатилась в «классы» ребят. Как раз в это время Сэнд завершал самую трудную серию прыжков. Погруженный в свое занятие, он не заметил юлу и нечаянно задел ее ногой. Кто-то схватил мальчика за ухо.
— Эй ты, щенок! Поосторожнее! — произнес грубый голос.
Сэнд от боли заплакал.
Может, этим все и кончилось бы, если не строптивый нрав Дика, заставивший его вмешаться в инцидент.
Внезапно Фреду Муру (это был он) пришлось отпустить ухо паренька и защищаться самому — неизвестный союзник Сэнда больно ущипнул детину сзади. Что ж, в бою каждый действует своим оружием! Обернувшись, Мур столкнулся лицом к лицу с дерзким мальчишкой, уже однажды насолившим ему.
— Как? Опять ты, наглец! — воскликнул Фред Мур, протянув ручищу, чтобы наказать смельчака.
Дик не походил на Сэнда, его непросто было поймать. Отскочив в сторону, он пустился наутек. Фред Мур погнался за ним, изрыгая проклятия.
Всякий раз, когда враг уже настигал его, Дик ловко увертывался, а эмигрант, все больше распаляясь, хватал руками воздух. И все же силы были слишком неравны. Как ни изворачивался беглец, положение его становилось все безнадежнее. Очень длинные ноги у Фреда Мура!
Но в то самое мгновение, когда преследователю оставалось только протянуть руку, он вдруг споткнулся и во весь рост грохнулся на землю. Воспользовавшись этим, Дик и Сэнд удрали со всех ног.
Оказалось, здоровяк споткнулся о палку, вернее, о костыль Марселя Норели. Чтобы помочь другу, малыш использовал единственное доступное ему средство — бросил костыль под ноги обидчику. Радуясь удаче, он громко расхохотался, даже не подозревая, что совершил героический поступок, ибо, лишившись возможности двигаться, обрек себя на наказание, предназначавшееся другому.
Мур в бешенстве вскочил на ноги, одним прыжком очутился возле Марселя и поднял его, как перышко. Внезапно осознав истинное положение дел, мальчик перестал смеяться и пронзительно закричал. Разъяренный эмигрант, не обращая внимания на вопли, занес огромную лапу, чтобы дать увесистую затрещину, но не успел сделать это. Кто-то, незаметно подойдя сзади, властным движением удержал его руку и осуждающе произнес:
— Что вы, господин Мур!… Ведь это ребенок…
Фред обернулся. Кто посмел указывать ему? И увидел Кау-джера, который подчеркнуто спокойным и порицающим тоном добавил:
— …да еще увечный.
— Не ваше дело! — крикнул детина.— Отпустите, а то я…
Но заступник малыша не был намерен выполнять этот приказ. Резким движением Мур попытался освободиться, но безуспешно: его противник обладал стальной хваткой. Вне себя от ярости эмигрант выпустил Марселя и снова поднял кулак. Кау-джер сильнее сжал плечо Фреда. Видимо, боль стала нестерпимой, и тот опустил руку, ноги у него подкосились.
Едва мужчина разжал пальцы, обезумевший от злости Мур выхватил из-за пояса большой крестьянский нож и замахнулся.
К счастью, подоспели перепуганные игроки и усмирили озверевшего парня. Кау-джер смотрел на него с грустью и удивлением.
Неужели под влиянием гнева можно до такой степени стать рабом своих страстей? Ведь это существо, которое, брызжа слюной и рыча от ярости, отбивавшееся изо всех сил, все же было человеком!
— Мы с тобой еще увидимся! — проскрежетал Фред Мур, удерживаемый четырьмя здоровенными эмигрантами.
Но его противник только пожал плечами и ушел не оборачиваясь, уже через минуту забыв о нелепой стычке. Но в будущем ему придется убедиться, что у Фреда Мура не такая уж короткая память.
Глава V КОРАБЛЬ НА ГОРИЗОНТЕ!
В начале июля Хальг пережил неожиданное потрясение, обнаружив соперника. Им оказался Паттерсон, по баснословной цене снабдивший молодого индейца европейским костюмом. Он познакомился с семейством Черони и начал упорно ухаживать за Грациэллой.
Это открытие привело Хальга в отчаяние. Разве мог он, восемнадцатилетний юнец, полудикарь, бороться с опытным мужчиной, обладателем богатств, казавшихся бедному огнеземельцу несметными?
Но опасения Хальга оказались напрасными. Его простодушная любовь и молодость быстро восторжествовали над всеми преимуществами ирландца. Тот только из упрямства продолжал навещать Грациэллу, его явно задевало неприязненное отношение дочери и матери. Обе едва отвечали Паттерсону на поклон и делали вид, будто не замечают его.
Но ловкач не унывал, гнул свою линию с обычным хладнокровием и настойчивостью. Он не преминул заручиться поддержкой самого Лазара Черони, который оказывал ирландцу радушный прием и одобрял его намерения в отношении Грациэллы. Оба стали закадычными друзьями и частенько уединялись для каких-то таинственных совещаний. Что могло связывать безнадежного пропойцу с прижимистым «кулаком»? Все это сильно беспокоило Хальга. Черони продолжал пьянствовать и все чаще устраивал дикие сцены жене и дочери. Индеец каждый раз сообщал о его выходках Кау-джеру, а тот, в свою очередь,— Хартлпулу. Но никто не мог установить, каким образом Лазар добывает спиртное.
Палатку с алкогольными напитками стерегли днем и ночью. Шестнадцать членов экипажа дежурили по двое, сменяясь каждые три часа. Все, включая Кеннеди и Сердея, беспрекословно подчинялись приказам боцмана, как будто они все еще находились на корабле. Моряки составляли хоть и небольшую, но тесно сплоченную группу. Кроме того, у них были такие незаменимые помощники, как Дик и Сэнд, на которых всегда можно положиться. Но в данном случае матросы не нуждались в их помощи. Дети, освобожденные от дежурств, пользовались неограниченной свободой и развлекались вовсю.
Однажды Дик, Сэнд и еще несколько их сверстников, играя на берегу моря, обнаружили естественную пещеру, образовавшуюся в прибрежной скале на мысу. Вход в пещеру был обращен на юг и, следовательно, вел прямо на рифы, о которые разбился «Джонатан». Но не это обстоятельство привлекло внимание детей. Там имелось кое-что поинтереснее. В глубине пещеры находилась расщелина, переходившая через несколько метров во вторую пещеру. Она представляла собой длинную галерею, тянувшуюся под землей через весь горный массив и шедшую к третьей, верхней, пещере. Последняя выходила на северную часть скалы с видом на лагерь. К нему можно было спуститься напрямик, скользя по каменистому грунту.
Эта находка пришлась весьма по вкусу юным следопытам. Ребята никому не рассказали о своем открытии. Цепь пещер стала их царством, она принадлежала только им. Мальчики отправлялись туда крадучись и устраивали там необычайно увлекательные игры, превращаясь то в дикарей, то в робинзонов, то в разбойников…
Страшные вопли раздавались под таинственными сводами! Какие бешеные гонки происходили в галерее, соединявшей нижнюю и верхнюю пещеры!
Однако передвигаться по этому коридору было опасно, ибо в любую минуту он мог обвалиться: в одном месте свод галереи в метре от земли держался на каменной глыбе, опиравшейся на наклонную плоскость другого камня. Малейшее сотрясение могло вызвать катастрофу. Приходилось ползти на четвереньках и с величайшей осторожностью протискиваться в узкую щель между неустойчивым камнем и стенкой прохода. Но такая опасность, как бы велика она ни была в действительности, не пугала ребят, а, наоборот, придавала особую остроту их играм. Время проходило весело. Они не беспокоились ни о чем и не боялись никого, даже своего врага Фреда Мура, которого иногда видели вдали и от которого всегда удирали стремглав. Эмигрант, впрочем, и не пытался их преследовать. Его гнев утих, и если уж он и затаил злобу, то по другому поводу.
К тому же вопрос, был ли Фред Мур разгневан или нет, совершенно не интересовал детей. Для них не существовало ничего, кроме их игр, дни мчались с невероятной быстротой, о которой они весьма сожалели.
Если бы проводили опрос и поинтересовались мнением эмигрантов на этот счет, то скорее всего Дик и Сэнд оказались бы единственными, полагавшими так. Насколько для них время летело стремительно, настолько для других оно тянулось невероятно медленно, что усугублялось плохими жилищными условиями. Но для Льюиса Дорика и его шайки зимовка тоже протекала весьма приятно. Эти молодчики разрешили по-своему все социальные проблемы. Они жили в полное удовольствие, будто на завоеванной земле, ни в чем себе не отказывали, даже делали запасы на случай возможного голода в колонии.
Приходилось только удивляться долготерпению их жертв. Несмотря на то, что обираемые Дориком эмигранты составляли подавляющее большинство, они, видимо, этого не сознавали: им даже в голову не приходила мысль объединить свои разрозненные силы. Банда Дорика, наоборот, представляла довольно сплоченную группу и проводила тактику запугивания каждого колониста в отдельности. Никто не осмеливался дать отпор этим негодяям.
Около полусотни переселенцев во главе с Кароли проводили время в охоте на тюленей.
Дело это трудное. Сначала нужно терпеливо ждать, пока осторожные животные решатся вылезти на берег, затем мгновенно окружить, чтобы те не успели скрыться в волнах. Процедура сия небезопасна, ибо тюлени выбирают для игр самые неприступные скалы.
И все же охотники добились отличных результатов. Вытопленный тюлений жир мог пригодиться и для освещения, и для отопления жилищ, а шкуры — после возвращения эмигрантов на родину — представляли бы немалую ценность.
Но многие переселенцы, погруженные в полнейшую апатию, не выходили из домов, хотя морозов не было и в помине. Во время холодов, продолжавшихся с 15 июля по 15 августа, ртутный столбик не падал ниже минус двенадцати. Средняя температура составляла пять градусов ниже нуля. Кау-джер сказал правду — климат в этих краях не отличался чрезмерной суровостью, и только частые дожди да снегопады поддерживали постоянную промозглую сырость, вредно отражавшуюся на здоровье. Обычно наш целитель успешно боролся с болезнями, если только организм пациента не был слишком ослаблен. В течение зимы погибло восемь человек. Между прочим, их кончина особенно огорчала Льюиса Дорика, ведь умирали именно те люди, с которых он собирал наибольшую дань.
Дик и Сэнд горько оплакивали смерть Марселя Норели. Маленький калека не выдержал климата острова Осте и однажды вечером тихо, без страданий, угас.
Эти печальные события, казалось, мало волновали уцелевших эмигрантов. Исчезновение нескольких человек почти не отразилось на жизни поселения. Сообщение о новой смерти ненадолго выводило зимовщиков из состояния уныния. Они как будто утратили интерес к жизни, и сил хватало только на перебранку и скандалы по любому поводу.
Частые беспричинные раздоры между колонистами наводили Кау-джера на горькие размышления. Он был слишком умен, чтобы не видеть истины, и слишком искренен, чтобы уклониться от соответствующих выводов из сделанных наблюдений.
В этом случайном сборище людей, оказавшихся здесь, можно сказать, со всего мира, самой яростной страстью была ненависть. Не та ненависть, которая хотя и достойна порицания, но которую как-то можно объяснить логически, ненависть, переполняющая сердце человека, который страдает от жестокой несправедливости,— нет, это была ненависть взаимная и скрытая глубоко в душе. И как бы ни были люди доведены до отчаяния и как бы ни были схожи их безрадостные судьбы, эта ненависть сталкивала их друг с другом из-за совершенно ничтожных поводов так же, как природа, создавая ростки жизни, смешивает их с темным, разрушительным началом.
Самая тягостная жизненная драма, источником которой послужил голод, разыгралась в домике, где жили Паттерсон, Лонг и Блэкер. Как уже говорилось, славный парень Блэкер страдал ненасытным аппетитом. Такое болезненное состояние называется в медицине булимией[107].
При распределении продуктов он, как и все остальные, получил свою долю. Но из-за невероятной прожорливости запаса, рассчитанного на четыре месяца, ему не хватило даже на два. И снова начались адские муки голода.
Сумей несчастный преодолеть свою робость, он бы легко выбрался из беды. Стоило обратиться к Хартлпулу или Кау-джеру, ему дали бы дополнительный паек. Но парень туго соображал, для него это был поступок. Всю жизнь Блэкер находился на самой нижней ступени социальной лестницы и давно смирился со своим несчастьем. Он не понимал, какие силы управляют миром, и никогда не стремился противодействовать им.
Блэкер предпочел бы голодную смерть жалобам на свою судьбу. Но тут ему на помощь пришел Паттерсон.
Ирландец давно заметил, с какой быстротой его товарищ уничтожает продукты, это обстоятельство навело на мысль о выгодной сделке. Пока бедолага поглощал свою долю, Паттерсон всячески ограничивал себя в пище. От жадности он почти ничего не ел, лишая себя самого необходимого, но не стыдился подбирать чужие объедки.
Наконец настал день, когда у Блэкера ничего не осталось. Этой-то минуты и ждал скряга. Под видом благодеяния он предложил продать ему за приличную цену часть сэкономленных продуктов. Сделка была принята с восторгом, тотчас же осуществлена и неоднократно возобновлялась — до тех пор, пока у покупателя не иссякли последние деньги. Сначала Паттерсон, ссылаясь на катастрофическое сокращение запасов, постепенно повышал цены, а когда карманы Блэкера окончательно опустели, закрыл лавочку, не обращая никакого внимания на муки несчастного, которого обрекал на голодную смерть.
Блэкер, считая подобное положение естественным результатом все той же силы, правящей людьми, по-прежнему не осмеливался роптать. Забившись в угол, сжимая обеими руками втянутый живот, он неподвижно лежал так часами, и только судорожное подергивание лица выдавало его страдания. Паттерсон равнодушно наблюдал за товарищем. Какое значение может иметь смерть человека, не имеющего денег.
Но в конце концов муки голода победили покорность судьбе. После многочасовой пытки Блэкер встал, покачиваясь, вышел из дому и, побродив по лагерю, куда-то исчез…
Однажды вечером Кау-джер, возвращаясь в свою палатку, чуть не наступил на распростертое тело. Он наклонился и потряс лежавшего человека за плечо. Тот застонал. Кау-джер дал ему несколько капель укрепляющего средства и спросил:
— Что с вами?
— Я голоден,— едва слышно прошептал бедолага.
— Голоден? Но разве вы не получили продуктов, как все остальные?
Тогда Блэкер прерывающимся от слабости голосом коротко поведал свою грустную историю — о болезни, вынуждавшей его непрерывно набивать желудок, о том, как у него быстро кончились продукты и как он покупал их у Паттерсона, а также о том, как ирландец в течение трех дней не обращал никакого внимания на его муки.
Потрясенный Кау-джер слушал этот рассказ и не верил своим ушам. Неужели, несмотря на катастрофу и пережитые ужасы, у Паттерсона сохранилась такая немыслимая жадность? Продавец-грабитель, бессовестный торгаш, отмеривающий жизнь человеку по дням!
Каким бы гнусным ни казался ему поступок Паттерсона, лучше было оставить его безнаказанным, чем создавать новую причину для волнений. Кау-джер просто выдал дополнительный паек Блэкеру, заверив, что и в дальнейшем он будет получать столько, сколько потребуется.
Но имя ирландца врезалось в память, и носитель его стал прообразом всего самого отвратительного, что только может заключаться в человеческой душе. Поэтому Кау-джер ничуть не удивился, когда через два дня Хальг снова упомянул о Паттерсоне.
Юноша возвращался после обычного свидания с Грациэллой. Едва увидев своего друга, он побежал ему навстречу и сразу выпалил:
— Я узнал, кто достает Лазару Черони спирт!
— Ну да! — обрадовался Кау-джер.— Кто же?
— Паттерсон.
— Паттерсон?
— Он самый! — подтвердил Хальг.— Только что я видел, как ирландец передал Лазару ром. Теперь мне понятно, почему они сдружились!
— А ты не ошибаешься?
— Нисколько. Самое интересное, что этот грабитель не дает, а продает ром. И довольно дорого. Я слышал, как они торговались. Черони жаловался, что все его сбережения уплыли в карман Паттерсона.
Хальг на мгновение остановился, а затем гневно воскликнул:
— Когда у Лазара нет денег на выпивку, он способен на все. Что теперь станет с его женой и дочерью!
— Надо принять меры,— ответил Кау-джер.
И, подумав, сказал тоном легкого упрека:
— Раз уж мы начали этот разговор, доведем его до конца. Я никогда не обсуждал твоего поведения, но знаю твои мечты. На что ты надеешься, мой мальчик?
Потупив взор, Хальг молчал.
— Скоро, может быть, даже через месяц, все эти люди уйдут из нашей жизни. И Грациэлла тоже.
— Почему бы ей не остаться с нами? — возразил юноша, подняв голову.
— А как же Туллия?
— Туллия тоже может остаться.
— И ты думаешь, что она согласится покинуть мужа?
Хальг убежденно произнес:
— Нужно сделать так, чтобы она согласилась.
Кау-джер с сомнением покачал головой.
— Грациэлла поможет мне уговорить мать! — с жаром воскликнул молодой индеец.— Она твердо решила остаться здесь, если вы разрешите. И дело не только в том, что девушка больше не в состоянии переносить жизнь с пьяницей-отцом, но еще и в том, что она очень боится кое-кого из эмигрантов.
— Боится?
— Да. И прежде всего — Паттерсона. Вот уже месяц, как он крутится возле нее. И ром-то он доставал лишь для того, чтобы привлечь Черони на свою сторону. А несколько дней назад появился еще один поклонник, по имени Сирк, из банды Дорика. Этот будет похлеще.
— Чем же?
— Куда бы ни пошла Грациэлла, он всегда на ее пути. Она не может выйти из дома, чтобы не встретиться с ним. Он пристает, говорит всякие гадости. Она пыталась поставить его на место, тогда Сирк стал ей угрожать. Девушка очень боится его. Хорошо еще, что я здесь.
Мужчина улыбнулся этой вспышке юношеского задора и ласковым жестом усмирил своего воспитанника.
— Успокойся, Хальг, успокойся. Очень прошу тебя сдерживаться. Гнев почти всегда бесполезен, а чаще вреден. Помни: насилие никогда не приводит к добру, кроме случаев самозащиты.
После этого разговора тревога Кау-джера возросла. Он понимал, что появление соперников еще больше усложнит положение семьи Черони, а Хальг начнет ревновать, что может привести к самым непредвиденным событиям. Кау-джер боялся за юношу.
Ну, а что касается снабжения Черони алкоголем, то такое открытие не разрешало проблемы. Ведь выяснилось только одно: кто доставлял Лазару спирт. Но откуда брал его сам поставщик? Неужели Паттерсон устроил где-нибудь тайник? Маловероятно. Если даже допустить, что ирландцу, несмотря на строгое предупреждение и наблюдение капитана Леккара, удалось погрузить на «Джонатан» запретный товар, где бы он его спрятал после кораблекрушения? Нет, была единственная возможность — воровать ром из корабельных запасов. Но каким образом? Ведь груз с «Джонатана» охранялся днем и ночью. Кто был вором — Паттерсон или Черони,— вопрос оставался открытым.
Время шло. Наступило 15 сентября. Ремонт «Уэл-Киедж» закончился. Шлюпка была готова к спуску.
Приближалось весеннее равноденствие. Через неделю от зимы не останется и следа.
В начале октября в лагере появилось несколько огнеземельцев. Их крайне удивило такое количество людей на Осте. Никто из жителей архипелага не знал о кораблекрушении. Теперь, несомненно, новость распространится с невероятной быстротой.
Некоторые «цивилизаторы», вроде братьев Мур, считали необходимым утвердить свое господство над безобидными «дикарями» грубостью и насилием. Один из них соблазнился даже скудным имуществом туземцев. Однажды Кау-джер услышал жалобные крики. Звала на помощь молодая индианка, у которой Сирк пытался отнять кожаные браслеты, вообразив, что они золотые. Получив резкий отпор от Кау-джера, Сирк удалился, осыпав его бранью. Таким образом, уже два эмигранта стали злейшими врагами этого поборника свободы и справедливости.
Кау-джера очень обрадовала встреча с друзьями-огнеземельцами, среди которых нашлись и его пациенты, с такой услужливостью, почтительностью, горячей благодарностью, чуть ли не с обожанием относившиеся к своему покровителю.
Однажды, это было 15 октября, Гарри Родс сказал своему новому другу:
— Теперь мне понятно, почему вы так привязаны к этому краю, где делаете столько добра, и почему вам хочется скорее вернуться к индейским племенам. Ведь вы для них настоящее божество…
— Божество? — перебил его Кау-джер.— Почему божество? Разве недостаточно быть человеком, чтобы творить добро?
Гарри Родс не настаивал:
— Пусть так, если это определение вам не по вкусу. Могу иначе выразить свою мысль: только от вас зависело стать королем Магеллановой Земли, пока она еще оставалась свободной.
— Люди даже в состоянии дикости не нуждаются в монархе. Впрочем, теперь над Огненной Землей утверждена власть другой страны…
Последние слова Кау-джер произнес еле слышно. Он казался сильно озабоченным. Разговор напомнил неопределенность его положения. В ближайшем будущем придется расстаться с чудесной семьей Родсов, пробудившей в добровольном изгнаннике семейные инстинкты, свойственные каждому человеку. Боль предстоящей разлуки испытывали и его новые знакомые. Им хотелось, чтобы он отправился с ними в африканскую колонию, где будет так же ценим, любим и почитаем, как здесь. Но Гарри и не пытался уговаривать, понимая, что лишь крайне серьезные причины могли вынудить такого человека порвать с обществом. Эти таинственные обстоятельства продолжали быть для Родса загадкой.
— Вот и кончилась зима,— сказала его супруга, переводя разговор на другую тему.— И в самом деле она оказалась не такой уж лютой…
— Да, мы убедились,— прибавил ее муж,— что климат здесь, как вы говорили. Поэтому некоторые переселенцы не без сожаления покинут остров Осте.
— Зачем тогда уезжать отсюда? — воскликнул юный Эдуард.— Можно основать колонию и здесь, на Магеллановой Земле!
— Конечно! — засмеялся Гарри Родс.— А как же наша концессия на реке Оранжевой? И контракт с Обществом колонизации? И соглашение с правительством Португалии?
— В самом деле! — иронично произнес его собеседник.— Нельзя же забывать о португальском правительстве!… Правда, здесь у вас было бы чилийское правительство… Одно стоит другого!
— Девять месяцев тому назад…— начал глава семейства.
— Девять месяцев назад,— перебил его Кау-джер,— вы высадились бы на свободной земле. Но теперь проклятый договор лишил ее независимости.
Он вышел из палатки и взглянул на восток, как бы ожидая появления корабля, обещанного губернатором Пунта-Аренаса.
Назначенный срок настал. Шла вторая половина октября. Но море оставалось пустынным.
Задержка судна начала беспокоить потерпевших кораблекрушение. Правда, пока они ни в чем не нуждались. Запасы были далеко не исчерпаны, их могло хватить на долгие месяцы, но всем хотелось скорее прибыть на место. Часть переселенцев боялась второй зимовки на острове и стала поговаривать о посылке шлюпки в Пунта-Аренас.
Мимо Кау-джера, погруженного в раздумье, прошла с вызывающим видом шумная компания Льюиса Дорика. Эти люди никогда не скрывали недоброжелательства к нему и к семье Родсов, пользовавшейся всеобщим уважением. Друзья прекрасно осознавали это.
— Вот кого я предпочел бы оставить здесь,— сказал подошедший Гарри.— От этой ватаги можно всего ожидать. Не сомневаюсь, что и в новой колонии они поднимут смуту.
Вдруг появился Хартлпул.
— Я хотел бы поговорить с вами, сударь.
— Оставляю вас…— начал Родс.
— Незачем,— прервал его Кау-джер и спросил боцмана: — Что вы хотели сказать мне?
— Хочу сказать, что я выяснил насчет выпивки.
— Значит, действительно кто-то продает Лазару Черони ром из корабельных запасов?
— Так точно.
— И вы обнаружили вора?
— Даже двух — Кеннеди и Сердея.
— У вас имеются улики?
— Совершенно неопровержимые.
— Какие?
— А вот какие. С того самого дня, когда вы мне рассказали о Паттерсоне, я стал подозревать эту парочку. Черони сам не додумался бы, а Паттерсон — ловкач. Вот я и поручил следить за ним.
— Кому? — осведомился Кау-джер, нахмурив брови. Ему претила всякая слежка.
— Юнгам. Этим парнишкам тоже пальца в рот не клади. Они-то и выяснили, как ларчик открывается. Ребята застали воров на месте преступления. Вчера — Кеннеди, а сегодня утром — Сердея, в момент, когда те, воспользовавшись невнимательностью второго дежурного, переливали ром во фляжку Паттерсона.
Воспоминание о страданиях Туллии и Грациэллы, а также мысль о Хальге заставили Кау-джера на мгновение забыть свои вольнолюбивые принципы.
— Подлецы! — воскликнул он.— Их надо наказать!
— Я тоже так считаю,— заявил боцман,— поэтому и пришел к вам.
— А при чем тут я? Поступайте, как находите нужным.
Хартлпул с сомнением покачал головой.
— После гибели «Джонатана» у меня нет прежней власти. Эти люди не послушаются меня.
— Почему же они послушаются меня?
— Потому что вас они боятся.
Ответ боцмана поразил Кау-джера. Его боятся? Очевидно, он внушает страх только из-за своей физической силы. Неужели всегда и везде в основе всех общественных отношений лежит насилие?
— Что ж, пойдем,— угрюмо сказал он и направился прямо к палатке, где находился груз с «Джонатана». Как раз в эту минуту на пост заступил Кеннеди.
— Вы не оправдали оказанного вам доверия,— строго произнес Кау-джер.
— Что вы, сударь…— смущенно пробормотал матрос.
— Да, вам нельзя доверять,— продолжал ледяным тоном его собеседник,— с этого дня вы больше не числитесь членом экипажа «Джонатана».
— Но как же…— пытался протестовать Кеннеди.
— Думаю, незачем повторять еще раз!
— Ну ладно уж.— И он смиренно снял свой матросский берет.
Вдруг за их спиной раздался чей-то голос:
— По какому праву вы приказываете этому человеку?
Кау-джер обернулся и увидел Льюиса Дорика, наблюдавшего вместе с Фредом Муром за происходящим.
— А по какому праву вы спрашиваете меня об этом? — гордо ответил Кау-джер.
Почувствовав поддержку, Кеннеди снова натянул берет и нагло ухмыльнулся.
— Если у меня нет такого права, я беру его сам,— отпарировал Дорик.— Стоит ли жить на необитаемом острове, чтобы подчиняться какому-то деспоту!
Деспоту?! Нашелся человек, который обвинил его в деспотизме!
— А что, неправда? Ведь этот господин привык повелевать,— вмешался Фред Мур, подчеркивая последние слова.— Он — не ровня всем остальным. То приказывает, то запрещает. Уж не король ли он на этом острове?
Они подошли ближе.
— Кеннеди не обязан никому подчиняться,— продолжал Дорик своим резким голосом,— и, если пожелает, снова займет свое место в команде «Джонатана».
Кау-джер не отвечал. Противники придвинулись к нему. Он сжал кулаки.
Неужели придется применить физическую силу для самозащиты? Конечно, он не боялся таких врагов. Их было всего трое. Могло быть и десять. Но какой позор, что мыслящее существо вынуждено употреблять для защиты те же способы, что и животное!
Однако крайним средством воспользоваться не пришлось. Родс и Хартлпул уже спешили к своему другу, готовые поддержать его. Тотчас же Дорик, Мур и Кеннеди ретировались.
Кау-джер с грустью посмотрел им вслед. Вдруг со стороны реки раздались громкие возгласы. Друзья бросились на шум и увидели большую толпу. Почти все эмигранты высыпали на берег. Людской водоворот завихрялся и передвигался с места на место. Что могло вызвать такое возбуждение?
Серьезного повода, конечно, не было. А если и был, то настолько незначительный и всеми за давностью времени забытый, что ни одна из сторон не могла его точно припомнить.
Все началось еще шесть недель тому назад — причиной ссоры послужила какая-то хозяйственная мелочь, которую одна женщина одолжила другой, а эта последняя утверждала, что все вернула. Кто же был прав на самом деле? Неизвестно. Слово за слово, обе женщины кончили тем, что стали до изнеможения поливать друг друга сильнейшей бранью. Через два дня спор возобновился, причем страсти накалились, так как в дело вмешались мужья. Все уже забыли, что послужило причиной ссоры, но злоба осталась. И, повинуясь этому чувству, только из одного желания сделать гадость другому, все четверо участников стали обвинять друг друга в самых страшных грехах, осыпать нелепыми подозрениями, нередко выдуманными, якобы имевшими место в далеком прошлом. Чем более жестоким и безобразным было обвинение, тем большее удовольствие доставляло оно тому, кто его придумал, и похоже было, что каждый гордился тем злом, которое изливал на окружающих. «Ах так! А я?… Вы же видели, когда я ему это сказал…» — Эти слова нередко можно было слышать еще много дней спустя после начала ссоры.
Перепалка несколько утихла, но языки все еще не замолкали. На глазах своих сторонников обе партии начали поносить друг друга, сила оскорблений всё время росла, от обычных уничтожающих выражений они перешли к злословию и просто клевете. Все это, многократно повторенное специально для того, чтобы заинтересованные стороны как можно сильнее прониклись нанесенными друг другу оскорблениями, послужило толчком к настоящей буре. Мужчины дали волю рукам, и один из них потерпел поражение. Назавтра сын побежденного захотел отомстить за отца, в результате чего произошло еще одно сражение, более серьезное, чем предыдущее: обитатели обоих домов, в которых жили сражающиеся, не могли преодолеть желания участвовать в ссоре.
Развязав таким образом войну, обе враждующие стороны стали вести активную пропаганду, вербуя себе сторонников. Теперь уже большинство эмигрантов разделилось на два лагеря. По мере того как «армия» становилась все многочисленнее, масштабы спора разрастались. Никто уже и не вспоминал о причине, а безуспешно обсуждался вопрос: какой маршрут следует избрать по прибытии долгожданного корабля — отправиться в Африку или вернуться в Америку? Мнения не совпадали. Каким же извилистым путем дошла до этой темы обычная ссора, начавшаяся из-за пустяка? Это непостижимая тайна. И все были уверены, что ни о чем другом они никогда и не говорили, обе версии защищались с одинаковой страстью. Бойцы шли на приступ, отступали, снова бросались в атаку и в качестве снарядов выпаливали множество аргументов за и против. А пятеро японцев, стоящие мирной группой в нескольких метрах от бурлящей толпы, с большим удивлением взирали на лихорадочно кричащих людей.
Фердинанд Боваль, чрезвычайно оживленный оттого, что окунулся в свою стихию, тщетно пытался заставить выслушать себя. Он перебегал от одного к другому, он хотел поспеть всюду, но — увы! — тщетно… Его не слушали. Вообще никто никого не слушал. Нарастали мелкие размолвки, любой отдельный шепот вплетался в общую картину спора, тональность которого повышалась с каждой минутой. Гроза была совсем уже рядом. Молния только что пронеслась. Тот, кто ударит первым, подхлестнет остальных, замелькают кулаки, и все завершится страшной дракой!…
Так же как небольшой дождь порой может заставить утихнуть сильный ветер, бывает достаточно одного человека, чтобы погасить подобное раздражение толпы, в действительности очень поверхностное. Им стал эмигрант, затеявший охоту на тюленей,— он бежал со всех ног и кричал что есть силы, размахивая руками:
— Корабль… На горизонте корабль!
Глава VI СВОБОДА
Корабль на горизонте! Никакая другая новость не смогла бы так взбудоражить переселенцев. Кау-джер, Гарри Родс, Хартлпул и эмигранты столпились у края восточного мыса, устремив взволнованные лица на юг. Там виднелась узкая ленточка дыма, свидетельствовавшая о приближении парохода.
И вот появился и стал медленно увеличиваться контур корабля. Вскоре уже можно было разглядеть судно водоизмещением около четырехсот тонн. На гафеле[108] развевался флаг, цвет которого был не виден.
Переселенцы разочарованно переглядывались. Конечно, пароход такого малого тоннажа не сможет забрать всех сразу. Неужели это просто торговое судно, а не обещанный губернатором Пунта-Аренаса корабль?
Волнующий вопрос вскоре разрешился. Судно приближалось на всех парах и до наступления полной темноты оказалось на расстоянии трех миль от берега.
— Чилийский корабль,— сказал Кау-джер, когда порыв ветра дал возможность разглядеть цвета развернутого флага.
Спустя три четверти часа, уже в глубокой темноте, лязгание цепей в железных клюзах[109] известило о постановке судна на якорь. Толпа начала расходиться по домам, оживленно обсуждая событие.
На заре эмигранты разглядывали пароход, стоявший в трех кабельтовых[110] от берега. Хартлпул заявил, что это вестовое судно чилийского военного флота.
Боцман не ошибся. Так и было в действительности. В восемь часов утра капитан сошел на берег.
Встревоженные переселенцы моментально окружили его и засыпали вопросами: почему прислали такой маленький пароход? Когда их увезут отсюда? Неужели оставят навсегда на острове? Капитан не знал, кому отвечать.
Выждав, пока гвалт утихнет, он успокоил эмигрантов. Чили обязательно окажет им помощь. Прибытие вестового судна доказывает, что о них помнят.
Затем он объяснил, что чилийское правительство послало военный корабль вместо обещанного спасательного судна только потому, что намерено сделать переселенцам предложение, которое, возможно, их заинтересует.
Без дальнейших предисловий капитан тут же изложил его.
Для того, чтобы читатель правильно оценил замысел правительства, необходимо сделать небольшое отступление.
При освоении западных и южных районов Магеллановой Земли, полученных по договору от 17 января 1881 года, чилийские власти решили сделать искусный ход, используя кораблекрушение «Джонатана» и присутствие на Осте переселенцев.
Договор определял чисто теоретические права. Конечно, Аргентина не претендовала на них, и Чили могло поступать как заблагорассудится. Но добиться права на территорию не значило овладеть ею. Необходимо было там утвердиться: заселить новые районы, начать освоение края, разработку земель, природных ресурсов, организовать местную промышленность и торговлю с целью обогащения и процветания страны. Великолепным примером здесь служила колония Пунта-Аренас на побережье Магелланова пролива, значение которой, как коммерческого центра, росло из года в год. Это побудило Чили привлечь потерпевших кораблекрушение эмигрантов к освоению плодородных земель новой территории.
Тысячи переселенцев разных национальностей должны были оживить эти безлюдные острова.
Чилийское правительство не хотело выпускать из рук неожиданную удачу, поэтому и послало не транспортное, а вестовое судно, поручив капитану передать вышеуказанное предложение.
А оно и впрямь было соблазнительным. Республика Чили полностью отказывалась от своих прав на остров Осте в пользу переселенцев, получавших его в безраздельное пользование, без каких-либо ограничений или условий.
Этот ход был чрезвычайно ловок. Немедленно передавая Осте в эксплуатацию, государство тем самым привлекало народ и на другие острова, находившиеся в его владении,— Кларенс, Доусон, Наварино и Эрмите. Если новая территория будет процветать, все будущие колонисты поймут, что нечего бояться климата архипелага Магальянес. Разнообразие растительности, минеральных богатств, обилие пастбищ и рыбы помогут созданию скотоводческих ферм, рыбных промыслов, промышленности, а следовательно, развитию судоходства и торговли.
Пунта-Аренас, порто-франко[111], освобожденный от всех таможенных придирок, открытый для кораблей обоих континентов, уже обеспечил себе блестящее будущее. Основав эту колонию, Чили, по существу, закрепила свои законные права на Магеллановом проливе. Имело смысл добиться аналогичного результата и в южной части архипелага, для чего решили пожертвовать островом Осте и не только освободить его от какой-либо контрибуции, но передать в собственность колонии, предоставив полную автономию[112]. Эта территория становилась единственной частью Магеллановой Земли, сохранявшей независимость.
Осталось выяснить одно: примут ли эмигранты предложение, согласятся ли променять африканскую концессию на остров Осте.
Чилийское правительство хотело решить вопрос безотлагательно. Вестовое судно увезет окончательный ответ. Его командир имел все полномочия для заключения договора с представителями эмигрантов в течение пятнадцати суток. После этого он должен был сняться с якоря, независимо от ответа.
Если переселенцы согласятся, избранная ими власть незамедлительно получит права на владение территорией и сможет водрузить на острове флаг, какой ей заблагорассудится.
В случае отказа Чили обещало помочь репатриировать потерпевших кораблекрушение. Понятно, вестовой корабль водоизмещением в четыреста тонн не мог перевезти всех даже в Пунта-Аренас. Предполагалось обратиться к американскому Обществу колонизации с просьбой выслать спасательное судно, для чего требовалось определенное время.
Легко представить себе, какое впечатление произвело предложение Чили!
Переселенцы не ожидали ничего подобного и недоуменно переглядывались. Затем их мысли обратились к единственному человеку, способному защитить общие интересы. В подтверждение признательности, осторожности, слабости они обернулись на запад, в сторону реки, где обычно находилась «Уэл-Киедж».
Но шлюпка исчезла. Насколько хватало взгляда, океан был пустынным.
Все замерли от неожиданности. Потом толпа всколыхнулась, забурлила. Каждый старался отыскать своего спасителя, свою надежду, свое будущее. Но — увы!— Кау-джер исчез вместе с Кароли и Хальгом.
Эмигранты были поражены. Они привыкли во всем полагаться на этого человека, на его разум и самоотверженность. И вот в решающую минуту он бросил несчастных на произвол судьбы.
Гарри Родс тоже глубоко огорчился, но по другой причине. Он понимал, что Кау-джер покинет Осте, когда спасательное судно заберет всех переселенцев. Но не дождаться их отъезда?! Настоящие друзья так не поступают. Нельзя расставаться навсегда, не попрощавшись.
А внезапный отъезд Кау-джера, так похожий на бегство? Неужели из-за чилийского судна?
Все предположения казались вероятными, ибо непостижимая тайна окутывала жизнь этого человека, о котором ровно ничего не знали… даже его национальности.
Эмигранты, огорченные исчезновением постоянного советчика в такой неподходящий момент, стали медленно расходиться, на ходу обмениваясь скупыми замечаниями по поводу последних событий. Никому не хотелось брать на себя ответственность за какое-либо решение.
Целую неделю неожиданное предложение чилийцев обсуждали на все лады. Оно казалось настолько невероятным, что многие не желали принимать его всерьез. Гарри Родсу по просьбе товарищей пришлось обратиться к капитану за дополнительными разъяснениями, удостовериться в его полномочиях и лично убедиться в том, что Республика Чили действительно гарантирует независимость Осте.
Командир вестового судна употребил все свое влияние, убеждая эмигрантов воспользоваться сделанным предложением. Он объяснил, какие причины побудили его правительство к такому шагу и какие выгоды сулит колонистам территория, передаваемая в их владение. Он не преминул напомнить о процветающем Пунта-Аренасе, добавив, что Чили весьма выгодна подобная сделка.
— Акт о передаче острова в вашу собственность уже заготовлен,— закончил капитан.— Нужны только подписи.
— Чьи подписи? — спросил Гарри Родс.
— Представителей, избранных общим собранием эмигрантов.
По-видимому, в настоящее время только так и можно было действовать. Позднее, когда колония организуется, общество само решит, нужна ли ему какая-нибудь власть, и само выберет тот или иной социальный строй. Чили ни во что не станет вмешиваться.
Чтобы читатель не удивлялся дальнейшему развитию событий, следует представить себе сложившуюся на Осте ситуацию.
Кем были пассажиры, взятые на борт «Джонатана» для перевозки в бухту Лагоа? Несчастными людьми, невольными эмигрантами. Не все ли равно, где им обосноваться, ежели кто-то будет печься об их будущем, о благоприятном существовании?
С момента кораблекрушения прошла целая зима. Эмигранты убедились, что холода здесь не такие уж лютые, а теплая погода наступает даже раньше и сохраняется дольше, чем в некоторых краях, расположенных ближе к экватору.
В смысле безопасности сравнение оказывалось также не в пользу бухты Лагоа, граничащей с английской территорией, рекой Оранжевой и дикими кафрскими[113] племенами. Конечно, все были осведомлены о грозном соседстве еще до отплытия, но, когда представилась возможность поселиться на необитаемом острове, отсутствие явных опасностей приобретало в их глазах особое значение.
Кроме того, Общество колонизации получило южноафриканскую концессию лишь на непродолжительный срок, и правительство Португалии не собиралось полностью отказываться от своих прав. Здесь же, на Магеллановой Земле, эмигранты, наоборот, обретали неограниченные права и свободу, и тем самым Осте поднимался до ранга[114] суверенного государства.
Не последним явилось и то обстоятельство, что оставшимся эмигрантам не придется снова пускаться в плавание. И еще следовало учесть, что чилийское правительство было крайне заинтересовано в судьбе колонии. Ведь установится регулярное сообщение с Пунта-Аренасом. На побережье Магелланова пролива и в других районах архипелага возникнут фактории, организуются рыбные промыслы и завяжется торговля с населением Фолклендских островов. Возможно, в ближайшем будущем и Аргентина займется своими соседними владениями и создаст нечто похожее на Пунта-Аренас или столицу чилийских колоний на острове Брансвик[115].
Все эти доводы были настолько вескими, что в конце концов, победили.
После долгих разговоров выяснилось, что большинство эмигрантов склонно принять предложение Чили.
Приходилось еще раз пожалеть, что Кау-джер так не вовремя покинул остров. Ведь, кроме него, никто не мог дать точный совет. Вполне вероятно, он согласился бы на предложение, восстанавливающее независимость одного из одиннадцати крупнейших островов архипелага Магальянес. У Гарри Родса не было в этом ни малейшего сомнения.
Сам он принял аналогичное решение, которое неожиданно совпало с мнением Фердинанда Боваля, проводившего активную пропаганду за принятие планов Сантьяго. На что же надеялся бывший адвокат? Неужели он мечтал осуществить свои теории на практике? И в самом деле, редкий случай представлялся ему! Каким великолепным полем для экспериментов являлись эти не искушенные в политике люди, которые, как в древние времена, получали в безраздельное владение землю, принадлежавшую отныне всем и никому в частности.
Поэтому Боваль лез из кожи, переходя от одной группы к другой, то и дело доказывая правильность своих теорий. Сколько красноречивых слов израсходовал он!
Срок, установленный чилийским правительством, истекал. Настал день голосования. 30 октября корабль должен был сняться с якоря, и, в случае отказа эмигрантов, все права на Осте сохранялись за Чили.
Общее собрание произошло 26 октября. В голосовании участвовали все совершеннолетние переселенцы — восемьсот двадцать четыре человека. Часть эмигрантов состояла из женщин, детей и молодежи, не достигших двадцати одного года, а несколько семейств — Гордоны, Ривьеры, Джимелли и Ивановы — отсутствовали.
Подсчет голосов показал, что семьсот девяносто два бюллетеня, то есть подавляющее большинство, было подано за предложение Чили. Против него голосовало только тридцать два человека, державшихся первоначального плана и желавших отправиться в бухту Лагоа. Им пришлось подчиниться решению большинства.
Затем приступили к избранию трех представителей для подписания договора. Здесь-то блистательного успеха добился Фердинанд Боваль. Наконец-то его усилия принесли долгожданные плоды! Но к нему избиратели присоединили Гарри Родса и Хартлпула.
В тот же день три представителя от эмигрантов и капитан от имени правительства Чили подписали соглашение, смысл которого был чрезвычайно прост. Текст состоял всего из нескольких строчек и не давал повода кривотолкам.
Сразу же на берегу подняли бело-красный остельский флаг, и чилийский корабль салютовал ему двадцатью одним пушечным залпом. Впервые взвившийся на древке, весело играющий на ветру флаг возвестил миру о рождении свободной страны.
Глава VII ПЕРВЫЕ ШАГИ НОВОГО ГОСУДАРСТВА
На рассвете следующего дня вестовое судно снялось с якоря и через несколько минут скрылось за мысом. На нем уехали десять из пятнадцати уцелевших матросов с «Джонатана». Остальные, в том числе Кеннеди, Сердей и боцман Хартлпул, предпочли остаться.
У Кеннеди и Сердея имелись для этого одни и те же причины: о них давно шла худая молва, и капитаны неохотно нанимали их на корабли. Здесь же оба приятеля рассчитывали на легкую и беззаботную жизнь, надеясь, что в новом государстве строгие законы будут введены не скоро. А боцмана и еще двух матросов, людей необеспеченных и одиноких, привлекали независимое существование и мечта разбогатеть, превратившись из моряков дальнего плавания в самых обычных рыбаков.
Осуществление или провал их мечты в большой степени зависели от той политики, которой будет придерживаться правительство острова. Если государство хорошо организовано и хорошо управляется, его граждане вполне могут обогатиться за счет собственного труда. Но любой тяжкий труд окажется бесплодным, если центральная власть не сумеет выработать и применить определенные меры, способные объединить усилия отдельных индивидуумов. Таким образом, создание колонии приобретало более общий смысл.
В настоящий момент, по крайней мере, остельцы — ибо таково было их новое наименование, принятое единодушно,— совершенно не собирались решать эту жизненную задачу. Они желали только одного — радоваться и веселиться. Магическое слово «свобода» опьяняло их. Они упивались им, как взрослые дети, не стремясь проникнуть в его глубокий смысл и не задумываясь, что свобода — это целая наука, которую нужно изучать.
Только корабль скрылся из виду, все волнения улеглись, и обрадованные эмигранты кинулись поздравлять друг друга, словно завершили тяжелое и важное дело, хотя все трудности ждали впереди.
Обычно народные празднества сопровождаются выпивкой, поэтому все единодушно решили, что сегодня не грех угоститься; и в то время как хозяйки отправились к своим плитам и кастрюлям, мужчины поспешили в палатку, где находился корабельный груз.
После провозглашения независимости груз этот больше не охранялся. Теперь, когда ост ров возвысился до ранга самостоятельного государства, только представители власти имели право распоряжаться государственным имуществом. Впрочем, и охранять это имущество тоже было некому, поскольку большая часть матросов, выполнявших эту обязанность, уехала с острова.
С шутками и прибаутками новые колонисты вышибли дно у бочонка и уже собрались разливать вино, как вдруг кому-то пришла в голову удивительнейшая мысль: ведь ром принадлежит всем! Он — общий. Почему же в таком случае не распределить его сразу, весь, до последней капли? Предложение приняли с восторгом, не считая робких протестов отдельных переселенцев, и порешили, что каждый мужчина получит по целой порции, а женщины и дети — по полпорции. И тут же, в обстановке радостного возбуждения, раздали ром, а главы семейств получали его на всю семью.
К вечеру празднество было в полном разгаре. Забылись прежние распри. Все колонисты побратались между собой. Нашелся даже любитель-аккордеонист, и начался настоящий бал. Одна за другой закружились пары. Остальные наблюдали за танцующими, потягивая вино.
Лазар Черони тоже был тут. С шести часов вечера он уже не держался на ногах, но продолжал прикладываться к фляжке с ромом. Туллия и Грациэлла предчувствовали, что для них праздник кончится плохо.
И еще один эмигрант, забившийся в темный уголок, наливал себе стакан за стаканом. Но ужасный яд, отравивший душу этого человека, иногда помогал ему обрести хоть на время былой талант. Внезапно раздались звуки божественной музыки. Танцы прекратились… Фриц Гросс играл долго, несколько часов, импровизируя под влиянием охватившего вдохновения. Его окружили сотни лиц, смотревших во все глаза. Эмигранты застыли на месте, очарованные потоком звуков, лившихся из-под волшебного смычка.
Но самым внимательным, самым увлеченным слушателем был один мальчик. Непостижимой красоты мелодии явились для Сэнда откровением. Он чуть ли не впервые узнал, что на свете существует музыка, и с дрожью в сердце проникал в неведомую дотоле сферу, стоя против музыканта словно изваяние. Его очарованную душу пронизывало острое ощущение волнующего счастья.
Какими словами описать эту необычайную картину? Какое-то огромное, нелепое существо, почти потерявшее человеческий облик, опустив голову на грудь и закрыв глаза, с исступлением водило смычком по струнам. Колеблющееся пламя коптящих факелов резко очерчивало контуры его фигуры на фоне непроглядной ночи. А перед музыкантом — застывший в экстазе[116] ребенок и чуть поодаль — молчаливая, едва различимая толпа, чье присутствие угадывалось только в те мгновения, когда под порывами ветра ярко вспыхивал огонь факелов. Тогда внезапно из мрака проступали какие-нибудь отдельные черты лица: там — нос… тут — лоб… или подбородок. И тотчас же темнота снова поглощала все. А над толпой то взмывали к звездам, то угасали в ночи нежные и могучие звуки скрипки.
Около двенадцати Фриц Гросс выронил смычок и погрузился в тяжелый сон. Эмигранты начали медленно расходиться по домам.
А на следующий день все эти ночные впечатления, навеянные неземной музыкой, уже испарились. Попойка возобновилась, и не видно ей было конца, пока не иссякнут напитки.
Через два дня после ухода вестового судна, когда переселенцы еще веселились вовсю, к острову причалила «Уэл-Киедж». Никто будто и не заметил отсутствия шлюпки в течение двух недель, и возвратившихся встретили так, словно они никуда не исчезали. Кау-джер не мог понять, что здесь произошло, что означает незнакомый флаг, водруженный на берегу, и чему так радуются люди?
В нескольких словах Гарри Родс и Хартлпул ввели его в курс последних событий. Кау-джер выслушал их с глубоким волнением. Нескрываемая радость преобразила его лицо. Так, значит, на архипелаге Магальянес осталась частица свободной земли!
Однако он не упомянул о причинах, побудивших его уехать. Разве мог Кау-джер объяснить друзьям, что он скрылся, опасаясь установления на острове чилийской власти, а затем выжидал ухода военного судна в глубине одной из бухт полуострова Харди?
Впрочем, обрадованные встречей, они ни о чем его и не расспрашивали. Для Гарри Родса и Хартлпула одно присутствие этого хладнокровного и энергичного человека, обладавшего безграничной добротой и обширными познаниями, представляло немалую моральную поддержку, ибо их вера в будущее была сильно поколеблена безрассудным поведением переселенцев в последние дни.
— …Несчастные восприняли дарованную им независимость как право напиться вдоволь,— закончил свой рассказ Родс.— Они как будто и не помышляют о создании какой-то организации, установлении определенной власти.
— Ну что ж, это вполне простительно,— добродушно отозвался Кау-джер.— Ведь до сих пор они были полностью лишены развлечений. Когда протрезвеют, займутся серьезными вещами. Что же касается установления власти, признаюсь, я и сам не вижу в этом никакой необходимости.
— Но кто-то должен навести здесь порядок,— возразил его друг.
— Чепуха! Порядок установится сам собой.
— Однако если судить по прошлому…— продолжал Родс.
— Что было, то прошло,— решительно прервал его Кау-джер.— Вчера ваши товарищи по несчастью еще чувствовали себя гражданами Америки или Европы. А теперь они остельцы. Это большая разница.
— Значит, вы считаете, что они…
— Пусть они живут на острове спокойно, раз это их земля. Эмигрантам повезло, ибо здесь нет никаких законов. И незачем создавать их. Если бы не предвзятые идеи, сложившиеся в результате векового рабства, люди всегда договорились бы между собой. Земля предлагает человечеству свои щедрые дары. Пусть оно черпает их по мере сил и возможностей и пусть наслаждается равномерным, братским и справедливым распределением земных богатств. К чему ограничивать это законами?
Гарри Родс, видимо, не разделял оптимистических взглядов собеседника, однако ничего не возразил. В разговор вмешался Хартлпул:
— Но, поскольку братские чувства этих парней проявились пока только в общих попойках, мы решили спрятать от них оружие и порох.
Общество колонизации погрузило на «Джонатан» шестьдесят ружей, несколько бочонков с порохом, пули и патроны, чтобы в бухте Лагоа эмигранты могли охотиться и защищаться от соседних диких племен. Никто и не вспомнил об этом оружии, кроме Хартлпула. Воспользовавшись общей суматохой, боцман решил спрягать его в пещерах, о которых рассказал ему Дик. В первую же ночь гуляний он, с помощью Родса и обоих юнг, перенес ружья с боеприпасами в верхнюю пещеру и завалил грудой ветвей. С этой минуты Хартлпул почувствовал себя спокойнее. Кау-джер одобрил предусмотрительность боцмана.
— Правильно сделали,— сказал он.— Пусть сначала все войдет в привычную колею. Впрочем, здесь, на острове, людям ни к чему огнестрельное оружие.
— Да у них его и нет,— ответил моряк.— Общество колонизации строго следило за эмигрантами. При посадке их обыскивали, проверяли багаж и отбирали огнестрельное оружие. А то, что спрятано в пещере, никто не отыщет, так что…
Вдруг Хартлпул остановился, как бы вспомнив о чем-то, и воскликнул:
— Тысяча чертей! Ведь у них все-таки осталось кое-что, раз мы нашли только сорок восемь ружей из шестидесяти. Сначала я подумал, что произошла какая-то ошибка, но теперь припоминаю, что эти двенадцать недостающих ружей взяли с собой Ривьеры и их друзья. К счастью, это надежные люди, так что опасаться нечего.
— Осталась другая угроза,— заметил Гарри Родс.— Алкоголь. Сейчас все эмигранты обнимаются и целуются, но это ненадолго. Лазар Черони распоясался окончательно. Пока вы отсутствовали, я вынужден был вмешиваться в его семейные дела, иначе он прикончил бы свою жену.
— Чудовище! — сказал Кау-джер.
— Такое же, как все пьяницы… Во всяком случае, обеим женщинам повезло, что вернулся Хальг. Да, кстати, как поживает наш юный дикарь?
— Что вам сказать? Вы ведь знаете его душевное состояние и сами понимаете, Хальг уехал отсюда крайне неохотно. Мне пришлось дать ему слово, что мы вернемся. Поскольку семья Черони остается на острове, положение вещей, конечно, значительно упрощается. Но, с другой стороны, все усложняется пьянством отца Грациэллы. Будем надеяться, когда запасы рома истощатся, он утихомирится.
Пока друзья обсуждали его судьбу, Хальг, оставив «Уэл-Киедж» на попечении отца, бросился к любимой девушке. Какая это была счастливая встреча! Правда, вскоре радость сменилась печалью. Грациэлла рассказала о новых пытках, которым Лазар подвергал семью. Ко всем прежним бедам прибавилось ухаживание подлого Паттерсона, а главное, грубые приставания Сирка, так что теперь она не могла шагу ступить, чтобы не столкнуться с этим подонком, способным на любую пакость. Хальг, слушая Грациэллу, дрожал от негодования.
Лазар Черони громко храпел в углу палатки, отсыпаясь после очередной пьянки. Надеяться на его исправление уже не приходилось.
К этому времени праздник превращался в свою противоположность. Веселое, благодушное настроение исчезло. На некоторых физиономиях появилось злобное выражение. Ром оказывал свое действие.
Утром многие колонисты проснулись с тяжелой головой и снова потянулись к стакану. Постепенно на смену первому приятному опьянению пришло тяжкое похмелье, в дальнейшем грозившее перейти в настоящее буйство.
Некоторые эмигранты, почувствовав надвигавшуюся опасность, стали выходить из игры. Вскоре к ним вернулся здравый смысл, заставивший их задуматься о будущем.
Это была трудная, но вполне разрешимая проблема. На территории острова, равной почти двумстам квадратным километрам, где было немало плодородных земель, лесов и пастбищ, могла прокормиться не только ничтожная кучка потерпевших кораблекрушение, а целая армия людей, правда, при условии, что они расселятся по всему острову, а не осядут лишь в бухте Скочуэлл. У колонистов было достаточно сельскохозяйственных орудий, семян для посева, саженцев. Подавляющее большинство эмигрантов и прежде занималось земледелием, дело для них привычное и не представляло никакой трудности. Конечно, вначале будет чувствоваться нехватка домашнего скота, но со временем благодаря помощи чилийского правительства из Патагонии, из аргентинских пампасов, с равнин Огненной Земли и даже с Фолклендских островов сюда доставят коров, лошадей и овец. Таким образом, в принципе — никаких препятствий для успешного развития колонии; при условии приложения максимальных усилий самими тружениками.
Но, к сожалению, лишь немногие осознавали необходимость немедленно приступить к работе. Люди эти (а прежде всего Паттерсон), не теряя времени, отправились к палатке с корабельным грузом и отобрали нужные им предметы. Одни взяли лопаты, кирки и косы; другие — все необходимое для разведения скота; третьи — топоры и пилы для лесных разработок и т. д. Затем колонисты впряглись в самодельные повозки и двинулись на поиски подходящих земельных участков.
Паттерсон остался на прежнем месте, на берегу реки. С помощью Лонга и Блэкера (последний, несмотря на печальный опыт, все еще жил у ирландца) огородил участок земли, которым завладел с самого начала по праву первого, и обнес его с трех сторон изгородью из толстых кольев. Четвертая сторона граничила с рекой. Затем все трое вскопали землю, разделали грядки и засеяли семенами овощей. Паттерсон надумал заняться огородничеством.
После двухдневного пьянства часть переселенцев раньше других почувствовала, что праздник в честь независимости слишком затянулся, и стала приходить в себя. Вскоре они обнаружили, что некоторые их товарищи уже успели запастись нужными материалами и инструментом. Но поскольку на складе было всего еще вдоволь, то и последующие группы колонистов взяли себе не только все необходимое, но и про запас.
Мало-помалу веселая компания распадалась. Ежедневно новые и новые вереницы нагруженных людей отправлялись в глубь острова. Вскоре почти все эмигранты покинули бухту Скочуэлл, кто толкая перед собой грубо сколоченную тачку, кто сам навьюченный, как ишак. Уходили в одиночку или вместе с женами и детьми.
Корабельные запасы понемногу таяли. Опоздавшие не могли рассчитывать на богатый выбор. Правда, еды оставалось много, так как из-за трудностей перевозки эмигранты брали провизию в обрез. Но с сельским хозяйством дело обстояло гораздо хуже. Более чем тремстам колонистам не досталось ни домашних животных, ни птицы. Пришлось довольствоваться лишь орудиями для обработки земли, забракованными первыми ушедшими партиями.
Опоздавшим не повезло и с земельными участками. Напрасно исколесили они весь остров — все хорошие земли были заняты.
Через шесть недель после отплытия вестового судна из лагеря ушли почти все эмигранты, способные владеть лопатой и киркой. Теперь в поселении насчитывался всего восемьдесят один житель. Люди эти, в силу прежних занятий, не могли приспособиться к нынешним условиям, и многие вынуждены были влачить жалкое существование.
Все они (за исключением Паттерсона да еще десятка крестьян, задержавшихся в лагере из-за болезни) были горожанами. Среди них находились Джон Рам, Боваль, семья Родсов, Дорик, Фриц Гросс, Лонг, Блэкер, семья Черони, пять моряков — Кеннеди, повар Сердей, боцман, двое юнг,— а также сорок три рабочих или причислявших себя к таковым, упорно отказывавшихся от крестьянского труда. И наконец, Кау-джер и оба индейца — Хальг и Кароли.
Три друга продолжали жить на левом берегу реки, у устья которой, в глубине бухты, укрытая от морских бурь, стояла на якоре «Уэл-Киедж». Ничто не изменилось в их жизни, разве что из простой индейской хижины, плохо защищавшей от непогоды, они перебрались в настоящий деревянный дом. Теперь, когда нашего героя уже не волновал вопрос об отъезде с острова, ему хотелось устроиться как-то поудобнее.
Он решил больше не возвращаться в Исла-Нуэва. Раз эта земля свободна, он останется здесь до конца своих дней. Такое решение полностью отвечало желаниям Хальга и привело юношу в полный восторг. Что же касается Кароли, то он, как всегда, беспрекословно подчинился своему другу, хотя на новом месте его заработки лоцмана значительно сокращались.
Но Кау-джер учел это обстоятельство. На Осте вполне можно было прожить охотой и рыбной ловлей. А если бы этот источник существования оказался недостаточным, не исключались и другие возможности. Во всяком случае, Кау-джер, не желая никому быть обязанным, категорически отказался от предназначенной ему доли продуктов, но взял себе сборный дом.
Теперь, когда эмигранты разбрелись по всему острову, многие жилища пустовали. Одно здание перенесли по частям на левый берег и за несколько дней собрали заново.
Когда оно было готово, Кароли и Хальг отправились на остров Исла-Нуэва и через три недели привезли оттуда все имущество. На обратном пути они встретили судно, нуждавшееся в лоцмане. Проводка несколько задержала индейцев, но зато обеспечила продуктами и порохом на всю зиму.
Вскоре жизнь вошла в обычную колею. Кароли и Хальг ловили рыбу и добывали соль, необходимую для консервирования мяса и рыбы, а Кау-джер охотился.
При этом он исходил остров вдоль и поперек, побывал почти у всех колонистов и убедился, что с самого начала они оказались в разном положении. Зависело ли это от врожденного упорства, от предприимчивости, от случайной удачи или от работоспособности переселенцев, трудно было сказать. Так или иначе, уже теперь четко определились успехи одних и неудачи других.
У четырех семейств, первыми приступивших к работе, дела процветали. Это объяснялось, видимо, приобретенным за прошедшее время необходимым опытом. Лесопильня Ривьеров работала полным ходом, и пиломатериалов накопилось столько, что хватило бы на загрузку двух-трех больших кораблей.
Жермен Ривьер встретил Кау-джера очень сердечно, расспросил о событиях в лагере и пожалел, что не участвовал в выборах правительства колонии. Интересно, какую же организацию приняло большинство? Кого избрали губернатором?
К своему разочарованию, предприниматель узнал, что никаких событий, кроме упомянутых, не произошло. Эмигранты постепенно рассеялись по всему острову, даже не позаботившись об организации управления колонией. Но еще больше озадачил Жермена Ривьера его собеседник, казалось, одобрявший их беспечность.
Колонист показал Кау-джеру штабеля[117] досок, высившиеся вдоль берега:
— А мой лес? Если нет государственной организации, где я продам его?
— Этим займется тот, кому выгодно. Но я убежден, что вы и сами сумеете сбыть его.
— Каждый хочет получить вознаграждение за свой труд,— ответил промышленник,— и если на Осте мне не повезет, я уеду. Поищу такие края, где легче заработать на жизнь. Добраться туда я сумею, как вы сказали, сам. И другие уедут вместе со мною. А у кого не хватит сил, тем останется только протянуть ноги.
— Оказывается, вы честолюбивы, господин Ривьер!
— Да уж иначе я не стал бы так лезть из кожи! — ответил тот.
— А вообще стоит ли лезть из кожи?
— А как же. Если бы люди работали вполсилы, земля и поныне оставалась такой, какой была в самом начале своего возникновения, и прогресс был бы пустым словом.
— Прогресс! — с горечью усмехнулся Кау-джер.— Он совершается в пользу очень немногих…
— Самых разумных и энергичных.
— В ущерб большинству.
— Людей ленивых и слабовольных. Эти всегда гибнут в борьбе за существование. При разумной власти они худо-бедно смогут прожить, а предоставленные самим себе умрут голодной смертью.
— Для того чтобы выжить, нужно не так уж много!
— Хм… Особенно много нужно людям слабым, больным или неприспособленным. Им всегда нужна власть. Если не будет законов, которые в конечном счете необходимы, беднягам придется переносить тиранию более сильных личностей.
Кау-джер с сомнением покачал головой.
Он уже слышал подобное утверждение. Человеческое несовершенство, неравенство от рождения — все эти «вечные» объяснения, к которым прибегают люди, чтобы оправдать эксплуатацию и насилие, хотя по природе своей подобные явления нельзя считать неотвратимыми.
На душе было неспокойно. Воспоминание о поведении Льюиса Дорика и его компании во время зимовки: бессовестная обираловка ими наиболее слабых эмигрантов,— придавало особое значение тому, о чем говорил этот человек, характер которого он достойно оценил.
Соседи Ривьеров производили такое же благоприятное впечатление. Джимелли и Ивановы засеяли несколько гектаров рожью и пшеницей. Уже зазеленели молодые ростки, предвещая обильный урожай. Правда, у Гордонов дела обстояли похуже. Их обширные, тщательно огороженные пастбища были почти пусты. Но колонисты надеялись, что скоро поголовье скота увеличится и они получат вдоволь молока и мяса.
В свободное от охоты и рыбной ловли время Кау-джер, Кароли и Хальг обрабатывали маленький огородик возле дома. Таким образом они полностью обеспечили себя пищей и ни от кого не зависели.
Семья Черони, также переселившаяся в один из опустевших домов, начала понемногу оправляться от перенесенных волнений. Хозяин наконец перестал пить по той простой причине, что на всей территории острова больше не осталось ни капли спиртного. Но от последних пьянок здоровье Лазара сильно пошатнулось. Теперь он целыми днями неподвижно сидел перед домом и грелся на солнышке, уныло уставившись в землю. У него непрерывно дрожали руки.
Туллия, со своим обычным неистощимым терпением и добротой, старалась вывести мужа из оцепенения. Ее усилия были напрасны, и бедной женщине оставалось только надеяться, что со временем муж отвыкнет от алкоголя и выздоровеет.
Хальг полагал, что жизнь стала намного приятнее с тех пор, как в семье Черони наступило затишье. Кроме того, все происходившее с Грациэллой принимало для него весьма благоприятный оборот. С отцом девушки, так враждебно относившимся к нему, уже не приходилось сталкиваться. А один из соперников молодого индейца, ирландец Паттерсон, окончательно вышел из игры и больше не показывался: вероятно, сам понял, что без союзника в лице хозяина ему не на что рассчитывать.
Но зато второй поклонник, Сирк, не складывал оружия. С каждым днем он становился все наглее и наглее, дошел до прямых угроз Грациэлле и даже начал нападать, правда исподтишка, на Хальга. В конце декабря юноша случайно встретился с этим типом и услышал какие-то бранные слова, несомненно относившиеся к нему. Через несколько дней, когда Хальг возвращался домой, кто-то, спрятавшись за стеной дома, бросил камень, пролетевший у самой его головы.
Хальг, воспитанный на идеях Кау-джера, не жаждал отомстить подло нападавшему из-за угла, хотя прекрасно понимал, что это дело рук Сирка. И в последующие дни юноша не поддавался на провокации противника.
Если Лазар Черони, пребывавший в состоянии депрессии, не «страдал» от безделья, другие эмигранты оказались в ином положении. Не зная, как убить время, они невольно стали помышлять о будущем. Остались на острове Осте? Прекрасно! Но ведь надо чем-то жить. Сейчас, конечно, у них есть продукты, а что будет дальше?
Правильно поступили те, кто решил пуститься на поиски пропитания. Охота была невозможна из-за отсутствия ружей. Хлебопашество — из-за полного неумения обрабатывать землю. Оставалось рыболовство, и они последовали примеру других колонистов, уже давно занимавшихся этим.
Кроме Кау-джера и обоих индейцев, Хартлпул и четверо бывших матросов также ловили рыбу. Впятером они начали строить баркас, такой же, как «Уэл-Киедж», а пока ходили в море на легких пирогах, сделанных чрезвычайно быстро по индейскому способу.
Моряки научились солить рыбу впрок, обезопасив себя на будущее от голодной смерти.
Теперь, соблазнившись их успехами, еще несколько эмигрантов из рабочих построили с помощью плотников две небольшие лодки и вооружились сетями и удочками.
Но рыбная ловля — дело непростое. Ее нужно хорошенько изучить на практике, а рабочие не имели никакого опыта. И, в то время как сети индейцев и моряков трещали под тяжестью улова, колонисты зачастую вытягивали одни водоросли. Лишь изредка им удавалось несколько разнообразить свой скудный стол, а чаще всего они возвращались несолоно хлебавши.
Однажды, когда этим горе-рыбакам особенно не повезло, их каноэ встретилось с возвращавшимися домой Хальгом и Кароли. На палубе «Уэл-Киедж» красовалось несколько десятков крупных рыб. Неудачники позавидовали улову индейцев.
— Эй, вы!… Индейцы! — крикнул кто-то с каноэ.
Кароли направил шлюпку в их сторону.
— Что надо? — спросил он, приблизившись.
— Не стыдно так нагружать лодку только для троих, когда здесь полно голодающих? — шутливо спросил один из эмигрантов.
Кароли засмеялся. Он давно впитал в себя идеи Кау-джера о том, что все принадлежащее одному человеку принадлежит всем людям и что каждый должен делиться излишками с тем, у кого нет даже самого необходимого, и поэтому не колеблясь ответил:
— Держите!
— Кидай! — радостным хором ответили те.
Индейцы перебросили половину улова в каноэ.
— Спасибо, приятель! — закричали переселенцы и взялись за весла.
Хотя Хальг заметил в каноэ Сирка, он не стал противиться великодушному поступку отца. Там был не один Сирк, да и вообще нельзя отказывать в помощи никому, даже врагу. Как видно, ученик Кау-джера делал честь своему учителю.
Но пока одни колонисты старались провести время с пользой, другие пребывали в полной праздности. Для некоторых подобное состояние было вполне обычным явлением. Ну чем, например, мог заняться Фриц Гросс, дошедший до полной деградации[118], или Джон Рам, неприспособленный к жизни, как малый ребенок?
Ну, а Кеннеди и Сердей? Хотя эти молодцы были людьми иного склада, они тоже бездельничали. Учтя опыт прошедшей зимы, матрос и кок остались на острове и теперь намеревались прожить не работая, «на готовых хлебах».
Пока все шло согласно их расчетам. Большего не требовалось, они вели беззаботное существование, не думая о будущем.
Так же проводили время и Дорик и Боваль. Не подготовленные к своеобразным условиям жизни на необитаемом острове, вплотную столкнувшись с суровой и дикой природой, они оказались выбитыми из колеи. Вся ученость бывшего адвоката и бывшего преподавателя не имела здесь никакого значения.
Разве мог кто-нибудь заранее предвидеть, что произойдет на Осте? Расселение эмигрантов по всей территории явилось для них подлинной катастрофой и нарушило все их (правда, довольно смутные) планы. Это массовое движение лишило Дорика его трусливой клиентуры, а Боваля — многочисленной аудитории.
Однако через два месяца юрист снова воспрянул духом. Если раньше у него не хватало решимости, если события разворачивались независимо от его воли, это еще не значило, что все потеряно. Не удалось прежде — могло осуществиться в будущем. Остельцы не побеспокоились о выборах правителя, следовательно, место оставалось вакантным. Занять его, только и всего.
Ограниченное количество избирателей не служило препятствием к успеху. Наоборот, среди малочисленного населения легче провести избирательную кампанию. Мнение остальных колонистов не принималось в расчет, ибо, рассеянные по всей территории острова, оторванные друг от друга, они не имели никакой возможности договориться о каких-либо совместных действиях. Если им и придется снова вернуться в основной лагерь, они найдут здесь уже организованное управление и вынуждены будут примириться со свершившимся фактом.
Итак, Боваль приступил к избирательной кампании и благодаря своему блестящему красноречию вскоре отвовевал в свою пользу еще с полдесятка голосов. Тогда он немедленно устроил некое подобие выборов. Из-за множества воздержавшихся — ведь почти никто не осознавал важности происходящего — пришлось голосовать дважды. В конечном счете за адвоката было около тридцати человек.
Избранный при помощи такого ловкого маневра, Боваль, всем представляя выборы всерьез, не счел нужным беспокоиться о судьбе колонии. Зачем быть правителем, если это не дает права жить за счет избирателей?
Однако Боваля теперь угнетали другие заботы. Здравый смысл подсказывал ему, что первая обязанность правителя — распоряжаться людьми. А это оказалось не так просто, как он воображал раньше.
Несомненно, будь на месте Кау-джера Дорик, все это угнетало бы его гораздо меньше. Коммунистическая идея, которую он проповедовал, слишком упрощена. Совершенно ясно, что основная мысль «Все принадлежит всем», какие бы чувства ни возникали при анализе ее материальных и духовных последствий, должна усваиваться очень легко независимо от того, внедряют ли ее насильно в соответствии с определенными законами или же заинтересованные лица соглашаются воплощать подобные идеи добровольно. И у остельцев были не такие уж плохие шансы для того, чтобы осуществить это на практике. Немногочисленная кучка, изолированная от остального мира,— и оказалась в наилучших условиях, для того чтобы довести эксперимент до победного конца. И весьма вероятно, что в этой специфической ситуации им бы удалось добиться успеха в деле осуществления своих коммунистических идеалов, т. е. они обеспечили бы себе самое необходимое и полное равенство путем всеобщего нивелирования, но не за счет обогащения бедных и гонимых, а за счет понижения уровня жизни имущих.
К сожалению, Фердинанд Боваль проповедовал не коммунизм, а всего лишь коллективизм, структура которого, несмотря на внешнюю схожесть с первым, требовала создания механизма более тонкого и сложного.
Но было ли осуществимо это учение? Никто не знал. Социалистическое движение, сформировавшееся во второй половине XIX века, было далеко не бесполезно. Оно призывало к общему состраданию, стремилось обратить внимание на нищету человечества, направить умы на поиски способов смягчить ее, пробудить стремление создать новые справедливые законы. Но этого результата можно было достигнуть, только сохранив нетронутым тот социальный строй, который сам социализм стремился разрушить. Если бы он встретил жесткую критику существующей системы, его редкая несостоятельность в плане перестройки общества скоро стала бы очевидной. Все, кто принялся за осуществление второй части этой задачи, порождали лишь на редкость наивные проекты.
Наиболее печальная сторона положения Фердинанда Боваля состояла в том, что он не мог ни критиковать, ни разрушать, так как на Осте не существовало ничего достойного этого занятия, и поэтому он был поставлен в необходимость созидать. А как — неизвестно.
Ведь социализм — это не наука, основанная на письменных трудах. Полной его доктрины не существует. Социализм разрушает, не порождая при этом ничего. Боваль, вынужденный создавать, понял, что импровизировать отдельные элементы любого социального порядка очень нелегко, и осознал, что человечество пробиралось к вечному будущему на ощупь, довольствуясь взаимными уступками. Это происходило потому, что оно не могло поступать иначе.
Теперь он стал сам правителем и у него появилась главенствующая идея. Не существует школы социализма, которая бы не проповедовала устранения конкуренции путем обобществления средств производства. В этом состоят минимальные требования, общие для всех группировок, и, в частности, в этом заключается кредо коллективистов. Бовалю оставалось только придерживаться этих условий.
К сожалению, если подобный принцип имел хотя бы внешнее право на существование в старом обществе, где вековые усилия воссоединили сложные и могущественные производственные структуры, то на Осте ничего подобного не существовало. Истинные средства производства — это руки и отвага колонистов (разве только, преобразовывая коллективизм в простой и ясный коммунизм, остельцы не станут рассматривать как таковые земледельческие орудия, леса, поля и луга!). Поэтому пока что Боваль пребывал в состоянии глубокой растерянности.
Его избрание привело к непредвиденным последствиям. Лагерь, в котором оставалась ничтожная кучка людей, почти опустел, ибо колонисты стали уходить из бухты Скочуэлл.
Первым подал пример Гарри Родс. Обеспокоенный неожиданным поворотом событий, он перебрался за реку в тот самый день, когда Бовалю удалось удовлетворить свое тщеславие. Плотники по частям перенесли его жилище на левый берег и собрали по образцу дома Кау-джера, более комфортабельным и прочным.
Примеру Родса последовали Смит, Райт, Лоусон, Фок, оба плотника, Обар и Чарли, и еще двое рабочих. Вокруг дома Кау-джера возник настоящий поселок, соперничавший со старым лагерем. Еще раньше тут обосновались Хартлпул и четыре матроса, так что в новом селении насчитывался двадцать один житель, в том числе двое детей — Дик и Сэнд, и две женщины — жена и дочь Гарри Родса.
Здесь ничто не нарушало добрососедских отношений, и жизнь текла спокойно, пока не появился Боваль и не вызвал первый инцидент.
В тот день Хальг в присутствии Гарри Родса завел серьезный разговор с Кау-джером, прося совета в отношении некоторых колонистов с того берега. Речь шла о незадачливых рыбаках, которые, некогда воспользовавшись щедростью огнеземельцев, стали попрошайничать все чаще, и теперь не проходило дня, чтобы доля улова индейцев не оставалась в их руках. Эти люди, окончательно потеряв совесть и решив не затрачивать лишних усилий, просто оставались на берегу, дожидаясь возвращения шлюпки, и требовали, как должного, части добычи.
Подобная бесцеремонность начала злить Хальга, тем более что в шайке бездельников находился его враг — Сирк. Но, прежде чем отказать колонистам, юноша хотел знать мнение своего старшего друга.
Все трое сидели на песчаном берегу. Перед ними расстилалась необъятная морская гладь. Выслушав подробный и взволнованный рассказ молодого индейца, Кау-джер ответил:
— Взгляни на это бесконечное пространство, Хальг, и пусть оно привьет тебе более глубокие философские взгляды на жизнь. Ты, незаметная песчинка, затерянная в огромной Вселенной, волнуешься из-за нескольких рыбешек?! Что за безумие! У человека только одна обязанность, мой мальчик: любить людей и во всем помогать им. Те, о которых ты говорил, несомненно нарушили свой долг. Но это не причина поступать как они. Запомни простое правило: обеспечив себя самым необходимым, ты должен помочь всем остальным. А то, что они злоупотребляют твоей помощью, не имеет ровно никакого значения. Тем хуже для них, а не для тебя.
Хальг почтительно выслушал своего наставника и собирался ему ответить, как вдруг собака Зол, лежавшая у ног собеседников, тихо зарычала. И тотчас же позади них кто-то позвал:
— Кау-джер!
Тот обернулся:
— А, господин Боваль!
— Он самый… Я хотел бы поговорить с вами.
— Слушаю.
Но губернатор начал не сразу. Он был явно смущен. Правда, бывший адвокат заранее приготовил свою речь, но, очутившись лицом к лицу с невозмутимым анархистом, как-то странно оробел. Все пышные фразы моментально испарились из памяти, будто он только сейчас осознал всю невероятную глупость своего поступка.
Ружье Кау-джера, лежавшее перед ним на песке, вызывало особую зависть Боваля. Ведь оно обеспечивало владельцу полное превосходство над всеми остальными! И разве не было естественным и законным, чтобы это преимущество принадлежало губернатору, то есть тому, кто представлял интересы всего общества?
— Кау-джер,— наконец решился Боваль,— известно ли вам, что меня недавно избрали губернатором Осте?
Тот иронически улыбнулся в ответ.
— Я полагаю, что первой моей обязанностью в подобных обстоятельствах является передача на службу общества личного имущества, которое может быть полезным для колонии.
Боваль умолк, ожидая одобрения собеседника, но, услышав в ответ одно молчание, заговорил снова:
— У вас имеются ружье и шлюпка. Причем то и другое лишь у вас одного. Ружье — единственное огнестрельное оружие во всей колонии, а «Уэл-Киедж» — единственная надежная лодка, на которой можно выйти в море на продолжительное время.
— И вам захотелось присвоить то и другое? Тогда возьмите сами,— спокойно сказал Кау-джер.
Адвокат сделал шаг. Собака угрожающе зарычала.
— Должен ли я расценивать это как неподчинение законному главе колонии? — спросил Фердинанд Боваль.
Во взгляде Кау-джера вспыхнул гнев. Он поднял ружье, встал и, ударив прикладом о землю, отчеканил:
— Довольно ломать комедию. Я уже сказал: возьмите у меня ружье сами.
Возбужденный поведением хозяина, Зол оскалил клыки. Боваль, испугавшись агрессивного пса, а также решительного тона и геркулесовой силы[119] его хозяина, счел благоразумным дальше не настаивать. Он потихоньку ретировался[120], бормоча под нос какие-то невнятные слова, вроде, мол, доложит обо всем случившемся совету и будут приняты надлежащие меры.
Не обращая больше внимания на «губернатора», Кау-джер повернулся к нему спиной и перевел взгляд на море. Однако Гарри Родс счел этот случай весьма знаменательным и решил сделать надлежащие выводы.
— Как вы расцениваете предложение Боваля? — спросил он.
— Как можно расценивать слова и поступки этого паяца?
— Пусть паяц,— возразил Родс,— но ведь он все-таки губернатор.
— Сам себя назначил губернатором, ведь в их поселении не наберется и полсотни колонистов.
— Достаточно и одного голоса для большинства.
Кау-джер только пожал плечами.
— Заранее прошу прощения за нескромный вопрос,— продолжал собеседник,— но скажите откровенно: вы не испытываете сожалений или угрызений совести?
— Я?
— Да, вы. Ведь никто из колонистов не знает край лучше вас. Никто не знаком с его богатством и трудностями. При этом вы обладаете умом, энергией и авторитетом, необходимыми, чтобы внушить уважение безвольным и невежественным людям. А вы остаетесь безучастным и равнодушным свидетелем их несчастий. Вместо того чтобы вести этих бедняг к победе над силами природы, вы предоставили им свободу бродить в потемках. Хотите этого или нет, но на вас ляжет ответственность за все их грядущие беды.
— Ответственность? — возмутился Кау-джер.— Да разве я был должен и не выполнил?
— Долг сильного — помогать слабому.
— А я не помогал?… Не спасал людей с «Джонатана»? Или отказывал кому-нибудь в помощи и совете?
— Вы могли сделать еще больше,— резко ответил Гарри Родс,— Всякий человек, превосходящий других по интеллекту и нравственным качествам, помимо своей воли или желания, отвечает за них. Вам следовало бы управлять событиями, а не подчиняться им. Вы были обязаны защитить и возглавить этих не приспособленных к борьбе людей.
— Лишив их свободы? — с горечью прервал его Кау-джер.
— А почему бы и нет? Ясное дело, для хороших людей достаточно убеждения. Но ведь отдельные личности уступают только принуждению — закону и силе.
— Я никогда не применю ни того, ни другого! — пылко воскликнул Кау-джер.
Помолчав, он снова заговорил, но более спокойно:
— Давайте покончим с подобными разговорами раз навсегда. Друг мой, я — непримиримый противник какого бы то ни было правительства. Всю жизнь я размышлял над этой проблемой и пришел к выводу, что не может быть таких обстоятельств, при которых человек имел бы право посягать на свободу себе подобных.
Любой закон, предписание или запрещение, изданные во имя мнимого интереса масс и направленные против отдельной личности,— обман и надувательство. Пусть личность развивается в абсолютной свободе, а масса обретет всеобщее счастье, сотканное из счастья отдельных лиц. Этому убеждению, составляющему суть моей жизни (но не в моей власти, как бы велика она ни была, внедрить его в прогнившие цивилизации Старого Света), я пожертвовал многим, больше чем все люди, которые когда-либо имели возможность это сделать и не сделали,— и поделом им! — и вот я пришел сюда, на Магелланову Землю, чтобы жить и умереть свободным на свободной земле. Мои убеждения с тех пор не переменились. Я сознаю, что свобода имеет свои неудобства, но они будут постепенно смягчаться в самом процессе жизни, и, во всяком случае, они менее суровы, чем вызванные законами осложнения, порождающие страстное стремление эти законы уничтожить. События последних месяцев глубоко огорчили меня, но не изменили моих взглядов. Я был, есть и буду одним из тех, кого называют анархистами. Как и у них, мой девиз: «Ни Бога, ни властелина». Пусть все сказанное мною останется между нами, и давайте больше никогда не возвращаться к этой теме.
Итак, хотя действительность и поколебала веру Кау-джера, он все же не хотел сознаться в этом и не только не отказался от своих теорий, но продолжал цепляться за них, как утопающий за соломинку.
Гарри Родс выслушал жизненное кредо[121] своего друга, изложенное решительным, не допускающим возражений тоном, и лишь тяжело вздохнул в ответ.
Глава VIII ХАЛЬГ И СИРК
Кау-джер считал свободу самым большим благом в мире. Ревниво оберегая собственную, он всегда требовал уважения и к чужой свободе. Но, так или иначе, авторитет его был настолько высок, что люди повиновались ему, как самому деспотичному властителю. Хотя он никогда не повышал голоса, колонисты принимали любой его совет как приказ и почти все безропотно повиновались ему.
Поселенцы не строили дома на левом берегу реки только потому, что там уже было жилье. Обеспокоенные анархистским духом колонии и какой-то тревогой, внушаемой самозваным правительством, захватившим всю власть, люди инстинктивно теснились вокруг человека, чья физическая сила, широта интеллекта и моральные принципы внушали уважение.
Чем ближе соприкасались они с Кау-джером, тем сильнее ощущали его влияние. Хартлпул и четверо матросов решительно считали его своим командиром, а у Гарри Родса, более способного понять скрытые пружины поступков лидера, преданность ему доходила почти до того, что называется дружбой.
Кароли и Хальг преклонялись перед ним беспредельно. Оба они представляли полное опровержение его теории, исключающей существование всякого божества, так как он был богом для обоих друзей: для отца, которому помог обеспечить материальное существование, и сына, которого буквально вытащил из полуживотного состояния, свойственного народам Огненной Земли. Малейшее его слово было для них законом и непреложной истиной.
Поэтому не было ничего удивительного, что Хальг, несмотря на жгучее желание противодействовать домогательствам грабителей, подчинился убеждениям его наставника. Теперь Сирк и его шайка могли безнаказанно проявлять свою наглость, ибо Хальг, хотя и скрепя сердце, все еще продолжал отдавать негодяям часть улова.
Но настал момент, когда намеченная учителем линия поведения по логике вещей привела к противоположным результатам.
Хальг вырос у воды и был опытным рыбаком, но и это не всегда гарантирует от случайных неудач. И вот однажды, избороздив море вдоль и поперек, юноша ничего не поймал. Выбившись из сил, он возвращался домой с единственной небольшой рыбой.
Сирк в компании четырех колонистов лежал на песчаном берегу, лениво развалясь. Они поджидали, как обычно, прибытия «Уэл-Киедж». Как только шлюпка причалила, мужчины поднялись и пошли навстречу Хальгу.
— Нам сегодня опять не повезло, приятель,— сказал один из них.— Хорошо, что ты вернулся, а то пришлось бы потуже затянуть пояса.
Попрошайки даже не утруждали себя выдумкой. Каждый день они выклянчивали добычу почти в одних и тех же выражениях, и всякий раз Хальг коротко отвечал: «К вашим услугам». Но на этот раз получилось иначе:
— Сегодня ничего не выйдет.
Это крайне удивило просителей.
— Ничего не выйдет? — растерянно повторил один из них.
— Посмотрите сами,— сказал Хальг.— Одна-единственная рыбешка — все, что я поймал.
— Что ж, придется довольствоваться этим,— заявил другой, прикидываясь добродушным.
— Да? А как же я?— возразил юноша.
— Ты?! — возмущенно воскликнули все в один голос.
В самом деле, каков нахал! Неужели этот индеец полагает, что пять культурных людей, оказывающих ему честь, принимая его дары, будут считаться с ним?
— Послушай-ка, неумытая рожа! — закричал один из колонистов.— Какой же ты друг после этого? Неужели у тебя хватит совести отказать нам?
Хальг промолчал, полагая, что поступает согласно принципу Кау-джера: «После того, как обеспечишь себя, помоги другим». Учитель сказал: «После того, как…» Одной рыбы явно не хватало на ужин им самим; следовательно, Хальг имел все основания оставить ее себе.
— Ну, это уж слишком! — заявил третий колонист, возмущенный молчаливым отказом индейца, воспринятым как проявление чистейшего эгоизма.
— К чему столько разговоров? — прервал его Сирк вызывающим тоном.— Если черномазый не дает рыбу — возьмем ее силой.— И, повернувшись к Хальгу, крикнул: — Считаю до трех: раз… два… три…
Хальг, не отвечая, приготовился к защите.
— Вперед, ребята! — скомандовал Сирк.
Пятеро мужчин разом набросились на индейца и вырвали добычу у него из рук.
— Кау-джер! — успел крикнуть юноша.
Кау-джер и Кароли выбежали из дому. Увидев, что творится, они бросились на помощь Хальгу.
Нападавшие не ожидали их появления и пустились наутек. Хальг поднялся; хоть и немного помятый, но целый и невредимый.
— Что случилось? — взволнованно спросили его.
Молодой индеец рассказал, как все произошло. Кау-джер слушал, нахмурив брови. Новое доказательство человеческой злобы опять подрывало все его оптимистические теории. Сколько же еще потребуется фактов, чтобы этот человек признал свое заблуждение и, прозрев, увидел людей такими, какими они являются в действительности?
Но при всем своем альтруизме[122] Кау-джер не мог порицать Хальга. Совершенно очевидно, что правда была на стороне юноши. Учитель только заметил ему, что причина ссоры не стоила такой яростной защиты. Однако на этот раз Хальг не сдался.
— Да ведь все это произошло совсем не из-за рыбы! — воскликнул он, еще разгоряченный борьбой.— Не могу же я, в конце концов, повиноваться им, как раб!
— Ну конечно… конечно,— согласился Кау-джер.
А Хальг, продолжая изливать свое негодование, вдруг выпалил:
— Неужели я буду всегда уступать Сирку!
Не ответив на этот крик возмущенной души, Кау-джер только успокаивающе похлопал юношу по плечу и молча удалился.
Знали ли Сирк и его шайка о продовольственном положении колонии или же их поступки объяснялись просто свойственной им наглостью? Как бы то ни было, только слепец мог не видеть, что колонии грозила самая страшная опасность — голод. А что же происходило в центральных районах острова? Если даже предположить, что там все обстояло благополучно, рассчитывать на создание каких-либо запасов раньше будущего лета не приходилось. Значит, предстояло прожить еще целый год на собственном иждивении, тогда как продуктов оставалось не больше чем на два месяца.
В поселке на левом берегу дела обстояли несколько лучше. Здесь, по совету Кау-джера, с самого начала решили ввести паек, и все переселенцы всячески старались экономить имевшиеся запасы. Они разводили огороды, ловили рыбу. По сравнению с ними беспечность шестидесяти эмигрантов, проживавших на правом берегу, была просто поразительной. Что ожидало этих лежебок в будущем?
Но неожиданно к колонистам пришло спасение.
В Чили вспомнили о своем обещании помогать нарождавшемуся государству. В середине февраля против лагеря в бухте Скочуэлл появился корабль под чилийским флагом. Это парусное судно «Рибарто», водоизмещением в семьсот — восемьсот тонн, под командованием капитана Хосе Фуэнтеса, доставило на остров сельскохозяйственные орудия, скот, семена и продукты. Такой ценный груз мог служить залогом успеха колонии при условии использования надлежащим образом.
Едва бросив якорь, капитан Фуэнтес сошел на берег и вступил в переговоры с губернатором острова. Ясное дело, Фердинанд Боваль не постеснялся представиться под этим титулом. Впрочем, адвокат имел на него право, поскольку других претендентов не было. Тотчас же началась разгрузка судна.
Тем временем Фуэнтес решил сразу выполнить одно порученное ему задание.
— Господин губернатор,— сказал он,— моему правительству сообщили, что некий человек, известный под именем Кау-джер, обосновался на острове Осте. Так ли это?
Боваль подтвердил. Капитан продолжал:
— Значит, наши сведения правильны. Разрешите узнать, что собой представляет этот господин?
— Он революционер,— простодушно заявил Боваль.
— Революционер?! А что вы понимаете под этим словом?
— То же, что и все, я называю революционером человека, который восстает против законов и отказывается подчиняться властям.
— У вас были с ним какие-нибудь осложнения?
— Мне с ним нелегко приходится,— с важностью ответил Боваль.— Кау-джер — своевольная натура… Но я его обуздаю.
Капитан, видимо, заинтересовался полученными сведениями. Подумав, он спросил:
— А можно ли взглянуть на этого субъекта, который уже не раз привлекал внимание правительства Чили?
— Нет ничего проще,— ответил Боваль.— Да вот, кстати, он и сам идет.
И указал на мужчину, переходившего по мосткам реку. Капитан пошел ему навстречу.
— Простите, сударь, можно вас на минуту? — сказал он, приподняв фуражку, украшенную золотым галуном[123].
Кау-джер остановился и ответил на чистейшем испанском языке:
— Слушаю вас.
Но капитан молчал. Впившись взглядом в подошедшего, приоткрыв рот, он смотрел на него с удивлением, которое и не пытался скрыть.
— Ну, что же вы хотели от меня? — нетерпеливо спросил тот.
— Прошу прощения, сударь,— наконец заговорил капитан.— Мне показалось, что я узнал вас… Вроде бы мы с вами раньше встречались…
— Это маловероятно,— возразил Кау-джер с едва заметной иронической усмешкой.
— И все-таки…
Капитан умолк и вдруг хлопнул себя по лбу.
— Знаю! — воскликнул он.— Конечно, вы правы. Мы никогда не встречались. Но вы так похожи на один всем известный портрет… Я просто не могу себе представить, что это не вы.
По мере того как чилиец говорил, его голос становился тише, а тон почтительнее. Умолкнув, он снял фуражку и склонил голову.
— Вы ошибаетесь, сударь,— невозмутимо произнес остелец.
— Но я мог бы поклясться…
— Когда вы видели эту фотографию? — прервал его собеседник.
— Лет десять назад.
Кау-джер решил погрешить против истины:
— Я покинул то, что вы называете «светом», более двадцати лет назад. Следовательно, это никак не мог быть мой портрет. Впрочем, разве вы сумели бы узнать меня? Ведь я был тогда молод… А теперь!…
— Сколько же вам лет? — опрометчиво выпалил капитан.
Подстрекаемый любопытством, предчувствуя, что здесь кроется какая-то странная тайна, Хосе Фуэнтес даже не успел подумать о неуместности такого вопроса — слова сами слетели с его губ.
— Ведь я не спрашиваю о вашем возрасте,— отпарировал Кау-джер ледяным тоном.
Тот прикусил язык.
— Полагаю,— продолжал наш герой,— вы обратились ко мне не для того, чтобы побеседовать о какой-то фотографии? Прошу перейти к делу.
— Хорошо,— согласился капитан.
Резким жестом он снова надел форменную фуражку.
— Правительство Чили уполномочило меня,— сказал Фуэнтес, перейдя опять на официальный тон,— узнать ваши намерения.
— Мои намерения? — удивленно переспросил Кау-джер.— В отношении чего?
— В отношении вашего местожительства.
— Разве это может интересовать Чили?
— Даже очень.
— Неужели?
— Несомненно. Моему правительству известно, каким влиянием вы пользуетесь среди туземного населения архипелага, и оно всерьез озадачено этим обстоятельством.
— Весьма любезно с его стороны,— насмешливо протянул остелец.
— До тех пор, пока архипелаг Магеллановой Земли оставался res nullius[124],— продолжал капитан,— приходилось ограничиваться простым наблюдением. Но теперь положение в корне изменилось. После аннексии…[125]
— Захвата,— процедил сквозь зубы Кау-джер.
— Простите, что вы сказали?
— Ничего. Продолжайте.
— …после аннексии перед чилийским правительством, стремящимся упрочить свою власть на архипелаге, встал вопрос о вашем пребывании в его владениях. Отношение это будет всецело зависеть от вас. Поэтому мне поручено выяснить, каковы ваши намерения. Я предлагаю заключить союз.
— Или объявить войну?
— Так точно. Ваше влияние на местное население неоспоримо. Но будет ли оно направлено против Чили или же вы поможете нам в деле цивилизации диких племен? Станете ли вы нашим другом или противником? Это решать вам.
— Ни тем, ни другим,— ответил Кау-джер.— Я останусь нейтральным.
Капитан с сомнением покачал головой.
— Принимая во внимание ваше положение на архипелаге,— сказал он,— мне кажется, что сохранить нейтралитет будет очень трудно.
— Наоборот, очень легко, и по той простой причине, что я покинул архипелаг Магеллановой Земли навсегда.
— Как — покинули? Однако вы здесь.
— Здесь остров Осте, свободная земля. И я решил больше не возвращаться на ту часть архипелага, которую вы лишили свободы.
— Следовательно, вы окончательно обосновались на Осте?
Мужчина утвердительно кивнул головой.
— Что ж, это значительно упрощает дело,— с удовлетворением сказал Фуэнтес.— Значит, я могу заверить правительство, что вы не будете выступать против него?
— Передайте вашему правительству, что я не желаю его знать,— отчеканил Кау-джер и, поклонившись офицеру, пошел своим путем.
Некоторое время капитан следил за ним глазами. Несмотря на категорическое отрицание этого странного гражданина, чилиец вовсе не был убежден, что замеченное сходство лишь игра его воображения. И в этом таилось нечто из ряда вон выходящее, раз оно так взволновало капитана.
— Странно… странно,— пробормотал он, в то время как его собеседник, не оборачиваясь, медленно удалялся.
К сожалению, Хосе Фуэнтесу не пришлось проверить основательность своих подозрений. Словно боясь дать повод для расспросов о прежней его жизни, Кау-джер вечером того же дня отправился в один из обычных продолжительных походов по острову.
Через неделю корабль был разгружен. Помимо щедрых даров, присланных чилийским правительством для новой колонии, «Рибарто» доставил еще множество различных галантерейных товаров по частному заказу Гарри Родса.
Совершенно несведущий в агрономии и не приспособленный к хлебопашеству, Родс решил стать коммерсантом-импортером. Поэтому после провозглашения независимости острова, когда появились некоторые надежды на успешное развитие колонии, он попросил командира вестового судна выслать с первой же оказией товары для мелочной торговли. Тот выполнил просьбу: «Рибарто» доставил за счет Гарри Родса множество самых разнообразных товаров — одежду, обувь, спички, иголки, нитки, булавки, табак, карандаши, бумагу, чернила и т. д. В общем, вещи недорогие, но весьма необходимые.
Однако последние события дали повод к размышлениям. Может быть, его затея лопнула и лучше оставить весь товар на «Рибарто», самому сесть на корабль и покинуть страну, где нет никаких шансов на успех?
А куда можно отправиться с таким грузом, крайне ценным здесь, в полудиком краю, но не находящим спроса там, где этих предметов сколько угодно? Поразмыслив, Родс решил немного выждать. В конце концов, «Рибарто» — не последний корабль, посетивший остров. Если обстановка не изменится — ну что ж, возможность уехать еще не потеряна.
Разгрузившись, «Рибарто» снялся с якоря и двинулся в путь. А через несколько часов вернулся Кау-джер, словно только и ждал момента отплытия корабля.
Жизнь опять потекла по-прежнему. Одни занимались огородничеством или удили рыбу, а большая часть эмигрантов бездельничала. Но теперь подобная беспечность до некоторой степени объяснялась значительным пополнением продовольственных запасов. Поскольку в лагере сейчас насчитывалось меньше сотни человек (включая жителей Нового поселка, как с общего согласия назвали селение вокруг дома Кау-джера), можно было спокойно прожить еще года полтора.
Что касается Боваля, то он вел поистине царский образ жизни. По правде говоря, адвокат и в самом деле был настоящим царем-лежебокой, потому что царствовал, но не правил. Впрочем, губернатор считал, что все идет отлично.
В первые же дни Боваль специальным постановлением возвел лагерь в ранг официальной столицы острова Осте, назвав ее «Либерия», и после этого великого деяния почил на лаврах.
Великодушный дар чилийского правительства дал Бовалю возможность еще раз проявить власть, направив ее на организацию развлечений для своих подданных. По его приказу половина привезенных спиртных напитков была оставлена про запас, а половина выдана колонистам. Плоды подобной щедрости не заставили себя ждать. Многие эмигранты немедленно набрались до бесчувствия, а больше всех Лазар Черони. Туллии и Грациэлле пришлось снова столкнуться с отвратительными сценами, отзвуки которых потонули в праздничном ликовании. Второй раз лагерь пировал вовсю.
Люди пили, играли в азартные игры, плясали под звуки скрипки Фрица Гросса, воскресшего под действием рома. Те, кто был потрезвее, собирались вокруг талантливого музыканта. Случалось, даже сам Кау-джер переходил на правый берег, привлеченный дивными мелодиями, тем более изумительными, что никогда еще подобные звуки не раздавались в этих краях. Часто его сопровождал кто-нибудь из жителей Нового поселка: Гарри Родс с семьей, которых также очаровывала музыка Фрица Гросса; Хальг и Кароли, для которых она представляла настоящее чудо — недаром они внимали ей с открытыми от изумления ртами; Дик и Сэнд, едва заслышав звуки скрипки, опрометью мчались на другой берег.
При этом Дик, конечно, хотел просто поразвлечься: скакал и плясал что было сил, стараясь попасть в такт. Но его друг вел себя совершенно иначе. Обычно Сэнд становился в первые ряды и, широко раскрыв глаза, дрожа от волнения, напряженно слушал, боясь пропустить хоть одну ноту, и уходил только тогда, когда последняя мелодия улетала в бескрайнее небо.
Кау-джер обратил внимание на сосредоточенный вид мальчика.
— Ты любишь музыку, малыш? — однажды спросил он.
— Очень люблю, сударь! — с глубоким вздохом ответил тот. И добавил пылко:— Если бы я мог играть… Играть так же, как господин Гросс!…
— Вот как? — изумился Кау-джер, которого растрогала восторженность мальчика,— Тебе так хочется играть на скрипке?… Ну что ж, может быть, это удастся устроить.
Сэнд недоверчиво покосился на него.
— А почему бы и нет? При первой же оказии я попрошу, чтобы тебе прислали инструмент.
— Правда? — Глаза у малыша засияли от радости.
— Обещаю! — торжественно заверил его благодетель.— Но уж придется тебе запастись терпением.
По-видимому, большинство колонистов получали истинное удовольствие от музыки, хотя и не относились к ней с таким жаром, как Сэнд. Концерты Фрица Гросса являлись для них просто развлечением в однообразном и унылом существовании.
Бесспорный успех скрипача навел Фердинанда Боваля на блестящую мысль. Регулярно два раза в неделю из неприкосновенных запасов музыканту выдавали определенную порцию рома. Поэтому два раза в неделю в Либерии проходили концерты — совсем как в цивилизованных странах!
Поиски названия для столицы и устройство развлечений для ее жителей полностью исчерпали организаторские способности губернатора. Помимо прочих недостатков, у него была еще одна слабость: любоваться собой и восхищаться своей деятельностью, особенно при виде общей радости. В памяти Боваля возникали классические ассоциации: «Panet et circenses!»[126] — жаждали римляне. А разве он не удовлетворял это извечное требование народа? Чилийский корабль обеспечил колонию хлебом, а будущий урожай даст остальные продукты. Развлечения и удовольствия предоставлялись в виде концертов Фрица Гросса, если, конечно, допустить, что определенной части эмигрантов, имевших счастье находиться под непосредственной властью губернатора, не все моменты праздной жизни доставляли удовольствие.
Прошли февраль и март. Ничто не поколебало оптимизма Боваля. Пока лишь редкие ссоры или драки нарушали покой в Либерии. Но губернатор не считал нужным обращать внимание на такие мелочи. Однако в конце марта наступил конец безмятежному бытию Фердинанда Боваля. Первое событие, явившееся предвестником цепочки трагических происшествий, само по себе не имело особого значения — обычная стычка, но последствия ее оказались таковы, что Боваль решился на сей раз изменить своему принципу невмешательства. Результаты получились самые неожиданные, и вышло, что губернатор оказал сам себе медвежью услугу.
Хальг сыграл главную роль в этом спектакле, где ему пришлось защищать собственную жизнь.
После неравного боя с Сирком и его четырьмя товарищами юноша несколько недель не видел соперника. То ли побаиваясь заступничества Кау-джера, вымогатели решили отказаться от соблазнительной и легкой добычи, то ли прибытие «Рибарто» вселило покой в душу колонистов. Что значили теперь ничтожные рыбешки, когда запасы снова пополнились и казались неисчерпаемыми!
Но, как уже говорилось, корабль доставил не только провизию, но и спиртные напитки. А гак как легкомысленный губернатор приказал выдать их населению, началось массовое пьянство, которое не замедлило привести к пагубным последствиям.
Особенно тяжко отразилось это на семье Черони. Лазар все время пил и терзал обеих женщин. Молодой индеец всегда заступался за них, но зато Сирк всячески потакал отвратительному пороку недостойного мужа и отца. Поведение соперника наполняло гневом сердце юноши. Он никак не мог простить ему слез Грациэллы. Вполне понятно, что вражда между ними вспыхнула с новой силой.
Даже когда иссякли запасы спиртного, спокойствие не восстановилось. Благодаря дружбе с Фердинандом Бовалем матрос, применив метод Паттерсона, продолжал снабжать итальянца ромом — именно так он рассчитывал завоевать расположение хозяина.
Замысел удался. Пьяница открыто перешел на сторону приятеля и всячески ублажал его. Вскоре Лазар начал звать Сирка зятем и клялся, что сумеет сломить сопротивление Грациэллы.
Так обстояли дела, когда утром 29 марта Хальг, переходя через мостик, увидел Грациэллу. Девушка бежала со всех ног, словно спасаясь от погони. И действительно, за нею гнался Сирк.
— Хальг! Хальг! Спаси меня! — закричала Грациэлла, увидев индейца.
Тот бросился на помощь, преградив дорогу разъяренному преследователю.
Но Сирк ни во что не ставил противника. С вызывающей ухмылкой он бросился на врага. Однако дальнейшие события показали, что эмигрант слишком понадеялся на свои силы. Хальг был много моложе, но, живя под открытым небом, обладал обезьяньей ловкостью и стальными мышцами.
Когда матрос кинулся на индейца, тот нанес ему удар одновременно в челюсть и под ложечку. Негодяй свалился как подкошенный.
Хальг и Грациэлла помчались на левый берег, а Сирк, еле-еле отдышавшись, принялся осыпать их проклятиями и угрозами.
Не обращая внимания на бандита, они направились прямо к Кау-джеру. Девушка заявила ему, что жизнь в семье стала совершенно невыносимой. Сирк обнаглел и, несмотря на заступничество Туллии, избил ее. А Лазар — страшно подумать! — как будто даже поощрял негодяя. Наконец Грациэлле удалось вырваться, но, кто знает, чем бы все кончилось, не вмешайся Хальг.
Кау-джер выслушал ее рассказ с обычным спокойствием.
— А теперь,— спросил он, когда девушка замолчала,— что вы собираетесь делать, дитя мое?
— Остаться у вас! — воскликнула Грациэлла.— Умоляю, защитите меня!
— Я обещаю вам мое покровительство. Что касается желания остаться здесь, на это ваша воля. Каждый поступает как ему заблагорассудится. Но я хочу дать совет в отношении жилья. Если вы мне доверяете, попросите приюта у семейства Родсов. Они не откажут, когда вы обратитесь от моего имени.
Грациэлла так и поступила. Родсы приняли беглянку с распростертыми объятиями. Особенно радовалась Клэри: теперь у нее появилась подруга.
Но та терзалась при мысли о матери. Что будет с ней в том аду, где она осталась? Кау-джер успокоил девушку, пообещав предложить Туллии последовать за дочерью.
К сожалению, его благие намерения не осуществились. Туллия, одобряя бегство Грациэллы и радуясь, что та в полной безопасности да еще под покровительством всеми уважаемого семейства, наотрез отказалась покинуть мужа. Она хотела выполнить свой долг до конца и пройти весь тернистый путь — какие бы страдания ни ожидали ее — вместе с человеком, в данную минуту лежавшим пластом после очередной попойки.
Кау-джер и не ожидал иного ответа.
Вернувшись к Родсам, чтобы передать Грациэлле слова матери, он застал там Фердинанда Боваля. Между ним и Гарри шел горячий спор, начинавший принимать неприятный оттенок.
— Что тут происходит? — спросил вошедший.
— Этот господин позволил себе ворваться в дом,— раздраженно ответил хозяин,— и требовать, чтобы Грациэлла вернулась к своему замечательному папаше.
— А разве господина Боваля касаются дела семьи Черони? — осведомился покровитель девушки тоном, предвещавшим начало грозы.
— Губернатора касается все, что происходит в колонии,— напыщенно заявил тот, стараясь придать себе важность, якобы соответствующую его высокому рангу.
— Губернатора?
— Губернатор — я.
— Так… так… — многозначительно произнес Кау-джер.
— Ко мне поступила жалоба… — продолжал Боваль, не реагируя на угрожающую иронию.
— От Сирка,— прервал его Хальг, знавший об их приятельских отношениях.
— Нет, от самого Лазара Черони.
— Как? — воскликнул Кау-джер.— Значит, Черони разговаривает во сне! Я только что оттуда. Он спит и даже храпит вовсю.
— Ваши насмешки не могут опровергнуть факта совершения преступления на территории колонии,— высокомерно ответил Боваль.
— Преступления?! Подумать только!
— Да, преступления. Несовершеннолетнюю девушку отняли у семьи. По закону всех стран такой поступок расценивается как преступление.
— А разве на острове Осте существуют законы? — спросил Кау-джер. Услышав это слово, он передернулся, и его глаза грозно засверкали.— От кого же они исходят здесь?
— От меня, поскольку я представляю интересы колонии,— ответил губернатор с великолепной самоуверенностью.— И на этом основании имею право требовать от всех повиновения.
— Как вы сказали? — вскричал Кау-джер.— Не ослышался ли я? Повиновения? Черт возьми! Так знайте же: остров Осте — свободная земля. Здесь никто никому не повинуется. Грациэлла пришла к нам по своей воле и останется, пока сама не захочет уйти.
— Но… — пытался возразить Боваль.
— Никаких «но»! Тот, кто отважится говорить о повиновении, будет иметь дело со мной.
— Ну, это мы еще посмотрим! Законы надо соблюдать, и если придется прибегнуть к силе…
— К силе? — возмутился Кау-джер.— Только попробуйте! А пока что советую не испытывать мое терпение. Уходите в свою столицу, пока вас отсюда не выпроводили.
У него был такой устрашающий вид, что Боваль счел благоразумным не настаивать на возвращении Грациэллы и удалился. За ним, на некотором расстоянии, шли Кау-джер, Гарри Родс и Хартлпул.
Почувствовав себя в безопасности на другом берегу, губернатор обернулся и пригрозил:
— Мы еще поговорим!
Хотя угрозы казались левобережным жителям смешными, все же с ними приходилось до некоторой степени считаться. Уязвленная гордость придает отвагу самым отъявленным трусам, и вполне могло случиться, что под покровом ночи Боваль со своими прихлебателями нанесет друзьям удар.
По счастью, эту опасность нетрудно было предотвратить. Пройдя с сотню шагов, губернатор обернулся и увидел, что Кароли и Хартлпул снимают мостки, соединявшие оба берега. Все лодки стояли на якоре у Нового поселка, так что сообщение с Либерией было теперь прервано. Возможность неожиданного нападения исключалась.
Разгадав планы противников, адвокат в ярости погрозил им кулаком.
Но те не обратили на него внимания. Одна за другой падали доски настила моста. Вскоре от него остались только сваи, вокруг которых шумно бурлила вода. Отныне оба враждующих лагеря были разделены рекой.
Глава IX ВТОРАЯ ЗИМА
Снова пришел апрель, а с ним и зима. Ничто не нарушало мучительного однообразия жизни обитателей Либерии. Пока не наступили холода, они веселились, не беспокоясь о будущем, и резкие скачки температуры, как обычно сопровождавшие равноденствие, застигли их врасплох. При первом же дуновении зимних ветров столица словно вымерла — как и в прошлом году, колонисты забились в свои норы.
Да и в Новом поселке жизнь стала замирать. Пришлось оставить все работы на воздухе, в частности рыбную ловлю. С началом непогоды рыба ушла на север, в более теплые воды Магелланова пролива, и рыбаки поставили лодки на прикол.
Теперь, даже уцелей настил моста, сообщение между столицей и поселком осложнилось и Боваль не смог бы осуществить свои угрозы. Но помнил ли он еще о своем фиаско на левом берегу? Сейчас его обуревали столь важные и неотложные заботы, по сравнению с которыми воспоминание о полученном оскорблении в значительной мере утратило остроту.
Сразу же после объявления независимости Либерия почти опустела, но постепенно ее население снова стало расти. Эмигранты, отправившиеся в глубь острова и потерпевшие там неудачу, возвращались на побережье. Этого губернатор не мог предвидеть.
Лично ему пока не о чем было волноваться. Как он и предполагал, возвратившиеся колонисты безропотно примирились со свершившимся фактом — иначе говоря, с выборами, происходившими без их участия. Никого не удивило, что в сан губернатора возведен Фердинанд Боваль. С самого рождения несчастные люди привыкли ставить себя ниже всех других и восприняли это событие как само собой разумеющееся: кто-то же должен властвовать над ними. Увы, в мире существует неизбежная и неотвратимая необходимость, против которой бессмысленно восставать: одни люди бесправны, другие — сильные мира сего. Первые — подчиняются, вторые — повелевают. Так что все это казалось эмигрантам в порядке вещей.
Но неожиданный наплыв голодающих потребовал от губернатора решения сложной задачи.
Первый колонист, побежденный природой, возвратился из центральных районов острова 15 апреля в конце дня. Устало и понуро шагал он по поселку, за ним плелась жена, бледная, истощенная, в лохмотьях, а дети, две девочки и два мальчика (последнему только что исполнилось пять лет, и на нем почти не было одежды), цеплялись за юбку матери. Печальное шествие!
Жители Либерии окружили их и забросали вопросами. Глава семьи, ободренный тем, что очутился среди товарищей, коротко рассказал свои злоключения. Он отправился в глубь острова одним из последних. Поэтому ему пришлось долго искать свободный участок земли. Колонист нашел его лишь во второй половине декабря и сразу же принялся за постройку жилья. Но с плохим инструментом, да еще и без помощников, он еле-еле справился с этой задачей; совершенно не зная строительного дела, допустил множество ошибок, которые позднее пришлось исправлять. Все это сильно задержало работы.
Через шесть недель, кое-как выстроив простую лачугу, неудачник взялся за подъем целины. Но злой рок[127] навел его на каменистую почву, пронизанную сетью глубоких, разветвленных корней, где застревала и кирка и лопата. Хотя он трудился не покладая рук, к зиме ему удалось расчистить только крошечный участок земли и, следовательно, на урожай не приходилось рассчитывать. А продукты были уже на исходе. Оставив на месте весь инструмент и теперь уже ненужные семена, он возвратился той же дорогой, по которой ушел четыре месяца назад, полный надежд… Целых десять дней колонист с семьей брел через весь остров, зарываясь в снег во время метелей и шагая по колено в грязи, когда наступала оттепель. И вот, изнуренные и голодные, они наконец добрались до побережья.
Боваль помог несчастным. По его распоряжению им отвели один из сборных домов и выдали провизию. После чего губернатор счел инцидент исчерпанным.
Но ближайшие дни показали, что он ошибся. Ежедневно в Либерию возвращался то один, то другой эмигрант. Приходили они либо в одиночку, либо с женами и детьми, но все голодные и оборванные.
В некоторых семьях недосчитывались людей. Куда они девались? Вероятно, погибли. Но все выжившие колонисты, кого постигла неудача (а таких было большинство), устремились обратно на побережье. Нескончаемый поток возвращавшихся создавал большие трудности для разрешения продовольственной проблемы.
К 15 июня население столицы увеличилось более чем на триста человек. Сначала Бовалю кое-как удавалось справиться с этим нашествием. Всех вернувшихся поселяли в сборных домах, где опять образовалась неимоверная теснота. Мест для вновь прибывших не хватало, потому что несколько зданий перенесли на левый берег, а часть строений по приказу Боваля соединили в одно большое помещение, которое он торжественно окрестил своим «дворцом»; многие же вообще были уничтожены просто по беспечности. Пришлось опять селиться в палатках.
Но самым острым все же являлся вопрос питания. Такое количество голодных ртов с невероятной быстротой поглощало запасы, доставленные на «Рибарто». И снова возникли опасения, что продуктов не хватит даже до весны, хотя раньше предполагалось, что колония обеспечена на год с лишним. У Боваля хватило ума правильно оценить создавшуюся ситуацию, и он решился наконец проявить свою власть, издав приказ о введении в Либерии пайка.
Сначала колонисты не подчинялись его распоряжению, поскольку оно не было подкреплено силой. Поэтому, чтобы заставить эмигрантов выполнить приказ, губернатору пришлось мобилизовать среди своих самых горячих приверженцев двадцать добровольцев и поставить их на страже у продовольственного склада, который некогда охраняли матросы «Джонатана». Эта мера вызвала сильное недовольство, но все же губернатору покорились.
Он уже решил, что покончил с возникшими трудностями или, по крайней мере, отдалил тяжелые времена, насколько эго было в человеческих силах, как вдруг на Либерию обрушилось новое бедствие.
Постоянное недоедание, трудный путь, проделанный ими, суровый климат — все это истощило вернувшихся эмигрантов. Случилось то, чего следовало ожидать,— началась страшная эпидемия.
В отчаянии либерийцы снова вспомнили о Кау-джере. До середины июня его отсутствие никого не трогало. Люди легко забывают оказанные им благодеяния, если не рассчитывают на них в будущем. Но, очутившись в безвыходном положении, они сразу же подумали о человеке, столько раз выручавшем их из беды. Почему же он покинул колонистов, когда на них свалилось столько невзгод? Теперь причины раскола между старым и новым поселками казались такими ничтожными по сравнению с людскими страданиями.
Однажды — это произошло 10 июля, когда из-за густого тумана нельзя было выйти из дому,— Кау-джер чинил свою кожаную куртку. Вдруг ему почудилось, что кто-то его зовет. Он прислушался. Через минуту зов повторился.
Он открыл дверь и вышел на крыльцо.
Стояла оттепель. Влажный западный ветер растопил снега. Перед жилищем образовалось большое болото, над которым подымался пар. На расстоянии нескольких шагов ничего не было видно — все застилала непроницаемая пелена. Море угадывалось только по слабому, еле слышному плеску волн, словно и на него давило общее угнетающее настроение.
— Кау-джер! — кричал кто-то из густого тумана.
Едва доносившийся зов казался жалобным стоном.
Он поспешил к реке. Взгляду предстало жуткое зрелище: на противоположном берегу, отделенном от Нового поселка стремительным потоком, столпилось около сотни людей. Полно, людей ли? Скорее, призраков, изможденных, едва прикрытых лохмотьями. Увидев свою последнюю надежду, эмигранты воспрянули духом и умоляюще протянули к нему руки.
— Кау-джер! — взывали несчастные.— Кау-джер!
Человек, к которому они обращались за помощью, вздрогнул от неожиданности. Какие новые бедствия обрушились на Либерию и довели ее жителей до такого ужасного состояния?
Он ободряюще помахал им рукой и позвал на помощь своих друзей. Не прошло и часа, как Хальг, Кароли и Хартлпул восстановили переправу, и Кау-джер поспешил на другой берег. Тотчас же его окружили взволнованные люди, один вид которых мог растрогать самое черствое сердце. Но теперь их запавшие, лихорадочно блестевшие глаза светились радостью: друг и спаситель был вместе с ними. Бедняги теснились вокруг него, каждому хотелось хотя бы дотронуться до одежды. Со всех сторон раздавались ликующие возгласы.
Потрясенный Кау-джер молча смотрел и слушал. Колонисты как на духу выкладывали ему все свои горести. Одни вспоминали собственные беды, другие умоляли помочь умирающим женам или детям.
Терпеливо выслушав все жалобы и зная, что сочувствие — самое лучшее лекарство, он ответил всем сразу. Пусть они вернутся к себе, а он обойдет подряд все дома. Никто не будет забыт.
Эмигранты охотно подчинились и, как малые дети, послушно направились в лагерь.
Кау-джер шел вместе с ними, по пути ободряя или утешая людей, находя для каждого нужное слово. Наконец появились разбросанные в беспорядке здания. Как все переменилось! Повсюду виднелись груды мусора и нечистот. За один год непрочные строения так обветшали, что уже начали разрушаться. Некоторые дома казались вообще необитаемыми, и только кучи отбросов указывали на присутствие жителей. То тут, то там открывались двери, и на пороге показывались жалкие и мрачные фигуры колонистов. На их лицах было написано уныние или отчаяние.
Великий спаситель прошел мимо «дворца» губернатора. Боваль тоже приоткрыл окно, но ограничился тем, что проводил своего противника долгим взглядом. Ненавидя Кау-джера, Фердинанд Боваль прекрасно понимал, что сейчас не время сводить счеты. Никто из либерийцев не простил бы ему враждебных действий против человека, от которого ждали спасения.
В глубине души он радовался вмешательству Кау-джера и также надеялся на его помощь. Легко и приятно руководить людьми, когда все идет хорошо. Но сейчас обстановка накалилась. Губернатор, вынужденный управлять обреченными на смерть, не мог не радоваться появлению человека, который помогал ему удержать непосильное бремя власти.
Итак, никто и ничто не препятствовало Кау-джеру в добрых деяниях. Но какое трудное время настало для него! Каждое утро, с рассветом, в любую погоду он отправлялся из Нового поселка в Либерию и там до позднего вечера обходил дома, раздавал лекарства, вселял бодрость и надежду в сердца отчаявшихся людей.
Несмотря на все свои познания и самоотверженность, Кау-джер не всегда мог преодолеть роковой ход событий. Часто усилия его были напрасны. Смерть пожинала богатый урожай, разлучая супругов, отнимая у родителей детей, оставляя сирот. Повсюду слышались стоны и плач.
Но ничто не могло сломить мужества этого замечательного человека. Как только врач признавал себя бессильным, на смену ему приходил мудрый утешитель.
Однажды утром, когда Кау-джер направлялся в лагерь, кто-то окликнул его. Обернувшись, он увидел странную бесформенную груду, издававшую глухие хрипы. Эта груда оказалась гражданином, который в бесконечном перечне бренных земных существ числился под именем Фрица Гросса.
Четверть часа тому назад, пробудившись от сна, музыкант вышел на мороз, и тут его хватил апоплексический удар[128]. Пришлось собрать с десяток поселенцев, чтобы дотащить грузное тело в защищенное от ветра место. Вскоре у Гросса началась агония[129]. По посиневшему лицу, по частому и хриплому дыханию Кау-джер определил, что у скрипача к тому же воспаление легких, а наскоро произведенный осмотр показал, что никакое лекарство уже не поможет организму, отравленному алкоголем.
Развитие болезни подтвердило правильность диагноза. Когда «доктор» вернулся с обхода других больных, Фрица Гросса уже не было на этом свете. Он лежал на земле, застывший, неподвижный, и глаза его больше не видели окружающего мира.
Кау-джер взял из окостеневших рук музыканта скрипку, издававшую некогда такие божественные звуки,— теперь она никому не принадлежала — и, возвратившись в Новый поселок, направился к дому, где жили Хартлпул и юнги.
— Сэнд! — открыв двери, позвал он.
Мальчик подбежал.
— Я обещал тебе скрипку,— сказал Кау-джер.— Вот, возьми.
Сэнд, побледнев от волнения и восторга, схватил инструмент.
— Эта скрипка принадлежала Фрицу Гроссу.
— Значит, господин Гросс,— пролепетал Сэнд,— решил мне подарить…
— Он умер.
— Что ж, одним пьяницей меньше,— невозмутимо произнес Хартлпул.
Таково было единственное надгробное слово Фрицу Гроссу.
Через несколько дней Кау-джера взволновала другая смерть — Лазара Черони. Туллия слишком поздно обратилась за помощью. Неграмотная женщина, не испытывая особого беспокойства, запустила болезнь мужа, но, узнав, что тот, ради кого она пожертвовала всей своей жизнью, безнадежен, испытала жестокое потрясение.
Впрочем, приди Кау-джер на помощь своевременно, ничто не помогло бы Лазару Черони. Болезнь была неизлечима и являлась прямым следствием его порока. Скоротечная чахотка за одну неделю свела пьяницу в могилу.
Когда все было кончено и покойник предан земле, Кау-джер не покинул несчастную вдову. Убитая горем, совершенно обессиленная женщина, казалось, сама находилась на краю могилы. Все эти годы она жила только любовью к тому, кто покинул ее навсегда. Измученная бесплодными стараниями, Туллия сразу утратила волю к жизни.
Кау-джер увел бедную вдову в Новый поселок к Грациэлле. Если и существовало лекарство, способное исцелить раненое сердце, то лишь чувство материнской любви.
Безвольная, почти не сознавая, что с ней происходит, Туллия собрала жалкие пожитки и покорно пошла за своим покровителем.
В таком подавленном состоянии женщина, конечно, не могла заметить Сирка, стоявшего у мостков через реку.
Кау-джер тоже не заметил его, и они молча прошли мимо.
Но Сирк, завидев их, застыл на месте, побледнев от злобы. Лазар Черони умер. Туллия перебралась в Новый поселок. Это означало окончательное крушение всех надежд. Долго следил негодяй взглядом за двумя удалявшимися фигурами. Если бы Кау-джер обернулся, его поразила бы ненависть, горевшая во взгляде Сирка.
Глава X КРОВЬ
Нескончаемой вереницей возвращались эмигранты, в Либерию. Ежедневно, в течение всей зимы, в поселке появлялись все новые и новые люди. Центральные районы острова казались каким-то заколдованным местом, откуда теперь выходило больше несчастных, чем когда-то ушло туда. К началу июля приток колонистов достиг предела, потом начал иссякать, 29 сентября последний переселенец с трудом спустился с горы и едва добрел до лагеря. Полуобнаженный, худой как скелет, он выглядел ужасно. Дойдя до первых домов, он тут же свалился без сознания.
Подобное зрелище, ставшее уже привычным, не вызвало особых волнений. Беднягу подняли, привели в чувство и тут же забыли о нем.
Больше в лагерь никто не приходил. Чем это объяснялось? То ли остальным повезло, то ли все погибли?
К тому времени в поселок возвратилось более семисот пятидесяти человек; их ослабленные организмы представляли собой прекрасную почву для всевозможных болезней. Кау-джер буквально изнемогал в борьбе с эпидемиями. Зимой смерть косила всех подряд — мужчин, женщин, детей.
Да, много людей погибло… Но много еще и оставалось, так что продуктов, привезенных чилийским судном, не хватало. Слишком поздно решился Боваль ввести в колонии паек: запасы кончались. Кроме того, он не предвидел такого катастрофического возвращения селян и понял свою оплошность, когда выхода уже не было. 25 сентября со склада выдали последние галеты[130]. Перед потрясенными колонистами возник ужасающий призрак голода.
Неужели эмигрантам, спасшимся при крушении «Джонатана», суждено погибнуть медленной и мучительной смертью?
Первой жертвой пал Блэкер. Бедняга умер в ужасных страданиях на третий день после выдачи последних продуктов. Кау-джер, которого позвали слишком поздно, ничего не мог сделать. На этот раз Паттерсон был не виноват. Он голодал наравне с остальными.
Чем же теперь питались либерийцы? Немногие предусмотрительные люди, имевшие запасы, стали расходовать их. Ну, а остальные?
Наш врачеватель совершенно сбился с ног. Ему приходилось не только лечить больных, но и кормить голодных. Со всех сторон неслись к нему мольбы о помощи. Люди цеплялись за его одежду, матери протягивали ему истощенных младенцев. Кау-джера преследовал хор проклятий, жалоб и просьб. Но никто не обращался напрасно. Он щедро оделял всех едой, припасенной в Новом поселке, совершенно забывая о себе самом, не желая сознавать, что затаившаяся опасность, от которой он временно избавлял других, вскоре неумолимо настигнет и его.
А этого следовало ожидать в ближайшем будущем. Соленая рыба, копченая дичь, сушеные овощи — все исчезало с неимоверной быстротой. Если бы в течение месяца ничего не изменилось, среди жителей Нового поселка тоже наступил бы голод.
Положение стало настолько угрожающим, что друзья Кау-джера начали оказывать сопротивление и перестали отдавать свои запасы. Приходилось долго и мучительно пререкаться с ними, чтобы получить хоть что-нибудь для голодающих.
Гарри Родс не раз пытался доказать бесполезность приносимой им жертвы. На что тот надеялся? Всем ясно: ничтожного количества продуктов не могло хватить для спасения населения острова. Что он станет делать, когда припасы кончатся? И есть ли смысл отодвигать неотвратимую и близкую катастрофу за счет тех, кто доказал свое мужество и дальновидность?
Однако Гарри Родс ничего не добился. Кау-джер даже не возражал ему. При виде окружающего горя он просто не считал нужным приводить какие-нибудь доводы и философствовать. Чтобы не допустить гибели множества людей, надо было делиться с ними всем, до последнего куска хлеба. А потом? Там видно будет… Когда продуктов больше не останется, друзья уйдут отсюда, подыщут другое место для поселения и станут жить охотой и рыбной ловлей. К этому времени Либерия, наверно, уже превратится в кладбище. Но, по крайней мере, у них будет ощущение, что они сделали все возможное и невозможное. Нельзя же сознательно и хладнокровно обрекать всех эмигрантов на гибель.
Гарри Родс предложил раздать колонистам сорок восемь ружей, спрятанных Хартлпулом. Может быть, их используют для охоты? Но предложение отвергли. В это время года дичь встречалась крайне редко, а в руках неопытных охотников оружие представляло большую опасность. По некоторым признакам — угрожающим жестам, злобным взглядам, частым ссорам — нетрудно было предугадать, что среди поселенцев назревает буря. Они уже не скрывали взаимной вражды, то и дело упрекали друг друга в постигшей неудаче. Каждый считал, что в теперешнем бедственном состоянии виноват его сосед.
При этом все единодушно проклинали одного человека — Фердинанда Боваля, так опрометчиво возложившего на себя рискованную обязанность управлять себе подобными.
Хотя потрясающая бездарность губернатора вполне оправдывала ненависть эмигрантов, они еще терпели его власть.
Вполне вероятно, что колонисты и не пошли бы дальше тайных сборищ и беспредметных угроз, если бы один из них не увлек остальных на путь действия.
Удивительное дело: даже в таких ужасных условиях призрак власти возбуждал у него зависть! Жалкая власть, заключавшаяся в чисто номинальном владычестве над погибавшими от голода людьми!
И все же Льюис Дорик решил, что не стоит пренебрегать даже видимостью власти, чтобы — как образно гласит народное выражение — «урвать кусок от казенного пирога».
До сего времени ему приходилось терпеть возвышение соперника, но час настал, и он начал борьбу. Поводов для справедливых упреков и нападок на губернатора было больше чем достаточно. Но очутись сам Дорик в его положении, вряд ли он нашел бы выход из создавшейся обстановки. Но, поскольку никто не задавал такого нескромного вопроса, Дорику не приходилось задумываться над ответом.
Боваль не мог не знать о деятельности противника. Из окна «дворца» он часто наблюдал за метаниями возбужденной толпы. Чем ближе была весна, тем больше и больше росла эта толпа, и по ее поведению губернатор понимал, что кампания, проводимая Дориком, дает неплохие результаты. Но, не желая покидать свой пьедестал[131], он подыскивал способы защиты.
Конечно, адвокат прекрасно видел, что колония пребывает в состоянии развала. Но он обвинял в этом чисто внешние причины, в частности климат. Его самоуверенность ничуть не поколебалась. Если он ничего не сделал, то только потому, черт возьми, что ничего нельзя было сделать. И никто на его месте не сумел бы помочь Либерии.
Боваль цеплялся за свою должность не только из-за честолюбия. Его иллюзии о блестящих преимуществах положения губернатора частично рассеялись, и теперь он беспокоился и радовался лишь при мысли о том, что сумел накопить обильные запасы продовольствия. Разве удалось бы сделать это, не будь он правителем? И что произойдет с ним в случае потери власти?
Поэтому бывший адвокат вступил в ожесточенную борьбу за сохранение не только должности, но и жизни. Он сделал ловкий, хитроумный ход — не стал опровергать ни одного предъявленного Дориком обвинения. Боваль понимал, что тут он потерпит полное поражение, и сам начал обличать свои недостатки и указывать на промахи. Из всех недовольных он оказался самым озлобленным.
Однако противники разошлись во взглядах на будущее. Дорик стоял за смену правительства. Адвокат призывал к единению и возлагал на других ответственность за беды, постигшие колонию.
Но кто же являлся причиной этих бед? Фердинанд Боваль считал, что виновны только те немногие эмигранты, которых не коснулась нужда и которым зимой не пришлось искать убежища и помощи на побережье. Он рассуждал очень просто: раз колонисты не вернулись — значит, им удалось как-то прожить. Следовательно, у них имелось продовольствие, и колония вправе конфисковать его в общее пользование.
Население, доведенное до отчаяния, быстро поддалось на провокацию. Сначала колонисты стали рыскать в окрестностях Либерии, а затем образовали целые отряды, вернее, банды, и пускались в дальние экспедиции. Со временем таких отрядов становилось все больше и больше, и, наконец, 15 октября целое войско из двухсот человек под предводительством братьев Мур ринулось на поиски пропитания.
В течение пяти дней они обшарили весь остров. Что они там делали? Об этом можно было судить по растерянным, обезумевшим колонистам, жертвам грабежа, обратившимся к губернатору за защитой. Но тот грубо выгнал их, упрекая в позорном эгоизме. Они обжирались, в то время как их братья умирали с голоду! Несчастные, оторопев, отступали. Боваль торжествовал. Значит, он не ошибся, когда наудачу предсказал, что у тех, кто не вернулся зимой в Либерию, имеются солидные запасы.
Однако этим фермерам пришлось разделить общую участь. Результаты их тяжкого труда были уничтожены, а сами они превратились в таких же нищих и голодных, как их грабители. Отряды братьев Мур налетали на фермы словно саранча, пожиравшая все, что можно было съесть. Кроме того, грабежи стали сопровождаться дикими выходками, свойственными разъяренной толпе, хотя она же первая страдала от них. Засеянные пашни были вытоптаны, птичники разорены, вся живность уничтожена.
Но добыча налетчиков оказалась ничтожной, потому что «изобилие продуктов» у фермеров было весьма относительным. Если они и обеспечили себя пропитанием, то лишь потому, что работали больше других, имели солидный опыт или им повезло с земельными участками, а не из-за какого-то чуда. Поэтому в их скромных жилищах трудно было найти значительные запасы.
Это вызывало у бандитов крайнее раздражение, часто выливавшееся в совершенно варварские поступки. Многих они подвергли настоящим пыткам, чтобы заставить указать тайник, где якобы спрятаны продукты.
Через пять дней после ухода из Либерии разбойничья банда натолкнулась на высокий забор, окружавший усадьбу Ривьеров и их соседей. Еще в начале пути грабители зарились на эти фермы, самые отдаленные и самые процветающие, надеясь хорошенько поживиться.
Но не тут-то было!
Четыре усадьбы, примыкавшие друг к другу, представляли четыре стороны большого квадрата и оказались настоящей неприступной крепостью. Тем более что ее защитники — единственные среди всех колонистов — имели огнестрельное оружие. Первыми же выстрелами фермеры ранили и убили семь человек. Остальные пустились наутек.
Эта стычка охладила воинственный пыл бандитов. Они повернули обратно и к ночи добрались до Либерии. Громкие проклятия и несусветная брань возвестили жителям столицы об их возвращении. Поселенцы высыпали из домов.
Сначала за дальностью расстояния нельзя было понять причину такого шума и они решили, что это крики победы и ликования. Но едва удалось разобрать отдельные слова, как всех охватила растерянность.
— Предательство!… Предательство!…— вопили разбойники.
Предательство?… Жителей Либерии охватил панический страх. Больше всех дрожал Боваль, предчувствовавший несчастье. Он знал: что ни случись, вся вина падет на губернатора. Даже не выяснив, какая опасность угрожает ему, адвокат бежал и заперся во «дворце».
Едва он задвинул засовы, как шумная ватага остановилась у крыльца.
Чего эти люди хотели? Откуда взялись раненые и убитые, которых положили на площади перед его жилищем? Что произошло там и от чьей руки пали несчастные? Чем так возмущена толпа?
Пока Боваль пытался проникнуть в тайну случившегося, разыгралась новая трагедия, причинившая глубокое горе жителям левобережья и поразившая Кау-джера в самое сердце.
Постоянно навещая лагерь, он знал о волнениях среди населения Либерии, но понятия не имел о бандитской шайке, которая покинула поселение еще до его прихода и вернулась после того, как он ушел домой. Возможно, Кау-джер заметил, что за последние несколько дней жителей стало как будто меньше, однако не придал этому особого значения.
Но в тот вечер, движимый каким-то смутным предчувствием, он после захода солнца вышел из дома со своими обычными спутниками — Гарри Родсом, Хартлпулом, Хальгом и Кароли,— дошел до берега реки. Если бы не наступившая темнота, отсюда была бы видна Либерия. Местоположение лагеря угадывалось только по отдаленному гулу и мерцающим огням.
Пятеро друзей сидели на прибрежной скале и молча созерцали ночное небо. У их ног лежал Зол. Вдруг с противоположного берега донеслось:
— Кау-джер!… Кау-джер!… — кричал кто-то прерывающимся голосом, как бы запыхавшись от быстрого бега.
— Я здесь! — ответил он.
Человеческая тень промелькнула на мостике и приблизилась к сидевшим. Они узнали Сердея, бывшего повара с «Джонатана».
— Идите скорее! — сказал он Кау-джеру.
— Что случилось? — спросил тот, сразу поднявшись.
— Там убитые и раненые…
— Раненые?! Убитые?! Что произошло?
— Целый отряд напал на Ривьеров… А у тех оказалось оружие. Ну и вот…
— Какой ужас!
— В общем, трое убито и четверо ранено. Мертвым-то уж, конечно, ничего не нужно, а живым еще можно помочь…
— Иду! — прервал его «доктор» и немедленно отправился в путь, а Хальг побежал за сумкой с медицинскими инструментами.
На ходу Кау-джер засыпал бывшего повара вопросами. Но тот не был в курсе событий. Он не входил в бандитскую компанию и о случившемся знал понаслышке. Впрочем, никто не посылал Сердея за помощью. Он сам, увидев семь безжизненных тел, решил бежать в Новый поселок.
— Правильно поступили,— одобрили его.
Вместе с Гарри Родсом, Хартлпулом и Кароли они уже перешли через реку на правый берег, когда Кау-джер, обернувшись, увидел Хальга, бежавшего с сумкой. Полагая, что юноша вскоре догонит их, они пошли быстрее.
Но вдруг раздался ужасный крик. Все замерли на месте. Им почудилось, что это голос Хальга. Сердце Кау-джера сжалось от мучительной тревоги, и он бросился назад. За ним помчались и все остальные, кроме Сердея. Никто не заметил, как повар сначала отошел в сторону, а затем, сделав большой крюк, бросился со всех ног в Либерию. Смутные очертания его фигуры едва виднелись в темноте.
Как ни спешил наш герой, но Зол перегнал его. Через несколько мгновений лай собаки звучал уже вдалеке. Грозное рычание постепенно утихало, как будто пес пустился по чьему-то следу.
И вдруг в ночи раздался еще один предсмертный вопль.
Но Кау-джер уже не слышал его. Добравшись до места, откуда донесся первый крик, он увидел распростертого на земле Хальга. Молодой индеец лежал ничком в луже крови. Между лопатками у него торчал большой нож.
Кароли кинулся к сыну, но Кау-джер резко отстранил его — надо было действовать. Подняв сумку с инструментами, лежавшую рядом, он одним движением разрезал одежду юноши. Потом с величайшей осторожностью удалил из его тела смертоносное оружие. Открылась страшная рана. Длинное лезвие, вошедшее в спину, прошло почти через всю грудную клетку. Если даже допустить, что каким-то чудом спинной мозг остался невредим, легкое, во всяком случае, было задето. Хальг лежал бледный как смерть и едва дышал. На губах у него выступила кровавая пена.
Кау-джер разрезал на полосы его куртку и наложил на рану временную повязку. Затем Кароли, Хартлпул и Родс подняли юношу и понесли домой.
Только теперь все обратили внимание на злобное рычание Зола. По-видимому, пес вступил в борьбу с каким-то врагом. Кау-джер двинулся в направлении странных звуков, раздававшихся неподалеку.
Не успел он пройти и сотню шагов, как перед ним снова открылась жуткая картина. На земле лежал Сирк, освещаемый бледными лучами выглянувшей луны. Его горло представляло одну огромную зияющую дыру. Из разорванных сонных артерий фонтаном била кровь. Раны были нанесены клыками Зола. Обезумев от ярости, собака все еще не выпускала свою жертву.
Кау-джер с трудом отогнал пса. Потом опустился на колени, прямо в кровавое месиво, покрывавшее землю. Но Сирк уже не нуждался в помощи. Он был мертв, и его глаза, уставившиеся в ночное небо, начали стекленеть.
«Доктор» в раздумье смотрел на погибшего, представляя себе развитие трагических событий. Пока он шел за Сердеем (возможно, соучастником преступления), Сирк из засады бросился на Хальга и нанес ему смертельный удар в спину. Когда все окружили раненого, Зол помчался по следам преступника. Возмездие не заставило долго ждать.
Драма длилась всего несколько минут. И вот оба ее действующих лица лежали на земле. Один уже умер, другой умирал…
Мысли Кау-джера вернулись к Хальгу. Люди, уносившие юношу, почти скрылись во мраке. Мужчина горестно вздохнул. Этот мальчик был тем существом, которое он беспредельно любил. Вместе с ним исчезал основной, если не единственный, смысл жизни.
Прежде чем уйти, он еще раз взглянул на мертвеца. Красная лужа крови не увеличивалась. Почва быстро впитывала ее. Испокон веков земля утоляла свою жажду кровью. И что за важность, будет ли одной каплей больше или меньше в этом орошающем ее, неиссякаемом алом источнике!
Правда, до сих пор Осте избегал общей участи. Необитаемый — он был незапятнан. Но как только на его пустынных просторах поселились люди, сразу же пролилась человеческая кровь.
Наверное, она обагрила эту землю первый, но, увы, не последний раз.
Глава XI ПРАВИТЕЛЬ
Когда Хальга, все еще не приходившего в сознание, положили на кровать, Кау-джер перебинтовал раненого. Веки юноши чуть приоткрылись, губы слегка дрогнули, бледные щеки немного порозовели. Хальг слабо застонал и, не приходя в себя, погрузился в тяжелый сон.
Сделав все, что ему подсказывали опыт и любовь, врачеватель распорядился, чтобы Хальгу обеспечили строжайший покой и полную неподвижность. Затем он поспешил в Либерию.
Горе, постигшее Кау-джера, не отразилось на его альтруизме и поразительной самоотверженности. Оно не заставило этого человека забыть об убитых и раненых, о которых сообщил Сердей. Не выдумал ли все эго бывший повар? Как бы то ни было, следовало самому удостовериться в истинном положении дел.
Близилась ночь. Молодая луна начала склоняться к западу. С темнеющего небосвода опускался неосязаемый пепел ночной мглы. Но вдалеке еще тускло светились огни — в Либерии не спали.
Кау-джер ускорил шаг. В тишине до него донесся едва различимый гул, все усиливающийся по мере приближения к поселку.
Через четверть часа он был у цели. Быстро миновав первые темные дома, вышел на небольшую площадь перед домом губернатора. И тут его глазам представилось совершенно невероятное зрелище. Как будто все жители Либерии решили встретиться здесь, на этой площади, освещенной коптящими факелами. Поселенцы разбились на три группы. Самая многочисленная состояла из женщин и детей, молча наблюдавших за мужчинами. Одни из них расположились в боевом порядке перед губернаторским дворцом, как бы защищая подступы к нему, а вторые сосредоточились напротив, на другой стороне площади.
Нет, Сердей не солгал. Прямо на земле действительно лежало семь человек. Убитые или раненые? Этого Кау-джер не мог определить — в неверном свете колеблющихся факелов они все казались живыми.
Вид и поведение мужчин, стоявших друг против друга, говорили о взаимной вражде. Однако лежавшие между ними неподвижные тела создавали нечто вроде нейтральной зоны, через которую никто не осмеливался переступить. Нападавшие не предпринимали ничего похожего на штурм, а защитники Боваля не имели возможности проявить свою храбрость. Никаким столкновением до сей поры не пахло. Противники только обменивались репликами, при этом нимало не стесняясь. Над распростертыми телами шла ожесточенная перебранка. Вместо пуль в обе стороны летели раскаленные, оскорбительные слова.
Когда Кау-джер вступил в полосу света, настала тишина. Не обращая ни на кого внимания, он направился прямо к пострадавшим и начал перевязывать их. Сердей сказал правду — трое были убиты и четверо ранены.
Оказав первую помощь, Кау-джер огляделся и, несмотря на свое горе, не смог сдержать улыбки при виде множества лиц, выражавших искреннее уважение и вместе с тем самое простодушное любопытство. Эмигранты, державшие факелы, придвинулись к нему, и все три группы, следуя за ними, мало-помалу слились в одну толпу, хранившую глубокое молчание.
Кау-джер попросил помочь. Никто не двинулся с места. Тогда он вызвал нескольких колонистов по имени. Это подействовало — те немедленно вышли из толпы и послушно выполнили распоряжения. Через несколько минут раненых и убитых перенесли домой, и там «доктор» удалил пули и наложил повязку тем, кому требовалась его помощь. Закончив эти операции, он осведомился о причинах кровавого столкновения и узнал о появлении на сцене Льюиса Дорика, о возмущении населения Фердинандом Бовалем, об изобретенном губернатором «отвлекающем средстве», о грабежах ферм и, наконец, о попытке нападения на усадьбу Ривьера и его соседей, в печальных результатах которой мог убедиться воочию.
Последствия этого налета были весьма плачевными. Надежно укрытые за высоким забором, четыре фермера встретили грабителей ружейным огнем. Те отступили, и их единственной поживой оказались тела убитых и раненых товарищей. Поэтому теперь в сердцах бандитов клокотала ненависть, зубы были стиснуты, глаза горели мрачным огнем. Дикое возбуждение сменилось бессильной яростью.
Разбойники считали себя одураченными. Кем? Неизвестно. Но только не собственной глупостью и нелепыми выдумками. Как всегда бывает, они обвиняли кого угодно, но отнюдь не себя.
А где же находились в то время зачинщики, господа Боваль и Дорик? Вне пределов досягаемости, черт возьми! Везде и всегда происходит одно и то же. Волки и овцы. Эксплуататоры и эксплуатируемые.
Но при всех мятежах существует некий определенный ритуал[132], который был хорошо знаком всем участникам смуты на острове Осте, поскольку они не раз пользовались им в прошлом. Для тех, кто в развернувшихся событиях применяет насилие и убийство, жертвы служат своего рода знаменем.
Таким знаменем явились колонисты, пострадавшие при нападении на ферму Ривьера. Бандиты принесли их в Либерию и уложили под окнами Фердинанда Боваля, который, как представитель власти, должен был нести ответственность за случившееся. Но тут грабители натолкнулись на приверженцев губернатора, и началась ожесточенная перепалка, как правило, предшествующая драке.
До кулаков дело пока еще не дошло. Неумолимый этикет точно предопределял последовательность событий. После того как люди накричатся до хрипоты, полагалось разойтись по домам, а на следующий день устроить торжественные похороны погибших. Только тогда можно было опасаться беспорядков.
Появление Кау-джера нарушило исконный ход событий, мгновенно погасило общее возбуждение и озлобление. Вдруг все поняли, что здесь лежат не только мертвые, но и раненые, которые нуждаются в срочной помощи.
Когда миротворец возвращался в Новый поселок, площадь совсем опустела. Со своим обычным непостоянством толпа всегда готова внезапно воспламениться и быстро утихомириться. В окнах погас свет. Жители Либерии засыпали.
По пути Кау-джер думал о том, что произошло с эмигрантами. Воспоминание о Дорике и Бовале не особенно беспокоило его, но поход грабителей по острову вызвал чувство тревоги. Колония и без того находилась в затруднительном положении. Если же переселенцы развяжут междоусобную войну, она окончательно погибнет.
Что же осталось от всех его теорий после столкновения с реальными фактами? Результат был налицо — неоспоримый и несомненный: люди, предоставленные самим себе, оказались неспособными поддержать свое существование. Да, да! Они, это стадо баранов, погибнут от голода, ибо без пастуха не в состоянии отыскать богатые пастбища.
И вот близилась развязка злополучной затеи с колонизацией, продолжавшейся всего полтора года. Как будто Природа осознала, что допустила непоправимую ошибку, и, пожалев о содеянном, бросила на произвол судьбы людей, которые сами в себя не верили. Смерть разила их безостановочно.
При этом эмигранты, видимо, полагали, что Великая Коса[133] недостаточно расторопна, недаром они всячески ей помогали. Там, откуда ушел Кау-джер, оставались убитые и раненые. Здесь, на его пути, лежал труп Сирка. А в Новом поселке ждал сраженный кинжалом юноша, его дитя, единственное существо, к которому он был привязан. Со всех сторон лилась кровь…
Перед тем как лечь спать, Кау-джер подошел к постели Хальга. Состояние больного оставалось прежним — ни хуже, ни лучше. Еще несколько дней он будет между жизнью и смертью. Ведь могло открыться кровотечение.
На следующий день наш герой, совершенно разбитый от усталости и переживаний, проснулся поздно. Осмотрев Хальга, находившегося в том же положении, он вышел из дома. Солнце стояло уже высоко. Утренний туман развеялся. Было тепло. Стремясь наверстать время, Кау-джер ускорил шаг. Ежедневно он навещал больных в Либерии. Правда, с наступлением весны их становилось меньше, но сегодня его ждали четверо раненых.
И вдруг он увидел, что поперек моста выстроилась цепочка людей. За исключением Хальга и Кароли, здесь находились все мужчины Нового поселка. Всего пятнадцать человек. И самое поразительное — все они держали в руках ружья, поджидая именно его. Хотя никто из них не был солдатом, все чем-то походили на военных. Неподвижно, с ружьями у ноги, колонисты стояли со строгими лицами, как бы выслушивая приказ командира.
Гарри Родс, вышедший на несколько шагов вперед, жестом остановил Кау-джера. Тот замер, с удивлением разглядывая странный отряд.
— Кау-джер! — торжественно заговорил Родс.— Давно уже я умоляю вас прийти на помощь несчастному населению острова и взять в свои руки управление колонией. Сегодня в последний раз обращаюсь к вам с этой просьбой.
Его друг, не отвечая, закрыл глаза, чтобы лучше собраться с мыслями. Гарри продолжал:
— Последние события должны были заставить вас задуматься. Во всяком случае, мы все пришли к определенному решению. Ночью Хартлпул, я и еще несколько человек взяли ружья и раздали их жителям Нового поселка. Сейчас мы вооружены и, следовательно, являемся хозяевами положения. События приняли такой оборот, что дальнейшее выжидание было бы просто преступлением. Настало время действовать. Если вы отказываетесь, я сам встану во главе этих честных людей. К сожалению, у меня нет ни вашего авторитета, ни ваших знаний. Не все колонисты мне подчинятся, и, значит, снова будет пролита кровь. Вам же все покоряются безропотно. Решайте.
— Опять что-нибудь случилось? — спросил Кау-джер с обычной невозмутимостью.
— Сами знаете что,— ответил его собеседник, указывая на дом, где умирал Хальг.
Тот вздрогнул.
— И еще вот, взгляните.— И Гарри Родс подвел друга к самому берегу реки.
Оба поднялись на прибрежную скалу. Их взглядам открылась Либерия и болотистая равнина.
В лагере с самого утра царило лихорадочное оживление. Предстояли торжественные похороны убитых. Ожидание этой церемонии приводило всех в страшное возбуждение. Товарищи погибших надеялись превратить ее в демонстрацию. Сторонники Боваля чувствовали, что им грозит опасность. Для остальных же такие похороны представляли просто любопытное зрелище.
Все жители колонии (за исключением Боваля, считавшего, что разумнее всего оставаться взаперти) следовали за убитыми. Конечно, процессия не преминула пройти мимо губернаторского «дворца» и остановилась на площади против него. Льюис Дорик воспользовался этим и произнес пламенную речь. Потом траурный кортеж двинулся дальше.
У открытых могил Дорик снова взял слово и обрушил — наверное, в сотый раз! — яростные обвинения на правителя. Он доказывал, что причиной всех несчастий явились недальновидность, неспособность к управлению людьми и косность губернатора. Настал момент свергнуть человека, не справившегося со своими обязанностями, и выбрать на его место достойного.
Дорик добился блестящего успеха. В ответ на его речь раздались громкие возгласы — сначала: «Да здравствует Дорик!», а затем: «Во дворец!… Идем к губернатору!…» И несколько сот мужчин двинулись к жилищу Боваля, тяжело печатая шаг и угрожающе размахивая кулаками. Глаза у всех гневно сверкали, черными ямами зияли широко раскрытые, орущие рты, выплевывавшие злобные ругательства. Вскоре эмигранты перешли на бег, а затем, толкая и мешая друг другу, понеслись со скоростью лавины. Но их бешеный порыв натолкнулся на препятствие. Те, кто были причастны к управлению и пользовались выгодами власти, боялись последствий смены правителя и именно поэтому превратились в его ярых защитников. На площади обе группы сошлись нос к носу и вступили врукопашную.
Чем дольше длилась драка, тем большее неистовство овладевало бойцами. Настал момент, когда кинжалы сами вырвались из ножен. И опять началось кровопролитие. То один, то другой колонист выходил из строя, отползал в сторону или оставался неподвижным на земле. У многих были раздроблены скулы, переломаны ребра, вывихнуты конечности…
Долгое время ни та, ни другая сторона не могла добиться перевеса, но в конце концов партии Боваля пришлось отступить. Шаг за шагом, метр за метром защитников губернатора оттесняли к «дворцу». Сломив упорное сопротивление, нападавшие отшвырнули их и, сметая все на пути, беспорядочной толпой ринулись в здание. Если бы бунтовщики нашли Боваля, его, несомненно, растерзали бы на части. Но губернатор исчез. Видя, какой оборот принимают события, он вовремя покинул свою резиденцию и в этот момент удирал во все лопатки по дороге к Новому поселку.
Напрасные поиски довели победителей до исступления. Толпа обычно теряет чувство меры как в хорошем, так и в плохом. За неимением жертвы бандиты набросились на вещи. Жилище Боваля разграбили. Убогую мебель, бумаги, скудный скарб выбросили из окна, потом собрали в кучу и подожгли. Через несколько минут — по оплошности или по воле бунтарей — запылал и сам «дворец».
Дым выгнал захватчиков из помещения. Теперь они уже совсем не походили на людей. Опьяненные криком, грабежом и насилием, они начисто утратили самообладание. Их охватило одно-единственное дикое желание; мучить, убивать, уничтожать…
На площади все еще стояла толпа зрителей — женщин, детей, а также безучастных ротозеев, которые обычно становятся козлами отпущения. В общем, здесь скопилась большая часть населения Либерии, но из-за своей робости они не могли сдержать смутьянов.
Противники Дорика сочли благоразумным перейти теперь на его сторону, и вдруг ни с того ни с сего эта шайка напала на мирную толпу.
Началось повальное бегство. Мужчины, женщины, дети бросились на равнину, а за ними, охваченные непонятным бешенством, гнались разъяренные хулиганы.
Со скалы, на которой стояли два друга, ничего не было видно, кроме густого дыма, тяжелые клубы которого докатывались до самого океана. Эта черная завеса окутывала Либерию, приглушая неясные возгласы, призывы, проклятия, стоны. Но вот на равнине появился человек, мчавшийся со всех ног, хотя никто за ним не гнался. Перебравшись через мост, он, обессилев, упал возле вооруженного отряда Гарри Родса. Это был Фердинанд Боваль.
Сначала Кау-джеру все показалось простым и понятным: губернатор, изгнанный с позором, спасся бегством. Либерия охвачена мятежом. В результате — пожар и убийства.
Какой же смысл в таком бунте? Допустим, колонисты хотели избавиться от Боваля. Прекрасно. Но к чему это разбойничье опустошение? Ведь от него первыми же пострадают те, кто принимал в нем участие. Зачем было затевать резню, о которой можно было судить по доносившимся из Либерии крикам?
Кау-джер, прямой и неподвижный, стоял на вершине скалы, молча наблюдая за событиями, происходившими на противоположном берегу. Мучительные переживания не отражались на его бесстрастном лице.
Но тем не менее душу раздирали тягостные сомнения. Перед ним встала тяжкая дилемма[134]: закрыть ли глаза на действительность и продолжать упорствовать в своей ложной вере, в то время как несчастные безумцы перебьют друг друга, или же согласиться с очевидностью фактов, внять голосу рассудка, вмешаться в происходящую бойню и спасти этих людей даже против их воли? То, что подсказы вал ему здравый смысл, означало — увы! — полное отрицание его прежней жизни. Пришлось бы признаться, что он верил в мираж[135], что строил судьбу на лжи, что все его теории не стоили и выеденного яйца и что он принес себя в жертву химере[136]. Какой крах всех идеалов!…
Вдруг из пелены дыма, скрывавшей Либерию, выбежал человек. За ним показался другой, потом еще десятки и сотни беглецов. Среди них было много женщин и детей. Некоторые пытались укрыться в восточных горах, но большинство, настигаемое преследователями, бежало по направлению к Новому поселку.
Последней ковыляла полная женщина, которая не могла быстро двигаться. Один из преступников нагнал ее, схватил за волосы, повалил на землю и замахнулся…
Кау-джер обернулся к Гарри Родсу и сказал:
— Хорошо. Я согласен.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
Глава I ПЕРВЫЕ ШАГИ
Пятнадцать добровольцев во главе с командиром быстро пересекли равнину и через несколько минут были в Либерии.
Драка на площади все еще продолжалась, но без прежнего ожесточения, а скорее по инерции. Многие даже позабыли, из-за чего она началась.
Появление маленького вооруженного отряда как громом поразило дерущихся. Никто не предвидел возможности такого быстрого и решительного действия. Драка сразу же прекратилась. Кое-кто из смутьянов бежал с поля боя, испугавшись неожиданного поворота событий. Другие замерли на месте, тяжело переводя дыхание, как люди, очнувшиеся после кошмарного сна. Резкое возбуждение сменилось тупой апатией.
Прежде всего поспешили потушить пожар, пламя которого, раздуваемое слабым южным бризом[137], грозило переброситься на весь лагерь. Огонь уничтожил бывший «дворец» Боваля, и от него осталась только груда обгоревших обломков, над которыми вился едкий дымок.
Покончив с пожаром и оставив пять человек возле присмиревшей толпы, Кау-джер с десятком своих приближенных отправился в окрестности столицы, чтобы собрать остальных эмигрантов. Это удалось без труда. Со всех сторон колонисты сами возвращались в Либерию.
Через час остельцев созвали на площадь. Трудно было себе представить, что эта мирная толпа еще недавно так бушевала и бесновалась. Только многочисленные жертвы, лежавшие на земле, напоминали о кровавом побоище.
Люди стояли неподвижно, будто пронесшийся шквал сломил их волю. Покорно ожидая дальнейших событий, они равнодушно смотрели на вооруженный отряд.
Кау-джер вышел на середину площади и твердо заявил:
— Отныне я буду править вами.
Какой путь пришлось ему проделать, чтобы произнести эти несколько слов! Так он не только признал в конце концов необходимость власти, не только решился, превозмогая отвращение, стать ее представителем, но, перейдя из одной крайности в другую, превзошел ненавистных ему тиранов, не спросив даже согласия тех, над которыми утвердил власть. Он отказался от свободолюбивых идеалов и сам растоптал их.
Несколько секунд после краткого заявления Кау-джера царило молчание. Потом толпа громко закричала. Аплодисменты, возгласы «Да здравствует Кау-джер!» и «Ура!» разразились подобно урагану. Люди поздравляли, обнимали друг друга, матери подбрасывали кверху своих детей.
Однако у некоторых эмигрантов был мрачный вид. Сторонники Боваля и Льюиса Дорика отнюдь не кричали: «Да здравствует Кау-джер!» Они молчали, боясь обнаружить свои настроения. Что же им оставалось делать? Они оказались в меньшинстве, и приходилось считаться с большинством, поскольку оно отныне обрело вождя.
Кау-джер поднял руку. Мгновенно водворилась тишина.
— Остельцы! — сказал он.— Будет сделано все необходимое для облегчения вашей участи. Но я требую повиновения и надеюсь, что вы не заставите меня применить силу. Расходитесь по домам и ждите моих распоряжений.
Сила и краткость этой речи произвели самое благоприятное впечатление. Колонисты поняли, что ими будут управлять и что им остается лишь повиноваться. Это явилось наилучшим утешением для несчастных, которые только что произвели столь плачевный эксперимент с неограниченной свободой и теперь готовы были променять ее на верный кусок хлеба. Они подчинились сразу и безропотно.
Площадь опустела. Все, в том числе и Льюис Дорик, согласно полученному приказу, разошлись по домам или палаткам.
Новый властелин проводил остельцев взглядом. Горькая усмешка искривила его губы. Его последние иллюзии рассеялись. Видимо, люди не так тяготятся порабощением, как это ему представлялось прежде. Может ли подобная покорность, почти трусость, сочетаться со стремлением личности к абсолютной свободе?!
Кау-джер спешил оказать помощь жертвам мятежа, которых было немало повсюду — и в самой Либерии, и в ее окрестностях. Вскоре всех пострадавших разыскали и доставили в лагерь. После проверки выяснилось, что смута стоила жизни двенадцати колонистам (среди них трое разбойников, убитых при нападении на ферму Ривьеров). Смерть этих эмигрантов не вызвала особых сожалений, поскольку лишь один из них, вернувшийся из центральной части острова еще зимой, мог быть причислен к порядочным людям. Остальные принадлежали к клике Боваля и Дорика.
Наиболее тяжелые потери понесли сами бунтовщики, разъяренные безуспешной борьбой. Ну, а среди безобидных зевак, подвергшихся дикому нападению после пожара «дворца», был убит только один. Другие отделались ушибами, переломами и несколькими ножевыми ранами, не угрожавшими жизни.
Печальные последствия бунта не испугали Кау-джера. Он сознательно взял на себя ответственность за многие сотни человеческих душ, и как бы ни была трудна эта задача, она не поколебала его мужества.
После того как раненых осмотрели, перевязали и отправили домой, площадь опустела. Оставив здесь пять человек для охраны порядка, Кау-джер направился с десятью другими в Новый поселок. Туда призывал его иной долг — там лежал Хальг, умирающий… или уже мертвый.
Состояние молодого индейца не улучшалось, несмотря на прекрасный уход. Грациэлла и ее мать, а также Кароли не отходили от постели больного, и можно было вполне положиться на их самоотверженность. Пройдя тяжелую жизненную школу, молодая девушка, научилась скрывать свои чувства. Она сдержанно ответила на вопросы Кау-джера. По ее словам, у Хальга появилась небольшая лихорадка, он все еще находился в забытьи и только изредка тихо стонал. На бледных губах иногда выступала кровянистая пена, хоть и менее обильная, чем прежде. Это был благоприятный признак.
Тем временем десять человек, сопровождавшие Кау-джера, возвратились в Либерию. Они взяли в Новом поселке съестные припасы и, обойдя все дома, раздали их колонистам. Когда мероприятие окончилось, Кау-джер назначил дежурных на ночь, потом улегся на землю, завернулся в одеяло и попытался уснуть.
Но, несмотря на невероятную усталость, сон не приходил. Мозг продолжал напряженно работать.
В нескольких шагах неподвижно, словно статуи, маячили двое часовых. Ничто не нарушало тишину. Лежа с открытыми глазами, Кау-джер размышлял.
Что он здесь делает? Как могло случиться, что под влиянием обстоятельств он изменил своим убеждениям? И за какие грехи на его долю выпали такие страдания? Если раньше он и заблуждался, то, по крайней мере, был счастлив… Что же мешает ему быть счастливым теперь? Стоит только подняться и бежать, ища забвения от мучительных переживаний в опьяняющих бесцельных странствованиях, которые всегда вносили покой в его душу…
Но теперь — увы! — вернут ли ему эти скитания прежние светлые идеалы? Разве можно забыть, сколько жизней принесено в жертву фальшивому кумиру?! Нет, теперь он отвечает перед своей совестью за переселенцев, заботу о которых добровольно взял на себя… И не освободится от этого бремени до тех пор, пока, шаг за шагом, не доведет их до намеченной цели.
Пусть будет так. Но какой путь избрать для этого?… Не слишком ли поздно?… Имеет ли он право — как, впрочем, и любой другой человек на его месте — заставлять этих людей преодолевать трудности?
Хладнокровно взвешивал Кау-джер возложенную на себя ношу, анализировал стоявшую перед ним задачу и изыскивал наилучшие способы ее разрешения.
Не дать этим несчастным погибнуть от голода? Да, это прежде всего, но еще далеко не все по сравнению с основной целью. Жить означает не только удовлетворять материальные запросы организма, но главным образом сознавать свое человеческое достоинство.
После того как он спасет этих жалких существ от смерти, ему предстоит превратить их в настоящих людей. Но в состоянии ли эти ничтожества подняться до таких высот? Конечно, не все, но, возможно, некоторые… Если указать им на путеводную звезду, которую они сами не смогли найти в небе… если повести их к цели за руку…
Так размышлял в ночи Кау-джер. Так, один за другим, он сам опровергал собственные доводы, преодолевая внутреннее сопротивление, и мало-помалу в голове его созрел общий план дальнейших действий.
Заря застала его на ногах. Он успел уже побывать в Новом поселке и с радостью убедился, что в состоянии Хальга наметилось некоторое улучшение. Тотчас же по возвращении в Либерию Кау-джер приступил к неотложным делам по управлению колонией. Прежде всего он созвал десятка два каменщиков и плотников, потом, присоединив к ним такое же количество эмигрантов, умеющих обращаться с лопатой и киркой, распределил между ними работу. В указанном месте им надлежало выкопать котлован для закладки фундамента и возведения дома.
Когда все распоряжения были отданы и люди принялись за работу, правитель ушел вместе с охраной из десяти человек.
Неподалеку высился самый большой из сборных домов. В нем жили всего пять человек. Льюис Дорик, братья Мур, Кеннеди и Сердей избрали его своей резиденцией. Прямо туда и направился Кау-джер.
Когда он вошел, пятеро мужчин сразу вскочили на ноги.
— Что вам здесь нужно? — грубо спросил Льюис Дорик.
Стоя на пороге, тот спокойно ответил:
— Дом для остельской колонии.
— Дом? — переспросил Дорик, словно не поверив своим ушам.— А для чего?
— Для размещения в нем учреждений. Предлагаю немедленно освободить его.
— Как бы не так! — иронически возразил бывший учитель.— А куда же нам деться?
— Куда угодно. Можете построить себе другой дом.
— Вот как? А до тех пор?
— Воспользуйтесь палатками.
— А вы воспользуйтесь дверью! — воскликнул Дорик, побагровев от злости.
Кау-джер посторонился, и все увидели оставшуюся снаружи вооруженную охрану.
— В случае неповиновения я буду вынужден применить силу.
Дорик мгновенно понял, что всякое сопротивление бесполезно.
— Ладно,— проворчал он,— мы уйдем. Дайте только время, чтобы собрать пожитки. Надеюсь, нам разрешается унести их?
— Нет,— категорически ответил правитель.— Я сам позабочусь о том, чтобы вам вернули ваше личное имущество. Все остальное принадлежит колонии.
Это уже было слишком. Дорик потерял самообладание.
— Ну, мы еще посмотрим! — вскричал он, поднося руку к поясу.
Но не успел он вытащить нож, как тут же был обезоружен. Братья Мур бросились на помощь, но Кау-джер схватил старшего за горло и швырнул на землю. Тотчас же охрана ворвалась в помещение, и пять эмигрантов, отказавшись от борьбы, трусливо покинули дом.
Затем отвоеванное здание тщательно осмотрели. Как и было обещано, всю личную собственность прежних жильцов отложили в сторону, чтобы потом передать законным владельцам. Но, помимо личных вещей, обнаружили еще нечто чрезвычайно интересное: самая дальняя комната была превращена в настоящий склад с колоссальными запасами продуктов — консервов, сухих овощей, солонины, чая и кофе.
Каким образом Льюис Дорик и его сообщники раздобыли все это? Значит, они никогда не страдали от голода, подобно другим, что не мешало им возмущаться громче всех и даже подстрекать к беспорядкам, в результате которых была свергнута власть Боваля.
Новый «губернатор» приказал перенести продукты на площадь и сложить их там под охраной. Затем рабочие, под руководством слесаря Лоусона, приступили к разборке дома. Пока они занимались этой работой, Кау-джер, в сопровождении нескольких человек, произвел повальный обыск лагеря. Дома и палатки были перерыты сверху донизу. Результаты этих поисков, длившихся большую часть дня, превзошли все ожидания: у эмигрантов, более или менее тесно связанных с Дориком или Бовалем, а также у тех, кому благодаря экономии в период относительного изобилия удалось сделать кое-какие запасы, обнаружили тайники с провизией, такие же, как и у Дорика. Но чтобы отвести от себя подозрения, их владельцы не отставали от других и горько жаловались на голод. Среди них узнали многих, кто обращался за помощью. Когда обманщиков вывели на чистую воду, они были очень смущены, хотя Кау-джер внешне никак не проявил своего негодования.
Хитрость этих негодяев, возможно, и могла бы раскрыть для него перспективы тех непреложных законов, которые правят миром. Не внимая крикам отчаяния, вырывавшимся от голода у их товарищей по несчастью, и лицемерно присоединяя при этом к ним собственные стенания, чтобы избежать дележки между всеми того, что принадлежало только им, эти люди продемонстрировали еще раз жестокий эгоизм, направленный против самих себя. В действительности их поведение было таково, как если бы они были не мыслящими и чувствующими существами, а элементарными скоплениями материальной субстанции, слепо повинующимися физиологическим законам тех простейших клеток, из которых они вышли.
Но Кау-джеру, для того чтобы убедиться в этом, не нужно было еще одной демонстрации, тем более что она была не последней. Его мечта, распавшись, оставила страшную пустоту в сердце, и он не собирался эту пустоту заполнять. Грубая очевидность происшедшего доказала его ошибку: строя в своем воображении различные социальные системы, он был скорее философом, чем ученым, и грешил против научного подхода, в соответствии с которым не следует заниматься случайными умозрительными построениями, а нужно опираться только на опыт и объективный анализ фактов. Таким образом, добродетели и пороки человечества, его величие и слабости — все это факты, которые нужно уметь признавать и с которыми нельзя не считаться.
И разве он не совершил чудовищную ошибку в своих умозаключениях, порицая всех вождей под тем предлогом, что они далеко не безупречны и что врожденное совершенство людей делает само существование вождей бесполезным? Властители, против которых он столь беспощадно восставал, разве не такие же люди, как и другие? Почему бы не подарить им привилегию быть не столь совершенными? Разве на основе их несовершенства нельзя будет сделать логический вывод о всеобщем несовершенстве и вследствие этого признать необходимость существования законов и тех людей, чья задача состоит в том, чтобы их применять?
Его знаменитая формула распалась, рассыпалась в прах. «Ни Бога, ни властелина» — так заявлял он когда-то, а сейчас был вынужден признать необходимость властелина. От второй части его принципа не осталось ничего, а разрушение ее сотрясло незыблемость первой. Конечно, речь шла не о том, чтобы заменить отрицание утверждением. Но, по крайней мере, он познал священное колебание ученого, остановившегося перед задачами, разрешение которых в настоящее время невозможно, застывшего на пороге непознаваемого и восставшего против самой сути науки, которая бездоказательно утверждает, что во Вселенной нет ничего, кроме материи, и что все подчинено ее законам? Он понимал, что в решении подобных проблем следует занять выжидательную позицию. Если каждый может дать личное толкование всемирному таинству в борьбе гипотез, то любое категоричное утверждение будет выглядеть чрезвычайно самоуверенным или окажется просто глупостью.
Самую замечательную находку сделали в домике Паттерсона и Лонга, переживших своего третьего компаньона — Блэкера. К ним зашли только для очистки совести — трудно было предположить, что в таком маленьком помещении может находиться сколько-нибудь значительный тайник. Но ирландец, со свойственной ему изворотливостью, выкопал под грубо сколоченным полом нечто вроде погреба.
В нем нашли столько продуктов, что хватило бы всей колонии на неделю. Кау-джер, вспомнив о Блэкере, ужаснулся. Какое же черствое сердце было у Паттерсона, если он мог допустить, чтобы его товарищ умер от голода при наличии такого изобилия!
Однако этот спекулянт отнюдь не выглядел виноватым. Наоборот, он вел себя вызывающе и энергично протестовал против «грабежа». Напрасно ему терпеливо доказывали необходимость жертвовать личным ради общественного — Паттерсон ничего не хотел слушать. Угроза применить силу также не возымела действия — его не удалось запугать, как Дорика. Что значила для ирландца стража нового правителя? Скряга стал бы защищать свое добро против целой армии!
Ведь все это принадлежало ему. Все эти продукты, накопленные ценой бесконечных лишений, были его собственностью. Ради личных, а отнюдь не ради общественных интересов он обрекал себя на недоедание. Коли уж возникла необходимость изъять у него продукты, пусть ему оплатят их стоимость!
Раньше такие доводы вызвали бы у Кау-джера смех. Но теперь он спокойно выслушал Паттерсона и заверил его, что в данном случае нет никакого грабежа и все изъятое у него будет оплачено по надлежащей цене.
Скряга тотчас же перешел от протеста к жалобам: «На острове так трудно с продовольствием! Такие высокие цены! За каждую мелочь приходится платить втридорога!…» Пришлось долго торговаться, зато, когда они договорились о сумме предстоящей оплаты, Паттерсон сам помог перенести продукты.
Наконец, часам к шести вечера, все найденные припасы были сложены на площади, образовав целую гору. Оценив на глаз и мысленно добавив к ней запасы из Нового поселка, Кау-джер рассчитал, что при строгой экономии продуктов должно хватить примерно на два месяца.
В тот же вечер приступили к раздаче продовольствия. Эмигранты подходили по очереди и получали паек для себя и для семьи. Они удивленно таращили глаза при виде такого изобилия, ибо еще накануне полагали, что находятся на пороге голодной смерти. Все происходившее казалось чудом, и сотворил это чудо Кау-джер.
А тот, покончив с раздачей, вернулся в сопровождении Гарри Родса в Новый поселок к Хальгу. С радостью убедились они, что состояние больного, возле которого непрерывно дежурили Туллия и Грациэлла, продолжает улучшаться.
Успокоенный правитель приступил к осуществлению плана, намеченного им во время последней долгой бессонной ночи. Обратившись к Гарри Родсу, он сказал:
— Мне надо серьезно поговорить с вами. Прошу вас следовать за мной.
Строгое, чуть ли не страдальческое выражение лица товарища поразило Гарри Родса, и он молча повиновался. Они вошли в комнату, тщательно заперев за собой двери.
Через час друзья вышли. У Кау-джера был обычный невозмутимый вид, а Гарри Родс, казалось, преобразился от радости. Он позволил проводить себя до порога и, прежде чем пожать протянутую на прощание руку, низко поклонился и сказал:
— Можете положиться на меня!
— Полагаюсь,— ответил хозяин, провожая взглядом своего товарища, исчезавшего в ночи.
После ухода Родса Кау-джер позвал Кароли и отдал ему необходимые распоряжения; индеец выслушал, как всегда, без пререканий. Затем неутомимый правитель в последний раз пересек равнину и отправился, как накануне, в Либерию, чтобы там провести ночь.
На рассвете он подал сигнал к подъему. Вскоре все колонисты собрались вокруг него.
— Остельцы! — сказал среди глубокой тишины Кау-джер.— Сейчас мы в последний раз произведем раздачу продуктов. В дальнейшем они будут продаваться по ценам, установленным мною в соответствии с интересами государства. Деньги имеются у всех, поэтому никому не угрожает голодная смерть. Впрочем, колонии нужны рабочие руки. Всех трудоспособных обеспечат оплачиваемой работой. С этого дня труд становится законом.
Всех удовлетворить невозможно, и, конечно, некоторым переселенцам эта короткая речь пришлась не по вкусу. Но большая часть присутствующих была в восторге. Головы поднялись, спины выпрямились, словно людям вдохнули новые силы.
Наконец-то кончилось бездействие! Они еще годны на что-то! Они еще смогут принести пользу! Колонисты получили обеспеченную работу и уверенность в завтрашнем дне.
Раздалось могучее «ура!». Мускулистые руки, готовые к действию, протянулись к Кау-джеру.
И тогда, как бы вторя толпе, чей-то голос издалека позвал его. Он обернулся и увидел в океане «Уэл-Киедж», которой управлял Кароли. Гарри Родс стоял у мачты и махал рукой, посылая прощальный привет другу, в то время как шлюпка, позолоченная солнцем, на всех парусах летела вдаль.
Глава II РОЖДЕНИЕ ГОРОДА
Кау-джер тут же приступил к организации работ. Всех, предложивших свои услуги (а надо сказать, что их было подавляющее большинство), он принял на работу и разделил на группы, которыми руководили десятники[138]. Одни начали прокладывать дорогу, соединявшую Либерию с Новым поселком, другие занялись переноской сборных домов, построенных где попало. Теперь, по указанию Кау-джера, здания устанавливали в строгом порядке: одни — параллельно, другие — перпендикулярно бывшему жилищу Дорика.
Вскоре строительство развернулось полным ходом. Дорога удлинялась на глазах. Дома размещали среди пустовавших участков — будущих садов. Широкие улицы придавали Либерии вид настоящего города, а прежде она напоминала наспех разбитый лагерь. Одновременно начали очищать территорию от мусора и нечистот, скопившихся за зиму.
Прежний дом Дорика оказался первым зданием, более или менее приспособленным для жилья. Эту легкую постройку разобрали и перенесли на новое место. Правда, она была еще не совсем закончена, но строители уже укрепили стены, поставили стропила[139] и разделили помещение перегородками.
И вот 7 ноября Кау-джер вступил во владение этим домом. Планировка его была проста: в центре продовольственный склад, а вокруг него ряд смежных помещений, двери которых выходили на север, запад и восток. Комната же, расположенная на южной стороне, не имела выхода наружу, и в нее можно было попасть только из соседних помещений.
Над дверями висели деревянные таблички: «Управление», «Суд», «Милиция». Назначение комнаты на южной стороне оставалось неизвестным, но вскоре пошли слухи, что там будет тюрьма.
Итак, Кау-джер уже не полагался всецело на благоразумие себе подобных. Для упрочения власти потребовались милиция, суд и тюрьма. Его долгая внутренняя борьба привела к поражению: он признал необходимость самых крайних мер, без которых — из-за несовершенства человеческого рода — невозможно пойти по пути прогресса и цивилизации.
Но все эти учреждения служили лишь остовом[140] будущего государственного аппарата. Для выполнения административных функций требовались служащие, и они незамедлительно были назначены. Хартлпул стал главой милиции, состоявшей из сорока человек. В суде Кау-джер оставил за собой пост председателя, а текущие дела поручил Фердинанду Бовалю.
Такое назначение могло показаться странным, но это был уже не первый случай. Выплата жалованья и продажа продуктов теперь очень усложнились. Обмен труда на продукты с появлением денег требовал сложных расчетов. На должность бухгалтера Кау-джер назначил того самого Джона Рама, который поплатился своим здоровьем и состоянием за тягу к легкой жизни. Каким образом этот никчемный человечек очутился в колонии? Наверное, он и сам не ответил бы на это. Просто поддался смутным мечтам о красивой жизни в неведомой стране, а грубая действительность преподнесла ему зимовку на острове.
После установления нового порядка Рам, в силу необходимости, попытался присоединиться к землекопам, прокладывавшим дорогу, но к концу первого же дня совершенно выбился из сил. Его холеные руки так болели, что пришлось бросить работу. Поэтому несчастный был вне себя от радости, получив назначение на должность бухгалтера. Отныне всякие пересуды о нем прекратились.
Пожалуй, одно из основных качеств правителя состояло в умении использовать для блага государства даже самую незначительную личность. Он не мог все делать сам, ему требовались помощники. И именно в выборе помощников проявлялся его незаурядный государственный талант.
Избранные им люди — хотя и весьма своеобразные личности — оказались на высоте своего положения. Кау-джер преследовал одну цель — добиться от каждого колониста максимальной пользы для общества. Так, Боваль, человек во многих отношениях неполноценный, оказался знающим юристом. Следовательно, он более других подходил для ведения правовых дел, а это обязывало его следить за собой в повседневной жизни. Что же касается Джона Рама, самого неприспособленного из колонистов, можно только удивляться, как удалось найти занятие этому безвольному и жалкому существу.
День ото дня крепло Остельское государство. Кау-джер развил бурную деятельность. Он окончательно покинул Новый поселок и перенес свой инструмент, книги и медикаменты в «Управление», как теперь называли бывший дом Льюиса Дорика. Спал он всего по нескольку часов в сутки, остальное время проводил на работах, подбадривая людей, разрешая все возникавшие трудности, спокойно и твердо поддерживая мир и порядок. В его присутствии никто не осмеливался вступать в пререкания или затевать ссоры. Стоило ему показаться, как все оживлялись и работа спорилась.
В свободные часы Кау-джер осматривал раненных во время мятежа и больных. Впрочем, теплая погода, спокойная обстановка и труд благотворно отразились на здоровье колонистов.
Разумеется, из всех больных и раненых самым дорогим его сердцу был Хальг. При любой погоде, как бы ни был утомлен, он навещал утром и вечером молодого индейца, от постели которого не отходили Грациэлла и ее мать. К всеобщей радости, состояние больного заметно улучшалось, и вскоре появилась уверенность, что рана в легком стала зарубцовываться. 15 ноября Хальг наконец встал с постели, пролежав около месяца.
В этот день наш герой направлялся к дому Родсов.
— Здравствуйте, миссис Родс! Здравствуйте, дети! — сказал он, входя.
— Здравствуйте, Кау-джер! — радостно закричали все трое.
В сердечной атмосфере семьи Родсов Кау-джер как будто немного оттаивал. Эдуард и Клэри обняли его, а он отечески поцеловал молодую девушку и потрепал мальчика по щеке.
— Наконец-то вы пришли! — воскликнула госпожа Родс.— Я уже стала беспокоиться, все ли с вами в порядке.
— Я был очень занят, миссис Родс.
— Знаю, знаю,— отвечала она,— и очень рада вас видеть… Надеюсь, вы мне сообщите что-нибудь о муже?
— Ваш муж уехал. Вот все, что я могу вам сказать.
— Большое спасибо за новость!… Но не скажете ли, когда он вернется?!
— Не так скоро, миссис Родс. Немного терпения, и все будет хорошо. Впрочем, я хочу предложить вам занятие… вернее, развлечение. Вам предстоит переезд.
— Переезд?
— Да, вы поселитесь в Либерии.
— В Либерии? А что мне там делать, Боже милостивый!
— Заниматься коммерцией. Вы будете самой крупной коммерсанткой в стране… Прежде всего потому, что других торговых предприятий здесь нет, а также и потому, что ваши дела, надеюсь, пойдут успешно.
— Коммерция!… Дела!… — повторила пораженная хозяйка.— Какие дела, Кау-джер?
— Дела универсального магазина Гарри Родса. Ведь вы же помните, что у вас есть товары для мелочной торговли. Настало время их реализовать.
— Как? — воскликнула женщина.— Вы хотите, чтобы я совсем одна… без мужа?…
— Дети помогут вам,— прервал ее правитель Либерии,— они уже достаточно взрослые, чтобы работать, а на острове Осте все должны трудиться. Мне не нужны бездельники.
Кау-джер стал серьезен. Из друга, дающего советы, он превратился в начальника, отдающего приказы.
— Туллия Черони и ее дочь,— продолжал он,— тоже смогут помочь вам, когда Хальг совсем поправится. Кроме того, вы просто не имеете права оставлять неиспользованными предметы, которые могут потребоваться населению.
— Но в этих товарах почти все наше состояние,— с волнением возразила госпожа Родс.— Что скажет муж, когда узнает, что я рискнула торговать в стране, где то и дело вспыхивают мятежи и где безопасность…
— …полная и абсолютная,— закончил Кау-джер,— какой нет ни в одной другой стране, можете мне поверить, миссис Родс.
— Что же, по-вашему, я должна делать с этим товаром?
— Продавать.
— Кому?
— Покупателям.
— Разве они существуют? У них же нет денег!
— Вы сомневаетесь в этом? Вы ведь знаете, что при отъезде деньги были у всех. А теперь их зарабатывают.
— Зарабатывают деньги на острове?
— Именно так. Колония нанимает рабочих и оплачивает их труд.
— Значит, и у колонии есть деньги?… Откуда?
— У колонии нет денег,— объяснил Кау-джер,— но она приобретает их путем продажи продуктов местного происхождения. Вы должны это знать, ведь вам самой приходится платить за них.
— Верно, но если дело ограничивается простым обменом и колонистам приходится отдавать за пропитание то, что они заработали своим трудом, хм… мне трудно представить себе, на какие деньги они станут покупать мои товары.
— Не беспокойтесь, я установил такие цены на продукты, что колонисты смогут делать небольшие сбережения.
— А кто же оплатит разницу?
— Я.
— Значит, вы очень богаты?
— Видимо, так.
Госпожа Родс смотрела на Кау-джера совершенно ошеломленная. Тот, казалось, ничего не замечал.
— Мне очень важно, миссис Родс,— продолжал правитель,— чтобы ваш магазин открылся как можно скорее.
— Как вам будет угодно,— согласилась хозяйка без особого восторга.
Через пять дней пожелание Кау-джера было выполнено. 20 ноября, когда Кароли возвратился из плавания, торговля в универсальном магазине Гарри Родса уже шла полным ходом.
Индеец застыл на месте от восхищения. Какие поразительные изменения произошли меньше чем за месяц! Либерия стала неузнаваема. Только несколько домов остались на прежнем месте, большая их часть группировалась вокруг здания, называемого «Управление».
В ближайших к нему домах жили со своими семьями сорок человек, составлявших милицию колонии и получивших со склада оружие. Восемь оставшихся ружей были сложены в караульном помещении, между комнатами Кау-джера и Хартлпула. Пороховой погреб, находившийся в центре здания, не имел прямого выхода наружу и охранялся круглосуточно.
К востоку и западу от Либерии непрерывно шли строительные работы. Дело спорилось. Новые здания, деревянные и каменные, уже поднимались над землей. Вдоль широких улиц, пересекавшихся под прямым углом, стояли дома, расставленные по строгому плану. Дорога к Новому поселку пролегала по болотистой равнине и выходила стороной к реке. На крутых берегах лежали груды камней, предназначенных для постройки моста.
Новый поселок почти опустел. За исключением четырех матросов с «Джонатана» и трех колонистов, решивших зарабатывать на жизнь рыбной ловлей, все остальные жители перебрались в Либерию к месту работы. Из Нового поселка, превратившегося в рыбачий порт, каждое утро уходили в океан лодки, а к вечеру возвращались с обильным уловом.
Однако, несмотря на уменьшение населения, ни один дом в пригороде не был снесен. Таков был приказ Кау-джера.
В этот день он, как обычно, посвятил все утро финансовым и продовольственным делам колонии, а затем отправился на строительство дороги.
Был обеденный перерыв. Бросив кирки и лопаты, рабочие дремали на пологих склонах, пригревшись на солнышке, или завтракали, лениво перебрасываясь словами.
Когда правитель проходил мимо, лежавшие вставали, разговоры смолкали и все приподнимали фуражки, приветствуя его:
— Здравствуйте, губернатор!
Не останавливаясь, тот махал им в ответ рукой.
Пройдя более половины пути, он заметил неподалеку от реки группу эмигрантов. Вскоре до его слуха донеслись звуки скрипки.
Скрипка? Она звучала на острове впервые после смерти Фрица Гросса.
Толпа расступилась перед Кау-джером, и он увидел двух мальчиков. Один из них играл (впрочем, довольно неуверенно) на скрипке, другой же раскладывал на земле корзинки, сплетенные из камыша, и букеты полевых цветов: крестовника[141], вереска и остролиста[142].
Дик и Сэнд! В житейских бурях Кау-джер совсем забыл об их существовании. Но разве он должен был заботиться о них больше, чем о других детях колонии? Ведь они тоже имели семью в лице честного и доброго Хартлпула.
Маленький Сэнд, видимо, не терял даром времени. Не прошло еще и трех месяцев, как он получил в наследство скрипку Гросса, но благодаря исключительным музыкальным способностям мальчуган сам, без учителя, быстро добился неплохих результатов. Конечно, он не виртуоз (и не похоже, что когда-то станет им), но играл чисто, не фальшивя, и под его смычком возникали наивные, а иногда и довольно замысловатые мелодии, соединявшиеся красивыми и смелыми переходами.
Скрипка умолкла. Дик, закончив раскладку «товаров», заговорил с комическим пафосом, задирая голову, чтобы казаться выше:
— Уважаемые остельцы! Мой компаньон, представитель отдела изящных искусств и музыки в фирме «Дик и компания», знаменитый маэстро Сэнд, придворный скрипач его величества короля мыса Горн и других стран, благодарит вас за внимание, которое вы соблаговолили ему оказать.
Он громко перевел дыхание и продолжал:
— Концерт, уважаемые остельцы, бесплатный, не то что наши товары, которые, смею уверить, еще прекраснее, а главное, существеннее, чем музыка. Фирма «Дик и компания» имеет сегодня в продаже букеты, а также корзины, чрезвычайно удобные для рынка… когда таковой появится на Осте. Один цент за букет! Один цент за корзину! Раскошеливайтесь, прошу вас, уважаемые остельцы!
Дик ходил по кругу, расхваливая и показывая образцы «товаров», а Сэнд снова заиграл на скрипке — для воодушевления покупателей.
Зрители смеялись, и Кау-джер понял из разговоров, что они не впервые присутствуют при таком представлении. По-видимому, у Дика и Сэнда вошло в обычай обходить стройки в часы перерыва и заниматься столь оригинальной коммерцией. Удивительно, как он не заметил их раньше!
Тем временем паренек распродал букеты и корзинки.
— Осталась только одна, дамы и господа! — объявил он.— Самая красивая! Два цента за последнюю, самую красивую корзинку!
Какая-то женщина заплатила ему два цента.
— Очень благодарен вам, дамы и господа! Восемь центов! Целое состояние! — воскликнул Дик, отплясывая джигу.
Но танец внезапно прервался — Кау-джер схватил танцора за ухо.
— Что это значит? — спросил он строго.
Мальчик взглянул на него исподлобья, стараясь угадать, как относится правитель к происходящему, и, видимо, успокоившись, ответил совершенно серьезно:
— Мы работаем, губернатор.
— По-твоему, это работа? — воскликнул тот, отпустив ухо пленника, который сразу же повернулся и, глядя прямо в глаза, ответил с важным видом:
— Мы основали товарищество. Сэнд играет на скрипке, а я продаю цветы и корзинки. Иногда мы выполняем какие-нибудь поручения или торгуем раковинами. Я умею танцевать и показывать фокусы… Разве все это не работа, губернатор?
Мужчина невольно улыбнулся.
— Пожалуй,— согласился он.— Но зачем вам деньги?
— Для бухгалтера, господина Джона Рама.
— Как? — воскликнул правитель.— Джон Рам требует с вас деньги?
— Он не требует, губернатор. Мы сами платим ему за наше пропитание.
Кау-джер был поражен. Он переспросил:
— За пропитание?… Вы платите за еду?… Разве вы уже не живете у господина Хартлпула?
— Мы живем у него, но дело не в этом…
Дик надул щеки и, подражая Кау-джеру (причем, несмотря на разницу в возрасте, сходство было несомненным), произнес с пафосом[143]:
— Труд является законом для всех!
Засмеяться или рассердиться? И губернатор улыбнулся. Ясно, что Дик и не собирался насмехаться над ним. Зачем же тогда порицать этих ребят, стремившихся к самостоятельности, в то время как многие взрослые пытались жить на чужой счет?
Он спросил:
— И что же, удается вам заработать себе на жизнь?
— Еще бы! — гордо ответил малыш.— Двенадцать, а то и пятнадцать центов[144] в день — вот сколько мы зарабатываем! На эти деньги уже можно жить человеку,— добавил он серьезно.
«Человеку»! Все, кто услышал эти слова, разразились хохотом. Дик обиженно взглянул на них.
— Что за идиоты! — огорченно пробормотал он сквозь зубы.
Кау-джер вернулся к интересовавшему его вопросу:
— Пятнадцать центов — это действительно неплохо. Но вы могли бы заработать и больше, помогая каменщикам или дорожным рабочим.
— Невозможно, губернатор! — живо возразил Дик.
— Почему же?
— У Сэнда не хватит сил для этого, он еще слишком мал,— объяснил парнишка, и в его голосе слышалась настоящая нежность. Ни малейшего оттенка презрения!
— А ты?
— О… я!
Надо было слышать этот тон!… «Я!» У него-то, конечно, хватит силы! Было бы оскорблением усомниться в этом.
— Так как же ты решаешь?
— Не знаю… — задумчиво проговорил Дик.— Мне это не по душе… — Потом порывисто добавил: — Я люблю свободу, губернатор!
Кау-джер с интересом разглядывал маленького собеседника, стоявшего перед ним с гордо поднятой головой, с развевавшимися по ветру волосами и смотревшего на него блестящими глазами. Он узнавал самого себя в этой благородной, но склонной к крайностям натуре. Он тоже больше всего любил свободу и не переносил никаких оков.
— Свободу нужно сначала заслужить, мальчик,— возразил Кау-джер,— трудясь для себя и для других. Поэтому необходимо начинать с послушания. Попросите от моего имени Хартлпула подыскать вам работу по силам. А я уж, конечно, позабочусь о том, чтобы Сэнд мог продолжать заниматься музыкой. Ступайте, ребята.
Эта встреча поставила перед губернатором новую задачу. В колонии было много детей. Ничем не занятые, оставаясь без присмотра родителей, они бродяжничали с утра до вечера. В интересах нового государства следовало воспитывать молодых граждан для продолжения дела, начатого их предшественниками, и в кратчайший срок открыть школу.
Но, ввиду множества различных и срочных проблем, Кау-джеру пришлось оставить разрешение этого важного вопроса до возвращения из поездки в центральную часть острова, которую он собирался совершить еще в то время, когда взял на себя управление колонией, но откладывал со дня на день из-за других неотложных дел. Теперь же он уезжал спокойно — государственная машина была налажена и могла некоторое время работать самостоятельно. Ничто не задерживало его.
Однако через два дня после возвращения Кароли одно событие заставило губернатора снова отложить отъезд. Как-то утром, услышав шум ссоры и направившись в ту сторону, откуда доносились крики, он увидел около сотни женщин, возмущенно переругивавшихся перед дощатым забором, огораживавшим участок Паттерсона.
Вскоре все выяснилось. С прошлой весны ирландец занялся огородничеством и преуспел в этом деле. Работая не покладая рук, он снял богатый урожай и после свержения Боваля стал поставщиком свежих овощей для жителей Либерии.
Своей удачей он был обязан главным образом тому, что его участок подходил к самому берегу реки и, следовательно, никогда не испытывал недостатка в воде. Именно это особое расположение участка и послужило причиной конфликта…
Огороды Паттерсона, тянувшиеся на двести — триста метров, находились в единственном месте, имевшем доступ к реке. Вниз по течению к правому берегу примыкало непроходимое болото, доходившее до мостика у самого устья, на расстоянии более полутора километров от города. Вверх по течению над рекой нависали крутые, обрывистые берега. Таким образом, чтобы набрать воды, женщинам Либерии приходилось пересекать участок Паттерсона, пролезая через дырку в заборе. Но в конце концов владелец решил, что непрерывное хождение через огород является прямым посягательством на его право собственности и наносит ему ущерб. И вот прошлой ночью Паттерсон с помощью Лонга накрепко заделал отверстие в заборе, что и послужило причиной крайнего недовольства хозяек, пришедших рано утром за водой.
Увидев Кау-джера, они приутихли и обратились к нему за помощью. Он терпеливо выслушал обе стороны и вынес решение — ко всеобщему удивлению — в пользу Паттерсона.
Правда, губернатор приказал снести забор и передать в общественное пользование дорогу длиной в двести метров, проходившую через огород. Но одновременно он признал и право владельца участка на возмещение убытков за обработанную землю, которой его лишили в пользу общества. Размер суммы следовало определить законным порядком. На острове Осте существовало правосудие, и Паттерсону предложили обратиться к нему.
Это было первое дело, рассматриваемое судом. Оно слушалось в тот же день. После прений сторон Боваль присудил Остельское государство к уплате пятидесяти долларов. Паттерсон тут же получил деньги и не скрывал своего удовлетворения.
Остельцы восприняли этот инцидент[145] по-разному, но, в общем, всем понравился способ его разрешения. Они поняли, что отныне нельзя просто отобрать чью-либо собственность, и доверие общества к государственным учреждениям неизмеримо возросло. Чего и добивался губернатор.
Теперь он смог наконец отправиться в путь. В течение нескольких недель Кау-джер исходил территорию Осте во всех направлениях, от северо-восточной оконечности до западных выступов полуостровов Дюма и Пастер. Он посетил все фермы — и те, что были добровольно покинуты колонистами прошлой зимой, и те, владельцы которых бежали во время беспорядков. В итоге он выяснил, что в центральной части острова проживает сто шестьдесят один колонист, или сорок два семейства. Все они добились определенных успехов, хотя и в разной степени: одни семьи смогли обеспечить себя лишь куском хлеба, другие же, в которых было больше здоровых и сильных мужчин, значительно расширили посевы.
Хорошие земельные участки двадцати восьми семейств, бежавших во время мятежа в Либерию, в настоящее время были заброшены и запущены. И наконец, имелось сто девяносто семь разорившихся семейств, из них около сорока потеряли кормильцев и вместе с остальными перебрались на побережье.
Все это правитель узнал от самих колонистов, охотно делившихся с ним своей информацией. Они очень обрадовались, услышав о реформах в колонии, особенно о планах на будущее. Кау-джер подробно записывал все, что видел и слышал. Он составил себе примерную схему местонахождения различных ферм и их взаимного расположения и по возвращении начертил карту острова, весьма несовершенную с точки зрения географии, но дававшую точное представление о соотношении смежных земельных участков. Затем он разделил половину территории между ста шестьюдесятью пятью семействами, отобранными им по личному усмотрению, и предоставил им право на владение землей.
Прежде всего Кау-джер оформил документы сорока двум семьям, не покидавшим своих ферм, и восстановил в правах двадцать восемь семей, бросивших свои участки под натиском мятежников. Затем он выбрал среди оставшихся еще девяносто пять семейств, которые вполне могли наладить свои хозяйства. Его решения подчинялись единственной цели — интересам колонии.
Простые листки бумаги с указанием размера и местоположения участка, а также фамилии владельца были приняты с не меньшей радостью, чем сама земля. До сих пор судьба колонистов зависела от всевозможных случайностей, у них не было уверенности в завтрашнем дне. Теперь же они прирастали к земле, пускали корни и становились настоящими гражданами Остельского государства.
Либерия вторично опустела. Едва получив документы, эмигранты со всеми домочадцами устремились на свои участки, захватив с собою изрядное количество продуктов (несмотря на заверения Кау-джера, что снабжение будет проводиться бесперебойно).
K 10 января в Либерии насчитывалось около четырехсот жителей, в том числе двести пятьдесят работоспособных мужчин. Все другие, примерно шестьсот человек (включая женщин и детей), расселились в центральных районах острова. Во время своего путешествия Кау-джер убедился, что общая численность населения Осте была теперь менее тысячи человек. Остальные погибли. Около двухсот — только за минувшую зиму. Еще несколько таких гекатомб[146], и территория снова превратится в пустыню!
Объем работ все увеличивался, и вскоре стала ощущаться нехватка рабочей силы. Но через несколько дней, 17 января, большой пароход водоизмещением в две тысячи тонн бросил якорь против Нового поселка. На следующий день началась разгрузка, и перед глазами восхищенных либерийцев предстали неисчислимые богатства: домашний скот, сельскохозяйственные машины, различные семена, множество продуктов питания, повозки, телеги и всевозможные другие товары.
Помимо различных грузов, пароход доставил на остров двести человек; из них половина были землекопы и строительные рабочие. По окончании разгрузки они присоединились к колонистам, и темп работ значительно возрос.
За несколько дней закончили дорогу к Новому поселку. Пока каменщики сооружали мост и возводили дома, другие начали прокладывать магистраль в центральной части острова; от нее шло множество ответвлений, которые должны были связать между собой отдельные фермы и обеспечить постоянный контакт между ними.
Вскоре либерийцам преподнесли новый сюрприз: 30 января появился второй пароход из Буэнос-Айреса, привезший, помимо предметов первой необходимости, большой груз для магазина Родса. Там было все до мелочей: перья, кружева, ленты — словом, все, о чем только могли мечтать либерийские модницы. С этим пароходом и со следующим, от 15 февраля, прибыло еще четыреста человек.
К этому времени колония располагала более чем восемьюстами рабочими. Кау-джер счел это число вполне достаточным для осуществления задуманного плана.
На востоке, в устье реки, заложили фундамент мола, чтобы превратить бухту Нового поселка в большой и надежный порт.
Так мало-помалу, усилиями многих сотен рабочих рук, направляемых единой волей, рос и развивался город на необитаемом острове.
Глава III ПОКУШЕНИЕ
— Так больше не может продолжаться! — воскликнул Льюис Дорик, и товарищи дружно поддержали его.
После рабочего дня все четверо — он, братья Мур и Сердей — бродили неподалеку от Либерии, по южным отрогам гор, тянувшихся от центрального хребта полуострова Харди к западной оконечности острова.
— Нет, черт возьми, так больше не может продолжаться! — повторил Дорик, все больше распаляясь гневом.— И мы не мужчины, если не вправим мозги этому дикарю, навязывающему нам свои законы!
— Он обращается с нами как с собаками,— подлил масла в огонь Сердей.— Ни во что нас не ставит… «Сделайте то, сделайте это…» Приказывает, даже не глядя на человека… Подонок! Краснокожая обезьяна!
— И вообще, по какому праву он командует нами? — в бешенстве прервал его Дорик.— Кто назначил его правителем?
— Не я,— заявил Сердей.
— И не я,— сказал Фред Мур.
— Уж, во всяком случае, не я,— добавил его брат Уильям.
— Ни я, ни вы и никто другой,— закончил Дорик.— Он парень не промах, не стал ждать, пока ему предложат должность, а захватил ее сам.
— Это незаконно,— рассудительно произнес Фред.
— Незаконно! Подумаешь! Плевал он на закон! — живо возразил бывший учитель.— Что ему стесняться с баранами, которые сами подставляют бока для стрижки! Он восстановил право частной собственности, даже не спросив нашего согласия! Прежде все были равны, теперь же снова появились богатые и бедные…
— Бедняки — это мы…— меланхолически констатировал Сердей.— На днях,— продолжал он с негодованием,— Кау-джер заявил, что уменьшает мое жалованье на десять центов в день…
— Как? Ни с того ни с сего?
— Нет, он считает, что я мало работаю, хотя я занят не меньше, чем он, который разгуливает — руки в брюки — с утра до вечера. Снять десять центов из полдоллара в день!… Если он думает, что я буду работать в порту, пусть подождет!
— Подохнешь с голоду,— невозмутимо возразил Дорик.
— Вот проклятие! — выругался Сердей, сжимая кулаки.
— А ко мне придрался две недели назад,— сказал Уильям Мур,— потому что я малость пошумел на Джона Рама, счетовода. Я, видите ли, обеспокоил этого господина. Посмотреть на Кау-джера — прямо император! А нам приходится платить за завалящие товары, да еще благодарить за них!
— На днях,— сказал, в свою очередь, Фред Мур,— мне попало от него за то, что я подрался с товарищем. Теперь мы даже не имеем права повозиться друг с другом. Как его шпики вцепились в меня! Еще немного, и засадили бы в каталажку!
— В общем, нас превратили в слуг,— закончил Сердей.
— В рабов,— проворчал Уильям.
Все это обсуждалось уже сотни раз. Правление Кау-джера — вот почти единственная тема их повседневных разговоров.
Установив и проводя в жизнь закон о труде, губернатор задел интересы определенных лиц, в основном лентяев, предпочитавших жить за чужой счет. Естественно, что среди них прокатилась волна недовольства, причем все они группировались вокруг Дорика. И сам он, и его шайка тщетно пытались продолжать прежнюю эксплуататорскую политику: их бывшие жертвы, раньше такие покорные, осознали наконец свои права и обязанности, а уверенность в том, что, в случае необходимости, их поддержат, совершенно преобразила людей. Попытки угнетателей снова закабалить их ни к чему не привели, и Дорику, вместе с его шайкой, пришлось зарабатывать на жизнь своим трудом.
Это приводило всю компанию в ярость. Они постоянно изливали друг другу душу, что одновременно и облегчало их, и доводило до неистовства. Правда, до сих пор все ограничивалось только угрозами. Но в этот вечер дело обернулось по-иному. Накопившийся гнев заставил их перейти от слов к важным решениям и действиям.
Льюис молча слушал товарищей, которые обращались к нему, как бы призывая в свидетели и ожидая его одобрения.
— Все это болтовня,— резко оборвал он наконец.— Вы — рабы и заслуживаете рабства. Будь у вас не заячьи души, вы уже давно стали бы свободными. Вас много, а вы терпите одного тирана.
— А что же мы можем сделать? — жалобно возразил Сердей.— Он сильнее нас.
— Чепуха! — крикнул Дорик.— Его сила — в слабости окружающих его слюнтяев.
Фред скептически покачал головой.
— Возможно,— сказал он,— тем не менее у него много сторонников. Не можем же мы вчетвером…
— Болван! — грубо перебил его Льюис.— Они поддерживают не Кау-джера, а гу-бер-на-то-pa! Понятно? Будь на его месте я — точно так же пресмыкались бы передо мной, а если бы он был свергнут, они оплевали бы его.
— Не спорю,— насмешливо согласился Уильям.— Но в том-то и загвоздка, что губернатор он, а не ты.
— Это я и без тебя знаю,— процедил Дорик, побледнев от злобы.— Именно в этом-то все дело. Я скажу только одно: мы не должны обращать внимание на свору дворняг, которая сейчас бегает следом за Кау-джером, а потом будет бегать за его преемником. Опасен только их хозяин. Он один нам мешает… Его и надо убрать.
Наступило молчание. Приятели испуганно переглянулись.
— «Убрать»! — произнес наконец Сердей.— Экий ты быстрый! Но уж на меня в таком деле не рассчитывай!
Льюис Дорик пожал плечами.
— Обойдемся и без тебя, только и всего,— ответил он презрительно.
— И без меня,— прибавил Уильям.
— А на меня можешь рассчитывать,— решительно заявил его брат, не забывший унижения, которому подверг его Кау-джер.— Только знаешь… это не так-то просто сделать.
— Наоборот, очень просто,— возразил главарь.
— А как?
Тут вмешался Сердей:
— Ну-ну, какие вы оба шустрые! А что вы будете делать, когда «уберете» Кау-джера? Ведь останутся другие… И что бы Дорик ни говорил, я вовсе не уверен, что они пойдут за нами.
— Пойдут! — убежденно ответил тот.
— Хм! — скептически хмыкнул Сердей.— Но не все.
— Почему? Ведь может случиться так, что сегодня нас никто не поддерживает, а завтра — все за нас… Впрочем, нам и не нужна поддержка всех. Достаточно несколько человек, а за ними потянутся и остальные.
— А где эти «несколько»?
— Уже есть.
— Кто же? — недоверчиво осведомился бывший повар.
— Во-первых, мы четверо,— сказал Дорик, возбужденный спором.
— Четверо — это всего-навсего четыре человека,— невозмутимо заметил Сердей.
— А Кеннеди? Разве на него нельзя рассчитывать?
— Можно,— подтвердил тот.— Значит, пять.
— А Джексон,— стал перечислять Дорик,— Смирнов, Рид, Блюменфельдт, Лорелей…
— Десять.
— Найдутся и другие. Нужно бы составить список.
— Давайте составим,— предложил Сердей.
— Идет,— согласился Льюис, вынимая из кармана блокнот и карандаш.
Все четверо уселись на земле и не спеша подсчитали людей, которыми могли располагать после уничтожения Кау-джера. Дорик полагал, что тот — единственный, кто объединяет разрозненные силы толпы, и без него эта сплоченность тотчас же развалится как карточный домик. Заговорщики называли имена, которые после длительного обсуждения заносились в записную книжку.
С холма, на котором они расположились, открывались необозримые дали. Река, текущая с востока, огибала подножие горы, потом устремлялась к северо-востоку, где виднелся Новый поселок, и там впадала в океан. В ее излучине, словно на карте, расположилась Либерия, а дальше шла болотистая равнина, отделявшая город от реки.
Было 25 февраля 1884 года. Прошло более полутора лет с того дня, когда Кау-джер взял власть в свои руки.
Все совершенное в течение этого короткого срока действительно походило на чудо. Население Либерии непрерывно росло. Увеличивалось количество домов (правда, по большей части деревянных), так что все были обеспечены жильем. Город, ограниченный с востока рекой, быстро разрастался к югу и к западу.
Теперь это был уже не захудалый лагерь, а настоящий город. В нем имелось все необходимое для жизни. Булочники, бакалейщики, мясники обеспечивали население провизией. Часть продуктов поставляли местные фермеры.
Дети больше не бродяжничали — открылась школа, в которой преподавали супруги Родс.
В октябре, после годичного отсутствия, вернулся Гарри Родс и привез множество самых разнообразных товаров. Сразу же по возвращении он с глазу на глаз имел беседу с Кау-джером, а затем занялся делами, никому не сообщив о причинах своего продолжительного путешествия.
Время, проводимое супругами в школе, не мешало торговле в магазине, где работали Эдуард и Клэри Родс, а также Туллия и Грациэлла Черони.
Открылся конфекцион[147] и обувной магазин, где дела шли весьма успешно. Плантации эмигрантов, потерпевших в прошлом году неудачу, начали приносить доход. В Либерии возникло несколько крупных предприятий, в которых работали каменщики, плотники, столяры, слесари.
К югу от города появился завод, производивший отличный кирпич.
В отрогах гор, на западе полуострова, были обнаружены залежи полезных ископаемых, используемые для изготовления алебастра[148] и извести. Один смельчак даже рискнул организовать производство бетона для строящегося порта.
Врач Самюэль Арвидсон и фармацевт[149], приехавшие из Вальпараисо, убедились, что Либерия — настоящее золотое дно. Но вернемся в настоящее.
Широкая магистраль у подножия горы (по которой шли заговорщики, пока не свернули на крутую горную тропинку), тянувшаяся к востоку вдоль извилистых берегов реки, через километр исчезала за двумя холмами. Но все знали, что и там ведутся работы. Два месяца назад дорога, все время разветвляясь, прошла мимо плантации Ривьеров на север. Другая, уже построенная, пересекала реку, и прочный каменный мост соединял Либерию с ее пригородом.
В пригороде мало что изменилось. Только мол, тянувшийся от берега, все дальше выдавался в океан. Он надежно защищал от западных ветров бухту Нового поселка, превращая ее в большой и удобный порт. Как раз в этот день начали забивать сваи под набережную и причалы, необходимые для океанских судов. Но коммерсанты, ведущие торговлю с островом Осте, не собирались дожидаться завершения постройки. В прошлом году сюда прибыло три торговых судна — все за счет Кау-джера, а в этом году семь: два из них были зафрахтованы[150] администрацией колонии, а остальные пять принадлежали частным фирмам.
Вот и сейчас против Нового поселка стоял большой парусник, в который грузили тес из лесопильни Ривьеров. Другой парусник, груженный той же продукцией, поднял якорь несколько часов назад и уже огибал Западный мыс.
Все, что окружало Льюиса Дорика и его товарищей, красноречиво свидетельствовало о растущем благосостоянии колонии, но они не желали видеть и понимать этого. Все было привычным и не производило должного впечатления. Ведь изменения к лучшему почти всегда остаются незамеченными, а приятели наблюдали их изо дня в день. Перенесись они мысленно ко дню кораблекрушения, от которого их отделяли три года, и то вряд ли смогли бы оценить перемены, произошедшие на острове. Они привыкли к окружающей обстановке, считали ее повседневной, и им казалось, так было всегда.
Впрочем, в настоящий момент их мысли были заняты совсем другим. Дорик и его сообщники перечисляли жителей Либерии и записывали подходящие им кандидатуры.
— Больше никого не знаю,— сказал наконец Сердей.— Сколько у нас набралось?
Дорик пересчитал имена, записанные в блокноте.
— Сто семнадцать.
— Из тысячи,— уточнил Сердей.
— Ну и что? — возразил Дорик.— Сто семнадцать — это уже кое-что. Думаешь, у Кау-джера больше? Я говорю о людях решительных, готовых на все. Остальные — овцы, которые пойдут за любым вожаком.
Сердей не ответил. Видно было, что он колеблется,
— И вообще, хватит болтовни,— отрезал Дорик.— Нас четверо. Проголосуем.
— Что касается меня,— воскликнул Фред Мур, размахивая кулаком,— с меня хватит! Голосую за то, чтобы действовать.
— Я тоже,— сказал его брат.
— Итак, со мной уже три голоса,— сказал Дорик.— А ты, Сердей?
— Как все, так и я,— ответил без особого воодушевления бывший повар,— но…
Его прервали:
— Никаких «но»! Решили — значит, кончено.
— Нужно же все-таки договориться о том, как это сделать,— настаивал Сердей.— Избавиться от Кау-джера — легко сказать, а вот как выполнить?
— Эх, будь у нас оружие… ружье… хотя бы пистолет! — воскликнул Фред Мур.
— Ничего нет,— флегматично произнес повар.
— А нож? — подал мысль Уильям.
— Отличный способ, чтобы тебя сразу схватили,— возразил Сердей.— Ты же знаешь, старина, что у Кау-джера охрана как у короля. Не говоря уже о том, что и сам он может справиться с четырьмя!
Фред нахмурил брови, стиснул зубы и рубанул рукой воздух. Он был хорошо знаком с кулаком губернатора и помнил, как тот легко разделался с ним.
Наступило молчание. Вдруг Дорик произнес:
— Я могу предложить кое-что.
Товарищи вопросительно взглянули на него.
— Порох.
— Порох? — повторили все трое в недоумении.
Кто-то спросил:
— А что с ним делать?
— Бомбу. Ведь поговаривают, что Кау-джер — анархист. Вот мы и применим против него оружие анархистов.
Предложение Дорика было принято без энтузиазма.
— Кто же сделает бомбу? — проворчал Фред Мур.— Уж, во всяком случае, не я.
— Я сам,— сказал Льюис.— Хотя, может быть, мы обойдемся и без нее. У меня есть одна идейка, и, если удастся ее осуществить, Кау-джер погибнет не один, а вместе с Хартлпулом и дежурными в милиции. На следующий день у нас будет меньше врагов.
Заговорщики посмотрели на товарища с восхищением. Даже Сердей сдался.
— Ну, если так…— пробормотал он, исчерпав все свои аргументы. Но вдруг спохватился: — Черт возьми! Мы говорим о порохе так, будто он у нас под боком.
— Он на складе,— ответил Дорик,— нужно только добыть его оттуда.
— Нечего сказать — плевое дело! — возразил Сердей, снова выступая в оппозиции.— Не так все это просто! Кто возьмется за это?
— Не я,— сказал Льюис.
— Ясно! — засмеялся Сердей.
— Только потому, что у меня не хватит силы для этого,— пояснил Дорик.— И не ты. Ты слишком труслив. Фред и Уильям Мур также не годятся, они недостаточно ловки.
— Так кто же?
— Кеннеди.
Никто не возражал. Да, Кеннеди, бывший матрос, ловкий, смышленый, мастер на все руки, знавший все ремесла, мог преуспеть там, где другие терпели неудачу.
Дорик прервал размышления товарищей:
— Уже поздно. Если хотите, встретимся завтра в это же время. Кеннеди тоже придет. Обсудим все и договоримся.
Подходя к городу, они из предосторожности расстались и на следующий день, направляясь к месту встречи, вышли из Либерии поодиночке. Только очутившись за пределами видимости, заговорщики пошли дальше вместе.
В этот вечер их было пятеро, к ним присоединился приглашенный Кеннеди.
— Он за нас,— объявил Дорик, хлопнув матроса по плечу.
Все обменялись рукопожатиями, затем, не теряя времени, приступили к обсуждению задуманного накануне плана. Совещание затянулось. Стало уже совсем темно, когда пятеро мужчин спустились с горы. Они достигли полного согласия. Выступление было назначено на ту же ночь.
Несмотря на полную темноту, как и накануне, они разделились, свернули с дороги, пересекли поле и обогнули город с юга. Потом повернули назад и вошли в Либерию.
Кругом стояла тишина. Никем не замеченные, они дошли до управления, где жили Кау-джер, Хартлпул, Дик и Сэнд, и снова притаились в тени одного из домов, напрягая слух и стараясь проникнуть взглядом в темноту.
Прямо перед ними была дверь суда. Из милиции, находившейся на противоположной стороне здания, доносились слабые отзвуки голосов. А по эту сторону улица была тиха и пустынна.
Зал суда не охранялся. Там ничего не было, кроме стола, простого кресла и нескольких прибитых к полу скамеек.
Убедившись, что вокруг ни души, Дорик и Кеннеди покинули свое укрытие и быстро перебежали через открытое пространство. Достигнув здания суда, Кеннеди тотчас же начал взламывать дверь, а Дорик стал на страже.
Тем временем братья Мур, оставив Сердея на прежнем месте, разошлись в разные стороны. Пройдя несколько шагов, они остановились и стали наблюдать: один — за главным фасадом и площадью перед управлением, другой — за глухой стеной, огораживающей тюрьму, и за улицей, отделявшей эту стену от других домов. Так что Кеннеди был под надежной охраной. При малейшей опасности его бы сразу предупредили, и он мог спастись бегством.
Но все обошлось благополучно. Бывший матрос работал четко, да и дело вышло несложным — замок оказался непрочным, и дверь поддалась при первом нажиме. Кеннеди вошел, оставив Дорика снаружи.
В зале было темно. Он чиркнул спичкой и зажег свечу. Дорик подробно объяснил ему план помещения: правая перегородка отделяла суд от тюрьмы, левая — от собственно управления. Там же находилась резиденция Кау-джера. А за стеной напротив располагался склад.
Кеннеди прошел прямо к углу, образованному внутренней перегородкой и стеной тюрьмы. Сейчас тюрьма пустовала, следовательно, никто не мог услышать его шагов.
Здесь он остановился и, осветив перегородку, стал обдумывать, что делать дальше. Выяснив, что пробить ее проще простого, он удовлетворенно улыбнулся. Выстроенная наспех в первые дни правления Кау-джера, стенка эта не представляла серьезного препятствия. Она состояла из вертикальных бревен, промежутки между которыми были заполнены мелкими камнями и заштукатурены. Нож Кеннеди легко проник в штукатурку и, расшатав камни, сдвинул их с места. Приходилось опасаться только одного: как бы они не посыпались и не загрохотали. Поэтому Кеннеди тихонько отделял один камень за другим и складывал на землю.
За час он проделал дыру, в которую легко мог пролезть, но мешало поперечное бревно. Его необходимо было перепилить. Это оказалось самым трудным, и Кеннеди провозился целый час, время от времени останавливаясь и прислушиваясь к ночным шорохам, доносившимся снаружи. Все было спокойно. Охранявшие не давали сигнала об опасности. Когда дыра стала достаточно большой, Кеннеди пролез в нее, но по ту сторону перегородки дело осложнилось: трудно было двигаться бесшумно среди всевозможных ящиков, загромождавших склад. Требовалась чрезвычайная осторожность.
Куда же, черт возьми, подевали бочонки с порохом? Нигде не было видно. Однако должны находиться где-то здесь…
Кеннеди принялся за поиски. Медленно протискивался между ящиками, иногда переставляя их, чтобы удобнее было продвигаться вперед.
Прошло около двух часов. Сообщники не понимали, почему он задерживается, да и сам грабитель стал нервничать и приходить в отчаяние. Ночь кончалась, близился рассвет. Неужели ему придется уйти ни с чем, оставив следы, после которых вторичная попытка будет невозможна?
Выбившись из сил, он уже решил отступиться, как вдруг наткнулся на то, что искал. Пять бочонков с порохом, аккуратно расставленные около двери в милицию, смотрели прямо на него. Затаив дыхание, Кеннеди услышал, как за спиной беседовали дежурные, он явственно различал их голоса. Теперь особенно важно было соблюдать полную тишину.
Подняв бочонок, матрос сразу же опустил его на пол — он оказался слишком тяжелым. Один человек не мог унести его, не задев тюков и ящиков, заполнявших склад. Скользя по узким проходам между ними, Кеннеди вернулся в зал. Просунув голову через дыру в перегородке, он тихонько позвал Дорика, чей темный силуэт выделялся на светлом фоне стены.
Услышав зов матроса, Дорик подошел к нему.
— Как ты долго! — прошептал он, наклонясь к дыре.— Что случилось?
— Ничего,— так же тихо ответил Кеннеди.— Не так-то просто передвигаться там, в складе.
— Бочонок у тебя?
— Нет, мне самому не справиться. Помоги поднять его.
Дорик пролез в дыру и прошел на склад следом за Кеннеди.
Вдвоем они подняли бочонок и перенесли в зал суда. Тотчас же Льюис направился обратно в склад.
— Куда ты? — шепотом спросил Кеннеди.
— За вторым бочонком. Поспешим, скоро рассветет.
— За вторым? — удивленно переспросил матрос.— Да ведь и одного хватит, чтобы взорвать всю Либерию!
— Возьмем еще один,— повторил Дорик.
— Для чего?
— У меня свой расчет. Когда отделаемся от Кау-джера, надо стать хозяевами положения. Тогда-то порох нам и пригодится.
— А до тех пор куда его денешь?
— Спрячу в надежном тайнике. Не беспокойся.
Кеннеди нехотя повиновался, и через четверть часа оба бочонка стояли рядом. Дорик просверлил в одном из них дыру, отсыпал через нее немного пороха, затем вынул из кармана нечто вроде мокрого шнура, сплетенного из ниток, отрезал от него кусок, вывалял его в порохе и для пробы поджег. Огонь затрещал, пробежал по шнуру и потух.
— Прекрасно,— заявил Дорик.— Пять сантиметров в минуту. Значит, весь фитиль сгорит за двадцать минут. Это даже больше, чем требуется.
Он подошел к бочонку.
Внезапно раздался глухой шум. Главарь замер на месте и переглянулся с Кеннеди. Оба смертельно побледнели. Но тревога оказалась ложной. К Дорику сразу же вернулось обычное хладнокровие.
— Дождь,— сказал он, подойдя к двери и выглянув наружу.
И в самом деле, пошел проливной дождь. Теперь стала понятна причина их испуга: капли яростно барабанили по крыше. Это обстоятельство благоприятствовало заговорщикам. Дождь смоет все следы, которые могли бы их выдать в случае подозрения. С другой стороны, шум дождя заглушит неизбежное потрескивание фитиля.
Все же следовало торопиться. Небо на востоке уже розовело. Через несколько минут окончательно рассветет, а Дорик, достаточно хорошо изучивший привычки Кау-джера, знал, что тот не замедлит выйти из дому.
— Скорее! — приказал он.
Они размотали фитиль, засунули один его конец в бочонок, и Дорик поднес зажженную спичку к другому концу. Затем оба быстро выскользнули из двери, унося с собой второй бочонок.
Братья Мур и Сердей стояли на своих постах. Дорик позвал их легким свистом, дав знать, что все благополучно.
После этого заговорщики скрылись. Гроза продолжала низвергать потоки дождя на спящий город.
Глава IV В ПЕЩЕРАХ
Когда Кау-джер вышел из управления, гроза уже прошла и дождь прекратился. Ветер разогнал тучи, над морем взошло солнце, и его косые лучи позолотили крыши домов Либерии.,,
Город еще спал. Как всегда, губернатор проснулся первым. Глубоко вдыхая свежий утренний воздух, он прошелся по площади, превратившейся после ливня в грязное болото, и сразу же обратил внимание на приоткрытую дверь суда. Не придав этому особого значения, он подошел и хотел закрыть ее, но, к своему крайнему удивлению, обнаружил, что дверь взломана. Кому это понадобилось? Неужели в Либерии нашлись бедняки, прельстившиеся скудной обстановкой зала суда?
Кау-джер зашел в помещение и, хотя уже с порога заметил бочонок, не сразу сообразил, почему он оказался здесь. Но после беглого осмотра все стало ясно. Рассыпанный порох… протянутый по полу обгоревший фитиль… Ошибиться было невозможно. Кто-то хотел уничтожить губернатора вместе с управлением.
Это открытие поразило Кау-джера. Значит, какие-то колонисты так ненавидели его! Он стал соображать, кто бы мог это сделать. Пока не было оснований обвинять кого-либо, но правитель хорошо знал всех жителей города, и поэтому его подозрения ограничились небольшим кругом лиц. Фердинанд Боваль, несмотря на его новую должность?… Возможно… Льюис Дорик?… Более чем вероятно… И, во всяком случае, кто-то из их приверженцев.
Осмотрев весь зал, Кау-джер обнаружил дыру, проделанную в перегородке, и понял, что бочонок был похищен со склада и перенесен сюда. Преступник поджег фитиль и скрылся, но, вопреки его ожиданиям, взрыва не последовало. Фитиль, обгорев на две трети, попал в лужу воды и погас.
Откуда же взялась здесь вода? Губернатор взглянул наверх. Ну конечно, она просочилась во время ливня через щели в крыше. На потолке виднелись свежие потеки, на полу образовалась здоровенная лужа, которая залила фитиль.
Его охватил страх — не за себя, а за тех, кто находился вместе с ним в управлении: за Хартлпула, жившего там со своими двумя приемными детьми, и за людей, дежуривших прошлой ночью. Они уцелели по чистой случайности. Если бы не ночной ливень и дырявая крыша, все бы погибли.
Поразмыслив, Кау-джер решил, что не стоит оглашать неудавшееся покушение, дабы не создавать паники среди мирного населения. Закрыв двери, он направился к Хартлпулу, разбудил его и рассказал о ночном происшествии. Тот пришел в ужас. Так же как и губернатор, он не мог указать виновных, но, не колеблясь, сразу же назвал тех, на кого могло пасть подозрение.
Поскольку было запрещено говорить о преступлении, Хартлпулу предстояло заделать отверстие в перегородке без посторонней помощи. Пока он ходил за нужными инструментами, Кау-джер отнес опасный груз на прежнее место и тут обнаружил исчезновение еще одного бочонка.
Для чего он понадобился преступнику? Конечно, не для хорошего дела. Но ведь порох без огнестрельного оружия бесполезен, и воры должны были понимать, что им удалось стащить его только благодаря счастливому стечению обстоятельств и что повторить это невозможно…
Вернулся Хартлпул, и они вдвоем вставили обратно часть бревна, вырезанного Кеннеди, заложили пустые промежутки камнями и заделали известкой. Вскоре на стене не осталось никаких следов.
Только тогда Кау-джер сообщил Хартлпулу об исчезновении второго бочонка. Дело принимало серьезный оборот. Несомненно, злоумышленники, завладев порохом, подготовят новое покушение, и следовало подумать о средствах защиты. После всестороннего обсуждения решили увеличить численность милиции с сорока до шестидесяти человек, а пока ограничиться восемью дополнительными караульными, так как в резерве имелось всего восемь запасных ружей. Ночные дежурные будут отныне нести службу не в помещении милицейского участка, а снаружи, сменяясь попарно, и во время пребывания на посту должны регулярно производить обход вокруг управления, тем самым обеспечивая постоянное наблюдение. Кроме того, Кау-джер срочно выписал еще двести ружей, чтобы в будущем можно было отразить любое нападение.
Преступники не оставили после себя никаких следов, за исключением похищенного бочонка с порохом. Чтобы найти этот бочонок, пришлось бы произвести многочисленные обыски, которые, естественно, взволновали бы население, а губернатор не хотел этого и счел принятые меры достаточными. Но Хартлпул дал себе слово обеспечить своего начальника бдительной и незаметной охраной.
Потом жизнь потекла как обычно. Дни шли за днями, воспоминание о странном происшествии сглаживалось и постепенно теряло свою остроту. Повторное покушение при усиленной охране казалось невозможным, и вскоре Кау-джер совсем перестал о нем думать. Захваченный потоком самых разнообразных дел, он всецело отдался созидательному труду. В голове у него непрерывно созревали новые и новые идеи.
Так, не дождавшись окончания строительства плотины для набережной, он решил использовать водопад, расположенный в нескольких километрах вверх по реке, для электростанции, которая снабдила бы весь остров светом и энергией.
Либерия, освещенная электричеством! Кто мог это предвидеть два года назад!
И все же другой проект всецело захватил Кау-джера, более грандиозный. Дать Либерии электрический свет, конечно, заманчиво, но пользу от этого получили бы только жители Осте. К тому же затея не представляла особых трудностей и казалась правителю просто развлечением. Дело же, которое увлекло его по-настоящему, было куда более трудным и всеобъемлющим. Оно касалось всего человечества.
Впервые мысль о нем возникла еще во время кораблекрушения «Джонатана».
Когда в ночи раздались пушечные выстрелы, Кау-джер, как известно, зажег костер на мысе Горн. Но он сделал это только один раз, в дальнейшем никто не сигнализировал кораблям об опасности. А ведь сотни судов огибают крайнюю оконечность Америки в период бурь, и никто не зажигает им путеводных огней. Поэтому так часто обломки усеивают рифы архипелага. Но если бы каждый вечер с заходом солнца зажигались огни маяка, своевременно предупрежденные суда могли бы уйти в открытое море и предотвратить грозящую им катастрофу.
С тех пор как наш герой попал на мыс Горн, не проходило дня, чтобы он мысленно не возвращался к этому грандиозному проекту.
Он не умалял его трудностей и долгое время считал неосуществимым. Но обстоятельства изменились. Будучи правителем расцветавшего края, Кау-джер теперь имел почти неограниченное число рабочих рук. Мечта становилась реальностью.
Материальные затраты не смущали его. Он располагал значительными средствами и мог предоставить Остельскому государству крупные ассигнования[151]. Кау-джер долго не тратил деньги на себя лично. Но отнюдь не стремился к накоплению и к помещению капиталов под проценты и даже пытался забыть об их существовании. Только однажды, поборов свое отвращение ко всякого рода финансовым операциям, он субсидировал[152] торговое предприятие Гарри Родса. Но, раз изменив своим принципам, у него уже не было причин и впредь оставаться непреклонным, тем более что дело касалось спасения человеческих жизней.
Мог ли он найти для своего богатства лучшее применение, чем сооружение маяка на зловещем мысе, о крутые скалы которого разбилось столько кораблей?
Кау-джера беспокоили иные серьезные препятствия, стоявшие на пути будущего строительства: если территория Осте не принадлежала никому, то остров Горн находился во владении Чили.
Согласится ли республика отказаться от своих прав на голую скалу, принимая во внимание цель, во имя которой хотело ее приобрести Остельское государство? Во всяком случае, следовало начать переговоры, и с первым же попутным кораблем Кау-джер направил официальное послание чилийскому правительству.
Увлекшись новым замыслом, губернатор стал забывать об опасности, нависшей над его головой.
В тайниках сознания сохранилась — как отголосок его прежних вольнолюбивых идей — ненависть ко всяким полицейским мерам. Поэтому он с самого начала отказался от тщательного расследования, мотивируя его нежеланием вызвать волнение среди жителей Либерии.
Заговорщики по-прежнему оставались на свободе, и похищенный порох представлял в их руках страшную угрозу.
После покушения Дорик и Кеннеди перенесли бочонок с порохом в одну из пещер Западного мыса.
Их было три: одна, на южном склоне, сообщалась через подземный ход с центральной пещерой, а верхняя выходила на северный склон горы и, следовательно, возвышалась над Либерией. Узкая расщелина, несмотря на резкую крутизну склонов, доступная пешеходу, соединяла между собой все три пещеры, но посередине резко сужалась, и приходилось пробираться по ней ползком, чтобы не задеть один неустойчивый камень, поддерживавший в этом месте свод. Падение его могло вызвать обвал.
Дорик и Кеннеди принесли порох в первую из нижних пещер, куда через высокий и широкий проход проникали потоки света и воздуха. Бегло осмотрев ее и не заметив узкого лаза, идущего к верхней пещере, они спрятали бочонок под кучей ветвей.
Каково же было их изумление, когда по возвращении в Либерию утром 27 февраля они увидели, что здание управления цело и невредимо.
По дороге к пещерам, где прятался порох, и на обратном пути они все время напряженно прислушивались, ожидая взрыва. Но кругом было тихо. Терзаемые любопытством и не осмеливаясь удовлетворить его, Дорик и Кеннеди разошлись по своим домам.
Неудача с покушением и возможность раскрытия заговора требовали от них особой осторожности, так что в данный момент все сводилось только к одному: остаться незамеченными. На следующее утро, на работе, они старались не привлекать к себе внимания.
Только после полудня Льюис Дорик отважился пройти мимо управления. Бросив издали беглый взгляд в сторону суда, он увидел, что слесарь Лоусон чинит взломанную дверь.
По-видимому, мастер не придавал особого значения этому делу. Ему приказали вставить новый замок, вот и все. Но его спокойствие ни в коей мере не передалось Дорику. Раз исправляли дверь, значит, взлом был обнаружен, а следовательно, найдены и бочонок с порохом, и обгоревший фитиль.
Льюис не знал, кто первый заметил диверсию, но не сомневался, что о таком происшествии немедленно доложили губернатору и теперь делается все возможное, чтобы отыскать преступников. В первую минуту он растерялся — вероятно, заговор раскрыт! — но, поразмыслив, успокоился. В конце концов доказательств его вины не было, а если даже и возникли подозрения, нельзя же арестовать и тем более осудить человека на основании одних только подозрений! И пока сообщники молчат, вообще никаких улик нет.
Несмотря на все эти рассуждения, Дорик страшно разволновался, когда к концу рабочего дня столкнулся лицом к лицу с Кау-джером, пришедшим посмотреть на работы в порту.
По внешнему виду правителя нельзя было определить необычайность происшедшего. Но Дорик знал, что в спокойствии Кау-джер бывает опаснее, чем во гневе, и подумал: «Если губернатор так спокоен — значит, напал на след». Опустив глаза, он притворился, будто целиком захвачен работой.
Но постепенно тревога улеглась, и с каждым днем уверенность Дорика в благополучном исходе возрастала. Он убедился, что, хотя похищение пороха и было обнаружено, вследствие чего изменили порядок несения караульной службы, жизнь города течет нормально. Тем не менее две недели сообщники избегали друг друга и так примерно вели себя, что своим поведением могли навлечь на себя подозрение.
Через некоторое время они начали перебрасываться на ходу отдельными словечками, а потом, видя, что угроза миновала, возобновили вечерние прогулки и тайные сборища. Наконец они настолько осмелели, что решились пойти в пещеру, где находился бочонок с порохом.
Он оказался на месте, и это окончательно успокоило преступников. С той поры пещера превратилась в постоянное место их встреч. Через месяц после неудавшегося покушения они стали приходить туда каждый вечер и вели нескончаемые разговоры об одном и том же. Больше всего возмущала их необходимость подчиняться наравне с другими закону о труде.
Постоянно подхлестывая друг друга взаимными жалобами, они мало-помалу забыли о постигшей их неудаче и принялись изыскивать новые способы убийства Кау-джера. Озлобление заговорщиков дошло до предела, и наконец настал день, когда они почувствовали, что больше не в силах повиноваться губернатору.
Тридцатого марта пятеро приятелей, выйдя из города поодиночке, встретились через несколько километров на пути к пещерам. Дорик, погруженный в мрачное раздумье, не произносил ни слова. Остальные, также молча, следовали за ним. Тягостное безмолвие напоминало предгрозовое затишье.
Льюис первым вошел в пещеру и вдруг в ужасе попятился — там ярко горел огонь.
Значит, здесь кто-то был, и, видимо, совсем недавно!
Огонь! Дорик сразу подумал о порохе. Если бы костер развели чуть-чуть дальше, тех, кто его зажег, уже не было бы в живых. Сами того не подозревая, эти люди избежали смертельной опасности.
Дорик бросился к куче хвороста. Бочонок лежал на месте. Его не обнаружили, когда брали сухие ветви для весело искрившегося костра.
Тем временем Кеннеди осматривал вторую пещеру, освещая ее горящей веткой. Вскоре он вернулся и успокоил остальных — там никого не было. Наверно, случайные гости уже ушли.
Кеннеди хотел затоптать костер, но Дорик резко остановил его и подбросил в огонь новые сучья. Товарищи с изумлением смотрели на него.
— Ну, вот что, друзья,— сказал он, повернувшись к ним,— с меня хватит… Сюда уже приходил кто-то… Могут прийти опять и найти порох… Надо действовать.
Все согласились с ним, за исключением Сердея, хранившего невозмутимое молчание.
— Когда же? — спросил Фред Мур.
— Сегодня вечером. Я все обдумал… У нас нет оружия, но я сделаю бомбу… сам… сегодня же. Спрессую порох в нескольких слоях ткани, пропитанной смолой… Для этого мне и нужен огонь… чтобы растопить смолу. Конечно, моей бомбе далеко до усовершенствованных снарядов с часовыми механизмами… но выше головы не прыгнешь… Я не химик… В некоторых местах пропущу через нее фитиль… Он будет гореть тридцать секунд… Этого достаточно, чтобы зажечь и бросить. Я проверил… Как бы то ни было, бомба сделает свое дело.
Заговорщиков поразил странный вид Дорика: он дрожал как в лихорадке, лицо его судорожно подергивалось, голос прерывался, взгляд блуждал как у безумного. Но врачи не сочли бы его умалишенным, хотя он и говорил как в бреду. Злоба и ненависть, накопившиеся за всю жизнь, душили его. Не в силах справиться с собой, он, однако, сохранял всю ясность рассудка, насколько это возможно для человека, ослепленного гневом.
— Кто же бросит бомбу? — тихо спросил Сердей.
— Я,— ответил Дорик.
— Когда?
— Сегодня ночью. Около двух часов я постучусь в управление, Кау-джер пойдет открывать… Услышав его шаги, зажгу фитиль… А как только дверь откроется, брошу бомбу.
— А сам?
— Успею отбежать… Но если даже и подохну, все равно с Кау-джером надо покончить.
Наступило тягостное молчание. Зловещий замысел Дорика потряс его сообщников.
— Значит,— медленно произнес Сердей,— мы тебе не нужны?
— Мне никто не нужен! — крикнул бывший учитель.— Трусы могут убираться на все четыре стороны!
Эти слова задели присутствующих за живое.
— Я остаюсь,— заявил Кеннеди.
— И я,— сказал Уильям Мур.
— И я тоже,— повторил Фред.
Сердей промолчал.
В пылу спора, сами того не замечая, они заговорили громче, совершенно забыв о том, что люди, зажегшие костер, могли оказаться поблизости и услышать их преступные речи.
И действительно, их услышал — совершенно невольно — Дик, но он был еще так мал, что, даже обнаружив его, заговорщики не испугались бы.
Тридцатого марта у Дика и Сэнда был свободный день. Поэтому они вышли из города рано утром, чтобы поскорее добраться до пещер, в которых когда-то любили играть.
Дети очень непостоянны в своих привязанностях и вкусах. В один прекрасный день они бросают излюбленные забавы, как бы пресытившись ими, а когда им надоедает новое развлечение, вдруг опять возвращаются к ним.
Так было и с пещерами. После долгого перерыва друзья снова направились туда, на ходу обсуждая важный вопрос о предстоящей игре. Точнее, Дик, по обыкновению, командовал, а Сэнд покорно внимал его приказам.
— Старина,— начал Дик, когда они миновали дома на окраине,— я скажу тебе что-то интересное.
Сэнд навострил уши.
— Сегодня мы будем играть в ресторан.
Тот кивнул головой в знак согласия, хотя, по правде говоря, ничего не понял.
Дик вынул из кармана спичечную коробку.
— Что скажешь на это? — торжествующе спросил он.
— Спички! — воскликнул молодой скрипач, восхищенный необыкновенной игрушкой.
— А на это? — продолжал его приятель, вытаскивая из кармана с полдесятка картофелин.
Сэнд радостно захлопал в ладоши.
— Так вот,— властно заявил Дик,— ты будешь хозяином ресторана, а я — посетителем.
— Почему?
— Потому!
На такой безоговорочный довод Сэнду нечего было возразить, и, когда они пришли на место, все произошло так, как пожелал его деспотичный друг.
В одном углу пещеры они нашли неизвестно откуда взявшуюся кучу хвороста. Вытащив из нее несколько сучьев, они подожгли их, соорудили великолепный костер и стали печь картошку. А потом началась настоящая игра.
Один замечательно изображал хозяина ресторана, другой был не хуже в роли посетителя. Надо было видеть, с какой непринужденностью он вошел в пещеру (само собой разумеется, для большей правдоподобности сначала вышел оттуда), как чинно уселся на земле перед воображаемым столом, как надменно потребовал все кушанья, названия которых знал.
Дик заказал яйцо, ветчину, цыпленка, солонину, рис, пудинг и прочие яства.
Клиент мог безнаказанно требовать любое блюдо — никогда еще не существовало ресторана с таким разнообразным меню. У хозяина имелось решительно все. Что бы ни заказывали, он, не колеблясь, отвечал: «Извольте, сударь!» — и немедленно приносил желаемое кушанье. Никто не усомнился бы, что это на самом деле яйца, ветчина или цыпленок, хотя какой-нибудь поверхностный наблюдатель мог случайно спутать их с простыми картофелинами!
Но всему приходит конец. Истощаются даже самые обильные запасы, и насыщаются даже самые ненасытные желудки. По чудесному совпадению, то и другое совершилось одновременно — именно в тот момент, когда, к великому огорчению «хозяина ресторана», была съедена последняя картофелина. Он разочарованно протянул:
— Ты все съел…
Дик снисходительно улыбнулся:
— Но ведь я был посетителем. Не станет же сам хозяин есть свои продукты!
Но на этот раз Сэнда не так-то просто было убедить.
— А мне ничего не досталось,— растерянно произнес он.
— Может быть, ты еще скажешь, что я — обжора? Тогда, черт возьми, я больше не играю с тобой!
— Ну, что ты! — взмолился малыш, испугавшись угрозы.
Дику только этого и надо было.
— Хорошо,— благодушно согласился он, сразу же отказавшись от мщения.— Теперь я буду хозяином, а ты — посетителем.
После перемены действующих лиц игра возобновилась. Сэнд вышел из пещеры, снова вернулся и сделал вид, что садится за стол. Дик подбежал и предупредительно поднес ему булыжник. Но Сэнд не обладал таким даром воображения, как Дик, и, не поняв, что от него требуется, растерянно смотрел на камень.
— Дурак, это же счет,— объяснил новый «хозяин ресторана».
— А я еще ничего не заказал! — возмутился посетитель.
— Так ведь больше ничего нет, и остается только заплатить за обед. В ресторане надо платить. Ты скажешь: «Гарсон[153], дайте счет». А я отвечу: «Пожалуйста, сударь». Ты скажешь: «Вот цент за обед и цент вам на чай». Я скажу: «Спасибо, сударь». И ты дашь мне два цента.
Они превосходно разыграли эту сцену. Сэнд тоном ресторанного завсегдатая приказал: «Гарсон, счет!», а Дик так услужливо откликнулся: «Пожалуйста, сударь!», что его можно было принять за официанта первоклассного ресторана. Сэнд в восторге дал ему два цента, но вдруг вспомнил о съеденной картошке.
— Ты все съел сам, а мне приходится платить,— сказал он грустно.
Дик сделал вид, будто не расслышал, но покраснел до ушей.
— Мы купим лакричного соку[154] в магазине Родса,— пообещал он, чтобы заглушить угрызения совести. Затем, как опытный дипломат, желающий сразу покончить с неприятным инцидентом, добавил: — Будем играть в другую игру.
— В какую?
— Во льва и охотника. Ты будешь путешественником, а я львом,— заявил Дик, немедленно присваивая себе выигрышную роль.— Ты войдешь в пещеру, чтобы отдохнуть, а я прыгну на тебя. Ты закричишь: «На помощь!» Тогда я выбегу, а потом прибегу опять, но теперь я уже стану охотником и убью льва.
— Но как же ты сможешь его убить, если ты сам — лев?
— Нет, я уже буду охотником.
— А кто же бросится на меня?
— Глупый, конечно, я — но тогда, когда еще буду львом.
Сэнд погрузился в раздумье, пытаясь разобраться в предстоящей игре, но Дик прервал его и, не объяснив все толком, приказал:
— Сейчас ты уходи, а потом возвращайся. Лев будет поджидать тебя среди скал. У тебя еще много времени… Помни, что я — лев и буду в засаде. Львы очень долго сидят в засаде… А ты поднимись по переходу до верхней пещеры и войди совершенно спокойно — ведь ты ничего не знаешь о том, что тебе грозит опасность. Только тогда ты услышишь рычание льва…
И он испустил леденящие душу звуки.
Сэнд вышел и стал подыматься по расщелине. Ему предстояло спуститься в пещеру и стать покорной жертвой хищника.
Тем временем Дик спрятался между скалами. Ожидание не казалось ему долгим: ведь он был лев, а львы умеют терпеливо подстерегать свою добычу. Ни за что на свете он не высунет даже кончика носа раньше времени! Изредка «лев», хотя и в полном одиночестве, добросовестно издавал тихое ворчание, предвещавшее громкий и ужасающий рев, с которым он набросится на несчастного путешественника. Эти подготовительные упражнения были прерваны появлением людей, взбиравшихся на гору.
Дик настолько вошел в образ царя пустыни, что и в самом деле готов был наброситься на них, однако его превращение не помешало ему узнать Льюиса Дорика, Кеннеди, братьев Мур и Сердея. Мальчик скорчил гримасу — он не любил их, особенно Фреда Мура, которого считал своим личным врагом.
К великому негодованию Дика, вся компания скрылась в пещере, и вскоре до него донеслись их удивленные возгласы — они увидели костер.
— Это не их пещера! — сердито пробормотал парнишка. Но вдруг прислушался…
Они заговорили о порохе и о бомбе. Последнее слово, которое он плохо расслышал, связывалось с именем губернатора и Хартлпула.
Может быть, он находился слишком далеко и поэтому не расслышал? Дик осторожно подполз к пещере, откуда отчетливо доносилось каждое слово. Он узнал голос Сердея.
— А что дальше? — спросил бывший повар, неизменный критик всех предложений Дорика.— Бомба — ведь это не порох. Ты не сможешь уничтожить всех разом. Убьешь Кау-джера — останется Хартлпул и охрана…
— Ерунда! — раздраженно ответил Дорик.— Их я не боюсь. Если снять голову, туловище не опасно.
«Убить!»… «Снять голову губернатору!»… Дик сразу же стал серьезным и, задрожав, начал прислушиваться к этим страшным словам.
Глава V ГЕРОИ
«Снять голову губернатору!»… Дик мгновенно позабыл об игре. Надо скорее бежать в Либерию и сообщить обо всем услышанном!
Торопясь, он оступился, и камни с шумом покатились из-под его ног. Тотчас же из пещеры выскочил какой-то человек. Беглец узнал Фреда Мура. И тот заметил его.
— А, это ты, сопляк! — крикнул он.— Какого черта тебе здесь нужно?
Дик, оцепенев от страха, молчал.
— Ты что, язык проглотил сегодня? — снова раздался грубый окрик Фреда.— Обычно ты за словом в карман не лезешь. Ну погоди, сейчас заговоришь!
От этой угрозы ноги малыша сами пришли в движение, и он пустился наутек. Но враг сразу же догнал его, схватил за руки и поднял над землей как перышко.
— Ах, чертенок! — выругался Мур, держа на весу свою жертву.— Я тебе покажу, как подслушивать!
Он внес мальчика в пещеру и бросил к ногам Дорика.
— Вот кого я поймал. Он подслушивал нас.
Сильным пинком Дорик поставил пленника на ноги.
— Что ты тут делал? — сердито спросил он.
Дику было страшно, он дрожал как лист, но мальчишеская гордость победила, и, вскинув голову, он звонко выкрикнул:
— Не ваше дело! Все имеют право играть в пещере. Она не принадлежит вам.
— Я тебя научу вежливости, паршивец,— буркнул Фред, отвесив пленнику тяжелую затрещину.
Дика нельзя было сломить побоями. Он скорее дал бы превратить себя в котлету, чем поддаться врагам. Мальчик не согнулся под ударами,— выпрямившись и сжав кулаки, он смело бросил в лицо своему мучителю:
— Негодяй!
Не обращая внимания на оскорбления, Мур повторил:
— Говори, что ты слышал, или…
Он начал избивать, осыпая его градом ругательств. Стиснув зубы, мальчик упорно молчал.
— Оставь его,— вмешался Дорик,— так ты ничего не добьешься. Да и не важно, слышал он что-нибудь или нет. Мы ведь все равно не отпустим его.
— Уж не собираешься ли ты убить мальчишку? — осведомился Сердей, противник всяких крайних мер.
— Не стоит мараться! — проворчал Льюис.— Надо просто заткнуть ему глотку. Есть у кого-нибудь веревка?
— На,— сказал Фред, вынимая ее из кармана.
— Возьми и это,— добавил его брат Вильям, протягивая кожаный пояс.
Дику связали ноги и скрутили руки за спиной. Затем Фред Мур перенес его во вторую пещеру и бросил, как мешок, на землю.
— Лежи тихо, гаденыш, не то будешь иметь дело со мной! — пригрозил он и вернулся к товарищам.
Дорик уже растопил смолу и, соблюдая все меры предосторожности, начал готовить смертоносное оружие.
Тем временем судьба пятерых негодяев решалась независимо от них.
Сэнд, направляясь к месту встречи, где по условиям игры ему предстояло стать жертвой кровожадного льва, увидел издали, как его товарища поймали и втащили в пещеру. Мальчик ужасно перепугался. Почему схватили Дика? Зачем Фред унес его в пещеру? Что с ним сделали? Может быть, его убили? А может, он ранен и нуждается в помощи? Если так, то Сэнд спасет его.
С быстротой серны он взбежал на гору, добрался до верхней пещеры и по узкому, скрытому переходу снова стал спускаться вниз. Менее чем за четверть часа он добрался до места, где туннель расширялся, образуя подобие естественного грота. Туда был брошен Дик.
Тусклый свет проникал снаружи через узкую расщелину. Из пещеры доносились приглушенные голоса Льюиса Дорика и его сообщников.
Понимая, как важно соблюдать тишину, Сэнд медленно и бесшумно подкрался к другу. Вытащив из кармана нож, с которым — как настоящий юнга — никогда не расставался, он перерезал веревки, связывавшие Дика. Тот сразу же вскочил на ноги и, юркнув в туннель, помчался по галерее, карабкаясь по крутому каменистому склону, падая и снова поднимаясь. Сэнд, задыхаясь, едва поспевал за ним.
Мальчикам удалось бы легко скрыться, но в этот момент Фреду Муру пришло в голову взглянуть на пленника. Ему показалось, будто в глубине полутемной пещеры кто-то шевелится. Не раздумывая, он бросился вперед и обнаружил узкий подземный ход, о существовании которого не подозревал. Фред, чертыхаясь, ринулся в погоню.
Хотя дети находились на расстоянии метров пятнадцати, ему с его длинными ногами нетрудно было догнать их, тем более что в этом месте галерея была относительно высокой и просторной. Только кромешная тьма мешала ориентироваться в незнакомом месте.
Ослепленный яростью, Мур гнался за ними, не думая о том, что может разбить голову о какой-нибудь выступ скалы.
Дик и Сэнд напрягали последние силы, стремясь скорее добежать до самого узкого места в туннеле, где нависавшие своды держались на одном-единственном камне. Дальше взрослый человек мог продвигаться только ползком. На это и рассчитывали мальчики — в этом было их спасение.
Наконец они достигли цели. Дик, наклонившись, первым благополучно пролез под камнем. Сэнд, бегущий вслед за ним, вдруг почувствовал, что кто-то коснулся его ноги.
Фред в темноте не заметил каменного выступа и с такой силой ударился о него лбом, что, оглушенный, свалился на землю. Но именно благодаря его падению погоня неожиданно увенчалась успехом: инстинктивно протянув руки вперед, он вцепился в ногу малыша.
Сэнд решил, что погиб. Сейчас Мур прикончит его… снова погонится за Диком… схватит его, опять свяжет и бросит в пещеру… И никто не услышит их криков о помощи… Или же его друга сразу убьют…
Неизвестно, так ли думал в эту минуту беглец и успел ли он заранее обмозговать свое отчаянное решение — ведь все совершилось с молниеносной быстротой.
По-видимому, у каждого человека существует второе «я», которое в определенных случаях действует помимо его воли. Благодаря этому «подсознанию», как его называют ученые, мы внезапно разрешаем задачу, над которой бились долго и тщетно и о которой уже перестали думать. Это оно подчас толкает нас на неожиданные поступки, внешне вроде бы и не зависящие от нашего разума, но причина которых кроется все-таки внутри нас.
Сэнд понимал лишь одно: он должен любой ценой остановить погоню и спасти Дика. Все остальное произошло как бы помимо его воли — руки сами протянулись и крепко ухватились за неустойчивую глыбу, поддерживавшую потолок галереи, в то время как Фред Мур, не подозревая об опасности, продолжал тащить его за ногу. Камень покачнулся… сдвинулся с места… Раздался грохот, и свод рухнул.
Услышав шум обвала, Дик остановился. Но все мгновенно стихло. Он позвал Сэнда сначала шепотом, потом вполголоса. Не получив ответа, Дик громко и отчаянно закричал. Кругом царила тишина и мрак. Позабыв о преследовании, мальчик решил вернуться обратно, но, пробежав несколько шагов, наткнулся на груду обломков, завалившую проход. Все стало понятно: Сэнд погребен в каменной могиле. На мгновение Дик застыл на месте, потом пустился бежать по проходу как безумный и, выбравшись из пещер, кубарем скатился с горы.
Кау-джер спокойно читал перед сном, как вдруг двери распахнулись настежь, и какое-то растрепанное, окровавленное существо, испускавшее нечленораздельные звуки, бросилось к его ногам. Изумленный мужчина с трудом узнал в нем Дика.
— Сэнд!… Губернатор!… Сэнд!…— простонал мальчик.
— Откуда ты? Что случилось? — строго спросил правитель.
Но Дик, казалось, ничего не понимал. Глаза его блуждали, слезы струились по щекам, и, задыхаясь, он то и дело повторял бессвязные слова, дергая Кау-джера за руку, как будто пытаясь повести его за собой:
— Сэнд… Губернатор!… Сэнд… Пещера… Дорик… Мур… Сердей… Бомба… Снять голову… Сэнда завалило… Губернатор!… Сэнд…
По этим отрывистым словам можно было догадаться, что в пещерах совершилось какое-то преступление, в котором замешаны Дорик, Мур и Сердей. Не стал ли их жертвой Сэнд? Бесполезно сейчас расспрашивать Дика. Несчастный мальчик совершенно потерял рассудок и жалобно твердил одни и те же слова.
Кау-джер позвал Хартлпула:
— Что-то произошло в пещерах. Возьмите пять человек с факелами и ступайте туда за мной. Не задерживайтесь.
Потом, не отпуская руки Дика, вышел из дома и быстро направился в горы. Две минуты спустя Хартлпул и пять вооруженных мужчин последовали за ним.
И тут произошло роковое недоразумение: Кау-джер приказал Хартлпулу идти к пещерам, но не сказал, к каким именно, и Хартлпул, не видя в темноте, куда скрылся губернатор, повел свой отряд в другом направлении.
Тем временем Дик и Кау-джер обогнули оконечность мыса с севера и вышли с противоположной стороны к пещере, которую Дорик превратил в свой штаб.
Услышав громкий возглас Фреда Мура, обнаружившего бегство мальчика, Льюис бросил работу и кинулся на помощь приятелю, но, решив, что тот сам справится с ребенком, вернулся обратно.
Наконец он закончил изготовление бомбы, а Фред все не возвращался. Удивленные и обеспокоенные его продолжительным отсутствием, бандиты спустились в нижнюю пещеру, освещая себе путь факелами. Впереди шел Уильям Мур, за ним — Дорик и последним — Кеннеди. Сердей сначала хотел пойти с ними, но передумал и повернул назад. Пока его друзья обшаривали все закоулки, он, пользуясь наступлением ночи, укрылся за ближайшей скалой. Повар счел исчезновение Фреда плохим предзнаменованием и чувствовал всевозможные неприятные осложнения.
Да, повар с «Джонатана» не был, что называется, «лихим парнем». Он предпочитал хитрость, обман и притворство, а борьба в открытую была ему не по нутру. Дрожа за свою шкуру, он остался в стороне, решив, что будет действовать только наверняка и в зависимости от обстоятельств.
Вскоре Дорик и его спутники обнаружили туннель, по которому неизбежно должен был пройти Фред Мур, так как вторая пещера не имела другого выхода. Прошагав метров сто, они вдруг остановились: дорогу преграждал барьер из каменных глыб. Галерея заканчивалась тупиком.
Все с недоумением смотрели друг на друга:
— Куда же, черт возьми, он делся?
Встревоженные его таинственным исчезновением, заговорщики молча вернулись в первую пещеру. Там их ожидал сюрприз: у входа виднелись две человеческие фигуры — мужчины и ребенка.
Костер все еще горел, и при свете яркого пламени приятели сразу узнали обоих.
— Дик! — воскликнули все трое, пораженные тем, что юнга, которого они так крепко связали, вдруг очутился перед ними.
— Кау-джер! — в бешенстве закричали Мур и Кеннеди и, не помня себя, бросились вперед.
Губернатор неподвижно стоял на пороге, готовый к внезапному нападению. Бандиты даже не успели вытащить ножи, как он, схватив их за шеи, с такой силой стукнул головами друг о друга, что оба упали оглушенные. Кеннеди так и остался на земле без сознания, а Уильям Мур безуспешно пытался приподняться.
Не обращая на них внимания, Кау-джер сделал шаг к Дорику, который словно застыл на месте в глубине пещеры, держа в руке бомбу с длинным фитилем. Растерявшись при появлении грозного врага, потрясенный неожиданной развязкой, Дорик не успел прийти на помощь своим сообщникам. А теперь было ясно, что дальнейшее сопротивление бесполезно и игра закончена.
Тогда его охватило бешенство. Кровь бросилась в голову, в глазах потемнело… Нет, пусть хотя бы один-единственный раз победа будет на его стороне! Даже если придется заплатить своей жизнью за смерть Кау-джера!
Дорик подскочил к костру, выхватил пылающий сук, поднес его к фитилю и отвел руку, чтобы бросить смертоносный снаряд…
Но в пылу гнева убийца, очевидно, не рассчитал скорости горения фитиля или же в самой бомбе был какой-то изъян — так или иначе, она вдруг разорвалась у него в руках.
Раздался оглушительный грохот. От сильнейшей детонации дрогнула земля. Из раскрытой пасти пещеры вырвался огненный вал.
Тотчас снаружи раздались тревожные возгласы. Хартлпул и его подчиненные, поняв наконец свою ошибку, добрались до места происшествия и увидели, как языки пламени, подобно гигантским змеям, подползали к Кау-джеру, стоявшему в середине огненного кольца вместе с перепуганным Диком, который судорожно прижался к его коленям.
Стражники бросились спасать губернатора, но тот не нуждался в помощи. По счастливой случайности взрывная волна не задела Кау-джера. Повелительным жестом он остановил подбежавших.
— Охраняйте вход, Хартлпул! — приказал он обычным голосом.
Пораженные таким невероятным хладнокровием, люди повиновались и оцепили вход в пещеру.
Понемногу дым рассеялся, но от взрыва костер погас, и стало совершенно темно.
— Дайте свет, Хартлпул,— сказал правитель.
Когда зажгли факелы и двинулись в глубь пещеры, от наружной скалы отделилась какая-то тень. Это был Сердей. Полагая, что Дорик убит или арестован, он поспешил скрыться.
Тем временем Кау-джер обследовал место катастрофы. Это было ужасное зрелище. На земле, забрызганной кровью, дымились человеческие останки. С трудом опознали невероятно изуродованный труп Дорика. В нескольких шагах от него валялся Уильям Мур с распоротым животом. Дальше лежал Кеннеди. На его теле не было ран; казалось, он просто спит. Кау-джер приложил ухо к его груди и произнес:
— Жив.
По-видимому, бывший матрос, потеряв сознание от удара, не смог подняться с земли, и это спасло его в момент взрыва.
— Странно, что не видно Сердея,— заметил правитель, оглядываясь,— он ведь всегда был с ними.
Но тщательный осмотр пещеры не обнаружил никаких следов повара с «Джонатана». Зато Хартлпул нашел под грудой хвороста бочонок с порохом, лишь незначительная часть которого пошла на изготовление бомбы.
— Второй бочонок! — торжествующе воскликнул он,— Значит, эта шайка ограбила склад!
В этот момент кто-то схватил за руку Кау-джера, и слабый голосок прошептал:
— Сэнд… Губернатор!… Сэнд…
Дик был прав. Следовало немедленно продолжать поиски юнги, ставшего, по-видимому, жертвой обвала.
— Веди нас, мой мальчик,— сказал Кау-джер.
Тот бросился к туннелю, соединявшему пещеры, и все, за исключением человека, оставленного возле Кеннеди, поспешили за парнишкой.
Они миновали вторую пещеру и прошли по галерее до места, где произошел обвал.
— Там,— сказал Дик, указывая рукой на нагромождение обломков.
Искреннее отчаяние несчастного ребенка вызывало острую жалость даже у этих закаленных, видавших виды людей.
Он больше не плакал, но его сухие глаза лихорадочно блестели, а запекшиеся губы с трудом выговаривали слова.
— Там? — мягко переспросил правитель.— Но ты же видишь, малыш, что дальше не пройти.
— Сэнд…— упорно повторял Дик, указывая дрожащей рукой на завал.
— Что ты хочешь сказать? Неужели ты думаешь, что твой друг там, внизу?
— Да,— еле слышно произнес малыш,— здесь был проход… еще сегодня… Дорик связал меня… я вырвался… Сэнд бежал сзади… Фред Мур чуть не поймал нас… Тогда Сэнд сдвинул камень, и все рухнуло. Он сделал это нарочно, чтобы спасти меня…
Дик умолк и без сил опустился на колени:
— О губернатор! Помогите!… Там Сэнд…
Кау-джер, растроганный, старался утешить ребенка.
— Успокойся, мальчик,— сказал он ласково.— Обещаю тебе сделать все, что в наших силах, чтобы спасти его. За работу, друзья! — скомандовал он, обернувшись к присутствующим.
Все энергично принялись за раскопки. К счастью, обломки скалы оказались не очень тяжелыми, и их можно было отодвинуть или поднять даже без помощи приспособлений.
Дик, повинуясь распоряжению Кау-джера, покорно побрел в первую пещеру и уселся около Кеннеди, который понемногу приходил в себя. Охватив колени руками, с остановившимся взглядом, мальчик ждал, горячо надеясь, что правитель выполнит свое обещание.
Внизу, при свете факелов, продолжалась напряженная работа. Дик не ошибся: под обломками скалы находились человеческие тела. Едва убрали первые камни, как увидели торчавшую под грудой осколков чью-то ногу. Судя по размеру башмака, она наверняка принадлежала рослому мужчине. Через несколько минут удалось освободить от каменного покрова туловище — и наконец все тело человека, лежавшего плашмя. Повернуть его лицом кверху не удалось — мешала протянутая вперед и зажатая камнями рука. Когда и ее высвободили, оказалось, что пальцы взрослого намертво стиснули ступню ребенка. Окоченевшую руку с трудом разжали и в погибшем только по одежде (так как лицо превратилось в кровавое месиво) опознали Фреда Мура.
Люди не щадили сил. Удастся ли спасти юнгу? Это казалось маловероятным. Судя по искалеченным, раздробленным конечностям, вряд ли мальчик еще жив.
Но тут временно пришлось приостановить работу: на огромной глыбе, придавившей ноги Сэнда, лежала целая груда тяжелых камней, и следовало действовать крайне осмотрительно, дабы не вызвать нового обвала. Это осложнило и задержало дальнейшие раскопки.
Наконец мало-помалу, сантиметр за сантиметром, глыбу осторожно приподняли и сдвинули в сторону. Ко всеобщему изумлению, под ней оказалась глубокая впадина, в которой, как в каменной колыбели, лежало тело Сэнда. На туловище не было никаких повреждений.
Мальчика подняли и бережно перенесли на освещенную факелами площадку. Глаза у него были закрыты, посиневшие губы крепко сжаты, лицо покрыто смертельной бледностью.
Кау-джер наклонился над ним и долго выслушивал.
— Дышит,— сказал он наконец.
Два человека подняли легкую ношу, и все молча двинулись в путь. Медленно шагали они по подземному переходу. От коптящих факелов на стенах плясали зловещие тени.
Голова Сэнда безжизненно покачивалась, из искалеченных ног стекали крупные капли крови…
Когда печальное шествие показалось в наружной пещере, Дик бросился ему навстречу. Он увидел изувеченные ноги и обескровленное лицо. Зрачки его расширились от ужаса… Мальчик глухо вскрикнул и, потеряв сознание, упал на землю.
Глава VI ЗА ПОЛТОРА ГОДА
На следующий день губернатор поднялся на рассвете. Взволнованный вчерашними мучительными переживаниями, он всю ночь не сомкнул глаз.
Прежде чем покарать преступников, Кау-джер поспешил оказать помощь их невинным жертвам.
Накануне обоих пострадавших перенесли в управление на носилках, сплетенных из ветвей. Когда Сэнда раздели и положили на койку, выяснилось, что искалечен он еще больше, чем предполагали. Ноги превратились в кровавую кашу из раздробленных костей, клочьев мяса и обрывков кожи.
При виде изуродованного детского тельца у Хартлпула сжалось сердце, и скупые слезы потекли по огрубевшим от морских ветров щекам.
Осторожно были промыты и перевязаны страшные раны. По всей вероятности, Сэнд до конца своих дней останется калекой и уже никогда не сможет ходить.
Несмотря на возможность опасных осложнений, Кау-джер не решился на ампутацию, боясь, что обескровленный организм ребенка не выдержит сложной операции.
Состояние Дика также внушало тревогу. Он не открывал глаз, его воспаленное лицо судорожно подергивалось, воздух со свистом вырывался сквозь стиснутые зубы. Мальчик весь горел.
Все эти симптомы очень беспокоили Кау-джера, хотя Дик и не получил никаких телесных повреждений.
Оказав детям первую помощь, несмотря на поздний час, он отправился к Гарри Родсу и сообщил ему обо всем случившемся.
Тот был потрясен и тут же предложил, чтобы его жена и дочь, а также Туллия и Грациэлла Черони поочередно ухаживали за пострадавшими. Госпожа Родс тотчас же оделась и пошла в управление. Обеспечив малышей надлежащим уходом, Кау-джер вернулся домой и попытался уснуть. Но тщетно. Слишком много было пережито, и снова перед ним встали тягостные вопросы.
Из пяти преступников трое погибли, но двое были живы. Один из них, Сердей, скрылся, но, несомненно, будет задержан. Другой, Кеннеди, ожидал приговора в тюрьме. По их вине чуть не погибли два мальчика.
На этот раз вряд ли удастся сохранить все в тайне от колонистов. Уж очень много людей были причастны к раскрытию преступления, и, значит, бандитов необходимо сурово покарать.
И вот на следующее утро губернатор отправился в тюрьму к Кеннеди. Тот поспешно встал при его приближении и даже почтительно стянул свой берет. Для этого смиренного жеста бывшему матросу пришлось поднять одновременно обе руки, скованные короткой железной цепью. Он стоял опустив глаза и покорно ждал своей участи, как животное, попавшее в капкан.
Униженная поза Кеннеди показалась Кау-джеру невыносимой.
— Хартлпул! — позвал он начальника милиции.
Тот мгновенно прибежал из караульного помещения.
— Снимите с него цепи.
— Но, сударь…— робко возразил Хартлпул.
— Немедленно! — прервал его губернатор тоном, не допускающим возражений.
Когда Кеннеди освободили, он спросил:
— Ты хотел меня убить? За что?
Преступник, потупив глаза и переминаясь с ноги на ногу, смущенно мял в руках берет и молчал.
Кау-джер с минуту смотрел на него, потом распахнул двери и, отступив в сторону, бросил:
— Уходи!
Но так как Кеннеди, нерешительно поглядывая на правителя, не двигался с места, тот спокойно повторил:
— Убирайся!
Тогда бывший матрос, втянув голову в плечи, поплелся к выходу. Губернатор закрыл за ним двери и, не сказав ни слова растерявшемуся Хартлпулу, пошел навестить своих больных.
Сэнд находился в прежнем состоянии, но Дику стало гораздо хуже. В сильном жару он метался по кровати, выкрикивая в бреду бессвязные слова. Лекарств, необходимых для его лечения, на острове не было. Вначале не нашлось даже льда для компрессов, ибо уровень техники в Либерии еще не обеспечивал получение искусственного льда, а натуральный имелся только зимой.
Но природа словно сжалилась над ребенком, и зима 1884 года выдалась исключительно ранняя и на редкость жестокая. Уже апрель принес с собой лютые морозы и непрерывные бури. Через месяц начался такой снегопад, какого Кау-джер не помнил с тех пор, как поселился на архипелаге Магальянес. Люди выбивались из сил, сражаясь со стихией. В июне вдруг разразились снежные бураны. Несмотря на все принятые меры, Либерия оказалась погребенной под белым саваном. Сугробы забаррикадировали двери зданий. Для прохода пришлось использовать окна вторых этажей, а в одноэтажных домах — пробивать отверстия в крышах.
Жизнь в колонии замерла. Люди общались друг с другом лишь в случае крайней необходимости. Длительное пребывание в закрытых, лишенных свежего воздуха помещениях пагубно отразилось на здоровье либерийцев. Снова вспыхнули эпидемии, и Кау-джеру пришлось помогать единственному в городе врачу, который не мог обслужить всех больных.
Но ребята понемногу стали поправляться. На десятый день после катастрофы Сэнд уже был вне опасности. Необходимость в ампутации отпала, и раны зарубцевались с быстротой, свойственной молодым организмам. Не прошло и двух месяцев, как ему разрешили вставать.
Вставать! Это слово, конечно, не соответствовало действительности. Сэнд больше никогда не сможет стоять и передвигаться без посторонней помощи. Несчастный был обречен на неподвижность…
Но мальчик не впадал в отчаяние. Придя в себя и забыв о боли, он сразу же спросил о своем друге, которому так самоотверженно спас жизнь. Малыша уверили, что тот цел и невредим, и радостная улыбка впервые за многие дни озарила измученное личико. Но Дик так долго не приходил, что Сэнд начал нервничать и настойчиво добиваться свидания. Долгое время просьбу не могли выполнить, ибо его друг лежал без сознания. Несмотря на ледяные компрессы, его голова пылала, температура не снижалась, бред не прекращался. А когда наконец наступил долгожданный кризис, мальчик настолько ослабел, что, казалось, жизнь его держится на волоске.
Однако на смену болезни быстро пришло выздоровление, причем самым целебным лекарством оказалось сообщение о том, что Сэнд тоже вне опасности. Услышав это, Дик облегченно вздохнул и заснул спокойным сном.
Уже через несколько дней он смог навестить Сэнда, который, убедившись, что его не обманули, больше ни о чем не беспокоился и как будто совсем забыл о своем несчастье. После долгого перерыва ему разрешили взять в руки скрипку, и тогда мальчик почувствовал себя совершенно счастливым. А еще через неделю, уступив настойчивым просьбам маленьких друзей, Кау-джер поместил их в одной комнате.
День, когда Сэнду разрешили встать, произвел тягостное впечатление на всех. В жалком, с трудом передвигавшемся калеке едва можно было узнать прежнего ребенка. Вид изувеченного друга потряс Дика. Он сразу преобразился, словно его кто-то коснулся волшебной палочкой. Мальчик внезапно повзрослел. Исчезли присущие ему вспыльчивость и резкость.
…Стоял июнь. После сильных снегопадов и бурь вся Либерия оказалась покрытой плотным белоснежным одеялом. Приближались самые холодные недели этой суровой зимы.
Кау-джер делал все возможное и невозможное, чтобы хоть как-то избавить людей от длительного пребывания в душных помещениях. Под его руководством организовали игры на воздухе. Через длинный шланг провели воду из реки на болотистую равнину, превратившуюся в замечательный каток. Любители этого спорта, очень распространенного в Северной Америке, могли наслаждаться им вволю. Для тех, кто не умел кататься на коньках, организовывали лыжные походы или головокружительные катания на санках с крутых склонов Южных гор. Постепенно колонисты окрепли, настроение у них улучшилось.
С 5 октября наступило долгожданное потепление. Растаяли снега, покрывавшие прибрежную равнину. Сугробы на улицах Либерии превратились в грязные ручьи. Река разбила свои ледяные оковы, и с южных склонов в нее устремились бурные потоки, заливавшие город. Вода в реке быстро прибывала и за сутки достигла уровня берегов. Либерии угрожало наводнение.
Кау-джер мобилизовал на работы все городское население. Отряд землекопов возводил кольцевой земляной вал, защищавший город от бурных потоков и разлива реки. Но несколько домов, в частности дом Паттерсона, расположенный на самом берегу, остался вне защитного сооружения. Пришлось пойти на эту жертву.
Работы, продолжавшиеся днем и ночью, были закончены за сорок восемь часов. И как раз вовремя! Бурлящий водяной шквал, сметающий все на своем пути, обрушился с гор на Либерию. Но земляной вал, подобно стальному клинку, рассек его пополам, отбросив один поток к реке и низвергнув другой в море. Через несколько часов, город превратился в крошечный островок среди бушевавших волн. И только вдали, на юго-западе, едва виднелись белоснежные вершины, а на северо-востоке, на высоком холме,— дома Нового поселка. Все дороги между городом и пригородом были затоплены.
Так минула неделя. Вода еще не спала, когда произошло новое несчастье.
На участке Паттерсона берег, подмытый бурными волнами, обрушился и увлек в водоворот домик ирландца вместе с его обитателями — Паттерсоном и Лонгом.
С самого начала оттепели Паттерсон, вопреки разумным советам, категорически отказывался покинуть свое жилище. Он оставался там и тогда, когда увидел, что его дом очутился вне защитного вала, а часть усадьбы залило водой. И даже волны, набегавшие на порог дома, не сломили упрямого ирландца.
И вот, на глазах нескольких растерявшихся очевидцев, находившихся в эту минуту на земляном валу, безжалостная стихия в один миг поглотила дом Паттерсона и его обитателей.
Будто удовлетворив свою ярость двойным убийством, наводнение вскоре пошло на убыль. 5 ноября, ровно через месяц после начала оттепели, река вернулась в русло, оставив после себя огромные разрушения.
Улицы Либерии были так изрыты, точно по ним прошел плуг. От дорог, местами совершенно размытых, а местами покрытых густым слоем грязи, осталось жалкое воспоминание.
Прежде всего пришлось восстанавливать разрушенные пути сообщения. Самой изуродованной дорогой оказалась та, что проходила по болоту к Новому поселку; поэтому ее восстановили значительно позднее других.
Ко всеобщему удивлению, первым человеком, пришедшим по ней, был не кто иной, как Паттерсон, которого считали утонувшим.
В последний раз его видели рыбаки из Нового поселка: он судорожно цеплялся за ствол дерева, уносимого в море.
Ирландцу посчастливилось выйти живым и невредимым из этой катастрофы. Лонг же, по-видимому, погиб, и поиски его тела ни к чему не привели. Паттерсон направился прямо к своему жилищу и, увидев, что от него не осталось и следа, впал в угрюмое отчаяние. Вместе с домом безвозвратно исчезло все, чем он обладал: и деньги, привезенные на остров Осте, и все богатства, накопленные ценой изнурительного труда и жестоких лишений.
Этот человек, единственным божеством которого был золотой телец[155], а единственной страстью — стяжательство, потерял все и превратился в самого нищего из всех окружавших его бедняков. Голому и босому, как новорожденному младенцу, ему приходилось строить жизнь заново.
Однако он не стонал и не жаловался. Молча сидел на берегу реки, так жестоко ограбившей его, и обдумывал все, что произошло. Потом встал и решительным шагом отправился к Кау-джеру.
Извинившись за свою смелость, ирландец скромно и вежливо заговорил с губернатором, сообщив, что наводнение едва не погубило его и обрекло на самую крайнюю нищету.
Кау-джер, которому он внушал глубокую антипатию, ответил довольно холодно:
— То, что с вами случилось, очень прискорбно, но при чем тут я? Вы просите помощи?
При всех своих недостатках Паттерсон не был лишен чувства гордости. Он никогда ни к кому не обращался за помощью. Не будучи слишком щепетильным в способах обогащения, он противопоставлял себя всему свету и накопленному богатству был обязан только самому себе.
— Я не прошу милостыни,— возразил он с достоинством,— а требую правосудия.
— Правосудия?— повторил удивленный Кау-джер.— А кого вы обвиняете?
— Город Либерию,— ответил Паттерсон,— и Остельское государство в целом.
— В чем же? — все более и более удивляясь, спросил губернатор.
Тогда пострадавший изложил свои требования. Он считал, что колония должна нести ответственность за потери, причиненные наводнением. Во-первых, потому, что вопрос шел о всеобщем бедствии, и, следовательно, все нужно распределить между остельцами поровну. Во-вторых, потому, что колония грубо нарушила свои обязанности по защите граждан и не воздвигла земляного вала по самому берегу реки, чтобы защитить все дома без исключения.
Как ни возражал Кау-джер против этих фантастических обвинений и требований, лишенных основания, как ни доказывал, что, будь вал построен ближе к реке, он наверняка обрушился бы вместе с крутыми берегами и тогда наводнение захватило бы большую часть города,— ирландец не хотел ничего слышать и упрямо повторял свое.
Потеряв терпение, Кау-джер прекратил эту бесплодную полемику. Паттерсон тотчас же отправился в порт, где присоединился к рабочим, но на следующий день подал официальную жалобу председателю суда, Фердинанду Бовалю. Когда-то ему довелось убедиться, что в Либерии существует правосудие, и теперь он снова взывал к нему.
Пришлось суду разбирать это странное дело. Вполне понятно, Паттерсон проиграл.
Ничем не обнаружив своего недовольства, не обращая внимания на язвительные шуточки ненавидевших его горожан, ирландец спокойно выслушал решение суда, вышел из здания и направился на работу.
С тех пор в его душе зародилось новое чувство. Раньше он делил мир на две половины: на одной стороне — он, а на другой — все остальное человечество. Смысл жизни заключался в том, чтобы перекачать как можно больше денег из второй половины в первую. Отсюда вечная борьба, но не вражда.
Теперь же Паттерсон возненавидел и Кау-джера, отказавшегося возместить убытки, и всех остельцев, допустивших гибель его имущества, приобретенного таким тяжким трудом.
Ирландец тщательно скрывал свою ненависть, хотя в глубине его души она буйно разрасталась и расцветала, как ядовитый цветок в теплице. Сейчас он бессилен против своих врагов, но времена могут перемениться. Он подождет…
Почти все лето колонисты восстанавливали разрушения, причиненные наводнением: исправляли дороги, ремонтировали здания. К февралю 1885 года не осталось никаких следов бедствия, пережитого колонией.
Пока велись эти работы, Кау-джер изъездил весь остров. Теперь он мог совершать поездки верхом — в колонию было завезено около сотни лошадей. Не раз он справлялся о Сердее, но получал самые неопределенные ответы. Только несколько эмигрантов припомнили, что прошлой осенью видели, как бывший повар направлялся на север, в горы, но никто не знал, что с ним стало потом.
В конце 1884 года в колонию доставили двести ружей, заказанных сразу же после раскрытия заговора Дорика. Теперь Остельское государство располагало почти двумястами пятьюдесятью ружьями, не считая личного оружия у многих колонистов.
В начале 1885 года остров посетило несколько семей огнеземельцев. Как и в прежние годы, бедные индейцы пришли просить приюта и помощи у Кау-джера. Они никогда не забывали того, кто был так добр к ним, хотя и покинул их.
Однако, несмотря на любовь огнеземельцев к белому покровителю, ему ни разу не удавалось уговорить их поселиться на Осте. Эти племена были слишком независимы, чтобы подчиняться каким-либо законам. Они не променяли бы свою свободу на все блага мира. А по их представлениям, оседлая жизнь в домах равносильна, рабству. Уверенности в куске хлеба они предпочитали скитания в поисках скудной и случайной пищи.
В этом году Кау-джеру впервые удалось убедить три семейства пожить, хотя бы временно, в палатках на острове. Эти семьи, состоявшие из наиболее развитых туземцев, обосновались на левом берегу реки, между Либерией и Новым поселком, образовав нечто вроде лагеря, сделавшегося приманкой для остальных индейцев.
Летом произошло еще два примечательных события. Первое касалось Дика. В середине июня оба мальчика окончательно поправились. Правда, Дик очень исхудал за время болезни, но при его прекрасном аппетите можно было не сомневаться, что он быстро наверстает упущенное. Что же касается Сэнда, наука оказалась бессильной. Он был обречен на неподвижность до конца своих дней.
Впрочем, как уже говорилось ранее, маленький калека относился очень спокойно к случившемуся несчастью. Природа наградила его, в противоположность другу, нежной душой и кротким характером. Он даже не жалел о шумных играх, которые любил его приятель. Сэнд предпочитал уединенную жизнь, лишь бы под рукой была всегда скрипка, а рядом — любимый товарищ.
За время болезни Сэнда Дик превратился в настоящую сиделку. Он помогал больному перейти с кровати в кресло, часами оставался около него, выполняя малейшие желания с таким неистощимым терпением, которого никто не ожидал от этого вспыльчивого мальчишки.
Кау-джер, наблюдавший за детьми, очень привязался к ним, особенно к Дику, вызывавшему у него живой интерес, и с каждым днем все больше и больше убеждался в исключительной душевной прямоте, тонкости восприятия и живом уме мальчика и искренне жалел, что такие редкие качества остаются втуне[156].
Он решил уделить этому ребенку особое внимание и передать все, что знал сам. От парнишки можно было ожидать многого, захоти он только использовать исключительные способности, отпущенные ему природой.
Однажды, в конце зимы, Кау-джер вызвал его для серьезного разговора.
— Вот Сэнд, можно сказать, выздоровел,— начал он,— но ты никогда не должен забывать, мой мальчик, что он стал калекой, спасая тебя.
Дик посмотрел с грустным удивлением. Почему губернатор так говорит с ним? Разве можно забыть того, кому обязан жизнью?
— Есть только одна возможность отблагодарить Сэнда,— продолжал Кау-джер,— сделать так, чтобы принесенная им жертва научила тебя жить не только для себя, но и для других. До сих пор ты был ребенком. Теперь должен готовиться стать мужчиной.
Глаза Дика заблестели. Слова воспитателя запали в его душу.
— Что я должен делать, губернатор? — спросил он.
— Трудиться,— ответил тот.— Если ты обещаешь работать усердно, я стану твоим учителем. Наука — это целый мир, в который мы проникнем вместе.
— О губернатор! — воскликнул Дик, не в силах больше ничего добавить.
И занятия начались. Ежедневно Кау-джер посвящал им один час, а затем мальчик делал уроки, сидя возле неподвижного приятеля.
Ученик добился замечательных успехов, и приобретаемые знания как бы закрепляли изменения в его характере, вызванные самопожертвованием Сэнда. Кончились детские проказы, игры во льва и в ресторан. Ребенок, преждевременно созревший из-за перенесенных страданий, превращался в юношу.
Вторым замечательным событием было бракосочетание Хальга и Грациэллы.
Хальгу исполнилось двадцать два года, а Грациэлле шел двадцатый. Это была уже не первая свадьба на острове. С самого начала своего правления губернатор создал учреждение, ведавшее гражданским состоянием колонистов.
Будущее новой семьи было надежно обеспечено. Рыбный промысел, возглавляемый Хальгом и его отцом Кароли, давал прекрасный доход. Больше того, возник даже вопрос о строительстве консервной фабрики для экспорта рыбных продуктов. Но, независимо от этого проекта, отец и сын успешно сбывали свой улов на месте и могли не бояться нужды.
В конце лета пришел довольно неопределенный ответ от правительства Чили. Кау-джера просили дать время на обсуждение его предложения и, видимо, всячески стремились затянуть переговоры.
Вскоре начались заморозки, и снова наступила зима, в течение которой не произошло ничего примечательного, за исключением небольших волнений среди населения, носивших чисто политический характер.
Случайным зачинщиком смуты был не кто иной, как Кеннеди.
Роль этого матроса в компании Дорика была общеизвестна. Такие события, как смерть Льюиса Дорика и братьев Мур, героическое самопожертвование Сэнда, продолжительная болезнь Дика, исчезновение Сердея, а главное — чудесное избавление губернатора от уготованной ему гибели, не могли пройти незамеченными на Осте.
Поэтому, когда Кеннеди вернулся в колонию, его встретили не слишком приветливо, но со временем отрицательные впечатления сгладились, и все, недовольные правлением Кау-джера, стали группироваться вокруг бывшего матроса. Как ни говори, а он был незаурядной личностью, и, хотя большинство остельцев считало его преступником, никто не отрицал, что это — человек с сильным характером, готовый на все. И он, естественно, стал главарем оппозиции.
Она состояла в основном из лентяев или неудачников, а также из людей, сбившихся с пути. К ним присоединились различные болтуны и политиканы[157].
Весь этот пестрый сброд хорошо ладил между собой во всем, что касалось противодействия Кау-джеру. Их объединяло общее стремление нарушить организованную жизнь колонии. Если бы это удалось, то к моменту дележа добычи стяжательские инстинкты бесспорно превратили бы вчерашних союзников в непримиримых врагов.
Возникшие волнения проявились в собраниях и митингах протеста. Эти сборища отнюдь не были многолюдными — на каждом присутствовало не более сотни колонистов, но они шумели так, словно их было не меньше тысячи, и отголоски их речей всегда доходили до правителя.
Ничуть не поражаясь новому доказательству человеческой неблагодарности, он спокойно просмотрел предъявленные требования и даже нашел их отчасти справедливыми.
Действительно, оппозиционеры, утверждавшие, что губернатор ни от кого не получал полномочий, а присвоил их самовольно, как диктатор, были правы. Тем не менее Кау-джер ничуть не раскаивался, что поступил именно так — в то время обстоятельства требовали решительных действий. Теперь же положение совершенно изменилось. Жизнь на острове вошла в определенное русло. Все колонисты были обеспечены работой. Общественные связи непрерывно расширялись.
Возможно, что население уже созрело для более демократической системы? Поэтому, дабы успокоить недовольных, Кау-джер решился на рискованный шаг — провести выборы губернатора и создать совет из трех человек, являющийся исполнительным органом. Это мероприятие было назначено на 20 октября 1885 года, то есть на первые весенние дни.
Население Осте уже превышало две тысячи человек, из них тысяча двести семьдесят пять взрослых мужчин. Но некоторые избиратели, жившие слишком далеко от Либерии, не пришли на выборы, так что всего было подано тысяча двадцать семь бюллетеней, из них девятьсот шестьдесят восемь за Кау-джера.
Колонисты оказались достаточно благоразумными, избрав в совет подавляющим большинством голосов Гарри Родса, Хартлпула и Жермена Ривьера. Оппозиция, сознавая свое бессилие, вынуждена была покориться.
Кау-джер воспользовался избранием в совет надежных людей, чтобы осуществить задуманное путешествие, о котором мечтал давно: ему хотелось поехать на архипелаг и подробно обследовать остров, по поводу которого велись нескончаемые переговоры с Чили. 25 ноября он отправился с Кароли на «Уэл-Киедж», рассчитывая вернуться не ранее 10 декабря.
В день возвращения правителя в Либерию примчался какой-то всадник, покрытый пылью. Видно было, что он прибыл издалека и скакал во весь опор. Всадник направился прямо в управление, где и встретился с Кау-джером. Он заявил, что привез важные вести, и просил губернатора принять его немедленно.
Через пятнадцать минут собрался совет колонии. Специальные посыльные отправились во все концы города, чтобы созвать милицию. Не прошло и часа, как правитель несся во главе отряда из двадцати пяти всадников в глубь острова.
Причину столь поспешного отъезда не удалось сохранить в тайне. Вскоре поползли зловещие слухи о том, что Осте захвачен патагонцами, войска которых, переправившись через пролив Бигл, высадились на северной стороне полуострова Дюма и теперь движутся на Либерию.
Глава VII НАШЕСТВИЕ
Слухи подтвердились, но народная молва, как всегда, преувеличила подлинные факты.
Отряд патагонцев в количестве семисот человек, высадившийся сутки назад на северном побережье острова, никак нельзя было назвать войском.
Обычно к патагонцам причисляют все племена, обитающие в пампасах Южной Америки и весьма отличающиеся друг от друга в этническом отношении. Северные племена, живущие на границе с Аргентиной, относительно миролюбивы. Ведя оседлое существование, они образовали множество поселков и даже несколько городков и занимаются сельским хозяйством. Но чем ближе к югу, тем резче меняются их характер и обычаи. Южные племена, куда более воинственные, редко засиживаются на одном месте. Меткие стрелки, лихие наездники, промышляющие главным образом охотой, они-то и являются патагонцами в собственном смысле слова.
У этих племен еще сохранилось рабство. Во время набегов и войн между ними число рабов непрерывно пополняется. Южные патагонцы ведут постоянные междоусобные войны, которые весьма выгодны соседним государствам.
Напавшие на Осте принадлежали к наиболее отсталому племени патагонцев.
Индейцы, совершающие набеги на близлежащие земли, часто переправляются через Магелланов пролив и безжалостно грабят Магелланову Землю, называемую также Огненной Землей. Однако до сих пор они никогда не отваживались на такой дальний поход.
Добраться сюда патагонцы могли двумя путями: по Огненной Земле, а затем через пролив Бигл, или же на лодках, по извилистым проливам архипелага. И в том и в другом случае им предстояло столкнуться с большими трудностями: при передвижении по суше индейцам угрожал голод, а во время плавания по морским проливам их легкие пироги могли опрокинуться под тяжестью лошадей.
Кау-джер, мчавшийся впереди своих спутников, думал о том, что заставило патагонцев отважиться на набег, противоречащий их вековым традициям? До некоторой степени это оправдывалось самим фактом существования Либерии. Возможно, что слухи о новом городе распространились на окружающие острова, и молва приписала ему сказочные богатства. Все это подействовало на воображение дикарей и разожгло их грабительский пыл. Конечно, можно было ограничиться и этим объяснением.
И все же дерзость индейцев казалась непонятной. Несмотря на присущую им жадность, вряд ли они рискнули бы без особых к тому причин напасть на такое большое поселение белых людей, как Либерия.
Кау-джер не имел ни малейшего представления, в какой части острова встретит патагонцев. Где они сейчас? Уже в пути или еще не покинули места высадки? В последнем случае (по сведениям от гонца) им предстоял переход в сто двадцать — сто двадцать пять километров, для чего потребовалось бы не менее пяти дней.
Так как остельские дороги еще не были полностью восстановлены, Кау-джер, отправившись в путь утром 10 декабря, мог наткнуться на передовые отряды индейцев не ранее вечера 11 декабря.
Неподалеку от Либерии дорога шла вдоль Тихого океана, потом, петляя по долине, направлялась к крутому перевалу через высокий горный хребет. На 95-м километре от Либерии она пересекала узкий перешеек полуострова Дюма и тянулась дальше вдоль пролива Бигл.
По этому пути и следовал отряд милиции, к которому присоединилось несколько фермеров на собственных конях.
Тем колонистам, кто имел личное оружие, губернатор приказал укрыться по обе стороны дороги в самых недоступных для туземцев местах, там поджидать врага, обстреливать его и сразу отступать в горы. Он советовал стрелять в лошадей, потому что спешенный[158] патагонец не представляет опасности.
Все остальные должны были разрушать дорогу. Кроме того, Кау-джер приказал в течение суток уничтожить весь урожай на окрестных полях и все запасы продовольствия на фермах, дабы лишить врага источников питания.
Жителям ближайших хозяйств велено было укрыться в усадьбе Ривьера, захватив с собою оружие, а также топоры и косы. Окруженная высоким забором и защищенная многочисленным гарнизоном[159], усадьба превращалась в настоящую неприступную крепость.
Кау-джер, как и предполагал, достиг перешейка полуострова Дюма 11 декабря, в 6 часов вечера. Здесь не было никаких следов нашествия. Но теперь, по мере приближения к месту их высадки, требовалась исключительная осторожность, так как в это время года темнело очень поздно.
Только через пять часов показались огни костров неприятельского лагеря. Индейцы сделали привал, чтобы дать отдых коням.
Маленький отряд Кау-джера насчитывал всего тридцать два ружья, включая и его собственное. Но в глубине острова сотни людей старались преградить путь захватчикам: копали рвы, валили деревья, сооружали завалы.
Обнаружив патагонцев, остельцы остановились в пяти-шести километрах от перешейка полуострова Дюма. Лошадей отвели в горы, а спешенные всадники, рассеявшись по обрывистым склонам дороги, стали поджидать неприятеля.
Кау-джер не хотел вступать в открытый бой. Он считал, что в данных условиях наилучшая тактика — партизанская война. Защитники острова, скрывающиеся в зарослях на холмах, будут обстреливать врага в то самое время, когда он попытается преодолеть воздвигнутые на его пути препятствия. Известно, что патагонцы не слезают с коней, преследуя пеших стрелков.
На следующий день, 12 декабря, в 9 часов утра, показались первые отряды туземцев. За три часа они прошли двадцать пять километров. Медленно двигаясь сомкнутым строем по дороге, ограниченной с одной стороны морем, а с другой — крутыми горами, они представляли прекрасную мишень для остельских стрелков.
Внезапно загремели выстрелы. Первые ряды попятились, вызвав смятение во всей колонне. Пули попали в цель: один индеец извивался в предсмертных судорогах на обочине; две лошади были убиты.
Поскольку других выстрелов не последовало, захватчики снова тронулись в путь, но через полкилометра натолкнулись на заграждение из поваленных деревьев. Пока они расчищали завал, снова раздались выстрелы — упало еще несколько лошадей. Этот тактический прием успешно повторялся раз десять, пока голова колонны не подошла к перешейку полуострова Дюма. Здесь дорога, суживаясь, проходила через ущелье, где возвышалась новая преграда, а перед ней был вырыт широкий и глубокий ров.
И вновь, как только индейцы приступили к расчистке пути, на левом фланге возобновилась ружейная пальба. Одни стали отстреливаться наугад, другие же спешили разобрать завал.
Перестрелка усиливалась. Пули свинцовым дождем поливали дорогу, и первые отважившиеся проникнуть в опасную зону были убиты. Индейцы заколебались.
Вся вражеская колонна была на виду у остельских стрелков. Она растянулась больше чем на полкилометра. Из конца в конец то и дело скакали всадники — по-видимому, гонцы, передававшие приказы вождя.
Несколько раз патагонцы пытались продвинуться вперед и всякий раз терпели неудачу. Только к вечеру они разобрали завал. Теперь ничто, кроме пуль, не могло остановить наступающих.
И вдруг, решившись на отчаянный прорыв, патагонцы пустили коней в галоп. Три человека и двенадцать лошадей остались на месте, остальным удалось прорваться.
Через пять километров, на открытой местности, где им ничто не грозило, индейцы остановили коней и устроили привал на ночь, а колонисты продолжали свое планомерное отступление, подготавливая позиции на завтра.
На следующий день враг потерял пять человек и тридцать коней. У остельцев же был только один раненый.
На третий день повторили тот же маневр. К двум часам пополудни патагонцы, проделавшие с начала наступления шестьдесят километров, добрались до вершины горы. После трехчасового непрерывного подъема люди и животные окончательно выбились из сил и были вынуждены расположиться на отдых перед ущельем. Кау-джер воспользовался этим и занял позицию впереди, на некотором расстоянии от них.
Его отряд, насчитывавший теперь около шестидесяти человек, стал по одну сторону дороги, в самой узкой части ущелья. Колонистам, хорошо защищенным нависшими скалами, неприятель не угрожал. Сами же они могли стрелять почти в упор.
Едва туземцы тронулись в путь, как с горы посыпался свинцовый град, сбивший все передние ряды. Сначала индейцы в беспорядке отступили, затем бросились в атаку, но она была отбита. Два часа подряд длилось это побоище, и все безрезультатно. Патагонцы были храбрыми воинами, но плохими стратегами[160] — только потеряв множество людей, они догадались повторить маневр, удавшийся им накануне. Построившись тесными рядами так, что весь отряд слился в единое целое, они бешеным галопом устремились вперед. От конского топота дрожала и гудела земля.
Ружья остельцев яростно разили неприятеля смертоносным огнем. Но ничто не могло остановить всадников, несшихся с быстротой ветра. Если один из них падал с коня, задние безжалостно топтали его. Если валилась убитая или раненая лошадь, другие перескакивали через нее и неслись все дальше и дальше. Обороняющиеся понимали, что в этом сражении решается вопрос их жизни или смерти. Они заряжали ружья, целились, стреляли… снова заряжали, целились и снова стреляли, и так все время. Стволы раскалились и обжигали руки, но колонисты не прекращали огня. В пылу сражения они безбоязненно покидали укрытия, зная, что на полном скаку патагонцы не могут пустить в ход свое оружие.
Индейцы же, поняв, что силы противника невелики, стремились во что бы то ни стало вырваться из опасного кольца. Им удалось проскочить полосу ружейного огня и, перейдя с галопа на крупную рысь, они двинулись по дороге через перевал. Все стихло. Только изредка, в местах, где скалы нависали над дорогой, раздавались одиночные выстрелы. Патагонцы, не останавливаясь, отвечали на них беспорядочной стрельбой.
Теперь они уже не повторили прежней ошибки и уходили как можно дальше от места последнего сражения. До наступления ночи пришельцы спустились с гор и разбили лагерь. День был утомительным — они проделали шестьдесят пять километров.
Справа от их стоянки набегали на песчаный берег волны Тихого океана. Слева расстилалась равнина. Здесь ночью индейцам не угрожало неожиданное нападение, а поутру они уже достигнут Либерии, находящейся в тридцати километрах к югу.
Теперь отряд Кау-джера не мог проскользнуть незамеченным мимо туземцев, ибо местность была открытая, да и слишком малое расстояние отделяло его от неприятеля. По приказу губернатора остельцы тоже устроили привал на несколько часов — люди валились с ног от усталости.
Принятая тактика оправдала себя: за последний день враг лишился не менее пятнадцати человек и пятидесяти лошадей. Можно было надеяться, что, пока индейцы доберутся до Либерии, они потеряют не менее сотни воинов, а главное, понесут большой моральный урон. Вряд ли они ожидали такое сопротивление.
На следующий день остельские стрелки, снова севшие на коней, начали спускаться с гор. Ничто не препятствовало их быстрому продвижению. По сообщениям дозорных, наблюдавших за врагом из засады, опасности пока не предвиделось, так как индейцы ушли далеко вперед.
В три часа дня эмигранты достигли места последнего привала индейцев, которые, вероятно, теперь уже находились под Либерией. Еще через два часа, подъехав к усадьбе Ривьера, они заметили на дороге около сотни патагонцев, лишившихся коней во время недавних стычек.
Из усадьбы раздались выстрелы. Несколько нападавших упало, остальные пытались отстреливаться или спастись бегством, но подошедший отряд Кау-джера отрезал им путь к отступлению, открыв огонь. Из ворот фермы выбежали люди с вилами, топорами и косами и преградили захватчикам путь на Либерию. Окруженные со всех сторон, туземцы растерялись, побросали оружие и без боя сдались в плен. Их заперли в сарае. У дверей поставили часовых.
Это была великолепная операция. Колонисты захватили не только сотню пленных, но и сотню ружей, которые — хоть и неважного качества — усиливали боевую мощь отряда. Теперь защитники острова располагали тремястами пятьюдесятью ружьями, тогда как у противника их было около шестисот. Силы становились почти равными.
В усадьбе Ривьера Кау-джер узнал, что утром патагонцы пытались перебраться через забор, но после первых же выстрелов с фермы отказались от этого намерения и удалились, не приняв боя.
Воинственные дикари не знали законов тактики. Они шли прямо к цели — в Либерию, не думая о неприятеле, оставшемся у них в тылу.
Губернатор решил прежде всего допросить пленных. В сарае, куда их заперли, царила глубокая тишина. Связанные индейцы терпеливо ожидали решения своей участи. Сами они превращали пленных в рабов и считали естественным, что с ними поступят точно так же.
Ни один из них даже не взглянул на вошедшего.
— Кто-нибудь говорит по-испански? — громко спросил тот.
— Я,— сказал один из пленников, подняв голову.
— Как тебя зовут?
— Атхлината.
— Зачем ты пришел в наши края?
Индеец бесстрастно ответил:
— Сражаться.
— Из-за чего ты хотел сражаться с нами? Мы с тобой не враги.
Патагонец молчал. Кау-джер заговорил снова:
— Никогда твои братья не приходили сюда. Почему же теперь вы ушли так далеко от родных мест?
— Вождь приказал,— спокойно ответил индеец,— воины повиновались.
— Но все-таки что вам надо?
— Большой город на юге,— сказал пленник,— там много сокровищ, а индейцы бедны.
— Эти сокровища еще нужно завоевать, горожане будут защищать их.
Патагонец в ответ насмешливо улыбнулся.
— Ведь вот ты и твои братья попали в плен,— продолжал Кау-джер.
— Патагонских воинов много,— заявил туземец с непоколебимой уверенностью,— одни останутся в плену, зато другие вернутся на родину, привязав твоих братьев к хвостам коней!
— Глупости,— возразил правитель,— ни один из вас не войдет в Либерию.
Пленный опять хитро улыбнулся.
— Ты мне не веришь?
— Белый человек обещал,— уверенно ответил тот,— отдать большой город патагонцам.
— Белый человек? — удивленно повторил губернатор.— Разве среди вас есть белые?
Но все дальнейшие вопросы оказались напрасными. Видимо, индеец больше ничего не знал. Кау-джер вышел из сарая очень встревоженный. Кто же этот белый предатель, перешедший на сторону врагов?
Следовало как можно скорее вернуться в Либерию, гарнизон которой, возглавляемый Хартлпулом, нуждался в подкреплении. К восьми часам вечера отряд двинулся в путь. Теперь он состоял из ста пятидесяти шести человек, сто два из которых были вооружены ружьями патагонцев.
Полагая, что проникнуть в осажденную Либерию легче пешком, всех лошадей оставили в усадьбе Ривьера. Через три часа Кау-джер со своими людьми приблизился к городу.
Стояла глубокая ночь, и только цепочка огней обнаруживала лагерь туземцев, расположившийся широким полукругом от болота до реки. Либерия была полностью окружена. Пройти незаметно между постами неприятеля, находившимися на расстоянии ста метров друг от друга, было невозможно. Кау-джер решил сделать привал и обдумать планы на будущее.
Но не все индейцы оставались на правом берегу. Часть из них переправилась через реку выше по течению, и, пока правитель размышлял, на северо-востоке вдруг вспыхнуло яркое пламя.
Это горели дома Нового поселка.
Глава VIII ПРЕДАТЕЛЬ
В то время как отряд боролся с патагонцами в горах, Гарри Родс и Хартлпул, к которым перешла власть, не сидели сложа руки. Благодаря мудрой тактике Кау-джера наступление индейцев было приостановлено на четыре дня. Этого оказалось достаточно, чтобы организовать оборону города. Либерийцы выкопали два широких и глубоких рва, позади которых вырос земляной бруствер[161], непроницаемый для пуль. Южный ров, длиной в две тысячи футов, начинался от реки, огибал город полукругом и тянулся до непроходимых болот, в которых кони вязли по самое брюхо. Северный ров, длиной около пятисот футов, шел также от реки к болоту, но уже с другой стороны, пересекая дорогу из Либерии на Новый поселок. Таким образом город был защищен со всех сторон.
Жители Нового поселка укрылись в Либерии со всем своим имуществом, бросив дома на произвол судьбы.
В первый же вечер после отъезда губернатора, еще до окончания работ по укреплению обороны, вокруг города — на земляных валах и по берегу реки — выставили наблюдательные посты. Правда, пока непосредственная опасность не грозила, но все же следовало быть начеку. Поэтому около пятидесяти человек круглые сутки посменно несли караульную службу на постах, размещенных на расстоянии тридцати метров один от другого. Сто семьдесят пять колонистов, вооруженные оставшимися ружьями, являлись резервом, находившимся в полной боевой готовности в центре Либерии. Все они назначались поочередно в караул, а в случае тревоги население обязано было оказывать посильную вооруженную помощь стрелкам. Хотя у жителей имелись только топоры да ножи, но и это оружие могло пригодиться в рукопашном бою. Благодаря такой организации обороны все население, за исключением караульных, могло спать мирным сном.
Паттерсон, наравне с остальными, подлежал всеобщей мобилизации.
Каковы ни были его истинные чувства, он покорился без возражений. Его внутренние переживания были настолько противоречивы, что он сам не знал, радует его или огорчает возникшая опасность. Стоя на посту, он только и думал об этом, стараясь разобраться в хаосе[162] собственных ощущений. В сердце еще жила злоба на сограждан, поэтому он отнюдь не горел желанием участвовать в каком-либо деле, направленном на благо ненавистных ему людей. С этой точки зрения караульная служба представляла для него весьма тягостную обязанность.
Но ненависть не была преобладающим чувством у Паттерсона. Для сильной ненависти, как и для горячей любви, необходимо иметь большое сердце, а мелкая душонка стяжателя не в состоянии вместить столь сильные страсти. Второй характерной чертой Паттерсона была трусость. Теперь, когда его жизнь оказалась связанной с судьбой всех либерийцев, страх заставил его скрывать свои подлинные мысли. Хотя он с превеликой радостью полюбовался бы со стороны, как пылает ненавистный ему город, тем не менее ирландец понимал, что лишен возможности удрать заблаговременно. К тому же по всему острову рыскали отряды краснокожих, которые вскоре могли оказаться и под Либерией. В конце концов, защищая город, он защищал самого себя, и поэтому предпочел нести караульную службу наравне с остальными. Правда, приходилось оставаться одному, даже ночью, на передовой линии, под постоянной угрозой быть захваченным туземцами. Но страх сделал из него превосходного часового: он напряженно вглядывался в темноту, непрерывно обходил свой участок, держа палец на курке, готовый выстрелить при малейшем подозрительном шорохе.
Четыре дня прошли спокойно. На пятый день после полудня появились передовые отряды индейцев, расположившихся лагерем к югу от города. Теперь находиться в охранении и нести караульную службу было опасно: враг стоял у самых ворот Либерии.
В тот же день, к вечеру, едва Паттерсон заступил на пост на северном валу между рекой и дорогой к Новому поселку, в стороне порта вспыхнул яркий свет — патагонцы начали подготовку к штурму города. По всей вероятности, наступление начнется именно здесь, у дороги к Новому поселку, где, по воле злого рока, поставили на пост Паттерсона!
Ужас охватил ирландца, когда он вдруг услышал, как по дороге приближается большой отряд. Хотя он и знал, что путь на Либерию прегражден рвом, наполненным водой, это препятствие, выглядевшее днем непреодолимым, в момент опасности показалось ничтожным. Ему уже мерещилось, что свирепые дикари переправились через ров, взобрались на вал и овладели городом…
А те, кого он принял за индейцев, тем временем остановились на краю рва. Паттерсон понял, что там о чем-то совещаются, хотя издали не мог разобрать слов. Потом началась суматоха: подносили бревна, доски и жерди для сооружения переправы. Вскоре он увидел, что по наведенным мосткам цепочкой движутся темные фигуры. Их было много, и при бледном свете ущербной луны лишь поблескивали стволы ружей. Первым шел высокий человек. Паттерсон узнал Кау-джера.
При его появлении сердце ирландца сжалось от радости и гнева. От радости потому, что теперь он поверил в победу, от гнева потому, что он ненавидел губернатора.
Но почему отряд вошел в город со стороны Нового поселка? А произошло это так.
Заметив в ночи пламя пожара, охватившего пригород, правитель мгновенно составил план действий. Как и патагонцы, он переправился со своим маленьким отрядом через реку, но тремя километрами выше, и пошел через поля прямо на огонь, будто на свет маяка.
Судя по количеству костров, он точно определил, что основные силы противника сосредоточены к югу от города. Следовательно, в районе Нового поселка враг способен оказать лишь слабое сопротивление, преодолев которое остельцы смогут вернуться в Либерию обычным путем.
Последующие события подтвердили правильность расчетов губернатора. Его отряд захватил поджигателей порта в то самое время, когда они, не найдя ничего ценного, в неистовстве разрушали дома. Не встретив ни малейшего отпора и убедившись, что поселок совершенно пуст, захватчики настолько осмелели, что даже не сочли нужным выставить заслоны. Отряд Кау-джера обрушился на них, как гром среди ясного неба. Внезапно раздалась ружейная пальба. Растерявшиеся индейцы обратились в бегство, оставив в руках победителей пятнадцать ружей и пять пленных. Их не стали преследовать — выстрелы могли услышать на том берегу, где находились основные силы противника, а Кау-джер опасался привлечь их внимание. Поэтому остельцы поспешно отступили к Либерии. Стычка продолжалась не более десяти минут.
Неожиданное возвращение губернатора было не единственным сюрпризом, уготованным судьбой ирландцу. Через три дня его ожидало еще более сильное потрясение, повлекшее за собою тягостные последствия.
На этот раз он дежурил с шести часов вечера до двух часов ночи на обрывистом берегу реки, около северного вала. Между валом и участком Паттерсона находилось еще трое часовых. Ирландцу повезло — его самого охраняли со всех сторон.
Когда он заступил на пост, было еще светло, и обстановка показалась ему вполне благоприятной. Но постепенно опустилась ночь, и им овладел привычный страх. Снова он напряженно прислушивался к малейшему шороху, снова озирался по сторонам, пытаясь различить в темноте какие-нибудь подозрительные тени.
Но ирландец ожидал опасность издалека, а она оказалась совсем рядом. Он замер от ужаса, услышав, как в двух шагах от него кто-то тихо окликнул:
— Паттерсон!
Он чуть не закричал, но угрожающий голос шепотом приказал:
— Молчи! — а затем спросил:— Узнаешь меня?
И, так как Паттерсон не мог вымолвить ни слова, невидимый собеседник продолжал:
— Я — Сердей.
Ирландец вздохнул с облегчением: Сердей — свой парень, хотя его появление было совершенно непонятным.
— Сердей? — переспросил он недоверчиво.
— Да… Тише… Говори шепотом… Ты один?… Никого нет поблизости?
Паттерсон, всматриваясь в темноту, ответил:
— Никого.
— Не шевелись! — приказал Сердей.— Стой так, чтобы тебя было видно. Я подползу ближе, но ты не поворачивайся в мою сторону.
Зашуршала трава.
— Вот и я,— сказал он, не подымаясь с земли.
Несмотря на запрещение, Паттерсон рискнул повернуть голову и увидел, что Сердей мокрый с головы до ног.
— Откуда ты взялся? — спросил ирландец.
— С реки… Я с патагонцами.
— С патагонцами?! — изумленно воскликнул он.
— Да. Полтора года назад, когда я покинул остров Осте, огнеземельцы переправили меня через пролив Бигл. Я хотел пробраться в Пунта-Аренас, а оттуда в Аргентину или еще куда-нибудь дальше. Но туземцы захватили меня в пути.
— И что же ты у них делаешь?
— Я их раб.
— Раб! — повторил Паттерсон.— Но ты ведь на свободе?
— Посмотри,— коротко ответил бывший повар.
Ирландец внимательно оглядел его и заметил веревку, привязанную к поясу. Но когда тот пошевелил ею, оказалось, что это тонкая железная цепь.
— Вот моя свобода,— продолжал Сердей,— не говоря уже о том, что в десяти шагах отсюда сидят по горло в воде два краснокожих, которые стерегут меня. Если даже я разорву эту цепь, они сразу же бросятся за мной.
Паттерсона так затрясло от страха, что Сердей заметил это.
— Что с тобой? — спросил он.
— Патагонцы!… — пролепетал перепуганный насмерть ирландец.
— Не бойся, они ничего тебе не сделают, ты им нужен. Я сказал, что рассчитываю на тебя, и они послали меня для переговоров.
— Что им надо? — еле слышно спросил Паттерсон.
Сердей помолчал, не решаясь сразу ответить.
— Чтобы ты пропустил их в город.
— Я?! — возмутился тот.
— Да, ты. Так надо. Послушай, ведь для меня это вопрос жизни или смерти. Когда я попал в плен к индейцам, то стал их рабом, как тебе уже известно. Они всячески мучили меня. Однажды я проговорился, что из Либерии. Патагонцы решили воспользоваться мною, чтобы овладеть городом, о котором много слышали, и обещали освободить, если я помогу им. Ну, ты сам понимаешь, что…
— Тихо! — прервал его Паттерсон.
К ним приближался соседний часовой, решивший поразмяться. Дойдя до границы своего участка, он остановился неподалеку от них и сказал:
— Что-то похолодало к вечеру.
— Д-да… — глухо обронил ирландец.
— Доброй ночи, сосед!
— Доброй ночи.
Часовой сделал полный оборот и исчез во мраке. Сердей продолжал:
— …Ну, ты сам понимаешь, что я, конечно, обещал. Тогда они предприняли этот поход, взяли меня с собой и стерегут днем и ночью. Теперь индейцы требуют, чтобы я выполнил обещанное. Сначала они рассчитывали без труда проникнуть в город, а оказалось, что у них погибло много людей и более сотни захвачено в плен. Это их бесит… Сегодня вечером я сказал, что попробую установить связь с товарищем, который поможет мне. Я узнал тебя издали… Если окажется, что я их обманул,— мне крышка…
Пока Сердей посвящал Паттерсона и свои злоключения, тот размышлял. Конечно, приятно было бы видеть Либерию разоренной, а всех жителей, особенно губернатора, убитыми или изгнанными. Но эта затея казалась слишком рискованной… Осторожный ирландец предпочитал безопасность.
— Чем же я могу помочь тебе? — холодно спросил он.
— Пропустить нас,— ответил Сердей.
— Для этого я вам не нужен,— возразил Паттерсон,— ведь ты же добрался сюда без моей помощи.
— Один человек может проскользнуть незаметно,— ответил тот,— совсем другое дело пятьсот человек.
— Пятьсот!
— Черт возьми! Не думаешь ли ты, что я обращаюсь к тебе за помощью, чтобы совершить приятную прогулку по городу? Для меня Либерия так же ненавистна, как и патагонцы… Кстати…
— Молчи! — вдруг приказал Паттерсон.
Послышались шаги, и вскоре из темноты вынырнули три человека. Один из них подошел к Паттерсону и, приоткрыв фонарь, спрятанный под плащом, осветил на мгновение лицо часового.
— Что нового? — спросил пришедший; это был не кто иной, как Хартлпул.
— Ничего.
— Все спокойно?
— Да.
Проверяющие пошли дальше.
— Так что ты хотел сказать? — спросил Паттерсон после их ухода.
— Я хотел узнать, что стало с остальными.
— С кем?
— С Дориком?
— Умер.
— А Фред Мур?
— Умер.
— Уильям Мур?
— Умер.
— Черт побери! А Кеннеди?
— Жив и здоров.
— Да не может быть? Значит, ему удалось замести следы?
— По-видимому.
— И он вне подозрений?
— Похоже на то. Он все время на свободе.
— А где он теперь?
— Стоит где-нибудь на посту… Точно не скажу.
— Ты не мог бы узнать?
— Нет. Нельзя уходить с поста. А впрочем, зачем тебе Кеннеди?
— Поговорю с ним, поскольку тебя мое предложение не устраивает.
— А ты полагал, что я пойду на это? — запротестовал Паттерсон.— Думаешь, я буду помогать патагонцам, чтобы всех нас перерезали?
— Не бойся,— возразил Сердей,— они не тронут своих друзей. Наоборот, выделят нам долю после захвата города. Так мне обещали.
— Хм,— недоверчиво произнес Паттерсон.
Тем не менее он заколебался. Отомстить остельцам и вместе с тем поживиться за их счет показалось ему очень заманчивым… Но довериться на слово дикарям!… И осторожность победила еще раз.
— Все это пустые слова,— решительно сказал ирландец.— Даже при всем желании ни Кеннеди, ни я не сможем пропустить сразу пятьсот человек.
— Это и не нужно,— возразил Сердей,— достаточно пропустить пятьдесят, даже тридцать. Пока первые будут сдерживать натиск либерийцев, остальные успеют пройти.
— Пятьдесят, тридцать, даже десять — слишком много.
— Это твое последнее слово?
— Первое и последнее.
— Значит, нет?
— Нет.
— Что ж, все ясно,— сказал Сердей и начал отползать к реке. Но тотчас же остановился и, взглянув на Паттерсона, добавил: — А знаешь, ведь патагонцы могут заплатить.
— Сколько?
Этот вопрос как будто сам собой сорвался с губ Паттерсона. Сердей снова приблизился.
— Тысячу пиастров[163],— сказал он.
Тысяча пиастров! В прежние времена эта сумма, хотя и довольно крупная, не потрясла бы воображение ирландца. Но наводнение отняло у него все, и за год напряженного труда ему едва удалось скопить какие-то несчастные двадцать пять пиастров, составлявшие теперь все его богатство. Конечно, в дальнейшем оно будет возрастать быстрее, для этого есть немало возможностей. Труднее всего (он знал это по опыту) сделать первое накопление. Но тысяча пиастров! Получить сразу сумму, в сорок раз превышающую полуторагодичный заработок! Не говоря о том, что, может, удастся сорвать с индейцев еще больше… Ведь при каждой сделке полагается поторговаться…
— Не так уж много,— бросил он пренебрежительно.— За дело, в котором приходится рисковать своей шкурой, надо взять не менее двух тысяч.
— В таком случае, спокойной ночи! — ответил Сердей, делая вид, что удаляется от часового.
— По крайней мере полторы тысячи,— невозмутимо продолжал Паттерсон.
Теперь он почувствовал себя в своей стихии — стихии торга. В этой сфере он обладал большим опытом. Независимо от того, что продавалось — товар или совесть,— дело сводилось к купле-продаже, которые подчиняются определенным незыблемым законам, в совершенстве изученным Паттерсоном. Известно, что продавец всегда запрашивает, а покупатель сбивает цену. Они начинают торговаться и договариваются до настоящей стоимости. Человек, который торгуется, всегда что-нибудь выигрывает и никогда ничего не теряет.
Так как нужно было спешить, ирландец решился, в виде исключения, ускорить переговоры и сразу сбросил с двух тысяч до полутора.
— Нет,— твердо сказал Сердей.
— Хотя бы тысячу четыреста! Из-за такой суммы еще стоит, пожалуй, разговаривать, но из-за тысячи пиастров…
— Тысяча, и ни одной монетой больше,— решительно заявил предатель и стал медленно отползать к реке.
Но Паттерсон проявил стойкость.
— Тогда ничего не выйдет,— спокойно ответил он.
Теперь заволновался Сердей. Ведь дело, казалось, налаживалось. Неужели все сорвется из-за каких-то двухсот пиастров! Он снова подполз ближе.
— Поделим разницу пополам,— предложил он,— получится тысяча двести.
Паттерсон поспешно согласился:
— Только ради тебя уступаю за тысячу двести.
— Заметано? — спросил Сердей.
— Заметано!
Оставалось договориться о подробностях.
— Кто будет платить? — осведомился ирландец.— Разве патагонцы настолько богаты, чтобы так запросто отвалить тысячу двести пиастров?
— Наоборот, очень бедны, но их много, и все с радостью вывернутся наизнанку, чтобы собрать эти деньги. Они пойдут на все, ибо хорошо знают, что при грабеже Либерии получат во сто крат больше.
— Что ж, я не против,— согласился Паттерсон,— это меня не касается. Мое дело — получить деньги. Когда они заплатят? До или после прохода?
— Половину — до, половину — после.
— Нет,— заявил ирландец,— мое непременное условие: завтра же вечером восемьсот пиастров!
— А где ты будешь? — осведомился Сердей.
— Где-нибудь на посту. Разыщешь меня… А остальные деньги — в тот день, когда я пропущу первый десяток,— пусть передаст мне замыкающий. Если обманут, я подыму тревогу. Если заплатят честно, я — молчок и потихоньку удеру.
— Договорились,— подтвердил повар.— Когда можно будет пройти?
— На пятую ночь после этой. Будет новолуние.
— А где?
— На моем участке.
— Кстати,— вдруг вспомнил Сердей,— я что-то не заметил твоего дома.
— Его снесло наводнением в прошлом году, но, чтобы скрыть вас, хватит и забора.
— Да он почти весь разрушен.
— Я починю.
— Отлично. До завтра!
— До завтра! — ответил Паттерсон.
Он услышал, как зашуршала трава, а потом по слабому всплеску понял, что Сердей осторожно вошел в воду. Больше ничто не нарушало ночной тишины.
На следующий день всех очень удивило, что ирландец начал ремонтировать свой полуразрушенный забор. Казалось странным, что при создавшихся обстоятельствах он может заниматься таким делом. Но в конце концов это была его усадьба, у него в кармане лежали документы на землю (вернее, копии с них, выданные ему после наводнения). Значит, он имел право делать на своем участке все, что заблагорассудится.
Целый день Паттерсон усердно трудился. С утра до вечера ставил колья, укреплял их перекладинами, заделывал щели между ними, не обращая внимания на пересуды, вызванные его занятием.
Вскоре его назначили в караул на южном валу. На этот раз ему пришлось принять вахту ранним вечером. Было еще совсем светло. Но к концу смены стемнеет, и Сердей без труда доберется до вала. Если только…
Если только предложение бывшего повара с «Джонатана» было серьезным. Ведь нельзя исключить возможности, что Паттерсону просто-напросто подстроили ловушку, а он как дурак попался в нее. Но вскоре ирландец успокоился. Сердей был уже здесь. Укрывшись в густой траве, невидимый для всех, повар оказался рядом с тем, кто с нетерпением поджидал его.
Ночь вступала в свои права. Когда совсем стемнело, Сердей подполз к своему сообщнику, и все произошло так, как было условлено. Обе стороны расстались довольные друг другом.
— На четвертую ночь после этой,— еле слышно прошептал Паттерсон.
— Договорились.
— Не забудь остальные деньги, иначе ничего не выйдет.
— Будь спокоен.
После этого краткого диалога Сердей уполз, но сначала положил к ногам предателя мешок, который, коснувшись земли, издал легкий звон. Это были обещанные восемьсот пиастров. Плата за предательство.
Глава IX НОВАЯ РОДИНА
На следующий день Паттерсон продолжал чинить забор, но, понимая, что подобное занятие в такой тревожный момент может показаться по меньшей мере странным, он решил при первом же случае объяснить свои поступки и отвести от себя всякие подозрения. Ирландец смело обратился к Хартлпулу с просьбой назначать его в караул только на принадлежащем ему участке. Это желание показалось вполне обоснованным. Действительно, какой смысл посылать Паттерсона на другой пост, в то время как кто-то посторонний будет охранять его усадьбу?
Хартлпул испытывал какую-то необъяснимую антипатию[164] к ирландцу, хотя в некоторых отношениях тот даже заслуживал уважения. Он был неутомимым работником и покладистым парнем. И в его просьбе не было ничего предосудительного.
— Странно, что вы начали ремонтировать свою изгородь именно теперь,— все же заметил Хартлпул.
Ирландец невозмутимо возразил, что сейчас для этого дела самое подходящее время. Все общественные работы прекращены, и, чтобы не сидеть сложа руки, он решил привести в порядок свое личное хозяйство.
Объяснение было вполне убедительным и соответствовало трудолюбию Паттерсона. Главу полиции оно удовлетворило.
— Что ж, не возражаю,— сказал он.
Не придав этому эпизоду никакого значения, Хартлпул даже не счел нужным сообщить о нем Кау-джеру.
Но, к счастью для остельской колонии, другому человеку удалось своевременно предостеречь губернатора.
Накануне, приняв смену, Паттерсон полагал, что находится на посту один. Однако он ошибался — в нескольких шагах от него, в высокой траве, лежал Дик. Он ничуть не интересовался часовым, и когда тот стал на пост, мальчик только окинул ирландца рассеянным взглядом и продолжал следить за патагонцами. Это занятие, всецело поглощавшее его, было делом совершенно добровольным, ибо по возрасту Дик освобождался от мобилизации. Но близкая опасность возбуждала его воинственный пыл.
Если бы взгляд Паттерсона не был прикован к месту появления Сердея, он, возможно, заметил бы постороннего, тем более что тот и не думал прятаться.
А Дик вскоре начисто забыл об ирландце, ибо нечто непонятное и странное привлекло все его внимание.
Среди лесных зарослей, у подножия холма, вдруг что-то зашевелилось. Человек или зверь?… Нет, человек… Он даже разглядел его лицо, обращенное в сторону Либерии…
Пристально вглядевшись в незнакомца, мальчик вздрогнул. Это же Сердей!
Черт возьми! Он хорошо помнил бывшего повара с «Джонатана» и узнал бы его среди тысячи других. Ведь Сердей тоже был в пещере в тот страшный день, когда чуть не погиб бедный Сэнд.
Зачем же явился сюда этот ужасный тип? Инстинктивно Дик прижался к земле. Не отдавая отчета в своих действиях, он не хотел, чтобы его заметили.
Время шло. В этих широтах сумерки сгущаются медленно, постепенно переходя в темную ночь. Паренек сидел в своем тайнике, как мышь в норе, изо всех сил напрягая зрение и слух. Но часы проходили, а он не видел и не слышал ничего подозрительного. Правда, один раз ему показалось, что во мраке какая-то тень ползком приближается к Паттерсону, послышался шелест травы, неясный шепот и тихое позвякивание, как будто встряхнули мешок с золотыми монетами… Затем все стихло.
Ирландца сменил другой часовой, но Дик не покинул своего наблюдательного поста, до самой зари напряженно всматриваясь в темноту, прислушиваясь к ночным шорохам. Однако ночь прошла спокойно.
Как только взошло солнце, он сразу побежал к Кау-джеру. Боясь, что ему попадет за добровольное ночное бдение, начал речь издалека:
— Губернатор, мне нужно кое-что вам сказать…— Затем, сделав нарочитую паузу, осведомился: — А вы не будете бранить меня?
— Смотря за что,— улыбаясь, ответил тот.— Зачем же бранить, если ты не сделал ничего дурного?
На вопрос мальчик ответил встречным вопросом. О, он был тонким дипломатом, этот господин Дик!
— Провести всю ночь на южном валу — это дурно?
— В зависимости от того, что ты там делал,— сказал Кау-джер.
— Смотрел на индейцев.
— Всю ночь?
— Да.
— Зачем?
— Я наблюдал за врагом.
— Это занятие не для тебя. На это есть часовые.
— Но я увидел среди них одного человека, которого хорошо знаю.
— Как? Среди патагонцев? — воскликнул изумленный Кау-джер.
— Да, губернатор.
— Кого же?
— Сердея.
Сердей!… Кау-джер сразу вспомнил слова Атхлинаты. Неужели он и есть тот белый человек, обещаниям которого так верил индеец?
— Ты не ошибся?
— Нет, губернатор,— твердо ответил мальчик,— в этом я не ошибся. Вот насчет остального… не знаю… Не уверен.
— Остального? А что же было еще?
— Когда стемнело, мне показалось, что кто-то подполз к валу…
— Сердей?
— Не знаю… Может, и он… Мне послышалось, что там шептались и чем-то позвякивали… вроде как бы долларами. Но я не уверен в этом.
— Кто охранял тот участок?
— Паттерсон.
Это имя всегда вызывало у Кау-джера подозрения, и он глубоко задумался… Есть ли какая-нибудь связь между починкой забора Паттерсоном и тем, что видел и слышал Дик, пусть даже ему почудилось… Уж не этим ли объяснялось бездействие нападавших, которое начинало удивлять остельцев? Неужели патагонцы, не надеясь собственными силами взять город, попытаются осуществить под покровом ночи какой-то тайный план захвата Либерии? Черт возьми, сколько неразрешенных вопросов! Во всяком случае, невозможно принять какое-то решение, основываясь на тех неточных и неопределенных сведениях, которые он получил от Дика. Следовало выждать и, главное, понаблюдать за Паттерсоном, поскольку его поведение не внушало ни малейшего доверия.
— Я не буду бранить тебя,— сказал Кау-джер мальчику, ожидавшему приговора.— Ты поступил правильно. Но дай слово, что никому не скажешь обо всем, что сейчас сообщил мне.
Дик торжественно поднял руку:
— Клянусь, губернатор!
Правитель улыбнулся.
— Хорошо,— сказал он.— Теперь иди ложись спать, чтобы наверстать упущенное. Но помни — никому ни слова. Понял? Ни Хартлпулу, ни Родсу. Повторяю — никому!
— Я ведь поклялся, губернатор! — гордо ответил мальчик.
Желая как-то уточнить полученные сведения, Кау-джер отыскал Хартлпула и спросил его:
— Что нового?
— Ничего, сударь,— ответил тот.
— Как сторожевая служба? Вы должны лично проверять посты и следить, чтобы каждый часовой точно выполнял свои обязанности.
— Так я и делаю, сударь,— ответил Хартлпул,— все в порядке.
— Никто не возражает против утомительных ночных дежурств?
— Нет. Ведь все заинтересованы в безопасности.
— Даже Кеннеди не ропщет?
— Кеннеди? Да это один из лучших дозорных. Прекрасное зрение и наблюдательность. Если в другое время он немногого стоит, то в боевой обстановке матрос остается матросом.
— А Паттерсон?
— И о нем не скажу ничего дурного. Да, кстати, не удивляйтесь, если его не будет видно. Теперь он дежурит только в своей усадьбе, поскольку она граничит с рекой.
— А почему?
— Он сам просил меня об этом, и я разрешил.
— И правильно поступили, Хартлпул. Будьте и впредь так же бдительны. Но если индейцы не начнут штурм в ближайшее время, мы сами через несколько дней атакуем их.
События принимали неожиданный оборот. Несомненно, у Паттерсона была какая-то определенная цель, раз он обратился к Хартлпулу с подобной просьбой. И конечно, тот, не будучи в курсе дел, не нашел ничего предосудительного. Но после сообщения Дика Кау-джеру все это показалось подозрительным. Возвращение Сердея, его тайные встречи с ирландцем, ремонт изгороди, предпринятый владельцем усадьбы, и, наконец, желание последнего оставаться на своем участке, удалив оттуда посторонних людей,— все эти факты могли превратиться в настоящие улики, хотя сейчас еще ничего не доказывали, невозможно было обвинить ирландца в чем-то предосудительном… Оставалось одно: незаметно следить за ним и быть всегда начеку.
Тем временем Паттерсон спокойно продолжал свою работу. Вдоль границ его участка вырос высокий частокол, доходивший до самой воды. Теперь двор усадьбы был совершенно скрыт от постороннего глаза.
Итак, в назначенный день ограда была восстановлена. Как честный коммерсант, ирландец выполнил обязательство в срок. Покупатель мог получить оплаченный товар.
Солнце село. Наступила ночь. Безлунная, темная ночь. Притаившись за изгородью, Паттерсон поджидал индейцев.
Но всего не предусмотришь. Если из-за высокого забора не было видно, что происходит во дворе у ирландца, то и сам хозяин усадьбы не мог рассмотреть, что делается снаружи. Сосредоточив все внимание на противоположном берегу реки, он не заметил, как большой отряд остельцев тихо окружил его участок.
Увидев, что ремонт изгороди закончен, Кау-джер сразу же насторожился. Он понял, что если ирландец задумал какое-то предательство, то оно должно осуществиться незамедлительно.
Около полуночи первые десять патагонцев, переплыв реку, вылезли на берег, принадлежавший Паттерсону. Им казалось, никто этого не заметил. Вслед за ними, также вплавь, пробрались еще сорок человек, а затем и остальные. Теперь на берегу находилось достаточное количество воинов, чтобы успешно провести наступление. Если первым и суждено погибнуть, все равно добыча не уйдет.
Один из индейцев протянул Паттерсону пригоршню золотых монет, показавшуюся тому слишком легкой.
— Здесь что-то мало,— на всякий случай заявил он.
Туземец, по-видимому, не понял.
Паттерсон попытался объясниться жестами и для большей убедительности стал пересчитывать деньги, внимательно разглядывая их и перекладывая из одной руки в другую.
Внезапно он упал, оглушенный ударом по темени. Его тотчас же связали, заткнули рот кляпом[165] и отшвырнули в сторону.
Один за другим, держа оружие над водой, патагонцы переплывали реку и ползком, бесшумно, как призраки, взбирались на берег, заполоняя двор усадьбы. Их было уже более двухсот.
Вдруг с противоположных концов участка загремели ружейные залпы. Это колонисты напали на врага с флангов и с тыла.
Ошеломленные туземцы сначала замерли на месте, затем, когда пули успели проложить в их рядах кровавые борозды, бросились вперед, к изгороди. Но над нею тоже поднялись ружейные дула, извергавшие смерть. Обезумев от страха, индейцы заметались по двору, как звери, попавшие в ловушку. За несколько минут остельцы перебили половину воинов.
Опомнившись, патагонцы, несмотря на перекрестный огонь, преграждавший подступы к реке, прорвались к берегу, бросились в воду и поплыли обратно.
Издалека тоже донеслись выстрелы — отзвуки другого сражения, разгоревшегося на дороге.
Предполагая, что захватчики сконцентрируют все свои силы именно там, где рассчитывают проникнуть в город, а в тылу оставят лишь небольшую группу для охраны лагеря, Кау-джер принял новый тактический план. В то время как основная часть колонистов под его непосредственным командованием окружила усадьбу Паттерсона (где и должны были развернуться главные боевые действия), второй отряд остельцев, возглавляемый Хартлпулом, перейдя южный вал, атаковал неприятельский лагерь. Судя по доносившейся пальбе, там тоже произошла схватка с немногочисленным противником. Перестрелка продолжалась всего несколько минут.
Изгнав патагонцев, губернатор соединился с возвращавшимся отрядом Хартлпула. Операция прошла блестяще — они не потеряли ни единого человека. Самым же замечательным трофеем оказались триста коней, которых привели на поводу.
Индейцы понесли такой жестокий урон, что возможность нового нападения исключалась. Но все же город охранялся, как и в предшествующие дни. Только убедившись в полной безопасности, правитель вернулся в усадьбу Паттерсона.
Тусклый свет звезд озарял землю, усеянную трупами. В темноте раздавались стоны раненых.
Но куда же девался Паттерсон? Его не скоро отыскали под грудой вражеских тел — связанного, с кляпом во рту и без сознания. Может быть, он сам стал жертвой дикарей? Кау-джер даже упрекнул себя в несправедливом отношении к ирландцу.
Но в тот момент, когда его подняли с земли, из кармана посыпались золотые монеты. Все стало ясно…
Кау-джер с омерзением отвернулся.
Предателя перенесли в тюрьму и, ко всеобщему удивлению, вызвали врача. Вскоре губернатору доложили, что заключенный вне опасности и поправится в ближайшее время.
Кау-джер отнюдь не обрадовался. Он предпочел, чтобы это грязное дело разрешилось само собой — смертью преступника. Но, поскольку Паттерсон будет жить, его злодеяние должно получить достойное возмездие. В данном случае не могло быть и речи о помиловании, как когда-то в отношении Кеннеди. На сей раз преступление касалось всего населения, и ни один человек не одобрил бы снисходительности к предателю, хладнокровно принесшего столько людей в жертву своей ненасытной алчности. Следовательно, придется его судить и наказать, то есть опять прибегнуть к Правосудию и Власти… снова возложить на себя бремя[166] диктатора.
Несмотря на происходившие за последнее время изменения во взглядах Кау-джера, карательные функции были ему по-прежнему ненавистны.
Ночь закончилась спокойно. Но надо ли говорить о том, что в Либерии почти никто не спал? Люди повсюду горячо обсуждали минувшие события и отдавали должное Кау-джеру, разгадавшему коварные замыслы врага.
Приближалось летнее солнцестояние. Ночь длилась не более четырех часов. При первых проблесках зари остельцы поспешили на южный вал, откуда был виден вражеский лагерь, и вскоре с радостью убедились, что индейцы собираются в путь.
Естественно, что захватчики, треть которых погибла, а половина уцелевших лишилась коней, хотели как можно скорее убраться из страны, где им оказали столь неласковый прием!
Около восьми часов среди индейцев началось какое-то непонятное волнение. Ветер доносил их дикие гортанные крики, сливающиеся в громкий гул. Все воины столпились в одном месте и будто старались рассмотреть что-то любопытное, недоступное взглядам колонистов.
Вся эта сумятица продолжалась не менее часа. Потом туземцы построились в колонну, состоявшую из трех отрядов: посредине — пешие, впереди и позади — всадники. Один из воинов во главе колонны держал высоко над головой какой-то странный предмет, похожий на шар, надетый на копье…
Патагонцы снялись с места около десяти утра. Примеряясь к шагу пеших воинов, они медленно продефилировали[167] мимо стоявших на валу либерийцев.
Когда прошел замыкающий отряд индейцев, Кау-джер распорядился, чтобы все колонисты, умеющие ездить верхом, сообщили об этом.
Кто мог бы подумать, что в Либерии столько опытных наездников! Почти все мужчины жаждали попасть в добровольцы. Пришлось отобрать лучших. Не прошло и часа, как небольшое войско — сто пехотинцев и триста всадников — под командованием губернатора отправилось вслед за отступавшим неприятелем. Колонисты несли на носилках нескольких индейцев, раненных в усадьбе Паттерсона.
Первый привал устроили на ферме Ривьера, мимо которой патагонцы прошли часом раньше, даже не попытавшись на этот раз проникнуть в нее. Фермеры смотрели из-за забора на проходившую колонну и, хотя еще не знали о разгроме врага, не стреляли. По усталому и угнетенному виду отступающих они поняли, что те потерпели поражение и больше не страшны.
Один из всадников все еще держал на конце копья странный округлый предмет. Но, так же как и либерийцы, никто из обитателей фермы не успел разглядеть, что это за штука.
По приказу Кау-джера пленных развязали и раскрыли перед ними двери сарая настежь. Индейцы не сдвинулись с места; не веря в освобождение и исходя из собственного опыта, они опасались какого-нибудь подвоха.
Правитель подошел к Атхлинате, с которым ему доводилось беседовать раньше, и спросил:
— Чего вы ждете?
— Хотим знать, что с нами сделают.
— Не бойтесь, вы свободны.
— Свободны? — удивленно переспросил индеец.
— Да. Патагонские воины побеждены и возвращаются в свои края. Уходите с ними. Скажи своим братьям, что у белых людей нет рабов и что они умеют прощать. Пусть полученный урок научит вас человечности.
Атхлината нерешительно взглянул на Кау-джера, потом поплелся к воротам в сопровождении своих товарищей. Выйдя из усадьбы, пленные забрали раненых и направились на север. Позади них, на расстоянии ста метров, следовал отряд губернатора.
К вечеру остельцы нагнали основное войско, расположившееся на ночлег. Хотя во время перехода по отступавшим не было сделано ни единого выстрела, они все еще не верили в милосердие колонистов, и появление большого отряда вызвало сильный переполох. Пришлось сделать привал в двух километрах от лагеря туземцев, тогда как бывшие пленные, неся раненых, продолжали путь и вскоре соединились со своими.
Что подумали индейцы, когда к ним вернулись свободными те, кого они давно считали рабами? А их переводчик Атхлината, выполнил ли он свою миссию и правильно ли перевел сказанное Кау-джером? А его соплеменники, сумели они понять, как на это надеялся их освободитель, разницу между собственным поведением и поведением белых, которых они хотели уничтожить и которые обошлись с ними весьма милосердно?
Кау-джер так ничего и не узнал, но, будучи человеком, чье великодушие никогда не приносит ему практической пользы, он и не сожалел об этом. Ведь чтобы семя упало на благодатную почву и дало хорошие результаты, прежде всего нужно, чтобы само зерно было отменного качества.
Три дня тянулось на север разбитое, угнетенное войско патагонцев. Наконец, к вечеру четвертого, они пришли к месту своей высадки, а на следующее утро спустили на воду пироги, спрятанные в прибрежных скалах, и отплыли. Но что-то осталось на берегу: на верхушке длинного шеста, воткнутого в песок, покачивался тот самый круглый предмет, который туземцы несли от самой Либерии.
Когда скрылась из виду последняя пирога, остельцы, выйдя на берег, увидели на шесте человеческую голову. Приблизившись, они с ужасом опознали Сердея.
Все были потрясены. Как могло случиться, что он, исчезнувший много месяцев назад, оказался у дикарей? Только одному Кау-джеру было известно, что произошло с бывшим поваром «Джонатана»: Сердей и был тем самым белым человеком, которому индейцы так верили и так страшно отомстили за постигшее их поражение.
На следующее утро усталый отряд тронулся в обратный путь и вечером 30 декабря добрался до Либерии.
Итак, государство Осте познало войну, и его граждане вышли победителями из трудного испытания. Но Кау-джеру предстояло исполнить тяжкий долг.
В тюрьме Паттерсон пережил смену различных настроений. Сначала он не мог сообразить, что с ним приключилось. Понемногу ирландец пришел в себя и вспомнил Сердея, индейцев и их предательство.
Что же случилось потом? Если победили патагонцы, то, без сомнения, они довершили бы начатое и сейчас его не было бы в живых. Но, поскольку он находится в тюрьме, следует вывод, что индейцев разбили. А коли так, то, очевидно, раскрыта и его измена. Что теперь с ним будет? Сначала ирландец задрожал от страха, но, поразмыслив, успокоился. Его могут только подозревать, никаких улик против него нет. Никто не видел его с Сердеем, никто не поймал с поличным на месте преступления. Значит, он еще сможет выйти сухим из воды и даже получить прибыль.
Паттерсон хотел пересчитать золотые монеты, но не нашел их. Куда они запропастились? Ведь не сон же ему приснился. Патагонцы действительно заплатили деньги! Сколько? Точно неизвестно. Если и не тысячу двести пиастров, как было условлено (ведь эти мерзавцы обманули его!), все же не менее девятисот или даже тысячи. Кто же отобрал у него золото? Сами дикари? Нет, скорее всего те, кто арестовал его. Сердце Паттерсона переполнилось гневом и яростью. Индейцы ли, колонисты ли, краснокожие или белые — все они воры и подлецы! Он одинаково ненавидел и тех и других.
С этой минуты ирландец лишился покоя. Снедаемый злобой, он перескакивал от одного предположения к другому, с лихорадочным нетерпением ожидая суда. Дни шли за днями, но ничего не менялось. Казалось, о Паттерсоне позабыли.
Наконец, 31 декабря, спустя более недели с момента заключения, ирландец вышел из тюрьмы под конвоем из четырех человек. Теперь-то все выяснится!… Однако, дойдя до Правительственной площади, он в растерянности остановился.
Зрелище было поистине величественным. Кау-джер хотел устроить торжественный суд над предателем, ибо жизнь наглядно показала губернатору, какую силу придает коллективу общность чувств и стремлений. Разве удалось бы так легко победить индейцев, если бы каждый остелец, не подчиняясь общим законам, поступал, как ему заблагорассудится, не считаясь с остальными? Поэтому Кау-джеру и хотелось укрепить зарождавшееся чувство солидарности, публично заклеймив преступление против общества.
У здания управления воздвигли высокий помост, на котором сидели губернатор, три члена совета и судья — Фердинанд Боваль. Внизу было приготовлено место для обвиняемого. За барьером толпились жители Либерии.
При появлении Паттерсона в толпе раздались громкие негодующие возгласы. Правитель властным жестом восстановил тишину. Начался допрос обвиняемого.
Тщетно пытался он все отрицать. Разоблачить его не представляло труда. Кау-джер перечислял одно за другим предъявленные ирландцу обвинения, начиная с присутствия Сердея среди патагонцев, что было уже установленным фактом.
Узнав о гибели сообщника, Паттерсон содрогнулся. Смерть Сердея показалась ему дурным предзнаменованием.
Преступный сговор подтверждался обнаружением у него золота. Может ли он, по собственному признанию потерявший в прошлом году все свое состояние, объяснить происхождение этих денег?
Ирландец опустил голову. Он понял, что погиб.
После допроса начались судебные прения. Затем был объявлен приговор: Паттерсон приговаривался к пожизненному изгнанию, без права возвращения на территорию Осте. Все его имущество конфисковывалось[168]. Земля, равно как и деньги, полученные за совершенное преступление, возвращались государству.
Приговор был немедленно приведен в исполнение. Ирландца в кандалах[169] доставили на борт готовившегося к отплытию корабля, где он должен было находиться на положении арестанта до тех пор, пока судно не выйдет за пределы остельских вод.
Толпа медленно рассеивалась. Кау-джер ушел в управление. Ему хотелось побыть одному, восстановить душевное равновесие. Кто мог подумать, что он, яростный защитник равенства, станет судьей другим людям? Он, страстный приверженец свободы и враг собственности, будет способствовать дроблению земли, принадлежащей всему человечеству, на отдельные участки и, объявив себя властелином какой-то частицы земного шара, присвоит право запретить доступ на нее одному из себе подобных? Однако Кау-джер сделал именно так, и, хотя это нарушило его душевный покой, он ни в чем не раскаивался, убежденный в своей правоте.
Осуждение предателя явилось как бы завершающим этапом борьбы с патагонцами. Правда, за победу заплатили Новым поселком, превращенным в пепел, но игра стоила свеч: опасность, грозившая всем эмигрантам, и общая борьба связали их такими тесными узами, силу которых они еще не осознали. До всех этих событий Осте был просто колонией, где жили случайно объединившиеся люди двадцати различных национальностей. Отныне они стали подлинными гражданами своей страны, а Остельское государство — их новой родиной.
Глава X ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ
Через пять лет после описанных нами событий навигация у побережья Осте уже не представляла никакой опасности. С вершины полуострова Харди сноп ярких лучей озарял ночное море. Он совсем не походил на колеблющееся пламя индейских костров. Это был мощный маяк, освещавший темными зимними ночами фарватер и рифы.
Но к сооружению маяка на мысе Горн еще не приступили. В течение шести лет Кау-джер с неутомимой настойчивостью добивался решения этого вопроса, но все его попытки ни к чему не привели. Губернатора остельской колонии очень удивляло, что Чилийская республика придает такое значение голой скале, не имеющей абсолютно никакой ценности. Но он удивился бы еще больше, узнав, что причина бесконечно затянувшихся переговоров заключалась не в патриотических или государственных соображениях (которые в конце концов можно было бы как-то понять, даже будь они малообоснованными), а просто в потрясающей волоките, царящей во всех правительственных учреждениях. Дипломатические канцелярии Чили поступали по примеру канцелярий всего мира. Испокон века дипломаты затягивают решения самых пустяковых вопросов. Это происходит, во-первых, потому, что этих людей обычно мало беспокоят дела, не затрагивающие их личных интересов, а также потому, что каждый чиновник жаждет раздуть, елико[170] возможно, значимость своих полномочий. А чем же определяется важность принимаемого решения, как не продолжительностью предшествовавших ему переговоров, количеством исписанной бумаги и пролитого «чернильного пота»? Кау-джер не имел подобной канцелярии и поэтому даже не мог представить, что такая странная причина может послужить помехой в серьезном деле.
Но не только маяк полуострова Харди освещал прибрежные воды. В Новом поселке, отстроенном после пожара, каждый вечер зажигались огни, указывавшие кораблям путь к причалам.
Большой мол превратил бухту в просторный и превосходно укрытый порт, где производилась выгрузка и погрузка различных товаров. Все больше и больше кораблей прибывало в Новый поселок. Постепенно установились торговые связи с Аргентиной, Чили и даже со Старым Светом. Регулярные ежемесячные рейсы связывали остров Осте с Вальпараисо и Буэнос-Айресом.
Сама Либерия сильно разрослась. Каменные или деревянные дома с двориками и палисадниками окаймляли ее ровные улицы, пересекавшиеся на американский манер под прямым углом. На площадях шумели тенистые деревья. В Либерии имелись почта, школа, церковь, суд и две типографии. Самым красивым зданием было управление. Прежнюю постройку снесли и заменили новым великолепным особняком, предназначенным для административных учреждений и резиденции губернатора.
Неподалеку от управления стояла казарма с тремя тысячами ружей и тремя пушками. В установленные сроки там отбывали воинскую повинность все совершеннолетние граждане Осте. Урок, полученный от патагонцев, не прошел даром. Армия, в рядах которой состояли все остельцы, была всегда в полной боевой готовности для защиты родины.
В Либерии построили даже театр, правда весьма скромный, но довольно вместительный, а главное, освещаемый электричеством.
Мечта Кау-джера осуществилась. Гидроэлектростанция, расположенная в трех километрах вверх по реке, щедро снабжала город светом и энергией.
В театральном зале устраивали собрания, а иногда Кау-джер или Фердинанд Боваль (теперь вполне остепенившийся и ставший видным лицом в городе) читали лекции. Там же давались концерты под управлением необыкновенного дирижера.
Это был наш старый знакомец — Сэнд. Терпение и настойчивость помогли ему сколотить из остельских любителей музыки симфонический оркестр. Перед концертом дирижера переносили к пульту в кресле, и, когда он чувствовал, что все оркестранты повинуются взмаху дирижерской палочки, лицо его сияло, и священное опьянение искусством превращало Сэнда в счастливейшего из людей.
В программу концертов входили старинные и современные произведения, а иногда и сочинения самого Сэнда, которые публика принимала не менее восторженно.
Прошло немногим более девяти лет с тех пор, как «Джонатан» погиб на рифах полуострова Харди. Велики были успехи, достигнутые остельской колонией за эти годы благодаря уму и практическим знаниям человека, не побоявшегося взять на себя ответственность за ее судьбу в те грозные дни, когда анархия угрожала ей гибелью.
Тяжкие заботы, связанные с правлением, очень угнетали Кау-джера. Если он еще и сохранил геркулесову силу, если бремя годов еще и не согнуло его мощный стан[171], то все же глубокие морщины избороздили его лицо, а седина посеребрила густые волосы. Несмотря на эти первые признаки старости, он по-прежнему имел величественный вид.
Теперь у правителя были наглядные примеры, помогавшие ему руководить колонией. Неподалеку от острова проводились в жизнь одновременно две совершенно различные системы колонизации. Сравнивая их, Кау-джер мог делать важные выводы.
С тех пор как Чили и Аргентина поделили между собой Магелланову Землю и Патагонию, оба государства начали эксплуатировать свои новые владения различными способами. Аргентина, мало знакомая с местными условиями, стала сдавать в концессию земельные участки в 10-12 квадратных лье. Это было примерно то же самое, что оставить земли неиспользованными: никто не брал такие большие наделы. Что же касается лесов, в которых и по сию пору насчитывается до четырех тысяч деревьев на гектар, то для их освоения потребовалось бы не менее трех тысяч лет. Так же обстояло дело и с пахотными и с пастбищными землями, сдаваемыми в концессию слишком большими участками, а потому требующими множества рабочих рук, сельскохозяйственного инвентаря и, следовательно, весьма солидных капиталовложений. Но имелась и другая причина. Аргентинские колонисты зависели от Буэнос-Айреса. Связь же между ними и метрополией[172] осуществлялась медленно и стоила крайне дорого. Проходило почти полгода, прежде чем судно, прибывшее с Огненной Земли и пославшее коносаменты[173] в таможню Буэнос-Айреса (то есть на расстояние в 1500 миль), могло возвратиться обратно, выполнив все таможенные требования, за что приходилось платить по курсу дня на столичной бирже. Но разве можно было предугадать этот курс, находясь на Огненной Земле, в стране, где название «Буэнос-Айрес» звучало не менее экзотически, чем «Китай» или «Япония».
Что же сделало чилийское правительство для развития торговли и привлечения эмигрантов в колонию? Оно объявило Пунта-Аренас свободным портом, чтобы корабли завозили туда все — и предметы первой необходимости, и предметы роскоши, чтобы там всегда имелись в изобилии дешевые и высококачественные товары. Поэтому продукция чилийской колонии широко экспортировалась коммерческими английскими или чилийскими фирмами, расположенными в самом Пунта-Аренасе, или через их филиалы, разбросанные на многочисленных проливах архипелага.
Кау-джер давным-давно ознакомился с системой, принятой чилийским правительством, и во время путешествия по Огненной Земле мог убедиться, что вся продукция, полученная на этой территории, направляется в Пунта-Аренас. Тогда по примеру чилийской колонии Новый поселок был также объявлен порто-франко, что положило начало быстрому обогащению Осте.
События, произошедшие на острове, независимость, дарованная ему Чилийским государством, непрерывный расцвет колонии под энергичным управлением Кау-джера привлекли внимание промышленных и коммерческих кругов других стран. Появились новые колонисты, которым охотно предоставляли земельные концессии на выгодных условиях. Вскоре выяснилось, что эксплуатация лесов, богатых более ценными породами, чем европейские, может дать от 15 до 20 процентов прибыли. Поэтому возникло несколько деревоперерабатывающих заводов. Быстро расхватывались земли и под сельскохозяйственные культуры по цене тысяча пиастров за квадратное лье. Поголовье скота на пастбищах острова достигло десятков тысяч.
Увеличивался прирост населения. К тысяче двумстам потерпевшим крушение на «Джонатане» прибавилось втрое, если не вчетверо, больше эмигрантов с запада Соединенных Штатов, из Чили и Аргентины. Через десять лет после провозглашения независимости Осте в Либерии насчитывалось более двух с половиной тысяч жителей, а на всем острове — более пяти.
Само собой разумеется, что было заключено много браков. Из молодоженов следует упомянуть Эдуарда Родса, женившегося на дочери Жермена Ривьера, и Клэри Родс, вышедшую замуж за доктора Сэмюэля Арвидсона. Новые браки укрепляли связи между отдельными семьями.
Теперь между Либерией и различными факториями, основанными в других районах острова — в частности, в окрестностях полуострова Рус и на северном берегу пролива Бигл,— то и дело курсировали каботажные суда, прибывавшие, как правило, с Фолклендских островов.
Помимо кораблей, перевозивших грузы на английские острова Атлантики, в Новом поселке пришвартовывались парусники и пароходы из Вальпараисо, Буэнос-Айреса, Монтевидео и Рио-де-Жанейро. На всех ближайших фарватерах, в заливе Нассау, в проливах Дарвир и Бигл — повсюду виднелись датские, норвежские и американские флаги.
Рыбные промыслы, дававшие большой доход, работали круглогодично, и, естественно, именно рыбные продукты были основным предметом экспорта.
На побережье выросли поселения рыбаков — людей самого различного происхождения, без рода и племени, с которыми вначале Хартлпулу было трудно справиться. Но постепенно оседлая жизнь смягчила нравы этих бездомных и безродных бродяг, они приучились к дисциплине и к жизни в коллективе. Правда, и условия работы стали теперь значительно легче. Прекратились вызванные крайней нуждой рискованные выходы в море, часто приводившие рыбаков к гибели от холода и голода на каком-нибудь необитаемом острове. Кроме того, сбыт их улова обеспечивался, независимо от прибытия корабля, которого раньше приходилось ждать долгие месяцы и который мог вообще не прийти.
Рыбаки занимались не только охотой на тюленей, но и китобойным промыслом. В проливах архипелага ежегодно забивали до тысячи китов. Поэтому в сезон охоты различные китобойные шхуны, знавшие, что в Либерии им будут предоставлены те же льготы, что и в Пунта-Аренасе, частенько наведывались на Осте.
Наконец, эксплуатация песчаных отмелей, покрытых миллиардами всевозможных ракушек, положила начало новой отрасли торговли. Особое значение имели чрезвычайно вкусные съедобные моллюски[174]. Суда набирали их полные трюмы и продавали в южноамериканских городах по пяти пиастров за килограмм.
Водились также омары[175], лангусты[176] и гигантские крабы. Эти богатства перерабатывались на консервной фабрике, которой управлял Хальг, и расходились по всему свету.
Хальгу исполнилось двадцать восемь лет. Он обладал всем, что необходимо для счастья. У него была любящая жена, трое прелестных детей, он было здоров, и состояние его быстро увеличивалось. Кау-джер лишь радовался, глядя на дело рук своих.
Что же касается Кароли, то он не только не участвовал в управлении фабрикой, а вообще перестал заниматься рыбным промыслом.
Поскольку Новый поселок превратился в важный и удобный порт, то число прибывавших туда кораблей увеличивалось из года в год. Здесь имелся прекрасный рейд, пожалуй, более надежный, чем в чилийской колонии, и поэтому суда, проходившие Магеллановым проливом, предпочитали не Пунта-Аренас, а остельский порт.
Так что Кароли пришлось вернуться к своей старой профессии. Сделавшись начальником порта и старшим лоцманом[177], он сопровождал суда, направлявшиеся в Пунта-Аренас или в фактории, разбросанные по архипелагу. Дел было по горло. Теперь он мог встречать корабли при любой погоде, подходя к ним на тендере[178] водоизмещением в пятьдесят тонн с командой из пяти человек.
«Уэл-Киедж» все еще существовала, но ею больше не пользовались. Она стояла на приколе в порту, как старая и верная служанка, ушедшая на покой.
Подобно всем настоящим труженикам, которые, едва закончив одно дело, сразу же принимаются за другое, Кау-джер, дав возможность Хальгу самостоятельно продолжать свой жизненный путь, тотчас же принял на себя новые обязанности, связанные со вторым усыновлением. Но Дик не вытеснил Хальга из сердца воспитателя, а занял место рядом с ним.
Ему шел тогда девятнадцатый год. Более шести лет он обучался у Кау-джера. Юноша выполнил обещание, данное им в детстве. Он прилежно работал, легко усваивал знания, преподносимые учителями, и постепенно сам превращался в ученого.
Пережив в детстве тяжкие испытания и познав все стороны жизни, Дик, несмотря на свою юность, был скорее последователем и другом, чем учеником Кау-джера. Правитель относился к нему с полным доверием и считал его своим преемником. Жермен Ривьер и Хартлпул были, несомненно, тоже надежными людьми, но первый никогда не согласился бы бросить свои прибыльные лесные разработки ради общественных дел. А Хартлпул, великолепный исполнитель, мог действовать только в соответствии с полученными инструкциями. Кроме того, для управления людьми у обоих не хватало широты кругозора и интеллектуальной культуры. Для этого больше подошел бы Гарри Родс, но он уже состарился, да и, вообще не отличаясь особой энергией, наверное, сам отказался бы от такой ответственности.
В противоположность им, Дик обладал всеми качествами, необходимыми для руководителя колонии. Он был незаурядной личностью и по образованности, интеллекту и характеру мог стать настоящим государственным деятелем. Приходилось только сожалеть, что такие блестящие способности ограничатся столь узким полем деятельности, как остров Осте.
Политическое положение колонии было также весьма благоприятным. Между ней и Чили завязались дружественные отношения. С каждым годом чилийское правительство все больше убеждалось в правильности принятого им решения.
Присутствие на архипелаге Магеллановой Земли таинственного незнакомца, ставшего во главе Остельского государства, вначале показалось подозрительным. Власти не скрывали по этому поводу своего неудовольствия и беспокойства, но в силу сложившихся условий ничего не могли поделать. На этом независимом острове трудно было не только установить происхождение чужеземца или потребовать у него отчета о его прошлом, но и попросту разыскать его. Если бы оказалось, что Кау-джер был в прошлом бунтарем (а его поведение подтверждало эти предположения) и многие страны не пожелали терпеть его присутствия, то на Исла-Нуэва ему, конечно, не удалось бы избежать дознания полиции. Но он укрылся на острове Осте, и, когда в Чили убедились, что после первоначальных анархических смут там благодаря твердому правлению Кау-джера воцарился порядок, стала развиваться торговля и благосостояние колонии непрерывно повышалось, между губернаторами Осте и Пунта-Аренаса установились прекрасные, ничем не омрачаемые отношения.
Так прошло пять лет, за которые остельская колония укрепилась еще больше.
Теперь с Либерией состязались в благородном и плодотворном соревновании три новых поселения. Одно — на полуострове Дюма, другое — на полуострове Пастер, третье — на крайней западной оконечности маленького острова в проливе Дарвин. Они являлись своего рода филиалами столицы, частенько навещаемые Кау-джером.
На побережье поселилось несколько семейств огнеземельцев, которые по примеру первых туземцев, порвавших с вековыми обычаями кочевой жизни, прижились в окрестностях Нового поселка и основали настоящие деревни.
К этому времени, а именно в декабре 1890 года, Либерию впервые посетил губернатор Пунта-Аренаса, господин Агире. Он не мог скрыть своего восхищения при виде процветающей колонии и царившего повсюду порядка. Само собой разумеется, он пристально наблюдал за человеком, который осуществил эту прекрасную миссию и довольствовался простым именем «Кау-джер».
Чилиец не скупился на похвалы.
— Остельская колония — дело ваших рук, господин губернатор,— сказал он.— Чили может только радоваться, что предоставила возможность реализовать на деле ваши замыслы.
— Этот остров — сухо ответил Кау-джер,— был отдан Чили, хотя прежде не принадлежал никому. Справедливость требовала, чтобы ваше правительство вернуло ему независимость.
Господин Агире прекрасно понял, что скрывалось под этими словами: правитель считал, что восстановление независимости вовсе не обязывает Осте к изъявлениям благодарности.
— Во всяком случае,— осторожно продолжал глава Пунта-Аренаса,— я думаю, что потерпевшие кораблекрушение на «Джонатане» могут не жалеть об их африканских концессиях в бухте Лагоа…
— Это несомненно, господин губернатор, потому что там они находились бы под властью Португалии, тогда как здесь ни от кого не зависят.
— Так что все к лучшему?
— Конечно,— подтвердил Кау-джер.
— И можно надеяться, что добрососедские отношения между Чили и Осте сохранятся и впредь,— любезно добавил господин Агире.
— Мы также надеемся на это, а может быть, Чили, убедившись в успехах системы, примененной здесь, предоставит независимость и другим островам Магелланова архипелага?
Вместо ответа гость только улыбнулся.
Гарри Родс, присутствовавший вместе с двумя другими членами совета на встрече губернаторов, поспешно вмешался, желая перевести разговор на другую, менее щекотливую тему.
— Наша колония,— сказал он,— при сопоставлении ее с аргентинскими владениями на Огненной Земле, дает много интересного материала для наблюдений. Как видите, сударь, с одной стороны — процветание, с другой же — упадок. Аргентинские колонисты не в силах выполнить требований, предъявляемых к ним Буэнос-Айресом, и всех навязанных им формальностей. Не справляются с этим и торговые суда. Несмотря на все заявления губернатора колонии на Огненной Земле, пока никакого сдвига не заметно.
— Согласен с вами,— ответил господин Агире,— поэтому-то наше правительство поступило совершенно иначе с Пунта-Аренасом. Вполне возможно обеспечить колонию различными льготами, способствующими ее развитию, не предоставляя ей полной независимости.
— Господин губернатор,— прервал его Кау-джер,— в архипелаге есть один маленький островок, просто голая скала, не представляющая никакой ценности. Я прошу Чили уступить его нам.
— Какой островок вы имеете в виду?
— У мыса Горн.
— На кой черт он вам понадобился? — удивился губернатор Пунта-Аренаса.
— Чтобы установить маяк, который совершенно необходим в этом месте. Освещение фарватера в здешних широтах имеет колоссальное значение не только для кораблей, направляющихся к острову Осте, но и для всех судов, огибающих мыс между Атлантическим и Тихим океанами.
Гарри Родс, Хартлпул и Жермен Ривьер, знавшие о планах Кау-джера, поддержали его, заявив, что постройка здесь маяка является жизненно необходимой. Господин Агире не стал спорить.
— Так, значит,— спросил он,— вы намерены выстроить маяк на острове Горн?
— Да.
— За свой счет?
— Да. Но при обязательном условии, что Чили передаст остров Горн в нашу полную собственность. Вот уже более пяти лет, как я предложил этот проект вашему правительству и до сих пор не могу добиться какого-нибудь результата.
— Что же вам отвечали? — осведомился господин Агире.
— Отделывались пустыми отписками. Ни да, ни нет. Такая канцелярская волокита может тянуться веками. А тем временем корабли продолжают разбиваться о скалы этого островка, совершенно невидимого в темноте.
Казалось, чилиец был чрезвычайно удивлен. Впрочем, его удивление вряд ли было искренним, ибо он лучше других знал об обычных методах работы подобных учреждений и в глубине души не одобрял их. Но он обещал Кау-джеру лично доложить своему правительству об этом проекте и всячески поддержать его. Он выполнил свое слово, и поддержка его оказалась настолько эффективной, что уже через месяц переговоры, тянувшиеся долгие годы, закончились. Было получено официальное извещение о принятии предложения. 25 декабря между Республикой Чили и колонией Осте был подписан договор о передаче острова Горн в полную собственность остельской колонии при условии, что она выстроит и будет содержать за свой счет маяк на крайней оконечности мыса.
Кау-джер считал, что маяк явится венцом всей его деятельности. Умиротворенная и благоустроенная колония, всеобщее благосостояние, широкое внедрение образования и, наконец, тысячи человеческих жизней, спасенные им на самом стыке двух величайших океанов земного шара,— таков итог его деятельности на земле.
Великая задача! Разрешив ее, Кау-джер имел полное право подумать и о себе, отказавшись от обязанностей, к которым чувствовал глубочайшее отвращение.
Повелевая людьми и являясь фактически самым неограниченным из диктаторов, он все же никогда не был счастлив. Длительное пребывание у власти не привило губернатору вкуса к ней. Он всегда применял эту власть наперекор себе самому. Всю жизнь он никому не подчинялся, и ему казалось жестоким навязывать свою волю другим. Правитель оставался все тем же энергичным, хладнокровным и грустным человеком, каким был в те далекие дни, когда спасал погибавших остельцев. Да, тогда он сберег их, но погубил самого себя. Вынужденный отречься от своих идеалов и покориться фактам, он мужественно нес свой тяжкий крест, но в глубине души все еще лелеял слабую надежду на возможность осуществления своей мечты.
Ведь наши мысли, укрывшись под обманчивой личиной логики, представляют собой наиболее яркое выражение природных инстинктов. Они живут своей собственной жизнью, независимой от разума и воли. Мысли сражаются вслепую, несмотря на то, что борются против очевидности, как существа, которые не желают умирать. Чтобы понять свои ошибки, нужно ими пресытиться, убедиться в них, и тогда придет необходимость вернуться к тому, что есть наша вера.
Кау-джер возложил свою веру на алтарь жертвенности, потребности испытывать сострадание к своим несчастным собратьям,— и это свойство, наряду со страстным желанием свободы, составляло сущность его прекрасной натуры. Но теперь, когда о самоотверженности и жертвах не было речи, когда остельцы не вызывали чувства жалости, прежняя вера мало-помалу обретала свое обличье, и деспот снова шаг за шагом становился страстным защитником свободы, как в былые времена.
Гарри Родс замечал некоторые изменения в характере Кау-джера, проявившиеся особенно резко тогда, когда началось строительство маяка и его друг счел взятые на себя обязательства почти выполненными. Наконец правитель совершенно открыто высказал свои соображения по этому поводу. Это произошло так.
В случайной беседе Гарри Родс, с благодарностью вспоминая обо всем, что сделал для Осте Кау-джер, услышал совершенно недвусмысленный ответ:
— Я взял на себя организацию колонии и стараюсь по мере сил выполнить свой долг, после чего мои полномочия окончатся. Я надеюсь доказать вам, что на земном шаре существует хотя бы одно такое место, где человек может жить вне подчинения.
— Управлять — не значит подчинять,— взволнованно возразил Гарри Родс,— и вы сами являетесь примером тому. Не может существовать общество без верховной власти, как бы ее ни называли.
— Я держусь иного мнения,— ответил Кау-джер,— и считаю, что, как только исчезает настоятельная необходимость во власти, она должна быть устранена.
Гарри Родс с грустью следил за ходом мысли своего друга, предвидя, к каким печальным последствиям могут привести эти рассуждения. Иногда ему даже хотелось, чтобы какая-нибудь катастрофа временно нарушила благополучие колонии и вновь доказала правителю его заблуждения.
К несчастью, его желание сбылось. И катастрофа произошла еще раньше, чем он мог предположить.
В начале марта 1891 года вдруг пронесся слух, что открыты богатейшие месторождения золота. В самом этом известии не было ничего страшного. Наоборот, все радовались, и даже самые рассудительные люди, как Гарри Родс, разделяли всеобщий восторг. Для жителей Либерии этот день стал праздником.
Один Кау-джер оказался прозорливым. Он сразу же представил себе пагубные последствия этого открытия и разрушительные силы, заключенные в нем. Вот почему, когда все вокруг ликовали и поздравляли друг друга, он оставался мрачным и угнетенным, предчувствуя надвигавшиеся трагические события.
Глава XI ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА
Знаменательное событие произошло утром 6 марта.
Несколько человек, среди которых находился и Эдуард Родс, отправились спозаранку на охоту за двадцать километров от Либерии, к подножию гор Сентри-Боксис, на юго-западе полуострова Харди. Там, в густых девственных лесах, еще водились хищные звери — пумы[179] и ягуары[180], причинявшие большие убытки овцеводам.
Убив по дороге двух пум, охотники добрались до быстрого потока на опушке леса, как вдруг из-за деревьев появился громадный ягуар.
Эдуард Родс выстрелил, но пуля только ранила зверя. Зарычав, ягуар перескочил через ручей и исчез в высокой траве.
Молодой человек послал ему вдогонку вторую пулю, которая, не попав в цель, ударилась о выступ прибрежной скалы. Во все стороны брызнули каменные осколки, один из них упал к его ногам. Камень выглядел так необычно, что юноша поднял его и стал внимательно рассматривать.
Этот небольшой кусок кварца[181] был исчерчен характерными прожилками, в которых ясно обозначались крупинки золота.
Золото! Молодого Родса очень взволновала эта находка. Оказывается, на острове есть золото! Он держал в руках неоспоримое доказательство — маленький обломок камня.
Эдуард сразу же понял важность этого открытия. Ему хотелось бы сохранить его в тайне, сообщив только отцу, чтобы тот доложил Кау-джеру. Но юноша был не один. Другие охотники тоже подобрали отлетевшие осколки и обнаружили в них драгоценный металл. Значит, скрыть новость не удастся!
Действительно, в тот же день о находке узнали все либерийцы. Грянул настоящий пороховой взрыв, пламя которого мгновенно перенеслось из Либерии во все поселения.
Тем не менее в текущем сезоне не могло быть и речи об эксплуатации месторождения золота. Приближалось осеннее равноденствие, а на параллели Осте открытые разработки в холодное время года невозможны. Так что находка Эдуарда Родса пока еще не вызвала никаких трагических последствий.
Этот год (десятый со дня основания колонии) принес исключительный урожай. В центральных районах острова возникли новые лесопильни. Одни приводились в движение паром, другие — электричеством от гидроэлектростанции. Рыболовные промыслы и консервные фабрики весьма способствовали расцвету торговли. Общий тоннаж груза кораблей, посетивших порт, исчислялся в 32775 тонн.
До наступления холодов строительство маяка и примыкавшего к нему здания машинного отделения на мысе Горн шло полным ходом, несмотря на дальность расстояния (остров находился примерно в семидесяти пяти километрах от полуострова Харди) и необходимость доставки материалов и оборудования морем, усеянным рифами. Но в период зимних бурь навигация здесь прекращалась, так что строительные работы пришлось приостановить.
На Осте больше не знали нищеты, и никогда общественный порядок не нарушался преступлениями против личности или собственности. Изредка, правда, случались пустячные ссоры между колонистами, но обычно все заканчивалось примирением до обращения в суд.
Ничто как будто не угрожало безмятежному существованию государства, если бы не обнаружение золота. А это, принимая во внимание свойственную людям жадность, могло повлечь за собой большие осложнения.
Сообщение о находке вызвало у Кау-джера самые мрачные предчувствия. К сожалению, они оправдались…
На ближнем заседании совета губернатор высказал свои опасения.
— Итак,— начал он,— как раз в тот момент, когда наше дело близится к завершению и нам остается только пожинать плоды трудов своих, из-за проклятой случайности создается повод для всевозможных смут, неизбежно приводящих к разорению…
— Мне кажется,— прервал его Гарри Родс, оценивавший событие менее пессимистически,— что открытие залежей может вызвать некоторые беспорядки, но не разорение!
— Именно разорение! — настойчиво повторил Кау-джер.— Открытие месторождения золота всегда сопровождалось разорением.
— Однако золото — такой предмет купли-продажи, как и другие товары.
— Самый бесполезный из всех!
— Отнюдь нет. Самый полезный, поскольку его можно обменивать на все остальные.
— Что толку в том,— с жаром возразил правитель,— если для его приобретения приходится жертвовать всем! Ведь подавляющее большинство золотоискателей погибает в нищете. А те, которым повезло, совершенно теряют рассудок от головокружительного успеха и входят во вкус легкой жизни. Роскошь становится для них необходимостью, а материальные излишества так расслабляют, что они уже не способны к полезной деятельности. С обывательской точки зрения — они стали богачами, но с общечеловеческой, истинной — они превращаются в бедняков, перестав быть настоящими людьми.
— Я согласен с Кау-джером,— заявил Жермен Ривьер.— Ведь если колонисты забросят свои поля, потерянный урожай уже не возместить. Что толку в богатстве, если придется подыхать с голоду? Я очень боюсь, что остельцы не смогут противостоять тлетворному[182] влиянию желтого металла. А кто может поручиться, что в погоне за ним земледельцы не оставят свои пашни, а рабочие — машины?
— Золото!… Жажда богатства! — повторял Кау-джер.— Самое ужасное бедствие, какое только могло постичь нашу колонию!
Гарри Родс заколебался.
— Допустим даже, что вы правы. Но мы же все равно не в состоянии предотвратить это.
— Дорогой Родс,— ответил Кау-джер,— бороться можно с любой эпидемией и так или иначе пресечь или хотя бы ограничить ее распространение. Но, увы, средства против золотой лихорадки не существует. Ее возбудитель — один из самых вредных микробов, разрушающий всякий сплоченный коллектив. Можно ли сомневаться в его силе, после того что произошло в золотоносных районах Старого и Нового Света, в Австралии, Калифорнии и в Южной Африке? Все производительные работы были заброшены уже на следующий день после нахождения драгоценного металла. Колонисты покинули свои семьи и устремились из городов и деревень к месторождениям золота. А потом они быстро, как всякую легкую добычу, промотали свое богатство и снова стали нищими.
Губернатор говорил со страстной убежденностью, свидетельствовавшей о глубокой тревоге.
— Опасность надвигается не только изнутри,— продолжал он,— но и извне. В районы месторождений устремляются со всех концов света полчища бродяг и авантюристов, вносящие повсюду смуты и дезорганизацию. Они как саранча уничтожают все на своем пути. Вот почему и нашему острову угрожает подобное несчастье!
— Но неужели ничего нельзя сделать? — взволновался Гарри Родс.
— Нет,— ответил Кау-джер, — слишком поздно. Трудно даже представить себе, с какой быстротой разносится известие об открытии золотых россыпей. Можно подумать, что новость передается по воздуху, что эта зараза, поражающая даже самых разумных людей, переносится ветром…
Совещание закончилось, но члены совета не приняли никакого решения. Да и что они могли поделать? Как правильно сказал губернатор, борьба против этой болезни невозможна.
При первых же признаках весны опасения его подтвердились. С самого начала оттепели наиболее предприимчивые и отважные либерийцы отправились на поиски драгоценного металла к «Золотому Ручью», как окрестили маленькую речушку, на берегу которой злополучная пуля Эдуарда Родса отбила кусок скалы. За ними, несмотря на все уговоры Кау-джера и его друзей, последовало множество других колонистов. Начиная с 5 ноября сотни остельцев как одержимые бросились в горы на поиски богатства.
Разработка участков в общем-то не представляет особых трудностей. Если обнаружена золотая жила[183], надо просто следовать за ее ходом, отбивая куски скалы киркой, а потом измельчить их, отделяя содержащиеся в камне крупинки золота. Так делают в копях[184] Трансвааля. Но легко сказать «проследить жилу»! Иногда направление ее так запутано и она так внезапно исчезает, что даже самые опытные геологи становятся в тупик. В тех случаях, когда она уходит глубоко в землю, приходится устраивать рудники, что связано со многими неожиданностями и опасностями. Кварц, содержащий золото,— чрезвычайно твердый минерал, для измельчения которого невозможно обойтись без дорогостоящих машин. Так что добыча ценного металла не всегда под силу отдельным личностям и выгодна только мощным компаниям, располагающим большими капиталами и рабочей силой.
Поэтому одни золотоискатели — «добытчики», как их часто называют,— которым посчастливится найти залежи золота, довольствуются тем, что делают заявку на данный участок, а затем спешат перепродать его банкирам и разным дельцам.
Другие же, предпочитая вести разработку своими средствами, даже и не помышляют об организации рудников. Они отыскивают поблизости от золотоносных скальных пород участки наносных земель, размытых водой. Расслаивая породу, вода (в виде льда, дождя или потока) непременно уносит с собою частички металла, которые легко обнаружить в почве. Для этого достаточно иметь под рукой простой лоток для промывки песка и воду.
Ясно, что остельцы могли работать только самыми примитивными инструментами. Первые результаты оказались довольно обнадеживающими. Берега Золотого Ручья на участке длиной в несколько километров и шириной двести — триста метров были покрыты слоем ила глубиной до восьми футов. Из расчета, что на один кубический фут приходилось девять-десять лотков, можно было заключить, что запасы золота весьма обильны, потому что при промывке почти в каждом лотке оказывалось, по крайней мере, несколько зерен.
Правда, вместо самородков находили только песок, и здесь не приходилось рассчитывать на миллионные богатства, как в золотоносных районах других стран. Однако драгоценного металла было достаточно, чтобы вскружить голову беднякам, которые до сего времени зарабатывали на жизнь своим горбом.
Было бы большой административной ошибкой не регламентировать[185] так или иначе эксплуатацию залежей. В конце концов месторождение золота являлось общественной собственностью. Что бы ни думал по этому поводу сам Кау-джер, он больше никогда не высказал собственного мнения и, рассматривая этот вопрос с точки зрения большинства колонистов, старался отыскать решение, наиболее приемлемое для всего коллектива. В течение зимы он часто совещался с Диком, которого сознательно привлекал к обсуждению всех важнейших дел и вопросов. Обменявшись мнениями, оба пришли к заключению, что необходимо: во-первых, всемерно препятствовать уходу остельцев на прииски; во-вторых, добытые богатства использовать на благо всей колонии и, наконец, по возможности ограничивать прибытие на остров Осте чужеземцев, которые обязательно ринутся со всех концов земли.
Закон, принятый в конце зимы, отвечал этим требованиям. Прежде всего добыча золота разрешалась только после надлежащего оформления прав на владение участком. Затем устанавливался максимальный масштаб участков. И наконец, закон обязывал предпринимателей не только платить колонии за полученный участок, но и отчислять в ее пользу четвертую часть дохода. Права на золотоносные земли предоставлялись исключительно остельским гражданам, а остельское подданство приобреталось только после года фактического проживания на острове и с личного разрешения губернатора.
Закон был обнародован, оставалось провести его в жизнь.
С самого начала возникли неизбежные при этом трудности. Колонисты, отнесшиеся спокойно к пунктам закона, дававшим им преимущество, возмутились теми положениями, которые накладывали на них определенные обязательства. Зачем оформлять и платить за право приобретения земли, когда можно сразу же разрабатывать приглянувшийся участок? Разве не все имеют право копаться в земле и промывать речной песок? Почему же их вынуждают отдавать часть заработанного продукта тем, кто не принимал никакого участия в их труде?
В глубине души Кау-джер разделял это недовольство. Но, взяв на себя ответственность за управление колонией, он должен был жертвовать своими принципами, даже если находил их как нельзя более применимыми в данной ситуации.
Стала совершенно очевидной необходимость поощрения наиболее благоразумных колонистов, сумевших противостоять всеобщему безумию и не бросивших работу. Наилучшей формой такого поощрения явилось обеспечение их хоть и небольшой, но постоянной долей из общей добычи золота.
В случаях неповиновения закону приходилось применять силу.
Кау-джер располагал в Либерии только небольшим милицейским отрядом из пятидесяти человек, но, кроме того, девятьсот пятьдесят остельцев значились в призывном списке, откуда, по мере прибытия нового пополнения, увольнялись старослужащие. Таким образом, всегда имелась под рукой тысяча вооруженных человек.
Была объявлена всеобщая мобилизация.
На призывной пункт явилось всего семьсот пятьдесят остельцев. Двести уклонившихся от воинской повинности занимались промывкой песка в районе Золотого Ручья.
Кау-джер разделил свои вооруженные силы на две группы. Пятьсот человек получили задание следить за побережьем, дабы воспрепятствовать тайной переправке драгоценного металла. Сам же губернатор, во главе трехсот человек (составлявших три отряда под командованием наиболее надежных людей), направился в районы месторождений золота.
Они вышли через полуостров к подножию гор Сентри-Боксис, а оттуда двинулись на север, тщательно прочесывая местность. Всех встречных золотоискателей, не оформивших права на участок и не подчинившихся закону, безжалостно прогоняли.
Вначале удалось добиться некоторого успеха. Одним колонистам пришлось заплатить наличными за право эксплуатации участков, границы которых устанавливались гут же. Другие (и таких оказалось большинство), не имевшие нужной суммы, вынуждены были отказаться от разработок. По этой причине число добытчиков резко сократилось.
Но вскоре выяснилось, что незаплатившие ночью обходили отряды Кау-джера и возвращались на то же самое место, откуда их прогнали накануне…
В общем, золотая зараза, распространяясь, поражала весь остров, как чума. Безумие охватывало все новые и новые группы остельцев, воодушевленных успехами первых удачников. Теперь берега Золотого Ручья и горы центральной и северной части острова кишели желающими разбогатеть.
Однако колонисты вскоре сообразили, что золотоносные месторождения могут находиться не только на болотистой равнине, у подножия Сентри-Боксис. Поскольку наличие золота на острове было доказано, имелись все основания полагать, что его можно найти и по берегам других речушек и ручьев. И вот повсюду начались поиски — от мыса полуострова Харди до оконечности полуострова Пастер у пролива Дарвин.
На нескольких участках действительно нашли немного металла, что еще больше усилило всеобщий ажиотаж. Золотая лихорадка нарастала и за несколько недель почти начисто опустошила Либерию, поселения и отдельные фермы: мужчины, женщины, дети — все кинулись на поиски. Кое-кому посчастливилось наткнуться на горную складку, где под действием проливных дождей образовались скопления самородков, и они сразу разбогатели. Но и тех, кто в течение многих дней, умирая от усталости, проработал впустую, все еще не покидала надежда. Из столицы, сельских местностей, рыбных промыслов, с заводов и прибрежных факторий все бросились к месторождениям золота. По-видимому, оно обладало такой притягательной и непреодолимой силой, которой разум человеческий не мог противостоять. Вскоре в Либерии осталось не более сотни жителей, не изменивших своим семьям и занятиям, хотя их предприятия сильно пострадали от создавшегося положения…
Одни только индейцы, недавно поселившиеся на Осте, не поддались губительному азарту. К чести этих скромных тружеников следует сказать, что их рыболовецкие артели не распались и плантации не заросли сорняками, ибо никто из них не ушел на поиски золота. Все это объяснилось только природной честностью огнеземельцев. Эти бедняки еще издавна привыкли повиноваться своему покровителю, так что им и в голову не приходило отплатить Кау-джеру черной неблагодарностью за его бесчисленные благодеяния.
События продолжали стремительно разворачиваться. Настал момент, когда экипажи кораблей, стоявших на рейде, последовали примеру остельцев. С каждым днем увеличивалось число дезертиров. Без всякого предупреждения матросы, одурманенные волнующим золотым миражем, покидали свои суда и уходили в глубь острова. Капитаны, напуганные резким уменьшением состава корабельных команд, спешили покинуть Новый поселок, даже не завершив операций по погрузке или разгрузке судов. Можно было не сомневаться в том, что они оповестят весь мир о грозившей опасности и отныне корабли всех стран будут избегать Осте.
Эпидемия не пощадила даже тех, кто должен был бороться с нею. Отряд Кау-джера, созданный для охраны побережья, вскоре распался. Из пятисот человек не набралось бы теперь и двадцати. Другой отряд, которым он командовал сам, тоже таял, как лед на солнце. Не проходило ночи, чтобы несколько беглецов не воспользовалось темнотой. За две недели от трехсот человек осталось не более пятидесяти.
Все это чрезвычайно огорчало Кау-джера. Человечество еще раз цинично продемонстрировало перед ним свои постыдные пороки — перед ним, кто так страстно жаждал творить добро и после долгого уединения вновь полюбил людей! Все созданное таким тяжким трудом рушилось в один миг… И подумать только! Из-за какого-то ничтожного осколка камня, расцвеченного несколькими желтыми крупинками, тысячи несчастий обрушились на бедную колонию…
Бороться? Нет, теперь уже невозможно. Даже самые рассудительные люди покинули губернатора. Теперь уже не обуздать обезумевшее население при помощи жалкой горстки людей. Правда, пока еще они подчинялись Кау-джеру, но в любую минуту тоже могли ему изменить.
Правитель возвратился в Либерию. Да, ничего уже нельзя было сделать. Как смерч, опустошающий все на своем пути, золотая лихорадка охватила и поразила весь остров. Приходилось только ждать, когда она сама утихнет, и в какой-то момент показалось, что она пошла на убыль. В середине декабря некоторые горожане начали возвращаться в Либерию, а в последующие дни приток их усилился. На каждого ушедшего на прииск колониста приходилось по два вернувшихся, которые с унылым видом принимались за обычные дела.
Возвращались главным образом по двум причинам. Во-первых, ремесло золотоискателя оказалось не таким легким, как предполагали вначале. Дробить киркой скалу или с утра до вечера промывать песок — тяжелый труд, это может выдержать лишь тот, кто надеется на быстрое обогащение. А некоторых колонистов, воображавших, что можно просто подбирать самородки, постигло жестокое разочарование. На одного счастливца, наткнувшегося на золотую жилу, приходилось сотни неудачников, кому такое занятие — куда тяжелее, чем обычная работа. Несомненно, на острове водилось золото, но не в тех количествах, чтобы его можно было загребать лопатой, как наивно думали вначале. Отсюда и горькое разочарование, постигшее особенно тех, кто слишком рьяно предавался несбыточным мечтам.
Замедление торговых операций и почти полное прекращение сельскохозяйственных работ отражалось на стоимости товаров первой необходимости. Правда, пока всего было вдоволь, но цены невероятно возросли. Радоваться могли только те, кому была выгодна погоня за золотом. И наоборот, взвинчивание цен порождало нищету среди тех остельцев, кто, найдя несколько небольших самородков, не возместил потерю обычных заработков.
Никаких заблуждений по этому поводу у Кау-джера не было. Он не только не ожидал благоприятного перелома, но с обычной своей прозорливостью угадывал во мраке будущего новые опасности. Нет, кризис еще не наступил. Наоборот, болезнь только начиналась. До сих пор приходилось иметь дело лишь с местным населением, но так будет не всегда. Как только станет известно о новом месторождении золота, на несчастный остров неизбежно обрушатся со всего света страшные орды золотоискателей, горящих ненасытной алчностью.
И вот, 17 января, в Новый поселок прибыл первый транспорт. На берег сошло около двухсот крепких мужчин, решительных, суровых и грубых. У некоторых за поясом поблескивали большие ножи, и у всех на брюках (иногда весьма потрепанных) пришит был специальный карман, оттопыренный револьвером. На плече они несли кирку и мешок со своими жалкими пожитками. На левом бедре при каждом шаге позвякивали прикрепленные к поясу металлическая фляга, миска и лоток для промывки песка.
Кау-джер с грустью наблюдал за их высадкой. Эти двести бродяг явились первым звеном цепи, которая в будущем опояшет зловещим кольцом весь остров…
Начиная с этого дня партии золотоискателей прибывали с небольшими промежутками одна за другой. Едва ступив на землю, пришельцы, как люди, привычные к выполнению всяческих формальностей, направлялись прямо в управление, где, знакомясь с действующими постановлениями, единодушно находили их непомерно строгими. Потом, оставив мысль об узаконении своего положения, чужеземцы расходились по городу. Малочисленность жителей и умело добытая информация о положении дел в государстве быстро убеждали их в слабости остельской администрации. Поэтому они решались обойти законы, безнаказанно нарушаемые даже самими колонистами, и, проблуждав несколько дней по пустынным улицам Либерии, покидали город, направляясь прямо на поиски золотоносных участков.
Но настала зима, и вместе с прекращением разработок приостановился и поток приезжих. Последний корабль, доставивший в Новый поселок партию золотоискателей, прибыл 24 марта. К этому времени на острове находилось более двух тысяч авантюристов.
Этот же корабль увез ноту правительства Осте ко всем государствам земного шара. Кау-джер, с болью в сердце наблюдавший за вторжением чужеземцев, доводил до сведения всех и вся, что, ввиду перенаселения остельской колонии, въезд на ее территорию воспрещен и в случае самовольной высадки иностранцев против них будет применена сила.
Окажется ли эта мера эффективной, покажет будущее, но в глубине души губернатор сомневался в ее действенности. Слишком сильна притягательная власть золота для некоторых людей, чтобы их можно было чем-нибудь остановить…
Впрочем, зло уже совершилось. Бунт остельцев… неизбежное, уже начавшееся обнищание… вторжение разного сброда, привносящего с собой все существующие на земле пороки,— это само по себе являлось катастрофой.
Что же делать? Ничего, только ждать лучших времен… если таковые вообще наступят. Хальг, Кароли, Хартлпул, Гарри и Эдуард Родсы, Дик, Жермен Ривьер и еще десятка два надежных людей противостояли всем остальным.
Это был священный оплот, последние преданные бойцы, объединившиеся вокруг Кау-джера, который мог только наблюдать за разрушением величайшего дела своей жизни.
Глава XII РАЗГРАБЛЕННЫЙ ОСТРОВ
Так закончился первый акт «золотой трагедии», которая, как настоящая театральная пьеса, состояла из нескольких действий, разделенных антрактами.
Драматические события, легшие в основу первого акта, сразу же нарушили безмятежную жизнь колонии. Несколько остельцев исчезло навсегда.
Никто не знал, что с ними сталось, но обстоятельства наводили на мысль, что они оказались жертвами несчастного случая или драки; поэтому родные носили по ним траур.
Общее благосостояние острова резко упало. Правда, нехватки предметов первой необходимости пока не ощущалось, но цены повысились еще в три-четыре раза.
При этом пострадали наименее обеспеченные колонисты. Тщетно Кау-джер пытался подыскать им занятие. Почти полное прекращение частной торговли настораживало остельцев. Никто не решался создавать новые предприятия. Государственная казна опустела. Общественные работы также приостановились. Какая злая ирония судьбы! Стране не хватало золота именно тогда, когда его в изобилии обнаружили в земле!
Откуда же правительство могло взять средства? Только некоторые остельцы заплатили за право приобретения участков, но никто не сделал ни единого взноса по отчислениям с добычи, как предписывал закон. Обнищание населения привело к резкому сокращению общей суммы налогов. Денежные поступления в казну почти прекратились.
Личные фонды Кау-джера были исчерпаны. Он широко пользовался ими в течение всего лета, чтобы из-за возникших финансовых затруднений не прерывать работ по сооружению маяка на мысе Горн. Но золотая лихорадка не пощадила и строительных рабочих. Поэтому окончание стройки значительно задерживалось.
Среди счастливчиков, которых фортуна[186] озарила улыбкой, оказался и Кеннеди, бывший матрос с «Джонатана». Превратившись в богача, он вел себя так вызывающе, что о его необыкновенном везении узнали все колонисты.
Сколько золота нашел он? Никто, да, наверно, и сам он, не знал этого. Возможно, матрос даже не умел считать. Однако, судя по его тратам,— немало. Он полными пригоршнями разбрасывал свое богатство. Конечно, не в виде монет, имеющих официальный курс во всех цивилизованных странах, а в виде самородков и драгоценного песка.
Кеннеди приобрел барские замашки: уверенно разглагольствовал обо всем, корчил из себя миллиардера и каждому встречному и поперечному объявлял о своем намерении в ближайшее время уехать из города, где не может обеспечить себе соответствующую жизнь.
Никто не знал и о том, откуда взялось его богатство и вообще, где находится участок бывшего матроса. Когда его об этом спрашивали, он напускал на себя таинственный вид и, не отвечая на вопрос, переводил разговор на другую тему. Если либерийцам и доводилось летом видеть Кеннеди, то отнюдь не за работой — сунув руки в карманы, он независимо разгуливал по улицам города. Колонисты запомнили эти встречи, потому что в ряде случаев они предшествовали постигшим их несчастьям. Через несколько часов или дней после подобных встреч у них исчезало все добытое ими золото. К сожалению, вора не смогли найти. Когда же все пострадавшие собрались вместе и установили, что кражи всегда совпадали с присутствием поблизости Кеннеди, на него пали тяжкие подозрения, хотя прямых улик не было.
Выведенный из терпения Кау-джер решил применить силу. Слишком уж открыто издевались над законами Кеннеди и ему подобные. Правда, пока приходилось терпеть эти бунтарские выходки, но при первой возможности следовало их пресечь. А тем временем наступившие холода прогнали колонистов с промыслов. Все вернулись домой, причем большинство не могло похвастать особыми успехами. Снова восстановилась служба милиции, и люди, входившие в ее состав, казались преисполненными благих намерений.
И вот однажды утром, без всякого предупреждения, милиция во главе с Хартлпулом явилась к либерийцам, особенно кичившимся[187] своим богатством, и произвела у них тщательный обыск. От обнаруженного золота отделили четвертую часть, а из оставшегося конфисковали еще двести аргентинских пиастров в счет оплаты права на приобретение золотоносного участка.
Кеннеди хвастал не зря. У него действительно нашли золота, по крайней мере, на семьдесят пять тысяч франков, считая во французской валюте. И именно он оказал самое упорное сопротивление милиции во время обыска. Приходилось все время пререкаться с бывшим матросом, изрыгавшим яростные проклятия.
— Бандиты! — вопил он, грозя кулаком Хартлпулу.
— Ну, уж будто! — невозмутимо отвечал тот, продолжая обшаривать помещение.
— Вы мне за это заплатите! — угрожал Кеннеди, выведенный из себя хладнокровием бывшего боцмана.
— Вот как? А мне кажется, что сейчас платить придется тебе! — смеялся тот.
— Мы еще с тобой увидимся!
— Когда тебе будет угодно. По мне, чем позднее, тем лучше!
— Вор! — заорал Кеннеди в совершенном бешенстве.
— Ошибаешься! — добродушно возразил Хартлпул.— И я докажу тебе это тем, что из твоих пятидесяти трех килограммов золота возьму только тринадцать кило двести пятьдесят граммов — точно одну четвертую часть плюс стоимость двухсот пиастров — ты знаешь, за что. Само собой разумеется, что за свои деньги ты…
— Мерзавец!
— …получаешь право на золотоносный участок…
— Разбойник!
— …при условии, что укажешь, где он находится.
— Грабитель!
— Не хочешь!
— Каналья!
— Ну, воля твоя, мой милый,— сказал Хартлпул, положив конец этой сцене.
В итоге обыски дали казне около тридцати семи килограммов золота, что составляло во французской валюте около ста двадцати двух тысяч франков. В обмен на конфискованный драгоценный металл колонистам выдали документы на право разработки земельных участков. Только Кеннеди не воспользовался им и упорно скрывал, где добыл такое богатство.
Собранное золото передали в государственную казну. Весной, когда возобновятся связи с остальным миром, его можно будет обменять на валюту по курсу дня. А пока что Кау-джер, широко обнародовав результаты обысков, выпустил на соответствующую сумму бумажные деньги, принятые населением с полным доверием. Этот шаг позволил несколько облегчить положение колонии.
Кое-как пережили зиму и дотянули до весны. И опять прежние причины привели к прежним последствиям. Как и в прошлом году, Либерия опустела. Полученный урок не пошел впрок. Колонисты как исступленные устремились на поиски золота, словно игроки, проигравшиеся в пух и прах, бросают на стол свои последние гроши в нелепой надежде сорвать банк.
Кеннеди ушел одним из первых. Однажды утром он исчез, отправившись, вероятно, на свой таинственный участок. Остельцы, собиравшиеся проследить за ним, остались ни с чем.
Даже милиция, такая надежная и преданная губернатору зимой, снова растаяла словно снег от солнечных лучей. Кау-джеру, который опять мог рассчитывать на помощь лишь самых близких друзей, не оставалось ничего иного, как безучастно наблюдать за вторым актом трагедии, развернувшейся на Осте.
Но теперь сцены сменялись гораздо быстрее, чем в первом акте. Уже через несколько дней начали возвращаться домой кое-кто из либерийцев. Затем их приток постепенно усилился. Милицейская служба была восстановлена вторично. Люди молча принимались за оставленную работу. Кау-джер не делал никаких замечаний, полагая, что сейчас не время для строгостей.
Получаемые сведения говорили, что подобное происходило и в центральных районах острова: все спешили вернуться на свои фермы, заводы, фактории. Это движение было таким же массовым, как и причины, его породившие.
Оказалось, что в этом году золотоискатели попали в совершенно иные условия, чем в прошлом. Тогда они находились среди своих колонистов, а сейчас в игру вступили чужеземцы, с которыми нельзя было не считаться. И какие чужеземцы! Отбросы общества, привыкшие к лишениям, не боявшиеся ни страданий, ни смерти, озверевшие, безжалостные к себе и к другим. Остельцам пришлось отвоевывать участки у этих стяжателей, захвативших еще в начале сезона самые лучшие земли. После непродолжительной борьбы большинство колонистов отступило.
Настало время дать решительный отпор нашествию, возникшему в конце прошлого года и повторившемуся теперь в еще больших масштабах. Еженедельно два-три парохода доставляли новые партии золотоискателей. Напрасно Кау-джер пытался воспрепятствовать их высадке. Пришельцы, не считаясь с формальными запретами, сходили на берег и, прежде чем отправиться в золотоносные районы, наводняли Либерию буйными ватагами.
Отныне в Новый поселок прибывали почти исключительно суда с золотоискателями. Другим кораблям нечем было заполнить свои трюмы: торговые и промышленные операции прекратились. Запасы строевого леса и пушнины истощились в первую же неделю навигации. А что касалось скота и зерна, то Кау-джер решительно воспротивился их вывозу, опасаясь голода.
Но как только, губернатор смог располагать двумя сотнями человек, положение захватчиков острова стало менее убедительным. Когда приказы правителя начали подкрепляться оружием, добытчикам пришлось их исполнять. После тщетных попыток обойти строгие постановления остельского правительства пароходы вынуждены были удаляться в открытое море, увозя с собой живой груз.
Вскоре выяснилось, что их уход являлся лишь хитрой уловкой. Отступив перед силой, корабли огибали восточный или западный берег острова и, укрепившись в какой-нибудь безлюдной бухте, высаживали пассажиров на шлюпках. Летучие отряды, созданные для наблюдения за побережьем, были не в силах противодействовать им. Кто хотел сойти на берег, всегда достигал своей цели. Приток иностранцев все увеличивался.
Беспорядки в центральных районах острова достигли апогея[188]. Там происходили сплошные пьянки и оргии[189], прерываемые ссорами, точнее — кровавыми стычками, во время которых пускались в ход ножи и пистолеты. И, подобно тому как трупы привлекают гиен и стервятников, так и за полчищами бродяг шли самые разложившиеся элементы. Последующие партии проходимцев даже и не помышляли о том, чтобы корпеть[190] над добычей металла. Стоило ли этим заниматься! Для них золотоносными участками и золотыми жилами являлись сами добытчики, гораздо легче поддающиеся эксплуатации, нежели трудная почва. По всему острову (за исключением Либерии, где приходилось считаться с властью Кау-джера) открылось множество кабаков и баров. Появились даже притоны самого низкого пошиба, выстроенные из досок прямо в открытом поле. Там опустившиеся женщины пленяли пьяных золотоискателей своими прелестями, распевая хриплыми голосами непристойные песенки. Во всех этих злачных заведениях потоками лился спирт — источник многих бед.
Но Кау-джер все еще не терял мужества. Оставаясь на своем посту, он являлся той точкой опоры, вокруг которой в недалеком будущем объединятся остельцы, когда утихнет буря и когда придется заново реорганизовывать колонию. Правитель прилагал все усилия, чтобы — еще раз! — завоевать доверие населения, к которому медленно, но верно возвращался разум. Казалось, ничто не могло сокрушить Кау-джера. Сознательно закрывая глаза на измену колонистов, он терпеливо и неуклонно продолжал выполнять обязанности губернатора, не забывая даже о строительстве маяка, в которое вкладывал всю душу. По его распоряжению Дик совершил летом поездку на мыс Горн. Несмотря на беспорядки, работы не прекращались ни на один день, хотя темп их значительно снизился. К концу лета маяк будет закончен и машины установлены. Монтаж займет не более одного месяца.
К 15 декабря половина остельцев вернулась к своим обычным занятиям, хотя в центральной части острова еще царил хаос.
Как раз в это время к Кау-джеру явились неожиданные гости — англичанин и француз, только что прибывшие на пароходе. Они сразу прошли в управление, где были немедленно приняты губернатором, и, представившись как Морис Рейно (француз) и Александр Смит (англичанин), без лишних слов заявили, что хотели бы получить концессию.
Правитель горько усмехнулся:
— Позвольте спросить, господа, известно ли вам, что происходит на Осте?
— Известно,— ответил француз.
— Но все же нам бы хотелось действовать по закону,— добавил англичанин.
Кау-джер посмотрел на собеседников более внимательно. Хотя они принадлежали к разным нациям, в них было нечто общее, свойственное многим предприимчивым людям. Оба молодые — не старше тридцати,— широкоплечие, румяные. Коротко подстриженные волосы открывали высокий умный лоб. Энергичный подбородок мог бы придать их физиономиям некоторую жесткость, если бы общее выражение лица не смягчалось ясным взглядом голубых глаз.
Впервые Кау-джер увидел располагающих к себе золотоискателей.
— Ах, так вы уже знаете об этом законе,— сказал он,— хотя, кажется, только что прибыли?
— Вернее, только что возвратились,— поправил его Морис Рейно.— В прошлом году мы пробыли здесь несколько дней, произвели разведку и наметили участок для приобретения.
— Общий?
— Общий,— ответил Александр Смит.
Кау-джер возразил с искренним сожалением:
— Раз уж вы так хорошо осведомлены обо всем, вам должно быть известно, что я не могу удовлетворить вашу просьбу, поскольку закон, которому вы хотите подчиниться, предоставляет права на золотоносные участки только остельским гражданам.
— Это касается лишь участков для поверхностной разработки,— возразил Рейно.
— А что же хотите вы?
— Мы говорим о рудниках, а по этому поводу в законе ничего не сказано.
— Да, это так,— согласился Кау-джер,— но разработка рудников — предприятие сложное, требующее больших капиталов…
— Деньги есть,— прервал его Смит,— за ними мы и ездили в Англию.
— С финансовой стороны все улажено,— добавил Рейно,— мы представляем здесь «Франко-английскую золотопромышленную компанию». Мой друг Смит — главный инженер, а я — директор. Общество, основанное в Лондоне десятого сентября прошлого года, располагает капиталом в сорок тысяч фунтов стерлингов[191]. Половина этой суммы внесена нами, другая же половина является оборотным капиталом. Если договоримся (в чем я не сомневаюсь), мы отправим с пароходом, которым приехали, наши распоряжения. Не пройдет и недели, как начнутся работы. Через месяц пришлют первые машины, а к будущему году предприятие будет полностью оснащено всем необходимым оборудованием.
Кау-джер, весьма заинтересованный этим предложением, соображал, как лучше поступить, поскольку имелись доводы «за» и «против». Решительный характер и искренность молодых людей понравилась губернатору. Но разрешить «Франко-английской компании» основать на Осте крупное предприятие?… Не создаст ли это в будущем почвы для международных осложнений? Не попытаются ли когда-нибудь Франция и Англия, под предлогом защиты своих государственных интересов, вмешаться во внутренние дела колонии?
В конце концов Кау-джер решил дать положительный ответ. Не стоило отказываться от такого выгодного контракта. Поскольку золотая лихорадка отныне превратилась в роковую неизбежность, целесообразно не допускать ее распространения по всей территории острова и, ограничив эпидемию несколькими очагами, разбить все районы между отдельными крупными акционерными обществами.
— Согласен,— сказал он.— Однако раз дело касается подземных работ, я считаю, что условия, предусмотренные для передачи участков в индивидуальное пользование, должны быть изменены.
— Как вам будет угодно,— ответил Морис.
— Следует установить плату за гектар.
— Идет.
— Скажем, сто аргентинских пиастров?
— Договорились.
— Какова площадь вашей концессии?
— Сто гектаров.
— Значит, десять тысяч пиастров.
— Вот они,— сказал Рейно, вынимая книжку и выписывая чек.
— Но, с другой стороны,— продолжал губернатор,— учитывая, что ваши издержки производства будут значительно выше, чем при разработке на поверхности, можно уменьшить отчисления с добычи золота до двадцати процентов.
— Отлично,— воскликнул Александр Смит.
— Итак, мы пришли к полному соглашению?
— По всем пунктам.
— Мой долг предупредить вас,— добавил Кау-джер,— что в течение некоторого времени остельское правительство не сможет гарантировать вам свободный доступ на предоставленную территорию, а также неприкосновенность личности.
Молодые люди только улыбнулись.
— Мы сумеем постоять за себя,— уверенно сказал Рейно.
Подписав соглашение и получив документы, оба друга сразу ушли. Через три часа они уже находились на пути к своей концессии, расположенной у западных отрогов центрального горного хребта.
Анархия, царившая в глубине острова, с наступлением лета усилилась. Воображение жителей Старого и Нового Света, подогретое слухами, наделяло Осте сказочными богатствами. Сонмы добытчиков устремились на «Золотой остров». Хотя порт их и не принимал, они все равно высаживались во всех ближайших бухтах. В последних числах января, судя по полученным сведениям, в районе острова скопилось не менее двадцати тысяч иностранцев. Несомненно, в случае наступления голода эти одержимые, уже теперь ведущие кровавые битвы за обладание участками, бросятся друг на друга и в конце концов перегрызутся насмерть.
К этому времени беспорядки на острове достигли предела. Среди оголтелого сброда разыгрывались невероятные, дикие сцены, в которых пострадало и несколько остельцев. Узнав об этом, Кау-джер сам отправился на участок, где происходило побоище, и смело бросился разнимать дерущихся. Но все его действия оказались безуспешными и чуть было не обернулись против губернатора. Его оттолкнули с бранью и угрозами, он просто чудом остался невредим.
Однако вмешательство правителя дало совершенно неожиданный результат. Пестрое скопище пришельцев состояло из бродяг не только разных наций, но и самых различных социальных слоев. Их объединяло глубочайшее моральное падение, но сильно разнило происхождение. Большинство вышло из грязных притонов, где укрываются в промежутках между преступлениями бандиты больших городов. Несколько человек принадлежали к известным аристократическим семьям и, прежде чем впасть в бесчестье, пьянство и разврат, обладали значительным состоянием.
Кто-то из этих последних (кто именно, так и осталось неизвестным) опознал правителя, как некогда командир «Рибарто». Но тогда чилийский капитан мог сослаться только на давнюю фотографию, золотоискатели же были уверены в своей памяти. Эти бродяги, скитаясь по белому свету, лично видели Кау-джера и, хотя с тех пор прошло немало времени, не могли ошибиться: губернатор Осте занимал тогда слишком видное положение в обществе и его черты не изгладились из их памяти. Тотчас же его настоящее имя начало передаваться из уст в уста. Это было известное имя, и оно действительно принадлежало ему.
Отпрыск правящей династии могущественной северной державы, предназначенный с самого рождения повелевать людьми, он вырос у подножия трона. Но судьба, любящая иногда такие шутки, наделила сына цезарей[192] с мятежной душой анархиста.
Едва он достиг зрелого возраста, как привилегированное положение в свете стало для него источником не радостей, а страданий. Видя окружавшую нищету, он сначала пытался хоть как-нибудь смягчить ее, но вскоре понял, что затея эта превышала его возможности. Ни его колоссального состояния, ни всей жизни не хватило бы для облегчения даже одной миллионной частицы людского горя. Чтобы забыться и умалить скорбь, вызванную сознанием собственного бессилия, Кау-джер ушел в науку, как другие — в наслаждения. Но, овладев специальностями врача, инженера, социолога, он так и не сумел найти средства обеспечить всем людям равные права на счастье. Разочарования утомили его. Кау-джер рассматривал людей как жертвы, которые веками борются вслепую с безжалостной природой и пытаются любыми средствами добиться победы. Он пришел к выводу, что причина всех их несчастий — несовершенные формы общественного строя, принятые человечеством лишь потому, что оно не знает лучших. Так родилась его глубокая ненависть к любым системам, в которых он видел источник вечного зла.
Не в силах мириться с возмущавшими его законами, Кау-джер не нашел иного выхода, как добровольно уйти из общества. В один прекрасный день, никого не предупредив, он отказался от сана[193] и богатства и пустился в поиски страны (вероятно, единственной!), которая была бы абсолютно независима. Так он обосновался па архипелаге Магеллановой Земли, где десять лет беззаветно служил самым обездоленным из людей. Но чилийско-аргентинское соглашение, а затем кораблекрушение «Джонатана» нарушили его безмятежную жизнь.
Только однажды, взяв в руки управление колонией, Кау-джер позволил себе вспомнить о былом величии. Он понимал, какие последствия могло иметь его бегство из цивилизованного мира. Иногда законы мало интересуются людьми, но зато зорко следят за сохранением их имущества. Пусть все позабыли о человеке, но состояние его тщательно береглось. Оно могло весьма пригодиться для организации колонии, и правитель открыл эту тайну Гарри Родсу. Снабдив своего друга необходимыми полномочиями, он послал его за золотом, тем самым золотом, которое теперь Осте возвращал ему с такой роковой щедростью!
Разглашение подлинного имени Кау-джера оказало совершенно противоположное воздействие на иноземных золотоискателей и на остельцев, хотя ни те, ни другие не оценили по достоинству высокие душевные качества этого человека.
Иностранцы, старые бродяги, исколесившие землю вдоль и поперек, слишком много видевшие на своем веку, чтобы преклоняться перед титулами, люто возненавидели его как врага. Неудивительно, что он ввел законы, столь жестокие по отношению к беднякам! Он был аристократ — этим все объяснялось.
Остельцы же, наоборот, обрадовались тому, что ими правил человек такого высокого положения. Это льстило их тщеславию и укрепляло авторитет Кау-джера.
Губернатор возвратился в Либерию в таком отчаянии, в таком подавленном настроении, что его ближайшие друзья стали поговаривать об отъезде с острова. Однако, прежде чем прибегнуть к этой крайней мере, Гарри Родс предложил обратиться за помощью к Чили. Может быть, следовало испытать еще один, последний, шанс на спасение?
— Чилийское правительство не оставит нас,— сказал он,— ведь в его же интересах восстановить порядок в колонии.
— Просить иностранной помощи? — возмутился Кау-джер.
— Если хотя бы один корабль из Пунта-Аренаса начнет крейсировать в виду острова,— возразил Гарри Родс,— этого окажется достаточным, чтобы утихомирить всех негодяев.
— Отправим Кароли в Пунта-Аренас,— предложил Хартлпул,— и не пройдет двух недель, как…
— Нет,— прервал его Кау-джер тоном, не допускавшим возражений,— я никогда не соглашусь на это. Ведь еще не все потеряно. Попробуем спасти колонию своими силами.
Пришлось покориться его стальной воле.
Спустя несколько дней, словно для того, чтобы подтвердить правоту губернатора, среди остельцев возникли волнения куда более сильные, чем прежде. В самом деле, положение на участках становилось невыносимым. Колонисты не могли тягаться с бессовестными захватчиками, для которых удар ножом оказывался самым естественным доводом в споре. Силы были слишком неравны. Поэтому остельцы, отказавшись от борьбы, возвращались под защиту правителя, которому — с тех пор как узнали настоящее имя — приписывали чуть ли не безграничную власть. Вскоре колонисты вернулись не только в Либерию, но и в другие селения.
Лишь Кеннеди остался на участке вместе с себе подобными проходимцами. О нем ходили скверные слухи. Как и в прошлом году, никто не видел, чтобы он работал киркой или промывал песок. Кстати, его присутствие в городе снова совпало с несколькими кражами, а два раза даже с убийствами. От подозрений до открытого обвинения оставался один шаг.
Однако сейчас не время и думать о том, чтобы сделать этот шаг. В стране, где царила страшная смута, произвести какое-нибудь расследование — даже если слухи и обоснованны — не представлялось возможным.
К концу лета остров оказался фактически разделенным на две совершенно различные зоны. В одной, большей,— пять тысяч колонистов, вернувшихся к нормальной жизни и обычным занятиям. В другой, на нескольких небольших участках, окружавших золотоносные земли, — двадцать тысяч пришельцев, способных на любое преступление, наглость которых усиливалась от сознания полной безнаказанности. Теперь они осмеливались появляться в Либерии, где вели себя как в побежденном городе: дерзко разгуливали по улицам с высоко поднятой головой, не раздумывая присваивали все, что им приглянулось. Если пострадавший протестовал, его избивали.
Наконец настало время, когда Кау-джер почувствовал себя достаточно сильным, чтобы вступить в открытую борьбу, и решился произвести опыт. В этот день золотоискатели, отважившиеся показаться в Либерии, были схвачены и без дальнейших околичностей посажены на единственный, специально зафрахтованный для этой цели пароход, стоявший в Новом поселке. Такая операция повторилась и в последующие дни, так что к 15 марта, к моменту снятия парохода с якоря, в трюме его находилось более пятисот крепко связанных пассажиров.
Быстрая расправа вызвала бурный взрыв негодования среди пришлого сброда в центральных частях острова. По дошедшим до Либерии слухам, волнение охватило все районы золотых приисков, и следовало ожидать общего мятежа. Не было ни одного безопасного места, росло число преступлений, грабили фермы, угоняли скот. В двадцати километрах от столицы произошло три убийства. Потом стало известно, что чужеземцы-золотоискатели встречаются, устраивают собрания, держат перед тысячными толпами речи, подстрекающие к бунту. Ораторы призывали к походу на Либерию, чтобы разрушить ее дотла.
Но проницательные люди самое страшное видели не в этом. Запасы продуктов на острове подходили к концу. Когда голод подведет животы обезумевших подонков, их ярость удесятерится, и тогда следует ожидать самого худшего…
И вдруг все успокоилось. Снова наступила зима, охладившая пылкие страсти. С неба, затянутого сероватой дымкой, на остров низверглась неумолимая лавина снежных хлопьев, словно опуская занавес после второго акта развернувшейся трагедии.
Глава XIII РОКОВОЙ ДЕНЬ
Золотая лихорадка, поразившая Осте, почти полностью приостановила производство. Положение колонии осложнялось еще и тем, что последнее продовольствие должно было распределяться среди населения, увеличившегося в несколько раз. Поэтому зимой 1893 года остельцам опять пришлось испытать жестокие лишения. За пять зимних месяцев Кау-джер не знал ни минуты покоя. Каждый день приносил с собою какие-нибудь новые трудности. Губернатор буквально разрывался на части, спасая погибающих от голода, оказывая помощь бесчисленным больным.
Несмотря на все его усилия, едва-едва удалось обеспечить Либерию только самым необходимым. А каково было в сельских местностях, особенно на золотоносных участках, где скопились тысячи людей, не имевших ни малейшего понятия о суровости климата и не принявших заранее никаких необходимых мер?
Теперь уже ничем нельзя было помочь этим непредусмотрительным пришельцам, очутившимся в снежной блокаде. Они могли рассчитывать только на те запасы, которые имелись в ближайших селениях. Но такое огромное количество голодных ртов наверняка мгновенно уничтожило бы все накопленное.
Как выяснилось впоследствии, некоторым золотоискателям все же удалось проникнуть довольно далеко в глубь острова. Между ними и местными фермерами произошли кровавые стычки. Жестокость человека превзошла жестокость природы: погода заметно потеплела, но не иссякли потоки крови, обагрявшие землю.
Лишь немногие смельчаки решались на дерзкие вылазки в центральные районы острова. Как же прожили эту зиму все остальные? Многие погибли от холода и голода. Ну, а каким образом обеспечили свое существование их более удачливые товарищи, навсегда осталось тайной.
Кау-джер прекрасно понимал, что подлинная опасность возникнет с первым же дыханием весны. Стает снег, просохнут дороги, и голодные орды растекутся во все стороны, грабя и разоряя остельские поселения…
Так оно и случилось. Через два дня после начала оттепели пришло известие о том, что на концессию «Франко-английской компании», управляемую Морисом Рейно и англичанином Александром Смитом, напала банда одичавших золотоискателей. Но молодые концессионеры сумели защитить себя. Собрав рабочих, которых теперь насчитывалось несколько сот, они не только отбили нападение, но и нанесли бандитам значительный урон.
Спустя несколько дней узнали о новых преступлениях, совершенных в северной части острова. Чужеземцы грабили фермы, изгоняли или просто-напросто убивали их владельцев. Настало время действовать.
По сравнению с прошлым годом положение в колонии значительно улучшилось. Весна хотя и вызвала бурные волнения среди разношерстной массы пришельцев, но никак не повлияла на существование остельцев. На сей раз они хорошо усвоили полученный урок: за исключением какой-нибудь сотни одержимых, продолжавших упорно искать золото, население Либерии оставалось на месте. Многие горожане, вернувшиеся с приисков, превратились в бедняков, потеряв при этом не только надежду на обеспеченное будущее, но и здоровье. Даже те, кто сколотил небольшое богатство, растратил его в кабаках и притонах. Теперь все колонисты осознали свое безрассудство и никому не хотелось повторять прошлые ошибки.
Итак, Кау-джер снова располагал милицейским отрядом в полном составе. Тысяча обученных, дисциплинированных людей, повинующихся опытным начальникам, представляла немалую силу. Несмотря на то что противник превосходил остельцев численностью раз в двадцать, губернатор не сомневался в победе колонистов. Еще несколько дней выжидания — пока подсохнут дороги,— и отряды Кау-джера смогут очистить весь остров от вторгшихся авантюристов.
Но те, предупредив планы губернатора, сами пришли к молниеносной и кровавой развязке, решившей судьбу Осте.
Третьего ноября, когда дороги еще напоминали собой настоящие болота, несколько фермеров примчалось на взмыленных конях к Кау-джеру с известием, что тысячный отряд золотоискателей движется на город. Никто не знал, каковы намерения этих людей, но, судя по их поведению и угрожающим выкрикам, вряд ли они были мирными. Губернатор быстро принял все необходимые меры. По его приказу милиция оцепила улицы, выходившие на площадь перед управлением, и стала ожидать дальнейших событий.
К концу дня эхо донесло до горожан пение и крики орды пришельцев, а вскоре они и сами добрались до Либерии. Надеясь захватить город врасплох, иноземцы были чрезвычайно удивлены, натолкнувшись на остельскую милицию, построенную в боевом порядке. Внезапный штурм города сорвался. Озадаченные бандиты остановились. Вместо неожиданного нападения приходилось начинать переговоры.
Они стали совещаться между собой. Затем главари банды заявили Хартлпулу, что хотели бы поговорить с губернатором. Кау-джер согласился принять десять человек.
Пришлось выбрать этих десятерых, что вызвало новые шумные распри. Наконец делегаты предстали перед строем милиции, которая разомкнула ряды, освобождая им проход. Маневр был выполнен по команде Хартлпула с поразительной точностью, не хуже, чем у опытных солдат. Это произвело впечатление на делегатов, особенно когда после их прохода милиция, по новой команде начальника, так же четко сомкнула свои ряды.
Кау-джер стоял в центре площади, позади войск. Он успел хорошо разглядеть посланцев, пока те подходили к нему. Их вид не внушал никакого доверия. Высокие, широкоплечие, они, несмотря на зимнюю голодовку, казались людьми, преисполненными сил. Большинство было одето в кожаные костюмы, потерявшие первоначальный цвет из-за густого слоя грязи. Всклокоченные волосы и косматые бороды придавали их физиономиям сходство со звериными мордами. Они по-волчьи сверкали глубоко посаженными глазами и на ходу угрожающе размахивали кулаками.
Кау-джер, не сделав ни одного шага навстречу, стоял неподвижно, ожидая, что они скажут.
Но те не спешили начать переговоры. Они выстроились перед Кау-джером полукругом, в замешательстве переминаясь с ноги на ногу. Их свирепая внешность оказалась обманчивой. Теперь они скорее напоминали напроказивших мальчишек, смущенных тем, что вдруг очутились вдали от товарищей, на этой большой площади, перед человеком, который возвышался над ними на целую голову и чья спокойная величавая осанка совершенно подавляла их.
Наконец, когда бродяги немного освоились и к ним вернулся дар речи, один делегат, выступив вперед, заявил:
— Губернатор, мы обращаемся от имени всех наших товарищей…
Оратор смущенно умолк. Кау-джер не искал ему нужные слова. Собравшись с духом, тот продолжил:
— Наши товарищи послали нас…
И опять остановился. Губернатор молчал.
— Ну, в общем, мы от них посланы, вот! — вмешался другой делегат, потеряв терпение.
— Знаю,— спокойно ответил Кау-джер.— Что же дальше?
Новое замешательство. А они-то еще собирались нагнать страху! Значит, их никто не боится?… Вновь наступило молчание. Затем третий посланец, с невероятно взлохмаченной бородой, собрав все свое мужество, приступил прямо к делу:
— Дальше?… Мы пришли с жалобой, вот что дальше!
— На что вы жалуетесь?
— На все. У нас ничего не ладится, потому что все здесь настроены против нас.
Несмотря на чрезвычайную остроту положения, Кау-джер не мог внутренне не улыбнуться, настолько забавным, даже комичным показалось ему такое заявление в устах одного из захватчиков.
— Это все? — спросил он.
— Нет,— ответил третий делегат, видимо более разговорчивый,— нам хотелось бы, чтобы золотоносные участки доставались не всякому, кто пожелает. За право владения нужно драться. Джентльмены (проходимец из Северной Америки употребил это слово совершенно серьезно) предпочли бы такой же закон, который существует повсюду… Он был бы более… официальным,— добавил он после минутного раздумья.
— Это все? — повторил правитель.
— Как сказать…— ответил бородач.— Но, прежде чем перейти к другому вопросу, джентльмены хотели бы получить ответ по поводу права на приобретение участков.
— Нет,— сказал Кау-джер.
— Что значит «нет»?
— Это ответ на ваше предложение,— уточнил губернатор.
Все делегаты разом подняли голову. В их глазах засветились злые огоньки.
— А почему? — спросил один из тех, кто до сих пор молчал.— Джентльменам нужно знать, какие у вас для этого основания.
Кау-джер не ответил. Как! Они еще осмеливаются спрашивать, какие у него основания? Разве не ясно? Разве закон (которому, правда, никто не подчинялся) не устанавливал определенную плату за право владения участками? Более того, разве этот всем известный закон не предоставлял права на золотоносные участки исключительно остельцам, отказывая в них чужеземцам, нагло вторгшимся на остельскую территорию?
— Так почему же? — повторил золотоискатель, не получив ответа.
Убедившись, что и второй вопрос не возымел действия, он ответил на него сам:
— Закон, может быть?… Знаем мы этот закон!… Что ж, при надобности можно ведь приобрести и права гражданства… Земля-то принадлежит всем.
Прежде и сам Кау-джер мыслил точно так же. Но теперь его взгляды изменились, и он перестал понимать подобные речи. Нет, земля принадлежит не всем, а только тому, кто ценою упорного и тяжкого труда покрывает ее золототканым ковром нив, превращая возделанную почву в кормилицу человечества.
— И кроме того,— продолжал бородач,— если уж кто говорит о законе, тот и должен прежде всего соблюдать его. А коли его нарушают даже те, кто его создали, так чего ожидать от остальных? Вот сегодня третье ноября. Почему не было выборов первого, раз срок полномочий правительства истек к этому времени?
Это неожиданное заявление поразило Кау-джера. Кто мог дать чужеземцу такие точные сведения? Несомненно — Кеннеди, который больше не показывался в Либерии. Но, как ни говори, замечание было справедливо. Срок действия полномочий, определенный самим же губернатором, добровольно учредившим выборную систему в колонии, в самом деле истек, и по закону следовало провести новые выборы еще два дня назад. Он не сделал этого потому, что не хотел обострять и без того тревожную обстановку для выполнения простой формальности — ведь все равно его полномочия будут возобновлены. Но разве это касалось людей, не имевших никакого права участвовать в выборах?
Тем временем делегат, ободренный спокойствием Кау-джера, продолжал более уверенно:
— Джентльмены требуют проведения выборов и права участия в них. Они имеют такое же право голоса, как и все другие, не так ли? Почему это пять тысяч человек будут навязывать свои законы двадцати тысячам? Это несправедливо…
Он сделал паузу, тщетно ожидая ответа правителя. Затем, обескураженный его упорным молчанием и желая показать, что высказался полностью, закончил:
— Вот так.
— Это все? — спросил в третий раз Кау-джер.
— Да…— ответил тот.— Хотя и не совсем… Ну, в общем, можно считать, что пока все.
Губернатор пристально посмотрел в настороженные глаза делегатов и спокойно заявил:
— Вот мой ответ. Вы явились в Осте против нашей воли. Даю вам двадцать четыре часа для безоговорочной капитуляции. После указанного срока я приму соответствующие меры.
По его знаку к нему подошел Хартлпул в сопровождении десяти стражников.
— Хартлпул,— приказал Кау-джер,— выведите этих людей!
Делегаты были озадачены, ошеломлены ледяным спокойствием губернатора и, окруженные колонистами, покорно удалились.
Но когда они вернулись к тем, кого обозначали словом «джентльмены», тон их резко изменился. Отчитываясь в выполненном поручении, они, дав волю накопившемуся и подавляемому до тех пор гневу, разразились шквалом бранных слов и страшных проклятий.
Это невообразимое красноречие возымело свое действие на толпу. Вскоре по донесшемуся дикому реву Кау-джер понял, что его ультиматум обнародован. К ночи волнение несколько улеглось, и все-таки до самого утра раздавались отдельные злобные выкрики невидимых в темноте пришельцев. Вероятно, они решили добиться своего и заночевали под открытым небом.
Остельская милиция дежурила всю ночь с оружием в руках.
Чужеземцы действительно не ушли из Либерии. Многие из них, утомленные ожиданием предстоящего сражения, улеглись прямо на земле, и утром улицы города, казалось, почернели от массы людей, лежавших вповалку на мостовой. Но при первых же солнечных лучах вся эта орава вскочила на ноги, неистово шумя и чертыхаясь.
Дома на улицах, занятых бандитами, казались необитаемыми. Если какой-нибудь любопытный остелец, приоткрыв ставни, выглядывал наружу, дикое улюлюканье сразу же вынуждало его захлопнуть окно.
Не договорившись о дальнейших действиях, мятежники продолжали бурно обсуждать создавшееся положение. Их число все увеличивалось и теперь доходило примерно до четырех-пяти тысяч. Разосланные ими ночью во все стороны гонцы привели подкрепление. Старатели из района Золотого Ручья уже прибыли в Либерию, но тем, кто находился в центральной части острова или на его северо-восточной оконечности, для этого потребовалось бы от одного до нескольких дней пути.
Их единомышленники, уже вторгшиеся в город, поступили бы умнее, дождавшись остальных. Тогда число бунтовщиков достигло бы десяти — пятнадцати тысяч, и положение Либерии, и так достаточно тяжелое, стало бы безнадежным.
Но горячие головы не смогли терпеливо выждать нужного момента.
Чем ближе был полдень, тем сильнее разгорались страсти. Возбуждение усталой толпы, подстегиваемое речами ораторов, все усиливалось.
К одиннадцати часам волнение накалилось до предела, и внезапно, в едином порыве, захватчики бросились на остельскую милицию. Та направила на них штыки. Нападавшие поспешно отступили, потеснив последние ряды. Во избежание случайного кровопролития Кау-джер отвел свои отряды, которые, точно выполнив отступательный маневр, заняли позицию перед управлением. Таким образом, улицы, выходившие на площадь, опустели. Золотоискатели, ошибочно истолковав истинный смысл этой акции, разразились оглушительными победными криками.
Пространство, освободившееся после отхода остельской милиции, моментально заполнилось бесновавшейся толпой. Однако торжествовать было еще рано. Милиция все так же преграждала ей путь. Тысяча человек, подражавших невозмутимости и выдержке Кау-джера, неподвижно стояла на месте с ружьями у ног. Золотоискатели хорошо знали, что у колонистов были усовершенствованные американские карабины[194], обойма[195] которых вмещала семь патронов. Итого — не менее семи тысяч выстрелов в минуту, при этом — в упор. Тут было над чем призадуматься даже самым отчаянным!
Сцена была поистине трагическая. По краям площади — разнузданная, ревущая, тысячеустая толпа, размахивающая кулаками, издающая нечленораздельные вопли. А на расстоянии тридцати метров, как раз напротив,— застывшие ряды остельской милиции, выстроенные в боевом порядке вдоль фасада управления. Позади нее — Кау-джер, в полном одиночестве на последней ступеньке лестницы. С тревогой наблюдая за непрерывным движением толпы, он пытался найти какой-то мирный выход из создавшейся острой ситуации.
Вдруг колонисты заметили среди золотоискателей знакомое лицо. Нападавшие вытолкнули вперед Кеннеди, по наущению[196] которого они пустились в эту опасную авантюру. Именно он сообщил им об истечении срока полномочий губернатора, подговорил их требовать прав гражданства и участия в выборах, уверяя, что покинутый всеми Кау-джер не сможет им противиться. А в действительности все обернулось иначе, и, натолкнувшись на вооруженное сопротивление, авантюристы справедливо рассудили, что тот, кто привел их под выстрелы, должен получить пулю первым.
Бывший матрос, жаждавший мщения, оказался в невыгодном положении. Куда делась вся его былая прыть! Бледный, дрожащий от страха, он имел теперь жалкий вид.
Но бандиты бесновались еще пуще. Нарастающий гнев заставил их перейти от угроз к действиям. На неподвижные отряды милиции обрушился град камней. События явно принимали скверный оборот. Несколько колонистов было ранено. Кау-джеру камень попал в голову. Он покачнулся, но спокойно вытер кровь, струившуюся по лицу, и опять замер на своем посту, наблюдая за действиями разъяренного сброда.
Целый час бушевал смертоносный каменный град. Затем нападавшие, убедившись, что так они ничего не добьются, как будто утихомирились. Камни летели реже, и казалось, что скоро все стихнет, как вдруг в толпе раздался дикий вопль. Что случилось? Кау-джер тщетно пытался разглядеть, что делается на соседних улицах. Там, вдали, происходило что-то необычное. Только через несколько минут стала понятна причина этого волнения.
Три золотоискателя огромного роста, прокладывая себе дорогу локтями, вышли вперед, словно показывая, что им наплевать на выстрелы. В самом деле, они могли не бояться пуль, ибо несли перед собою заложников, закрываясь ими, как щитами.
Бандитам пришла в голову дьявольская мысль: взломав двери какого-то дома, где жила молодая мать с ребенком и сестрой, они схватили обеих женщин и малыша. Теперь, прикрываясь своей живой ношей, они нагло шли на остельцев. Кто посмеет спустить курок, если первые же пули поразят невинные существа?
Женщины, полумертвые от страха, даже не пытались сопротивляться, а ребенок, которого великан зверской наружности держал на вытянутых руках, как бы предлагая в жертву некоему жестокому божеству, заливался радостным смехом.
Потрясающее зрелище превзошло все, что только мог себе представить Кау-джер. Даже этот закаленный человек содрогнулся и побледнел от ужаса. Дольше медлить было нельзя.
Иноземцы с неистовыми криками ринулись вперед. Они настолько обезумели, что даже не пожелали вступить в рукопашный бой, хотя при этом их численное превосходство обеспечило бы им победу. За двадцать метров начали стрелять из пистолетов в застывших как каменные глыбы колонистов. Один остелец упал.
Настал момент действовать. Иначе не пройдет и минуты, как бандиты сомнут ряды милиции, и тогда все население Либерии — мужчины, женщины и дети — будет безжалостно истреблено.
— Целься! — скомандовал бледный как смерть Кау-джер.
Милиция выполнила приказ с четкостью бывалых солдат. Одновременно все приклады поднялись до уровня плеч, и грозные дула направились на толпу мятежников.
Но те уже не владели собой, и никакая сила не могла остановить их. Снова загремели револьверные выстрелы. Упало еще три остельца.
— Огонь! — приказал Кау-джер охрипшим голосом.
Настал час, когда героической выдержкой в водовороте страшных событий колонисты отблагодарили его за все, что он когда-то сделал для них. Отныне они были в расчете. Но хотя любовь к Кау-джеру придала остельцам стойкость бойцов, они все-таки не были настоящими солдатами, едва нажав на курок, они потеряли власть над собой и дали не один-единственный залп по команде, а сразу же расстреляли все патроны. Раздался громовой раскат… За три секунды карабины изрыгнули семь тысяч пуль… Потом воцарилась гробовая тишина…
Защитники города стояли в оцепенении. Вдали виднелось несколько удиравших бандитов. Площадь опустела.
Опустела?… Да, если не считать целой горы трупов, залитых потоками крови. Сколько человек здесь погибло?… Тысяча?… Полторы?… Или еще больше?… Как знать!
Перед неподвижной грудой мертвых тел, рядом с убитым Кеннеди, лежали обе женщины. Одна, раненная в плечо, была мертва или в обмороке. Другая, оставшаяся невредимой, вскочила и, обезумев от пережитого страха, куда-то умчалась. Ребенок лежал тут же, среди убитых, в луже крови. Но — о чудо! — пули даже не задели его и, забавляясь новой игрой, он продолжал заливаться смехом.
Кау-джер, весь во власти жесточайших душевных мук, закрыл лицо руками, чтобы не видеть этого ужаса. На мгновение он словно лишился сознания. Затем медленно поднял голову.
Остельцы молча смотрели на правителя.
Но тот даже не взглянул на них. Застыв на месте, он, казалось, не в силах был оторвать глаз от мертвецов, и по его измученному, сразу постаревшему на десять лет лицу покатились крупные слезы.
Глава XIV ОТРЕЧЕНИЕ
Кау-джер плакал.
Какой острой болью отозвались в сердцах колонистов слезы такого человека! О каком невыносимом страдании говорили они!
Да, он скомандовал «огонь!». Да, по его приказу пули проложили кровавые следы в человеческой толпе. Но ведь сами же люди вынудили его к этому… Из-за них он уподобился тем гнусным тиранам, которых так люто ненавидел. А теперь и он запятнал себя кровопролитием и смертоубийством!
Больше того, еще не раз придется проливать кровь. Долг обязывал Кау-джера довершить начатое… И он мужественно приступил к его выполнению. Губернатор недолго оставался в угнетенном состоянии. Вскоре к нему вернулась его обычная энергия.
Поручив женщинам и старикам оказать помощь раненым и похоронить мертвых, он бросился в погоню за беглецами. Те, в панике, уже не помышляли ни о каком сопротивлении. Колонисты преследовали их днем и ночью, как затравленных зверей.
Несколько раз остельские отряды сталкивались с бандами, направлявшимися на выручку злоумышленников. Их быстро разгромили и отбросили на север.
За три недели войска Кау-джера оттеснили восемнадцать тысяч захватчиков на полуостров Дюма, перекрыв его перешеек.
Колонисты обшарили весь остров. Повсюду находили тела старателей, погибших от голода и холода еще в прошлом году.
К милиции присоединились триста человек, присланных «Франко-английской золотопромышленной компанией». Но, несмотря на подкрепление, обстановка оставалась тревожной. Если вначале золотоискателей ошеломило известие о расправе с участниками похода на Либерию, а затем остельцы без труда разбили их разрозненные отряды, то теперь, когда все это отребье человечества здраво оценило случившееся и почувствовало свою сплоченность, положение вновь резко обострилось. Численность их настолько превосходила остельскую армию, что вполне можно было ожидать нападения.
Вмешательство «Франко-английской компании» предотвратило новую катастрофу. Морис Рейно и Александр Смит, нуждавшиеся в рабочей силе, предложили Кау-джеру произвести строгий отбор среди пришельцев, с тем чтобы разрешить тысяче человек остаться на острове Осте в качестве рабочих компании, бравшей на себя всю ответственность за их поведение. При первом же нарушении порядка провинившиеся будут немедленно высланы с острова.
Кау-джер отнесся положительно к этому предложению, позволявшему рассеять силы противника. Тотчас же Рейно и Смит отправились на полуостров Дюма, где скопились бунтовщики, и через неделю вернулись с завербованными людьми.
Этот ловкий ход значительно изменил соотношение сил. Мятежники потеряли тысячу человек — столько же приобрели остельцы, обладавшие, помимо прочего, усовершенствованным оружием и строгой дисциплиной. Кау-джер, поручив охрану перешейка Хартлпулу, двинулся в глубь полуострова. Он встретил там меньшее сопротивление, чем ожидал.
Старателей удалось разбить на небольшие группы и насильно погрузить на суда, которые специально прибыли из Нового поселка и крейсировали невдалеке от побережья. Операция продолжалась всего несколько дней. За исключением взятых на поруки «Франко-английской компанией» (а их было слишком мало, чтобы представлять серьезную опасность), на территории острова не осталось ни одного захватчика.
Но в какое плачевное состояние привели государство! Земля осталась необработанной. Урожай этого, как и прошлого, года потерян. Множество скота, бродившего без присмотра на пастбищах, погибло. В общем, разоренная колония была отброшена на несколько лет назад, и, так же как и в начале их независимого существования, остельцам угрожал голод.
Кау-джер ясно видел надвигавшуюся опасность, но не терял мужества. Понимая, что время дорого, он стал действовать как диктатор, хотя роль эта и была мучительна для него.
Он начал опять с того, что собрал в одно место все запасы продовольствия, чтобы в дальнейшем распределять его в виде пайков. Естественно, некоторые колонисты были недовольны подобным мероприятием.
Впрочем, такие действия носили временный характер. Пока на острове собирали все наличные запасы, в Южной Америке производились закупки продуктов за счет государства и частным путем. Через месяц в Новый поселок прибыли первые грузы. Продовольственное положение стало налаживаться.
Благодаря мудрому правлению Кау-джера жизнь в Либерии и ее пригородах снова забила ключом. Никогда еще в порт не прибывало столько кораблей, как этим летом. Случайно год оказался крайне благоприятным для лова китов. В гавани Нового поселка скопилось множество американских и норвежских кораблей. На переработке китового жира были заняты сотни остельцев, получавших за это большие деньги. Снова полным ходом заработали лесопильни и консервные фабрики. Вдвое увеличилось число охотников за тюленями. Несколько сот туземцев с Огненной Земли, не сумевших приспособиться к строгостям аргентинской администрации, переправились через пролив Бигл и основали поселение на побережье острова.
К 15 декабря раны, полученные колонией, если и не зажили окончательно, то все же затянулись. Естественно, нанесенный ей громадный ущерб мог быть возмещен только через несколько лет, но внешне все выглядело благополучно. Люди вернулись к прерванным делам, и жизнь вошла в обычную колею.
К этому времени Остельское государство приобрело пароход водоизмещением в шестьсот тонн, названный «Яган». Налаживалось регулярное сообщение с прибрежными поселениями, с различными учреждениями и факториями на архипелаге, с мысом Горн, где наконец-то завершалось строительство маяка.
В последних числах 1893 года Кау-джеру сообщили, что все готово: помещение для обслуживающего персонала, башня высотой в двадцать метров, машинное отделение и монтаж двигателей. Благодаря остроумному изобретению Дика динамо-машины приводились в движение энергией волн и морского прилива без всякого горючего. Для непрерывного их действия требовалось одно: своевременный текущий ремонт и наличие запасных частей.
Губернатор назначил торжественное открытие маяка на 15 января 1894 года. В этот день «Яган» должен был доставить на мыс Горн двести — триста остельцев, заслуживших честь увидеть его первый луч. После тяжелых переживаний Кау-джер всем сердцем радовался осуществлению своей давней мечты.
Уже была тщательно подготовлена программа празднества, как вдруг неожиданное событие резко изменило планы.
Десятого января, за пять дней до намеченной знаменательной даты, в порт Нового поселка вошел военный корабль под чилийским флагом. Кау-джер заметил его еще из окна управления и стал наблюдать в подзорную трубу за его маневрами. Он различил какое-то движение на палубе, смысл которого был неясен за дальностью расстояния.
Почти целый час правитель следил за кораблем и оторвался от этого занятия только, когда ему доложили, что из Нового поселка прибыл человек со срочным поручением от Кароли.
— Что случилось? — с тревогой спросил Кау-джер.
— В Новый поселок зашло чилийское судно,— ответил тот, еле переводя дыхание после быстрой ходьбы.
— Я видел. Что еще?
— Это военный корабль.
— Знаю.
— Он стал на два якоря посреди порта и высаживает на шлюпках солдат.
— Солдат? — воскликнул правитель.
— Да, чилийских солдат… вооруженных… Их сотня или несколько сот… Кароли не успел подсчитать… Он решил скорее предупредить вас…
Событие заслуживало того. У начальника порта были веские основания для беспокойства. Разве в мирное время войска появляются на чужой территории без всякой причины? Несколько успокаивало сознание того, что прибывшие отряды принадлежали чилийской армии: вряд ли стоило бояться государства, которому Осте обязан независимостью… Тем не менее высадка солдат представляла необычное явление, и благоразумнее было принять все меры предосторожности.
— Иди сюда! — вдруг закричал посланец, указывая в окно на дорогу из Нового поселка.
Действительно, большой отряд солдат приближался к Либерии. Кау-джер на глаз прикинул его численность. Колонист несколько преувеличил — солдат оказалось не более полутора сотен. Их ружья блестели на солнце.
Правитель, не растерявшись, отдал ряд ясных и точных приказов, разослав по всему острову нарочных с особыми поручениями, и стал спокойно ждать дальнейших событий.
Через четверть часа отряд чилийцев, сопровождаемый удивленными взглядами колонистов, прибыл на площадь и выстроился перед управлением. Офицер в парадной форме (судя по золотым нашивкам, высшего звания) попросил провести его к губернатору.
Его ввели в комнату, где находился Кау-джер. Дверь тотчас же бесшумно закрылась, а через минуту раздался легкий скрип: заперли и наружные двери. Ничего не подозревавший офицер фактически очутился в плену.
Ничуть не беспокоясь о своей участи, он сделал несколько шагов, остановился и приложил руку к треуголке[197] с плюмажем[198]. Кау-джер, застывший в простенке между окнами, заговорил первым.
— Объясните мне, сударь,— сказа он сухо,— что означает эта высадка войск? Насколько мне известно, мы не находимся в состоянии войны с Чили?
— Господин губернатор,— ответ ил офицер, протянув Кау-джеру большой пакет,— разрешите мне прежде всего вручить вам послание, которым мое государство аккредитует меня при вашей особе.
Правитель взломал печати и внимательно прочел письмо. По выражению лица нельзя было догадаться о его чувствах. Затем он спокойно сказал:
— Этим документом, как вам, наверное, известно, сударь, чилийское правительство предоставляет вас в мое распоряжение для восстановления порядка на Осте.
Офицер молча поклонился в знак подтверждения.
— Чилийское правительство плохо осведомлено. Как и во всех странах, у нас бывали периоды смуты. Но население сумело само справиться с ними, и в настоящее время здесь царит полнейший порядок.
Чилиец, казалось, растерялся и не отвечал.
— Поэтому,— снова заговорил Кау-джер,— будучи весьма благодарным Чилийской республике за ее благожелательные намерения, я вынужден отклонить предлагаемую помощь. Прошу считать вашу миссию выполненной.
Замешательство офицера все усиливалось.
— Ваши слова, господин губернатор,— сказал он,— будут в точности переданы моему правительству. Но вы понимаете, что, до тех пор пока не поступит новых распоряжений, я должен выполнять полученные мною инструкции.
— В чем они заключаются?
— В размещении на острове гарнизона, который, подчиняясь вашей верховной власти и моему командованию, будет способствовать восстановлению и поддержанию порядка.
— Прекрасно! — промолвил Кау-джер.— Но если допустить, что я вдруг воспротивлюсь размещению гарнизона? Такой случай предусмотрен в вашей инструкции?
— Да, господин губернатор.
— Как вы тогда поступите?
— Придется пренебречь вашим согласием.
— Применив силу?
— При необходимости — да. Но я хочу надеяться, что мне не придется прибегать к этой крайности.
— Все ясно,— невозмутимо произнес правитель,— по правде говоря, я ожидал чего-нибудь в этом роде… Но не важно! Вопрос поставлен ребром, и, поскольку в таком серьезном деле нельзя действовать необдуманно, вы, полагаю, дадите мне время на размышление?
— Буду ждать вашего решения, господин губернатор,— ответил офицер.
Снова отдав честь, он четко повернулся налево кругом и направился к двери. Но она оказалась запертой снаружи. Чилиец, обернулся и нервно спросил:
— Это западня?
— Разрешите считать ваш вопрос шуткой,— иронически ответил Кау-джер.— Кто устроил западню? Разве не тот, кто в мирное время вторгся в дружественную страну с оружием в руках?
Посланец слегка покраснел.
— Вам ведь известны, господин губернатор,— сказал он с явным смущением,— причины, вызвавшие то, что вы называете вторжением. Ни мое правительство, ни я сам не можем согласиться с подобным толкованием событий.
— Вы в этом уверены? — осведомился правитель нарочито спокойным тоном.— Хватит ли у вас совести поручиться честным словом, что Чилийская республика не преследует никакой другой цели, кроме указанной в официальном послании? Военный гарнизон может с одинаковым успехом и защищать и угнетать страну. А разве войска, которые вы намерены разместить на Осте, не окажут поддержку правительству Чили, если оно когда-нибудь вздумает нарушить договор от двадцать шестого октября тысяча восемьсот восемьдесят первого года, давший нам независимость?
Офицер покраснел еще сильнее.
— Мне не подобает,— возразил он,— обсуждать приказы начальства. Мой долг точно исполнять их.
— Разумеется,— подтвердил Кау-джер,— но мне также надлежит выполнить свой долг, заключающийся в охране интересов остельской колонии. Поэтому я должен хорошо обдумать, как поступить, чтобы не нарушить эти интересы.
— Разве я возражаю против этого? — воскликнул чилиец.— Будьте уверены, господин губернатор, я буду ожидать вашего решения столько времени, сколько потребуется.
— Дело не в этом,— ответил правитель,— а в том, что вам придется ждать здесь.
— Здесь? Значит, вы считаете меня пленником?
— Именно так.
Офицер пожал плечами.
— Вы забываете,— заявил он, сделав шаг к окну,— что стоит мне отдать приказ…
— Попробуйте! — прервал его Кау-джер, преграждая ему путь.
— Кто же мне помешает?
— Я.
Они пристально посмотрели друг другу в глаза, как бойцы, готовые вступить в рукопашную схватку. Прошло немало времени, прежде чем чилиец отступил. Он понял, что ему не одолеть этого высокого, атлетически сложенного старика, невольно подавлявшего своей величественной осанкой.
— Вот так,— закончил разговор губернатор.— Лучше вернитесь-ка на место и подождите моего ответа.
Оба они продолжали стоять. Неподалеку от двери — офицер, старавшийся, несмотря на беспокойство, держаться непринужденно. Прямо против него, в простенке между двумя окнами,— Кау-джер, погрузившийся в такое глубокое раздумье, что, казалось, совершенно забыл о присутствии посланника. Хладнокровно и методично анализировал он неожиданно возникшую перед ним проблему.
Прежде всего, какую цель преследует Чили? Она понятна. Напрасно его правительство ссылалось на необходимость прекращения беспорядков на острове. Это был лишь повод. Протекторат[199], навязываемый насильно, слишком похож на аннексию[200] — тут трудно ошибиться. Но почему Чили вдруг понадобилось нарушить свои обязательства? Очевидно, из-за каких-то корыстных побуждений. Чем же прельстил его Осте? Само по себе процветание колонии не могло вызвать такой резкий поворот политики правительства. Несмотря на все успехи, достигнутые колонистами, Чилийская республика никогда не выражала сожалений, отказавшись от своих прав на этот прежде совершенно дикий край. Впрочем, ей не приходилось раскаиваться в великодушном поступке. В силу сложившихся условий развивавшаяся колония превратилась в главный рынок сбыта.
Но с открытием месторождения золота обстоятельства изменились. Когда стало известно, что в недрах острова таятся сокровища, Чили захотелось получить свою долю. Все было ясно.
Впрочем, сейчас не время устанавливать причины, изменившие политику Сантьяго. Колонии предъявили четкий ультиматум, и следовало дать на него надлежащий ответ.
Сопротивляться?… А почему бы нет? Кау-джера не пугали ни солдаты, выстроившиеся на площади, ни военный корабль, красовавшийся перед Новым поселком. Даже если на судне находились еще войска, они — сколько бы их ни было! — в конечном счете никак не могли рассчитывать на победу. Конечно, можно дать по Либерии несколько залпов. А дальше? Боеприпасы кончатся, и кораблю придется сняться с якоря… если допустить, что все три остельские пушки не причинят ему никаких серьезных повреждений.
Нет, в самом деле, сопротивление могло быть оправдано. Но оно означало бы опять сражение… кровопролитие… Неужели Кау-джеру предстоит вновь оросить кровью эту землю, которая — увы! — уже напиталась ею? И во имя чего? Для защиты независимости остельцев? Да разве они могут быть независимы, эти люди, так покорно отдавшие себя во власть правителя?… Ради какой цели?… Вправе ли он погубить столько человеческих жизней? С тех пор как к нему перешло управление колонией, чем он отличался от прочих тиранов, взявших на откуп всю вселенную?
Так размышлял Кау-джер, когда чилиец, устав от ожидания, тихонько кашлянул. Губернатор жестом успокоил его и вернулся к своим мыслям.
Нет, он оказался не лучше и не хуже диктаторов, существовавших во все времена, потому что власть над людьми накладывает такие обязательства, которых никто не может избежать. И хотя намерения его были всегда самыми гуманными, а поступки — совершенно бескорыстными, это ничуть не помешало ему совершать те же преступления, в которых он обвинял всех прочих властителей земли. Будучи приверженцем свободы — он повелевал другими; сторонник равенства — он судил себе подобных; миролюбец — он воевал; философ-альтруист — он истреблял людей, а его отвращение к кровопролитию привело лишь к тому, что он залил кровью весь остров.
Оказалось, Кау-джер не совершил ни единого поступка, который бы не противоречил его принципам и не доказывал бы по всем пунктам несостоятельность его теорий.
Первым подтверждением этому служило нашествие патагонцев. Кау-джеру пришлось сражаться и убивать. Когда же Паттерсон продемонстрировал всю низость, всю подлость человеческой натуры, губернатор был вынужден взять себе право распорядиться частью земли как своей личной собственностью. И, подобно тем, кого он называл тиранами, он судил, выносил приговоры, высылал!…
Второе доказательство — открытие месторождений золота. Тысячи проходимцев, вторгшихся на остров, лишний раз подтвердили схожесть характеров различных наций в погоне за богатством. Против них Кау-джер мог применить только давно испытанные средства: власть, насилие, убийство. По его приказу лились потоки человеческой крови.
И наконец, третьим доказательством явился категорический ультиматум Чилийского государства.
Неужели ему вновь придется призвать колонистов к войне, может быть, еще более кровавой, чем прежние битвы? И ради чего? Чтобы сохранить остельцам правителя, в общем, ничем не отличающегося от диктаторов всех времен и народов? Любой другой на месте Кау-джера поступал бы точно так же, и, кто бы ни оказался его воспреемником, он применял бы те же самые методы, которые пришлось использовать ему самому.
А если так, стоит ли сопротивляться?
Он чувствовал смертельную усталость, не в силах забыть массового убийства, совершенного по его приказу: перед глазами все время, как наваждение[201], высились горы трупов. С каждым днем, словно под грузом мучительных воспоминаний, сгибался его высокий стан, тускнел взгляд, притуплялась мысль. Силы покидали тело атлета и сердце героя. Кау-джер больше не мог выдержать. С него довольно!
В какой тупик он зашел!
В смятении проследил он свой долгий жизненный путь, усеянный обломками теорий, составлявших его моральные устои. Ради них он пожертвовал всей своей жизнью… И все это превратилось в ничто. Душа его была опустошена.
Что же делать? Умереть? Да, это было бы самым последовательным. Однако он не мог решиться на такой шаг. Не потому, что боялся смерти — его ясному и твердому уму смерть представлялась вполне естественным явлением,— но все его существо протестовало против поступка, произвольно сокращавшего человеческую жизнь. Подобно добросовестному труженику, который не бросает работу незавершенной, этот необыкновенный человек ощущал жгучую потребность прожить жизнь до конца.
Но разве нельзя было примирить эти противоречия?
Вдруг Кау-джер как будто вспомнил о присутствии чилийского офицера, который едва сдерживал нетерпение.
— Сударь,— сказал он,— вы только что грозили мне применением силы. Имеете ли вы представление об остельской армии?
— Вашей армии? — удивленно повторил офицер.
— Судите сами,— ответил правитель, показав своему собеседнику на окно.
Перед ними расстилалась площадь. Против управления стояли строем сто пятьдесят чилийских солдат вместе со своими командирами. Они находились в весьма критическом положении, так как их окружало более пятисот остельцев с ружьями.
— Сегодня в нашей армии насчитывается пятьсот воинов,— спокойно пояснил Кау-джер.— Завтра их будет тысяча. Послезавтра — полторы тысячи.
Чилиец побледнел. Видимо, его миссия провалилась!… Он попал в настоящее осиное гнездо! Однако он сделал попытку как-нибудь выйти из неприятного положения.
— Наш крейсер… — начал он неуверенным тоном.
— Крейсер нам не страшен,— прервал его губернатор,— мы не боимся ваших пушек — у нас они тоже имеются.
— Чили… — пытался продолжать офицер, не желая признать свое поражение.
— Да,— снова прервал его Кау-джер.— У Чили есть еще и корабли и солдаты. Это понятно. Но есть ли смысл использовать их против нас? Не так-то просто овладеть островом, где в настоящее время живет более шести тысяч человек. Не говоря уже о том, что высаженные вами на берег солдаты вполне могут стать заложниками.
Офицер молчал. Правитель добавил значительным тоном:
— И наконец, известно ли вам, кто я?
Чилиец вопросительно взглянул на своего противника, оказавшегося таким опасным. Видимо, во взоре Кау-джера он прочел красноречивый ответ на свой немой вопрос, и растерянность его усилилась.
— Что вы хотите сказать? — смущенно произнес он.— Лет двенадцать — тринадцать назад, после возвращения «Рибарто», капитан которого узнал вас, пошли разные слухи… Но они как будто оказались ложными, поскольку вы сами сразу же опровергли их…
— Они были обоснованны,— сказал губернатор.— Но если я тогда, да и теперь, все еще считаю удобным для себя забыть свое настоящее имя, то вы поступите разумно, вспомнив его. Это позволит вам сделать вывод, что я в состоянии обеспечить Остельскому государству поддержку, достаточно могущественную, дабы заставить призадуматься ваше правительство.
Офицер ничего не ответил. Вид у него был совершенно подавленный.
— Теперь вы понимаете,— продолжал Кау-джер,— что я могу не только противостоять силе, но договориться с вами на равных началах?
Посланец встрепенулся. «Договориться?» Не ослышался ли он?… Неужели злополучная авантюра может завершиться достойно?
— Остается только выяснить,— снова заговорил правитель,— насколько это осуществимо и какими полномочиями вы располагаете?
— Самыми широкими,— поспешно ответил чилийский посланник.
— В письменном виде?
— Разумеется.
— В таком случае соблаговолите предъявить их мне,— спокойно произнес губернатор.
Офицер вынул из внутреннего кармана второй конверт и протянул ему.
— Вот они.
Если бы Кау-джер беспрекословно уступил по первому требованию, он никогда бы не узнал о документе, который сейчас так внимательно изучал.
— Все в полном порядке,— заявил он,— следовательно, ваша подпись может гарантировать принимаемые Чилийским государством на себя обязательства… Хотя ваше присутствие на Осте убедительно доказывает их непрочность.
Посланец закусил губы. Наступило молчание. Губернатор усмехнулся:
— Поговорим начистоту. Чилийская республика желает восстановить свои суверенные права на остров. Я мог бы воспрепятствовать этому. Но я соглашаюсь и только ставлю свои условия.
— Слушаю вас,— ответил офицер.
— Во-первых, ваше правительство обязуется не вводить никаких налогов на острове Осте, за исключением тех, что связаны с добычей золота. В данном вопросе Чили может поступать так, как ему заблагорассудится, и установить любые отчисления в свою пользу.
Посланец не верил своим ушам. Оказывается, вот так, совершенно просто и безоговорочно, Кау-джер соглашается на самое трудное в полученном им задании! Остальное-то образуется само собой…
Но глава государства продолжал:
— Суверенные права Чили должны ограничиваться взиманием налогов на добытое золото. Во всем остальном Осте сохраняет полную автономию, а также свой флаг. Чили может прислать сюда резидента[202] только при условии, что тот получит право лишь совещательного голоса, а фактическое управление островом будет осуществляться выборным комитетом и губернатором, назначенным мною.
— Губернатором, несомненно, будете вы? — осведомился офицер.
— Нет,— ответил Кау-джер,— мне нужна свобода — полная, неограниченная, абсолютная. Кроме того, я настолько устал повелевать, насколько неспособен подчиняться. Поэтому я удалюсь, оставив право избрать себе преемника.
Чилийский офицер внимательно слушал эти неожиданные для него заявления. Неужели горькое разочарование, звучавшее в словах правителя, было искренним? Неужели он ничего не потребует лично для себя?
— Моего преемника[203] зовут Дик, — продолжал тот печально, после краткого молчания,— фамилии у него нет. Он молод, ему едва исполнилось двадцать два года. Но я воспитал его сам и полностью полагаюсь на него. Только ему одному доверяю я управление остельской колонией. Таковы мои условия.
— Принимаю их,— заявил чилиец, радуясь победе, одержанной по главному пункту.
— Что ж, прекрасно,— закончил губернатор,— я изложу наш договор в письменном виде.
И он принялся за работу. Потом оба подписали соглашение в трех экземплярах.
— Один экземпляр — вашему правительству,— объяснил Кау-джер.— Второй — моему преемнику. Третий же я оставляю себе. Если содержащиеся в договоре обязательства будут нарушены, я сумею — можете в этом не сомневаться! — обеспечить их выполнение… Но это не все,— добавил он, представив еще один документ.— Осталось оформить мое личное положение. Будьте любезны взглянуть на этот второй договор, определяющий мое будущее в соответствии с моими желаниями.
Чилийский офицер повиновался. По мере того как он читал, на его лице отражалось все большее удивление.
— Как! — воскликнул он, закончив чтение.— Вы всерьез предлагаете это?
— Настолько всерьез, что даже ставлю это как conditio sine qua non[204] для согласия по всем остальным пунктам нашего договора. Принимаете ли вы это условие?
— Принимаю,— подтвердил посланник.
Оба скрепили подписями второй документ.
— Переговоры закончены,— сказал губернатор.— Отправьте ваших солдат обратно на корабль. Ни под каким предлогом чилийские вооруженные силы не должны появляться на Осте. Завтра же можно будет ввести новый порядок. Я сделаю все, чтобы не возникло никаких осложнений. А до тех пор требую сохранения абсолютной тайны.
Оставшись один, Кау-джер тотчас же вызвал Кароли. Пока его искали, губернатор написал короткую записку и вложил ее в конверт вместе с одним экземпляром только что подписанного договора. Потом составил небольшой список самых различных предметов. Все это заняло лишь несколько минут и было закончено задолго до прихода индейца.
— Погрузи на «Уэл-Киедж» все, что здесь перечислено,— приказал правитель, протянув список, в котором, помимо продуктов и одежды, значились порох, пули и всевозможные семена.
Несмотря на привычку к слепому повиновению, Кароли не мог удержаться от вопросов. Значит, Кау-джер собирается путешествовать? Почему же тогда не воспользоваться вместо старой шлюпки портовым катером? Но на его вопросы тот ответил только одним словом:
— Повинуйся!
Когда индеец ушел, губернатор приказал позвать Дика.
— Сын мой,— сказал он, отдавая ему только что запечатанный конверт,— вот документ, который предназначается тебе. Завтра на заре ты вскроешь конверт.
— Будет исполнено,— коротко ответил молодой человек.
Он ничем не выдал своего удивления. Теперь Дик умел владеть собою. Он получил приказ. Приказы выполняют не обсуждая.
— Хорошо, а теперь иди, мальчик, и точно следуй всем моим указаниям.
После его ухода Кау-джер подошел к окну и поднял штору. Долго смотрел он вдаль, как бы желал навсегда запечатлеть в памяти все, что уже не суждено ему больше увидеть. Перед ним расстилалась Либерия, за нею — Новый поселок, а еще дальше — высились мачты кораблей, стоявших в порту. Вечерело. Рабочий день заканчивался. Оживилось движение на дороге, ведущей из Нового поселка. Затем в сгущавшихся сумерках загорелись огни в окнах домов. Этот город, эта кипучая трудовая жизнь, это благополучие — все было создано им. Перед мысленным взором нашего героя предстало пережитое, и его усталое сердце преисполнилось гордостью.
Наконец настало время подумать и о себе. Не колеблясь он покинет этих людей, превращенных им в богатый, счастливый и сильный народ. Вместо одного правителя у них будет другой — остельцы могут даже не заметить этого события. Но сам Кау-джер умрет так же, как и жил,— свободным!
Он не станет омрачать прощанием свой отъезд, приносящий ему освобождение. К чему? Уже второй раз он уходил от человечества… И снова Кау-джер чувствовал, как его сердце переполнилось радостью, необъятной как мир. Это неискоренимое чувство не нуждалось в таких сентиментальных поступках, как прощание.
Близилась ночь. Подобно отяжелевшим векам, смыкаемым сном, закрывались ставни в окнах, постепенно гасли огни. Наконец совсем стемнело.
Кау-джер вышел из управления и направился к Новому поселку. Дорога была пустынна. Он не встретил ни единой души.
«Уэл-Киедж» покачивалась на волнах у набережной. Губернатор вскочил в нее и оттолкнулся от берега. Посреди бухты чернел силуэт чилийского корабля. Как раз в этот момент там отбивали склянки[205]. Кау-джер вывел шлюпку в море и поднял парус.
«Уэл-Киедж» встрепенулась, сделала разворот и вырвалась за пределы порта. Там ее подхватил свежий северо-западный бриз. Бывший властелин задумчиво сидел у руля, прислушиваясь к мелодичному плеску волн о борта шлюпки.
Когда он обернулся, было уже поздно. Спектакль окончился, занавес опустился. Новый поселок, Либерия, остров Осте исчезли в ночи. Все это ушло в прошлое…
Глава XV СНОВА ОДИНОК!
Дик, точно следуя указаниям Кау-джера, при первых же проблесках зари вскрыл полученный конверт. В нем находилось письмо:
Сын мой!
Я устал от жизни и хочу покоя. Когда ты прочтешь эти строки, я уже навсегда покину колонию. Вручаю тебе ее судьбу. Хотя ты молод для этой должности, но я знаю, что ты справишься.
Строго выполняй договор, заключенный мною с Чили, но требуй неукоснительного выполнения его и другой стороной. Нет никаких сомнений в том, что, когда запасы золота иссякнут, чилийское правительство само откажется от формальных суверенных прав.
По этому договору остельская колония временно лишается мыса Горн, переходящего в мою личную собственность. Там я намереваюсь жить и умереть. Остров будет возвращен колонии после моей смерти. Если Чили нарушит свои обязательства, ты вспомнишь о моем местопребывании. Но, за исключением этого случая, ты должен вычеркнуть меня из памяти. Это не просьба, а приказ. Последний!
Прощай! Пусть в твоей жизни будет только одна цель — Справедливость. Одна ненависть — Рабство. Одна любовь — Свобода.
В ту минуту, когда потрясенный Дик читал завещание человека, которому был стольким обязан, тот, отягощенный мучительным раздумьем, все плыл и плыл, удаляясь от острова Осте, и вскоре затерялся на бескрайних морских просторах.
Но вот заря обагрила небосвод. Первые золотые лучи пробежали по трепещущей глади океана. Кау-джер поднял голову и окинул взглядом горизонт. Вдали, на юге, в свете раннего утра показался остров Горн. Кау-джер жадно вглядывался в вившийся над ним легкий дымок. Это было его последнее путешествие, эпилог его жизненного пути.
К десяти часам утра он пристал к берегу в глубине маленькой бухты, куда не достигал прибой. Сойдя на землю, он выгрузил все свое имущество. На это ушло полчаса.
Стремясь поскорее избавиться от тяжкой и мучительной обязанности, Кау-джер сильным ударом топора пробил дно шлюпки. В пробоину хлынула вода. «Уэл-Киедж» покачнулась, будто раненное насмерть живое существо… накренилась на левый борт… и медленно погрузилась в морскую пучину. Кау-джер с болью в сердце смотрел, как она тонет. При виде искалеченной шлюпки, сослужившей ему добрую и долгую службу, он ощущал такой стыд, такое раскаяние, точно погубил что-то живое. Уничтожив лодку, он словно уничтожил все свое прошлое. Порвалась последняя нить, связывавшая его с остальным миром.
День ушел на переноску привезенных вещей и на осмотр новых владений. На маяке все было закончено: фонарь и машины готовы к действию, помещение обставлено мебелью. Благодаря большим запасам продовольствия, множеству морских птиц и привезенным семенам, которые Кау-джер собирался посеять в расщелинах скалы, не могло быть и речи о голоде.
Под вечер, закончив все дела, он вышел из дому. Неподалеку от порога лежала груда камней, оставшихся после кладки фундамента. Один из них, валявшийся на самом краю площадки, привлек внимание Кау-джера. Если подтолкнуть его ногой, он скатится в море.
Кау-джер подошел ближе. И вдруг его взгляд загорелся ненавистью и презрением… Оказывается, этот камень, исчерченный блестящими прожилками, был золотоносным кварцем. Возможно, в нем заключалось целое состояние, которое в свое время рабочие не сумели распознать. И вот он валялся как простой булыжник…
Даже здесь проклятый металл преследовал Кау-джера!… Ему снова припомнились все несчастья, обрушившиеся на остров Осте: безумие колонистов, нашествие бродяг со всех концов света… Голод… нищета… разорение…
Покачав головой, Кау-джер столкнул огромный самородок в морскую бездну и направился к крайней оконечности мыса Горн.
Невдалеке высилась стройная башня с фонарем на вершине, откуда сейчас впервые ударит мощный луч света, указывающий кораблям верный путь.
Кау-джер повернулся к морю и обвел глазами горизонт.
Однажды вечером он уже побывал здесь, на границе материка. В тот вечер среди бури раздавалось зловещее грохотание пушки «Джонатана», терпевшего бедствие и безнадежно взывавшего о помощи… Какое тяжкое воспоминание!… С тех пор прошло тринадцать лет…
Но сегодня горизонт был пустынным. Повсюду, насколько хватало взгляда, простирался величавый океан. И если бы Кау-джер смог пронзить взором недоступное ему пространство, он все равно не увидел бы ни единого живого существа. Где-то там, далеко-далеко отсюда, лежала таинственная Антарктида, мертвый мир, край сплошных льдов.
Что ж, он достиг своей цели и нашел пристанище. Но каким роковым путем пришел он к нему!… Однако Кау-джер не терзался обычными человеческими страданиями, он сам оказался и мучителем и жертвой. Вместо того чтобы завершить жизнь на этой скале, затерянной в необъятной водной пустыне, он мог бы в любой момент стать одним из тех счастливчиков, которым завидует мир,— одним из тех могучих властелинов, перед которыми склоняются головы… И все же он здесь.
Правду сказать, в другом месте у него не хватило бы сил нести дальше тяжкое бремя[206] жизни. Ведь самые жестокие драмы разыгрываются в сознании людей; и тому, кто их пережил и вышел опустошенным, разбитым, потерявшим устои прежней жизни, нет иного выхода, чем смерть или одиночество. Кау-джер избрал последнее. И эта скала стала для него своеобразной кельей[207] из воздуха и воды…
В конце концов его судьба ничем не хуже любой другой. Мы умираем, но дела продолжают жить, воплощая в себе наши мечты и стремления; мы умираем, но оставляем на жизненном пути свой неповторимый и неизгладимый след. Все, что происходит сейчас, предопределено предыдущими судьбами, а будущее — не что иное, как продолжение прошлого. И каким бы оно ни было, творение рук и мыслей Кау-джера никогда не погибнет и не померкнет.
Так размышлял наш герой, стоя на вершине скалы, неподвижный и величественный, словно монумент. Освещенный лучами заходящего солнца, он жадно стремился охватить беспредельные океанские просторы, где, бежавший от мирской суеты, покинутый всеми и нужный всем, будет отныне жить — навеки одинокий и навеки свободный!
Послесловие
НА СКЛОНЕ ЛЕТ…
Обычно старость подползает незаметно, почти неслышно, а после, как бы улучив момент, совершает прыжок и наносит удар за ударом, терзает и когтит.
В свои пятьдесят семь лет Жюль Верн жизнедеятелен, полон творческих планов, творческих сил, притерпелся к проделкам непутевого — и все-таки любимого — сына Мишеля, свыкся с равнодушием жены, для которой его литературная работа была только источником материального благосостояния, смирился с открытой ненавистью двоих падчериц, с безалаберностью в доме, где для него оставалось единственное прибежище — кабинет в круглой башне; одиночество сделалось нормой существования, каждодневный воловий труд — естественной как дыхание потребностью. Казалось, замыслов хватит на весь отведенный Богом земной срок.
Но следующий, 1886 год оказался переломным, одна беда обрушивалась за другой.
Скончалась госпожа Дюшень — единственная любовь, преданный и все понимающий друг, одиночество писателя стало оглушительным.
За нею последовал Пьер Жюль Этцель — тоже верный друг и вдобавок благодетель; он, владея издательством, напечатал в 1862 году первый роман безвестного автора «Пять недель на воздушном шаре», взял с дебютанта обязательство сдавать ему, Этцелю, по три тома новых произведений в год и, в свою очередь, заверил, что все они увидят свет незамедлительно; денежные условия были божескими, а число написанных книг вскоре сократилось до двух в тот же календарный срок. И вот Этцеля не стало…
В те же дни человек, страдающий маниакальным психозом, ранил писателя двумя выстрелами из револьвера, одну пулю извлечь не смогли. Жюль Верн охромел. Еще лежа в постели после покушения, он узнал о смерти матери…
Мучаясь бессонницей и головными болями, он пытался работать (еще, разумеется, не предполагая, что впереди его ждут подагра, диабет, бронхиты, головокружения, постоянные судороги, постепенно наступающая слепота и глухота; придет пора, и ему скрючит пальцы руки, карандаш придется привязывать к ним).
Такие несчастья могут выпасть на долю каждого. Но существует специфическая болезнь, присущая только людям творческого труда: профессиональное бессилие.
Автор тридцати прославленных романов, изобретатель необычайных сюжетов, предсказатель многих технических изобретений, неутомимый выдумщик литературных приемов, «первооткрыватель» неведомых читателю земель, Жюль Верн почувствовал, что иссяк, что излюбленная им географическая тема уже не дает пищи для новых оригинальных сочинений.
К физическим и нравственным страданиям прибавился частый у писателей недуг: депрессия.
Выйти из него помог не только литературный опыт, воля к жизни и потребность в каждодневной работе — «палочкой-выручалочкой» оказался беспутный шалопай, транжира и мот сын. Мишель,— разумеется, опустошив в очередной раз родительский отнюдь не бездонный карман,— совершил путешествие в Австрию, Венгрию, Румынию, Болгарию, проплыл по Дунаю. Рассказчиком он был неплохим и, вдобавок, угодил в точку: этими местами давно интересовался отец. Тотчас родилось заглавие: «Прекрасный желтый Дунай». Толчок был дан. А вскоре появился,— уже под названием «Дунайский лоцман»,— возможно, самый «нежюльверновский» роман.
То, что прежде привнес он в художественные книги, создав, по существу, новый жанр научной литературы, подлинно научной фантастики, здесь отсутствует начисто: никаких открытий, изобретений, прогнозирования и предчувствия их.
Далее. Подробные, красочные, удивительно точные географические описания, коими он так гордился, здесь весьма немногочисленны и кажутся необязательными, хотя написаны с прежней педантичностью, документальной точностью. Познавательная ценность произведения снижена.
Наконец, если в большинстве предыдущих книг главные герои наделены исключительной волей, энергией, человеколюбием, то в «Дунайском лоцмане» двое основных персонажей — патриот Сергей Ладко и честный, не прибегающий к недозволенным профессиональным приемам сыщика Карл Драгош достаточно безлики, не наделены ни выдающимися качествами, ни живыми запоминающимися чертами.
Перед нами — обычный детектив, в нем лишь немногие страницы напоминают прежнего неистощимого выдумщика, фантазера, просветителя Жюля Верна.
Впрочем, высокий профессионализм автора дает о себе знать и тут, в чуждой ему, казалось бы, литературной области (правда, и здесь он уже набрался определенного опыта: сравнительно недавно написаны романы «Братья Кип» и «Драма в Лифляндии», где развитие действия идет по законам детектива).
Многие психологи и социологи советуют: если работа становится невмоготу, если она перестает приносить радость и чувство удовлетворения — желательно сменить род занятий, профессию (футурологи предсказывают, что это сделается правилом в обществе будущего). Но у Жюля Верна литература — единственная страсть, любовь, единственное, что он умеет делать высокопрофессионально (вспомним, что с двадцатилетнего возраста он занимается сочинительством — сперва куплетов и жанровых песенок, затем пьес, некоторые из них шли на сцене). И он физически немощен, чувствует себя стариком — в таком состоянии жизнь не начинают заново.
Три детективных романа подряд — как бы проба сил, попытка перейти в иное качество, не меняя основного рода занятий.
У истинных литераторов нет пятибалльной шкалы оценок произведений; они признают двоичную систему: профессионально — непрофессионально. Так вот, преодолевая творческую депрессию, оскудение привычных сюжетов, Жюль Верн призывает, мобилизует свой долгий опыт и создает крепкий, мастеровитый детектив с его погонями, преследованиями, побегами, убийствами, обманами, жестко и продуманно выстроенной фабулой. По двоичной системе роман вполне профессиональный.
Правда, и это, возможно, вызвано напряженной работой над построением сюжета, придумыванием эффектных и занимательных поворотов фабулы в романе весьма неясно, почти намеком обрисованы причины, побуждающие болгарина Сергея Ладко выдавать себя за венгра Илиа Бруша, гнать весельное суденышко от истоков до устья Дуная из последних сил, до полного изнеможения, прятаться от людей, отказаться от шумной рекламы его необыкновенного путешествия. И здесь приходится помочь читателю, напомнив о некоторых исторических событиях, несомненно известных автору романа, однако оставленных, как говорится ныне, за кадром.
К середине VII века преобладающим этническим элементом на территории Балканского полуострова были славяне. Тут сложилось Первое Болгарское царство (621-1018 гг.). В 865 году, немногим раньше Киевской Руси, здешнее население приняло христианство по византийскому образцу и с 1018 по 1185 год находилось под властью Византии. Затем последовало изгнание византийцев и возникновение Второго Болгарского царства (1185-1396 гг.). В результате феодальной раздробленности и набегов татар государство оказалось сильно ослабленным и в 1393-1396 годах завоеванным Османской (Оттоманской) империей турок. Освободительное движение болгарского народа с особой силой развернулось в XIX веке, в условиях начинавшегося развития капиталистических отношений. Одним из наиболее ярких проявлений этой борьбы явилось Апрельское восстание 1876 года, которое было разгромлено турецкими войсками и башибузуками. Несмотря на поражение, Августовское восстание поколебало турецкое феодальное господство в Болгарии, а жестокое подавление способствовало обострению международных отношений в Европе и явилось одним из поводов к русско-турецкой войне 1877-1878 годов.
Вот о чем урывками говорится в «Дунайском лоцмане»…
Детективные романы — легкое чтение, однако совсем нелегкая работа. Надо полагать, творческое напряжение вернуло писателю творческую форму; а раздумья над новыми темами привели не просто к вариациям на уже отработанные сюжеты, но и к принципиально новому направлению в его произведениях. Теперь многие из последующих книг Жюля Верна можно назвать фантастикой не просто научной, а социально-научной, его романы становятся историко-приключенческими, они построены на реальных или вымышленных фактах и событиях из жизни и борьбы угнетенных народов. Жюль Верн открыто высказывает свои убеждения в поздних сочинениях. Ему выпала мудрая старость, скрашенная теперь не одним трудолюбием, но и глубокими размышлениями.
Он спешит. Уже не два, а три, четыре романа в год (их исправно выпускает сын покойного друга Этцеля). Конечно, годы сказываются: лучшие произведения уже позади, но ведь никому даже из самых великих не удавалось писать всю жизнь на одном и том же высоком уровне. Выдающийся фантаст работает так, словно в запасе вечность. Существует уговор с Этцелем-младшим: после смерти автора продолжать издание двух посмертных романов каждый год. Писатель как бы перевыполняет заранее намеченный план, пишет больше, чем требуется для выполнения завещания. В 1894 году готовы рукописи на 1895, 1896, 1897 годы… Автор скончался в 1905 году. Последний роман увидел свет в 1919-м!
Свободный от мирских забот, отбросивший семейную суету, он многие часы подряд сидит в кабинете, почти ничего не читая: время дорого, он пишет… Он пишет — и думает, думает, думает.
Вскоре читатель ознакомится опять с новым Жюль Верном — писателем-мыслителем.
Среди поздних трудов его — роман, по сути, философский, «Кораблекрушение «Джонатана». Он издан после смерти автора и через год после «Дунайского лоцмана»— в 1909 году.
* * *
В 1719 году в Англии случилось событие, не сразу оцененное современниками: известный более как политический деятель, коммерсант и журналист Даниель Дефо (ок. 1660-1751) выпустил роман с данным, в духе того времени, заглавием, от которого впоследствии осталось всего два слова: «Робинзон Крузо». Усекновению подвергся не только заголовок: как бы сама по себе отпала и первая часть повествования, где речь идет о пребывании героя на родине — по общему признанию банальная и скучная. Зато вторая половина произведения — независимо от воли автора — сделалась и в таком виде остается до сих пор одной из любимейших книжек для детей вот уже почти два столетия. Завидная судьба!
Философскую основу книги составляет нравственное совершенствование человека в одиночестве, в общении с природой, вдали от общества и цивилизации, когда происходит возрождение и пробуждение личности.
Случилось так, что роман оказался на редкость современным: он предвосхищает буржуазное общество, которое начало развиваться с XVI столетия, а в XVIII сделало гигантские шаги на пути к своей зрелости. В обществе свободной конкуренции отдельная личность выступает освобожденной от прежних естественных связей. Но, конечно, не только и не столько социальное содержание «Робинзона», а и увлекательность его сюжета, романтика приключений, привлекательность героя вызвали беспримерный успех сочинения Дефо, успех, породивший длинный ряд переводов, переделок и подражаний. Родился даже новый термин «робинзонада». Появились робинзонады, касавшиеся людей самых разнообразных профессий, вплоть до книгопродавца и медика. Только в одной Германии за сорок лет после издания книги опубликовано столько же произведений на эту тему; известны такие экзотические персонажи, как девушка-робинзон и робинзон-невидимка…
В свое время знаменитым романом увлекся и юноша Жюль Верн; современники сообщают, что будущий писатель знал текст Дефо наизусть. И среди проб пера молодого француза — слабый, неоконченный набросок «Дядя робинзон». Затем, в разные годы, «персональная робинзонада» Ж. Верна пополнилась опубликованными вещами: «Школа робинзонов», «Вторая родина», «Два года каникул»… И конечно, «Таинственным островом» — одним из самых, если не самым лучшим его детищем, обнародованным в 1875 году. Однако, видимо, прославленному фантасту этого показалось мало, тема осталась не исчерпана. На склоне лет он вновь обращается к ней, теперь в ином, скорее философском, нежели приключенческом плане.
На своем долгом веку (ему было отмерено 77 с небольшим лет земного существования) Жюль Верн пережил три революции: Французскую 1848 года, Парижскую Коммуну 1871 года, русскую 1905 года. Активная политическая деятельность никогда не привлекала его, но по своим убеждениям он был республиканцем, испытавшим на себе влияние своих соотечественников Этьенна Кабе (1788— 1856), Клода Сен-Симона (1760-1825) и Шарля Фурье (1772-1837) — теоретиков и проповедников утопического социализма, учения об идеальном строе, основанном на общности имущества, обязательном труде, справедливом распределении.
Своеобразная робинзонада и попытка воплощения в жизнь идей утопического социализма достаточно причудливо сплелись в одном из поздних романов Жюля Верна «Кораблекрушение «Джонатана».
Несомненно влияние на идейную направленность и содержание романа оказала изданная в 1840 году книга «Путешествие в Икарию» Э. Кабе и его попытка основать в Соединенных Штатах Америки (1847 г.) колонии добровольцев для практического воплощения теоретических взглядов выдающегося утописта — попытка, через четыре года закончившаяся полным крахом. Многое из происшедшего в колонии мы видим, читая роман Ж. Верна.
Апрельским днем 1880 года (даже выдуманные события автор датирует с большой точностью), на траверзе мыса Горн, что на оконечности Южной Америки, при сильном шторме терпит крушение приписанное в порту Сан-Франциско торговое судно «Джонатан», несущее на борту около тысячи американских переселенцев в Африку и большое количество разнообразного груза, обеспечивающего переселенцам на первое время вполне сносное существование.
Среди сухопутной, случайно собранной вместе публики возникает паника и, как знать, не погибли бы они все, утонув или умерев с голода на безлюдной, кажется, земле, если бы на помощь не пришел явившийся неведомо откуда человек европейского облика. «В коротко остриженных волосах и густой бороде незнакомца пробивалась седина. Высокий, крепкий, загорелый, лет сорока — пятидесяти, он казался наделенным недюжинной силой и несокрушимым здоровьем. Мужественные и благородные черты одухотворенного лица, высокий, изборожденный морщинами лоб мыслителя, осанка, движения — все было исполнено достоинства».
Эту внешнюю — в излюбленных для описания положительных персонажей выражениях — характеристику писатель дополняет обстоятельным изложением взглядов того, кого малочисленное местное население прозвало Кау-джер, что на их языке означает — друг, покровитель, спаситель.
Кау-джер причислял себя к анархистам (им, к слову, сочувствовал и сам автор романа). Не теша себя иллюзиями, Жюль Верн говорит о части этих «поборников свободы» как о разношерстной толпе, в которой встречается немало уголовных преступников и одержимых фанатиков; обуреваемые завистью и злобой, они всегда готовы пойти на любое насилие и даже на убийство. Вторые же мечтают об утопическом обществе, где навсегда будет уничтожено зло путем отмены законов, созданных якобы для искоренения того же зла…
Да,— продолжает романист,— Кау-джер был анархистом, но примыкал к группе мечтателей, а не к приверженцам кинжала и бомбы… Опьяненный своей мечтой, Кау-джер не смог примириться с железными законами цивилизованного общества, помыкающими человеком на всем его жизненном пути, от колыбели до могилы. Он чувствовал, что задыхается в дремучих дебрях бесчисленных законов, в угоду которым граждане любого государства приносят в жертву свою независимость, получая минимум жизненных благ и относительную безопасность существования. А поскольку наш романтик вовсе не собирался насильно навязывать людям свои принципы и вкусы, ему оставалось только одно: отправиться на поиски страны, где не знают рабства…
Человек состоятельный, он отыскал такой уголок на небольшом острове архипелага Огненная Земля, и вот уже десять лет жил там, общаясь только с аборигенами; даже покупки на факториях, основанных европейцами, он делал через огнеземельцев. «Ни Бога, ни властелина!» — под этим девизом анархистов всего мира он жил на острове уже десять лет, чувствуя себя абсолютно свободным и даже не задумываясь о том, что, кроме отвлеченных идеалов свободы, равенства, братства, он может противопоставить мировому злу.
(Именно эта прекраснодушная мечтательность отличает Кау-джера от другого любимого героя Жюля Верна — капитана Немо, тоже отшельника, тоже состоятельного человека, но с активной жизненной позицией борца за справедливость, за счастье всех угнетенных.)
Нет смысла пересказывать содержание только что прочитанного романа. Нелишне только подчеркнуть, как под воздействием обстоятельств Кау-джер шаг за шагом отступает, увы, назад от своих принципов.
Кратковременная высадка будущих колонистов оборачивается для них долгими годами жизни на южноамериканском острове. И чуть ли не с первых дней подавляющее большинство переселенцев обнаруживает отнюдь не лучшие свои качества; да и трудно предположить, чтобы случилось иначе: в руки вербовщикам угодили не только честные труженики, но и подонки общества, демагоги, проходимцы, неудачники…
Еще недавно Кау-джер патетически восклицал: «Будь проклят тот, кого влечет к власти! Всякий, кто стремится к господству над другими, должен быть стерт с лица земли!»
Но вот на острове начинаются кражи с общественных складов, возникают пьянки, ссоры, дебоши, расслоение на обособленные — далеко не всегда с чистыми намерениями — группы.
И теперь мечтатель-анархист рассуждает: «Кто назначит охрану? Кто осмелится приказывать и запрещать? Кто присвоит себе право ограничивать свободу себе подобным и навязывать им свою волю? Ведь это значит поступить как тиран, а на острове Осте все были равны?»
В отличие от предыдущего монолога этот вызывает усмешку, право…
Постенав вот таким манером, Кау-джер — кто его уполномочил? — принимает волевое решение: установить охрану при складах. Первая ступень пройдена…
Бедлам же на острове продолжается. Люди, предоставленные сами себе, оказались неспособными поддерживать собственное существование. Грабежи. Пролита первая кровь.
Как же теперь быть? Что же делать? Внять голосу рассудка, вмешаться в бойню, спасти людей даже против их воли? Но это полное отрицание его прежней жизни,— Кау-джер принимает еще одно самоличное «постановление»: объявляет себя правителем острова, совершает государственный переворот. «Он не только признал в конце концов необходимость власти, не только решился, превозмогая отвращение, стать ее предводителем, но, перейдя от одной крайности в другую, превзошел даже ненавистных ему тиранов, не спросил даже согласия тех, над которыми утвердил власть…»
Что же те, над которыми он утвердил власть?
«Толпа громко закричала. Аплодисменты, возгласы «Да здравствует Кау-джер!» и «Ура!» разразились подобно урагану. Люди поздравляли, обнимали друг друга, матери подбрасывали кверху своих детей… Колонисты поняли, что ими будут управлять и что им остается лишь повиноваться. Неограниченную свободу они с радостью обменяли на верный кусок хлеба».
Вчерашний анархист,— мы бы теперь сказали: демократ,— начинает свою деятельность с того, что экспроприирует частный дом, вывешивая на дверях таблички «Управление», «Милиция», «Суд». Один из входов не обозначен названием, но сам вид помещения несомненно свидетельствует: это — тюрьма.
Затем все идет естественным путем. Введены продовольственные пайки по ценам, установленным государством (каким? Или Кау-джер, вослед французскому королю Людовику XIV, мысленно произнес: «Государство— это я»?).
Еще недавно отрицавший любые законы, он объявляет непреложностью обязанность каждого трудиться. И «когда правитель проходил мимо, лежавшие вставали, разговоры смолкали и все приподнимали фуражки».
Вот она, твердая рука, о которой вслух многие мечтали.
И последний штрих. На острове обнаружено золото. Крохотную часть суши заполняют беззастенчивые пришельцы-старатели. Начинается разграбление всего и вся. И Кау-джер самолично командует: «Огонь!», а потом с ужасом взирает на груду окровавленных тел.
Это — конец. На утлой лодчонке бывший мечтатель уплывает на островок, чтобы там, на мысе Горн, достроить маяк и провести на нем остаток жизни. Лишь в одиночестве видит он свое спасение… О спасении людей он, кажется, больше не думает.
«Что же осталось от всех теорий Кау-джера после того, как он столкнулся с реальными фактами? Результат был налицо — неоспоримый и несомненный: люди, предоставленные самим себе, оказались неспособными поддержать свое существование. Его долгая внутренняя борьба привела к поражению: он признал необходимость самых крайних мер, без которых — из-за несовершенства человеческого рода — невозможно пойти по пути прогресса и цивилизации. Видимо, люди не так тяготятся порабощением, как это ему представлялось прежде. Может ли подобная покорность, почти трусость, сочетаться со стремлением личности к абсолютной свободе?!»
Это писал сам Жюль Верн, на исходе жизни полный мудрой тревоги за человечество.
Потерпела крах еще одна утопия, ведущая свое начало от социалистов-утопистов К. Сен-Симона, Ш. Фурье, Р. Оуэна.
А их труды были объявлены одним из важнейших источников так называемого научного коммунизма — еще одной утопии, сочиненной Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом, «творчески развитой» Владимиром Ульяновым-Лениным… Утопии, потерпевшей крушение в наши дни.
Очень горькую и мудрую книгу написал на склоне дней своих великий фантаст Жюль Верн. Написал сто лет назад. Но, если вчитаться в нее внимательно и увидеть не только приключения, то никак нельзя будет не заметить: во многом она перекликается с нашими днями, с заботами и метаниями людей, живущих на территории, как теперь говорят, «этой страны».
Валентин ЕРАШОВ
Примечания
1
Готический шрифт — почерк латинского письма эпохи средневековья (XII-XV вв.) в Европе. Впоследствии имеет ограниченное применение.
(обратно)2
Зигмаринген — городок на юго-востоке Германии; в описываемое время имел около четырех тысяч жителей.
(обратно)3
Гогенцоллерны — династия (знатный род, семья, где монархи сменяют друг друга по праву наследования) князей (курфюрстов) в исторической области Бранденбург в 1415-1701, прусских королей в 1701-1918, германских императоров в 1871-1918 годах. Побочной ветвью этой династии явились Гогенцоллерны — Зигмарингены — румынская королевская династия, основанная в 1866 году, которую завершил последний король Румынии Михай I, свергнутый с престола 30 декабря 1947 года в результате инспирированного Советским Союзом переворота.
(обратно)4
Мадьяры — самоназвание нации венгров.
(обратно)5
Флорентийская жилка — особо прочная шелковая леска (по названию итальянского города Флоренция).
(обратно)6
Флорин (также гульден) — серебряная монета, имевшая хождение в ряде европейских государств.
(обратно)7
Спич — то же, что и тост: краткая приветственная застольная речь.
(обратно)8
Дунай образуется от слияния трех малых речек близ города Донауэшингена. Длина — 2850 км (вторая по протяженности река в Европе после Волги — 3530 км).
(обратно)9
Крона — золотая монета в Германии с 1875 года.
(обратно)10
Лье — устаревшая французская мера длины, равна 4445 м.
(обратно)11
Усач — довольно редкая рыба семейства карповых; промысловые размеры — длина свыше полуметра, вес около 3 кг.
(обратно)12
Фут — английская мера длины, принятая в судоходной практике; равен приблизительно 30 см.
(обратно)13
Крейцер — небольшая немецкая медная монета; в описанное время составляла 1/60 флорина.
(обратно)14
Оттоманская (или Османская) империя — официальное название Турции с присоединенными территориями, сложившейся в XV-XVI веках; распалась в 1918 году.
(обратно)15
Рущук — город в Болгарии. Во время турецкого владычества был крепостью и одним из главных мест стоянки турецкой дунайской флотилии.
(обратно)16
Лоцман — специалист по проводке судов, хорошо знающий местные условия плавания.
(обратно)17
Апрельское восстание 1876 года — направлено против феодальной зависимости Болгарии от Турции. Продолжалось ровно месяц (20 апреля — 20 мая) и было жестоко подавлено турками. Явилось одним из поводов к русско-турецкой войне 1877-1878 годов.
(обратно)18
Фунт — мера веса. В различных странах Европы равнялся в среднем 500 г. К описываемому времени был отменен почти во всех государствах и употреблялся только в быту, по традиции (в России весил около 400 г и сохранился официально до 1918 г.).
(обратно)19
Ратисбон (немецкое название — Регенсбург) — старинный город с богатой историей и примечательными архитектурными памятниками.
(обратно)20
Райхстаг — название немецкого парламента (в большинстве русскоязычных изданий неверно пишется: рейхстаг).
(обратно)21
Портал — в данном случае: архитектурно оформленный вход в здание.
(обратно)22
Готика — средневековый архитектурный стиль, в котором воздвигались величественные сооружения.
(обратно)23
Капелла — католическая часовня или помещение в храме для молитв.
(обратно)24
Пресбург — старое немецкое название города Братиславы, столицы Словакии.
(обратно)25
Колосс — сооружение, а также легендарное существо огромной величины; пигмей — человек крохотного роста.
(обратно)26
Славянские государства Сербия и Черногория, изнемогая под мусульманским игом, 20 июня 1876 года объявили Турции войну в поддержку восставших ранее Боснии и Герцеговины. Боевые действия завершились безрезультатно. Балканские страны освободились от владычества Турции лишь в 1913 году.
(обратно)27
В Библии рассказывается о пастухе Давиде, победившем в единоборстве великана Голиафа и ставшем впоследствии царем Иудейским.
(обратно)28
Ватерлиния — горизонтальная отметка по борту судна, указывающая на его нормальную осадку в воде.
(обратно)29
Нейзац (сербское название— Новисад, или Нови-Сад) — второй после Белграда речной порт в тогдашней Сербии на Дунае.
(обратно)30
Землин (сербское название Земун) — город на берегу Дуная, напротив Белграда.
(обратно)31
Расстояние от Зигмарингена до Ульма по реке Дунаю составляет более 100 км.
(обратно)32
Ипель — приток Дуная, впадающий в него выше Белграда.
(обратно)33
Герцеговина в ту пору (с 1483 г.) — турецкая провинция.
(обратно)34
Болгария захвачена Турцией в 1396 году.
(обратно)35
Порта — официальное название правительства Османской империи.
(обратно)36
Сербия находилась в зависимости от Турции с 1393 года, в полном владении — с 1739 года.
(обратно)37
Черногория начиная с 1439 года вела постоянные войны с Турцией, отстаивая — с переменным успехом — свою независимость.
(обратно)38
Черняев Михаил Григорьевич (1828-1898) — известный русский генерал; добровольно принял участие в сербско-турецкой войне на посту главнокомандующего сербской армией.
(обратно)39
Милан I (Обренович IV; 1854-1901) — князь, с 1882 года — король Черногории; не пользовался поддержкой народа, власть его не имела прочной опоры.
(обратно)40
Греческое восстание — буржуазная революция в Греции в 1862-1864 годах.
(обратно)41
Башибузуки — наемные отряды турецкой пехоты, отличались особой жестокостью.
(обратно)42
Речь идет о восстании в Болгарии в 1875-1876 годах.
(обратно)43
Чичероне — проводник-экскурсовод по достопримечательным местам.
(обратно)44
Сцена относится к 10 октября 1875 года, когда после подавления Апрельского восстания Болгария жила в обстановке острого социального напряжения.
(обратно)45
Ракия — крепкая сливовая водка, излюбленный напиток болгар.
(обратно)46
Гирло — так называют в Черноморском бассейне рукава, образующие дельту (разветвления реки в устье).
(обратно)47
Килия — в ту пору румынский таможенный город; Сулина — румынский порт в устье Дуная.
(обратно)48
Как уже сказано выше, Портой называлось правительство Османской империи (но не сама империя). Применялись выражения: Оттоманская Порта, Высокая Порта, Блистательная Порта.
(обратно)49
Угроза войны — речь идет о назревающей русско-турецкой войне (1877-1878 гг.).
(обратно)50
Берлинский конгресс 1 июня — 1 июля 1878 года подвел итоги русско-турецкой войны.
(обратно)51
Мол — каменная стена, построенная в море для защиты рейда (места стоянки судов) от волнения моря, морских течений, наносов песка, ила и проч.
(обратно)52
Лиман — широкое и обычно неглубокое водное пространство реки у ее впадения в море.
(обратно)53
Русско-турецкая война 1877-1878 годов вызвана подъемом национально-освободительного движения на Балканах и обострением международных отношений. На стороне России в войне активно участвовали войско Румынии, милиция кавказских народов, болгарское ополчение, значительное число российских добровольцев (преимущественно из интеллигенции). Война объективно создала условия для обретения независимости рядом балканских государств (Румыния, Болгария, Сербия).
(обратно)54
Гуанако — животное рода лам семейства верблюдовых. Объект охоты (мясо, кожа).
(обратно)55
Карабин — укороченная винтовка.
(обратно)56
Фут — единица длины, равная 0,3048 м.
(обратно)57
Лье — единица длины во Франции, сухопутное лье равно 4,444 км, морское лье равно 5,556 км.
(обратно)58
Пирога — у индейцев Центральной и Южной Америки и народов Океании — узкая длинная лодка, остов которой обтянут кожей или шкурами, или выдолбленная из целого древесного ствола.
(обратно)59
Каноэ — выдолбленный челн североамериканских индейцев.
(обратно)60
Брансвик — прав. Брансуик.
(обратно)61
Пампасы, пампа — субтропические степи в Южной Америке.
(обратно)62
Сфинкс — статуя крылатого чудовища с туловищем льва, с головой и грудью женщины.
(обратно)63
Лама — парнокопытное животное семейства верблюдовых, не имеющее горба; викунья или вигонь — животное рода лам семейства верблюдовых.
(обратно)64
Фактория — здесь: торговая контора и поселения, организуемые купцами в колониальных странах и отдаленных районах.
(обратно)65
Полиглот — человек, владеющий многими языками.
(обратно)66
Яганы — собиратели морских моллюсков (раковин) и охотники юго-запада Огненной Земли и Чилийского архипелага.
(обратно)67
Утопический — нереальный, несбыточный.
(обратно)68
Сармьенто де Гамбоа — испанский мореплаватель XVI века; основал на берегу Магелланова пролива колонию, почти все население которой впоследствии погибло от голода (Пуэрто-Хамбре по-испански значит: Голодная Гавань).
(обратно)69
Каботажное судно — судно флота прибрежного пароходства.
(обратно)70
Фарватер — путь для безопасного прохода судов, огражденный сигнальными знаками.
(обратно)71
Фок-мачта — передняя мачта на судне.
(обратно)72
Гидрографический — раздел науки о водах на поверхности земного шара, занимающийся съемкой и нанесением на карту водных объектов.
(обратно)73
Навигация — здесь: мореплавание, судоходство.
(обратно)74
Галс — здесь: курс судна относительно ветра.
(обратно)75
Трут — материал (фитиль, ветошь, сушеный гриб), употребляемый при высекании огня.
(обратно)76
Бакен — плавучий знак, стоящий на якоре и указывающий судам опасные места. Знак оборудован звуковыми или световыми устройствами.
(обратно)77
Ванты — снасти судового стоячего такелажа.
(обратно)78
Грот-мачта — вторая от носа, самая высокая мачта на парусном судне.
(обратно)79
Рангоут — оснащение судна, предназначенное для постановки парусов, сигнализации.
(обратно)80
Траверз — здесь: направление, перпендикулярное курсу судна.
(обратно)81
Бакштаг — здесь: снасти на судне.
(обратно)82
Фалинь — веревка, крепящаяся к носу или корме шлюпки; с ее помощью шлюпка буксируется, привязывается к пристани или к борту судна.
(обратно)83
Фальшборт — продолжение наружной обшивки борта судна выше верхней палубы.
(обратно)84
Кливер — косой треугольный парус.
(обратно)85
Полуют — кормовая часть верхней палубы судна.
(обратно)86
Фор-стень-стаксель — один из видов парусов.
(обратно)87
Шкот — снасть, идущая от нижнего угла паруса и служащая для растягивания паруса и управления им.
(обратно)88
Таль — грузоподъемный механизм с ручным или механическим приводом.
(обратно)89
Такелаж — все снасти на судне; совокупность приспособлений для подъема и перемещения грузов.
(обратно)90
Клипер — быстроходное океанское судно.
(обратно)91
Концессия — предприятие, сданное по договору государством в эксплуатацию частным предпринимателям.
(обратно)92
Стапель — наклонный фундамент или помост для постройки, ремонта судов и спуска их на воду.
(обратно)93
Цицерон (Cicero) Марк Туллий (106 — 43 до н.э.)— римский политический деятель, оратор и писатель. Сторонник республиканского строя.
(обратно)94
Форштевень — массивная часть судна, являющаяся продолжением киля и образующая носовую оконечность судна.
(обратно)95
Вереск — медоносный декоративный кустарник.
(обратно)96
Рантье — лицо, живущее на проценты отдаваемого в ссуду капитала.
(обратно)97
Индивидуум — здесь: отдельный человек, личность.
(обратно)98
Нанду — американский страус; летать неспособен.
(обратно)99
В силу самого факта, само собой (лат.).
(обратно)100
Приспешник — помощник; здесь: соучастник.
(обратно)101
Дюйм — единица длины, равная 2,54 см.
(обратно)102
Лубок — твердая накладка в повязке на место костного перелома.
(обратно)103
Кок — повар на судне.
(обратно)104
Шпангоуты — ребра судна, к которому крепится обшивка.
(обратно)105
Горн — печь для накаливания и переплавки металлов.
(обратно)106
Претенциозный — лишенный простоты.
(обратно)107
Булимия — волчий голод, неутолимый голод, сопровождающийся слабостью, болью в подложечной области, обмороками.
(обратно)108
Гафель — металлический или деревянный брус, предназначенный для крепления парусов и поднятия сигналов.
(обратно)109
Клюз — отверстия в борту судна для выпуска за борт якорного каната или цепи.
(обратно)110
Кабельтов — здесь: единица длины в мореходной практике, равная 0,1 морской мили, т. е. 185,2 м
(обратно)111
Порто-франко — порт, город, в пределах которого разрешается беспошлинный ввоз и вывоз иностранных товаров.
(обратно)112
Автономия — право самостоятельного решения внутренних вопросов какой-либо частью государства.
(обратно)113
Кафры — южноафриканские негры.
(обратно)114
Ранг — здесь: разряд, категория.
(обратно)115
В дальнейшем так и произошло: на побережье пролива Бигл возникло аргентинское поселение Ушуайя. (Примеч. авт.)
(обратно)116
Экстаз — состояние восторга.
(обратно)117
Штабель — какой-либо материал, сложенный в правильную форму (конуса, прямоугольника, куба и проч.).
(обратно)118
Деградация — постепенное вырождение, упадок.
(обратно)119
Геркулесова сила — от латинского названия древнегреческого мифического героя Геркулеса (Геракла), отличавшегося большой физической силой.
(обратно)120
Ретироваться — отступить; уйти, удалиться.
(обратно)121
Кредо — здесь: убеждения, взгляды.
(обратно)122
Альтруизм — забота о других, готовность жертвовать собой для других своими личными интересами.
(обратно)123
Галун — тесьма, шитая серебряной или золотой нитью, украшающая одежду, мебель.
(обратно)124
Здесь: ничейная, никому не принадлежащая земля (лат.) .
(обратно)125
Аннексия — насильственный захват.
(обратно)126
«Хлеба и зрелищ!» (лат.) — клич толпы в Древнем Риме; во избежание бунта, власти бросали эту подачку.
(обратно)127
Рок — судьба.
(обратно)128
Апоплексический удар — кровоизлияние, инсульт.
(обратно)129
Агония — состояние, предшествующее наступлению смерти.
(обратно)130
Галета — крупное сухое печенье.
(обратно)131
Пьедестал — подножие, основание памятника, колонны.
(обратно)132
Ритуал — здесь: установленный порядок совершения чего-либо, церемониал.
(обратно)133
Великая Коса — смерть.
(обратно)134
Дилемма — здесь: необходимость выбора, принятия определенного решения.
(обратно)135
Мираж — здесь: нечто кажущееся, призрачное.
(обратно)136
Химера — в древнегреческой мифологии — чудовище с огнедышащей львиной пастью, хвостом дракона и туловищем козы; неосуществимая мечта, фантазия.
(обратно)137
Бриз — ветер на побережье, дующий днем с моря на сушу, ночью — с суши на море.
(обратно)138
Десятник — старший над группой рабочих на строительных работах.
(обратно)139
Стропило — опора для устройства кровли.
(обратно)140
Остов — основа, самая существенная часть чего-либо.
(обратно)141
Крестовник — растение рода крестовник, семейства сложноцветных.
(обратно)142
Остролист — вечнозеленый кустарник или небольшое дерево с колючими листьями и ядовитыми красными ягодами.
(обратно)143
Пафос — воодушевление, подъем.
(обратно)144
Цент — разменная монета, равная 1/100 доллара.
(обратно)145
Инцидент — происшествие, недоразумение.
(обратно)146
Гекатомба — в Древней Греции жертвоприношение, состоящее из 100 быков; жестокое уничтожение, гибель множества людей.
(обратно)147
Конфекцион — магазин готового платья; мастерская, где шьют одежду.
(обратно)148
Алебастр — здесь: обожженный строительный гипс.
(обратно)149
Фармацевт — специалист по изготовлению и обработке лекарств.
(обратно)150
Зафрахтовать — нанять судно дли перевозки грузов.
(обратно)151
Ассигнования — определенная сумма денег, предназначенная для каких-либо целей.
(обратно)152
Субсидировать — выдавать пособие.
(обратно)153
Гарсон — официант, мальчик для посылок в гостинице.
(обратно)154
Лакричный сок — сок семейства бобовых, используемый в пивоварении, кондитерских изделиях.
(обратно)155
Золотой телец — золото, деньги, власть золота и денег.
(обратно)156
Втуне — без результата, напрасно.
(обратно)157
Политикан — ловкий и беспринципный человек.
(обратно)158
Спешенный — здесь: сошедший с коня.
(обратно)159
Гарнизон — воинские части, расположенные постоянно или временно в населенном пункте, районе.
(обратно)160
Стратег — здесь: человек, владеющий искусством руководства сражением.
(обратно)161
Бруствер — насыпь впереди окопа для защиты и укрытия бойцов от неприятеля.
(обратно)162
Хаос — полный беспорядок, неразбериха.
(обратно)163
Пиастр — здесь: итальянское название испанской монеты песо.
(обратно)164
Антипатия — чувство неприязни.
(обратно)165
Кляп — кусок дерева, тряпки во рту животного или человека, не позволяющий ему кричать.
(обратно)166
Бремя — груз, тяжесть.
(обратно)167
Продефилировать — пройти торжественным маршем, рядами перед кем-либо.
(обратно)168
Конфисковать — принудительно изъять имущество, деньги.
(обратно)169
Кандалы — железные кольца, скрепленные цепями, надевавшиеся на ноги и руки заключенных или рабов.
(обратно)170
Елико — сколько, насколько.
(обратно)171
Стан — туловище, корпус человека.
(обратно)172
Метрополия — государство, владеющее захваченными им колониями.
(обратно)173
Коносамент — расписка, выдаваемая капитаном судна, подтверждающая принятие груза к перевозке.
(обратно)174
Моллюск — тип беспозвоночных животных с кожной складкой, выделяющей раковину.
(обратно)175
Омар — вид крупных морских ракообразных с мощными клешнями.
(обратно)176
Лангуст, лангуста — семейство беспозвоночных, похожих на омаров, но без клешней, распространены в теплых морях.
(обратно)177
Лоцман — специалист по проводке судов в пределах определенного участка.
(обратно)178
Тендер — здесь: небольшая одномачтовая парусная яхта.
(обратно)179
Пума — хищное животное семейства кошачьих.
(обратно)180
Ягуар — крупное хищное животное семейства кошачьих.
(обратно)181
Кварц — один из минералов в земной коре.
(обратно)182
Тлетворный — разлагающий, вредный.
(обратно)183
Жила — здесь: минеральное тело, заполняющее трещину в земной коре.
(обратно)184
Копи — устаревшее название каменноугольных и соляных рудников и открытых горных разработок.
(обратно)185
Регламентировать — упорядочивать, подчинять определенным правилам.
(обратно)186
Фортуна — здесь: судьба, счастье.
(обратно)187
Кичиться — выставлять свое превосходство перед другими.
(обратно)188
Апогей — здесь: высшая точка развития чего-либо; вершина, расцвет.
(обратно)189
Оргия — здесь: разнузданное, разгульное пиршество.
(обратно)190
Корпеть — усердно заниматься чем-либо.
(обратно)191
Фунт стерлингов — денежная единица Великобритании, равная 100 пенсам.
(обратно)192
Цезарь — титул древнеримских императоров.
(обратно)193
Сан — звание, связанное с высоким и почетным положением в обществе.
(обратно)194
Карабин — охотничье ружье; укороченная винтовка.
(обратно)195
Обойма — приспособление для размещения нескольких патронов; применяется при заряжении стрелкового оружия.
(обратно)196
Наущение — совет, подстрекательство.
(обратно)197
Треуголка — форменная треугольная шляпа во флоте и армии.
(обратно)198
Плюмаж — украшение из перьев на головных уборах и конской сбруе.
(обратно)199
Протекторат — форма колониального господства.
(обратно)200
Аннексия — насильственное присоединение, захват чужой территории.
(обратно)201
Наваждение — обман чувств, призрак.
(обратно)202
Резидент — здесь: глава колониальной администрации.
(обратно)203
Преемник — чей-то продолжатель, тот, кто занял чье-то место.
(обратно)204
Непременное условие (лат.).
(обратно)205
Склянки — удар колокола, обозначающий получасовой промежуток времени.
(обратно)206
Бремя — ноша, груз.
(обратно)207
Келья — здесь: небольшая комната одинокого человека.
(обратно)




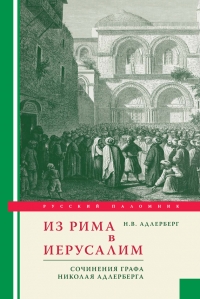


Комментарии к книге «Дунайский лоцман; Кораблекрушение «Джонатана»: романы», Жюль Верн
Всего 0 комментариев