Вместо предисловия
Про себя: профессиональный журналист и военный лётчик первого класса, влюблённый в свою работу. Пожалуй, это единственные занятия, которые мне доставляли истинные удовольствия. Они, и ещё бесконечная любовь к женщине. Я твёрдо убеждён, что нет в природе совершенней создания, чем лучшая половина человечества. Впрочем, вы это знаете не хуже меня.
И если вдруг вам покажется, что я слишком фриволен в отношениях с ними и экспрессивен в лексике, простите на честном слове.
Жизнь за плечами. Я написал историю, в которой нет неправды. Не все имена моих героев по этическим и другим соображениям подлинны, но те, кто ещё остался в живых, узнают себя по косвенным приметам.
Про жизнь, про службу и любовь
Летать рожденным посвящается
Любовь и небо. Книга 1.
Глава первая
Жара была невыносимой. Раскалённый воздух жадно слизывал с полуголого тела обильный пот, но оно не просыхало.
Держась на почтительном расстоянии, мальчуган годков около четырёх настырно преследовал двух подружек, направляющихся к Волге. Реветь он уже устал, и теперь тихо скулил, ковыряясь в носу и придерживая левой рукой, сползающие, видавшие виды, трусишки на помочах.
– Ну что ты прилип, как репей, – не выдержала одна из девчонок, – я кому сказала: марш домой! – и сделала угрожающий шаг ему навстречу.
Будь бы пацан постарше, он бы сумел ответить своей обидчице. Однако в своём лексиконе подходящих слов не находил. Только и подумал с досадой: «Вот стервы!». Выражению этому он выучился у своего дружка Витьки, который к месту и не к месту любил повторять его, подражая отцу. Красиво, коротко и веско.
Вы, конечно, сообразили, что тот, который гундосил, был я.
Не знаю почему, видимо Господу Богу только известно, что давным-давно я получил право на свободу слова и передвижения. Ну, что тут поделаешь, если человек родился!
– Хрен с вами, – шмыгнул я носом, выбил на песок густую зелёную соплю и зашлёпал босыми ногами к кинотеатру, где вот уже третий день показывали «Волшебное зерно», в главной роли которого играл Сергей Мартинсон. Но об этом я узнал гораздо позже.
На этот раз контролёрша проявила исключительную бдительность, когда я попытался прошмыгнуть в зрительный зал вместе с толпой. Она ловко выудила меня за ухо из длинной очереди и молча выдворила в вестибюль. Что ж, если не повезёт, то обязательно с обидой и болью…
Скорее обескураженный, чем огорчённый, я уныло поковылял к дому № 596 по улице Дзержинского. В этом роскошном кирпичном четырёхэтажном здании в коммуналке и находилась наша замечательная двухкомнатная квартира с подселением, которой премировали моего отца за ударную работу на тракторном заводе.
Раньше мы жили в бараке на Южном посёлке, и я до слёз завидовал друзьям, которые имели отдельные квартиры с тёплым толчком и водопроводом. Теперь всё это было и у нас, а соседи мне не мешали: с ними было веселее. Да и Кольку, моего младшего брата, на лето отправили к тетке в деревню.
Ключ от входной двери я привычно нашарил под ковриком, а через минуту уже выудил из кастрюли кусок чёрного хлеба и огурец. Зимой я никогда не наедался, но на дворе стоял июль, и Сталинград утопал от изобилия овощей и фруктов.
Живот округлялся, и начатый неудачно день стал казаться не таким уж и плохим. Даже можно сказать хорошим, если не замечательным. Чем не лафа – сидеть в прохладной комнате, лопать и рассматривать гитару с большим кумачовым бантом на грифе, висящую над кроватью сестры. Правда, под угрозой физического наказания прикасаться к ней запрещалось. Сущность его я усвоил давно и относился к нему с уважением.
Однако вскоре мне это надоело, и я переключил своё внимание на приоткрытую балконную дверь. Он мне нравился тем, что оттуда, с высоты, открывалась отличная перспектива и возможность наблюдать за суетой улицы.
Через мгновенье я уже был за балконной дверью. И внимание сразу же привлекла роскошная радужная стрекоза. Она сидела на стене, рядом с перилами и нервно трепетала крылышками. Честно говоря, я тогда не знал, что это насекомое называют стрекозой. На местном наречии оно называлось коромыслом. Соблазн поймать такую прелесть был выше инстинкта самосохранения. Я тихонько приставил к перилам старенькую скамеечку и медленно, соблюдая осторожность, потянулся за ним.
Стрекоза, словно подразнивая, вспорхнула и снова уселась, но на вершок подальше. Но манёвр красавицы меня не остановил. Вытянувшись в струнку, я уже готов был схватить её за крыло, и… сорвался вниз.
Мне крупно повезло: приземление произошло на четыре точки, и я ободрал только колени и локти. Да и балкон находился на втором этаже.
В больницу меня отнёс отец, а через три часа я уже лежал дома в своей постели, и мать хлопотала около, стараясь угадать мои желания. Даже сестра, гадюка, – и та нежно трепала мои белесые кудряшки.
Здесь бы самое время сказать, что кто-то из окружающих высказал мысль, что раз, мол, малец сорвался со второго этажа – быть ему лётчиком. Но такого никому и в голову не пришло, хотя на слуху у всей страны звучали имена Чкалова, Гризодубовой и Левандовского…
Что ещё запомнилось из раннего детства?
Воздушные бои в небе Сталинграда.
Уже второй год шла Великая, кровавая война, и фашистские самолёты беззастенчиво, как у себя дома, хозяйничали в воздушном пространстве Волжской столицы.
Однажды утром мне довелось быть свидетелем кратковременного боя наших ястребков с мессерами над Спартановкой. В памяти остались надсадные завывания моторов и приглушенные расстоянием пулемётные очереди, похожие на гороховую дробь в решете.
Из Сталинграда началась эвакуация заводов и предприятий оборонного значения, потянулись к Волге первые беженцы. По опустевшим сиротливым улицам маршировали военные и ополченцы. Люди напряглись и посуровели. С лиц исчезли улыбки, а в разговорах чаще всего звучали темы военные.
От постоянных налетов вражеской авиации в городе начались пожары. Бомбы уже попадали в соседние дома. Сбросившись, жители уговорили местного батюшку совершить крестный ход вокруг нашего дома. Действительно ли помогла молитва или всё произошло по воле случая, но только дом оставался целым до самого нашего отъезда. Правда, через подъезд от нас крышу и два этажа пробила вражеская бомба, но не взорвалась.
Отец днями и ночами пропадал на тракторном заводе, демонтируя оборудование и загружая им товарные вагоны и платформы. Иногда мы его видели, и слышали скупые новости о том, что есть мнение начальства отправить рабочих в тыл вместе с заводом и с семьями. Мама этому не верила. На вокзале тысячи людей отчаянно сражались за место в любом поезде, отъезжающим на северо-восток. И каких людей! Чего уж там рассчитывать на власти, озабоченных выполнением задач Государственной важности.
Мать оказалась права. В начале августа к вечеру домой прибежал отец и сообщил, что железнодорожный состав, к которому он прикомандирован, отправляется через два часа и что семьи остаются в городе.
– Приеду на место и сразу же сообщу адрес, – успокаивал, как мог, отец плачущую мать. – Детей береги: пропадут они без тебя. Ну, прощай, Бог даст – свидимся.
И ушёл, перецеловав всех нас – Машу, меня и братца меньшого Коленьку.
И осталась тридцатичетырёхлетняя женщина с тремя детьми в осаждаемом фашистами городе. Без еды, без воды, без света, без надежды остаться в живых.
Жители покидали город. Бомбёжки участились, и по сигналу воздушной тревоги остатки людей поспешно прятались в подвалах. Считалось, что это самое безопасное место.
Как – то в разгар налёта бомбардировщиков, когда мы сидели и прислушивались, какой район обрабатывают с воздуха, в подвал заскочил настоящий фашист с автоматом. Кто он был, разведчик ли или солдат регулярных войск, никто не знал. Но все замерли от испуга, прижимаясь, друг к другу. Полоснёт сдуру из автомата по гуще женщин и детей, и – всё. Немец на секунду окинул взглядом насмерть перепуганную толпу, и молча выскочил наружу. Пронесло, слава тебе, Господи!
Надо было на что-то решаться. Война стремительно приближалась. Последние запасы продуктов истощились. Мать бегала на разбомблённый паточный завод, приносила в бидоне патоку, доставала откуда – то крахмал и пекла лепёшки. Но и эти скудные съестные товары вскоре кончились, и как – то наутро, погрузив немудрёный домашний скарб на где-то раздобытую двухколёсную тележку, мы двинулись за город. Схватившись за край телеги, я, с небольшой котомкой за плечами, в которую мне положили чугунок, торопливо перебирая ногами, спешил за взрослыми, но не поспевал. Чугунок меня перетягивал, и часто ронял. Запряжённая в оглобли мать тянула телегу, как ломовая лошадь, а сестра подталкивала сзади.
Мы уже выбрались на центральную площадь, когда в небе появились немецкие бомбардировщики. Не знаю, по каким объектам они работали, но нам казалось, что смертоносный груз сыпется на наши головы. От страха мы забрались под телегу, как будто она как-то могла защитить.
Что делается наверху, мы не видели, но душераздирающий тоскливый волчий вой падающих бомб впивался в наши сердца, заставляя тела сжиматься от ужаса. От мощных взрывов земля содрогалась и стонала, и я видел, как в полукилометре от нас подпрыгивали и рушились стены и горели здания. Мать, обняв нас руками, словно наседка своих птенцов, непрерывно молилась.
Через несколько минут воздушный налёт закончился, котомку мою выбросили, посадили на телегу рядом с Колей, и мы немедленно двинулись к станции Гумрак, где по слухам ещё работала переправа за Волгу.
И снова мать, обливаясь потом, упорно тянула за собой и поклажу и меня с Коляшей. О чём она думала? Пожалуй, ни о чём. Подчинённая животному инстинкту, она старалась как можно быстрее увести своё потомство от реальной опасности. А может, всё-таки, думала?
Уроженка села Серино, она, по рассказам, была первой девкой во всей округе. Лёгкая на подъём, мастерица на все руки, мать с петухами принималась за немудрёное при их бедности хозяйство. Живая и общительная от природы, весёлая и находчивая, она была душой сельской молодёжи и украшением каждых посиделок. В своё время она закончила четырёхлетнюю церковно-приходскую школу – для крестьян образование, считай, что высшее – и в старости любила подчеркнуть, как за примерную учёбу её премировали отрезом на платье. Награда по тем временам, раздираемых гражданской войной, неслыханная, сродни Нобелевской премии.
Черноволосая – брови вразлёт, озорница и хохотунья с чертенятами в глазах, не одну горячую голову вскружила она, будучи девицей. И не только привлекательной внешностью, но и божественным голосом. Люди окрестных деревень за многие вёрсты приходили в село, чтобы послушать её чудесное пение в церковном хоре. Старожилы говаривали, что этот божественный дар передался ей от деда – цыгана по материнской линии, разудалого весельчака и конокрада, погибшего под кольями разъярённых крестьян. Да и сам я унаследовал от прадеда курчавый волос и вспыльчивый, как порох, характер.
Много позже, уже став самостоятельным, наезжая погостить у родителей, я заслушивался застольными дуэтами отца и матери даже тогда, когда каждому из них перевалило за шестьдесят.
Пишу эти строки, а в ушах так и звучит непередаваемая мелодия знакомой мне старинной песни, с крестьянской хитрецой:
Здравствуй, хозяин хороший,
Здравствуй, хозяин пригожий.
Мы к тебе пришли не напиться,
Мы к тебе пришли повеселиться,
– начинала мать вкрадчивым голосом.
Нам с тобой покажется рай, рай –
Хоть по рюмочке дай,
– баритоном подхватывал отец, а потом уже дуэтом и с нарастанием, речитативом, продолжали:
А мы будем пить,
Пить, пить, пить.
Хозяин будет лить,
Лить, лить, лить.
Туда, сюда, где родина моя.
В ту самую сторонушку,
Где милая живёт…
У отца голос приятный, мягкий, с бархотцой, и очень гармонировал с материнским меццо-сопрано. Может, она и полюбила его за это, а возможно и за то, что лицом он был очень похож на Николая – угодника.
Первая встреча у них состоялась в славный праздник на Пасху. Как потом признались родители, она его вычислила, а он на неё глаз положил.
Вот с лета и зачастил мой будущий отче от деревни Костарёво, где проживал, до Серино и обратно. Туда – восемь километров и оттуда – столько же. А летом – то ночки короткие…
– Бывало, прибежишь со свиданья домой, – с наслаждением вспоминал отец годы спустя, – кинешься в саду под яблоню и мгновенно уснёшь, как убитый. Да не тут-то было. Отец с нами, сыновьями, не церемонился. Ни свет, ни заря поднимал на работу. Кого ногой, кого рукой, кого матом, вспоминая всех святых угодников. Хозяйство-то было большое, зажиточно жили. А чего и не быть достатку, коли кроме родителей семеро братьёв в семье да сестрица. Пара лошадей имелась, три коровы, свиньи, само собой, овцы там и прочая мелкая животная. Всех накорми, напои, выпаси, опять же навоз убери. Да ещё работы в поле. Это со стороны казалось, что живём припеваючи, и работаем, шутя, а на самом деле вкалывали – не дай Бог каждому….
– Что это за рыба, – ругался он, брезгливо отбрасывая в сторону кусок жареного залома, – вот в наше время пойдёшь на рыбалку на Ловлю, – по-местному наречию называл он Иловлю речку, – так руками вылущивали сомов и налимов из омутов и из-под коряг. Вот это была рыбалка! А сейчас что – баловство одно.
Он на минуту умолкал, взгляд устремлял куда-то в бездну, а потом, глубоко вздохнув, подводил черту:
– Да что там, золотое времечко было.…
Венчались они в той самой церкви, где впервые познакомились. Свадебный обряд был соблюдён по полной программе, и певчие на клиросе дружно и славно восхваляли прелести невесты и молодецкую удаль жениха – красавца, на которого имели виды, потерпевшие фиаско, многочисленные поклонницы.
В том же двадцать восьмом забрали отца в Красную Армию и отправили службу нести не куда-нибудь, а в сам город Ленинград в кавалерийскую часть, обслуживающую Правительство при Смольном.
Размахивать шашкой ему не пришлось, судьба распорядилась, чтобы он выполнял обязанности эскадронного повара. Так Господу было угодно. Да и он не шибко протестовал. По всей стране уже чувствовалось приближение страшнейшего голода.
По традиции невестка жила в доме мужа. Работы, конечно, хватало, хотя излишки у Чебатковых (так по-уличному называли семью отца) реквизировали.
День ото дня хозяйство хирело, и заболевший свёкор уже не мог держать сыновей в ежовых рукавицах. Трое из них покинули отчий дом, надеясь найти своё счастье на стороне, и их обязанности автоматически легли на плечи женщин.
Мать была беременна. Тяжкий труд и скудное к этому времени питание наложили свой отпечаток на её внешность. Она похудела и подурнела.
Пришла, однако, пора рожать, и появилась на свет крошечная девочка, разительно похожая на мать, и с упрямыми жёсткими отцовскими складочками по углам розового ротика. Этот ротик был чрезвычайно прожорлив, но еды не было. Небывалая засуха спалила посевы, и люди употребляли в пищу всё, что хоть как-то могло утолить голод. Крапива и лебеда считались лакомством, а отруби – богатством. Ходили слухи, что в отдельных районах Поволжья наблюдались случаи людоедства.
Чтобы выжить, нужно было бежать из этого проклятого места. И мать, прихватив узелок с пелёнками и двухмесячную дочь, села однажды в проходящий поезд и отправилась в Ленинград. Как она добралась до цели, и сама не помнит.
В огромном, безбрежном, как океан, мегаполисе, где сосед в упор не видит соседа, нашлась – таки добрая душа, приютила полуграмотную женщину, накормила и отогрела.
Наутро, оставив дочку на попечении хозяйки, отправилась мать на поиски воинской части, где служил мой будущий отец. И опять ей повезло: по дороге встретила военного, который и довёл её до самой проходной. Через полтора часа томительного ожидания они крепко обнялись, и у матери, женщины, в общем-то, сильной, брызнули слёзы облегчения.
А через несколько дней мать устроилась на почту письмоносцем. Появился заработок. Опять же и муж, хоть и не часто, как хотелось бы, но подкидывал продукты, остающиеся после кормёжки личного состава.
Так и прожила моя мать в городе до самой демобилизации отца. А когда это случилось, молодожёны возвратились в родные места, но в деревню не вернулись, и осели в Сталинграде. Отец устроился на СТЗ, как коротко называют горожане тракторный завод, а мать – на фабрику-кухню. Выделили им небольшую комнатушку в общежитии и зажили они дружно и ладно, в мире и согласии…
Мы расстались с читателем на выезде из города под тележкой и теперь после краткого отступления возвращаемся назад.
Воздушный налёт, продолжающийся пару минут, показался нам вечностью. Но вот самолёты улетели, и наступила оглушительная тишина. Радуясь, что всё обошлось, мать поспешно запряглась, и мы иноходью продолжили своё бегство из родного города.
Уже смеркалось, когда перед нами возникла товарная станция отчего-то названная Гумраком. На фоне умирающего заката смутно вырисовывались останки разбитых вагонов, покорёженные рельсы и остовы разрушенных зданий. Единственный пригодный для ночёвки склад был плотно забит беженцами. Измученные, до смерти уставшие люди вповалку лежали на полу. Спёртый воздух как протухший кисель обволакивал тела, смердящие потом и вонью. Нечего было и мыслить, чтобы найти в кромешной темноте хоть малую толику свободного места под крышей. Ногу, и ту поставить было некуда. И мать уложила нас на телеге, прикрыв ватным одеялом. Утомлённые многочасовым переходом, мы мгновенно заснули, а сентябрьская луна с холодным любопытством взирала на копошащиеся существа, почему-то называющих себя людьми.
Утро нас встретило холодом и гамом куда-то спешащих людей. Внешним осмотром было установлено, что Колька обмочился. Пока устранялась непредвиденная оказия, спальный салон опустел, и весь табор, ночевавший в сарае, спустился по крутому берегу к переправе.
Много сотенная толпа с нетерпением ожидала подхода очередной баржи, чтобы переправиться на левый берег. И когда она причалила к подмосткам, начался штурм, как две капли похожий на тот, который я увидел много лет спустя в кинофильме «Бег». Нечего было и надеяться на то, чтобы с кучей детей прорваться к осаждённому судну.
Но вот крошечный буксирчик вывел неуклюжую громадину на стремнину и тотчас, будто этого дожидались, из-за горизонта показалось звено немецких истребителей. Резкие пулемётные очереди хлестанули по беззащитной палубе, и началась паника. Не видя способов спастись от свинцовых жгутов, люди прыгали за борт, сметая всё и всех перед собой. Невообразимый, полный ужаса многоголосный вой был настолько силён, что перекрывал рёв моторов и звуки беспрерывно стреляющих пулемётов. Буксир загорелся, кто-то обрубил буксирный трос, и баржа, испуская дикие вопли, равнодушно понесла пассажиров вниз по течению. Помощи обречённым ожидать было неоткуда.
И ещё несколько раз пыталась мать рискнуть и перебраться на противоположный берег, но безрезультатно. К тому же с рассветом фашисты начинали азартную охоту на любой плывущий по реке объект, соревнуясь в стрельбе, словно в тире.
Почему немцы не расстреливали скопища людей на суше – до сих пор не ясно. Только думается мне, что не русских жалели они, а саму станцию, от разрушений сохранить хотели как стратегически важный железнодорожный узел.
Нам недолго пришлось дожидаться фашистов. На третьи сутки они уже деловито хозяйничали повсюду, и пытались заигрывать с детьми и женщинами. Станцию захватили без единого выстрела.
В моей памяти появление фашистов связано с наплывом огромных грузовиков, крытых брезентом, орудий и миномётов. Целые горы белых мешочков с твёрдым, как камень, веществом, по виду напоминающим макароны, навалом лежали на промёрзшей земле. Как потом оказалось, это был артиллерийский порох. Один из них я тут же прибрал к рукам и попробовал «макаронину» на зуб, за что и получил крепкий материнский подзатыльник.
Вскоре немцы подогнали товарный состав с вагонами – «телятниками», загнали в них всех беженцев и повезли в неизвестном направлении. С тележкой пришлось расстаться.
Поезд двигался урывками, пропуская на разъездах встречные эшелоны, груженные боевой техникой и войсками.
Нас высадили в станице Обливской – большом казачьем селе, – полупустом и полуразрушенном. Немецкий переводчик популярно объяснил, что с этого момента «все будет проживать хир». Где – здесь, он не объяснил.
Наскоро поручив дочери не спускать с нас, пацанов, глаз, мать кинулась искать новое пристанище. Вскоре она вернулась довольная и улыбающаяся, и сунула каждому по доброму ломтю душистого белого хлеба.
Собрав свои небольшие пожитки, и не переставая работать челюстями, мы вереницей тронулись вслед за матерью. У элеватора, вокруг которого тлели и дымились горы почерневшего зерна, мать свернула налево, и метров через триста мы остановились у небольшой мазанки с выбитыми окнами и сорванной с петель дверью.
– Здесь вот и будем жить, – устало сказала мать, обводя рукой небольшой сад, изрытый воронками, и изорванный в клочья плетень.
Внутри казачьего куреня, кроме мусора, дряхлого, неизвестного цвета, дивана и проколченогого обшарпанного стола, ничего не было. Зато справа от входной двери, как памятник хозяину, возвышалась великолепная русская печь с лежанкой.
– Местные жители подсказали, что пустует, – сказала мать, обращаясь к Мане. – Ничего, дочка, день – два поработаем и заживём по-людски. Главное – печь хороша, не даст зимой замёрзнуть. А топливо – вон оно, рядом с элеватором. Обугленная пшеница для еды непригодна, но горит хорошо и жару даёт много. Я сейчас к соседям схожу, а вы, пацаны, ступайте – ка в сад, наберите хворосту. Мы из него веников навяжем.
Дом стоял на краю неглубокого овражка, за которым расположилась какая-то немецкая часть. Вдоль аккуратно расставленных палаток неторопливо прохаживался часовой, а поодаль дымилась походная кухня, распространяя вокруг себя вкуснейший аромат какого-то варева.
– Эй, киндер, – закричал с того берега заметивший нас часовой, – ком хир, – махнул он рукой.
Мы испуганно юркнули в кусты и помчались домой: кто знает, чего задумала эта немчура…
Через неделю выбитые стёкла с помощью соседей были вставлены, казаки – народ запасливый, отремонтированная дверь висела на месте, в печке потрескивало зерно, а духмяный аромат из глиняного горшка приятно дразнил ноздри. В нем уваривались кукурузные початки – настоящее лакомство для детишек и взрослых, сытная, замечательная еда.
Мне уже не припомнить всех подробностей жизни в Обливской. Не знаю, например, где добывала мать пищу для нашего брата, чем занималась Маня, и кем были наши сверстники. И всё же наиболее яркие эпизоды жизни на оккупированной территории навсегда врезались в память.
Однажды, где-то ближе к весне, мать не вошла, а влетела в распахнутую дверь, молча и быстро усадила меня и Колю на диван, приказала коротко «не слезайте» и мгновенно исчезла.
Заразившись её волнением, мы притихли и с замиранием сердца ждали дальнейшего развития событий. Не прошло и пяти минут, как в сенях раздались тяжёлые, бухающие шаги и в комнате появились два здоровенных немца с автоматами наперевес. Они быстро обшарили глазами полупустое помещение, по-хозяйски заглянули в потухшую русскую печь и, разочарованные, повернули было к выходу. Но вдруг длинный, рыжий верзила, повернулся к нам лицом, направил на нас оружие, сказал, как выстрелил, короткое – «пуф!», и засмеялся, удовлетворённый детскими испуганными лицами. Затем рыжая морда подошла ко мне, приподняла за бока и ссадила с дивана, сопроводив своё действие междометием «оп!». Аналогичную процедуру он проделал и с братом.
Не сговариваясь, мы дружно и, главное, громко заревели. Игнорируя детский плач, немец приподнял диванное сиденье, извлёк из-под него спрятанный матерью оклунок муки, с удовлетворением сказал «гут», и немцы, переговариваясь и весело скалясь, исчезли из поля нашей видимости.
Вскоре объявилась и мама с Маней. Мать, не стесняясь выражений, высказала своё отношение в адрес грабителей, долго сетовала о похищенной муке, а сестра вытерла наши слёзы и сопли.
Второй случай был противоположен первому. Мы с Колей имели, конечно, друзей – одногодков, живших на нашей улице. А рядом – за оврагом – расположился немецкий миномётный батальон. Их миномёты они « Ванюшами» называли. « У вас – « Катюш», у нас – «Ванюш», – поясняли они в разговорах с пацанвой. Да пусть как хочешь называют, но только при стрельбе их миномёты завывали, как стая голодных шакалов.
Немцы – народ пунктуальный. У них всё по распорядку: когда вставать, когда стрелять, когда пищу принимать, – по полочкам расписано. Что касается до их других атрибутов – нам, пацанам, было наплевать. Но вот время приёма немцами пищи мы знали с точностью до минуты. И только потому, что главный батальонный повар имел привычку раздавать нам остатки не съеденного солдатами провианта. Поэтому к началу обеда человек пять-шесть огольцов всегда кучковались на почтительном расстоянии от походной кухни и с нетерпением ждали сигнала, по которому разрешалось подойти к повару. Каждый в руках держал какую-то посудину, – котелок там, кастрюльку или банку. По знаку весёлого повара мы робко приближались к кухне, и немец, приговаривая, что у него на фатерланд тоже есть трое киндер, распределял между нами оставшуюся на дне котла пищу. Не то, что некоторые – вывалят остатки в канаву, а нам в ней ройся. Что и говорить, сердечный был человек, не как те оглоеды, что стырили последнюю муку из-под дивана. Мы, отоварившись, по-детски его благодарили и мчались домой делиться добычей.
И уже тогда я сделал для себя вывод, что не все немцы – фашисты.
Где-то по ранней весне участились налёты на Обливскую нашей авиации. И взрослые, и детвора не только по звёздам на крыльях, но и по звукам научились распознавать, кто летит. Не скрывая своего восторга, мы с вожделением провожали взглядами пролетающих на запад бомбардировщиков и прикрывающих их истребителей. И в это время у матери выработался новый условный рефлекс: за несколько минут до налёта у неё начинали невыносимо ныть зубы. Как это получалось, объяснить она не могла. Но симптомы подтверждались на практике, и в скором времени материнская зубная боль являлась сигналом, своеобразной сиреной что ли, по которой мы заблаговременно укрывались в погребе, вырытом на задах, и пережидали тревожное время.
В мае сорок третьего года дождались – таки мы освободителей. Люди ликовали от восторга, смеялись и плакали от счастья, словно с приходом наших закончились и материальные и духовные беды и болезни. Нет, всё это осталось, но зато свобода принесла освобождение от страха потерять жизнь по прихоти любого оккупанта.
Вскоре мы перебрались в Сталинград. От бывшего великолепия чудесного города остались лишь стены да трубы. Огромные завалы из битого кирпича и смрадных помоек, по которым, совершенно не боясь прохожих, шныряли длиннохвостые крысы.
Пропитанные гарью и порохом, здания будто бы кричали во весь голос о том, что совсем недавно здесь проходила величайшая из битв на земле.
– Будто Мамай прошёл, – только и сказала мать, сокрушённо покачав поседевшей головой…
К сожалению, и молебен не помог о сохранении нашего дома. Там, где висела в нашей комнате гитара, зияла огромная, в полтора метра в диаметре, рваная дыра, а с потолка свисали скрученные огнём железные балки.
И все же город жил и дышал. Озабоченные люди спешили на восстановление тракторного завода, открывались школы и больницы, бойко работали магазины, столовые и базары, на которых предлагали все, что угодно, только плати. Но нам, только что прибывшим из оккупации, негде было жить.
Однако полная энергии, неугомонная и деятельная мать и здесь нашла выход из тупиковой ситуации. Совершенно случайно в одном из четырёхэтажек сохранилась полуразрушенная ванная комната. Одной стены у неё не было, но вокруг валялось столько обломков, что хватило бы не на один прекрасный дворец.
И мать, засучив рукава и призвав на помощь нашу хлипкую детскую силу, принялась за строительство. Общими усилиями мы сбросили с третьего этажа ржавую ванну, заложили проем, и уже через три дня ночевали за плотно прикрытой дверью. Электролампочку с успехом заменила коптилка, а теплом согревала, сделанная из старой бочки, буржуйка, приютившаяся как раз у входа направо. Мы очень гордились, когда, уходя из дома, закрывали на висячий замок свою отдельную однокомнатную квартиру. Однако крыша – крышей, а кушать хотелось каждый день… Подходящей работы для многодетной женщины не было, и она, по примеру других, попробовала свои силы в розничной торговле, продавая на базаре семечки и сушеную рыбу. Почему – то считалось, что это спекуляция, и она преследовалась по закону. Но семья имела прибыток, и голодать перестала.
Красивая, обаятельная и общительная женщина, мать с удивительным мастерством выкручивалась из щекотливых ситуаций, выходя сухой из воды. Её неустанная трудовая деятельность завершилась появлением в семье необыкновенного существа. Однако не спешите с ухмылкой. Нравственные и моральные устои матери были вне подозрений. Просто она купила… козу. Крупную, весёлую и главное – дойную. Здесь, очевидно, не последнюю роль сыграли крестьянские мотивы материнской души.
– Теперь с молочком будем! – с гордостью сказала мать, нежно поглаживая холку лохматого чудовища.– Зовут её Зойка, а жить станет вместе с нами. Так теплее и веселей… Ну, а по весне отдадим на выпас в общее стадо.
Зойка быстро адаптировалась к местным условиям и через пару недель лихо взлетала на третий этаж, извещая о своём прибытии дробным цокотом острых копыт по бетонным ступеням лестничных пролётов и железному настилу вместо цементной плиты между вторым и третьим этажами. Встречали мы её с восторгом и всегда припасали что-нибудь вкусненькое: пучок свежего молочая, корочку хлеба, а то и два – три листочка от капусты. На нашу детскую любовь она отвечала полным выменем парного молочка, очень полезного для Коленьки – хилого, болезного мальчика, страдающего от мудрёного недуга, от которого и лекарства – то не было.
Весну следующего года мы встретили с радостью. Как ни хороша зима, да холодна уж очень. Мне к этому времени стукнуло семь лет, пора было готовиться к школе. В связи с этим предстояли расходы, и немалые. Кроме учебников, необходимы еще и одежда и обувь, не говоря уже о мелочах. Мать стала на всём экономить.
Я тоже подключился к этому процессу, и в летние жаркие дни, по примеру сверстников начал торговать на базаре водой. С большим пятилитровым чайником и алюминиевой солдатской кружкой, с раннего утра и далеко за полдень детским пискливым голосом я зазывал жаждущих, предлагая свой немудреный товар:
– Кому воды холодной, кто с утра голодный! Эх, навались, у кого деньги завелись!
. Меня останавливали, щупали бока чайника, определяя температуру воды, интересовались ценой.
– Не сомневайся, дяденька, только что из– под крана, – беззастенчиво врал я, наполняя кружку.
– Пейте на здоровье, на рупь – досыта!
В особенно жаркие дни в воду бросали лёд. Мороки с ним было, конечно, много. Мало того, что за ним надо было бегать аж до самого молокозавода, а это в один только конец километра полтора, нужно было ещё и сторожу платить. Пока отмоешь от опилок и прибежишь на рынок, от порядочного куска льда с гулькин нос остаётся. Цена на охлаждённую воду, естественно, поднималась и обходилась покупателю рублём за кружку. За день непрерывной беготни выручка составляла в среднем рублей десять – пятнадцать. Сумма не ахти какая, если принять во внимание, что солдатский котелок картошки стоил восемьдесят, а булка чёрного хлеба – сто двадцать рублей. Но, как говорится, курочка по зёрнышку клюёт, и то сыта бывает. Во всяком случае, на стакан пшена денег хватало. А это – ужин на всю семью!
Когда работы не было, детвора сколачивалась в стаи и двигалась в сторону Мечётки, район частных построек. Здесь в оврагах и откосах всегда находилась пара патронов и пригоршня артиллерийского, в дырочках, длинного пороха, а то и оружие, если повезёт.
Однажды на горе себе тройка моих друзей обнаружила целый склад, снарядов и сот пять ружейных патронов. По глупости разожгли на дне оврага костёр и кинули в него снаряд. Хотелось узнать, как оно будет. Жахнуло так, что в близ расположенных домах стёкла повыбивало. Один пацан погиб на месте, другому оторвало руку, а Генке ногу до бедра. Родители захлебнулись слезами. Ну, ладно, война, а тут в мирное время уносит и калечит её эхо детские безвинные души.
К зиме Генка уже бегал с костылём на «снегурке» по оледеневшим дорогам, оклемался. Так что жить было можно, но с оглядкой.
Однако жизнь располагает, а случай предполагает.
В начале августа во время очередной облавы на спекулянтов забрали нашу мать в КПЗ, а товар, как водится, конфисковали, Ей бы, как всегда, дать нужным людям «на лапу», Но то ли денег не хватило, то ли начальник попался слишком принципиальный, то ли кому-то из чиновников рыбки захотелось. Словом, обвинили её в злостной спекуляции и упрятали за решётку на полгода. Вот когда по-настоящему мы почувствовали отсутствие матери.
Несмотря на наши титанические усилия, пищи для пропитания категорически не хватало. После долгих семейных споров мы пришли к выводу, что продать Зойку всё-таки придётся. Однако и при жесточайшей экономии вырученных денег хватило ненадолго. Наступали холода, и «вода со льдом» успехом уже не пользовалась.
Есть с каждым днём хотелось всё сильнее. И первого сентября отправился я не в школу, как предполагалось, а к хлебному магазину за милостыней. Изо всех сил, борясь с робостью, напрочь сгорая от стыда, я в первый раз протянул руку навстречу тучной женщине, выходящей из хлебного магазина, и еле слышно прошептал:
– Тётенька, подайте кусочек. Три дня маковой росинки во рту не было.
– А пошёл ты, – услышал я злой лай вместо ответа, – у самой дома целый выводок дармоедов.
От стыда и обиды я готов был провалиться сквозь землю. Крупные слёзы неожиданно навернулись на моих глазах, я отвернулся и подавился беззвучным плачем. Вера в человеческое сострадание потерпела сокрушительное поражение.
– Эй, внучок, – окликнул меня кто-то дребезжащим тихим голосом, – на – ко вот, пожуй довесочек.
Я замер, подождал и потом медленно и настороженно обернулся. Сухонькая небольшого росточка старушка с болью, глубоко спрятанной в тёмных глазницах, протягивала мне корочку:
– Ты, я вижу, и впрямь в беду попал.
Я робко принял подаяние, а она, тяжело вздохнув, грустно произнесла:
– Ты на тётку– то не обижайся: горе – оно и добрым может быть, и плохим. Где живёшь– то, и с кем?
Своим сердечным вниманием она чем – то напоминала маму, и неожиданно для себя откровенно и доверительно рассказал обо всём: о пропаже матери, о сестре и брате и о Зойке, навсегда потерянной для семьи.
– Что ж, – сказала, собираясь уходить бабуля, – все под Богом ходим. А милостыню просить – не воровать, не грешно.
Так я втянулся в попрошайничество. Не раз и не два вместо подачки в лицо мне бросали презрительное – «побирушка», «нахлебник», «бездельник», «много вас таких». Но в целом моё мастерство выклянчивать подаяние день ото дня оттачивалось само по себе, и бывали дни, когда котомка увесисто и приятно оттягивала плечо, и тогда я бежал на базар, распродавал излишки и покупал или менял куски хлеба на картошку или пшено – самый выгодный и самый необходимый продукт в доме. В такие дни мы закатывали пир, с удовольствием уплетая картошку в мундирах, макая её, горяченькую, в крупную соль и заедая хлебом.
Четыре долгих месяца, как часовой на посту, стоял я у «своего» магазина, постоянно отстаивая его от покушений залётных конкурентов. Это была моя территория, и за неё я готов был перегрызть кому угодно горло. Постоянные покупатели уже привыкли к моей серой невзрачной фигуре, в любую погоду, стоящую на посту, лучше меня знали историю моей жизни и нередко протягивали, кто что мог, даже тогда, когда я и руки – то не протягивал. Кто кусок, кто рублик, а если повезёт, то и конфетку.
В Новогоднюю ночь мы всегда ожидаем чуда. Во всяком случае, втайне верим, что оно может произойти. Иначе чем объяснить, что именно тогда, словно фея из сказки, появилась на пороге мать. Только много лет спустя краем уха я услышал, что за примерное поведение скостили ей срок отсидки. А в ту памятную ночь узнали, что, наконец, отыскала она адрес пропавшего отца, что работает он на Урале и что совсем скоро оформит на семью вызов, – что-то подобное теперешней визы за границу – без которого передвижение граждан моей страны из одного региона в другой категорически запрещалось.
С тех пор по вечерам мы грезили этим таинственным и далёким краем, представляя, какая в будущем ожидает нас, ну просто замечательная, жизнь!
Чтобы выжить и не умереть с голоду, мать снова принялась за торговлю, потому что только рынок мог прокормить такую ораву. Мне строго – настрого было заказано заниматься своим ремеслом. Вместо этого какими – то правдами и неправдами я был определён в первый класс и, говорят, учился сносно, особенно по арифметике. Однако вскоре после Победы школу пришлось бросить. От отца шли письма, что оформление вызова, несмотря на послабления в миграции населения, затягивается по причинам, ему непонятным.
Возмущённая и нетерпеливая мать на семейном совете решила, что лично поедет к отцу и покажет тамошнему начальству, что такое разъярённая многодетная женщина.
В деревне, где проживала наша тётка и куда привезла нас мать по договорённости, нам, конечно, не обрадовались. В Костарёво, как и везде в сельской местности, свирепствовал голод. Война вымела из сусеков и амбаров всё до зёрнышка, до пылинки.
Мать уехала, а мы сели на диету – крапиву, лебеду и отруби – лучшее средство от ожирения, о чём мечтает сейчас добрая половина человечества.
У тётки Наташки – сестры нашего отца – до нового урожая оставалось с полпуда проса да пяток иссохших от долгого хранения желтобрюхих тыкв. Но и из этих продуктов супчик да жиденькая каша не часто появлялись на выскобленном до блеска столе.. Попробовал я было по старой памяти пройтись по деревне с протянутой рукой. И подавали поначалу, когда узнавали, что я и есть один из сынков Насти – хохотушки, а потом стали гнать со двора: повадился; у самих на полках мыши ночевали.
С деревенскими огольцами я сошёлся быстро. Пару раз подрался, показал, что шит не лыком, и отстоял свою независимость. В ватаге было веселее переживать чувство голода. Кроме того, мы регулярно совершали набеги на сусликов. Сытому не понять, какое это замечательное лакомство! Ловили их предельно просто. Разыскивали норы в поле, отмечали их веточками, приносили воду в вёдрах и для той, откуда появлялась любопытная мордочка, делали искусственное наводнение. Здесь-то и начинался самый ответственный момент: нельзя было прозевать появления из норы его обитателя, иначе с прытью своей ускользал он моментально. Хитрый зверь обладал великолепным умом и не ограничивался одним входом и выходом в подземелье. Деревенские об этом хорошо знали и размещали свою убойную силу у каждой норы в десятиметровом радиусе. Однако фантастическая ловкость проныр превосходила допотопную тактику, и зверь редко становился добычей изголодавшихся детей.
Если мы с Маней ещё как – то сопротивлялись голоду, то Коле было это не под силу. Он совершенно иссох, как когда-то я, страдая от приступов малярии. Жесточайший понос изматывал его до предела, прямая кишка вываливалась наружу, и я, оставаясь с ним один на один, с трудом вправлял её назад, подавляя непрошеную рвоту.
Приходил фельдшер из соседней деревни, прописал больному какую-то микстуру, но она помогала Коле, как мёртвому припарка.
Как – то раз, вернувшись домой после очередного набега на сусликов, я наткнулся на висячий замок на входной двери. Запор для меня не был помехой, и я по потайному лазу уже через минуту оказался в доме. Бросив взгляд на кровать, где лежал брат, я сразу же определил, что он скончался.
– Отмучился, сердешный, – только и сказала тетя Наташа с грустью, и перекрестила покойника.
Похоронили Колю на деревенском кладбище, обозначив свежую могилку самодельным берёзовым крестом.
Только через тридцать лет мне удалось побывать в этих местах. И тоже по весьма печальному случаю. Старший брат моего отца, Николай Михайлович, всю жизнь проживший в Азербайджане, измученный ностальгией, вернулся в родные места, на родину своих предков, и умер в одночасье.
После похорон дяди я долго бродил по запущенному, густо заросшему разнотравьем и кустарником кладбищу, пытаясь отыскать Колину могилку, но тщетно: время старательно вылизало не только места захоронений жертв пост – военных последствий, но и постаралось стереть из памяти воспоминания о них.
Никто из деревенских не смог указать на его могилку, как будто Коли никогда и на свете – то не существовало.
Глава вторая
Заглядывая в прошлое, вспоминая события многолетней давности, мы подсознательно прокручиваем в хронологическом порядке их влияние на нашу дальнейшую жизнь. И вольно или невольно желаем выдать прошедшее в позитивном плане. Подтасовка фактов, лакировка действительности – производные существующего строя. Я тоже заражен этим социальным вирусом, поскольку являюсь продуктом развитого социализма.
Наткнувшись на непреодолимую преграду в воплощении идеи справедливого благоустройства общества, народ решил играть по новому сценарию, предложенному воинствующими диссидентами и революционно настроенному большинству. История повернула вспять, возвращаясь к «проклятому» капитализму, как столпу непримиримой конкуренции и на этой основе – ускоренному развитию экономического прогресса и улучшению материального благосостояния людей. Разумеется, отпала необходимость подвывать власть имущим, получая за это хоть небольшие, но гарантии в возможности сводить концы с концами. Всё большую силу набирает свобода слова, и чопорная испокон веков цензура, в понимании моего прокоммунистического воспитания, себя изжила. Наступила эра благоденствия для развития творческих сил во всех сферах человеческой деятельности.
А рядом с этим, словно цветы по весне, распустились, пользуясь вседозволенностью, подпольные пороки, и, в первую очередь, преступность, проституция и беспробудное пьянство.
В этом крепчайшем зловонном коктейле, как ни парадоксально, родилась, стала стремительно расти и развиваться каста деловых людей, очень точно названная неизвестным гением – новыми русскими. Пока простолюдины, захлёбываясь в восторге, пропивали своё проклятое прошлое и наслаждались любовью освобождённых от всяких условностей женщин, умные люди прибирали к рукам брошенное ими богатство. Были, конечно, и светлые головы, пытающие перекричать этот невообразимый восторженный и пьяный гвалт. Но к большой радости умников, против протрезвевших выступили батальоны преступной гвардии, ставшие в скором времени несокрушимым оплотом интеллектуальных грабителей. Такого невиданного разгула коррупции не могли предположить даже фантасты.
Впрочем, это было потом, а пока мы прибыли в Челябинск – колыбель Южного Урала, мрачный, закопченный город с непролазной грязью и частоколом высоких заводских труб. Основанный в восемнадцатом веке как пересыльный пункт для каторжан, он стал стремительно расти за счёт неисчислимых природных богатств, и за два последующих столетия превратился в монстра, извергающего для страны продукцию чёрной металлургии. Этому способствовали и часть эвакуированных предприятий с Запада.
Подробностей встречи с отцом я не помню. Так, какие-то мелочи. То возникнет образ дяди Вани, черноволосого, широколицего красавца цыганского обличия – закадычного отцова дружка, весёлого и озорного, с мягким окающим акцентом ошанских татар, то отдельные предметы домашнего обихода в заводском общежитии, где нас временно поселили, то обрывки яростных ссор между родителями, ревнующих друг друга к прошедшему в разлуке времени.
Более чётко вырисовываются картины нашей жизни в заводском шлакоблочном бараке на двадцать восемь комнат, одна из которых под номером 11 стала нашей на долгие годы. Ровно столько же квадратных метров было и в самой комнате. Так что на каждого приходилось места ничуть не меньше, чем выделяют на кладбище.
Но и этому подарку судьбы мы были несравненно рады. Против прежней, сталинградской, она показалась такой просторной, словно танцевальный зал. Тем более, что под окном имелось настоящее паровое отопление – две параллельно протянувшиеся трубы сантиметров в восемь в диаметре.
Была в бараке ещё и двадцать девятая комната, расположенная в самом конце длиннющего, как пенал, коридора и приспособленная под мужской и женский туалеты. Стены уборной были испещрены шедеврами изящной словесности, ничуть не уступающей произведениям тюремных застенков. Других удобств в бараке по замыслу архитекторов и по соображениям экономии не предусматривалось.
А в коридоре, словно стражи порядка, рядом с каждой дверью стояли табуреты, на которых возвышались, извещая прохожих запахами о достатках хозяев, или керосинка, или примус или керогаз или другой какой-нибудь нагревательный прибор типа популярнейшей в военное время электроплитки. Поэтому в коридоре нашего барака всегда что-то шипело, бурлило, скворчало, убегало и подгорало, варилось и жарилось, выделяя дразнящие и дурманящие запахи пищи и горелой картошки. Как правило, из-за дверей постоянно доносились раздосадованные голоса, разбавленные отборным матом.
Только глубокой ночью в коридоре наступала тишина, да и то на три – четыре часа, потому что рабочий люд просыпался задолго до заводских гудков.
Барак длинный и похож на конюшню, с той лишь разницей, что вместо лошадей в стойлах обитали люди. Был он частью третьего участка семьстроя, посёлка, отдалённого от завода километра на три. Почему «семьстроя» – никто не знал. Строили его в свободное от работы время и по выходным, если они бывали, и потому этот безрадостный труд назывался самстроем. Однако самостоятельно в строй становиться никто не хотел, и «сам» заменили на «семь». Утёрли, так сказать, сопли начальству.
Расположен барак в северном углу посёлка и примыкает почти вплотную к небольшому болотцу, за которым с давних времён стоит ржавый железный забор, опоясывающий территорию плодоягодного сада. Сад экспериментальный и принадлежит сельскохозяйственному институту. Охранялся он бдительно, но кто может остановить изголодавшуюся по фруктам детвору?
Впоследствии эта роскошная плантация стала основным источником моих карманных расходов.
Чуть поодаль от выхода из барака теснились, прижимаясь друг к другу словно в экстазе, сараи и сарайчики, по– местному – стайки. Слепленные из подручного материала, они бдительно охраняли дрова и уголь и всякую домашнюю утварь, пришедшую в негодность, но выбросить которую на помойку не поднималась хозяйская рука. В тёплое время года стайки превращались в детские комнаты, где все, от мала до велика, наслаждались свободой и независимостью. Здесь кипела своя жизнь, насыщенная проблемами детского масштаба.
За три последующих дня после приезда я перезнакомился с многочисленной барачной детворой, подсознательно определяя, кто есть кто. Мне очень понравился Саша Доронин, низкорослый славный крепыш с девичьим лицом и золотистыми кудряшками. Высокий, как жердь, Генка Тимофеев с плутоватыми зелёными глазами вызвал настороженность, а Валька Нестерова обратила на себя внимание тем, что носила под кофточкой ещё не созревшие, но уже видимые груди.
Разные по форме и содержанию, нас всех объединяли, по крайней мере, две вещи: более, чем скромная одежда и непроходящий голодный блеск глаз.
Следуя многовековой традиции, родители устроили новоселье. На праздник пришли несколько отцовых товарищей по работе, в том числе и Иван Лексеич с неразлучной гармонью подмышкой и со своей супругой Марией Олимпиевной . По случаю торжества мать расстаралась, и на сдвинутых столах, дразня глаза и обоняние, стояли тарелки с винегретом, селёдочкой и колбаской, огурчики и другая сопутствующая предстоящей выпивки снедь. В углу, прямо у дверей, стоял на табуретке пузатый чайник с наваренной бражкой – популярным напитком рабочего класса и местной интеллигенции.
С приходом гостей и без того небольшая комнатушка сузилась до размеров спичечного коробка.
Пацанва, как всегда, роилась в коридоре за дверью. Мать угостила каждого конфетками – подушечками, но ребята не расходились, надеясь получить что – нибудь посущественней.
Когда взрослые подвыпили и от тостов перешли к хоровому пению, я потихоньку стал таскать со стола съестное и угощать моих новых приятелей. Добыча немедленно исчезала в желудках прожорливой саранчи.
– Ты бы бражки вынес, – нагло потребовал Генка, прожёвывая бутерброд с селёдкой. – Знаешь, какая она сладкая! – и он соблазнительно почмокал толстыми губами.
Мне, разумеется, не хотелось падать в грязь лицом перед новоиспечёнными друзьями и, улучив момент, когда взрослые увлеклись разговором, я благополучно чайник умыкнул. Вся ватага во главе со мной немедленно растворилась между сараями, и через пару минут на дне чайника не осталось даже гущи.
Операция прошла успешно, чайник вернулся на место, а подогретая детвора от души дурачилась до глубокой ночи. Меня хвалили, а я, счастливый, витал в облаках.
Никакие человеческие действия, однако, не проходят бесследно. В этом я убедился наутро, когда начались разборки с соседями. Разъярённые мамы откровенно и жёстко высказывали родителям всё, что обо мне думают. «Не успел заявиться, а уже начал спаивать малолетних», – так прозвучала из их уст самая мягкая фраза в мой адрес. В глубине души я им сочувствовал, когда узнал, что двое из наших ночью бессовестно облевались.
Эпилогом этой грустной истории стала показательная порка, во время которой я старательно демонстрировал свои голосовые данные, сладостным елеем разливающиеся по сердцам моих обличительниц. Странно, но себя я чувствовал превосходно, хотя во вчерашней пирушке не отставал от сверстников. Наверняка сказался приобретённый опыт.
Года два назад, ещё в Сталинграде, наварив на продаже воды червонец, я дефилировал по базару в поисках недорогого, но подходящего для еды продукта. Времени было навалом, и я не торопился с выбором. Да и сумма, которой я мог распорядиться, не оттягивала карман.
Остановил меня звонкий тенор зазывалы, доносившийся из середины плотного кольца людей:
– Эй, навались, у кого деньги завелись! Делайте ставки! Выдаю без справки за рубаль – десять, за десять – сто!
Активно поработав локтями и по пути схлопотав подзатыльник, я пробрался к центру круга и увидел рулетку возле одноногого мужика в потёртой армейской гимнастёрке и замусоленных временем, неопределённого цвета, брюках. Самодельная рулетка представляла собой круг диаметром сантиметров в двадцать, разделённый сапожными гвоздиками на сектора. Каждому сектору присваивался порядковый номер. Из центра, как из ротора двигателя, возвышалась ось с перпендикулярно прикрепленной к ней штангой, на конце которой находилась мягкая пуховая кисточка, скользящая при движении по гвоздикам. На каком из секторов кисточка останавливалась, тот и выигрывал. Если, конечно, на него была сделана ставка. Вот так. Просто, как всё гениальное.
Я долго следил за игрой, завидуя везунчикам, и всё больше соглашался с мыслью, что и мне стоит рискнуть. Это тебе не «напёрсток» и не «двойная петля», построенные на надувательстве, уверял я себя. Здесь всё чисто, без обмана, здесь господствует господин Случай. А вдруг фортуна и мне улыбнётся!
Подставные, работающие на крупье-инвалида, потрясая пачками выигранных денег, умело подогревали алчущих в мгновение ока обогатиться обывателей.
И я решился поставить свою последнюю десятку. Кажется, это был номер 31-й.
Замерев в ожидании, я неотрывно следил за бешено бегущим пёрышком, умоляя его остановиться перед моими деньгами. И потерял дар речи, когда это произошло.
– Эй, кто на тридцать первого ставил? – поднял голову крупье. – Что, нету такого?
– Да вот он, – потрепал меня по голове кто-то из стоящих обок. – Слышь, парень, забирай свой выигрыш.
Обалдевший от неожиданной удачи, я выскочил из толпы, сжимая в потной руке пачку замусоленных бумажек. Такой суммы денег у меня ещё никогда не было. В уме я уже прикидывал, на что их истрачу. Но прежде всего надо было купить хотя бы два стакана пшена.
Размахивая пустым чайником, в приподнятом настроении, я уже навострился топать домой, когда увидел у выхода тётку, торгующей домашним вином. «А почему бы не спрыснуть удачу, как делает это отец, принося домой зарплату, – подумалось мне. – Чтобы её не вспугнуть?».
Я подошёл к торговке и солидно выложил перед ней десятку. Она молча отмерила стограммовый стаканчик из четверти – трёхлитровой высокой бутыли с узким горлышком – и пододвинула ко мне. Я отхлебнул тягучей жидкости, и она мне понравилась. Настойка готовилась из настоящей смородины.
Я быстро допил остатки и почувствовал, как по всему телу разлилась тёплая волна. Однако чем ближе я подходил к дому, тем всё более ощущал, как тяжелели ноги. В голове шумело, а земля слегка раскачивалась.
Кое – как спрятав остатки денег в тайничок, я поспешил подняться домой. Матери, к счастью, не было, и я сразу же лёг.
Наверное я заснул, потому что разбудили меня прикосновения её рук.
– Никак заболел, – сказала мама с беспокойством, щупая мой лоб. – Дай-ка я с тобой лягу.
Вдруг она глубоко потянула носом, внимательно посмотрела в мои глаза и вкрадчиво сказала:
– Постой, постой… А ну-ка дыхни.
Через пять минут моя первая тайная пьянка была раскрыта, и я клятвенно обещал никогда более не совершать опрометчивых поступков.
К сожалению, вскоре я забыл и про свой позор и про первое нравственное падение, подлый клятвопреступник…
Остаток летнего времени я посвятил укреплению своего авторитета среди братвы. Происходило это экспансивно, в ходе игр и развлечений. Случайно, одним словом. Но ведь давно замечено, что цепь случайностей – это уже система, а система вырабатывает характер.
В июле и августе месяцах наша полудикая кодла совершила несколько удачных набегов на плодушку – так коротко называлась среди нас научно-экспериментальная станция института садоводства. Несмотря на предупредительные меры со стороны руководства, уберечь плантацию от опустошительных набегов не удавалось. Конный охранник и два-три пеших сторожа, вооружённые берданками, не могли противостоять летучим шайкам обнаглевших подростков. Дети войны, мы имели представление, что такое тактика. Чтобы обмануть охрану, не раз использовали отвлекающий манёвр. Мы шумно инсценировали момент набега в одном месте и стягивали к нему все охраняющие сад силы, а деревья трясли прямо в противоположном. Добычу складывали за пазуху. Во-первых, яблок туда вмещалось не меньше ведра, во– вторых, в случае преследования практически мгновенно добычу можно было сбросить на землю и заметно увеличить скорость, и при задержании нагло отрицать свою причастность к воровству.
С сумками в сад не лазали. Сумка – явная улика, а собирать в неё – только время терять.
Наши отношения со сторожами не выходили за рамки контролируемой ими территории. Главное – успеть смотаться за ограду. Забор представлял собой границу, пересекать которую они не любили. Мне рассказывали, что года два назад один из стражей грубо её нарушил в пылу погони, но был жестоко избит стаей подростков и еле унёс ноги вместе с вдребезги разбитой берданкой.
После удачного улова мы разгружались в сараях, сортировали яблоки и выходили к местному кинотеатру реализовывать товар. Брали недорого, и к вечеру в карманах у каждого весело позвякивало серебро и шуршали измятые кредитки.
Родители смотрели на моё занятие, как на озорство, вспоминали молодость, когда сами трясли соседские яблони, хотя и своих фруктов девать было некуда. И ежу понятно, что в чужом огороде – даже перец всегда слаще.
Осенью в возрасте восьми с половиной лет я был определён во второй класс. Документов у меня никаких не имелось, и мать уговорила завуча взять меня с испытательным сроком. Считал я превосходно, читал посредственно, а писал, как курица лапой.
Школа располагалась на Плановом посёлке, в полукилометре от дома. Деревянное, насквозь прокопчённое двухэтажное здание относилось к постройкам прошлого века и чудом держалось под напором ветров. Под топотом сотен сапог и ботинок оно стонало, скрипело и трещало, но не желало заканчивать жизнь самоубийством. Классы, как две капли воды похожие друг на друга, до отказа были забиты партами – развалюхами с проходами между ними сантиметров в двадцать. У дверей стоял небольшой учительский столик, за которым висела неопределённого цвета классная доска.
По списку в нашем втором «б» числилось тридцать девять учеников, но теснота была такая, как будто на первый урок явились и родители.
Места занимали самостоятельно, и я ухитрился расположиться за круглой печкой – контрамаркой, стоящей на «камчатке». Рядом плюхнулся розовощёкий боровичок Миша Фельдман. Оценив ситуацию, я остался доволен. Зимой будет тепло, и от учительских глаз далековато. Что касается соседа, то в первый же день оценил свою удачу. Отец у Миши занимал пост начальника ОРСа, по другому – отдел рабочего снабжения – и единственное чадо всегда имело в портфеле приличный бутерброд или пару сдобных булочек. Но главное, что Миша не был жмотом и всегда делился. Кроме того, у него частенько появлялись деньги, что вносило в нашу дружбу определённый шарм и укрепляло взаимопонимание.
Учебный год начался с прозаичного колокольного звонка, прозвучавшего из рук школьного сторожа инвалида дяди Васи. Впоследствии я заметил, что звонок на перемену звучал у него значительно звонче и веселее.
Никаких торжественных речей, ни цветов ни нарядных костюмов, к которым привыкла теперешняя школа, не было. Буднично и прозаично, кругленькая, как колобок, учительница вошла в класс, поздоровалась, взяла в руки классный журнал и начала перекличку. Когда очередь дошла до моей фамилии, строго спросила:
– Это не ты ли неделю назад мне стекло рассадил?
– Что вы, – отвечаю, – быть такого не могло. Мама говорит, что я послушный мальчик.
– Вот как, – удивилась она и что – то отметила в тетради.
Нина Ивановна, так звали нашу учительницу, все науки преподавала одна. Даже чистописание, чёрт бы его побрал. С ним у меня сразу не заладилось. Перьевые ручки и непроливашки – чернильницы, которые приходилось таскать с собой, оставляли кляксы и помарки на тетрадных листах, как я не уберегал их от этого.
Зато на переменах у меня прекрасно получалась игра в пёрышки.
Учился я охотно, но без прилежания, и относился к середнячкам. Материал схватывал на лету, а за посторонние разговоры нередко наказывался и частенько грустил за классными дверьми.
Более всего мне нравились книги. Начиная с третьего класса, я запоем читал всё, что попадалось под руку. Читал всегда и везде: по дороге в школу, за обедом, на уроках и даже под одеялом с помощью фонарика, если мать под утро сердито выключала верхний свет. Мне нравилась литература приключенческого жанра и фантастика. Со своими героями я побывал в таких местах и повидал такого, что другому и на двести лет жизни не хватит.
Однажды снежной зимой я даже стал главным героем транспортного происшествия. Уткнувшись в книгу и не замечая ничего вокруг, я переходил дорогу и был сбит лошадью. Пустые сани вдавили мои ноги в придорожный снежок и проскользили полозьями по валенкам. Перепуганный возница помог подняться, убедился, что со мной всё в порядке, и разразился отборным, сочным матом. Агрессивное его поведение было настолько очевидным, что я поспешил уйти от греха подальше.
Не могу обойти воспоминанием про ещё одно важнейшее событие. В школу я ходил в первую смену и вставал рано. Обычно будили меня всей семьёй, но на этот раз я проснулся от постороннего шёпота. В комнате резко пахло лекарствами и ещё чем – то незнакомым. Иногда слышались сдержанные стоны матери. Я сразу сообразил, что присутствую при родах. Затаившись, как мышь, внимательно вслушивался в обрывки разговоров и пытался понять, что происходит за моей спиной, однако никакой подходящей картинки не вырисовывалось: моих познаний в акушерстве явно не хватало.
Через несколько минут раздался зубовный скрежет, мать ойкнула и замолчала, и в наступившей паузе резко заверещал голос новорождённого.
– Ишь, какой звонкий, – одобрительно обронила какая– то женщина, – богатырь!
В тесно заставленной комнатушке места для кроватки моему братцу не нашлось, и отец смастерил зыбку – небольшое корытце, подвешенное на крюк под потолком. По моей просьбе имя ему дали Юрий.
За летние месяцы я крепко сдружился с братьями Григоровыми – Вадимом, Федей и Толиком. Был у них ещё и старший брат – Виктор, но тот парень крутой, с нами не якшался и занимался чем – то таинственным и, как казалось, запретным. Все его уважали, но побаивались. Была и сестра Зинка, наша ровесница, на плечах которой лежало всё ведение домашнего хозяйства.
У Витьки имелась прекрасная голубятня на крыше сарая, и целая стая великолепных турманов, настолько неотразимых, что к ней всегда прибивались чужаки. Я с восхищением наблюдал, как Витька, заметив в небе чужую пару, немедленно поднимал на перехват свою сплочённую голубиную эскадрилью и заманивал её на свою территорию. Утром хозяева пленённых голубей отыскивали похитителя и на договорных условиях выплачивали ему выкуп. Это приносило ощутимый доход, а Витькины проданные голуби, как правило, возвращались домой.
Всё лето с Григоровской ватагой я бегал на озеро Смолино, настолько широкое, что напоминало море, и противоположный берег его просматривался только в ясную погоду. Кстати, и вода в озере, в точности похожая на морскую, была солёной. По этой причине, к всеобщему огорчению, рыбы в озере не водилось, и только спустя много лет здесь развели зеркального карпа. Расположенное на краю города, чистое, как родниковая вода, оно было излюбленным местом отдыха для всех горожан. Захватив по куску чёрного хлеба и пучку зелёного лука с солью, мы выдвигались на его окраины и бросали якорь в небольшом заливчике, с правой стороны, поросшей камышом. Вода здесь неглубокая, прогревается быстро, а дно песчаное и покатое. Конечно, лучше было бы пойти на водную станцию. Там и бассейн с разделёнными поплавками дорожками, и вышка для прыжков с трамплинов, и лодочная станция и даже буфет с газировкой. Единственное, что нас не устраивало, так это то, что за всё надо было платить.
Весь берег озера – это длиннющий пляж с жёлтеньким песочком. Дно, как в Анапе, пологое. Сотню метров пройдёшь, пока до глубины доберёшься. Вода, как парное молоко..
Но купались до посинения, до перестука зубов.
Потом возвращались к повседневным делам. Играли в «чику», в «пристенок», очко и «шестьдесят шесть» на чердаке, а вечерами обязательно участвовали в русском лото. В те времена в лото увлекались все поголовно. Собирались после ужина на полянке между бараками. Хозяину лото разрешали играть на одной карте бесплатно. Так сказать, в качестве компенсации за износ. Цену на остальные карты устанавливал референдум потенциальных участников игры. Как правило, она не превышала десяти копеек.
Всякая игра, какой бы честной ни казалась, содержит элементы обмана. В том числе и в лото. Здесь мы тоже мухлевали. Когда очередь доходила вытаскивать и кричать цифры кому-нибудь из наших, он, складывая в мешок бочонки, мгновенно подбирал номера на «квартиру» подельнику и зажимал их в ладони. Чтобы притупить бдительность играющих, выкрикивал их через раз, через три. Вследствие такой безобидной махинации вероятность выигрыша заметно возрастала.
Должен сказать, что большинство из нас игровые номера на картах знали наизусть. Прошло уже полвека, а я до сих пор помню, что нижняя строчка на «арапке» состояла из цифр 7,19,20,36,47. «Арапкой» называли карту под номером тринадцать.
С документом о получении начального образования я поступил в школу – семилетку. Стояла она на самом краю КБСа – района, застроенного сталинскими пятиэтажками. Добротные кирпичные дома с отдельными квартирами и всеми удобствами – предмет лютой зависти всех жителей бараков и их недоброжелательства к счастливчикам. Что означала аббревиатура «КБС», никто толком не знал, но барачники расшифровывали её как « Колония Бешеных Собак», выражая, таким образом, своё презрение к заводскому начальству, выбравшим местом своего обитания именно этот район. Кроме того, с кэбээсовцами мы враждовали и если попадали в зону их влияния, то подвергались нещадному избиению. Ну и мы, конечно, в долгу не оставались.
Старая школа не выдерживала никакого сравнения с новой. Выкрашенная в канареечный цвет, она, как пасхальное яичко, утопала в обрамлении сосен, берёз и, подстриженных «под бокс», кудрявых кустарников. На задах школы располагался настоящий спортивный городок. С перекладинами и брусьями, с ямами, оборудованными для прыжков в длину и высоту, с кольцами и беговыми дорожками. В светлых, просторных классах стены украшали портреты выдающихся людей, а рядом с учительским столом (ботаники постарались) красовался уголок живой природы.
Преподавательский состав тоже блистал. Ещё не старые и опрятно одетые, учителя заметно отличались от нашего Колобка и вели себя достойно и сдержанно. Не изгладится из памяти Людмила Михайловна Ноткина, поразительный знаток истории государства Российского, Юлия Фёдоровна Листьева, географичка, с её феноменальной зрительной памятью. Не глядя на карту, она с удивительной лёгкостью прибывала в нашу школу из любой части света. А Константин Михайлович Байдолин, обучающий нас азам изящной словесности? Поговаривали, что сидел он в местах не столь отдалённых. За инакомыслие. Да нам – то какое дело, перед кем он преклонялся, будь тот хоть самим Мандельштамом?
Увы, время никого не щадит, пусть пухом им будет земля…
Никогда, к сожалению, не забуду и Нину Яковлевну Шапкину, математичку – фанатку. Злобная и истеричная женщина, обойдённая вниманием мужеского населения, она искренне не понимала, как отдельные ученики вроде меня не могут понять, почему А квадрат плюс Б квадрат равняются С в квадрате. И где на практике можно применить котангенс? Извини, читатель, если ты заметил ошибку в приведённом уравнении. Видит Бог, я в этом не виноват.
Подводя черту к выше сказанному, я прихожу к выводу, что талант в Империи Зла занимает не последнее место.
Свою первую любовь я увидел дней через десять после переезда. Собственно, в тот момент я и не подозревал, что она станет причиной душевных переживаний и нравственных потрясений. Просто шла по своим делам симпатичная девочка небольшого росточка, одетая в ситцевое платьице, а я стоял на высоком крыльце нашего барака и обозревал местность. И внимание к ней привлекла не стройненькая фигурка, не гордо вздёрнутый курносый носик, а расписная тюбетейка, из– под которой в разные стороны торчали светлые косички. Через минуту девочка исчезла за углом, но в памяти что– то осталось. Вполне возможно, что во мне проснулся дремлющий инстинкт охотника – мужчины.
С некоторых пор интерес к противоположному полу у меня появился. Во всяком случае, я не без удовольствия принял участие в игре, придуманной Валькой Нестеровой – разбитной девчонки из девятнадцатой комнаты.
Как-то в отсутствие родителей она собрала всю шантрапу в нашей халупе и предложила поиграть в больницу. По её мнению, именно там мальчики и девочки должны снимать с себя штанишки, ложиться друг на друга и совершать несложные телодвижения. Не помню, кто подо мной оказался, только мой, с мизинец длиной, членик вдруг пришёл в движение и восстал. Валька, наблюдавшая эту картину, засунула левую руку себе под трусы, правой ухватилась за мой пенис, направила его в промежность девочки изаволновалась. Моя партнёрша по больничной кровати неожиданно пискнула, заплакала, все пришли в замешательство, и на этом игра прекратилась.
А на следующий день произошёл скандал. Девочкины родители, потрясая справкой перед моей матерью, во всё горло орали, что их дочь опозорили «на пятьдесят процентов» и что в этом виноват я. Меня допрашивали под пыткой, но ничего членораздельного и вразумительного не добились. Да и что от меня хотели, я так и не понял.
– Что ж, – сказала мать с сарказмом, – давайте их поженим…
Предложение было настолько неожиданно и комично, что все онемели, а потом заулыбались. Наконец, применив метод перекрёстного допроса всех собранных в кучу участников вчерашней игры, взрослые вынесли вердикт, что злоумышленницей содеянного является Валька. Какое она понесла наказание, осталось тайной. А потерпевшую девочку после этого так и прозвали «Пятидесятипроцентной», и носила она эту кличку до тех пор, пока не уехала.
Подробности о моей тайной симпатии я постепенно узнавал во время совместных развлечений. Играли в лапту, в телефон, в « третий – лишний» и другие забавы. Она, оказывается, тоже была из числа эвакуированных с Украины, что живёт практически рядом и что учится в третьем классе. Мои робкие попытки познакомиться поближе встретили непонимание, если не сказать большего. Гордая и самовлюблённая недотрога, она знала себе цену и отвергала любые знаки внимания. И её равнодушие к моей особе я расценил, как сокрушительное поражение. Впрочем, так оно и должно было быть. Длинный, как карандаш, и худой, как щепка, выглядел я не самым лучшим образом и положительных эмоций вызывать не мог. Общепризнанный озорник и проныра, в присутствии этой занозы я терялся и проглатывал язык. И мне стало понятно, что эта девочка – не моего поля ягода.
Дни, как чёрная речная вода, протекали за днями. Опостылевшую до чёртиков люльку, из которой Юрка, наконец, спустился на землю, кому-то отдали или продали, и качать теперь стало некого.
Расцвела всем на удивление сестра Машенька. Она уже работала кассиром в поселковом кинотеатре. Я очень гордился, когда на зависть приятелям в любое время проходил в кино бесплатно и по их просьбе после начала фильма открывал двери на выходе. Без лишнего шума ребята мгновенно рассасывались между зрителями и ловили свой кайф.
В восемнадцать лет Маша влюбилась в старшину – сверхсрочника Александра. Родом он был из Ворошиловграда. Потомственный казак переквалифицировался и стал танкистом. Балагур и весельчак, он удивительно быстро создавал вокруг себя атмосферу праздничную и лёгкую, а за словом в карман не лез. Мать он покорил тонким остроумием, отца – разговорами об армии, меня – анекдотами. Какими чарами он околдовал сестрицу, Маша не рассказывала. Но мы и так догадывались, потому что кроме общительного характера Саша обладал и неотразимой внешностью.
Свадьбу справили по-семейному скромно. Но был приглашён со своей женой и неразлучной гармонью Иван Алексеевич Пугаев, их общий знакомый сталевар Охрименко, – вот и все гости.
После свадьбы Маша ушла жить на казённую квартиру, а через год молодая чета укатила в бухту Провидения – самую удалённую точку страны на востоке. Поехали, как говорили соседи, «за длинным рублём».
Отец попрежнему работал в мартеновском цехе на завалочной машине. Я побывал у него на работе, и он показал мне место под плавильной печью, где во время войны удавалось поспать три – четыре часа между сменами. Дома он разговаривал редко и только по делу, горькую пил по праздникам и в получку, но уж если шлея попадала под хвост, то загуливал на три дня кряду. И тогда его словно прорывало. Говорил без умолку, ругался, не стесняясь в выражениях, сыпал обвинения направо и налево в пьяном бреду, и в этом потоке словоизвержений невозможно было понять, где правда, а где ложь.
Чтобы как-то охладить его пыл, я его связывал, и он безропотно подчинялся. И только будучи уже спеленатым, возмущался и обзывал нас фашистами.
Наутро отец трезвел, виновато прятал глаза и снова шёл на работу, задумчивый и молчаливый.
В шестом классе произошли два знаменательных события, повлиявших на мою судьбу. Одно из них позорное, о котором я признаюсь впервые. Дело в том, что, продолжая читать запоем, я всё чаще стал посещать книжные магазины и приобретать дефицитные издания. Денег, конечно, не хватало, и однажды, увидев на прилавке «Тысячу и одну ночь», я спёр с верёвки чьи-то кальсоны и нижнюю рубаху и загнал их на барахолке за тридцатку. Вечером мать плевалась и ругалась, «что б у них руки отсохли», кляня ворьё, которое уже и исподним не брезгует. Оказалось, что бельё во дворе было отцовым. У меня хватило сообразительности на её гневную тираду ответить дипломатичным возмущением, составленным из междометий, но книга восточных сказок в золотом переплёте стала украшением будущей личной библиотеки.
Другим увлечением стал авиамодельный кружок. Втянул в него мой однокашник Витька Корепанов. Кружок работал в заводском Дворце культуры. Занимались мы в нём всю зиму. Ни одной модели не построили, но лексикон мой обогатился такими завораживающими словами, что дух захватывало: нервюры, стрингеры, элероны, даже штопор. Кружок по непонятным причинам развалился, и я немедленно перебрался в драматический и танцевальный. Дела и здесь пошли неплохо. Я даже прочитал со сцены стихотворение « Рассказ танкиста», но на этом артистическую карьеру пришлось завершить, поскольку меня прилично отлупили кэбээсовцы и пообещали ещё, если я приду в другой раз. Слово своё держать они умели, и я решил не искушать судьбу. Кроме того, интересы другого порядка стали заполнять пустующую нишу моего сознания.
В один из январских холодных вечеров я возвращался из Дома культуры, замёрз, как собака, и решил заскочить к Григоровым погреться и поболтать. В коридоре их барака у окна стояли две знакомые девчонки Танька и Любка и о чем-то тихонько беседовали. Танька была на полголовы выше меня и заметно крупнее. Любка наоборот, росточком пониже и постройней. Обе жили на Плановом, и какие дела привели их в наши края, оставалось лишь догадываться.
Мне было доподлинно известно, что мальчиков они любят и легко идут на контакт. Шалавы, одним словом, но сладостно доступные девочки – подростки. При их виде у меня потекли слюни, и я сказал себе, что было бы неплохо с какой – нибудь из них потрахаться. Однако я и понятия не имел, как приступить к такому деликатному делу.
– Привет,– поздоровался я на всякий случай.– Скучаете?
– Греемся,– ответила Любка. – Пришли к подруге, а её нет. А ты чего один, как сыч бродишь? Приключений ищешь на свою задницу?
Девчонки дружно засмеялись. Я засмущался и покраснел до ушей.
– Да ты не обижайся,– примирительно сказала Танька. – Любка она такая, за словом в карман не лезет. Конфетку хочешь?
Я отрицательно помотал головой и пробормотал что – то вроде благодарности. От волнения во рту стало сухо. Кое – как проглотив слюну, я чуть слышно прошептал:
– Я другого хочу…
– Это интересно, – заглянула в мои глаза Любка. – А поконкретнее сказать не можешь?
«А, будь, что будет!», – подумал я и нырнул головой, словно в омут:
– Люб, дай, а?
– Чего – «дай»,– стала уточнять Любка, тихонько посмеиваясь.
– Ну… в общем – дай, – пересиливая робость, снова попросил я.
– Да чего же ты хочешь, – с наслаждением тянула резину Любка, давно понявшая, в чём дело.
– Господи, какая дурочка, – не выдержала и вмешалась в разговор её подружка, – он тебя хочет!
– Где, здесь? – посмотрела на меня, как на чокнутого, Любка. – А вдруг кто-нибудь выйдет?
– А мы за дверью, – умоляющими глазами просил я её. За дверью находилась прихожая, вроде сеней.
– Не-не знаю, – уже мягче засомневалась Любка и подалась навстречу, когда я обнял её за талию.
– Да дай ты ему! – снова не выдержала и пришла ко мне на помощь Танька, сама исходя в истоме. – Видишь, как парень мучается.
И Любка, сама того не подозревая, оживила в моих штанах полового разбойника. При этом сделала она пустяки: открыла дверь в сени и поманила за собой пальцем.
– Подстелил бы что-нибудь, – попросила она в темноте будничным, спокойным голосом, – пол – то холодный.
Весь дрожа от возбуждения, чувствуя, как мой кончик больно и настойчиво рвёт ширинку, я торопливо сбросил с себя телогрейку, кинул её на пол и почти сразу же услышал приглушенный голос Любки:
– Иди уж…
Даже если бы меня встретили тысячи раздвинутых навстречу женских ног, я бы никогда не запутался в выборе цели. А подо мной находилось всего две, и между ними лежал кошелёк, цены которому не было. Словно в трансе, я торопливо расстегнул пуговицу, сдерживающую моего нетерпеливого господина,, и он, как изголодавшийся зверь, выпрыгнул наружу и сразу же обнаружил дичь. Она была где – то рядом, нужно было слегка только помочь. И я, схватив зверя за холку, направил его мордой в волосяной кустик.. Любка слегка сдвинулась, и мой натянутый, как стрела, пенис провалился в тёплую, ласковую бездну. Испытывая восторг от волшебного блаженства, я взахлёб заскакал на Любке, учащая возвратно – поступательные движения.
– Господи, да ты в первый раз, – догадалась Любка и подалась передком вверх.
И в этот момент наступило мгновение, за которое люди развязывают войны, идут на преступления и кладут головы на плаху. Тело моё затрепетало и выплеснуло наружу сгусток такой энергии, которой бы хватило взорвать все сейфы Гохрана.
Как бы сложились события дальше, сказать не могу, но тут раздались скрипучие шаги снаружи. По ступенькам кто-то поднимался. Мы торопливо вскочили, я набросил на плечи фуфайку и шагнул к выходу. Навстречу попался незнакомый мужик, сказал непонятную фразу, но я не остановился и в величайшем смятении помчался домой. Заснул под утро весь в смятении и сладких воспоминаниях. Днём втихаря я аккуратно вырезал на дверях своего барака: «15. 02 . 52 г.». Эта дата напоминала мне рубеж перехода из ранней юности в суровую зрелость многие годы.
В начале марта пятьдесят третьего года умер товарищ Сталин. Говорят, многие радовались этому событию, но я не видел ни одного счастливого лица. Люди плакали, выражая свою скорбь и с тревогой думая о будущем.
В день похорон по всей стране ревели заводские, фабричные и автомобильные гудки, и страна замерла на целых пять минут.
Траурные звуки похоронного марша, транслируемые по радио, остановили меня по дороге на Плановый. Сняв с головы свой старенький картуз, я молча вслушивался в скорбную мелодию, и невольные слёзы скатывались по моим промёрзшим щекам. Что будет завтра, никто не знал, и люди больше всего пугались этой неопределённости. Слухи, один тревожнее другого, поползли по городам и весям. Говорили об амнистии среди заключённых, об отмене Указа о ежегодном снижении цен на продукты и товары, о повышении налогов, об удорожании жизни. Будущее рисовалось в тёмных и мрачных цветах. Народ затаился в ожидании вестей из Москвы.
Произошли изменения и в моей маленькой жизни. С горем пополам я закончил – таки семилетнюю школу и остановился перед дилеммой: учиться ли дальше, пойти в ПТУ по примеру Витьки Черепанова из 28-го барака – моего идейного противника и противоборца в кулачных боях, или устроиться на какую – либо работу.
Кстати, о Черепанове. ПТУшник, он был, может и хороший, но дрался неважно. Сам я на рожон никогда не лезу и нестандартные ситуации стараюсь решать путём переговоров. А если перевес сил склонялся не в мою пользу, мог свободно и дёру дать. Те, кто меня не знал, считали, что я трушу. В этом и заключался их просчёт.
Витька тоже так считал, рыпался первым. По части поводов для драки у Черепанова проблем не имелось. Заводился с пол-оборота, и почему – то дрался обязательно со мной. Теперь-то я понимаю, что у парня было неуёмное честолюбие. Ведущий боксёр училища никак не хотел примириться, что его одолевает какой-то уличный забияка. Откуда ему было знать, что втайне я изучал приёмы джиу-джитсу не только теоретически. Во всяком случае, некоторые болевые точки мне были известны, и я этим пользовался при определённых обстоятельствах. Но это так, лирическое отступление.
В принятии решения на продолжение учёбы помог случай.
Как – то мы с Витькой Корепановым ехали в гости к Маше на Переселенку.
– Гляди-ка, аэроклуб,– сказал он с энтузиазмом. – Зайдём?
– Айда, – согласился я, и мы вышли из трамвая почти в центре города.
Полутёмное помещение встретило нас специфическим моторным запахом, множеством схем и текстами, отпечатанными на машинке. На одном из них посетителям сообщалось, что в парашютный и планерный кружки записываются граждане в возрасте от 16-ти лет, а в лётную секцию – с девятилетним образованием.
«Хочу быть лётчиком»,– решил я в тот же момент.
Мы потоптались ещё немного, рассматривая фотографии выпускников аэроклуба, поговорили с секретаршей, выяснили, что набор на курсы пилотов проводится в начале осени и удалились с достоинством.
Веским аргументом в пользу получения среднего образования являлось и то, что моя симпатия перешла в девятый класс. Она по– прежнему не обращала на меня внимания и дружила с мальчиками – старшеклассниками. Ходила с ними в кино, театры, зимой каталась на коньках. Об этом я узнавал, а иногда и наблюдал своими глазами. С каждым годом я всё более влюблялся и всё более ревновал. Мне бы подойти к ней, поговорить, может быть даже признаться в своих чувствах, в крайнем случае предложить дружбу, но я считал себя таким никчемным, что даже мысль об этом казалась кощунственной и дерзкой. Многие впоследствии годы я был уверен, что красотой женщины можно только любоваться, и никак не желал понять, что ею позволено и обладать. Я был наивен и искренне верил, что красотки никогда не спят с мужчинами. Что-то наподобие красавиц на полотнах известных художников: лицезреть можно, а любить нельзя. К моему глубокому огорчению (и не только), осознание своего глубокого заблуждения пришло ко мне с нсерьезным запозданием.
Новая, третья по счёту мужская школа в Челябинске, где я начал учиться, находилась в трёх километрах от дома. Это было солидное четырёхэтажное здание, окружённое красивым чугунным забором. Позднее к общей радости раздельное обучение отменили, и в нашем « 9– том «А» появилась единственная девушка – Женя Кожевникова. Весёлая, разудалая и рыжая, с милой щербинкой между резцами, она пользовалась неоспоримым авторитетом и объектом внимания всего класса. Мне припомнился рассказ Горького « Двадцать шесть и одна», однако Женька хотя и принимала ухаживания, дальше лёгкого флирта не заходила. Слухи и намёки о её мнимой неприступности, конечно, были, но их распускали завистники, оскорблённые её равнодушием. Мне довелось как-то проводить Женьку до подъезда, и кроме фривольного разговора ничего не вышло.
В любом молодёжном коллективе почти каждый носит кличку. Для краткости в общении. Но каждая из них является, как правило, ключевым словом к характеристике человека, своеобразным, так сказать, ярлыком на предлагаемый товар. Как они возникают и кто их автор, никого не интересует, главное, что она есть. Носят они временный характер, но иногда прилипают до тех пор, пока не износишься сам.
Свою первую кликуху я получил в шестом классе с лёгкой руки исторички. Мои ответы при опросе выходили за рамки школьной программы, и это её удивляло:
– Гениально! – восклицала она, выслушивая краткие подробности в раскрываемой мною теме. – И откуда тебе это известно?
– Да так, – скромничал я, умалчивая об источниках своих знаний, – читал кое – что.
Не мог же я ей сказать, что пользуюсь Большой советской энциклопедией.
С тех пор на короткое время ко мне прилипла кличка «Гений». Внешне я на неё не обижался, а втайне даже гордился. Но носил её недолго. И в этом была виновата та же историчка. Как-то после моего очередного блестящего ответа она с уверенностью сказала:
– Из тебя выйдет прекрасный историк! Ведь выйдет же? – посмотрела она на меня умоляюще. Не знаю, почему… да что там – по своей глупости, я возьми и ляпни:
– Извините, Людмила Михайловна, но историю я не люблю.
Только потом до меня дошло, что заявление моё перед всем классом об отношении к истории прозвучало худшим из оскорблений в её адрес. Деликатная женщина, она промолчала, но с тех пор, как бы я не отвечал, оценки выше четвёрки у меня не было.
Вскорости позабылась и кличка. Зато появилась другая – « Актёр». Она имела прямую связь с моим увлечением драмкружком. Но прожила тоже недолго. И прошёл ещё добрый десяток лет, прежде чем среди польских спекулянтов я стал фигурировать под псевдонимом « Длинный». Псевдоним проходил, очевидно, под большим секретом, поскольку даже я узнал об этом совершенно случайно.
Однако хватит наверное плавать по притокам, пора выгребать и на фарватер и пускаться в свободное плавание.
С первой своей обольстительницей Любашей я не встречался целых полгода. Июль был в полном разгаре, когда она окликнула меня на прополке картошки. В лёгком ситцевом платьишке, она стояла спиной к солнцу и его мощные лучи, словно рентгеном вырисовывали на голубом экране горизонта точёную девичью фигурку. Я вспыхнул и весь зарделся, когда она с явной иронией сказала:
– Ты что же, совсем забыл свою первую искусительницу? Ай, как нехорошо.
– Да ладно тебе, – скрывая смущение, примирительно ответил я. – Можно подумать, что ты без меня скучала.
– Может, и скучала, – и она игриво рассмеялась, давая понять, что в этом-то проблем у неё не было. – Вот возьму и изнасилую тебя сейчас в картошке – за измену, а?
Смешавшись от такого беззастенчивого откровения, я поперхнулся, прочистил горло и с трудом произнёс:
– Что ж, если это как-то искупит мою вину, я готов принести себя в жертву.
– Ладно, не боись, – успокоила меня Любка и снова засмеялась. – Чем занимаешься вечером? Может, в кино пригласишь?
Фильм показывали классный, трофейный, кажется «Великолепная семёрка», но мне никакого дела не было до приключений героев на экране. Моя рука не вылезала из-под платья девушки и победно скользила от коленки и выше, вплоть до паха. Любка молча сносила молчаливое признание в любви.
После сеанса мы неистово кувыркались в высокой пахучей траве, а партнёрша, не торопясь и со знанием дела обшаривала пустые карманы моего пиджака. Это возмутительное надругательство над сердечными чувствами стерпеть я не смог, и в дальнейшем наша связь прервалась навеки. Новые события и встречи, не менее интересные, помогли пережить разлуку с ней без особой печали.
Как-то под вечер Витька Череп привёл в сарай девчонку, по виду подростка.
– Вот, – представил он свою спутницу, – переночевать попросилась. Не возражаешь? – и его губастая улыбка расплылась в похоти.
– Мне – то что, – пожал я плечами, – места не заказаны, пусть ночует.
Смазливое личико девушки с благодарностью повернулось в мою сторону.
– Присаживайся к столу, угощайся, если хочется, – указал я на хлеб, огурцы и помидоры. – К сожалению, больше ничего нет. Яблоки тоже, между прочим, не купленые…
– Не откажусь, – кротко улыбнулась она и тотчас приступила к еде.
Из серых глаз её лучился голод, но с едой она не торопилась, с достоинством присаливая помидоры и отправляя их в аккуратный ротик. Обмениваясь короткими репликами, мы выяснили, что вот уже около года Катерина ( так она себя назвала ) живёт без родителей, путешествует в поисках счастья, да вот никак не найдёт, видно заблудилось или спрятано за семью замками. На работу не берут – нет документов, а если нет работы, то и места в общежитии не положено. Одно за другое цепляется – замкнутый круг, выбраться за который невозможно.
Рассказ звучал правдоподобно, обездоленных войной детей в ту пору бродило по России превеликое множество. Посочувствовав, я предложил:
– Живи у нас, пока не надоест. Может и найдёшь, чего хочешь.
И невооружённым глазом было видно, что единственный кошелёк, из которого расплачивается Катя, спрятан у неё между ног. Близость и явная доступность гостьи настолько возбуждали мой любовный инструмент, что, будь он петухом, давно бы сидел на самом высоком шесте и неистово кукарекал.
Солнце давно уже убежало за плодушку, стало темно и тихо, но мне казалось, что удары моего сердца словно набатом звучали в каждой клетке нашего убежища, – так возбуждала меня близость и явная доступность нашей новой подружки.
– Лезьте – ка на полати. Ночь пора пополам делить, – сказал я, обращаясь в темноту, и ящерицей скользнул по приступкам вверх. Следом поднялась и Катя. Не пойму, как это у меня получилось, но я неожиданно произнёс:
– Иди домой, Витёк. Кто не успел, тот опоздал.
Катерина брызнула смехом, словно бисер рассыпала, а Череп с возмущением ответил:
– Вот гады, я её привёл, и самого же прогоняют. Ну, нет на свете справедливости.
Помолчал и отмахнулся:
– Чёрт с вами, любитесь на здоровье.
Он шумно и демонстративно захлопнул за собой дверь, и через несколько секунд его шаги растаяли в траве. Осторожно, словно боясь, что птичка упорхнёт, я скользнул по обнажённому телу Кати горячей ладонью и впервые в жизни ощутил под ней мягкий бугорок ещё не оформившейся груди с небольшим пупырышком на вершине. Она придвинулась, и я ощутил прикосновение её жарких губ к моему плечу.
Не знаю, почему, но инстинктивно я стал осторожно массировать Катину грудь, и сердцем почувствовал, что это ей нравится. Потому что она перевернулась на спину, подставляя другую. Я осмелел, и моя ладонь нагло и торопливо стала опускаться всё ниже, пропуская неинтересные места, и остановилась на резинке. Преодолев эту лёгкую преграду, я замер, встретившись с горсткой мягких, как пух волос, а безымянный палец ощутил рубчик плотской материи. Страстный пожар помутил разум, и уже не контролируя своих действий, я начал лихорадочно срывать с неё трусики или то, что от них осталось. Она молча помогла сбросить остатки условностей, раздвинула колени, и я, словно сокол, мгновенно взлетел ввысь и безошибочно ввёл своего часового в тёплую податливую среду. Никогда неиспытанное острое чувство к девочке перехватило дыхание, и я торжествующе зарычал от волшебного блаженства. Катька молча обняла меня за спину и крепко прижала к своему животу. Опираясь пятками о матрас, она страстно посылала себя мне навстречу, крепко прижимая ладонями мои напряжённые ягодицы. Не прошло и минуты, как произошёл взрыв, там, где-то внизу, и беспредельно раскалённая лава, сметая на пути препятствия, широкой рекой рванулась в бездонную пропасть, туда, где происходили таинственные процессы возникновения новой жизни. Это было что-то!… Совсем непохоже!… На контакт!… С Любкой!…
Часто дыша, я сполз с распростёртого подо мной тела и почувствовал на сухих губах долгий и сладкий Катин поцелуй…
После вспыхнувшей тайной любви к Светке, у меня появилось влечение к стихам. Подвигло к этому регулярное чтение «Пионерской правды». С боем я выбил у матери полугодовую подписку на Всесоюзную газету и очень гордился, когда почтальон приносил нам через день-два очередной номер. Небольшие зарисовки, краткие сообщения и заметки были написаны простым разговорным языком и соблазняли меня попробовать свои силы в журналистике.
Таинственное слово «жанры» в ту пору мне знакомым не было, и потому я стал писать стихи, посвящённые любимому вождю товарищу Сталину. За пару дней из-под моего пера вышло около десятка, на мой взгляд, приличных произведений, не хуже тех, что публиковались в детской газете. В обстановке строжайшей секретности я отослал их в редакцию и затаился в нетерпеливом ожидании. Откровенно говоря, на ответ я не надеялся. С чего бы вдруг редакция решит связать себя перепиской с каким-то бумагомаракой?
Спустя неделю, я с нетерпением стал ожидать появление почтальона и жадно просматривал очередной номер в надежде увидеть напечатанными мои бесценные шедевры. Однако время шло, а от редакции ни ответа, ни привета не приходило. Разочарованный, я уже махнул рукой на нелепую затею, когда вдруг через два месяца к явному удивлению матери мне был вручён фирменный конверт «Пионерки».
Ответ меня глубоко разочаровал. После лестных слов об актуальности выбранной темы мой неизвестный оппонент мягко сообщал, что материал пока сырой, над стихами следует поработать, особенно над рифмой и стилем, чтобы они соответствовали образу великого кормчего и были достойны Его. Словом, как говаривал герой первого советского детектива «Подвиг разведчика», терпение, мой друг, и ваша щетина превратится в золото.
Конверт хранился у меня долго. Несмотря на разгромную критику, он свидетельствовал о причастности к настоящей прессе. Это придавало моей особе весомую значимость и позволяло втайне собой гордиться. Однако после похорон Сталина стихи писать мне надолго разонравилось.
Во второй раз здание областного аэроклуба я посетил без Корепанова. Долго раздумывал над тем, в какую группу записаться, и остановился на планерной. Я написал заявление, и меня без долгих разговоров зачислили в клуб. Теперь по вечерам два раза в неделю я отправлялся изучать конструкцию летательного аппарата «БРО-9» и теорию полёта. Собственно, причислять его к классу планеров было бы не совсем правильно. Предназначен он был для отработки подлётов. Подлёты сравнимы с действиями оперившихся птенцов в гнезде, летать которые ещё не могут, но уже пробуют свои силы «на крыло». Вес планера составлял девяносто килограммов, и приводился он в поступательное движение с помощью двух амортизаторов, метров по двадцать каждый. Амортизаторы одним концом цеплялись к носу планера, натягивались курсантами на тридцать – сорок шагов, и тот из нас, кто занимал место в кабине, по команде инструктора с помощью рычага срывался с якоря и поднимался в воздух на пять-шесть метров. Устройство очень напоминало рогатку или катапульту, выстреливающие «БРО -9-тыми». Качество планера – игрушки было настолько велико, что однажды он чуть не улетел, поймав крылом свежий ветер и набрав высоту метров на двадцать.
Благополучно перебравшись в десятый класс, я записался, наконец, в лётную группу. Всю зиму изучал конструкцию двигателя и самолёта, штурмом брал теорию полёта, вникал в премудрости метеорологии и занимался парашютным делом. В конспектах, ведение которых было обязательным, появились необычные схемы и формулы. Знать их полагалось, как «Отче наш» и даже лучше, особенно при контрольных опросах. Список неуспевающих вывешивали в коридоре для общего обозрения и осмеяния.
Преподаватели по характеру и методам обучения заметно отличались. Если, к примеру, двигателист требовал чётких знаний маршрутов движения масла к агрегатам, то аэродинамик строил обучение на игре.
– Допустим, – говорил он, лукаво подмигивая, – летите вы в своё удовольствие и вдруг видите, как на правую плоскость уселась ворона. Как вы думаете, что произойдёт?
И мы начинали с увлечением высказывать гипотезы, одна другой фантастичнее, пока не приходили к общему знаменателю.
В программе оговаривалось, что каждый, успешно освоивший теорию и сдавший экзамены, после получения аттестата зрелости о среднем образовании будет допущен к полётам на спортивном самолёте «Як– 18». Однако обязательным условием допуска был ознакомительный прыжок с парашютом с высоты 800 метров. И об этом стоит рассказать поподробней.
Сбор группы состоялся 16 мая в четыре часа утра около учебного здания аэроклуба. Чтобы добраться до цели к этому времени, мне пришлось проснуться в два ночи. Наскоро сполоснув лицо и проглотив бутерброд, я направился навстречу занимающейся заре. Миновав вокзал, минут десять я шёл за двумя пугливыми тётками с объёмистыми сумками в руках. Мне было понятно их беспокойство. Разбои и грабежи в ночное время были в городе не редкостью. Наверное, они успокоились, когда наши пути разошлись.
Будущий прыжок возбуждал и откровенно пугал. Мне рисовались картины, одна мрачнее другой. Я представлял себя трупом, мешком с костями, лежащим на земле, если вдруг по каким-то причинам парашют не раскроется. И мне было до жути жалко себя, и я трусливо подумывал, не повернуть ли назад, пока не поздно. Стоит ли искушать судьбу, когда пережил самое страшное – войну. С другой стороны, рассуждал я, если прыжок состоится, это будет главная победа всей моей жизни.
Раздираемый противоречиями, я присоединился к ребятам, пришедшим раньше. В отличие от меня они шутили, смеялись и травили анекдоты. Их неестественное поведение не было показным. Большинство парашютистов имели не только спортивные разряды, но и являлись участниками всесоюзных соревнований. Мы, новички, словно растворялись в этой элитной субстанции, и в их непосредственности теряли свои страхи перед ожидаемой опасностью.
– Все в сборе, никого не забыли? – перекрывая общий шум, спросил инструктор, пересчитал нас по головам и проверил по списку. – Тогда поехали…
Солнце над горизонтом только – только поднялось, когда полуторка, на которой мы ехали, притормозила у старта. Так называлась квадратная площадка на аэродроме, обозначенная флажками. Лёгкий ветерок лениво играл в верхушках майской травы, совершенно равнодушный к нашим волнениям. На иссине-голубом небе не видно было ни облачка.
Мы развернули широкий рулон зелёного брезента на старте и аккуратно выстроили на нём снаряжённые накануне парашюты. Каждый проверил свой, подогнал подвесную систему по росту и выслушал инструктора о действиях, в случае возникновения нестандартной ситуации.
– Главное – спокойствие, – уверял руководитель. – Не забывайте, что на груди у каждого из вас есть запасной парашют. После отделения от самолёта начинайте отсчёт времени. Как только произнесёте «Дёргай кольцо – три!»,– выполняйте команду. После приземления за вами приедет машина и подберёт.
Невольно я улыбнулся, вспомнив услышанный накануне анекдот. Инструктор наставляет курсанта:
– Надеваешь парашют, грузишься в самолёт, по команде лётчика прыгаешь, считаешь до трёх, дёргаешь за кольцо, парашют раскрывается, ты приземляешься, подъезжает санитарная машина и привозит тебя на старт. Понял?
Курсант сделал всё, но парашют не раскрылся. « Ну, – думает, – если и санитарка не придёт, тогда совсем звездец!»
Начальник парашютной подготовки объявил о начале прыжков и по алфавиту первым вызвал курсанта Анисимова – высокого, крепкого телосложения парня в защитного цвета комбинезоне. Я и предположить тогда не мог, что лет через двадцать стану его заместителем по политической работе. Неуклюже переваливаясь под тяжестью парашютов, он неторопливо двинулся к линии исполнительного старта, где уже стоял под парами легкокрылый самолёт «По-2». Старенькая машина, прозванная в народе «кукурузником», славно повоевала в качестве ночного бомбардировщика и надёжного связного, а теперь доживала свой век, поднимая в небо и сбрасывая с себя рисковую молодёжь.
Анисимов поднялся на нижнее, обшарпанное сотнями ног, крыло, волнуясь, долго усаживался в переднюю кабину, потом инструктор проверил надёжность закрепления фала принудительного раскрытия парашюта, и, ободряюще хлопнув курсанта по плечу, спрыгнул на землю.
Лётчик, управляющий самолётом с задней кабины, надвинул на глаза светофильтровые очки и поднял руку, запрашивая разрешение на взлёт.
Курсант – стартёр, словно жезлом, взмахнул белым флажком и указал ему направление взлёта. Мотор самолёта взвыл, набирая полную мощь, биплан сорвался с тормозов и заскользил по взлётной полосе. Потом он приподнял хвост и почти сразу же оказался в воздухе.
Не отрываясь, мы наблюдали за его восхождением наверх и с нетерпением ждали выхода на боевой курс. Самолёт, словно зависнув в воздухе, изо всех сил карабкался вверх и кое – как набрал положенные 800 метров. С земли было слышно, как лётчик сбавил обороты, а через несколько секунд от «кукурузника» отделилась тёмная точка, и почти сразу над нею вспыхнул белый купол парашюта. Все с облегчением вздохнули, стали следить за парашютистом и не заметили, как самолёт, крутнувшись вокруг своего хвоста, быстро приземлился и уже подруливал к «квадрату» за очередной жертвой.
Пока девушку по фамилии Багина усаживали в самолёт, видавшая виды аэроклубовская полуторка умчалась за удачно приземлившимся недалеко от нас счастливым Анисимовым.
Я с глубоким волнением и неподдельным страхом ожидал своей очереди, рисуя в воображении картины, одну мрачнее другой. Но прыжок следовал за прыжком, а ничего экстраординарного не происходило. Слушая восторги совершившихся парашютистов, «квадрат» постепенно успокаивался и даже повеселел.
Наконец, время экзекуции наступило и для меня. Дико блефуя, я бодро взобрался на крыло самолёта и основательно угнездился в кабине. Лётчик дал по газам, и мы помчались навстречу моей судьбе.
Никогда в жизни мне не приходилось летать. Кроме, конечно, планера. Но можно ли назвать полётом отрыв от земли на несколько метров? Можно, наверное, но с большой натяжкой.
Раздираемый животным страхом за свою несостоявшуюся жизнь и терзаемый любопытством, я украдкой поглядывал вниз, отмечая, что все предметы на земле заметно помельчали. Господи, на дне какой пропасти находились мои товарищи! И удастся ли их увидеть вблизи ещё раз? Может, отказаться от своей безумной затеи? Пять минут позора – и вся жизнь впереди, как ты думаешь?
Мысли мои прервал толчок лётчика. Он лёг на боевой курс, сбавил обороты, но свист ветра пробивался даже через шлемофон. Пора вылезать из кабины. «А, будь, что будет», – решился я и привстал с сиденья.
Мощная струя встречного воздуха ударила в лицо и грудь, я повернулся к ней спиной и перекинул ногу за борт. Ещё через пару секунд я уже крепко стоял на краю плоскости и наклонился, чтобы помочь пилоту перекинуть через мою спину вытяжной фал.
– Пошёл! – перекрывая свист ветра, крикнул лётчик и жестом большого пальца подтвердил разрешение покинуть самолёт.
Перед тем, как шагнуть в бездну, взгляд успел зафиксировать облитые солнцем площади большого города, среди которых затерялся и мой дом. Я собрался с духом, положил правую руку на вытяжное кольцо парашюта, крепко зажмурился и отцепился от самолёта. Тело моё, не чувствуя опоры, проваливалось в преисподнюю, а вслед за ним камнем неслось приотставшее сердце. Дух захватило так, словно я окунулся в ледяную воду, и только в далёком подсознании, словно хронометр, звучали до автоматизма заученные слова: «Дёргай кольцо – раз, дёргай кольцо – два, дёргай коль…». И меня так дёрнуло, что ноги оказались выше головы.
С точки зрения физики положение моего тела было несерьёзно, и, вспомнив закон Ньютона, природа решила исправить эту несуразицу, перевернув меня с головы ногами вниз.
Наступила оглушительная тишина, я закачался на подвесной системе, как в зыбке, и автоматически осмотрел купол парашюта на предмет перехлёста стропами. Всё было в порядке, а вдали промелькнул хвост самолёта, на котором полминуты назад я ещё летел.
Хотите – верьте, хотите – нет, но чувствовать себя хотя бы немного весомым чрезвычайно приятно. Я чуть было не заорал от избытка чувств, и осмотрелся, и пришёл в восторг и понял, что весна продолжается. Теперь главное, чтобы подвесная система не подвела.
Снижения я не замечал, будто завис в воздухе, но точно знал, что скорость сближения с землёй составляет не менее пяти метров в секунду. Она стала заметной минуты через полторы. Я определил направление ветра, с помощью подвесных ремней подставил ему спину и стал готовиться к приземлению.
С каждым мгновением время соприкосновения с землёй сокращалось. Чтобы определить момент встречи с нею, я стал смотреть на горизонт. Как учили, проверил положение запасного парашюта, чтобы верхнее ребро его как можно дальше отстояло от подбородка. Для безопасности.
Действуя строго по инструкции, я вытянул ноги вперёд и тут же ощутил ядрёный удар земли – матушки. Как будто со второго этажа спрыгнул. Не раздумывая, вскочил на ноги и быстро погасил купол парашюта. Потом освободился от подвесной системы и начал собирать стропы. Меня распирало от счастья и гордости. Волны хлынувшего в кровь адреналина заполнили тело смелостью и отвагой, я весь сиял, и глупейшая улыбка раскрасила моё лицо. Хотелось снова в небо, снова испытать этот леденящий душу ужас свободного падения, чтобы окончательно убедиться, что ты не трус, что ты поборол страх. Я почувствовал в себе рождение нового качества, – смелости и отваги. Но не в этом было счастье: главное, что машина за мной в самом деле приехала…
Слухи обладают удивительным свойством мгновенно распространяться. Уже на следующий день всей школе стало известно, что вчера я прыгал с парашютом. Событие неординарное, и потому я с напускным равнодушием принимал поздравления и радовался втайне, когда замечал в глазах ребят откровенную зависть и удивление. Даже Женька Кожевникова выразила восхищение моему безумству и чуть не поцеловала.
Будь на её месте Света, я бы умер от счастья.
Почти год назад она уехала из города поступать в зоотехнический институт в Украину. Почему именно туда, я не знал, но догадывался. Во-первых, родилась в тех местах, а дома, как известно, и стены помогают. Во – вторых, родственники обещали помочь. Дядька её в этом институте чем-то заведовал.
О её предстоящем отъезде я разузнал через знакомых ребят, и за полчаса до отхода поезда уже находился на вокзале. Светлану, её подругу Лильку, худую, как жердь, и косоглазую девчонку, а также родителей я заметил сразу, но не подходил, стеснялся. Однако оттягивать встречу времени не было, и я, поборов робость, подошёл к вагону.
– О, это ты, – шумно обрадовался Егор Петрович, Светкин отец.
– Да вот, шёл мимо, – невнятно бормотал я, – случайно здесь оказался.
Все засмеялись и сделали вид, что поверили моему нахальному вранью. И Светка тоже. Лёгкий ветерок купался в её роскошной причёске, бесстыдно облапывал ноги и ласкал небольшую выпуклую грудь. «Вот сволочь, пользуется своей безнаказанностью», – ревновал я её к нахалу.
Не зная, что сказать, а молчание работало не в мою пользу, я, наконец, выдавил из себя:
– Надолго?
– Как получится, – ответила она, поправляя локоны. – Хотелось бы надолго, всё зависит от экзаменов. Если задумка сбудется, то не меньше, как на год. А ты, я смотрю, недоволен?
Мой ответ прервал звонкий удар станционного колокола.
– Иди в вагон, – заторопила Светку мать, плотная низкорослая женщина со вставными железными зубами. – Не хватало ещё на ходу прыгать…
Всех по очереди Светлана обняла и расцеловала. Мне подала руку и пожелала удач. Через минуту она выглядывала из вагонного окна и выслушивала последние напутствия провожающих. Я во все глаза смотрел на возлюбленную и последними словами ругал себя за ненужную робость. Нужно было хотя бы намекнуть о своём неравнодушии к девушке, осина ты стоеросовая!
Решение пришло в момент, когда поезд тронулся. Я вскочил на подножку, слегка потеснил проводника, уже высунувшего наружу сигнальный флажок:
– Прости, отец, забыл отдать подарок девушке. Я сейчас…
По-моему, он всё понял, потому что кивнул в знак согласия и ругнулся для порядка:
– Ладно, чего там. Чать, мы тоже были молодыми… Но на следующей остановке чтобы духу твоего не было!
Моя замусоленная трёшка благополучно опустилась в карман проводника, и я вошёл в вагон. Поезд уже набрал скорость и весело перестукивал колёсами, когда я появился в третьем купе. От неожиданности девушка приоткрыла рот и застыла в изумлении:
– Вот так сюрприз! – только и сказала она и засмеялась.
– Раньше я ездила без сопровождения. Забыл что-нибудь?
– Почему забыл, не забыл, – возразил я, придавая голосу юмористическую окраску. – Вот, кстати, возьми на память, – и я протянул ей аккуратно завёрнутый в бумагу ручной работы воротничок на платье, писк последней моды.
– Какая прелесть! – только и сказала она, любуясь тонкой вязью кружев. – Откуда?
– Сестра постаралась. На севере научилась.
– Просто чудо какое-то, – ещё раз подтвердила Светлана, – а я и не знала, что она такая рукодельница, – и попросила:
– Передай ей мою большую благодарность.
Мы снова замолчали, доверительного контакта никак не получалось. Мимо прошёл проводник, коротко напомнил:
– Через десять минут станция, молодые люди.
– Ну, что ж, пора прощаться, – просто сказала Светка, – что скажешь?
– А что можно пожелать будущей студентке? Ни пуха тебе, ни пера. Скоро и я пущусь на поиски судьбы. Решил стать военным лётчиком.
– Хорошее дело, – одобрила девушка, – ещё раз желаю тебе удачи.
Звонко лязгнули буфера, и поезд начал притормаживать. Мы поднялись и направились к выходу.
–Ты напиши мне, – улыбнулся я ей с платформы.
– Будет время – обязательно, – помахала она рукой.
– И помни: где бы ты ни была, у тебя есть друг, готовый помочь в трудную минуту, – признался я напоследок и ещё долго стоял, провожая взглядом поезд, на котором уезжала возмутительница моего спокойствия…
На выпускном вечере аттестаты зрелости вручал сам директор школы. Он произнёс несколько подходящих для этого случая слов, энергично тряс руки виновникам торжества и отпускал их с миром и аттестатами зрелости. Потом заиграла музыка, начались танцы, в которых я не был горазд. Интересно, что мы, подростки, пропадали на танцплощадках, которые в просторечье назывались «сковородками», но никому и в голову не приходило, чтобы присоединиться к вальсирующим. Это было место встреч враждующих между собой группировок и всякого озорства. Здесь любились по кустам и сводили счёты, знакомились и прощались, пили всё, что мутило разум, совершали сделки и планировали кражи. Нам, соплякам, доставляло большое удовольствие наблюдать, например, как вся «сковородка» вдруг неожиданно начинала чихать, нанюхавшись рассыпанного под ноги молотого перца.
По случаю торжества выпускники втайне принесли с собой выпивки, и уже через полчаса почти все были навеселе. Но даже и вином повысить настроение мне не удалось. Почему – то грустило сердце. То ли от посредственных оценок в аттестате, то ли от того, что пришла пора расставаться с юностью, то ли потому, что рядом не было любимого человека.
Школу я покинул задолго до окончания бала.
… В середине июня в аэроклубе объявили начало сборов. За неделю до этого каждый из сорока курсантов знал, что необходимо взять с собой, чтобы не отвлекаться от предстоящей работы на решение мещанских задач. Настроенные по-боевому, мы с шумом и гамом покинули город, и мордатые автомобили – студебеккеры повезли нас в летние лагеря.
Полевой аэродром находился в Шершнях, километрах в пятнадцати от города, но добирались до него почти час. В сущности, если бы не десяток самолётов, выстроенных в одну шеренгу на краю поля, эта огромная лужайка мало походила на аэродром. Окаймлённая со всех сторон берёзами и соснами, она заросла разнотравьем, и только центральная её часть была похожа на просёлочную дорогу, действующую и потому хорошо укатанную. Позади самолётных хвостов, практически в самом лесу приютилось несколько деревянных построек и пяток машин неизвестного назначения. Нас построили в две шеренги на фоне учебных самолётов « Як– 18», и начальник аэроклуба, молодой, но уже поседевший подполковник, произнёс короткую и ёмкую речь.
– Вы вступаете в новую жизнь, – сказал офицер. – Всё, что было до этого – забыть и наплевать. С этого момента каждое ваше действие должно быть направлено к одной цели – научиться летать.
Позади подполковника стояли лётчики – инструкторы и технический состав. Среди них бросалась в глаза женщина, по виду не девушка, но и не молодая. Как впоследствии выяснилось, она тоже имела прямое отношение к обучению и носила титул кандидата в мастера спорта по технике пилотирования на спортивных самолётах
Уже к обеду лагерь приобрёл жилой статус. Под руководством расторопного молодого человека в стороне от техники мы поставили полтора десятка палаток, окопали их по краям на предмет защиты от непогоды и установили внутри по три железных кровати, тумбочки и табуреты. Чуть в стороне, метрах в ста, оборудовали инструкторский городок и класс предварительной подготовки к полётам.
На краю строительной площадки был сооружён грибок для наряда с подвешенным на перекладине рельсом. Я попробовал, как он звучит, и все остались довольны.
Со стороны лагерь производил внушительное впечатление.
По окончании работ, как будто этого и ждали, прикатил на полуторке обед. С первым, вторым и третьим блюдами. То ли наработались мы по самые уши, то ли свежий воздух подействовал, но ничего вкуснее в жизни я не едал. Замечательный у всех был аппетит!
После сытного обеда нас разбили на группы, назначили старших и разместили по палаткам, а вечером состоялась встреча с инструкторами.
Мой инструктор Владимир Иванович Зотов всем понравился. Высокий, энергичный, спортивного вида мужчина по своему обличью походил на молдаванина, имел весёлый нрав и располагал к себе простотой и непосредственностью. Званием мастера по технике пилотирования спортивных самолётов не кичился, разговаривал на равных и, как впоследствии выяснилось, в отличие от других, в полётах никогда не выражался матом.
А вот инструктор Полозкина этим серьёзно грешила, но беззлобно, для профилактики. Я долго думал, для чего она держит в кабине корочки от книг, пока не увидел однажды, как в перерыве между полётами она расстегнула комбинезон, сунула в образовавшуюся щель переплёт и благополучно оправилась на пухленькое хвостовое колесо, метко прозванное авиаторами «дутиком».
– Ну, чего рот разинул, – грубовато спросила она, не прекращая начатого дела, – не видел, как женщина стоя ссыт?
Я был посрамлён.
Обучение лётному мастерству началось с облёта района полётов. Я сидел в передней кабине, слегка держался за ручку управления, а инструктор возил меня по зонам для отработки техники пилотирования и по специальному переговорному устройству показывал ориентиры, обрамляющие наше воздушное пространство. На первых порах отрабатывали руление, потом пробежку и подлёты – кратковременный отрыв самолёта от земли с последующей посадкой. Особой сложности эти элементы не представляли, но каждый из нас спускался из кабины на землю мокрым.
Потом началась вывозная программа. Зотов показывал взлёт, набор высоты, полёт по кругу, расчёт на посадку и саму посадку. При этом я мягко держался за управление, словно бы давал рукам запомнить динамику их движений. Главное, требовалось приземлиться в створе посадочного знака, выложенного на земле белыми полотнищами в виде буквы «Т».
Внешне всё выглядело довольно просто: убрал обороты мотора в расчетной точке, и садись. Однако прежде, чем совершить эту несложную операцию, следовало правильно определить начало третьего (расчетного) разворота и снижения, точно выйти в створ посадочной полосы, определить угол планирования и точку выравнивания, погасить скорость в процессе выдерживания и создать самолёту трёхточечное положение в момент его встречи с землёй. При правильном выполнении этих и других элементов полёта посадка у «Т» была обеспечена.
Как на всяком учебном самолёте, управление на «Як-18» было двойным. Находясь в задней кабине, инструктор полностью контролировал действия курсанта, страхуя от грубых ошибок в технике пилотирования.
В первых полётах присутствие Зотова ощущалось явно. Владимир Иванович редко пользовался СПУ, предпочитая предупреждать мои ошибки с помощью рулей управления. То ручка двигалась против моей воли, то педали становились тяжёлыми, то сектор газа перемещался непроизвольно.
Однако вскоре симптомы моей безграмотности пропали, так мне казалось. На восемнадцатом полёте инструктор признался, что уже давно меня не подстраховывает, и что я летаю сам.
Я с подозрением поймал его взгляд, но подвоха не почувствовал.
– Завтра планирую тебя на проверку готовности к самостоятельному вылету, – сказал Зотов на предварительной подготовке. – Справишься?
Он ещё спрашивает!
На полёты курсанты поднимались с рассветом. Но ещё раньше просыпались техники. Техник нашего самолёта, по национальности татарин, любил при случае пожаловаться:
– Кому не спится в ночь глухую? – спрашивал он и сам же отвечал: – Технику, петуху и бую. Петуху – петь, бую – еть, а технику – моторы греть!
И заразительно смеялся над своей грубоватой остротой.
Экзамен на самостоятельный вылет я сдавал заместителю начальника аэроклуба по лётной подготовке. Перед проверкой инструктор давал последние наставления:
– Ты, главное, ничего не изобретай. Как учили, так и действуй. И забудь, что сзади у тебя проверяющий. Усёк?
–Усёк, – в тон ему ответил я.
– Ну, и ладушки.
И вот долгожданный день наступил.
За весь полёт по переговорному устройству не раздалось ни одного звука. Я уж подумал, что в задней кабине действительно никого нет, но после приземления в наушниках прозвучала короткая команда:
– Запрашивай взлёт с конвейера!
– Разрешаю, – сказал руководитель полётов, и машина снова оказалась в воздухе.
Через десять минут я зарулил на стоянку, выключил двигатель, сдвинул фонарь, спрыгнул с плоскости на землю и по всей форме доложил о выполнении задания.
– Разрешите получить замечания?
– Молодец! – к моему великому удовольствию подвёл итоги проверки замначлёт. – Видишь землю до миллиметра. Разрешаю самостоятельный вылет, – и он сделал запись в моей лётной книжке.
Через минут тридцать самолёт дозаправили, в заднюю кабину усадили «ваньку» – парусиновый мешок, набитый песком, для сохранения центровки, и я забрался в кабину. Зотов, стоя на плоскости, лично проверил показания винтомоторной группы, поднял вверх большой палец и ободряюще потрепал по шлемофону:
– Ну, с Богом…
В благополучном исходе полётов я не сомневался. Но тот, кто взлетал впервые в жизни сам, не дадут соврать, как это волнительно. Я испытывал эйфорию, когда выруливал на линию исполнительного старта. С торжествующими нотками в голосе запросил взлёт, наметил ориентир на горизонте и вывел максимальные обороты. Затем плавно отпустил тормоза и начал разбег. Самолёт, как скаковая лошадь, рванулся с места в карьер, задрал трубой хвост и устремился в атмосферу. Всё, скорость отрыва достигнута, и небо зовёт к себе. Я только подумал, что ручку следует чуть-чуть потянуть на себя, а самолёт уже висел в воздухе и жадно набирал высоту. Земля сначала охотно, а потом всё медленнее стала отпускать меня от себя, зато горизонт дружелюбно и широко распахнул свои объятья. Ощущение необыкновенное, сравнимое разве что с моментом оргазма.
На высоте 150 метров я, как положено, выполнил первый разворот с набором высоты и направился ко второму, – к тырлу, где топтались коровы. К ферме этой я бегал пешком по ночам к девчатам из соседней деревни. Не знаю, почему, но я очень любил эти самовольные отлучки из лагеря. В сущности, дух захватывал сам процесс его тайного покидания.
В нашей лётной группе, составляющей экипаж, было пятеро. Подвижный, как ртуть, Володя Дружков с явными признаками заводилы. Тонкий, с философским складом ума Женя Девин. Володька Забегаев, недоверчивый и сомневающийся парень. И Зырянов, которого командир отряда окрестил « затыкяном». Внешне Зырянов смахивал на нацмена, и как-то на разборе полётов, отчитывая его за грубую посадку, командир поинтересовался:
– У тебя родители – кто по национальности?
– Мать еврейка, а отец – армянин,– честно признался курсант.
– А ты кто?
– Я?– удивился Зырянов, – я – русский.
– Затыкян ты, а не русский,– засмеялся своей шутке командир и объявил: – За такую посадку – два наряда вне очереди! Ступай гальюны чистить, может, голова протрезвеет…
С Вовкой Дружковым мы быстро нашли общий язык. В том числе и по вопросам взаимоотношений с противоположным полом. Поэтому, познакомившись с молодыми доярочками из местного совхоза, мы на свой страх и риск бегали по ночам на свидания. Признаться, встречи носили протокольный характер, слегка разбавленный лёгким флиртом. Однако наши хвастливые рассказы о приключениях создавали у ребят завистливые мысли о половой распущенности их друзей. Против этого мы не возражали. Людям почему – то нравится, когда им завидуют, даже если эта зависть их недостойна.
Разумеется, в воздухе я совершенно не думал об этом. Все мои мысли сосредоточились на том, чтобы выдержать параметры полёта, точно определить начало третьего разворота, от выполнения которого зависит успешная посадка. Сделаешь его раньше – траектория полёта на посадочном курсе будет круче, позже – положе. Я не стал изобретать велосипеда, я делал так, как меня научили.
Над наземным ориентиром, над которым я всегда начинал манёвр на посадку, я осмотрелся, прибрал обороты двигателя и ввёл «Як-18» в разворот со снижением, а дальше всё пошло, как по маслу. После четвёртого передо мной чётко высветилась, обозначенная флажками, посадочная полоса и метрах в двухстах от точки выравнивания – посадочное «Т», около которого я был обязан приземлиться на три точки.
Момент определения выравнивания мне удался, я убрал газ и теперь следил за тем, чтобы самолёт плавно терял высоту и скорость… В моём положении этого можно было добиться только за счёт увеличения угла атаки. Хитрость заключалась в том, что, задирая нос самолёта, я создавал ему посадочное положение.
До земли оставалось не больше десяти сантиметров, и, подобрав ручку управления, я мягко коснулся поверхности аэродрома. Где в этот момент находилось «Т», я не заметил.
По существу, полёт закончился, хотя по инструкции пока двигатель работает, он продолжается.
Зарулив в «ворота», я выключил мотор, вылез из кабины и доложил Зотову по всей форме о выполнении задания.
– Разрешите получить замечания?
Владимир Иванович крепко пожал мою руку и хитро улыбаясь, спросил:
– А где же положенные по такому случаю «вылетные?».
И следуя установленной традиции, я вытащил из-под комбинезона коробку заранее припасённого «Казбека» и протянул её окружающим:
– Закуривайте, ребята.
Глава третья
Шесть тысяч семьсот восемьдесят седьмую зарю своей жизни я встречал, стоя в тамбуре пассажирского поезда. Небо на востоке, куда так стремительно вёз меня локомотив, слегка порозовело, потом подёрнулось желтизной, и вскоре весь необъятный горизонт заполыхал малиновым пожаром. Солнечные лучи золотыми стрелами пронизывали зелёную канву придорожных деревьев, обжигали стенки вагонов и нагло заглядывали во все окна, приглашая пассажиров включаться в зарождающийся день. Всё побуждало к радости, но для меня монотонный перестук колёс располагал на размышления и создавал грустный настрой. Мягко щемило сердце, и рисовались картины прошлого.
Промелькнул и исчез вдали полустанок с аккуратным домиком обходчика, высоким журавлём и равнодушной ко всему чёрно-белой коровой. Остался позади автопоезд. По лозунгу на головной машине нетрудно было понять, что колонна направляется на элеватор ссыпать зерно урожая 55-го года.
Я бросил взгляд на часы. Это была «Победа» – первый ручной хронометр в стране, и его подарил мне отец по случаю окончания школы. М
По времени мать, наверное, уже хлопочет у плиты, готовит завтрак для семьи и что-то напевает по привычке. Я люблю её, мою хлопотунью. Просыпаясь иногда от её неосторожного движения и улавливая пряные запахи еды, я испытывал необъяснимое чувство надёжности и удовлетворённо засыпал, так и не поняв причины своего минорного состояния. Именно с матерью связаны все основные вехи моей короткой и не простой жизни. В детском саду побывать мне не пришлось, да и не помню, были ли такие в наше время. Но то, что вместе с мамой пришёл в школу, что от неё получил благословение на учёбу в аэроклубе и на поступление в военное училище лётчиков – это запомнилось навсегда.. И я, уже вкусивший прелестей полувоенной лагерной бытовухи, терпеливо выслушивал её наставления, как надо вести себя в армии, словно она знала что-то такое, что мне не было известно. Главное заключалось в том, чтобы не перечить начальству и, упаси Боже, не вступать с ним в конфликт.
Со своим младшим братом Юриком мы попрощались сдержанно, по-мужски. Он уже заметно подрос и занимался в музыкальном кружке, учился игре на баяне. Родители, влюблённые в виртуозное владение гармонью Ивана Алексеевича, решили сделать младшего сына профессиональным музыкантом, справедливо полагая, что баянист голодным никогда не останется. Вначале парень занимался с интересом, но к моему отъезду взбунтовался, отстаивая своё право на свободу выбора и нормальный отдых. Потребовалось немало усилий, чтобы убедить пацана не бросать благородного и хлебного в будущем дела. Впоследствии музыка для брата станет и образом жизни и смыслом существования.
Музыкальный кружок посещала и моя сестрица Машенька. Она тоже играла на баяне и даже выступала на эстраде, развлекая публику перед началом киносеансов, бывшими на слуху мелодиями и развесёлыми попурри. Я тоже попробовал свои силы в игре на баяне. Но при всём желании, кроме мотива популярной в те времена песни «На крылечке твоём» из кинофильма «Свадьба с приданым», ничего выучить не смог.
Поднятые зычным голосом проводника, ребята потянулись к туалету. Надо было до прихода поезда в Новосибирск привести себя в порядок.
Через несколько минут мы уже доедали остатки вчерашней пищи, и по команде сопровождающего инструктора Сафонова укладывались, готовясь к выгрузке. Интересно, что и сам Володя Сафонов, тот, который учил нас летать, решил поступать в военное училище вместе с нами.
Величественный, похожий на Дворец культуры, вокзал поразил своей высотой и строгостью линий. Никогда ранее мне не приходилось видеть что-нибудь подобное.
Нас встретила перронная суета, крики ошалевших носильщиков, смех и слёзы встречающих, звонкий, всё покрывающий, голос дикторши.
Закинув за плечо небольшой рюкзачок с поклажей, я стоял в строю сверстников и жадно пожирал глазами калейдоскоп нескончаемых улыбок, увешанные плакатами и объявлениями стены здания и ждал новой команды. Предупреждённые перед отъездом о том, что в дальнейшем гражданская одежда нам не понадобится, мы выглядели как толпа бродяжек на фоне нарядных пассажиров. Каждый оделся в то, что поплоше – всё равно выбрасывать. Прохожие с опаской осматривали подозрительную толпу, обходя её стороной. На всякий случай.
Сафонов куда-то исчез, но вскоре вернулся с военным в чине старшины, и мы, обозначив строй в колонну по четыре, нестройно двинулись вслед за ними.
В большом светлом помещении, куда нас привели, стояли рядами длинные, выкрашенные в жёлтый цвет, деревянные диваны. Чуть в стороне над широким окном висела табличка «Военный комендант», а за стеклом просматривалась физиономия капитана в красной фуражке. Невысокий, кряжистый старшина, за которым мы пришли, приказал построиться и энергично прошёлся вдоль шеренги, с интересом рассматривая отупевшие от многодневной вагонной тряски юные лица цепким взглядом каштановых глаз. Чем-то он напоминал моего шурина Сашу, мужа моей сестры.
– Сейчас подадут транспорт, – сказал энергичный старшина, поправляя большими пальцами под широким офицерским ремнём форменную гимнастёрку. – В машины рассаживаемся по команде и едем в Толмачёво. Там находится пункт сбора, и там вы будете сдавать вступительные экзамены. Вопросы есть?
Выдержав паузу, старшина с удовлетворением ответил:
– Вопросов нет. Из зала не выходить. Можно оправиться. Р– разойдись!
Через час томительного ожидания три стареньких грузовика с накрытыми тентами не спеша отчалили от вокзала, и, покашливая моторами, неспешно двинулись в сторону реки Оби – главной водной артерии Западной Сибири. Широкую, как море, водную преграду благополучно форсировали по новому хрустящему мосту.
Потом зазмеилась улица небольшого чистенького городка, и вскоре, глухо постанывая, машины вползли на территорию главной штаб – квартиры знаменитого на всю страну лётного училища. Так получилось, но тринадцать лет назад оно дислоцировалось в Сталинграде, а когда начались бои за город, было переброшено в Сибирь. Бывшее Качинское, оно было переименовано в Сибирское авиационное училище лётчиков имени Краснознамённого Сталинградского пролетариата. По существу, мы с училищем были как бы земляками, и эта новость приободряла и вселяла в меня уверенность, что родственники не подведут.
Весь остаток дня мы потратили на обустройство. Под руководством вездесущего старшины по фамилии Кольчугин носили со склада кровати, тумбочки, табуреты и матрацы. Застилали постели, чистили, скребли и мыли полы, двери и окна, обживались и притирались друг к другу.
Со второго этажа отлично просматривалась самолётная стоянка с двумя длинными рядами зачехлённых «МИГов», а по рулёжной дорожке неторопливой хозяйской походкой с карабином за спиной двигался часовой в зелёной накидке. Самолёты – красавцы были настолько хороши, что дух захватывало! Не верилось, что я удостоюсь когда-то чести не только летать, но даже сидеть в кабине такого чуда.
К вечеру казарма сияла чистотой и источала порядок. Построившись, мы двинулись к солдатской столовой, низкому приземистому зданию из красного кирпича. Когда я вошёл, бросились в глаза длинные столы со скамейками по бокам, а в нос шибануло спёртым воздухом и специфическим запахом пищи, замешанном на солдатском поту. Однако никого это не смутило. Мы смело атаковали столы, раздатчики сразу же принесли бачки с перловой кашей и тарелки с кусками селёдки и чёрного хлеба, и через мгновение молодые челюсти активно заработали к явному удовольствию желудков.
Из огромного, видавшего виды, помятого чайника каждому налили полную кружку горячей жидкости, чуть прислащеной и бледно-жёлтой, и мы добросовестно почаёвничали. Некоторые дохлёбывали на ходу, потому что раздалась команда:
– Встать! Выходи строиться!
…Авиация, как ни один другой род Вооружённых Сил, требовала не только физически сильных и здоровых людей, но смелых и сообразительных, а главное – влюблённых в небо. С бесстрастностью счётной машины Приёмная комиссия фильтровала через свои тенета прибывшую, и пока безликую, человеческую массу и старательно, как на прииске, выбирала из сотен тонн породы крупицы драгоценного металла. Никакое влиятельное лицо в государстве не было для неё авторитетом, способным изменить её решение – так, по крайней мере, мне думалось в то далёкое время. Набор курсантов был строго ограничен, об этом все знали, и это взвинчивало и без того натянутые нервы.
Через день началась медицинская комиссия. Проходила она в училищном лазарете. Полуголые ребята с озабоченным видом ходили из кабинета в кабинет, ждали своей очереди и рассказывали небылицы, одна страшнее другой. Кто-то убеждённо врал, что в кабинете психолога имеется ложный пол, наступив на который человек неожиданно проваливался. Здесь – то его и поджидал врач, измеряя кровяное давление и пульс. А невропатолог – тот совсем зарвался: бьёт своим молотком в места, о которых стыдно и сказать.
Наслушавшись страхов, пацаны невольно ощупывали себя, прислушивались к своему организму, пытаясь найти симптомы несуществующих болезней. Эта нервотрёпка продолжалась целых два дня. Главное, врачи, словно сговорившись, ничего не сообщали, и это сбивало с толку.
Мне тоже пришлось поволноваться после встречи с терапевтом. Прослушав меня и спереди и сзади, он буркнул своей ассистентке – моей ровеснице:
– Запишите: на уровне второго ребра прослеживаются очаги Гона…
Что это значило, я не понимал, но навсегда запомнил. И только много лет спустя узнал, что в далёком детстве подхватил где – то туберкулёзную палочку, плачем жаловался матери на свою болезнь, был не понят, и выжил самостоятельно.
Впрочем, я и сейчас не уверен в диагнозе молодого терапевта, и очень надеюсь, что вскрытие разрешит наш полувековой спор. Подозреваю, что с русским языком у него были нелады, и вместо слова «гона» надо было написать «гонора», потому что этого добра у меня хватает. Хорошо, что этот вирус общенароден, к нему привыкли, как к необходимости умываться.
После медицинского обследования на предмет годности к лётной работе в реактивной авиации ряды наши существенно поредели. Из команды домой отправились семеро. Их было искренне жаль, и я, прощаясь, не боялся заглянуть им в глаза, как будто в чём-то чувствовал себя виновным.
Наступила пора вступительных экзаменов. За сочинение по русскому и литературе и за физику я не боялся. Слава Богу, Константин Михайлович научил меня многому. Да и Семёнчев – преподаватель физики – поднатаскал по своему предмету, будь здоров. У него была своя метода общения с учениками. В течение четверти он нещадно раздавал двойки и тройки, и чтобы заработать у него четвёрку, следовало крепко попотеть. В прошлом минёр, он вернулся с войны без правого глаза и правой кисти. Поэтому одна рука у него всегда находилась в кармане. Половина лица Семёнчева была густо припорошена синими веснушками – следами от порохового заряда, а стеклянный глаз умел бесстрастно высматривать самого изощрённого шпаргальщика. Однако его уродливости никто не замечал, покорённый властной, но не навязчивой, общительностью. Правда, его побаивались, но уважали и любили, поскольку не раз убеждались, что человек он добрый и отзывчивый. За неделю до окончания четверти физик, как правило, объявлял, что готов после уроков побеседовать с каждым, кто претендует на достойную для себя оценку. Обычно собиралось человек двадцать – как раз половина класса. Рассаживались за парты по одному, входил, широко улыбаясь, Семёнчев, и весело сверкая здоровым глазом, говорил:
– Ну что, граждане бездельники и примкнувшие к ним лоботрясы, к бою готовы?
Мы хором подтверждали свою способность к сражению, выкладывая из портфелей тетради и чернильницы, втайне надеясь на снисходительность учителя.
– Тогда поступим так, – раскрывал он классный журнал. – Кто хочет иметь три балла?
В едином порыве мы поднимали руки, и на каждом лице было явно написано, что ему не надо орден, но хотелось бы медаль.
– Отлично! – сиял Семёнчев, ловко отмечая левой рукой в классном журнале наши фамилии. – Можете быть свободны.
Мы радостно покидали помещение, но за партами оставалось человек пять.
– Я так полагаю, что вы претендуете на более высокую оценку, – констатировал учитель, обращаясь к оставшимся. – И кто хочет четвёрку? Ага, ты, ты и ты… Ну, что ж,
не возражаю, идите домой. А вот с вами, приятели, – обращался он к двум – трём оставшимся, – мы побеседуем.
О чём они разговаривали, не знаю. Я никогда не оставался в классе последним и не замахивался на высшую оценку, но предмет изучил неплохо.
Про Павку Корчагина я написал хорошо, а вот на физике произошёл конфуз со счастливым концом. Отвечать на билет я вышел восьмым по алфавиту. Чётко печатая шаг, как учили, я остановился перед широким столом, накрытым зелёным сукном, и громко доложил трём офицерам, что готов дать правдивые показания по существу предъявленных мне вопросов. Отвечал я коротко и, на мой взгляд, толково, благо билет оказался лёгким. Хотя в принципе лёгких билетов не бывает. Всё зависит от того, знаешь ли ты на него ответ.
– Ну, хорошо, – прервал меня главный из тройки, потому что сидел в центре. – А теперь пощупайте этот графин, – указал он на сосуд с водой, стоящий перед ними…– Как вы думаете, почему на солнечной стороне его бок холодный, а в тени – наоборот?
Я пощупал и растерялся, убедившись, что физик прав, но виду не показал и стал лихорадочно фантазировать:
– Это же естественно, – снисходительно начал я, словно говорил несмышлёнышам. – Тела, как известно, при нагревании расширяются и приходят в движение. Следовательно, и молекулы воды, нагреваясь, начинают двигаться, скользят вдоль стенок графина и на противоположной стороне сталкиваются. При столкновении возникает энергия. Именно она и нагревает теневую сторону. Надеюсь, я объяснил доходчиво?
Члены комиссии дружно и надолго рассмеялись. Я скромно опустил голову и ждал, когда их оскорбительное веселье уляжется. Вытерев слёзы носовым платком, председатель, наконец, успокоился, и, не переставая улыбаться, сказал:
– Молодой человек, вы большой выдумщик. Броуновское движение вам незнакомо. Но за оригинальность мы поставим вам хорошую оценку.
Только спустя несколько месяцев я узнал, что один из них повернул графин на сто восемьдесят градусов. Шутки ради. Похохмить со скуки. И она удалась. Впрочем, этой шутке был не один десяток лет, как говорят, была она «с бородой».
В разгар вступительных экзаменов с быстротой молнии всю нашу братию облетела весть, что к нам прибыл «покупатель» из вертолётного училища. И действительно, вечером в казарму пришёл приземистый упитанный майор, собрал всех в Ленинской комнате и предложил самое главное: гарантированный стопроцентный приём без сдачи экзаменов, лишь бы здоровье не подвело.
– Учтите, ребята, что вертолёты – принципиально новый вид авиации, он пока в стадии становления, и за ним большое будущее, – сказал майор. – Хотите стать большими людьми – записывайтесь прямо сейчас, не пожалеете.
Соблазн пойти в вертолётную авиацию был, безусловно, велик. Она обещала хорошие перспективы. Сроки обучения тоже устраивали – два года, и ты лейтенант, командир вертолёта «Ми-4», с собственным экипажем. И зарплата приличная.
Поддавшись на агитацию и взвесив хлипкие шансы стать курсантом истребительного, часть абитуриентов забрала документы и передала их в руки майора. Через неделю группа человек в двадцать убыла в поисках счастья на Волгу. Вместе со всеми уехал и тот самый Анисимов.
Мы выстроились на широком плацу, по краям которого на стойках расположились щиты с нарисованными солдатами, выполняющими приёмы строевой подготовки.
Ярко и весело светило октябрьское утреннее солнце, празднично, но лениво трепыхался на мачте авиационный голубой флаг с исходящими от центра жёлтыми лучами, надеждой светились лица ребят. По левую руку от меня стоял Миша Звягин – жгучий брюнет из Новосибирска, по правую – Володька Забегаев, а чуть поодаль Горяинов, с которым мы подружились во время совместной подготовки к экзаменам. Он сразу же понравился мне своей какой-то фанатичной целеустремлённостью и не по годам развитой рассудительностью.
Несмотря на запрет, в строю слышались разговоры, негромкие, но достаточно явные, чтобы создать общий фон нетерпения. Ждали высокое начальство с приговором для каждого из нас.
Наконец от административного здания училища появилась группа офицеров во главе с начальником штаба, раздалась команда «смирно», и распорядитель церемонии лихо отрапортовал ему, что мы построены.
– Вольно, – снисходительно разрешил начштаба, разряжая напряжённую обстановку, и вышел на середину строя. Какой-то клерк из свиты тотчас подал полковнику листы стандартной бумаги, и он, слегка откашлявшись, громко начал:
– Приказ начальника училища о зачислении ниже перечисленных абитуриентов курсантами Сибирского военного авиационного училища лётчиков имени Сталинградского Краснознамённого пролетариата…
Мы напряглись, навострили уши и вцепились глазами в список, по которому полковник в алфавитном порядке зачитывал фамилии прошедших конкурсные испытания. И хотя каждый из нас по неформальным каналам уже знал содержание проекта приказа, было необычайно радостно осознавать, что ты – в списке избранных.
По мере объявления приказа строй расплывался в улыбках, а шум нарастал. Полковник, поздравив нас с зачислением, удалился, и нас немедленно направили в казарму для смены цивильной одежды на военную.
Программа обучения была рассчитана на два года. Сначала мы должны освоить самолёт «ЯК-11». В отличие от «ЯК-18-го» он обладал высокими тактико-техническими и лётными данными, имел на борту вооружение и мог вести самостоятельные боевые действия. В воздухе он был великолепен и выполнял все фигуры высшего пилотажа. И только на взлёте и посадке проявлял свой строптивый характер из-за мощного гироскопического момента и способностью сваливаться в штопор при создании посадочного положения.
За второй год предполагалось не только изучить, но и освоить принципиально новый реактивный самолёт «МиГ-15». Научиться вести на нём боевые действия.
По-моему, Туполев как-то сказал, что если самолёт красив, то и летать он будет великолепно. Так вот – «МиГ» был сложен, как Аполлон. Обтекаемый как веретено фюзеляж с каплевидной кабиной наверху, стреловидные, как у ласточки, крылья, высокое хвостовое оперение, широкое раздвоенное сопло и не менее широкая выхлопная труба, внутри которой неясно просматривались лопатки турбины, – так он виделся невооружённым глазом. Но если у тебя есть хоть чуточку воображения, можно легко представить несокрушимую мощь этого Геркулеса. Ещё ни разу не прикоснувшись к нему, мы его обожали.
Приказ о зачислении в училище ещё не означал, что мы стали принадлежать Военно-Воздушным Силам. Для этого полагалось принять присягу. Однако прежде, чем приступить к этому священнодейству, требовалось пройти курс молодого бойца. Рассчитан он был на три месяца, но в авиации всё делается быстро, и мы справились с задачей за две недели. Но какие недели!
Всех переодели в бывшую в употреблении армейскую одежду, выдали учебные карабины, и началась муштра.
Новобранцев будили ровно в шесть утра. Дневальный, за ночь уставший от одиночества, обрадовано и лихо орал, прочищая лёгкие:
– По-одъём!
После этой команды от нас требовалось одеться, обуться и через сорок пять секунд стоять в две шеренги в проходе между двухъярусных кроватей. И если кто-нибудь опаздывал, следовала команда «отбой», мы раздевались, складывали обмундирование на прикроватные табуреты, укладывались снова, и процедура повторялась. Мы зло косились на нерасторопных, готовые в слепой ярости к крайним мерам воспитания, и некоторые из них, чтобы не раздражать коллектив, с вечера договаривались с дневальными, и те будили засонь минут за пять до подъёма.
Сонных, нас выводили на зарядку, и мы трусцой бежали в сторону аэродрома, где с большим наслаждением справляли малую нужду. Это было великолепное зрелище: целый табун молодых жеребчиков, вытащив передние копчики, обильно поливали мочой придорожные травы.
После часовой физической нагрузки приводили себя в порядок: чистили кирзовые сапоги, зубы, брились, кому положено, умывали заспанные лица и с нетерпением ждали построения на осмотр, а потом скорым шагом следовали в столовую.
В просторном помещении свободно размещалась целая рота. Рядом с окном для выдачи пищи, названным для краткости амбразурой, висел фанерный щит с нормами солдатского пайка, но на него никто не обращал внимания, поскольку, судя по нашим желудкам, они не соответствовали действительности. По команде «садись» мы опускались на скамейки и с нетерпением наблюдали, как старший по столу делит «разводящим», так в армии называется половник, пищу из бачка. К общей зависти остальных, себя он явно не обижал.
Нельзя было похвастаться и меню. Обычно нам выдавали перловую, прозванную «шрапнелью», кашу, пшёнку или тушёную квашеную капусту с экзотическим названием «бигус». В придачу каждому полагался кусок солёной селёдки сантиметров в пятнадцать, так что по моим подсчётам за время прохождения курса я съел её не менее трёх с половиной метров.
От такой еды уже через пару часов мы ощущали нестерпимый голод, но спасала жажда. Мы пили много и часто. Не поэтому ли нам скармливали селёдку заботливые снабженцы – тыловики?
И чтобы как-то притупить бдительность желудков, у каждого в кармане имелся про запас «тормозок» – кусок хлеба или сухарь.
Полевые занятия проводились в четырёх километрах от военного городка. Полигон занимал всю пойму небольшого притока Оби. По утрам здесь подолгу висели туманы, и промозглый сырой воздух шумно врывался в лёгкие, когда после очередного штурма укреплений противника курсанты, лёжа на остывшей земле, окапывались. Здесь на практике учили нападать и обороняться, умению скрытно перемещаться, использовать складки местности, размыкаться в цепь и стрелять. Старые, обшарпанные карабины, начинённые холостыми патронами, глухо лаяли, изрыгая из стволов языки пламени. Лопались, как хлопушки, имитируя гранаты, взрывпакеты, разбрызгивая фонтаны грязи, мы ползали, вставали, бежали, падали, орали «ура», и неграмотный прохожий вполне мог подумать, что здесь и в самом деле проходят боевые действия.
Короткий перерыв, и сержант-сверхсрочник обучал нас приёмам рукопашного боя. Эта часть занятий воспринималась с большим энтузиазмом. Каждый понимал, что уметь постоять за себя – дело нужное и в жизни вполне пригодится. К сожалению, времени для самбо отводилось до безобразия мало.
За час до обеда грязные и чертовски усталые мы возвращались в родные пенаты и перед входом на территорию училища запевали строевую песню. Как сейчас помню её начало: «Путь далёк у нас с тобою, веселей, солдат, гляди! Вьётся, вьётся Знамя полковое. Командиры впереди». Сначала пели через пень-колоду, но к концу первой недели получалось уже складно.
Остаток дня, как всегда, проходил в оружейной комнате, где чистились карабины, а потом в классе учебного корпуса до ужина учили уставы. На титульном листе Устава караульной службы кто-то старательно написал четверостишие:
О, воин, службою живущий,
Читай Устав на сон грядущий.
И ото сна опять восстав,
Читай усиленно Устав.
Автор, естественно, неизвестен, однако не без царя в голове.
После успешной сдачи экзаменов по знанию уставов старшина Кольчугин переодевал нас в новенькое, с иголочки, обмундирование. Мы по очереди подходили к каптёрке, и каждому вручался комплект одежды, от портянок до шинели включительно. Настроение поднялось, отовсюду слышались шутки, работа спорилась. Ребята примеряли обновки и радовались, что трудности позади.
– Товарищ старшина, – обращался кто-нибудь к Кольчугину, – шапка мала.
– А, ничего, Звягин, растянется, – улыбался в ответ Кольчугин.
– А у меня слишком большая, – жаловался Алик Стриков, аккуратист и чистюля.
– Ничего, курсант, сядет! – уверенно успокаивал старшина и снова озорно улыбался.
Саня Алексеев накинул на себя шинель, и его щуплая фигура утонула в её недрах. В росте она явно превосходила парня.
– Пустяки, – решил он, – чуть подрежем полу, и будет сидеть, как влитая.
Он наклонился, отметил мелком точку отреза и взялся за большие портняжные ножницы. Не торопясь, отрезал лишние сантиметры и сделал примерку. Теперь полы шинели доставали до колен.
Веселью пацанов не было конца: ну чем не Паганель из кинофильма «Дети капитана Гранта»?
– Что ж ты, дурачок, со мной не посоветовался, – в сердцах выматерился старшина. – Куда я теперь её дену?
10 сентября 1955 года мы присягали на верность Родине. Момент незабываемый не только торжественностью обстановки, но главным образом эмоциональному настрою всех участников священного ритуала.
Клятву давали персонально. Я смотрел на листок с напечатанным текстом Присяги, ничего не видел перед глазами и читал её наизусть.
В строй я вернулся другим человеком.
Благодарная Родина в знак признательности накормила нас великолепным праздничным обедом.
Надо же было такому случиться, но через день как гром на голову свалилась весть, что в училище прибыла группа выпускников первоначальной лётной школы.
Первоначалка по статусу считалась выше обучения в аэроклубе. И мы подозревали, что отыграются на нас. Так и случилось. По приказу высокого начальства все новенькие без каких-либо экзаменов были зачислены на первый курс. Решение окончательное и обжалованию не подлежало.
Что будет с нами дальше, мы узнали через три дня. Начальник отдела кадров популярно разъяснил, что наша группа до весны будет заниматься изучением теории, в мае отправится в Центральный аэроклуб и продолжит полёты на «Як-18», а осенью приступит к обучению на «Як-11».
Нашему разочарованию не было предела. И дураку ясно, что нас отправляют в резерв, консервируют на целый год, и вместо обещанных двух – в училище придётся провести три года.
–Тем, кто недоволен принятым решением, – с нескрываемой усмешкой сказал кадровик, – предлагается альтернатива. Поскольку вы приняли присягу, то обязаны пройти срочную службу в качестве рядовых. Служить будете здесь же, вакансий достаточно.
Вот ведь как повернул, казуист. Все пути к отступлению обрубил, мошенник.
Училище располагало несколькими филиалами, расположенными в Алейске, Бердске, Калманке, Топчихе и других местах. В двух из них дислоцировались учебные полки, остальные использовались только для полётов в весенне-осеннем сезоне.
Волей случая в конце октября я оказался в Бердске. За исключением крупного радиозавода провинциальный городишко ничем от других не отличался. Впрочем, у жителей, населяющих его, была одна особенность: все они, или почти все, состояли из немцев, депортированных во время войны из Поволжья. Немцы привезли с собой свои обычаи, свой быт и культуру. Поэтому дома, сложенные из сосны икедрача, отличались добротностью, аккуратностью, фундаментальной крепостью в противовес аборигенам с их почерневшими от зависти халупами. Большая часть населения работала на заводе, многие обслуживали воинские подразделения, а некоторые нашли себе применение на железнодорожной станции.
Нас разместили в длинной сигарообразной казарме с тремя рядами двухъярусных кроватей, разбили на классные отделения, назначили старших и приказали нести караульную службу.
– Подменим роту охраны на первых порах, – сказал, словно извинился, замначштаба, – рота охраны устала и требует отдыха.
Мы молча согласились, ну как не помочь братьям по службе. Однако нет ничего постоянней, чем временное: помощь затянулась на полгода. По существу, мы превратились в придаток роты и в караул ходили «через день – на ремень». От солдат нас отличали только курсантские погоны. Даже пайка – и то была солдатская, полуголодная.
Нужно ли говорить, что от такого харча нас тянуло на любовь? Тысячу раз права была моя мама, когда говорила, что если серёдка полна, то и края играют. К сожалению, ни края, ни концы ни какие-либо другие части наших тел потребности к противоположному полу не испытывали. Любовные чувства находились в глубоком анабиозе, и только глаза, по привычке ли, или, подчиняясь врождённому инстинкту, оживлялись при виде молодой красивой девушки.
Я поражался удивительной способностью командиров и начальников придумывать для нас всевозможные занятия. У нового старшины зубы болели, если он видел, что кто-то сидит без дела.
– А ну-ка слетай, голубок, в штаб ОБАТО, найди начвеща, спроси, когда можно подойти за портянками.
– Да ведь по телефону спросить можно, – слабо возражал попавшийся.
– Верно, – соглашался старшина. – Но посыльный надёжнее.
Недалёкий деревенский парень тоже когда-то мечтал стать лётчиком, но что-то в судьбе его не заладилось, и, обозлившись, он вымещал свою злобу на наших шкурах.
– Рассялись тут, – ворчал старшина, застав группу курсантов в курилке, – строят из себя адияла.
Фраза невразумительная, на местном диалекте, но мы её прекрасно понимали: «рассялись» – значит, расселись, «адияла» – это идеала.
И сейчас, и тогда трудно было определить, почему старшина относился к нам с подчёркнутой заносчивостью. Единственным объяснением, пожалуй, являлась жгучая зависть.
Но и мы не оставались в долгу перед инквизитором, гадили ему, как могли. Дело дошло до того, что однажды, когда в хороший мороз он выгнал нас на зарядку в нательных рубашках, кто-то зафитилил в его сторону кусок кирпича. Жаль только, что промазал, дурачок.
Наступили настоящие сибирские холода. Кипенно-белый снег толстым слоем покрыл промёрзшую землю, крыши домов и построек – всё, что охватывал человеческий глаз, и свирепые вьюги надували трёхметровые сугробы в совершенно неожиданных местах – точки приложения наших сил.
Мы продолжали подменять солдат роты охраны, а они, явно довольные, посмеивались и потирали руки.
Однообразная монотонная жизнь угнетала, давила и превращала в бессловесную скотину. Я совершенно перестал интересоваться литературой и с ужасом чувствовал, как день ото дня тупею.
Не в лучшем положении находились и мои приятели. Ходил, как в воду опущенный, Гена Чирков, слонялся по казарме, отыскивая пятый угол, Лёшка Захаров, и даже неугомонный Варновский – признанный конструктор ракет и макетов реактивных самолётов – забросил своё занятие, предпочитая валяться на кровати.
Нести караульную службу становилось всё труднее. Главным нашим врагом был холод. От жёстких пятидесятиградусных морозов не спасали ни тулупы, одетые поверх шинелей, ни шерстяные маски ни валенки. Зачастую часовые уже через два часа возвращались с постов с сильными обморожениями.
Под охраной находился аэродром и многочисленные склады, самым ненавистным из которых считалось полу зарытое в землю здание, в котором хранились боеприпасы. Расположено оно вдали от жилых помещений, и шагать до него не менее получаса. Укрытое в лесу от постороннего глаза и огороженное колючей проволокой, оно напоминало гарнизонную гауптвахту, с той лишь разницей, что здесь не было ни души. Ни сидеть, ни стоять на месте на посту не разрешалось – заснешь и замёрзнешь ни за понюх табаку.
Во время движения сухой промёрзший снег громко скрипел под ногами, иногда раздавался треск деревьев, а откуда – то издали доносились долгие тоскливые завывания собак. Жуткие, тревожные и незабываемые ночи. Чтобы не замёрзнуть, мы делали неуклюжие приседания и для профилактики каждые пятнадцать минут ожесточённо растирали неприкрытые носы и щёки. Поначалу я то и дело поглядывал на часы, злился, когда разводящий со сменой опаздывал, но потом рассудил, что, сколько время не контролируй, события не ускорятся.
В караулке день и ночь топили «буржуйку» – печь, на которой круглые сутки стоял огромный, дочерна закопчённый, солдатский чайник. Согревшись, тело исходило истомой, веки наливались свинцом, тяжело опускались долу, но спать не полагалось, пока не отдежуришь бодрствующую смену. Под гнётом банального бытия выдыхался, как спирт из стакана, навеянный юностью романтизм, мы черствели душой и незаметно взрослели.
В увольнение нас пускали с неохотой. Удивительно, но кроме новосибирцев, недовольства никто не выражал. В самом деле, что можно было найти за пределами гарнизона? Дважды я слонялся по городу, знакомясь с его достопримечательностями, но ничего стоящего не встретил. Зато впервые в жизни попробовал медовухи, приятного на вкус духмяного напитка, наподобие бражки. С непривычки слегка захмелел, но морозец быстро привёл в норму, и к ужину я вернулся домой, как огурчик.
По субботам и воскресеньям в клубе демонстрировались художественные фильмы. Я не пропускал ни одного. Так и текла унылая, однообразная жизнь.
Ближе к весне ребята решили по комсомольской линии провести вечер танцев с приглашением девушек из городского медучилища. Взялись за дело с энтузиазмом, и уже велись предварительные переговоры, однако осуществить эту идею не удалось: пришёл приказ о переброске нашей группы в Центральный аэроклуб.
Чем хороша солдатская жизнь, так это сборами. Надел сапоги, накинул шинель, подпоясался ремнём, закинул за плечи нехитрый вещмешок – и ты уже готов к походу.
В майские праздники каждого из нас обеспечили сухим пайком, провели инструктаж о порядке поведения в пути следования, назначили старших и под руководством начальника строевой подготовки полка майора Ахрямочкина проводили в далёкий и таинственный Аткарск, где ежегодно проходили сборы лучших в стране спортсменов – лётчиков.
Не буду утомлять читателя подробностями переезда, скажу только, что, сделав две пересадки, мы благополучно и без потерь добрались до места назначения. Естественно, мы никому не были нужны, и первые два дня с утра до позднего вечера личный состав приводил заброшенные ангары в жилой вид. Каждый сам для себя набивал матрацовки и наволочки соломой, хором выстраивали в линию кровати, выравнивали лопатами земляной пол, делали дорожки и размечали плац для общих построений. Работы хватало всем.
Местность представляла собой безбрежную равнину, изрезанную оврагами, притоками и буераками. По буеракам сплошь и рядом росли молодые дубки, клёны и липы, а края оврагов густо подёрнулись кустарником.
Вокруг провинциального аэродрома располагалось несколько деревушек, объединённых в один колхоз с овощеводческим уклоном.
Уже через неделю мы будем иметь активный контакт с сельской молодёжью, заведём романы с девушками – крестьянками и на этой почве совершать самовольные отлучки.
Пищу для нас готовили две колхозные кухарки, она заметно отличалась от солдатской, была сытной и вкусной. Но главное, её хватало, а кто хотел – получал добавку. Вскоре, как на опаре члены наши налились силой, окрепли и заиграли. И Вовка Шутов, великий хохмач, как-то после подъёма, потягиваясь, сказал:
– Утром встанешь – самый сон, сердце бьётся из кальсон!
Сразу же по приезду на место нового базирования майор Ахрямочкин «захватил» власть и объявил себя начальником лагеря. Впоследствии за всю жизнь в авиации я не встречал человека меньше его ростом. Свою карьеру в армии он начал «сыном полка», да так и остался в её рядах. Майор – единственный, кто имел личную машину «Победа», безусловно, гордился этим, и мне не раз приходилось видеть его за рулём, важного и недоступного. Под задницей во время езды у него всегда лежала подушка, чтобы сидеть повыше и видеть дорогу. Кто-то из ребят метко подметил, что вес у майора «тридцать шесть килограмм вместе с сапогами». Вот под этой кличкой он и проходил всё лето, пока мы не расстались.
Между тем в лагерь прибыли молодые лётчики – инструкторы, работающие в Центральном аэроклубе. Нас разбили на экипажи, и судьбе захотелось, чтобы к нам определили Владимира Заикина – мастера спорта по высшему пилотажу, неоднократному призёру всесоюзных соревнований. Высокий, поджарый, с тонкими чертами лица и голубыми глазами, он походил на стройную девушку. Сходство дополнялось и тем, что при улыбке на его щеках появлялись прелестные ямочки. Разговаривал он негромко, короткими фразами, но чётко и ясно, словно дрова рубил. Кроме меня в лётной группе оказались Девин, Забегаев, Мазикин и Чирков. Первая встреча состоялась после ужина под навесом одной из двух десятков беседок, ставшей впоследствии постоянным местом предварительной подготовки к полётам и их разборам. Каждый, в том числе и Заикин, коротко рассказал о себе, и знакомство состоялось.
– Судя по лётным книжкам, – сказал в заключение Заикин, – больших проблем в полётах не будет. Прошу соблюдать дисциплину не только в воздухе. Старшиной группы назначаю…– он обвёл всех проницательным взглядом и закончил: – Забегаева. Вопросы?
Вопросов не было.
Заикин всем положительно понравился. Совсем не такой, как Зотов. Тот был – кремень мужик! У того, кроме неба и самолётов, ничего святого не существовало. Нас, курсантов, драл и в хвост, и в гриву. Поднимется из-за стола на разборе полётов, повиснет над нами могучей глыбой, сунет ручищи в карманы галифе и долго и неодобрительно смотрит на провинившегося. И не дай Бог не выучить наизусть полётного задания! Не дослушав, перебьёт густым, как дёготь, басом, сплюнет в сторону, скажет презрительно:
– Сундук!
Короткое, но ёмкое слово означало, что на завтрашние полёты не рассчитывай, и готовься к чистке общественного нужника.
В аэроклубе он работал не один год, руководство знало о его грубости, но за блестящие лётные данные закрывало на них глаза. Иногда он приходил на работу с глубокого бодуна, требовал фляжку с водой, и если её не оказывалось, разражался неприличной бранью. Но что интересно, вздорный и непредсказуемый, он вывел экипаж в лидеры негласного соревнования.
В воздухе инструктор преображался. Он единственный, кто умел выполнять на «Як-18» замедленную и восходящую «бочку» – сложнейшую фигуру высшего пилотажа.
Один раз в неделю «для поддержки штанов» у инструкторского состава проводились командирские полёты. Чтобы придать им некоторую пикантность, лётчики заключали пари на точность приземления. Делалось это так. На траверзе посадочного знака к земле прикреплялся носовой платок и тот, кто касался его колесом левой стойки или «дутиком» – хвостовой точкой опоры, – выигрывал.
Зотов мазал редко. Принимая трояки от незадачливых соперников, он сдержанно ухмылялся и назидательно говорил:
– Землю, её задницей чувствовать нужно.
Мы очень гордились своим инструктором и за мастерство прощали его грубость. Ну что здесь поделаешь, если он был человеком войны.
Прошёл месяц. Мы втянулись в новую жизнь и уже давно летали самостоятельно. Заикин, похоже, успехами экипажа оставался доволен. Если и выговаривал свои претензии, то касались они только чистоты выполняемых элементов…
До сегодняшнего дня я тоже думал, что программу усваиваю без особых отклонений. Но два часа назад со мной случилось такое, что и врагу не пожелаешь. А всё из-за дурацкой самоуверенности и петушиного апломба.
По разрешению руководителя полётов ровно в одиннадцать ноль-ноль я произвёл взлёт и взял курс в зону для отработки простого и сложного пилотажа. Погода стояла прекрасная. Ярко светило солнце, видимость, как говорят в авиации, «миллион на миллион», и только на приличной высоте зависли, словно привязанные к небу, белые роскошные и кучерявые кучево-дождевые облака.
Мотор устойчиво работал на ноте «ре», и самолёт надёжно набирал заданную высоту. Под крыло неторопливо уплывали знакомые пейзажи: колхозное стадо на опушке леса во главе с пастухом – главнокомандующим рогатого войска, плотина, неделю назад построенная нашими руками на речке – переплюйке, районный центр с единственной на всю округу школой – десятилеткой, где учились девчата – «промокашки», по образному выражению Лёшки Сафонова.
Подражая своему кумиру Николаю Крючкову, блистательно сыгравшему роль лётчика Булочкина в комедии «Небесный тихоход», я мурлыкал какую-то популярную мелодию в соответствии с гармонией души и тела.
– Я – 420 -тый! – доложил я на СКП. – Зона свободна. Разрешите выполнять задание?
– Валяй! – весело ответил руководитель полётов со стартово-командного пункта, и связь прервалась.
Я развернулся в сторону аэродрома, наметил на горизонте ориентир, установил скорость и высоту и стал выполнять виражи с креном в сорок пять градусов. В целом получилось неплохо. Теперь комплекс фигур: переворот – петля Нестерова, более известная в народе как «мёртвая петля», – боевой разворот. Вправо, потом влево. И, наконец, спираль. Восходящая и нисходящая. Вот и всё. Пора закругляться.
Но тут, словно чёрт меня дёрнул посмотреть на это облако. Оно стеной стояло на пути к посадочной полосе, наковальней своей упираясь в зенит, а в центре зиял огромный тоннель, отсвечивающий на выходе сочной голубизной. Просто фантастика с космической дырой! Что, если нырнуть? А почему бы и нет? В облака входить нам категорически запрещалось, но если подумать, то пролёт тоннеля будет визуальным.
И завороженный неземной красотой реальной картины, я нырнул в ловушку. Что случилось дальше, вспоминается с трудом.
Неведомые могучие силы стали играть с самолётом, как с баскетбольным мячом. Меня хаотично бросало из стороны в сторону, рулевое управление вырубилось, и я мгновенно оказался в молочном плену. Стрелки приборов взбунтовались, и линия горизонта на АГИ исчезла. Я растерялся, запаниковал и лихорадочно дёргал бесполезную ручку управления: самолёт на мои действия не реагировал.
В каком положении я находился эти несколько секунд – одному Богу было известно. Трепыхались, как у мотылька, крылья, стонали нервюры, ревел от страха двигатель, а моя душа трусливо ушла в пятки. Я был бессилен что-либо предпринять, потому что потерял пространственную ориентировку. Можно утратить многое: деньги, нюх, бдительность, совесть, наконец. Это не смертельно. Но если исчезло пространственное ощущение мира, – ты уже не жилец. В редких случаях такое происшествие заканчивается без летального исхода.
Наверное, я родился в рубашке. Мне дико повезло. Когда коварное облако с презрением выплюнуло меня из своих недр, я мгновенно сообразил, что отвесно пикирую с левым креном. Стрелка указателя скорости угрожающе дёргалась у отметки предельно допустимой.
Я убрал обороты мотора и, преодолев дикую перегрузку, с большим трудом вытащил машину из пикирования. До земли оставалось метров сто.
Смахнув рукавом капли пота, я, как побитая собака, трусливо заторопился на точку. Всё произошло настолько скоротечно, что даже наблюдающий за мной Женя Девин не заметил моего исчезновения. Из скромности я предпочёл умолчать о своём позоре.
Дня через три инструктор послал меня в штаб с донесением о дневном налёте. Штаб находился на отшибе и утопал в сиреневых кустах и кучерявых дубочках. Начальника на месте не оказалось.
– Если пришёл к Луговому, то найдёшь его там, – показал за дом техник отряда. – Снова захандрил. Это с ним частенько бывает.
Я шагнул за зелёную изгородь и увидел лежащего на траве мужчину лет сорока пяти. При моём появлении он встрепенулся и сел.
– Отлетали, говоришь, – сказал он мне как старому приятелю. – Это хорошо. А у тебя-то как дела?
– Пока нормально, – ответил я, прикидывая, с чего это начальник штаба заинтересовался моей персоной.
Он кивнул, сунул, не читая, записку в карман и пригласил:
– Да ты садись, в ногах правды нет.
Я с недоумением взглянул на него, а он пояснил:
– Сын у меня очень на тебя похож. Вот, посмотри, – оживился он и достал фотографию из бумажника.
Со старого пожелтевшего снимка на меня смотрели улыбающиеся лица парня в военной форме и мальчика в феске.
– После возвращения из Испании снимались, на память, – пояснил начальник штаба. – Славное было время.
Мальчик и впрямь чем – то на меня смахивал, хотя в детстве все мы на одно лицо. Стоит ли разочаровывать собеседника, если он видит в тебе придуманного им кумира?
– Лет на пять старше тебя, а уже командир звена, – с гордостью похвастался Луговой, когда я возвратил фотокарточку.
«Интересно, что он подразумевает под «славным временем», – подумал я и с любопытством спросил:
– А как там было – в небе войны, какой бой больше всего запомнился?
Начштаба скупо улыбнулся.
– Какой, говоришь? Да в первый день Отечественной. Полк наш стоял на границе с Польшей, и летали мы на «Ишачках» и «Чайках». Слыхал про такие самолёты? Хоть и старенькие, но в бою проверенные.
Обстановка была напряжённая, Гитлер гулял по Европе, одну за другой подминал под себя страны, но мы надеялись, что напасть на нас не решится – не по зубам. Вот и дождались…
Дрожащими пальцами он зажёг папиросу, и его правая щека задёргалась в нервном тике.
– Нас сразу же подняли по тревоге в воздух. Посты ВНОС предупредили, что к аэродрому приближаются немецкие бомбардировщики. Справа от меня ведомый Вася Гранаткин. Лицо у него строгое, сосредоточенное, напряжённое. Естественно, он впервые участвует в боевом вылете. К тому же накануне по распоряжению начальника вооружения полка пулемёт с его самолёта сняли для проведения регламентных работ. И со многих других – тоже.
Встреча с противником произошла километров в двадцати от аэродрома. По их поведению я определил, что нас они не видят. Солнце только-только появилось над горизонтом и слепило им глаза.
Выполнили мы с Васей боевой разворот и заходим группе в хвост. Немцы, они поначалу наглые были, без прикрытия летали. Ну, думаю, держитесь, желтобрюхие! Пристраиваюсь к замыкающему колонну в хвост и даю длинную очередь. Немец клюнул носом и – камнем вниз. Сближаюсь со вторым, жму на гашетку – и бомбовоз взорвался. Еле от обломков сам увернулся. И началась, завертелась карусель. В эфире крики, команды, пронзительные вопли, боевой порядок рассыпался, на землю посыпались бомбы. Ясно, что паника началась среди стервятников. Ну, это нам на руку: паникёры, – они первыми умирают. Кручу головой на триста шестьдесят градусов, пристраиваюсь к очередной жертве и интуитивно чувствую, что сверху грозит опасность. Оглянулся, и пот прошиб. Падает на нас с Васей немецкий истребитель. Вот-вот откроет огонь…
Как ушёл из – под пулемётной трассы – до сих пор не пойму…
Луговой в недоумении развёл руки в стороны, склонил голову набок и приподнял кустистые брови, будто спрашивая: действительно – как?
Я сидел рядом, уткнув подбородок в колени, и помалкивал. Не дождавшись ответа, он снова задымил папиросой и продолжал:
– Иду с потерей высоты, набираю скорость. Краем глаза вижу Васю. Не отстаёт, держится молодцом. Взмыли мы боевым разворотом, и снова к ближайшему «Юнкерсу». Бой нарастает, немец силы наращивает, а наших нет. Замечаю, одна «Чайка» вспыхнула, вторая. От злости так сжимаю ручку управления, словно хочу из неё сок выжать. Глянул, и Васи Гранаткина нет. Подбили, сволочи. Такого парня угрохали! Смотрю, тянет один немец к цели, крест решил заработать. «Будет тебе крест, твою мать!», – думаю, сближаясь с фашистом. Стрелок поливает меня свинцом, а я нырнул в «мёртвую» зону и выжимаю из машины последние крохи мощи. Метров сто осталось до щучьего тела бомбардировщика, уже чую, как тянет от него зловонием, пора открывать огонь. Нажимаю на гашетку, а трассы не вижу. Боекомплект кончился. «Всё равно не уйдёшь, собака!», – зло шепчу я пересохшими губами, вплотную подлетая к противнику. Вижу у себя на хвосте «мессера», но тот не стреляет, в своего попасть боится.
Рубанул я винтом по стабилизатору и свалился в штопор. Обмануть хотел преследователя. Замечаю, из-под своего капота дымок потянул. В горячке и не заметил, как на пулемётную трассу напоролся.
Выхожу над землёй из штопора, присматриваю подходящую площадку для посадки, нашёл и уже пошёл на снижение, когда повернулся влево и обомлел: рядом, крыло в крыло, летит «мессер». Немец весело этак улыбается, из-под шлемофона рыжие патлы торчат, а он пальцы показывает – один, два, три, и смотрит вопросительно. Штучки эти мне ещё по Испании были знакомы. Запрашивал жестами, гад, с какой атаки меня сбить.
Рванулся я на него, погибать, думаю, так с музыкой. Но фашист стреляной птицей оказался. Мгновенно отскочил. И то хорошо.
Сажусь на пшеничное поле за околицей какой-то деревушки и ещё остановиться не успел, как почувствовал резкую боль в ноге. Атаковал, таки, подлец, на посадке.
Машина горит, а я от страшной боли не могу из кабины выбраться. Во рту сухо, как в Сахаре, по вискам бьёт, словно молотом, а фриц опять выполняет манёвр для атаки. Решил до конца добить, сволочь.
Прижался я к бронеспинке, будто врос в неё, и сейчас же позади застучали осколки. И я заплакал в яростном бессилье, никогда не думал, что приму смерть от какого-то рыжего…
Луговой надолго замолчал. Я тоже помалкивал, не смея нарушить его воспоминаний.
– Что случилось дальше, помню смутно. Но узнал, что вытащила меня из горящей машины местная жительница Ганка Бруневич. Вот так вот, дружище, – закончил свой рассказ начштаба, поднимаясь с травы, и снова сунул в рот папиросу.
– Пожалуй, и работать пора, – сказал он, отряхивая травинки с примятых брюк.
Я молча согласился и вслух подумал:
– Об этом непременно должны знать все. Вы никогда не пробовали писать?
– Куда мне, – засмеялся Луговой. – Нет у меня к этому склонностей. Хочешь, попробуй. Я тебе и конец подскажу. Того, рыжего фашиста, я под Берлином, над Зееловыми высотами достал. Навсегда запомнил его рожу. По ночам даже снилась.
Он прислушался к шуму моторов, в глазах промелькнула явная грустинка, и я понял: тоскует начальник штаба по небу, рвётся его большое сердце в воздух.
… Для занятого любимым делом человека время летит незаметно. И оглянуться не успеешь, как очередная неделя канула в вечность. И это хорошо, если ты молод.
В первой декаде августа интенсивность полётов к общей радости заметно возросла. Изначально заложенная программа не выполнялась, и причины здесь были разные. Одну из них начальство отыскало в непродуманном планировании полётов, другую – в нечётком выполнении плановой таблицы. Да и бензин подвозили нерегулярно.
Как бы там ни было, но на старте появился инспектор и постоянно держал под контролем руководство полётами.
Нас поднимали задолго до восхода солнца, а с первыми лучами самолёты уже парили в прохладном воздухе. Лётная программа стремительно близилась к концу.
В тот памятный день я не летал и стоял в оцеплении. Моя задача заключалась в том, чтобы перекрыть доступ посторонних лиц на посадочную полосу. Занятие, скажем прямо, глупое и рассчитанное на дураков. Только дебил не поймёт, что взлётную траекторию во время работы аэродрома пересекать опасно.
Я лениво прохаживался на краю полосы и изредка поправлял ракетницу, небрежно засунутую за пояс комбинезона. С каждым часом становилось всё жарче, над полосой появилось марево, и взлетающие «Яки» казались в нём неправдоподобно размытыми. Меня разморило, и я присел, почти с головой утонув в высокой траве. Сидеть, однако, по инструкции запрещалось, с СКП могли и заметить, и потому, отхлебнув из фляжки пару глотков тёплой воды, я снова возник на горизонте. И сразу же увидел арбу, запряжённую парой быков и приближающуюся к запретной зоне. Прямо за бычьими хвостами сидел возница в ситцевой косынке и миловидным личиком и скорее для порядка, чем по необходимости, подбадривала флегматичную скотину:
– Цоп – цобэ!
Обрадованный спугнутым одиночеством, я заспешил ей навстречу и уже издали стал размахивать руками, требуя остановиться. Увидев меня, девчонка поправила платок и расцвела белозубой улыбкой:
– Ой, курсантик! Привет! Ты чего здесь стоишь, как отшельник? Садись, прокачу.
– Спасибо, мадам, в другой раз. Я, видите ли, выполняю секретную миссию, исключающую возможность оставления объекта. Вот если бы ваше предложение сохранило свою силу до вечера, то я гарантировал бы весёлую прогулку до первых петухов.
– Ишь, какой шустрый, – пропела она с одобрением, останавливая упряжку. – Меня, между прочим, давно Верой зовут.
Я тоже представился.
– А-а-а, – протянула она разочарованно. – Это ты с Катькой Снегирёвой прошлой ночью на сеновале кувыркался? Тоже – нашёл красавицу.
«И откуда они всё знают», – про себя удивился я и зарделся от смущения.
– Ну, так как, курсантик, пропустишь, или в объезд пошлёшь? Меня на ферме с соломой ждут.
– Ладно, уговорила. Вот взлетит самолёт, тогда и проезжай, – согласился я.
– Ах, какие мы строгие, – продолжала кокетничать девчонка. – Но будь по-твоему, повелитель моего сердца.
Нет, она определённо начинала мне нравиться. И ножки у неё в порядке.
Из глубины аэродрома, с каждой секундой увеличиваясь в размерах, разбегалась для взлёта очередная легкокрылая машина. Она уже оторвалась от полосы, когда вдруг мотор как обрезало, и он замолчал. Экипаж попытался посадить машину, но уже пошли неровности, она «скозлила», свалилась на крыло и задела плоскостью за грунт. Метров в ста от нас самолёт сделал пируэт, замер и задымил.
Всё произошло так быстро, что я опешил, но в следующую секунду выхватил из-за пояса ракетницу, выстрелил в воздух и кинулся к потерпевшим аварию.
Из передней кабины выскочил курсант, и пока копался с парашютом, я уже стоял на плоскости и делал попытки открыть фонарь инструктора. Голова его была в крови. Он был без сознания. Едкий дым слепил глаза, но мне удалось сдвинуть плексигласовый колпак и почти наощупь расстегнуть привязные ремни инструктора.
Не знаю, откуда взялись силы, только сумел я выдернуть из кабины его обмякшее тело и оттащить в сторону, прежде чем на место аварии примчались пожарники и санитарка. Инструктора немедленно уложили на носилки и увезли, а мне сунули под нос ватку с нашатырём и протёрли виски. Я протестующе замотал головой.
– Как себя чувствуешь? – спросил командир эскадрильи. – Ходить можешь?
– Без проблем, – заверил я, боясь, что и меня укатают в лазарет, и я опоздаю на свидание.
– Тогда – молодец! – скупо похвалил он и поощрительно похлопал по плечу.
Целую неделю только и разговоров было о происшествии. Расследуя причины аварии, комиссия разговаривала со мной, как непосредственным участником нестандартного события, а с Верой – как со свидетелем. За грамотные действия в экстремальной ситуации мне объявили благодарность.
Вера оказалась щедрее. Когда мы встретились, она, не мудрствуя лукаво, жарко ответила на ласки и до головокружения целовалась, позволяя трогать упругие груди. И ничего более.
– Клятву дала перед Богом. Не гневись, красавчик. Будет и тебе удача.
… В середине октября, нагруженные казённым барахлом и личными вещами, мы возвратились в сибирские пенаты. Было ещё тепло, но по ночам лёгкий морозец уже схватывал тонкой корочкой поверхности луж, а не опавшая промёрзшая листва тонко звенела под дуновением ветра.
После подъёма весь личный состав, независимо от погоды, выгоняли на зарядку, и мы рысцой бежали по установленному маршруту, за пределами гарнизона справляли лёгкую нужду, возвращались на стадион и по команде старшего выполняли несколько комплексов физических упражнений.
С приходом маршала Жукова на пост Министра Обороны время на физзарядку увеличили до часу. Георгия Константиновича мы любили и не верили, что такая глупая идея могла родиться в голове знаменитого полководца. Скорее всего, стараясь выслужиться, её подкинул кто-то из чиновников из окружения. Как бы то ни было, но даже на минуту раньше возвращаться в казарму категорически запрещалось. Мы плевались, но терпели: выше головы не прыгнешь.
Потом приступали к заправке двухъярусных кроватей по установленному образцу. Мне повезло, я спал внизу. Славка Буданцев, единственный женатик из всей нашей братии, поселился надо мной и поначалу испытывал определённые неудобства, но потом привык.
На спинке каждой кровати висела табличка с фамилией владельца и годом поступления в училище. Мой предшественник, какой-то Сомов призыва 1950-го года, на табличке аккуратно написал: «Не кантовать. При пожаре выносить в первую очередь». Сразу видно – с юмором был человек.
Прихватив из прикроватной тумбочки туалетные принадлежности, ребята двигались к общему умывальнику на десять сосков, а потом готовились к утреннему осмотру: чистили сапоги, надраивали асидолом пуговицы, подшивали свежие подворотнички.
Утренний осмотр проводил появлявшийся ниоткуда старшина Кольчугин, шутник и балагур со спортивно скроенной фигурой. Заметив непорядок, давал на устранение пять минут, а то и объявлял наряд вне очереди. Как правило, наряды отбывали за счёт ночного отдыха, ползали под кроватями спящих товарищей и мыли полы. Наутро качество выполненной работы проверял сам капитан Безгодов, служивший когда-то на флоте и перенёсший оттуда привычку оценивать чистоту с помощью накрахмаленного носового платка. Нет, самодуром он не был. При внешней кажущейся строгости офицер слыл добрейшим человеком, хотя и занимал пост заместителя командира эскадрильи по строевой и физической подготовке. Страстный болельщик, он про всё забывал, как только речь заходила о футболе. И мы этим пользовались. Чихвостит, бывало, за какую-то провинность со всей классовой ненавистью, а ты выберешь момент и обронишь, словно невзначай:
– Товарищ капитан, а наши вчера опять выиграли…
Крякнет Безгодов, оборвёт себя на полуслове, тут же забудет о предмете разговора, заулыбается и скажет:
– Слушай, а я знаю. Ну, ладно, иди…
После завтрака курсантский состав, разбитый на классные отделения, направлялся в учебно-лётный отдел, для краткости называемый «УЛО», и занимался теоретическими дисциплинами. По-прежнему изучали теорию полёта, конструкцию самолёта и двигателя, метеорологию и топографию, проходили воздушно-стрелковую подготовку, почти наизусть заучивали инструкцию по эксплуатации «ЯК-11-го» и особые случаи в полёте.
Не реже одного раза в неделю два часа учебного времени отводились политзанятиям и строевой подготовке. На политике случалось и подремать, зато после плаца долго гудели отбитые ноги.
Трудовой день всегда начинался с прослушивания политинформации и заканчивался выпуском «Боевого листка». Не знаю, за какие заслуги, но редактором «Боевого листка» в нашем отделении назначили меня. Сначала я сопротивлялся, однако плетью обуха не перешибёшь: сказал начальник – сурок, значит, сурок. И никаких тебе сусликов!
Кормить нас стали заметно лучше. В рационе появились даже фрукты, что совсем не укладывалось в солдатский паёк. За прошедший год мы привыкли к распорядку, и шестичасовой разрыв между приёмами пищи переносили легко. И хотя чувство голода постепенно забывалось, мы радовались каждой посылке, присланной родными, и честно делились между собой их содержимым.
Почту в казарму приносил свободный дневальный. Как правило, она приходила после обеда. Окружённый со всех сторон курсантами, он выкрикивал фамилии счастливчиков, походя, комментируя обратные адреса. Письма – это было сугубо личное, святое, и с их содержимым делились редко. Особенно, если касалось посланий от любимых. Ребята наскоро пробегали строчки глазами, и уж потом, на самоподготовке, в уединении, смаковали каждое предложение.
Своими письмами Светка меня не баловала. Подозреваю, что если бы не мои настойчивые бомбардировки, она вообще прекратила бы наши отношения. Но и те крохи, которые мне доставались, я воспринимал как Божий подарок. Училась она на третьем курсе и, полагаю, уже соприкоснулась со своей первой любовью. Во всяком случае, мне были известны её страдания по Желтову, высокому красивому баскетболисту из нашей школы, который её в упор не видел. Чтобы как-то бывать у него на виду, она даже в баскетбольную секцию записалась. Но, судя по всему, из этого ничего не вышло: заметным игроком Светка не стала. Да и Желтов куда – то растворился.
О свободной студенческой любви я был наслышан, и дико ревновал девушку к абстрактному возлюбленному, который, может быть, сейчас тискает её груди. В домыслах своих я отводил себе роль запасного и вполне соглашался с поговоркой, что на безрыбье и рак – рыба.
Чтобы как-то скрасить нашу монотонную жизнь, комсомольский вожак Кузнецов Боря организовал смычку с местным населением. Вместе с замполитом он нанёс визит студентам медицинского училища и к нашему восторгу договорился о совместном вечере в ближайшее воскресенье. Являться к девушкам с пустыми руками было как-то несолидно, поэтому на собрании решили подготовить небольшой концерт художественной самодеятельности. Таланты, конечно, нашлись. Хорошо играл на гитаре и пел песни Высоцкого под неё Витёк Малюченко, музицировал на баяне Шурик Соловьёв, лихо отбивал чечётку в солдатских штиблетах Мишка Звягин, трепались, пародируя Тарапуньку и Штепселя, Челядинов и Нестеров. Для смеха репетировали ребята в яловых сапогах «Танец маленьких лебедей» из балета Чайковского «Лебединое озеро». Музыка шла с патефона, пацаны старались, сапоги на сцене громыхали, все хохотали. Морды у «лебедей» были невозмутимыми и подчёркнуто серьёзными. Меня определили в качестве ведущего. Не заикаешься, язык подвешен, за словом в карман не лезешь,– чего ещё? Вылитый конферансье.
Надраенные и начищенные, приглаженные и подстриженные, почти стерильные, мы вломились в гостеприимно распахнутые двери медучилища, жадно высматривая призывный взгляд будущих фельдшериц.
Свою шатеночку я «сфотографировал» со сцены. В скромном коричневом платьице с белым набивным воротничком вокруг высокой шеи она сидела в шестом ряду между подружек и азартно аплодировала самодеятельным артистам. Возможно, у неё и были недостатки, но притушенный свет тем и хорош, что смягчает погрешности природы. Не оттого ли влюблённые парочки предпочитают темноту?
Заворожённый, я начал из кожи лезть, чтобы обратить на себя её внимание
После успешного выступления Гасилова, душевно прочитавшего стихи Есенина про старушку, я громко объявил:
– Популярная песня про Одессу. Исполняет – он же, аккомпанирует – тот же, слушаете вы же, я же ухожу туда же! – и направился за кулисы.
Каламбур явно понравился, и в мой адрес посыпались аплодисменты.
Через двадцать минут начались танцы. Девушка, которую я приметил, стояла в сторонке и о чём-то оживлённо разговаривала с товарками. Как всегда, испытывая некоторую неуверенность при приближении к незнакомке, я робко пригласил её на вальс. Она быстро окинула меня с ног до головы и шагнула навстречу.
–Только учтите, что танцую я не очень,– в смущении проворковала она, положив свои длинные тонкие пальцы на мой погон.
– Неужели, – приподнял я брови в деланном удивлении. – В таком случае открою вам маленькую тайну: в вальсе я чувствую себя, как слон в посудной лавке.
– Вот и славно, – обрадовалась она, – два сапога – пара.
Я осторожно подтянул её податливое тело за талию и почувствовал сладостное прикосновение к животу девушки. До безумия хотелось опустить ладонь на её попку, но инстинкт дремавшего во мне самца предупредил, что делать этого сейчас не нужно, преждевременно и вредно. Однако подавить внезапно вспыхнувшее возбуждение я не сумел и держал партнёршу на расстоянии, пугаясь, что моя оттопыренная ширинка поспешит признаться ей в любви. А то и того больше – семенники не выдержат и взорвутся от перенапряжения, как чёрная дыра в космосе.
– Давно учитесь? – чтобы начать какой – то диалог, задал я банальный вопрос.
– А с сентября, – просто ответила девушка. – В этом году поступила.
– Нравится?
– Как сказать,– склонила она прелестную головку, и её каштановая грива дождём заструилась по покатому плечу, – хотела в медицинский, но конкуренции не выдержала, слишком роскошно для мещанки.
– Не Боги горшки обжигают. Придёт и ваш звёздный час, – пообещал я, чуть-чуть погладив ладонью по тёплой спине.
И она, подстраиваясь к стилю навязанного разговора, мило улыбнулась:
– Вашими – то устами, да мёд пить.
Музыка оборвалась, и я повёл девушку на место.
– Кстати, не пора ли нам познакомиться?– и тут же назвался.
– А меня зовут Светлана, – представилась она, услышав моё имя.
Я чуть не сел от неожиданности. Надо же – Светкино имя носит.
Не помню, о чём мы говорили потом, но твёрдо убеждён, что наши прикосновения друг к другу были значительней, чем любые сказанные слова. Неужели кожа способна передавать настрой твоей души?
Обнимая девушку за талию, я на грани фола перебирал пальцами по её позвоночнику, давая понять, что для меня это не просто танец, и в ответ чувствовал робкое, будто случайное поглаживание моего плеча.
Весь вечер я не отходил от моей юной подружки, развлекая её приличными анекдотами и сдержанными рассказами об авиации. Прощаясь, мы условились о встрече в ближайшее время, как только позволят обстоятельства.
Дня три по казарме только и разговоров было, что о фарте, выпавшем на нашу долю. Что ни говори, а головы у комсомольских вожаков светлые.
В предвкушении будущего свидания я мысленно рисовал одну картину волшебнее другой. Мои фантазии дошли до того, что я уже кувыркался в постели Светланы и одаривал её необыкновенной нежностью и интимными ласками. Точёное лицо с большущими карими глазами и тёмными соболиными бровями постоянно стояло передо мной и мешало сосредоточиться на повседневных делах. Она словно сошла со знаменитого полотна Кипренского «Портрет незнакомки». Разве что ротик великоват, зато волосы волнистые и на плечи ниспадают тёмно-каштановыми струями.
Снимала моя Светлана (вот видите, уже «моя») небольшую комнатёнку в частном доме на пару с подругой. От учёбы недалеко, и плата за жильё сносная. Хозяйка по описанию добрая, но как она отреагирует на моё появление, сказать трудно. Ну, как говорится, Бог не выдаст – свинья не съест. Будем надеяться на лучшее. А пока задача заключалась в том, чтобы не попасть в опалу у капитана Безгодова. Мужик-то он в общем неплохой, но с капризами. Уставной буквоед, офицер болезненно воспринимал всякое отклонение от норм курсантского поведения и с брезгливостью относился к «троечникам». Об этом все знали, и чтобы не попасть «на карандаш», вели себя соответственно. Не всем это нравилось, но выбирать не приходилось.
Всю неделю я добросовестно зубрил на самоподготовке заданный материал, трижды докладывал преподавателям о своих знаниях и недоразумений между нами не произошло, а Безгодов даже похвалил как-то за безукоризненно заправленную кровать. «Ну, – думаю, – увольнительная в кармане». Но в пятницу объявили, что на завтра предстоит парково-хозяйственный день и что увольнения переносятся на воскресенье. Новосибирские ребята, конечно, приуныли: обычно им разрешалось выезжать к родственникам с ночёвкой. От Бердска до Новосибирска – рукой подать. Да и мне пришлось поволноваться, потому, как практика показала, что нередко субботник плавно переходил в воскресник.
Однако всё сложилось, как нельзя лучше. Ровно в 10.30 я бодро вышел через проходную военного городка и с достоинством двинулся на свидание, мурлыкая про себя песню « Где эта улица, где этот дом, где эта барышня, что я влюблён?».
Ярко, согласно увольнительной, светило солнышко, блестели латунью пуговицы, кокарда и бляха на поясном ремне, приятно радовал слух, похрустывающий под сапогами свежевыпавший снежок. Пела душа на свободе, и хотелось жить. Я казался себе большим и значительным, но редкие прохожие совершенно не обращали на меня внимания: люди в военном здесь давно уже примелькались и не вызывали любопытства.
Уточняя свой маршрут, я переговорил с тощей, одетой во всё серое тёткой, и она словоохотливо растолковала мне, как достичь желаемой цели.
Не прошло и четверти часа, а я уже стоял перед типичным домиком с постройками на заднем дворе и традиционной собачьей будкой на переднем плане. На моё счастье хозяйка конуры отсутствовала, и я смело толкнул калитку, вторгаясь на чужую территорию. Меня, безусловно, ждали, потому что на робкий стук о косяк двери тотчас загремела щеколда, и в проёме появилась она.
– Привет, – широко улыбнулась Света, и её карие глаза засветились радостью. – А я уж подумала, что не придёшь. От вас, военных, всего ожидать можно: люди вы подневольные. Проходи, – пригласила она, отодвигаясь в сторону.
Я робко перешагнул через порог и оказался в прихожей, судя по всему, одновременно служившей и кухней. Слева возвышалась огромная русская печь, за ней – стол, заставленный посудой, на стенах – две деревянные полки с занавесочками. Прямо в красном углу под лампадой и в рушниках висела икона Божьей Матери в простеньком окладе, почерневшем от времени. Справа вырисовывались две двери, ведущие в комнаты. У порога находилась вешалка.
– Раздевайся, – просто сказала Света. – И сапоги снимай.
Я сбросил с плеч шинель, по привычке сунул шапку в рукав, снял сапоги и только сейчас понял, что допустил оплошность: надо было под портянки носки пододеть, дубина стоеросовая, босиком перед девушкой я чувствовал себя, словно голый в предбаннике. С другой стороны, никак не предполагал, что на свидании мне предстоит сбрасывать обувь. Хорошо ещё, что вчера был банный день, ноги и портянки чистые.
Однако хозяйка быстро нашлась и подала деревенские шлёпанцы. Несмотря на кажущуюся простоту, в поведении Светы чувствовалась явная неуверенность. Обо мне можно было сказать то же самое. Преодолевая смущение перед хозяйским гостеприимством, я робко переступил порог девичьей комнаты и осмотрелся.
Прямо у окна стоял небольшой, аккуратный столик, покрытый голубенькой скатертью, со стопкой книг на краю, чернильницей и раскрытой тетрадью.
Справа и слева от него расположились кровати с кисейными накидками на подушках, а стены украшали самодельные, с аляповатой росписью коврики, на которых чинно плыли по лиловому озеру белые лебеди с неестественно длинными шеями. Пол, как и в прихожей, устилали домотканные дорожки. Сбоку, будто привалившись к стене, стояла лёгкая бамбуковая этажерка, нагруженная литературой.
– А у вас здесь мило, – одобрительно улыбнулся я. – Почти как у нас дома.
Девушка зарделась от удовольствия:
– Да это всё Катя, – словно оправдываясь, проговорила она, опуская головку. – Такая чистюля.
Со двора донёсся шум, дверь распахнулась и в комнату вошла грудастая рыжая девушка.
– Ба, да у нас гости, – обрадовалась она, согревая руки дыханием. – Тот самый? – не стесняясь, спросила она у подруги, и я понял, что обо мне уже шёл приватный разговор в женском монастыре.
Светлана покраснела, как будто её уличили в чём-то неприличном, и кивнула в ответ. Катя с любопытством оглядела меня с ног до головы и одобрительно хмыкнула. Она скупо раздвинула в улыбке губы, как это делают люди с зубными дефектами, и предложила:
– А давайте – ка чайку попьём. Я свежей заварочки принесла. Как вы, не против?
Она проворно поставила чашки на стол, выставила печенье в вазочке, принесла из кухни чайник и разлила кипяток. Всё у неё получалось ловко и непринуждённо. Со спины девушка смотрелась прекрасно, но вот лицо, вытянутое книзу, и верхняя пухлая губа делали его похожим на лошадиную морду. Она явно проигрывала по красоте Светлане и, полагаю, понимала это. Впрочем, я давно заметил, что две симпатичные девушки не уживаются друг с другом. Одна из них обязательно должна быть дурнушкой. Если не так, то между ними возникает соперничество. Но винить их в этом нельзя. Так распорядилась природа.
За чаем девушки с любопытством выслушивали мои ответы о том, как там, в воздухе. Я вдохновенно врал, приукрашивая очевидные истины о перегрузках, штопоре, «мёртвой» петле и «бочках». Они смотрели на меня с завистью, замешанной на страхе, а глаза выражали явное уважение.
Потом мы гуляли по пустынным улицам Бердска, и Света неторопливо рассказывала мне о своей достуденческой жизни. Родилась в деревне, в большой крестьянской семье, и теперь на помощь со стороны родителей рассчитывать не приходится. В доме осталось ещё четыре рта, которых надо кормить – одевать, а в колхозе какие заработки, смех один. Только огородом и живут…
Её тихий и доверительный голос, неспешные движения и неуверенность в ответах как-то располагали к себе, и мне всё более казалось, что она скорее подходит на роль младшей сестрёнки, чем на предмет моего вожделения. Да и внешностью мы были поразительно схожи. Даже волосы у обоих были курчавыми, правда, цветом не совпадали: у меня русые, а она шатенка.
Мне говорили, что смуглянки – страстные натуры. Может быть. Только я думаю, что страсть – прерогатива молодости, и неважно, в какой цвет ты окрашен, если тебе семнадцать.
Мы порядком продрогли, прежде чем поняли, что пришла пора расставаться. Договариваясь о встречах на будущее, я взял её озябшие руки, поднёс ко рту и задышал, чтобы как-то согреть. Хотел было обнять, но потом подумал, что для этого ещё не пришло время.
Прежде чем свернуть в проулок, я не вытерпел и оглянулся. Света стояла у калитки и провожала меня взглядом.
…Близился к концу первый год моего становления в авиации. Мне стукнуло уже двадцать лет, я окреп телом и духом и стал более серьёзным. И понимал, что с юностью покончено навсегда и что я вступил в полосу осознанного восприятия действительности.
Со своей первой любовью я поддерживал переписку, втайне надеясь, что грядёт ветер перемен и между нами завяжутся более доверительные отношения. В ответах на её редкие письма я стал сдержаннее, скупее в излиянии своих чувств. «Чем меньше женщину мы любим, тем чаще нравимся мы ей», – напоминал я себе известные слова поэта, садясь за ответ. В конце концов, даже самому терпеливому надоедает играть в одни ворота, и моя надежда на счастливый финал стала уступать место разочарованию.
Весь апрель ушёл на подготовку и сдачу экзаменов по теории и практике на самолётах ЯК– 11. С утра до позднего вечера мы пропадали в приземистом здании учебно-лётного отдела, штудируя многочисленные науки, без знания которых путь в небо был закрыт. Изредка во время самоподготовки к нам приходили преподаватели, консультируя по отдельным, наиболее трудным, темам. Оценка менее четырёх баллов считалась неудовлетворительной, и мы из кожи лезли, чтобы не попасть в разряд троечников.
– Тройка на земле – это двойка в воздухе, – напоминали наставники. – Надо учитывать человеческий фактор.
Наконец, теория осталась позади, и мы с удовольствием отдались процессу загрузки в грузовики необходимых для лагерной жизни вещей.
В майские праздники я вновь увиделся со Светой, рассказал, что выезжаю на запасной аэродром Калманку, что по возможности буду её навещать и чтобы не влюблялась в период разлуки. К этому времени отношения наши окрепли, но я по-прежнему относился к ней по-братски.
Летний аэродром находился километрах в сорока от основной базы. К нашему приезду городок усилиями солдат срочной службы был уже разбит и облагорожен, и нам оставалось только навести лоск на территории, почистить дорожки, соорудить клумбы и посадить цветы.
За палатками, где предстояло жить, раскинулся методический городок, а дальше – широкое раздолье взлётно-посадочной полосы… Вытянутое с востока на запад на добрых полтора километра, оно было плотно окаймлено вековыми соснами и тёмно-зелёными елями, и только кое-где кудрявились свежей глянцевой листвой стайки берёзок. На краю аэродрома, огороженный колючей проволокой, разместился склад ГСМ со множеством больших и малых емкостей и огромной железнодорожной цистерной в центре. А поблизости от городка в одну шеренгу стояли тупоносые Яки, заботливо зачехлённые брезентом от непогоды.
Весь курсантский поток, как и в Аткарске, разбили на экипажи и назначили инструкторов. В нашей лётной группе изменений не произошло, если не считать, что вместо Володьки Забегаева старшиной назначили меня. Доверие, конечно, льстило моему самолюбию, однако должность не радовала. Кому нужны лишние хлопоты?
С инструктором Широбоковым мы впервые встретились на территории УЛО. Лейтенант в прошлом году закончил наше же училище и в новенькой, хрустящей форме, словно только что отпечатанная купюра, выглядел как образец для подражания. Высокий, стройный, с обаятельной улыбкой парень был чуть – чуть старше нас, и разговор вёл на вполне понятном курсантском лексиконе.
После короткого знакомства лейтенант ушёл, пообещав с каждым поглубже поговорить в воздухе.
В лагере он появился на третий или четвёртый день после нашего перебазирования. По-хозяйски откинув полог палатки, он вошёл внутрь, и я на правах старшего дал команду «Встать! Смирно!» и доложил, что происшествий в экипаже не случилось, и что люди занимаются по распорядку дня.
– Вижу, – сказал Широбоков, окидывая взглядом наше немудрёное жильё и усаживаясь около буржуйки.
– Как настроение, по полётам не скучаете?
– Ожиданием и живы, – отозвался из своего угла Женя Девин – мой самый первый друг и товарищ по аэроклубу.
– Это хорошо, – с удовлетворением похвалил инструктор. – Ну, что ж, через недельку, пожалуй, и начнём. Самолёт интересный, норовистый, на взлёте и посадке капризный, зато в воздухе послушен, силён и безотказен, и выполняет все фигуры высшего пилотажа. Если, конечно, чувствует в кабине лётчика, – добавил он.
– А теперь главная ваша задача – не болеть, дисциплину не нарушать, в самоволки не ходить. Надеюсь, всем понятно?
– Чего уж проще, – вставил слово и Вовка Забегаев, а Гена Чирков закивал головой и смущённо заулыбался.
– Если вопросов нет, то до завтра, – повернулся лейтенант к выходу. – Отныне мы будем встречаться каждый день.
– Встать! Смирно! – скомандовал я, провожая инструктора.
– Вольно, – произнёс он через плечо и вышел.
Хотя по ночам в палатке было не жарко, зато уже с утра чувствовалось окончание весны и наступление лета, и мы целыми днями проводили на воздухе.
Под руководством нашего наставника мы чуть ли не наизусть изучали «Инструкцию по эксплуатации самолёта Як – 11», « Курс учебно-лётной подготовки» (сокращённо – КУЛП). Знания, почерпнутые из них, составляли основу безопасности полётов, а пунктуальное выполнение рекомендаций – гарантию быстрого и уверенного овладения техникой пилотирования.
Дважды в неделю работали на матчасти, устраняя зазоры между ветошью и поверхностью самолётов. Но это так, между прочим, а главным оставалась подготовка к предстоящей вывозной программе.
– На первых порах буду вам помогать, – обещал инструктор, – но не надейтесь, что это затянется надолго. У каждого из вас хороший самостоятельный налёт на Як-18-х, вы уже прочувствовали красоту свободного полёта, и лишать ее в вывозных и контрольных не входит в мои планы.
Машина действительно оказалась более чем серьёзной. На взлёте из–за мощного гироскопического момента винта она активно разворачивалась в сторону от курса, и были случаи, когда некоторые курсанты отрывались от земли чуть ли не поперёк старта. Широбоков научил нас парировать тенденцию машины к развороту ножной педалью, и с нами подобных казусов не происходило. А на посадке самолёт не терпел высокого выравнивания и выдерживания и охотно сваливался на крыло. Вот где мне пригодилось умение видеть землю до миллиметра.
Глава четвертая
Если вы от кого-то услышите, что проблема секса в армии решена, примите это известие с определённой долей юмора. Армия – это наглухо закрытый мужской монастырь с обетом строгого воздержания. До тех пор, пока существует принудительный призыв в ряды Вооружённых Сил, тема будет всегда муссироваться от самых высших чинов до рядового солдата. Именно последнему, затюканному и забитому, приходится испытывать морально-психологические неудобства в общении с противоположным полом. Казалось бы, в таких условиях самое время расцвести гомосексуализму, но «голубых» в конце шестидесятых не было. В русском языке и слова – то такого не существовало.
Большие начальники, подписывая соответствующие уставы, предусмотрительно ввели в текст воинских трактатов ёмкую фразу о том, что каждый защитник нашего славного Отечества обязан стойко переносить тяготы и лишения воинской службы. Проще говоря, если природа настоятельно требует интимных отношений с женщиной, а её нет – крепко завязывай свой непослушный стручок на двойной узел. Кстати, самовольные отлучки, с которыми так рьяно борются начальники всех рангов, происходят именно на этой основе.
Одним из способов удовлетворения плотской похоти в армии – широко распространённое среди молодёжи рукоблудие. И просто, и доступно и голова не болит. Однако и оно имеет определённые минусы. Во-первых, требует тщательной конспирации, чего не так-то просто добиться, постоянно находясь на виду среди сослуживцев. Во-вторых, от механической дрочки и без определённых фантазий истинного оргазма не получаешь. И, в-третьих, если не менять руку, пенис искривляется и портит внешний вид голого служивого. Ко всему прочему говорят, что от онанизма на ладонях вырастают волосы. Проверьте, они у вас есть? Нет? Значит, врут люди.
Полагаю, излишне напоминать, что курсанты – те же солдаты, и испытывали чувство сексуального голода ничуть не меньше, даже наоборот, поскольку солдатская пайка была заметно беднее лётной. А у полуголодного мысли, как известно, работают в другом направлении.
Частенько во сне меня навещали старые подружки Любка и Вера. Как правило, вели они себя вызывающе, а Любка, стерва, по привычке обшаривала мои карманы, пока я над ней трудился. После таких встреч я просыпался и с отвращением обнаруживал скользкую, как сопли, мокреть на кальсонах. Когда это произошло впервые, я растерялся, подумал, что заболел, но со временем стал воспринимать поллюции как должное. Оказалось, что этот «грех» испытываю не только я.
Был июнь месяц, первый месяц лета. Я уже летал самостоятельно, когда однажды весь наш экипаж назначили в наряд на кухню. Нам это нравилось, потому что поварами работали несколько женщин из Калманки. Не скажу, чтобы они были нашими ровесницами, постарше, конечно. Но ничего, миловидные, в меру весёлые и слегка задиристые. С одной из них, Наденькой, мы иногда перестреливались взглядами и беспричинно улыбались. Иногда, походя, обменивались парой ничего не значащих фраз и расходились в разные стороны. С тонкой талией и рельефно выделяющимся из– под ситцевого платьица бюстом в моих изголодавшихся глазах она выглядела совершенной конфеткой. И это чудо природы носили по земле стройные точёные ножки.
Мы сидели в кружок, чистили картофель и травили анекдоты, когда шеф-повар, колдуя над кастрюлями, произнесла от печки:
– Надюша, сходи – ка в погреб, принеси кислой капустки, на бигус не хватает.
– Иду, Ольга Сергевна, – кротко сказала девушка, вытирая руки полотенцем.
– Курсантик, за мной, – позвала она меня, и я, подхватив на ходу кастрюльку, пристроился ей в хвост.
До погребка рукой подать, метров в сорок от кухни. Обогнав Надежду на последних метрах, я откинул крышку погреба и по приставной лестнице спустился вниз. Внутри стоял полумрак, вдоль стен стояло несколько бочек с солениями, слева пристроились ящики с овощами.
– Знаешь, откуда брать? – спросила сверху Надежда.
Я поднял голову и чуть язык не проглотил. Её длинные, как кипарисы, ноги росли, казалось из самой талии, а чётко обозначенный выпуклый треугольник едва прикрывался голубыми трусиками.
– Не-а, – проглотив слюну, прошептал я.
– Вот слепой, – засмеялась Надя. – Держи лестницу, сейчас покажу, – и стала осторожно спускаться вниз.
Первым на её действия прореагировал мой стручок. Он бесстыдно восстал над яичками и упёрся чуть ли не в подбородок. Девушка успела опуститься ещё на три ступеньки, прежде чем мои руки непроизвольно скользнули по её гладким и прохладным, как мрамор, ногам и добрались до бёдер.
– Ах, что ты делаешь, – повернулась она лицом ко мне, и я мгновенно впился в её сладкие, мягкие губы, закрывая рот от неуместных возражений, и лихорадочно освобождал из плена застоявшийся, словно конь в стойле, пенис.
Я не стал, торопясь, снимать с неё трусы, просто отодвинул краешек в сторону и мелко задрожал, когда почувствовал, как мой фаллос мощно вошёл в вожделенную плоть по самую рукоятку.
– Господи, – прошептала девушка, моментально прилипнув ко мне всем телом, – да ведь увидеть могут, – развернулась она передом.
«А чёрт с ними!», – пронеслась метеором и растворилась в блаженстве шальная мысль, и я участил амплитуду качения.
Крепко впившись руками в мои ягодицы, Надя передком настойчиво пыталась оттолкнуть мужское достоинство и тихонько постанывала. Через пару минут интенсивного общения (ну почему так быстро!) мы блаженно дуэтом проурчали и вместе кончили. В припадке благодарности я отвесил ей долгий, взасос, горячий поцелуй.
Спешно приведя себя в порядок и избегая взглядов, мы благополучно выбрались из погреба и двинулись на кухню, а кастрюля, прихваченная с двух сторон, мирно покачивалась между нами.
– Если ты не против, – вполголоса предложил я, – мы могли бы встретиться ещё разочек, и не обязательно в погребе.
Она согласно кивнула и с улыбкой произнесла:
– Я скажу, когда…
С лейтенантом Широбоковым у нас всё ладилось. В меру требовательный и вполне демократичный, он к тому же знал своё дело и уверенно передавал его экипажу. В полётах вёл себя спокойно, не раздражался по пустякам и в отличие от моих прежних инструкторов не применял в качестве аргументов матерных слов. На разборе полётов он, прежде всего, старался понять, уразумели ли мы причины допущенных ошибок. Иногда соглашался с нашими объяснениями и удовлетворённо кивал головой, но чаще вставлял своё видение на выполнение отдельных элементов, вскрывая самую суть допущенного промаха.
Как-то во время контрольного полёта в зону после отработки боевых разворотов и поворотов на горке я попросил Широбокова показать, как на практике выглядит превышение:
– Третий год слушаю, а не сталкивался.
– Понятно, – отозвался он с задней кабины, – сейчас увидишь.
Самолёт свалился на крыло и понёсся к земле в глубоком пикировании. Над лесом он вышел в горизонтальный полёт и юркнул в глубокий узкий овраг, похожий на ущелье. Края оврага остались над головой, внизу змеилась безымянная речушка и только впереди виднелся краешек голубого неба.
– Посмотри на высотомер, – раздался в наушниках голос инструктора, – какая высота?
– 150 метров.
– А мы практически под землёй. Вот тебе и превышение.
Самолёт свечой взмыл в зенит, набрал требуемую высоту, и мы направились в сторону аэродрома.
– Надеюсь, тебе понятно, что самому выполнять такие трюки непозволительно, – строго сказал инструктор. – Иначе мы крепко поссоримся.
В парковые дни весь экипаж поступал в распоряжение механика Пал Палыча Гаврюшина. Человека по нашим меркам пожилого, степенного и обстоятельного. Приняв от меня доклад о прибытии, он неспешно вытирал ветошью руки, обходил строй и ставил задачу:
– Вот что, босота ясноглазая. Сегодня будем устранять зазоры между тряпкой и фюзеляжем. Но сначала отдраим движок и почистим кабины. Я правильно выражаю свои мысли?
Соглашаясь, мы хором кивали головами, поскольку другой альтернативы не было.
Пал Палыч распределял команду по объектам, вручал шанцевый инструмент в виде шприцов, вёдер с керосином и ветоши, и мы приступали к работе. Относился он к нам с уважением.
А началось всё с первой встречи.
Нужно сказать, что в авиации, как нигде, очень популярны розыгрыши. Они, как хороший анекдот, поднимают настроение и способствуют снятию стрессов.
Вот и Пал Палыч решил как – то подшутить. Копался, копался в двигателе, потом, этак натурально, сплюнул в сердцах, швырнул гаечный ключ на землю:
– Чёрт побери, – говорит, – так и знал, мать твою перемать! Девин, – кричит, – ко мне!
Женька Девин выскочил из-под фюзеляжа, вытянулся перед Гаврюшиным. Что это, думает, механик взбеленился.
– Возьми – ка, дружок, ведро, да сгоняй на ГСМ. Пусть тебе ихние специалисты плеснут литров пять жидкой компрессии. Одна нога – здесь, другая – там.
На чём хотел купить! Да мы про эту подначку ещё в аэроклубе слыхали. Но вида Женька не подаёт и на полном серьёзе отвечает:
– Не могу, товарищ старшина. Тара не та. По инструкции компрессию в баллонах хранят.
– Молоток, шкет, – заулыбался Пал Палыч. – Соображаешь, значит, в технике. Иди, занимайся своим делом.
В выходные и праздничные дни в увольнение из лагеря не отпускали, за редким исключением тех, у кого родители проживали где – то рядом. Остальные, если не предвиделась авральная работа, проводили свободное время на стадионе. Болтались на кольцах, качались на брусьях, осёдлывали коня, играли в футбол, волейбол и, конечно, в баскетбол.
Ростом я выше среднего, и потому с лёгкой руки Володьки Дружкова приобщился к баскетболу. Кроме того, я помнил, что моя первая любовь очень им увлекалась, и я считал своим долгом при случае показать ей своё мастерство.
Высокий, поджарый Вовка, вылепленный из мускулов парень, легко передвигался по площадке, прекрасно владел обводкой, стремительно отрывался от защитников и мягко, пантерой взлетал у щита, точно посылая упругий мяч в корзину.
Я играл на редкость плохо, и Дружков в пылу схватки называл меня тюфяком, мешком и матрацем с подушкой. Волейбол был предпочтительней, но и там я выступал в роли любителя, предпочитая батут и лопинг. Впоследствии я стал призёром училища в соревнованиях на этих снарядах…
Третья июльская суббота подарила мне неожиданный приятный сюрприз. Мы занимались уборкой территории, когда громкий голос дежурного по лагерю выкрикнул мою фамилию.
– К тебе какая-то девушка приехала, говорит, что сестра. Ты никогда не говорил, что у тебя есть сестра. Да вон она, с капитаном разговаривает. Иди, встречай…
Взглянув в указанном направлении, я увидел около штаба Светку Веснину собственной персоной. Ай, да Светка! Вот уж действительно сюрприз!
В нарядном летнем платье в горошек, с цветастой косынкой на шее и в лёгких спортивных тапочках на босу ногу, она нетерпеливо помахивала платком, во весь рот улыбалась и пожирала меня глазами.
– Здравствуй, сестричка! – подыграл я ей. – Глазам своим не верю. Какими судьбами?
– Да вот, выдался свободный денёк, решила навестить своего братца, – очень натурально врала она, прикасаясь щеками к моему раскрасневшемуся лицу. – Если товарищ капитан позволит, то и переночую у вас.
– О чём разговор, – расцвёл капитан в улыбке. – Гостевой домик в вашем распоряжении.
«Вот это да! – восхитился я про себя. – Ну, Светлана, ты и даёшь!».
– Спасибо, офицер, вы настоящий мужчина, – польстила ему Светка, подцепила меня под руку и сказала:
– Ну, пошли. Мне столько рассказать не терпится.
Не торопясь, мы двинулись в сторону полевой гостиницы – домику, стоящем на отшибе, а дежурный с завистью провожал стройную девичью фигуру.
– Ты и представить себе не можешь, как я рад твоему приезду, – с восхищением посмотрел я на девушку. – Ну, рассказывай, как у тебя дела.
Света уселась на врытую в землю скамеечку, я опустился рядом. Будто демонстрируя свои безупречно ровные, жемчужные зубы, она сообщила об успешном окончании первого курса, о предстоящей поездке к родным, поделилась планами на будущее.
– Закончу училище – обязательно поступлю в медицинский, – мечтала она вслух. – Говорят, что медики пользуются льготами.
– Хорошая идея, – поддержал я её. – Мне тоже хочется в военную академию. Но только когда это будет.
– А ты знаешь, я почему – то уверена, что у тебя всё получится. Ты такой большой и сильный, – накрыла она ладонью мою руку. – Вот увидишь. Пойдем, погуляем?
Мы неторопливо удалялись от лагеря вглубь смешанного леса, и воздух, густо замешанный на запахах хвои и разнотравья, будоражил мысли и порождал дерзкие, рискованные идеи.
Меня мощно, словно магнитом, притягивала к себе эта необыкновенная девушка. Так и подмывало подойти, обнять её сзади, прижать к горячему, кричащему от страсти телу, уронить в высокую траву и целовать до одурения.
Пластичные, соблазнительные движения её рук, срывающих цветы, неосторожно приподнятое платье при наклонах, оголяющее стройные лодыжки, длинная коса, свисающая через плечо, возбуждали до крайности. Но внутренний голос подсказывал, что этого делать нельзя, иначе волшебная идиллия наших чистых взаимоотношений может мгновенно рухнуть.
– Посмотри, какая прелесть! – нарушила Света затянувшееся молчание, указывая под молодую берёзку.
У корневища, выстроившись, как на параде, стояли три боровичка в тёмно-коричневых шлемах и белых костюмах.
– Я, пожалуй, их с собой заберу, славный супчик получится. А вот и ещё. Вот глупая, не догадалась корзинку с собой прихватить, – с огорчением поругала она себя. – Ведь знала, что грибной сезон в разгаре.
Светкина добыча уместилась в моей фуражке, и пока мы возились с грибами, напряжение спало и пульс стабилизировался. Да и руки были заняты. Обнимать девушку было не чем.
– На ужин не опоздай, – напомнила она о времени.
– А и верно, – посмотрел я на часы, – пора выдвигаться на передовые позиции.
Мы благополучно доставили грибную удачу, Светка осталась в гостинице, а я поспешил в столовую.
– Как там, на гражданке, что рассказывает твоя подружка, – встретили меня ребята. Их – то не проведёшь, сразу раскусили, что никакая она мне не сестра.
– На западном фронте без перемен, – односложно ответил я, – Светку бы только покормить, с утра ничего не ела.
– Какие проблемы, старик, сейчас уладим. Герка! – обернулся Дружков к соседу. – Слетай в хлеборезку, объясни ситуацию.
Через четверть часа я уже расставлял перед моей гостьей тарелки: макароны по – флотски, хлеб, масло, сыр и чай в эмалированной кружке:
– Подкрепись курсантским пайком.
Светлана застеснялась, но после недолгих уговоров быстро справилась с едой и с благодарностью отставила посуду в сторону.
Вечером на открытой площадке, приспособленной под летний клуб, демонстрировали какой-то фильм. Чтобы не смущать девушку и избежать к себе повышенного внимания со стороны курсантской братвы, мы пришли после киножурнала и уселись на последней скамейке, как это обычно делают влюблённые парочки.
Содержание картины совершенно не помню. Наверное, потому, что голова была забита решением вопроса, как поступить дальше. Оставить девушку в гостинице одну казалось неприличным, а ночевать рядом с таким лакомым кусочком – опасным.
Словно уловив мои тайные мысли, Света спросила у входа в дом:
– Ночевать здесь будешь или в казарму пойдёшь?
– Разрешили здесь. Кто-то ведь должен охранять мою сестрёнку, – смутился я и, наверное, покраснел.
– Тогда пойдём.
Мы вошли в комнатку, и Светлана распорядилась:
– Я лягу вот здесь, – указала она на узкую солдатскую кровать между окном и дверью. – Не возражаешь?
Приказав мне отвернуться, она быстро разделась в темноте и юркнула под байковое одеяло. Я последовал её примеру, улёгся на диван и затаился у противоположной стены. Густая бархатная ночь нас разлучила, и только полнолицая луна с любопытством заглядывала в окно, пытаясь рассмотреть, чем занимается уединённая парочка.
Вслушивался в темноту и по поверхностному дыханию девушки понял, что она не спит. Может быть ждёт от меня каких-то действий? Ведь ночь – надёжный союзник любви. Что, если встать, подойти к ней, присесть на краешек кровати, погладить шелковистые волосы, наклониться, найти желанные губы и раствориться в море наслаждений. А вдруг она скажет: «Но, но, дорогой мой дружок, ты слишком размечтался!». И тогда произойдёт землетрясение, и рухнет скрупулёзно возводимая мной башня сладких грёз, и я превращусь в жалкого, униженного оскорблённого.
– Тебе не холодно? – забросил я в темноту пробный камешек и замер в ожидании.
– Всё отлично, спасибо курсантик. Спокойной ночи.
– Приятных снов, – ответил я в темноту и усмехнулся: какое, к дьяволу, спокойствие, если в двух шагах от тебя лежит распластанное, мёдом пахнущее тело феи. Фал мой в трусах озабоченно заворочался и потянулся к Светкиному ложу.
«Не дури, – мысленно сказал я ему, – это не такая девушка. Если ты посмеешь её тронуть сегодня, я тебе последние уши оторву!».
«Ух, какой грозный, – недовольно проворчал он. – Ты совсем забыл, что куй железный, пока горячий».
«Не занимайся словоблудием, тебе это не к лицу. Ты у меня всегда горячий, а пока поостынь. Сегодня не твоё время».
«Ну, если ты так решил, – разочарованно произнёс он, – тогда конечно». И нехотя свалился набок.
Шальные мысли и не потерявший надежду на наслаждение фаллос не давали уснуть до рассвета. Я вслушивался в мирное дыхание Светланы и только волевым усилием заставлял сдерживать желание. И даже провалившись в пустоту, взбудораженный мозг рисовал одну картину фантастичнее другой…
– Курсантик, – разбудил меня сладкий голосок девушки, – пора вставать. Царствие небесное проспишь.
Ей почему – то нравилось называть меня «курсантиком». Я этому не противился. Было в нём что-то уменьшительно-ласкательное, нежное.
Она стояла уже одетой у распахнутого окна, расчёсывала пряди шелковистых волос, и лучи утреннего солнца пронизывали её тоненькое ситцевое платьице, высвечивая, как рентгеном, стройную изящную фигуру.
Наскоро одевшись, я выглянул в окно. В лагере уже вовсю бушевала жизнь. Со стороны кухни тянуло сизым дымком и готовой едой. Я почувствовал зверский голод, будто ночь провёл на разгрузочных работах.
Сполоснув лицо и прихватив вымытую посуду, я направился в сторону столовой, наказав девушке никуда не отлучаться.
– Я мигом, – сказал я, закрывая за собой дверь.
Жареная картошка с отбивной Светлане понравились.
– А у вас ничего, жить можно, – сказала она, откладывая вилку в сторону и принимаясь за какао. – Так хорошо спалось на свежем воздухе.
«А ведь ты блефуешь, – подумал я, соглашаясь. – Не поверю, что рядом со здоровым, сильным самцом можно преспокойно уснуть. Тоже, небось, маялась полночи. «Она и приезжала именно за ЭТИМ», – только сейчас догадался я. Вот уж поистине правда: если тебя ночью ни разу не обозвали нахалом, то утром непременно окрестят ослом.
С разрешения дежурного по лагерю я проводил Свету до нашего малюсенького вокзальчика.
– Пиши, – попросила она, высунувшись из окна. – Я буду очень ждать.
– Обязательно, – заверил я, с грустью вспоминая бездарно проведённую ночь.
Паровоз истошно свистнул, выпустил облако пара, звонко лязгнули буфера, и подруга моя уехала.
… «Як-11» – скоростная машина. Строгая и, простите за гиперболу, умная. Если почувствует слабину со стороны хозяина, непременно подставит и, как норовистая лошадь, сбросит седока на землю.
Как – то нежарким августовским утром я находился в квадрате, сидел на скамейке и наблюдал за зоной, где пилотировал Женя Девин. Самолёт был на приличном расстоянии и невооружённым глазом просматривался с трудом. Для этого на моей груди висел восьмикратный бинокль, но следить с его помощью за целью одно мучение.
Летал Жека аккуратно и грамотно и не раз отмечался Широбоковым за чистоту в технике пилотирования. Вот и в это утро у него всё получалось тип – топ. Между фигурами практически не было разрывов, и пилотаж выглядел, как законченное произведение.
Девин выполнил петлю и пошёл на боевой разворот. Наверное, он потерял скорость на выводе, потому что самолёт вдруг завис на несколько мгновений и свалился в штопор. Как правило, эту фигуру мы выполняли в контрольных полётах, и в задании Жеки она не значилась. Значит, свалился он не по своему желанию. Однако такого штопора я ещё не видел. «Як», словно юла, быстро вращался вокруг вертикальной оси и неохотно, словно кленовое семечко, терял высоту. Не отрывая от него глаз, я крикнул руководителю полётов:
– Товарищ майор, в третьей зоне самолёт в штопоре!
Офицер резко развернулся в указанном направлении и немедленно запросил:
– 317-й! 317-й! На связь!
Ответа не последовало, эфир молчал. Я неотрывно наблюдал за самолётом до тех пор, пока он не скрылся за верхушками сосен.
Майор выскочил наружу, прыгнул в УАЗик, коротко приказал:
– Наблюдающий, за мной!
И мы рванулись в сторону предполагаемого падения Девина. Вслед за нами, как привязанные, неслись санитарная и пожарные машины.
Минут сорок нам потребовалось, чтобы отыскать небольшую полянку среди леса, на которой почти целым, но с искорёженным винтом, лежал на брюхе самолёт, а на крыле, белый, как мел, сидел Жека.
Метрах в ста от него, зацепившись за верхушки деревьев, свисала перкаль спасательного парашюта.
Из машин выскочили люди и наперегонки устремились к Девину. Но первыми около него оказались майор и лагерный доктор. Бегло осмотрев потерпевшего внешне, док раскрыл саквояж, достал стакан, плеснул в него прозрачной жидкости и сунул её в руку Женьке.
Пей! – приказал он. – Пей, говорю!
Женька послушно опрокинул спирт в рот и даже не поморщился. Через минуту лицо его порозовело, и уже осмысленно он огляделся.
– Ну, вот и хорошо, – с удовлетворением сказал док и повернулся к майору:
– Теперь с ним и поговорить можно, шок у него прошёл.
Как всегда после лётного происшествия, в лагерь нагрянула комиссия по расследованию аварии во главе с генералом, представителем Главного штаба ВВС, и начальником училища. На ковёр был вызван и сам возмутитель спокойствия. Волнуясь (не без этого), Девин рассказал, как потерял скорость на выходе из боевого разворота, как завис в воздухе, как почувствовал, что рули управления на поведение самолёта не реагируют. Ему бы немного подождать, выдержать паузу. Умный ЯК с его передней центровкой, так или иначе, самостоятельно перешёл бы на пикирование, набрал бы скорость. Женька про эту особенность знал из рассказов инструктора. Но не выдержали нервы, дрогнуло сердце, когда он считал с приборной доски показания указателя скорости. Стремясь исправить допущенную ошибку, он решил свалиться на крыло, надавил на левую педаль и отклонил ручку управления влево. Этого было достаточно, чтобы самолёт закружился в чрезвычайно опасном вальсе.
Девин сразу сообразил, что находится в штопоре, и в соответствии с инструкцией поступил правильно, поставив рули на вывод.
Однако предполагаемого эффекта не произошло. Он трижды повторил необходимые в этом случае действия, но продолжал крутиться волчком.
Как позднее выяснила комиссия, курсант оказался в плоском штопоре, выход из которого был принципиально иным, чем из крутого.
Из-за дефицита знаний разобраться в этих тонкостях Девину не представлялось возможным. Находясь в стрессовой ситуации, он перестал следить за показаниями приборов, а когда взглянул на высотомер, понял, что времени хватит только на то, чтобы отстегнуть привязные ремни и покинуть самолёт.
Ему крепко повезло, нашему Жеке. При дефиците высоты купол парашюта только частично наполнился воздухом, и если бы не верхушки деревьев, за которые он зацепился, не избежать бы курсанту в лучшем случае серьёзных травм.
Правильно говорят, что от судьбы не уйдёшь: кому предопределено расстаться с жизнью в космосе, тот не утонет в реке.
По распоряжению высокого начальства на полёты во всех полках наложили запрет. Курсанты под руководством инструкторов с утра до вечера занимались углубленным изучением и повторением действий в особых случаях, регламентирующих безопасность полётов.
Лейтенант Широбоков за аварию в экипаже отделался строгим выговором, но крепко переживал. Однако своих доверительных отношений с нами не потерял, и мы его зауважали по-настоящему.
Жека тоже первое время ходил, как в воду опущенный, но постепенно стал оттаивать. Особых репрессий против него применено не было, если не считать такого же, как у инструктора, строгача. Что поделаешь, у нас только мёртвых не наказывают…
В суматохе повседневных дел как-то незаметно наступила осень. По утрам уже подмораживало, однако физзарядку личный состав выполнял всё ещё без гимнастёрок. Во время пробежек под сапогами хрумкала пожухлая подмороженная трава, опавшие, всех цветов радуги, листья осин и берёз. Невысокое солнце лениво катилось над горизонтом и так же лениво прогревало застуженный за ночь воздух.
Все ребята из нашей группы успешно сдали экзамены по технике пилотирования, отличились и в теоретических дисциплинах, но призового места в эскадрилье занять она не могла, поскольку числилась аварийной. Мы это понимали и потому особо не расстраивались.
А с Широбоковым Сергеем Александровичем нам явно повезло, потому что это был инструктор от Бога…
В конце сентября мы благополучно вернулись на зимние квартиры и немедленно были задействованы в караульной службе. В увольнение ходили редко. Всегда находилась авральная работа, связанная с подготовкой к зиме. По ночам, как студентам, приходилось разгружать вагоны с продовольствием и топливом. В казармы возвращались под утро, уставшие и грязные, и злые, как черти. Отдыхать приходилось по три-четыре часа в сутки.
И всё же, несмотря ни на что, настроение у ребят было приподнятое, через пару недель, максимум – через месяц, предстоял краткосрочный отпуск с выездом на родину. Известие исходило из источников, заслуживающих доверия: Мишка Звягин завёл роман с женой начальника отдела кадров, и она, обеспокоенная предстоящей разлукой, проболталась как-то в промежутках между любовью.
В связи с предстоящими каникулами курсанты всё свободное время отдавали подготовке парадно-выходной одежды. Мундиры украшали отполированные, сияющие солнцем значки, определяющие человека в причастности к авиации и спорту. Особое место отводилось погонам. По примеру старшекурсников тряпичную, канареечного цвета окантовку заменяли полосками золотого шитья, и смотрелись они не хуже офицерских. Начищенные пуговицы, петлицы и бляхи создавали праздничную атмосферу. Подвергались доработке и головные уборы. Широкие, как у грузин, козырьки фуражек укорачивались на два пальца, на манер мичманок, а тульи поднимали, отдавая дань последнему писку армейской моды. Всё это скрывалось от бдительного, всевидящего ока эскадрильского старшины. В случае обнаружения «криминала» виновник подвергался экзекуции в виде внеочередных нарядов.
Радужные мечты о близком отпуске с треском разбились о приказ Командующего Сибирским округом об участии курсантов в праздничном параде, посвящённом годовщине Великого Октября. По этому случаю все работы, наряды и увольнения сократили на – нет, а взамен предложили жёсткий план строевой подготовки, предусматривающий практические занятия на плацу чуть ли не круглые сутки.
Курсантов выверили строго по росту, и я оказался в первой шеренге четвёртым справа. Составили стандартную «коробку» – восемь человек по фронту и восемь – в глубину.
И началась форменная муштра, начиная с одиночной подготовки и заканчивая прохождением строевым шагом мимо импровизированной трибуны. Львиная доля времени уходила на отработку приёмов с оружием. Команды «на плечо», «к ноге», «на караул» по отдельности выполнялись сносно, но никак не могли добиться синхронности в строю.
Безобразно, понимаешь, по оценке капитана Безгодова, соблюдалось равнение и только упорные тренировки могут спасти нашу честь от позора.
После каждого часа занятий объявлялся десятиминутный перерыв на перекур. Естественно, никаких сидячих мест на плацу иметь не положено, и к концу бесконечно длинных занятий мы выматывались до предела. По ночам казарма содрогалась от мощного, глубокого храпа мертвецки спавших курсантов.
За неделю до ноябрьских праздников нашу славную «коробочку» загрузили в студебеккеры и после отбоя повезли в Новосибирск на генеральную репетицию.
Я уже бывал в этом красивом городе с широкими площадями и улицами, и сразу же узнал театр оперы и балета, куда мы выезжали по плану культурно – просветительной подготовки. Если мне не изменяет память, мы смотрели тогда балет Чайковского «Щелкунчик». И я долго ходил под впечатлением грустной сказки, похожей на жизнь.
В десять часов ночи мы были уже на месте. Вся центральная площадь была заполнена военными. Нам определили место сразу за колонной офицеров, а сзади двигалась пехота.
Мороз крепчал, и чтобы не замёрзнуть, вся площадь танцевала.
И ещё прошёл час, прежде чем руководители определили порядок прохождения войск торжественным маршем.
Наконец, раздалась команда, и колонны двинулась с места. Брусчатка, добросовестно очищенная от снега, звонко звучала под хромовыми сапогами с набитыми на подошвы жестяными пластинами. «Ча – чак – чак!»! – отмеривали мы шаги, приближаясь к центральной трибуне, на которой в гордом одиночестве стоял сам Командующий.
За три линейных до генерала прозвучала команда «строевым – марш», и строй увеличил амплитуду движения ног, а на счёт два – сдёрнул карабины с плеч на руку и вскинул подбородки вверх направо. И каждый, согласно инструктажа, косил на грудь четвёртого человека, считая себя первым.
Промаршировали вполне прилично, однако Командующий не согласился с моим мнением. Вызвав к себе командиров батальонов, он с добрых полчаса высказывал им своё недовольство, а потом приказал повторить всё сначала.
Короче, в общей сложности мы сделали ещё шесть заходов, промёрзли до костей, на чём свет проклинали привередливого хозяина и думали только о тепле.
Уже стало светать и появились первые прохожие, когда, наконец, всех отпустили по домам. Как
До Бердска доехали, непонятно, но обморожений ни у кого не было.
Через день состоялся новый выезд. Чтобы как-то уберечь личный состав от жгучего холода, нам разрешили накидать в кузова грузовиков соломы, и хотя тепла от неё было, как от рыбьей чешуи, мы считали, что едем с комфортом.
7-го ноября состоялся дебют в участии авиационного училища в военном параде. Чётко отбивая шаг, мы лихо прошли мимо многолюдной трибуны, демонстрируя высокую строевую выучку и отдавая дань героическому революционному прошлому великого народа.
А через неделю в личном деле каждого участника парада появилась запись об объявленной Командующим благодарности за наше терпение, лишения и невзгоды.
В эти суматошные дни я ни на минуту не забывал о двух Светланах, бесцеремонно вторгшихся в мою судьбу. И если первая любовь в своих нечастых письмах скупо и коротко сообщала о своём житье-бытье, то вторая откровенно радовалась каждой встрече, и только бестолочь не могла бы догадаться, что девушка влюблена.
Странно, но это обстоятельство мне льстило, а сердца не трогало. Вот ведь какая щекотливая ситуация! Ну, где эти флюиды, которые могут заставить перераспределить любовь между особями?
Накануне отъезда домой я получил, наконец, увольнительную. Прежде, чем зайти к Светлане, пробежался по местным магазинам и закупил подарки. Не с пустыми же руками появляться в родительском доме, где отсутствовал целых два года.
Как всегда, местная Светка откровенно обрадовалась моему визиту. В голубеньком халатике в цветочек, в домашних тапочках на босу ногу, она выглядела привлекающе красивой. Каштановые волосы ниспадали за плечи, и тёмные брови – крылья ласкали взор. Она будто горела волшебным внутренним светом, источая аромат нетронутого женского тела.
– Как долго ты не приходил, – обняла она меня за плечи. – Целых сто лет, противный.
– Это точно, – согласился я, – но ведь ты знаешь, что мы не распоряжаемся своим временем.
– Всё равно нехороший.
– Ах, так! – сжал её я в своих объятиях. Она охнула и, не удержав равновесия, мы оба упали на её кровать. Дикое желание пронзило меня, словно электрическим током. Голубок мой напрягся, его головка поднялась и жёстко упёрлась макушкой в ширинку. Светка не могла не почувствовать его биения, зажмурилась и откинула подбородок назад.
Я в исступлении покрывал её лицо и плечи страстными поцелуями, а рука непроизвольно стала расстёгивать её халатик. Она не оказывала никакого сопротивления, и это меня поощрило к более решительным действиям.
Материю, прикрывающую сдобные, как булочки, груди, я стащил своими зубами и жадно лизнул обнажённую тёмную сосочку. Светлана призывно застонала, раздвигая длинные ноги, и потянула меня к себе. Дрожа от возбуждения, я лихорадочно искал сближения, и она помогала мне в этом, приподняв свою попку кверху.
И вдруг всё рухнуло. Заскрипели под чьими-то ногами промёрзшие половицы, хлопнула сенная дверь, и мы испуганно отпрянули друг от друга.
Я присел к столу, будто по тревоге застёгивая брюки, а моя подружка, поправив покрывало, подошла к трюмо и занялась причёской. Через минуту в комнате появилась лошадиная морда Катерины Господи, как не повезло! Ну почему бы ей по дороге не поскользнуться?
– О, – да у нас гости! – с радостью воскликнула она вместо приветствия. – Давненько вы к нам не заглядывали. И как поживает казарма с потенциальными петушками?
Это она наших пацанов петушками назвала.
– В общем-то, нормально, – ответил я. – Как учили в первом классе. Только курочек маловато. Так что… нерегулярно.
Катька опешила, соображая, как реагировать на явную дерзость, но решила не возникать.
– Вот и пришёл бы с обещанным приятелем, – напомнила она о своей давнишней просьбе. – И я бы была при деле, и вам не мешала.
– Господи, о чём ты говоришь, – неубедительно возмутилась Света.
– Ладно, ладно, – примирительно сказала Катерина. – Замнём для ясности. А у вас, говорят, каникулы светятся? – обратилась она ко мне с вопросом.
– Есть такое дело, – подтвердил я сообщение сарафанного радио. – Завтра уезжаю в отпуск.
– И долго без вас придётся скучать?
– Никак не меньше месяца, – ответил я с гордостью.
– Вот счастливчик! – позавидовала Катерина и обратилась к Светке:
– А ты чего присмирела? Ставь-ка самовар для дорогого гостя.
Но я решительно отказался:
– В другой раз, девушки. А пока прощайте, дел перед отъездом невпроворот.
Мы вышли со Светой во двор, остановились у калитки и взялись за руки.
– Ты напиши мне, хорошо? – попросил я виноватым голосом.
– Хорошо.
Мы помолчали, не находя нужных при расставании слов. Я привлёк её к себе и поцеловал:
– До скорого свиданья, Света.
– До скорого…
С тех пор мы с ней не встречались. Никогда. Лишь через два года, когда я уже летал в строевой части, на адрес родителей пришло письмо с сообщением о том, что она вышла замуж…
Холодным зимним утром поезд благополучно дошёл до места назначения. Несмотря на пасмурную погоду, настроение у всех было отличное. Прежде, чем разбежаться по домам, мы ещё раз уточнили время и места встреч друг с другом. Вовка Забегаев жил от меня почти рядом, Дружков – в получасах езды, а Девин – в Копейске, небольшом шахтёрском городке Челябинской области.
У Дружкова через неделю ожидалась свадьба, и он с каждого взял слово, что мы обязательно будем участвовать в его торжестве.
– Я вам приглашения пришлю, – пообещал он, когда мы вышли на привокзальную площадь.
В десяти минутах от станции жила моя сестра Мария, можно было бы забежать, но после некоторых колебаний я всё же решил взять курс на отчий дом.
Подхватив небольшой серенький чемоданчик, я бодро зашагал через знаменитый на всю округу своим криминалом Порт, давший начало современному городу. Построенный в восемнадцатом веке как пересыльный пункт для каторжан, он был расположен в небольшой впадине, и видимо по этой причине получил название Челяба, что в переводе с башкирского означало «яма». Потемневшие от времени бревенчатые дома хранили за своими стенами немало жутких историй и пользовались дурной славой. Это была зона повышенной опасности не только для детского здоровья. Наша барачная пацанва, закалённая в междоусобных драках, и та избегала появляться в здешних местах в одиночку. Портовые отлавливали смельчаков, очищали карманы и нещадно лупили.
Вражеские тылы я миновал без приключений. В светлое время здесь было относительно тихо.
А вот и трамвайная линия – граница, разделяющая сферы влияния портовых и барачных. Дальше – снежное поле, на краю которого виден мой дом. Взглядом я отыскал наши окна, слегка прикрытые ветвями деревьев. Эти яблони лет шесть назад я тайком экспроприировал у хозяев плодово – ягодной станции. Растения прекрасно прижились и ещё при мне дали первый урожай. Теперь они заметно подросли и сравнялись с коньком барачной крыши, с которой в детстве мы с удовольствием прыгали в снежные сугробы.
Словно верблюд, почуявший воду, я прибавил шагу и через пять минут, заметно волнуясь, уже стучал в знакомую до мелочей родную дверь. Лязгнула щеколда самодельного запора, и на пороге появилась мама. Чуть пополневшая, в тёмно – синем платье и в цветастом переднике, она в первый момент не узнала человека в военной одежде. Улыбаясь, я шагнул вперёд, и она припала к моей груди и заплакала:
– Господи, как тебя долго не было!
Я легонько гладил её чёрные кучерявые волосы, подёрнутые сединой, и был счастлив от мысли, что есть место на земле, где меня всегда ждут и всегда рады.
– А где же отец, где Юра? – спросил я её, осматриваясь.
– Да где же им быть, если не на работе и в школе. К вечеру все соберутся.
Несмотря на протесты, мать приготовила на скорую руку популярные уральские пельмешки. Как же иначе? С дороги человек. И пока хлопотала у плиты, мы, перебивая друг друга, делились новостями. Ей всё было интересно: и про инструкторов, и о быте, и о товарищах, и о питании и о самолётах. Об авариях я умолчал, полагая, что с её эмоциональным характером подобная информация может повредить.
За разговорами время бежит быстро. У каждого из нас была ещё куча вопросов, когда в комнату ворвался Юрик. Швырнув портфель на кровать, он кинулся мне на шею и осыпал поцелуями:
– Здравствуй, братишка! Ух, как здорово, что приехал! А я ждал – ждал, да все жданки проел. Ну, рассказывай…
– Наговоритесь ещё, – перебила его мать, довольная бурной встречей сыновей. – Садись к столу, тебе через час во Дворец идти. Он же у нас в музыкальной школе обучается, – это уже ко мне, – не забыл?
– Да ну её к чёрту, чтоб она сгорела. Наказание какое-то. Все, как люди, на улице, а ты не моги. Сиди, как приклеенный, и пиликай. Не пойду!
– Я тебе не пойду! – пригрозила мать. – И не чертыхайся! Мал ещё.
– А что, не правда, что ли?
– Может, и правда. Только я тебя, дурачка, вывести в люди хочу. Вон, посмотри на Иван Лексеича. Так играет, что заслушаешься! И от людей почёт и уважение, и на свадьбах подрабатывает. Какой ни на есть, а прибыток в доме.
– Да хватит тебе, вечно ты меня носом тычешь в дядю Ваню.
Не знаю, чем бы закончилась перепалка, но я тоже вставил слово и поддержал мать:
– Коней на переправе не меняют, Юра. Раз уж запрягся, тяни лямку до конца. Кто знает, что пригодится в жизни?
– Вот-вот, и ты туда же, – надулся Юрик, но быстро остыл и примирительно произнёс:
– Ладно, мам, наливай борща…
Весть о моём приезде быстро распространилась по участку и добралась даже до сестры. К нам потянулись мои старые друзья – братья Григоровы, Ванька Муратов, Витька Черепанов, Галка Куликова и даже Натка Воронина, с которой когда-то у меня был лёгкий флирт. Заглядывали и соседи, очень уж хотелось посмотреть на живого курсанта.
К вечеру всей семьёй нагрянули Евдаковы. Маша выглядела настоящей примадонной. В каждом движении, повороте головы, взмахе рук угадывалось изящество и вальяжность. Её муж, крепко сбитый, подвижный и весёлый человек, явился в форме, полагая, очевидно, что двое военных за столом смотрятся лучше. Из уст Александра Михайловича тотчас посыпались анекдоты. Знал он их великое множество и на любую тему. А его дочка Люсенька, восьмилетнее очаровательное создание из бантов и кружев, уже сидела на моих коленях, смаковала конфету и делилась новостями из второго «А» класса.
Вскоре пришёл с работы отец. Он почти не изменился, был такой же стройный, сдержанный, неторопливый. Мы крепко, по-мужски, обнялись, троекратно расцеловались, он отстранился и с гордостью произнёс:
– Ну, хорош, ну, орёл! Мать, накрывай на стол, праздновать будем.
За рюмкой снова пришлось повторить свой рассказ о курсантской жизни и всех её перипетиях. В глазах у слушателей виделся неподдельный интерес, я находился в центре внимания, и только племянница Люська игнорировала наши разговоры, с увлечением играя с куклой, которую я привёз ей в подарок.
Как всегда, отец быстро захмелел, стал куражиться и снял с себя рубашку. Жарко ему стало.
– А что, мать, давай-ка споём нашу любимую. Для гостей дорогих. Не дрейфь, я подтяну, – подмигнул он жене поощрительно.
Откашлявшись, мама встала из-за стола и начала, подбоченясь:
– Коперник целый век трудился,
Чтоб доказать Земли вращенье.
– Дурак, он лучше бы напился,
– подхватил третью строчку отец в унисон с запевалой, обняв её за покатые плечи,
– Тогда бы не было сомненья.
Ах, наливай, брат, наливай,
– глядя на отца, импровизировала мать,
И всю до капли выпивай.
Ах, наливай полнее, брат,
– а отец ей в ответ:
– Ты знаешь, пить всегда я рад.
Певцы посмотрели друг на друга, словно советуясь, продолжать ли дальше, сделали многозначительную паузу, и задорно, с озорством и какой-то лихостью завели припев:
– По рюмочке, по рюмочке,
Тилим – бом – бом,
Тилим – бом – бом.
По маленькой, по маленькой,
Чем поят лошадей!
– Ап-чхи! – чихал отец понарошку, и мать отвечала:
– Будь здоров!
Тилим – бом -бом,
Тилим – бом – бом!
Ап – чхи! Будь здоров!
Тилим – бом – бом, бом – бом!
Гости восторженно аплодировали, и даже Люська появилась в нашей компании, привлечённая весёлыми голосами бабушки и деда.
Минут через двадцать отец вышел по лёгкой нужде и долго не возвращался.
– Сынок, присмотри за ним, – попросила мать, убирая со стола посуду. – Как бы в одной майке к друзьям не пошёл, с ним станется.
О его слабости обходить соседей в подпитом состоянии было известно всем. Трезвым он всегда сидел дома, и дефицит общения с окружающим миром восполнял, будучи навеселе.
Нашёл я его лежащим у подъезда в сугробе.
– Жарко, сынок, остудиться нужно, – объяснил он, протирая снегом лицо.
– Вставай, батя, простудишься, – попытался я поставить его на ноги, но он только блаженно улыбался.
Не долго думая, я с трудом поднял его на руки и понёс домой.
– О, – оживился он, выкинул свободную руку вперёд и с пафосом выкрикнул:
– Да здравствуют советские лётчики!
Я его чуть не уронил от хохота.
Мать встретила нас на пороге:
– Вот паразит, когда ж ты успел наклюкаться? Неси его, сынок, в большую комнату. Да не на кровать – на пол опусти, пьянчугу несчастного.
Отец, категорически несогласный с выданной ему характеристикой, долго ещё объяснял мнимому собеседнику, что имеет законное право расслабиться по случаю приезда дорогого кормильца.
Ближе к полуночи гости разошлись, и мы улеглись на отдых. Я – на своё законное место, а Юра на полу: раскладушку в доме не держали.
Как и договаривались, дня через три на квартире Григоровых устроили вечеринку. Собрались почти все старые друзья, а Зинка, взявшая на себя роль гостеприимной хозяйки, пригласила своих новых подруг, ни одна из которых мне не была знакома.
Среди четырёх бросалась в глаза стройная фигурка смугляночки Даши. Большущие, стреляющие и разящие наповал тёмно-серые глаза, круглое чистое личико с симпатичными ямочками на розовых щёчках, длинные, до плеч, гречишного цвета волосы, разделённые на прямой пробор, делали её очень привлекательной. Сиреневая шерстяная кофточка на её груди пузырилась соблазнительными бугорками, а из-под выреза просматривалась тёмная соблазнительная ложбиночка. И когда всех пригласили к столу, мне удалось оказаться с ней рядом.
Стол, выдвинутый на середину комнаты, был заставлен недорогими, но вполне подходящими блюдами. Традиционная селёдочка, украшенная колечками лука, отварная картошечка с приставленными вплотную к ней солёными огурчиками, и конечно, холодец, без которого и выпивать – то просто грешно.
Перед каждым приглашённым стояла мелкая тарелка для закусок, гранёная стопка, а в центре возвышались ёмкости с горячительными напитками.
– Молодец, Зинуля, – похвалил я хозяйку. – Как на свадьбу накрыла.
– Чем богаты, – жеманно ответила девушка, подбирая губы. – Кушайте, гости дорогие, чем Бог послал.
– Толик, банкуй! – на правах старшего приказал Фёдор брату, и тот ловко начал раскупоривать бутылки.
– Ну, за встречу! – коротко провозгласил Федя тост, и все дружно выпили.
– А что, Дашенька, – подкладывая на тарелку соседки дымящуюся картошку, пошёл я в разведку боем, – мы с вами раньше нигде не встречались?
– Не думаю, – отпустила она в мою сторону обаятельную улыбку, рекламируя безупречные по форме и содержанию зубки.
– Разве что в трамвае?
– Наверное, там. Потому что такую красавицу трудно не заметить.
Слегка захмелевший, я уже лез напролом, выдавая проверенные на практике, неотразимые комплименты. Как говаривал Александр Васильевич Суворов, смелость – города берёт, а тут – обыкновенная смазливая девушка, мечтающая о своём принце. Вперёд, ковбой, без страха и сомненья! Поимей в виду, что красавицы сотворены природой не только для того, чтобы ими любовались. Теперь – то эту истину я усвоил.
– По этикету, позволю вам заметить: женщина, сидящая по правую руку от мужчины, имеет преимущественное право на его внимание, – проникновенно произнёс я, перекрывая застольные разговоры. – Как вы на это смотрите?
– Положительно, – спокойно произнесла Даша, отправляя в ротик солёный груздок. – Буду рада, сеньор, если вы окажете мне такую честь, – подхватила она предложенную ей роль, величаво повернула свою головку на высокой шее и согласно кивнула.
– В таком случае, я ангажирую вас на весь вечер.
Глухо стучали стаканы с вином, позвякивали приборы, в перестрелке алмазно блестели глаза парней и девушек.
Чем меньше оставалось в бутылках спиртного, тем громче звучали голоса и бессвязнее становилась речь. Ребята наперебой рассказывали о новостях, хвастались победами на любовном фронте, делились планами на будущее.
Здесь я узнал и о трагедии, которая полгода назад произошла с Володей Черняевым. Он верховодил всей нашей барачной командой, слушались его беспрекословно. Не потому, что был слишком крутой, а за честность, справедливость и не по годам зрелую рассудительность. Было время, когда я ревновал его к своей возлюбленной, но мы по-мужски поговорили, и выяснилось, что ревность моя безосновательна. Предметом его тайного обожания была девушка не из нашего круга. На ней, себялюбивой и чопорной, он и женился накануне моего отъезда. У него родилась дочь, а потом пошли нелады, связанные с изменами жены. Он боролся с этой бедой, как мог, но слишком глубокой оказалась нанесённая психологическая травма. Вова не выдержал и повесился.
Мой тёзка Малофеев по кличке «Молофья» за разбойное нападение попал за решётку. Что удивительно, сколько я его знал – никогда не замечал за ним склонностей к агрессии. Поистине, время меняет людей.
Не забывая оказывать знаки внимания Даше, я перебрасывался репликами с Толей Григоровым. Оказывается, уже год, как он работает газоэлектросварщиком на трубопрокатном заводе и стал материально независим, и что всерьёз думает обзавестись семьёй. Есть у него на примете славная женщина с редким именем Эльвира. Правда, она уже побывала замужем и имеет ребёнка, но какое это имеет значение, если люди любят друг друга?
С противоположного угла доносились обрывки разговора о том, долго ли будет летать искусственный спутник, впервые в мире запущенный полтора месяца назад. Чем закончился спор, узнать не удалось: заиграла радиола, ребята оживились, сдвинули к стене стол, убрали табуретки и стулья, освобождая место для танцев.
– А вы хорошо танцуете, – похвалил я свою партнёршу под звуки танго. – У вас есть чувство ритма.
– У меня есть и чувство меры. Талия, за которую поддерживают женщину, находится несколько выше того места, где покоится ваша рука.
Я мгновенно, словно с горячего утюга, сдёрнул свою ладонь с Дашиной попки.
– Простите, увлёкся, – извинился я. – И за свою дерзость готов нести любое наказание. Хотите, провожу вас домой?
– Что ж, предложение дельное, возражений нет. Но учтите, что я живу в Порту, а это не самое безопасное место для прогулок.
– И всё же я рискну.
Вечеринка удалась на славу. В меру подвыпившие ребята много острили, недвусмысленно ухаживали за подружками и всё допытывались, так ли уж хорошо иметь профессию военного лётчика – истребителя. Как мог, я защищал свой выбор, хотя, откровенно говоря, по затратам физических сил и психологическим нагрузкам нет на свете работы более тяжёлой. Но я полагал, что знать им об этом ни к чему. Как там, в популярной песне поётся: « Мама, я лётчика люблю. Мама, я за лётчика пойду. Лётчик высоко летает, много денег получает, – вот за это я его люблю». Зачем же разрушать романтический ореол вокруг авиации, созданный фантазиями мечтателей.
– Чем вы занимаетесь, Даша, – спросил я свою спутницу, когда мы выбрались, наконец, из душного помещения.
– Догадайтесь, – взяла она меня под руку.
– Школу заканчиваете, – наобум сказал я, подбирая шаг, чтобы идти в ногу.
– А вот и нет. Я уже на втором курсе медицинского.
– Стало быть, студентка? Тогда почему мы до сих пор на «вы»?
– И вправду нехорошо, – согласилась Даша и рассмеялась.
Желтела в полную силу луна, неистово перемигивались между собой крупные звёзды, светлой полосой рассекал ночное небо Млечный путь, и мы мчались во Вселенной со скоростью тридцать километров в секунду, находясь на космическом корабле с красивым названием «Земля». Интересно, кто ей дал это имя?
Мороз крепчал, а под ногами скрипел снежок. В такую погоду добрый хозяин и собаку во двор не выпустит. Наверное, поэтому в Порту стояла абсолютная тишина.
– Ох, и замёрзла же я, – прижалась ко мне плечом девушка – Ну, ничего, сейчас отогреемся, – сказала она, открывая ключом массивную дверь частного дома.
– Поздновато для гостей, – говорила она, будто оправдываясь, – но не бросать же кавалера в такую стужу.
– Это было бы преступлением, – приободрился я, уловив в её голосе многообещающие нотки.
– Боюсь только, как отнесутся родители к нашему неожиданному визиту.
– А нынче их нет, – обрадовала меня Даша. – К родственникам в Миасс укатили.
Я смело шагнул через порог и сразу почувствовал, как вязкое тепло ласково обволокло настывшие на улице щёки.
Даша щёлкнула выключателем, но свет не зажёгся.
– Так и знала, – огорчилась моя хозяйка, – снова выключили. Но это дело поправимое. Сейчас свечку зажгу.
В глубокой темноте она безошибочно нашла спички, и вскоре рыжий огонёк выхватил из сумрака большую русскую печь с лежанкой, скатертью покрытый стол с приставленной к нему лавкой и деревянную широкую кровать, над которой в тёмном углу висела икона Иисуса Христа.
– Как здесь славно, – обнял я сзади Дашу, неуверенно подсовывая руки под её подмышки. Она резко обернулась и пристально посмотрела в мои глаза. Я молча притянул её податливый бюст к груди, и наши губы потянулись навстречу.
– Подожди, – остановила она мои попытки снять с неё платье. – Я сама…
Сбрасывая на ходу одежду, мы устремились к ложу, и через пару минут старая, видавшая виды кровать – полуторка недовольно застонала под тяжестью молодых возбуждённых тел.
Жарко дыша, Даша с готовностью разбросила роскошные, прохладные с мороза, бёдрышки и змеёй обвила мужской торс на удивленье крепкими руками. Мой дубовый фаллос с учётом приобретённого опыта легко и непринуждённо скользнул по хорошо изученному маршруту и глубоко погрузился в изрыгающий огонь и лаву вулкан.
Сладко постанывая, девушка переместила ладони на мои ягодицы и в такт движениям вдавливала их с яростью идущего на таран лётчика-истребителя. Жаркие, страстные поцелуи покрывали мою шею и грудь, а передок с каждым мгновением увеличивал амплитуду совокупления. Груди девчонки налились свинцовой тяжестью, сосочки напряглись, и стали железными и победно заострились на вершинах божественных холмов.
Во мне проснулся зверь. Я гордо восседал сверху, как опытный жокей на укрощённой лошади, всё ещё гарцующей после бешеной скачки. Девушка конвульсивно задрожала, из груди её вырвался протяжный, полный наслаждения стон, и я почувствовал, как жёстко и требовательно стали сокращаться её нижние губы, заглатывая выбрасываемую толчками сырость. Казалось, они никак не желали, чтобы хоть малая толика мужского семени пропала втуне…
Два генерала как-то заспорили, что это такое – интимное отношение с женщиной, – работа или наслаждение? Спорили долго, и каждый отстаивал свою точку зрения. Наконец, устав от препирательств, решили спросить у денщика.
– Осмелюсь доложить, товарищ генерал, – ответил бравый служака, – если это была бы работа, то вы поручали её мне…
Я с наслаждением воспринял ласки моей партнёрши, и в порыве нежности наградил Дашутку долгим, сладким поцелуем. Она уткнулась в мою шею и с удовлетворением прошептала:
– Это было здорово. Но очень уж быстро.
– Прости, – сказал я, сползая с девушки, – исправимся. До рассвета ещё далеко.
В эту обворожительную ночь я чувствовал себя на седьмом небе. Отрешённые от мира, мы принадлежали друг другу. И только полная, улыбающаяся луна была единственным свидетелем наших утех и с любопытством подглядывала сквозь щели ставен за бурными играми молодых.
…Странные вещи происходят со мной в последнее время. Люблю одну, а сплю с другими. С точки зрения морали я совершенно разложившийся тип, развращённый и беспринципный, по уши погрязший в грехах. Особенно ужасным было то, что я ни на йоту не испытывал угрызений совести перед своей первой любовью, хотя в подсознании осуждал своё недостойное поведение. Но, с другой стороны, я не был связан со Светкой какими-то двусторонними обязательствами. Более того, она не оставляла мне никаких шансов на перспективу. За десять лет нашего знакомства я её не только не поцеловал, но и ни разу не пригласил на свидание. Не в этом ли состояла моя самая большая ошибка?
Девушки любят напористых ребят, каждая из них мечтает быть завоёванной, а я при встречах с ней катастрофически робел и выглядел тюфяк – тюфяком. Всё дело в том, что в моих глазах она была необыкновенно красива, а я считал себя нескладным дылдой с заурядным лицом и испорченными манерами. Она представлялась Джокондой за стеклом, на которую можно смотреть, но нельзя потрогать. Дурачок, я свято верил, что красавицы рождаются не для таких, как я.
О ритуальных танцах, предшествующих сближению, я знал из литературы. Но по своей наивности полагал, что простейшие знаки внимания к женщине, будь это цветы или комплименты, или во время подставленный стул, – всё это мелочёвка, недостойная настоящего мужчины.
Теперь, с высоты прожитых лет, я отчётливо понимаю свои заблуждения и рассматриваю предбрачные игры как обязательный, веками выработанный,ритуал.
Молчаливая, тихая любовь однозначно обречена на затухание. Дайте свободу добрым отношениям к окружающим вас, не копите их впрок, как Гобсек свои денежки, не будьте скупыми на похвалу. Любовь – это костёр, она не затухает, если имеет постоянную подпитку, а если её нет, то непременно превратится в кучку пепла, да и то до первого дождя.
Возможно, я и не прав. И меня обвинят в цинизме. Но я такой, каким меня создала природа и та система взаимоотношений между людьми, в которой я живу.
Десять дней и ночей я наслаждался общением с моей уралочкой. Несмотря на молодость, она оказалась большой выдумщицей по части любви, неутомимой озорницей в кровати и прекрасным организатором межпостельного досуга. Каждый вечер, сломя голову, я мчался к ней на свидание, и мы отправлялись в театр, кино или цирк, в музей или выставку, или просто в кафе. Утомлённые зрелищами, возвращались под своды её дома, чтобы получить на десерт жаркую близость и волшебный кайф.
Внешне спокойные и рассудительные родители к моим постоянным вечерним прогулкам относились по-философски снисходительно, понимая, что огрубевшему в жутких казармах отпрыску требуется отдушина, чтобы выпустить опасно накопившийся пар.
Друзья одобрительно посмеивались, похлопывая по плечу, недвусмысленно намекая на слишком уж серьёзный характер моего увлечения. Я и сам подумывал об опасности частых встреч, не без основания полагая, как бы наши отношения не переросли в качественно новые чувства, рвать которые будет заметно больнее и хлопотнее. Это никак не входило в мои планы. Однако всё пока складывалось удачно, отпуск проходил нормально, и только братишка обиженно высказывал претензии, что его персону явно игнорируют.
Оставшиеся до отъезда дни были заполнены дружескими визитами и гостевыми приёмами. Я съездил в Копейск к Жене Девину, побывал у Забегаева и даже отведал знаменитых уральских пельмешков у Марии Олимпиевны Пугаевой, необыкновенно ароматных и безупречно вкусных, – таких, которые умела делать только она по своему башкирскому рецепту.
Встречи с приятелями проходили на высоком идейно-политическом и деловом уровне. Ребята делились информацией о победах и успехах, скромно умалчивая о неудачах. И это естественно: мужики с неохотой говорят о теневых сторонах своей жизни. Я бы поступил точно также, не дай тебе честного слова, уважаемый читатель, говорить правду, только правду, и ничего, кроме правды.
В жизни, однако, не бывает, чтобы всё проходило без сучка и задоринки. На смену взлётам приходят и падения. Вот и со мной получился конфуз, который до сих пор не выветрился из памяти. А всё случилось на Вовкиной свадьбе, которая произошла-таки через полмесяца, как он и обещал.
В разгар веселья, когда гости были уже достаточно подпитые, ко мне подсела молоденькая черноволосая девочка с явной косинкой каштановых глаз. И без обиняков призналась, что учится в той же школе, которую закончил и я. И что с шестого класса в меня влюблена, что не рассчитывает на взаимное чувство, но она девственница и хотела бы потерять свою честь с помощью возлюбленного.
Несмотря на изрядное количество выпитого, я обалдел от её смелого предложения. «Какая жалость, малышка, что ты не в моём вкусе, – подумал я, – какая жалость». В чистоту и искренность её чувств нельзя было не поверить, и у меня хватило ума, чтобы не поранить их грубым солдатским отказом. Я тактично предложил ей оставить решение этого щекотливого вопроса на потом, сославшись на отсутствие соответствующих условий и непродолжительность знакомства. Конечно, подумалось мне, воспользоваться ситуацией можно, но кому нужна лёгкая победа над беззащитным цыплёнком?
Кажется, я повзрослел. Подвернись такой случай года два назад, я бы немедленно исполнил желание девочки. В конце концов, каждый человек мечтает как можно скорее расстаться со своей невинностью, словно это позорный порок. Мальчишек это почти не пугает, а девочек сдерживает только страх перед оглаской.
В честь нашей непредвиденной встречи и знакомства я предложил своей соблазнительнице выпить за дружбу и установление доброжелательных отношений. Она охотно согласилась. А что ей оставалось делать?
Через час я так нагрузился, что потерял свою новую знакомую. На меня неожиданно навалилась хандра, и я в мрачном настроении сидел на углу стола, автоматически поддерживая разговор со случайным собутыльником.
Вовка, весёлый и счастливый, подвалил ко мне с фужером вина и поинтересовался, как мне нравится на свадьбе, заранее уверенный в положительном ответе. Однако в меня вселился дух противоречия, я пьяно ухмыльнулся и сказал:
– Всё плохо! Понял – нет?
– А в чём дело, – нахмурил кустистые брови взрывной, как вулкан, Вовка.
– Во всём, – перекосила моё лицо безапелляционная улыбка.
– И жена моя не нравится? – с угрозой в голосе спросил он.
– И жена, – мотнул я пьяной головой.
Вовка несколько секунд молчал, соображая, как отреагировать на явную агрессию, потом сжал губы, и желваки заработали на его рельефных скулах:
– А ну, выйдем!
– И выйдем, – согласился я, – только за порогом она тоже не будет мне нравиться…
Что случилось потом, не припомню. Наутро я нашёл себя на кухне, на каком-то матраце. Тяжёлый чугунный молот долбил мою голову, а правая скула больно саднила.
С большим трудом я припоминал обрывки событий и тот удар в челюсть, которым по всей справедливости угостил меня дружок в попытке изменить моё мнение о его жене. Всё правильно, какая, к чёрту, свадьба без драки!
Вчерашней незнакомки нигде не было. И это хорошо. С такой рожей, как у меня, рассмотрел я себя в зеркало, только прохожих грабить.
В знак примирения мы выпили с новобрачным по стакану портвейна, и я по-английски смылся домой.
…Вот и наступила пора возвращаться в родное училище. За плечами осталась бурно проведённая оттяжка, но все любовные мосты сожжены, напутствия выслушаны, друзья и родные перецелованы. Жаль, конечно, покидать милые сердцу места. Но, как поётся в известной песне, без расставания не было б встреч.
Никогда.
Глава пятая
Как застоявшийся в стойле конь, я с удовольствием ворвался в кипучую курсантскую жизнь. Первые три дня не было темы актуальнее, чем разговоры о проведённых каникулах. Ребята со смаком делились похождениями по тылам любви, явно гиперболизируя успехи и скромно умалчивая о поражениях. Каждый остался доволен проведённым временем, и в казарме носился дух всеобщего оптимизма. К этому добротному настрою прибавилась и весть, что эскадрилья меняет дислокацию и выдвигается на новый рубеж для взятия штурмом пока загадочной и потому чрезвычайно манившей к себе реактивной техники. И действительно, не прошло и десяти дней, а мы уже осваивали авиационный гарнизон со смачным названием Топчиха.
Это был небольшой провинциальный алтайский городок с десятком двухэтажных административных зданий, вокруг которых густой россыпью стояли частные дома коренного населения и этапированных из Поволжья русских немцев в период последней войны. От греха подальше. Городок считался районным центром, был чист и опрятен, а обыватели отличались сибирской выдержкой, немецкой пунктуальностью, сосредоточенностью и серьёзностью. Здесь, как и в любом другом месте, имелся набор законопослушной исполнительной власти, призванной следить за экономическим развитием, порядком и моральными устоями народонаселения. В последнем обстоятельстве определённую роль выполняла многотиражная газета «Заря», в которой два раза в неделю освещались события официальные и не очень, факты союзного масштаба и местного значения, и даже велась рубрика «Литературная страница». К глубокому огорчению главного редактора и ответственного секретаря в одном лице, из-за дефицита доморощенных литературных кадров приходилось использовать перепечатки из популярных журналов в сокращённом, естественно, варианте.
Нас разместили в огромной, по габаритам похожей на танцевальный зал, казарме. У входной двери, как водится, поставили тумбочку, окрашенную в коричневый цвет, у которой днём и ночью, словно посаженный на короткую цепь, неизменно маячил дневальный с красной повязкой на рукаве – символе власти. На тумбочке стоял полевой телефон, у которого вместо наборника имелась заводная ручка. Хочешь позвонить – снимай трубку, крути ручку магнетто и вызывай коммутатор.
Кровати в казарме на этот раз были расставлены в один ярус. В ногах, на спинке каждой из них висела типовая табличка с фамилией владельца и годом призыва на службу. Между кроватями одна на двоих возвышалась тумбочка, как у дневального, но без телефона. Зато с графином и стаканом, призванными, очевидно, приобщать курсантов к элементарной культуре.
Постелей на кроватях не было, и по команде старшего все отправились на вещевой склад, где старшина – крепко сбитый и проворный мужичок – раздавал одеяла, матрацы и наволочки и попутно поливал крепкой, но не обидной бранью нерасторопных солдат.
Через час пустые койки были аккуратно заправлены, эскадрилья построена, и заместитель командира по строевой подготовке капитан Евсеев – точная копия Коломбо – держал речь, в ходе которой каждый из нас узнал, что внешне мы похожи на петушков после драки: с большим гонором, безобразными шевелюрами и никудышным внешним видом. И потому должны зарубить себе на носу, что с этого момента «объявляется война каждому проявлению неуставных взаимоотношений и уклонений от тягот и лишений воинской службы».
После сумбурного выступления капитана все сделали вывод, что в лице начстроя мы приобрели неоценимый кладезь мудрости и красноречия.
В ста метрах от казармы находилось приземистое кирпичное здание столовой. Что в нём размещалось до революции, забыли даже долгожители, однако метровые стены и узкие высокие окна давали возможность предполагать, что в прошлом оно использовалось под тюрьму или цитадель по защите славного городка Топчихи.
Нас, однако, поразило не прикосновение к историческому прошлому, а вид опрятных, покрытых белоснежными скатертями столов на четверых, на которых были расставлены мелкие тарелки с закуской, а рядом покоились столовые приборы. Прямо как в ресторане!
Доконали всех молоденькие официантки, словно феи, возникшие из-за кухонных кулис. Миловидная девушка в светлом передничке и такой же наколке на голове подошла к нашему столику, назвалась Машей и на выбор предложила первые и вторые блюда. Приняв заказ, она на несколько минут исчезла и вскоре принесла на широком подносе настоящие фарфоровые тарелки с первым блюдом. То же самое повторилось и со вторым. Компот в гранёных стаканах стайкой сгрудился в центре стола, застеленным белоснежной скатертью.
Через четверть часа мы, сытые и довольные, бодро шагали вокруг спортивного городка и лихо напевали авиационный шлягер из кинофильма «Истребители».
Не покривлю душой, если скажу, что из семнадцати лётчиков-инструкторов наш был самым крупным. Высокий, плотного телосложения, с едва обозначившимся брюшком, он на полголовы возвышался над самым длинным из экипажа – Вовкой Забегаевым. Широкая выпуклая грудь и развёрнутые покатые плечи выдавали незаурядную силу и потенциальные возможности офицера в тяжёлых видах спорта.
По моим наблюдениям грузные люди чаще всего бывают добрыми. Так оно и оказалось на самом деле. Неторопливый и несколько вальяжный, с дежурной улыбкой на широком лице, он знакомился с нами, выслушивая краткие данные из наших биографий.
Мы сидели в методическом городке, расположенном в паре сотнях метров от казармы. Городок окаймляла чугунная литая ограда, внутри которой в два ряда стояли типовые беседки с круглыми дощатыми столами и отполированными задницами не одного поколения курсантов скамейками. Центральная дорожка делила городок на две равные половины и заканчивалась бюстом прославленного лётчика-испытателя – выпускника нашего училища Здоровцева. По бокам аллеи через равные промежутки стояли цветочные вазоны, по случаю зимы переполненные снегом, но тоже красивыми, с ручной лепниной.
День был солнечным, лёгкий морозец пощипывал щёки и норовил забраться под шинельное сукно. Яловые сапоги и байковые портянки слабо помогали сохранить ноги в тепле, поэтому сначала их обворачивали газетами, а уж потом наворачивали байку. Этот опыт мы переняли у солдат-артиллеристов, когда участвовали в ноябрьском параде в Новосибирске.
Инструктору с необычной фамилией Сулима было много комфортней. Одетый в меховую куртку, такие же штаны и унты, он не замечал мороза, вёл неторопливую беседу и задавал уточняющие вопросы.
Наконец, допрос с пристрастием, по меткому выражению Женьки Девина, закончился, и мы с явным удовольствием вернулись под тёплые своды казармы, рассуждая о достоинствах инструктора.
На нас Сулима не произвёл сильного впечатления. Разве что габаритами. Его размеренная спокойная речь, неторопливые движения, блуждающая улыбка и дискантный голос не вписывались в образ лётчика – истребителя – напористого, нахального, агрессивного человека, сильного духом.Так, по меньшей мере, нам на первых порах показалось. Однако впоследствии мы были приятно удивлены, когда этот флегматик и увалень на земле, в воздухе превращался в настоящего разбойника.
По плану на изучение теории отводилось пять месяцев. Количество изучаемых дисциплин было где-то около пятидесяти. Однако это никого не пугало. Мы твёрдо знали, что одолеем и сотню – было бы приказано, поскольку приказы в армии выполняются точно, беспрекословно и в срок.
Из широкого круга изучаемых предметов самой увлекательной для всех была воздушно-стрелковая подготовка. Особенно её практическая часть. Мы усаживались в подвижное кресло, имитирующее кабину самолёта, с ручкой управления и каллиматорным прицелом и «стреляли» по движущимся на тонкой канатной подвеске целям. Кресло было неустойчивым, как яйцо на кончике иглы, и удержать цель в прицеле удавалось далеко не всем.
К сожалению, в соревнованиях на лучшего снайпера фамилия моя не входила даже в заветную десятку. В стрелковом тире намного проще. Твёрдо поставленная рука, целик, мушка и мишень,– вот и всё, что требовалось от меткого стрелка.
Преподаватель ВСП майор Грановский – сухощавый, подвижный, как ртуть, не в меру говорливый человек, среди нашей братвы пользовался доброй репутацией. К курсантам относился по-отечески, и мы доверяли ему, даже самое сокровенное, исповедуясь в грехах и в надежде получить искупление. Не было случая, чтобы информация, полученная от нас, использовалась майором кому-то во вред. А советы его помогали. Мудрых людей в авиации немало.
В первой половине дня занятия заканчивались, и после обеда наступала пора самостоятельной подготовки. Если вы думаете, что мы трудились над закреплением пройденного материала, то ошибаетесь. Нет, какую-то толику времени уделяли и этому, но в основном решали личные дела. Я, например, просматривал старую корреспонденцию и отвечал на письма. В последние месяцы наш диалог со Светланой заметно оживился, и она откровенно рассказывала о быте будущих зоологов, а я, терзаемый ревностью, пытался прочесть между строк о её романах, любовных интрижках и флиртах, без которых невозможно представить студенческую жизнь. Радовало только то, что количество отправленных мне писем было обратно пропорционально её настроению: чем хуже, тем чаще. Не поэтому ли она согласилась на мой приезд к ней в предстоящий отпуск? Девочка явно повзрослела и несомненно подумывает о замужестве. Смертельно отравленный ядом первой любви, я видел своё возвращение к жизни только в союзе с этой строптивой инквизиторшей.
Парадоксально, но факт: с детства я страдаю комплексом неполноценности. Мне всегда казалось, что люди, с которыми приходилось общаться, умнее, талантливей и красивее, чем я. Однако признаться в этом даже себе – не хватало духу.
Свой тайный порок я скрывал под грубостью и хамством. Но как только на пути попадалась красавица, я терял дар речи, смущался и робел, словно кролик перед удавом. Откуда мне было знать, что женщины, надевая на себя личину неприступности, мечтают быть завоёванными. Это уж потом я осознал нашу авиационную поговорку о том, что лётчик должен быть гладко выбрит, слегка пьян и немножко нахален. И на практике убедился, что чем длиннее на девушке платье, тем легче его снимать. Да простят в моём цинизме целомудренные девчата.
Согласие Светланы на встречу весной вызвало во мне бурю эмоций. Я чувствовал себя на седьмом небе, словно фанат – кладоискатель, нашедший, наконец, свои сокровища. Жаль только, что поделиться этой тайной было не с кем. Боясь быть обворованным, я её тщательно скрывал.
Приближались новогодние праздники. По команде замполита полка каждая эскадрилья должна была приготовить концерт художественной самодеятельности. За дело взялись и наши энтузиасты во главе с секретарём комсомольской организации Володькой Воробьёвым. Сам он прилично играл на гитаре, имел хорошо поставленный голос и пел задушевные песни на стихи Есенина.
Я вспомнил увлечения детства и предложил свои услуги по части художественного чтения. Вовка чуть не захлебнулся от восторга: желающих выступать со сцены катастрофически не хватало.
В поисках подходящего материала я перерыл всю полковую библиотеку и нашёл несколько репертуарных сборников для солдатской самодеятельности десятилетней давности. «В самый раз, – подумал я. – Нет ничего новее, чем древний, всеми забытый юмор».
В те времена блистал своим талантом Сергей Михалков, соавтор Гимна Советского Союза. Его басни воспринимались населением, как дерзкий вызов существующему беспорядку. Так, по крайней мере, казалось. На нём я и остановился, выбрав басню «Заяц во хмелю».
Воробьёв прослушал меня на репетиции и порекомендовал выучить ещё одну, «на бис».
– У тебя славно получается, – заверил он. – Мимики только многовато.
Навечно выучив текст, я стал репетировать, стоя в Ленинской комнате перед зеркалом. Следил за поведением тела во время чтения, особенно рук.
Вначале обезьяньи ужимки мне понравились, но вскоре понял, что со стороны выгляжу нелепо и глупо. Подобное исполнение, наверное, имело бы успех разве что в зоопарке перед приматами.
Конечно, образы персонажей должны были выглядеть рельефно, но правдиво, без излишнего гротеска. В конце концов, Вовка, прослушав меня в сотый раз, удовлетворённо кивнул головой:
– Ну вот, подходяще. Теперь понятно, кому вести программу.
На мои активные протесты новоиспечённый худрук возразил:
– Ты посмотри на себя внимательно: длинный, как Тарапунька, глупый, как чёрный клоун, и звонкий, как медная труба!
Не скажу, чтобы концерт удался на славу, однако непритязательная публика, изголодавшаяся по зрелищам, каждое выступление провожала бурными аплодисментами. Чуть поддатые по случаю Нового года, мы особенно старались блеснуть мастерством перед сидящими в зале девушками, приглашёнными на вечер. Я как мог, развлекал зрителей, заполняя паузы между номерами шутками, анекдотами и репризами.
После концерта официальные лица удалились на банкет, и молодёжь стала полноправной хозяйкой клубного зала.
Полковой оркестр без устали наигрывал современные мелодии, и мы вдохновенно и лихо кружились в вальсах с прекрасными и притягательными девушками. Густой, как сметана, воздух был пропитан дружелюбием, парфюмерией и любовью.
На «Риориту» я пригласил высокую и стройную, как тополёк, и грациозную, как газель, нашу официантку Зоечку. Безупречно сложенная, лёгкая и послушная в танце, она мило улыбалась, бросая на меня осторожные рысьи взгляды, и будто невзначай прижималась ко мне высокой грудью на резких поворотах. Эти её невинные уловки были так волнительны и призывны! Если бы не рыжая причёска и природные веснушки, если бы не длинный, как у аиста, нос с горбинкой и не тонкие губы, – быть бы мне в тенетах страстной любви. В этом плане парень я сговорчивый. Однако для меня первостепенным мерилом красоты являлось лицо. Расхожее мнение о том, что девушки оценивают кавалеров сверху вниз, а парни – снизу вверх я не разделял. Однако я обнимал за талию женщину, и её близость, запах, зовущий блеск каштановых глаз чрезвычайно возбуждали.
– Спасибо, Зоенька. Вы прекрасно танцуете, – проворковал я, подхватывая её под руку. – Куда изволите доставить? Где ваш поклонник?
– Ах, – скривила она ротик в ироничной улыбке, – какие нынче поклонники. Ухажёры – и те перевелись.
– Да что они – ослепли, не видеть такой красоты! Куда подевались мужчины из этого города? – притворно возмутился я, прижал её локоток и осторожно сжал запястье. – Позвольте, в таком случае, взять над вами шефство.
– Так сразу?
– Ну почему же… Мы с вами целых два месяца знакомы. Наверное, не так близко, но при желании этот недостаток можно исправить.
Зойкины веснушки заискрились, как звёзды в безлунную ночь. Ей, конечно, хотелось, но она осторожничала, а может быть и не желала марать новыми сомнительными отношениями своих искренних чувств к неизвестному возлюбленному. Такой, конечно, непременно у неё был.
К восемнадцати годам все мы становимся заложниками первой любви. А влюблённая девушка, что лошадь в шорах – никого, кроме своего кумира, вокруг не видит. И вы, пацаны, намотайте это себе на ус…
– Вот даже как, – ответила Зоя на мою двусмысленную тираду. – Давайте – ка отложим обсуждение этой темы «на потом».
– Не возражаю, – согласился я, отметив про себя, что отказа не получил, и, следовательно, в этом вопросе имею определённые позитивные перспективы.
Оркестр удалился на отдых, и местная комсомолия организовала новогодние аттракционы. Скакали в мешках, поедали на скорость яблоки, выуживали рыбу из аквариума.
– Минуточку, – сказал я своей партнёрше по танцам и тоже включился в игру.
Мне завязали глаза, сунули в руку ножницы и трижды провернули вокруг своей оси. Задача заключалась в том, чтобы срезать с натянутого шпагата какой-либо из призов, висящих на нитке. Мне или повезло, или затейник нарочно наложил повязку так, чтобы оставалась крохотная щелочка. Этого было достаточно, чтобы контролировать ситуацию. Поэтому прежде, чем срезать приз, я, демонстрируя полную слепоту, несколько раз покушался на носы и уши окружившей аттракцион живой стены. Толпа шарахалась, восторженно хохотала и наперебой давала советы.
Я выбрал самый большой приз и преподнёс добычу Зое. Девушка здесь же, слой за слоем, стала распаковывать подарок и к всеобщему ликованию показала соску-пустышку. Ничуть не смущаясь, она тут же сунула её в мой приоткрытый рот и весело сказала:
– Вам она – ну очень к лицу!
Вечер подходил к концу. Остались позади взаимные поздравления и пожелания по случаю Нового года, признания в вечной любви и дружбе, готовность к продолжению начатого диалога. Наступила пора расставаний. Перед тем, как отправиться в клуб, капитан Евсеев строго-настрого предупредил, чтобы через два часа после полуночи весь личный состав был в казарме, «как штык», и чтобы «без антимоний и выкрутасов», иначе… Обещались серьёзные кары.
За полчаса до «развода» до смерти уставшие ребята из оркестра собрали свои инструменты, и ушли с насиженных мест. Зал опустел, и только по углам отдельные парочки, торопясь, выясняли свои отношения.
Я проводил Зою до проходной, мы остановились и посмотрели друг на друга. Тусклый свет одинокой лампочки, сиротливо висевшей над контрольно-пропускным пунктом, матовый отблеск прозревшей луны и синие полутени на снегу сглаживали остроносое, скуластое лицо девчонки и делали его привлекательным. Самое время поцеловать, а вдруг обидится? Невзрачные девушки заметно капризнее красоток. В чём здесь секрет, понять трудно, но я полагаю, что это естественная защита от возможной бестактности. Гордость – вот оселок, на котором оттачивается девичья неприступность. Гордость, самолюбие и страх.
– Славно провели время, – заглянул я в Зойкины мерцающие глаза, решив не торопить события. – К сожалению, мне пора. Могу я рассчитывать и впредь на благорасположение?
– Посмотрим на ваше поведение, – игриво ответила она, освобождая руки из моих цепких лап.
– Лида, – окликнула она проходящую подругу, – подожди, я – с тобой. Ну, пока (это уже мне).
Девушка повернулась, и новогодний снежок прощально, как на скрипке, запел под её ногами.
…Кажется, я полностью вписался в учебный процесс, потому что у меня появилось свободное время. Кроме того, которое отводится по распорядку дня. Надо сказать, что оно меня не обрадовало. Хуже нет – искать пятый угол в казарме.
Нежданно для всех полк заразился игрой в шашки. Доски можно было встретить в самых неожиданных местах, даже в туалете. Моим постоянным противником выступал Володька Дружков. Самолюбивый и вспыльчивый, нахрапистый и задиристый, он весь светился, когда выигрывал, но в последнее время ему фатально не везло. Зато в баскетболе Вовка был на порядок выше. Когда мы выходили на площадку один на один, он работал со мной, как кошка с мышью.
– Как это у тебя получается? – постоянно задавал я ему банальный вопрос, и он, довольный собой, снисходительно бросал:
– Это тебе не шашки, здесь соображать надо.
Гена Буряк со второго звена, плотный, приземистый, похожий на гриб-боровик курсант, работал «с железом». Как-то и меня затащил в спортзал потаскать штангу. Но и с этим снарядом мы не поладили. Максимум, чего я достиг через два месяца тренировок, – толкнул восьмидесятикилограммовый вес. «Блины» на грифе расхохотались, насмешливо звякнули, и я навсегда распрощался с лошадиным спортом.
Зато с удовольствием подружился с лопингом. Кто не знает, так это обыкновенные качели, чем-то напоминающие аттракцион «лодки» в любом парке культуры и отдыха. Мне было лет пятнадцать, когда вместе с Витькой Черепановым на этой лодке мы сделали полный оборот к восторгу зевак и чуть было не угодили в милицейский участок за хулиганство.
Лопинг, конечно, совершенней, так как имеет две степени свободы и вращается в двух плоскостях – вертикальной и горизонтальной. Снаряд серьёзный, и без страховки работать на нём запрещалось. Для этого служили кожаные ремни, связывающие человека по рукам и ногам. Выпасть из этого стойла даже при потере сознания просто невозможно. Тем не менее, летом прошлого года один из курсантов оторвался от перекладины вместе с лопингом и при ударе о землю сломал позвоночник. Узел подвески не выдержал перегрузки и лопнул. На этом лётная карьера неудачника и завершилась.
С некоторых пор у меня появилась привычка доводить начатое дело до конца. Оно и правильно: результат, даже отрицательный, – тоже результат. С лопингом мы подружились, начальник физподготовки меня понял, и где-то через год я уже входил в тройку сильнейших спортсменов училища, работая на этом снаряде.
Другим увлечением стал батут – сетка, натянутая на амортизаторах. И хотя заметных успехов здесь я не достиг, координация движений улучшилась. Взлетая над батутом в воздух, я точно знал, в каком положении находится моё тело в пространстве. Кроме того, батут – прекрасное средство для развития вестибулярного аппарата…
Зима на Алтае суровая и длинная, как сто тысяч километров. Бури и вьюги здесь не в диковинку, а ураганные ветры выбрали Топчиху местом своего базирования. В такую погоду даже до столовой приходилось добираться по канату.
Однажды сильнейший смерч начисто снёс крыши казарм и повалил опорные столбы вместе с оградой в методическом городке.
Но были и дни тишайшие и пронзительно солнечные. Начальник физподготовки забирал их на откуп и устраивал лыжные соревнования. Пятикилометровая трасса проходила по сосновому лесу, но любоваться его красотами было некогда. Глупая, с моей точки зрения, беготня мне порядком надоела, и я стал халтурить, срезая маршрут или отсиживаясь в кустах, поджидая возвращения лидеров. Этих фанатов я пропускал, вливался в общую массу и благополучно получал заветный зачёт на финише.
Однако не зря говорят, что, сколько верёвочке не виться, а конец будет. Сторонников получить спортивный разряд по лыжам на халяву становилось всё больше, результаты на дистанции день ото дня катастрофически улучшались, и это не могло не заинтересовать физрука. Как-то он лично прошёлся по лыжне с контрольной проверкой, в результате которой я получил три наряда вне очереди на кухню.
Но нет, говорят, худа без добра. Улучшив момент, я предложил Зое задержаться на часок после работы. Она с готовностью согласилась. Не сомневаюсь, что эти пять недель после Новогоднего вечера она про меня думала. Заинтриговать девушку можно не только настойчивым вниманием, но и сдержанной неторопливостью. Что называется, заставить дозревать.
Как мы и договорились, встреча произошла в раздевалке. Она находилась за ширмой, а вход снаружи был закрыт на засов. Лучшего места для уединения в столовой не найти.
Она стояла у окна на фоне тёмно – синего лунного света, словно Афродита, выходящая из морской пены, и сразу же повернулась на звук моих шагов.
– Ну, здравствуй, моя сладкая, – ласково прошептал я, обнимая девушку за талию.
Наши лица сблизились, и в полумраке я увидел приоткрытые, готовые к поцелую губы. Сердце трепетно заколотилось, волна нежной легкости, как наркотик, пробежала от головы до ног, и я осторожно прикоснулся к её жаркому ротику.
Руки этого небесного создания сначала робко, а потом уже смелее обвились вокруг моей шеи, и мы слились в долгом сочном поцелуе. Будто не мои, ладони скользнули вдоль хрупкой спины девушки, остановились на бёдрах и стали собирать подол её платья в гармошку.
Сообразуясь с обстановкой, моё мужское достоинство поднялось и грозило оборвать все пуговицы на галифе. Горячее тело девушки плотно прилипло к моим чреслам, и мы молча, не переставая терзать губы, занялись лихорадочным приготовлением к любви. Она приспустила свои трусики, а я торопливо освобождал застоявшийся в стойле фал.
Через секунду мы слились, как два нашедших друг друга притока, я зарычал от восторга, а она издала долгий сладострастный стон. Откинув назад бюст и голову и жарко дыша, она неистово поддавала передком, накрепко вцепившись в мои напряжённо-каменные ягодицы. Девушка была на голову ниже меня, я стоял на полусогнутых, любить в такой позе – одно мучение. И тогда, повинуясь инстинкту, я приподнял её лёгкое тело и усадил на широкий подоконник. Дело пошло на лад, и я втолкнул свой пестик в пламенный цветок любви в полный рост.
Чтобы не умереть от наслаждения и перевести дух, я приостановил движения и почувствовал, как мощные сокращения её губ продолжают ласкать моего неукрощённого разбойника.
Через несколько лёгких движений она мелко затрепетала, и из глубин её груди вырвался вздох облегчения. В ту же секунду обжигающая жидкость фонтаном рванулась из моего сердца, орошая и цветок и кустарник, в котором он прятался.
Поспешно, будто боясь быть застигнутыми врасплох, мы привели себя в порядок, обнялись, и она произнесла, наконец, первые слова:
– Добрый вечер, любимый.
И засмеялась счастливо. Поостыв и успокоившись, мы поболтали о новостях, обговорили время и место будущего свидания и начали прощаться.
– А ты знаешь, я сначала подумала, что ты самодовольный гордец.
– А теперь?
– Просто ты настоящий парень.
…– Тебя только за смертью посылать, – выговорила мне повариха, когда я вернулся на кухню. – Где картошка?
Я молча поставил бачок, взял нож и принялся за чистку…
Из моей встречи с Зоей я сделал для себя некоторые выводы. Во – первых, несмотря на юный возраст, девушка успела потерять невинность. Это обстоятельство несколько разочаровывало, но и имело определённые преимущества. Во всяком случае, снимало моральную ответственность за последствия. Во-вторых, заниматься любовью стоя – головная боль. Неудобства, связанные с этим, отвлекали и не давали возможности получить стопроцентный кайф. В-третьих, несомненным достоинством партнёрши была страсть. К большинству молодых женщин это волшебное чувство приходит не сразу. Здесь многое зависит от обстоятельств. И хотя природа – мать наделила их мощным инстинктом к размножению и, подчиняясь ему, они отдаются без оглядки любому самцу, будь он красавчиком или уродом, дураком или умником, светлой или серой личностью, но непременным условием любви был и остаётся ритуал ухаживания. Временной период его непредсказуем и продолжается от нескольких минут до десятков лет. Однако одно непреложно: ни одна нормальная женщина в мире не устоит под напором оказываемых ей знаков внимания. И это надо бы поиметь в виду женатым мужчинам, самодовольно считающим, что свадьба – финиш, за которым кончаются шашни жён. На самом деле – это старт нескончаемому изнуряющему семейному марафону, где женщине и мужчине необходимы постоянная подпитка в ласке, внимании, комплиментах и твоей надёжности. Если, конечно, хочешь бежать с ней в одной упряжке.
И если она не получит этого в своём доме, то начнёт искать на стороне, потому что женщина без достойного к себе внимания просто не умеет жить. Старый воробей, я имею право на такие суждения, чтобы уберечь от возможных ошибок своего подрастающего сына. Надеюсь, буду услышан не только им.
Впрочем, глупости всё это, и потому с чистой совестью беру свои слова обратно…
Между тем из Главного штаба ВВС пришло распоряжение активизировать процесс обучения и начать вывозную программу в зимний период. В истории училища это было впервые. Интенсивность занятий по теории заметно возросла, и к середине февраля экзамены по двум десяткам ведущих дисциплин были сданы.
В течение последнего месяца с капитаном Сулимой мы встречались ежедневно. Он стал требователен, строг и придирчив. Под его руководством мы почти наизусть выучили инструкцию по эксплуатации и технике пилотирования УТИ– МиГ-15, назубок знали действия в особых случаях в полёте, с закрытыми глазами определяли месторасположение любого прибора, тумблёра или переключателя в кабине.
После празднования годовщины Вооружённых Сил нас посадили в учебно-тренировочные машины, и мы впервые приступили к рулению по аэродрому.
Взлётно-посадочная полоса и все прилегающие к ней рулёжные дорожки были покрыты чёрно-ржавыми железными плитами, сплетёнными между собой, как пальцы рук. Железку содержали в идеальной чистоте. Кроме специальной техники, на её уборку выходил весь переменный состав полка, в особенности курсанты. Работа была не в тягость, поскольку мы понимали, что всякий предмет, засосанный турбиной, мог стать причиной отказа двигателя.
Переплетённый двумя рядами привязных ремней, в застёгнутом шлемофоне и с ларингофонами на шее, я удобно сидел на парашюте, утопленном в чаше сиденья, и выполнял много раз проигранные на земле действия по запуску и прогреву двигателя. Мощный рёв турбины проникал через плотно закрытый фонарь в загерметизированную кабину, но голос Сулимы чётко прослушивался по переговорному устройству.
Закончив пробу двигателя и запросив разрешение у руководителя полётов на выруливание, я развёл руки в стороны, и, повинуясь этому приказу, техник выдернул из-под шасси, выкрашенные в красный цвет стояночные колодки.
Я плавно подал сектор газа вперёд и неторопливо двинулся по предписанному маршруту. Отдаваемые ногами и руками команды самолёт выполнял безупречно. Мы быстро пробежали вдоль взлётной полосы и свернули на рулёжку.
Несмотря на рёв турбины, снаружи отчётливо прослушивался лязг железа. Говорили, между прочим, что был случай, когда на посадке у самолёта подломилась передняя стойка. Самолёт вспорол носом уложенные плиты, нырнул под них, и экипаж сгорел заживо. Что и говорить, страшная и нелепая смерть. Но ещё страшнее – видеть, как погибают товарищи на твоих глазах и ты не можешь ничем помочь.
В третьем заходе по полосе мы разогнались почти до скорости взлёта, но в последний момент Сулима убрал обороты, и я зарулил на стоянку.
– Неплохо, – подвёл итоги моей работы инструктор. – Движения немного резковаты, но это явление временное. Зови сюда Забегаева…
Пройдёт ещё сто лет, но очарование первого вывозного на реактивном самолёте никогда не изгладится. Усаживаясь в кабину УТИ, я весь горел, как в лихорадке, но старался показаться невозмутимым. Однако блуждающая глупая улыбка, ненужная суетливость и поспешность выдавали моё состояние. Техник самолёта, стоя на стремянке, прислонённой к борту кабины, заботливо помог справиться с привязными ремнями, помог закрыть кабину, широко улыбнулся, показал большой палец и исчез внизу.
– Как настроение, – поинтересовался Сулима из задней кабины и пошутил: – Нигде не жмёт?
– Всё нормально, – бодро ответил я, окидывая взглядом приборную доску.
–Тогда запрашивай разрешение на выруливание.
На линии исполнительного старта инструктор посоветовал:
– Расслабься и делай так, как учили. Велосипед нам не нужен.
– Понял, – коротко ответил я, раздумывая, причём здесь велосипед, и запросил у руководителя полётов разрешение на взлёт.
– Разрешаю, триста двенадцатый! – получил я «добро» и вывел обороты на максимальный режим.
Через несколько секунд турбина запела на две октавы выше, под действием сотен лошадиных сил нос самолёта просел, словно тигр перед прыжком,, и я плавно отпустил гашетку тормозов. Разбег начался.
Белая осевая линия вдоль взлётной полосы помогала удерживать направление, но я за ней следил всего несколько секунд, истребитель уже набрал скорость отрыва. Об этом я догадался по лёгкому давлению ручки на себя. В то же мгновение толчки и лязг железки прекратились, самолёт был в воздухе.
Я сбавил газ и перевёл машину в набор высоты.
– Шасси, – подсказал по СПУ инструктор.
Не глядя на приборную доску, перевёл рычаг управления вверх, проконтролировал загорание красных лампочек и поставил его в нейтральное положение. Но пока занимался этим немудрёным делом, прозевал начало первого разворота.
Шум от турбины почти прекратился. Лишь тонкий её мотив напоминал, что она на месте и исправно трудится.
– Второй разворот, горизонт, – напомнили мне из задней кабины о моих дальнейших действиях.
– Понял, выполняю, – с досадой огрызнулся я, понимая, что испытываю дефицит времени.
От второго до третьего разворота было не меньше двух минут, и я успел оглядеться и сориентироваться относительно взлётно-посадочной полосы. Высотомер показывал четырехсотметровую отметку, и весь военный городок и прилегающие к нему окрестности смотрелись, как на ладони. Однако было не до этого. Впереди маячил третий разворот, от точности выполнения которого зависел расчёт на посадку.
– Посмотри влево вниз, – подал голос инструктор. – Видишь два длинных здания? Как только накроешь их носом, выполняй разворот.
– Понял, – ответил я и переключился на внешнюю связь:
– 312 – на третьем. Разрешите посадку.
– Шасси, – снова напомнил мне Сулима и предупредил: – Не упусти момент начала четвёртого разворота, мы его вместе сделаем.
Выполняя мои команды, машина безупречно слушалась рулей. Не было впереди привычного пропеллера, и казалось, что самолёт не летит, а мягко скользит в атмосфере, словно кухонный нож в масле.
Сулима помалкивал. Это могло означать только одно: с четвёртым разворотом мы разделались неплохо. Прямо передо мной лежала тёмно – коричневая узкая посадочная полоса в снеговой оправе. Мелькнула и осталась позади ближняя приводная радиостанция.
– Вот точка выравнивания, – направил инструктор нос истребителя на начало полосы, – запомни.
Не беспокойся, шеф, запомню. Чего-чего, а зрительной памяти мне не занимать.
Земля распахивала свои объятья, словно хозяин, идущий навстречу дорогому гостю. Однако, как женщина, грубых прикосновений к себе она не терпела. «Земля – она круглая. Она всех примет», – припомнилась мне присказка майора Чивкина, нашего замкомэска из аэроклуба, когда он рассказывал об особенностях выполнения посадки. Это верно, она примет. Только каждого по-разному.
Сулима прибрал обороты турбины, изменил траекторию полёта, и мы понеслись параллельно подстилаемой поверхности, с каждой секундой теряя скорость.
– Подбирай ручку… так… ещё, – подсказывал он по мере приближения к железке. – Вот так, – с удовлетворением проговорил учитель, когда из-под шасси раздался жёсткий металлический перезвон плит.
– Не опускай нос самолёта, он сам это сделает. И не передирай ручку…
– Ну что, мои дорогие, – подытожил нашу работу Сулима на разборе полётов, – будем считать, что все летали неплохо. Однако у каждого проявляется типичная ошибка – нет должного распределения внимания. Отсюда – дефицит времени. Так что делайте выводы…
Полёты начали проводить каждый день. Не знаю, по каким соображениям, но начальству требовалось во что бы то ни стало добиться, чтобы наш поток начал летать самостоятельно зимой. И хотя март месяц по календарю относится к началу весны, на Алтае ей пока и не пахло. Снег надёжно покрывал промёрзшую до костей землю, и робкие попытки солнца с ним справиться успеха не имели.
Я настолько увлёкся полётами, что совершенно забыл о плотских развлечениях. С Зоей мы виделись только в столовой во время приёма пищи. Ко всему прочему, плотный распорядок дня и бдительность отцов – командиров исключали возможность самовольных отлучек. Нет, при желании смотаться куда – либо на пару часов не составляло труда, курсант – животное смышлёное и умеет адаптироваться к любым условиям, но не хотелось рисковать. В противном случае любого нарушителя ожидала жестокая кара, вплоть до отстранения от полётов.
Да и должность обязывала: меня назначили старшиной экипажа. В связи с этим я надеялся, что мне присвоят сержантское звание, как и всем. Очень уж хотелось показаться Светке с лычками на погонах. Но по каким – то причинам из всех старшин в полку я был единственным рядовым. Втайне я обижался, но у меня хватило ума, чтобы не высказывать своего недовольства вслух.
Наш экипаж волею судьбы состоял из пяти человек. Двое из них были моими земляками. Вечно чем – то напуганный и со всем согласный Вовка Забегаев, и Женя Девин из Копейска – спокойный, обстоятельный и не по возрасту рассудительный малыш. Гена Чирков, выходец из потомственных сибиряков, уроженец города Новосибирска, относился к числу мечтателей и фантазёров. Он страдал коньюктивитом, и его огромные зелёные глаза вечно слезились и воспалялись, особенно при резкой смене температур. Его любили за простоту, сердечную отзывчивость и верность слову.
Что касается Варнавского, то этот был зациклен на строительстве и запуске миниракет, одна из которых в прошлом году взлетела в высоту метров на сто. Он постоянно что – то пилил, строгал, полировал и клеил и первым выточил из плексигласа модель нашего самолёта.
Сломанные часы весь полк чинил у Варнавского.
На двадцать первом вывозным полётом Сулима, пряча довольную улыбку, сказал:
– Ну, хватит зря керосин жечь, готовься к самостоятельному вылету.
Это означало только одно: завтра я выполняю контрольные полёты с командиром звена капитаном Рудковским, а потом – при хорошем раскладе – с командиром полка или его заместителем на предмет определения готовности летать на боевом самолёте.
Гордость и тщеславие переполняло моё сердце. Ещё бы – только троим из полка выпала честь открыть дорогу в небо всему курсантскому набору.
Наутро, внешне невозмутимый, а внутренне натянутый, как тетива, я успешно слетал с командиром звена, получил «добро», вместо Рудковского сзади устроился подполковник Паршин, заместитель командира полка по лётной подготовке, и весело приказал по СПУ:
– Давай, сынок, трогай потихонечку.
Два контрольных полёта по кругу я выполнил без сучка и задоринки. Паршин не произнёс ни одного слова, и только на заправочной стоянке, на земле, коротко оценил мои действия:
– Молодец! Так и летай.
Вкус первого самостоятельного полёта на боевом реактивном самолёте «МиГ – 15 бис» передать практически невозможно. Одна только мысль о том, что в руках у тебя самая современная, густо напичканная электроникой и боевым оружием техника, переполняла сундук моих эмоций. Адреналин мощными порциями вливался в кровь и грозился выплеснуться через край. Я рулил по земле, но чувствовал себя на седьмом небе. Это тебе не прыжок с парашютом и не оргазм во время любовных потех, это – ощущение власти над миром!
Я находился в кабине боевого МиГа, в которой несколько лет назад сидел Герой Советского Союза Здоровцев, и широко улыбался всему свету и людям, меня провожающим. Со стороны, наверное, это выглядело глупо, но я ничего не мог с собой поделать. Самолёт в моём полном распоряжении, подчинялся моей воле, моим командам. Он был составляющей моего организма, неотъемлемой частью моего тела, как рука или нога. Я чувствовал себя независимым, и только команды руководителя полётов были выше власти, которой я обладал.
На стоянке меня встретили, словно я с войны вернулся. Поздравляли все: и командиры, и техники и друзья. В « Боевом листке», выпущенном по такому случаю, доморощенные художники изобразили меня ковбоем, оседлавшим фюзеляж объезженного истребителя. Этот пожелтевший от времени листок до сих пор хранится в моём личном архиве, напоминая о том, что и мы когда-то были рысаками.
Секс и полёты сродни друг другу. И в том, и в другом случае тебе приходится кувыркаться. Обстановка только и состав команд разные. Если в постели ты находишься в паре, то в небе выписываешь пируэты один. Но и в одиночестве получаемое наслаждение в атмосфере ничуть не меньше. И всё же я больше склонен думать, что высший пилотаж в кровати предпочтительней…
Последний раз мы виделись с Зоей в канун женского праздника. Небольшая прогулка по территории военного городка мне совершенно не понравилась. Светиться с девушкой, которую все знают, как облупленную, – удовольствие ниже среднего. Поэтому я нашёл какой-то повод, чтобы по – быстренькому расстаться. Но она успела взять с меня слово, что на день её рождения я обязательно приду. Откуда мне было знать, что финал этой встречи будет более, чем скверным.
В последнюю апрельскую субботу я с трудом раздобыл герань в горшочке (пижон, я не мог явиться к девушке без цветов), флакончик популярных в то время духов «Ландыш серебристый» и к вечеру явился к девушке по указанному адресу.
Зоя встретила меня с неподдельной радостью. Широкая открытая улыбка, немного косметики и сияющая физиономия делали ей вполне привлекательной. И даже длинный нос с небольшой горбинкой, как Эверест, поднимающийся из россыпи веснушек, показалась мне не столь уж высокой.
Мы мило расцеловались в щёчки, я вручил подарки, и именинница познакомила меня со своими друзьями. Подружки, как это водится, выглядели намного симпатичнее Зои, и парни, мирно курившие у окна, были ничего. После коротких представлений все дружно уселись за празднично накрытый стол и произнесли здравицу в честь виновницы торжества. Вначале я хотел было отказаться от спиртного, но дьявольский голос осудил это решение, мотивируя тем, что не выпить бокал шампанского по такому случаю просто невежливо. Девушки потянулись за конфетами, а парень, как потом оказалось, уже пятый год служивший в лесничестве, быстро свернул белую головку водочной бутылки, широко улыбнулся и подмигнул:
– Под дичь! Кстати, анекдот, – сказал он, разливая водку по стаканам. – Заходит в буфет мужик, спрашивает, водка есть? А как же, отвечает буфетчица. Тогда налей одиннадцать стопарей, говорит. Ну, та налила, мужик махом выпил со второй по десятую стопки, расплатился за все и пошёл на выход.
– А что же крайние – то оставил, – любопытствует ему вслед буфетчица.
– Будто не знаешь, – отвечает мужик. – Первая всегда идёт колом, а последняя – лишняя…
Все рассмеялись, а я подумал, что камешек, конечно, в мой огород. Дурачок, он ещё не знает, как умеют пить лётчики. Тем более, за мной тост. Поднявшись из-за стола, я сердечно поздравил именинницу и под одобрительные возгласы одним махом проглотил обжигающую жидкость.
Разговор оживился, застучали ножи и вилки, расправляясь с красиво оформленными блюдами. Продукты, наверное, из лётной столовой. Копчёная колбаса – это уж точно, поскольку в Топчихинском сельпо и варёной – то не водилось. Господи, какие мелочи лезут в голову.
За окном смеркалось, но света не включали. Зоя зажгла высокую свечу, установила её в центре стола и завела проигрыватель. И вся обстановка приобрела вдруг какой-то особый, романтический шарм. Тени танцующих пар скользили по стенам, ребята всё плотнее прижимались к девушкам, нашептывая что-то, отчего они поощрительно смеялись и в смущении опускали глаза. Я кожей чувствовал, как воздух насыщается желанием и страстью.
Алкоголь притупил во мне врождённую осторожность. Весёлое настроение, не покидавшее меня весь вечер, сменилось тревожной озабоченностью, когда я, обуреваемый нехорошими предчувствиями, под сильными порывами сырого ветра спешил в казарменную обитель, боясь опоздать на вечернюю проверку.
Однако и марш-бросок не помог. И по закону мерзавности я напоролся на замкомандира по строевой. Будь на моём месте кто-то другой – этого бы не произошло.
Капитан бесцеремонно рассматривал меня в упор и, словно миноискателем, водил носом из стороны в сторону.
– Опоздал? – зловещим, ничего хорошего не предвещающим голосом полюбопытствовал он, осматривая меня с головы до ног.
– Задержался, товарищ капитан, – сделал я виноватое лицо.
– Задерживается начальство, – откровенно принюхиваясь, потянул он воздух, – а ты опоздал. Это первое. А второе – да ты дыши, дыши, – явился в нетрезвом состоянии. И запах чеснока меня с панталыку не собьёт. Так что вкупе – трое суток ареста ! Яволь?
– Так точно, трое суток, – упавшим голосом повторил я и подумал: «Ну, теперь начнётся».
Как в старом трофейном фильме «Железная маска», дверь за моей спиной зловеще захлопнулась, сухо звякнула щеколда, и я оказался в серой бетонной коробке. Над дверью тускло светила запылённая лампочка, выхватывая из полумрака нары, тумбочку и обшарпанную пару табуретов. Всё путём, ничего лишнего, как в настоящей тюрьме. Впрочем, кто её знает, какая там обстановка.
На душе было гадко и тревожно. Ну, на хрена мне перед самым уходом захотелось перепихнуться с Зойкой! Не случись этого – лежал бы себе сейчас в своей кровати и в ус не дул. И теперь, как ни крути, со всех сторон – круглый дурак! Тьфу!
Было уже за полночь, но с нижних нар поднялся обросший, заспанный солдат без поясного ремня и криво поприветствовал:
– О, кого мы видим – ваше благородие в гости пожаловали. За какие грехи?
Отвечать не хотелось, и я недовольно буркнул:
– День рождения отмечал.
– А не врёшь? По морде что – то не видно.
– Нынче по запаху заметают.
– А-а-а… Ну давай спать, скоро подъём, – и арестованный повернулся лицом к стене, потеряв ко мне всякий интерес.
Я улёгся поверх байкового одеяла, но беспокойные мысли долго не давали заснуть…
Нас подняла с постелей требовательная, громкая команда и скрип открываемой камеры:
– Подъём!
Сладко потянувшись, сосед окинул меня оценивающим взглядом и прокричал в сторону двери:
– Выводной! Своди поссать, родной!
– Покукарекай у меня, – равнодушно и многообещающе раздался голос по ту сторону камеры. – Сворачивай постели!
После скудного завтрака нам выдали бушлаты, ремни, вручили шанцевый инструмент и отправили чистить от наледи пешеходные дорожки.
Меня узнавали прохожие, пытались заговорить, но часовой с карабином за спиной пресекал всякое общение с посторонними. Я отворачивался от знакомых, мне было до боли стыдно за то, что именно меня изолировали от общества, которому я стал неуместен.
– Ты на «губе» первый раз, что ли? – поинтересовался мой спутник по несчастью после обеда.
– Ну?
– Тогда тебе для прописки полагается присяга.
– То есть?
– Примешь двенадцать ударов ложкой по заднице.
Я мгновенно вспылил, схватил сокамерника за грудки, рванул на себя и зловеще прошептал сквозь зубы:
– Сейчас я тебе такую присягу устрою – родную маму забудешь!
– Ну ладно, ладно, – растерялся солдат, отступая, – и пошутить нельзя. Вас, кадетов, не поймёшь: нервные все какие-то…
До конца отсидки разговоров на эту тему не возникало. И только расставаясь, Васёк ( так его звали) с сожалением сказал:
– Жаль, курсант, что не попал в общую камеру: там бы тебе живо весь гонор обломали.
Гауптвахта, если её воспринимать всерьёз, вполне богоугодное заведение. Предназначена она для морально – психологического давления на личность. Конечно, её обитатели испытывают определённый дискомфорт в армейской жизни, но человек – не скотина, к новой обстановке адаптируется быстро.
Живёт гауптвахта по своим законам, где львиная доля времени отводится физическому труду. Короткий перерыв на приём пищи – и снова за лопату: бери больше – кидай дальше.
Мощным фактором подавления личности на «губе» является вооружённая охрана. Но если представить, что тебя караулят, спасая от покушения, то жить можно. Не всякому предоставляется такая честь. Фактически гауптвахта – та же тюрьма, только военная. Шаг влево, шаг вправо – это побег, стреляем без предупреждения. И отсидка на ней – цветочки, а ягодки были впереди, когда я вышел «на волю» и попал в жернова общественного и командирского воспитания. На комсомольском собрании на меня навесили всех собак, включая такие банальные и приевшиеся термины, как «зазнался», что «свои интересы дороже общественных», «не дорожит званием курсанта» и даже «подрывает боеготовность Вооружённых Сил».
В итоге этой ритуальной тягомотины я получил «строгача», а потом за душеспасительные беседы взялись все, кому не лень. Вплоть до командира полка. Даже сержант Марьин, старшина эскадрильи, поскольку был членом КПСС, человек сволочной и продажный, и которому мы не раз ссали в сапоги после отбоя, и тот пытался заговорить со мной на избранную тему, но получив решительный отлуп, исчез с моего горизонта.
Из всей этой неприятной заварухи я сделал однозначный вывод: пить нехорошо, но ещё хуже попадаться. Единственным человеком, перед которым я действительно считал себя виновным, был инструктор капитан Сулима. Однако в отличие от других проступок мой он проигнорировал и даже не снял с должности старшины экипажа.
Неделю меня замачивали, стирали и полоскали, и когда посчитали, что очистили достаточно, накрахмалили, высушили и допустили к полётам. Странно, но отрабатывая чистоту техники пилотирования в зоне, я почему – то ни разу не вспоминал о «строгаче», свинья неблагодарная.
Наша размеренная, устоявшаяся жизнь была нарушена известием о приезде портных из алтайской столицы. Каждого из курсантов приглашали в гарнизонное пошивочное ателье, и юркий и говорливый толстячок, шутя и каламбуря, с удовольствием обмерял наши фигуры видавшим виды стареньким сантиметром. Фирма, которую он представлял, получила заказ на пошив ста пятидесяти комплектов офицерского обмундирования, в том числе и парадного. Жаль, конечно, что два года назад отменили ношение кортиков. С холодным оружием на бедре я выглядел бы перед Светкой в более выгодном свете, простите за тавтологию.
Но дело было не в этом. Каждому стало ясно, что на горизонте замаячил финиш нашей затянувшейся учёбы.
Время, однако, любит преподносить нам сюрпризы и неожиданности. Мы уже потирали руки в предвкушении долгожданного выпускного бала, с удовольствием ходили на примерки и приступили к сдаче государственных экзаменов, когда, как гром с ясного неба, пришло известие о приказе Главкома ВВС о продлении срока обучения ещё на один год. В это никому не хотелось верить, но нас построили на плацу и зачитали его перед личным составом. Мы были в шоке, а командование в растерянности, поскольку следовало перекраивать учебную программу заново.
В учебных полках среди курсантов началось брожение. Недовольные всё громче высказывали мысль, что это провокация, если не бесстыдный обман, игнорируя предписание уставов о том, что приказы не обсуждаются, а выполняются беспрекословно.
Чтобы как-то притушить явное неповиновение, со стороны начальства поступило два альтернативных предложения. Каждый имел право решить: или он остаётся ещё на один год в училище, или пишет рапорт об увольнении в запас с присвоением офицерского звания, получением обмундирования и выходного пособия в размере двухмесячного оклада.
Последних набралось человек десять, и через три дня мы с сожалением и завистью провожали наших бывших товарищей. Никто из нас не знал, как сложатся наши судьбы, и Горяинов, среднего роста крепыш с пронзительным взглядом, которого я уважал за любовь к Есенину и рассудительность, обронил не по годам ёмкую фразу:
– Каждый – кузнец своему счастью. Бегут, как крысы с тонущего корабля.
Полёты временно прекратили. Пока командиры ломали головы, как реорганизовать учебный процесс, курсанты не у дел болтались, убивая время по своему усмотрению. Мы доигрывали с Вовкой Дружковым тысячную, наверное, партию в шашки, когда в Ленинскую комнату влетел Алик Стриков, размахивая свежим номером окружной газеты «Советский воин».
– Эй, чувак, не твою ли статью напечатали? Или это твой однофамилец? Вот, смотри, – указал он на крохотную, в двадцать строк заметку.
В информации, которую я отослал от нечего делать месяца полтора назад и про которую уже успел забыть, сообщалось, что в училище впервые курсанты начали летать самостоятельно в зимних условиях. Назывались и фамилии.
Газета пошла по рукам, и весть, что в эскадрилье появился доморощенный «писатель», быстро облетела все слои населения. В считанные минуты я стал популярен, словно счастливец, выигравший автомобиль по лотерейному билету. Меня одобрительно похлопывали по плечу, награждали репликами типа «ну, ты, старик, даёшь» и недоумевали, полагая, что такого быть не может, потому что не может быть никогда.
Чувства, охватившие меня, были сродни тем, которые я испытал после первого прыжка с парашютом. Восторг и гордость приятно щекотали моё тщеславие, и я упивался от неожиданно свалившейся на меня удачей. Сразу же захотелось сесть за стол и сотворить что-то весомое и необычно интересное. Но чтобы «сохранить лицо», как говаривают японцы, я надвинул на себя маску этакого безразличия, и снисходительно улыбаясь, беззастенчиво врал, когда отвечал, что вот, мол, написал, отослал и опубликовали.
На самом деле было не так. Перед этим я трижды посылал в редакцию материалы, посвящённые курсантской жизни, на каждый из которых приходили убийственные аннотации. Но в конце каждой выражалась надежда на дальнейшее сотрудничество и пожелания работать над собой. Уже тогда, получая от почтальона фирменные конверты, я ловил на себе заинтересованные взгляды моих однокашников и выслушивал любопытные вопросы. Приходилось врать, объясняя, что хотел получить ответы по семейным проблемам. Почему-то это наивное объяснение удовлетворяло друзей и знакомых.
Если говорить всерьёз, то в моём представлении всякая печатная продукция рисовалась виртуальным миром, вторгаться в который позволено только Богом помеченных. Куда уж мне, со свиным – то рылом, да в калашный ряд! Однако этот непознанный мир обладал такой притягательной силой, не прикоснуться к которому было просто невозможно. Хотя бы с краешка, хотя бы мизинчиком, ноготком. Не зря говорят, что чем строже запрет, тем соблазнительней.
Воодушевлённый первой публикацией, на самой высокой оптимистической ноте, я в тот же день написал о нашей не в меру затянувшейся учёбе в полной уверенности, что информация заинтересует редакцию. Ждать ответа пришлось долго. Только через месяц мой куратор сообщил, что решать поднятую проблему газета не компетентна и что было бы гораздо интереснее для читателя узнать о динамике курсантской жизни, подтверждённой конкретными примерами, фактами и фамилиями.
Я был разочарован, но понял, что редакция избегает конфликтных ситуаций, а повзрослев, догадался – почему. Дело в том, что любой печатный армейский орган субсидировался Министерством Обороны и не мог выступать по большому счёту против проводимой им политики, не рискуя потерять дотацию. Говоря языком простым, каждому из военных журналистов хотелось кушать. Это естественное желание я полностью с ними разделял. Почувствовав дразнящий запах первого гонорара, я обрушил на редакцию столько «воды», что её бы хватило на конкуренцию с Ниагарским водопадом. Писал каждый день по две-три заметки и отправлял их в твёрдой уверенности, что создал шедевры. Темы выбирал спонтанно, уже тогда сообразив, что газета – ненасытный монстр, готовый проглотить любую предложенную пищу. Лишь бы была по вкусу. Ко всему прочему, я заметил одну характерную деталь: в заметках, подписанных моим именем, сохранялась только фактура, а содержание – порой и автор не узнавал. Опасаясь рассердить моего далёкого доброжелателя, я мирился с дикой правкой моих материалов, вынужденный, справедливости ради, признаться, что на страницах газеты выглядели они явно привлекательней оригиналов. Каждую заметку и информацию я аккуратно вырезал, подписывал на полях время публикации и помещал в специально приобретённую для этого папку.
…В конце мая месяца, сияющий, как только что вышедшая с Монетного двора копейка, гладко выбритый и свежо пахнущий, я предстал перед родными по случаю очередного отпуска. Юрка, опередив взрослых, прилип к курсантской шинели, мать в растерянности опустила руки, а отец, отстранив поскрёбыша в сторону, прижал к груди и троекратно расцеловал по русскому обычаю. За обедом я вкратце обрисовал сложившуюся ситуацию, словно ученик, оставленный на второй год за неуспеваемость, и пообещал, что будущей осенью непременно вернусь в офицерских погонах.
За время моего отсутствия изменилось мало чего. Друзья продолжали работать на прежних местах, незамужних знакомых девчонок поубавилось, но на смену им уже пришли «промокашки» и требовали к себе внимания. У всех на устах вертелась тема о сносе проклятых бараков и постройкой на их месте многоэтажных, со всеми удобствами, домов. Об этом мне рассказал Толя Григоров. Он, наконец, женился, влюблённый по уши в Элечку, – сногсшибательной красоты женщину с антрацитовыми глазами. Устоять против обворожительной улыбки её было невозможно. От первого брака у неё остался ребёнок, но это пустяки против обоюдной нежности. Они, я в этом был уверен, были безмерно счастливы и не желали делиться им с барачными соседями.
– Показался, наконец, свет в конце тоннеля, стою в очереди на квартиру в новом доме, – сказал Толик, потягивая за дружеским столом разливное пиво.
– Ишь, размечтался, – чуть заикаясь, усмехнулся со скепсисом в голосе его старший брат Федя. – А если свет от встречного поезда?
– Что ж нам, – всю жизнь в халупах тесниться?
– Богу – Богово, а кесарю – кесарево, – отхлебнул Федя пива из гранёного стакана, – в ближайшую пятилетку и не думай об этом.
Возражать никто не стал, и разговор перешёл на женскую тематику. Зинка, сестра моих друзей, сидела рядом, подкладывала мне лакомые кусочки и всё повторяла, какой я стал большой и здоровый. От её крепкого, налитого тела исходил едва уловимый запах желания, те самые флюиды, которые собирают вокруг самки своры кобелей. Налитые до бесстыдства половинки дынь грозились разорвать её тонкую батистовую кофточку, а глаза, глядя на меня, источали явный призыв к сближению.
«Семнадцать лет, а грудь – как колокол, – пришла мне на ум где-то услышанная фраза. – Интересно, с кем она в постели кувыркается? Прижать бы её в укромном месте, созрела, созре-ела девочка, да как-то перед друзьями неудобно: как ни как, а родными братьями ей доводятся».
Перед рассветом, когда комнату переполнил глубокий сон, я благополучно сполз с дивана на пол, где спала Зинка, и был встречен жадными и жаркими губами. Мы проявляли верх осторожности, боясь привлечь к себе внимание, и это была настоящая сексуальная пытка.
Поздним утром, прокручивая в голове ночное происшествие, я пришёл в ужас от тех возможных последствий, которые могли быть и которых я избежал по чистой случайности.
Дружелюбие братьев не изменилось, я постепенно успокоился и понял, что никто нашу возню не слышал. Или не хотел услышать?
– Как поживают твои подруги, – поинтересовался я у Зинаиды за завтраком.
– Ты имеешь в виду Дашку, конечно, – поджала она опухшие от поцелуев губы. – Наверное, хорошо, хотя медовый месяц у неё давно прошёл.
Вот как, моя симпатия успела выскочить замуж. А почему бы и нет? Разве мы несём перед собой какую-то ответственность за случайные связи? Ну, понравились, поимели друг друга, но то, что ты переспал с женщиной, ещё не говорит о том, что ты имеешь на неё какое – то право. От спонтанного каприза до чувства сильного – дистанция приличного размера. Нет ничего обременительней, чем быть рабом своих привязанностей. Особенно когда ты молод.
Да и Дашка, похоже, не имела ко мне претензий.
После долгой разлуки нам всегда кажется, что и года не хватит, чтобы рассказать обо всём, что произошло за это время. Однако и трёх дней не прошло, как всё серьёзное было высказано, а местные новости выслушаны. Все знакомые девчонки повыскакивали замуж, даже Воронина, когда – то влюблённая в меня по уши и пролившая не одно ведро слёз из-за моего явного к ней равнодушия. Галька – так себе деваха, но меня всегда возбуждал её бюст. Высокие, как пирамиды, и упругие, как мячи, они нахально рвались наружу из – под её тесной кофточки, смущая неискушённых в любви пацанов и заставляя трепетать даже закаленные в грешных утехах сердца. Мне доводилось провожать её пару раз до дома, и пальцы ещё помнили сладостные прикосновения к нежным девичьим соскам. Она трепетала под ласками, почти теряла рассудок от вожделения, страстно прижималась и жадно втягивала в рот мои губы, но не отдавалась, блюдя девичью честь и непорочность. «Не думай и не мысли – не дам! Вот женимся, тогда хоть ложкой хлебай», – говорила Галька своим поведением, напрочь отметая попытки залезть под её платье. Сказывалось воспитание родителей – старообрядцев. А что – нормальная кандидатка в жёны, мне лично такие нравились.
Совсем недавно я случайно встретился с ней на фуршете, – дородную, сытую, довольную всем женщину, окружённую всеобщим вниманием и сыновьями – разбойниками. Мы перекинулись несколькими фразами, обоюдно приятными и достаточно двусмысленными. Из этого короткого, но ёмкого разговора я понял главное: никогда в жизни она не изменяла. Ну, просто копия Пушкинской Татьяны.
Вечером я объявил родителям, что собираюсь нанести визит вежливости Светлане. Мать не была в восторге от моего решения и безуспешно пыталась отговорить. Отец добродушно обронил «как знаешь, сын», а братишка недовольно промолчал.
Накануне отъезда я решил прогуляться по КБСу, неожиданно для себя заглянул по пути в свою бывшую семилетку и встретил (надо же!) учительницу Галину Ивановну, талантливо отлучившую меня от математики, как еретика от церкви. Было приятно видеть, как она растерянно улыбалась, глядя на мою ладно подогнанную курсантскую форму, и её разочарованный лепет на счёт моих достоинств я перевёл с языка этой двуликой гражданки как фразу «а почему ты не в тюрьме».
От этой незапланированной встречи настроение моё совершенно испортилось, и чтобы освободиться от стресса, я уселся в зрительном зале Дворца культуры для просмотра одной из бесконечных серий всеми любимого трофейного фильма «Тарзан».
Рядом, по левую руку, расположилось прелестное создание – жгучая брюнетка с пухлыми губками и привлекательными ямочками на пунцовых щёчках. Она любопытно брызнула на меня коричневым взглядом и грудным мелодичным голосом отпустила в мой адрес короткую реплику:
– Боже, какие соседи!
В ответ я показал ей все тридцать два зуба и вслух высказал мысль, что для такой редкой жемчужины непременно нужна и соответствующая оправа.
Фильм я знал почти наизусть, и поэтому больше косил взглядом на девушку, мучительно решая вопрос, как бы её закадрить на вечер. «Смелее, ковбой, – подбадривал я себя. – Тебе нечего терять, кроме одиночества», и наклонился, шаря рукой в поисках условно упавшего предмета.
Через несколько секунд я выпрямился, но при этом ладонь нашла опору на круглом оголённом колене потенциальной подружки. Противодействия, как я опасался, не последовало, и рука зафиксировалась на выбранной позиции. Поощрённые молчанием, мои пальцы чуть – чуть зашевелились и по – черепашьи неторопливо двинулись в сторону тёплого и мягкого бедра. Девушка сделала робкую попытку остановить дерзкое нашествие римлян, но сил отогнать врага – искусителя было явно маловато. И потому, опьянённые первым успехом, пальцы после короткой передышки начали новую атаку, завоёвывая территорию сантиметр за сантиметром.
Перевес в силах, и главное – высокий моральный дух наступающих явно превосходил противника. И чтобы скрыть сцену своего позора от возможных наблюдателей, пола широкого пальто девушки накрыла поле битвы, но не сбросила ладонь, удвоив мощь флибустьеров, поскольку тьма – верный союзник искушения.
До цели моего желания оставалось совсем ничего, когда, к моему разочарованию, титры на экране возвестили о конце фильма, и зрители пришли в движение. Схватка под полою мгновенно прекратилась, вспыхнули люстры, мы поднялись со своих мест и посмотрели друг на друга весёлыми, всё понимающими глазами.
Я чуть не испачкал трусы. Понемногу успокаиваясь, мой возмутительно торчащий, сопливый головастик недовольно опускался на цифру шесть. Настало время заговорить, и я поинтересовался, понравился ли девушке фильм.
– Очень впечатляет, – ответила она. – Жаль, что не увижу конца: завтра уезжаю в командировку.
– Ну, это дело поправимое, – решил я нахально скаламбурить на её последние слова. – Если хотите, то конец можно увидеть и сегодня.
Она была умной девочкой, сразу поняла двусмысленность моего предложения и возбуждающе рассмеялась:
– А вы шустрый.
– Скорее – влюбчивый, – уточнил я, не отставая от девушки ни на шаг. – Кстати, как ваше имя, прекрасная незнакомка?
– Неля.
– О, Нинель! Француженка? Никогда не имел знакомых иностранок. И если не провожу вас до дома, буду казниться всю оставшуюся жизнь.
– Что ж, можно и прогуляться с молодым военным, – улыбнулась она и добавила: – Только вы ошибаетесь, никакая я не иностранка, так что компетентные органы заподозрить вас в связях порочащих не могут.
Мы вышли под свет уличных фонарей и, повернув направо, неторопливо двинулись вдоль широкого, покрытого асфальтом КБСовского бродвея. Я взял девушку под руку и отметил, что она была высока, стройна и длиннонога.
– Значит, вы работаете… – сделал я паузу.
– Бухгалтером, – подхватила она.
– Вот как. А я, знаете ли, пока школяр.
– Ничего, это временный недостаток. Кстати, нам сюда, – потянула она меня влево к пятиэтажному кирпичному дому. – Видите два окна над аркой? Вот за ними я и живу.
– С удовольствием заглянул бы в ваше гнёздышко, да опасаюсь вызвать недовольство у ваших домочадцев.
– А дома никого нет. Маман уехала к сестре.
– Тогда совсем другой коленкор, – повеселел я, интуитивно уловив в ответе приглашение на рандеву в домашних условиях. – Чего же мы ждём? Вперёд, без страха и сомненья!
Неля снова засмеялась и приглашающе показала рукой:
– Милости прошу к нашему шалашу. Кофе не обещаю, но наливочка собственного производства найдётся.
Ай, да французочка, никак тоже затосковала от одиночества, решила снять с себя стресс. Мне это очень даже импонировало.
«Гнёздышко» было небольшим, но уютным. Высокий двустворчатый шифоньер с зеркалом, современное трюмо, заставленное какими-то безделушками, стол в плотном окружении стульев, небольшой диван под кожу и вместительная двуспальная кровать в углу. Интерьер – что надо, и говорил о том, что здесь проживают люди если не богатые, то вполне зажиточные.
– Раздевайся и проходи, – на правах хозяйки перешла она на «ты». – У меня, как всегда, беспорядок, ну да не беда. И в каждом беспорядке бывает свой порядок. А лучше пойдём на кухню, предложила она, – там уютней и всё под рукой.
Загадочно улыбаясь, Нинель усадила меня за стол, выставила графинчик с темно-бордовой жидкостью, поставила бокалы и произнесла тост:
– Со знакомством, курсант! – и махом выплеснула густое вино в рот. Сочные, ядрёные её губки сделали куриную попку, длинные ресницы опустились, и она, цокнув языком, смачно произнесла:
– Ах, хорошо!
Напиток и впрямь был лёгок и приятен, однако уже через пару минут я почувствовал, как мягкая тёплая волна растеклась по всему телу и слегка затуманила голову.
– Ой, – спохватилась Неля, – про еду я и забыла, на – ко вот, закуси пока, – отвесила она мне сочный поцелуй, – а я яишенку поджарю на скорую руку. Ты ведь голоден, служивый. Военные – они всегда голодные.
Я с улыбкой наблюдал за её ловкими пластичными движениями и удивлялся, как безошибочно угадал под широким пальто и высокую грудь, и узкую талию, и крутые бёдра – ничуть не хуже, чем у Венеры Милосской.
Стройные, как пирамидальные тополя, ноги начинались чуть ли не от самых ушей, и между этими кипарисами угадывалось портмоне, набитое сладостями..
После второго бокала «на брудершафт» я уже точно знал, что стану его счастливым обладателем.
– Так, – деловито сказала Нинель, когда моя тарелка опустела. – У тебя время есть?
– Конечно. Я же в отпуске.
– В таком случае, как говорит моя маман, наелись, напились…
– и спать завалились? – закончил я прерванную фразу.
– Умничка, – похвалила она.
Мы набросились друг на друга, как голодающие дети Камбоджи на гуманитарную помощь, по пути к кровати роняя части одежды и дрожа от возбуждения. Губы жадно осыпали поцелуями оголявшиеся участки тела, жалобно треснул разорванный второпях лифчик, выпуская на свободу торчком стоящие, переполненные желанием груди.
Мой свободолюбивый, начинённый взрывчаткой конец, властно требовал немедленного удовлетворения. Змеёй скользнув по пупочку женщины, он безошибочно опустился ниже, на мгновение застрял в холмике жёстких волос и яростно вонзился в набухшие, жаркие чресла Нинель.
Матушка природа, не пойму, зачем ты маскируешь цветы любви волосяным покровом? Да будь они хоть за семью печатями – пронырливые стрижи и там устроят для себя уютное гнёздышко.
Осыпая меня поцелуями, Нинель, словно анаконда, обвила мою спину и раз за разом, учащая амплитуду качения, неистово встречала жёстким лобком одеревеневший и обезумевший от изобилия ласк зелёный банан. Её прекрасные ноги взвились под потолок, а бедра, словно тисками сжимали мою талию. Она громко, сладостно стонала, нечленораздельно издавая непонятные, но полные экстаза звуки. Кровать ходила ходуном, матрацные пружины просили о пощаде, и тоже стонали от наслаждения. Пот обильно струился по нашим телам и, смешиваясь, создавал женско-мужской коктейль с ароматом наслаждений. Как хороший смазочный материал, он на – нет свёл коэфициент трения, и скользящие движения животов, рук и лиц приятно ласкали и усиливали чувственность грех совершающих.
Через пару минут восторженный, победный крик вырвался из горла девушки. Она часто засучила ногами, словно рвалась на велосипеде по финишной прямой, изогнулась в дугу и неожиданно замерла, стиснув мою грудь с такой силой, что перехватило дыхание.
В тот же момент я почувствовал, как импульсивно сокращаясь, заработал мой кабачок, и сотни тысяч отборных живчиков рванулись в логово любви в поисках божественного счастья. Наступил момент высочайшего наслаждения, момент истины, за который человечество пролило море крови и океаны слёз.
Часто дыша, я соскользнул с тела женщины и обессиленный, откинулся на подушку. Опершись на локоток, моя милая партнёрша заботливо и нежно, словно с больного ребёнка, убирала полотенцем с моего лица и груди крупные капли пота.
В спешке мы забыли потушить настольную лампу, и в матовом свете я отчётливо разглядел в глазах моей фурии торжествующие искры женщины – победителя. Глядя на её блуждающую, как у Моны Лизы, улыбку, я вдруг отчётливо осознал, что в любовных утехах побеждённых не бывает.
Несколько минут мы молчали и приводили себя в порядок, она заботливо обтирала мой круп, как жокей любимого жеребца после бешеной скачки. Обработав бюст, Нелли наощупь, с любовью и нежностью промокнула мои чресла и проворковала:
– Кто – то совсем недавно обещал мне показать «конец». Ну-ка, посмотрим, так ли он хорош, как хочется.
Приподнявшись, она стала внимательно и долго рассматривать составляющие моего прибора.
– Что ж, не скажу, чтобы у тебя был хрен голландский, но представительный и, главное, работящий.
Эпикриз мне понравился.
– А при чём здесь «голландский», – не понял я. – Да ещё хрен? Про сыр – знаю, про хрен – нет.
– Ну, как же, милый, об этом все знают. Какая-то из императриц, Екатерина, наверное, прознала, что живёт в Голландии мужичок один с огромным богатством между ног в локоть длиной. Вот и пригласила для улучшения породы россиян. Да толку-то от того мужичка никакого. Только соберётся вставить свою оглоблю куда надо, – и теряет сознание. Оказалось, чтобы поднять этого дурачка на дыбы, вся кровь голландца устремлялась к причинному месту. И парень терял сознание. Хоть и прожил знаменитый иностранец при дворе всю свою жизнь, а ни одну бабу не осчастливил. Так и умер в женском презрении. А память о себе, говорят, в Кунсткамере оставил. Этот его огарок в треть метра, как диковинка, в банке заспиртован. Вот и пошло с тех пор – не может, кто удовлетворить бабу по полной программе, – значит, хрен голландский.
Она посмотрела на мою удивлённую улыбку и тоже рассмеялась:
– Э, да я вижу, что пенис твой тоже с ушами. Ишь, как привстал от любопытства. А ну-ка, проверим, как он себя чувствует в более комфортных условиях.
С этими словами она быстро перекинула ногу через мой живот и нанизала себя на шампур. По всему было видно, что такая позиция ей очень нравилась. Упираясь руками в мои плечи, девушка начала неторопливые возвратно-поступательные движения, с каждой минутой убыстряя ход. Потом бросила поводья, откинулась назад и галопом поскакала навстречу наслаждению.
К утру, попеременно меняя лошадей, мы сделали девять заездов, а после десятого, совершенно измотанный, я свалился с седла, как ковбой после изнурительной скачки, и мгновенно провалился в бездну.
Проснулся я от резкого звона посуды.
– Вставай, лежебока, – проворковала, как ни в чём не бывало, моя женщина. – Пора и честь знать. Быстренько умываемся, и по делам.
В окно заглядывали ленивые лучи апрельского солнца, и на его фоне под прозрачным халатиком приятно высвечивалось точёное тело моей любовницы. Мы наскоро проглотили по чашке чая, договорились о будущей встрече, и я стал уже зачехляться, когда она со смехом предложила:
– Может, ещё одну палочку на прощанье?
У неё что, бешенство матки? Доводилось про такое читать у Куприна, серьёзная болезнь. Такая любого мужика замучает. Нет уж, уволь.
– Спасибо, котёнок, но я сыт, как никогда.
– Тогда – с Богом. И тебе спасибо, – не обиделась Нинель, и дверь за моей спиной мягко захлопнулась.
Глава шестая
И снова безответная любовь позвала меня в дорогу. Под монотонный перестук вагонных колёс я рисовал в воображении, как проведу время со своей возлюбленной, и радужные мечты уводили так далеко, что дух захватывало.
Угрызений совести перед ней о случайных связях меня совершенно не беспокоили, и я догадывался, что моральные устои нового поколения, к которому я себя причислял, трансформировались. Традиции типа «трахнул – женись» казались теперь смешными и анахроничными. Высокая нравственность после войны стала давать утечку. Люди хотели достойно жить и получать наслаждения, в том числе и сексуальные.
В детстве верхом наслаждения для меня был кусок чёрного хлеба, присыпанный сахаром и смоченный водой, чтобы не сдуло. Однако я заметно подрос, и мужское начало потребовало удовлетворения не только в хлебе насущном. Воспитанный в духе атеизма, я краем уха слышал о десяти заповедях Господних, но не подозревал, что среди них есть запрет на прелюбодейство. А если бы и знал, то что, не грешил бы? Сомневаюсь. Однажды испытанный оргазм, как наркотик, несокрушимо требует повторения. Женатым, понятно, в этом плане легче. Но куда деваться холостым, особенно застенчивым, которые, испытывая комплекс неполноценности, как огня боятся заговорить с незнакомой женщиной в страхе получить пощёчину по самолюбию? Единственный выход – это онанизм, суррогат секса, унижающий человека как личность. Да полно – те, посмотри повнимательней – вокруг столько привлекательных красоток, готовых пойти на контакт!
Недавно в чайном магазине я услышал кусочек диалога между моложавой женщиной и симпатичной девочкой лет пяти.
– Бабушка, – прощебетало милое дитя, – давай купим чай в пакетиках.
– В пакетиках? В пакетиках только ленивые покупают…
Шут с ними – с голубыми и онанистами, но зачем женщин – то обижать.
В полдень строго по расписанию поезд доставил меня к славному городу Харькову, бывшей столицы Украины. Шумный и весёлый, он утопал в ярких лучах весеннего солнца, и почему – то казалось, что и воздух переполнен праздничным настроем. На вопрос, как добраться до Лозовенек, дородная хохлушка с корзиной зелени в руках охотно растолковала, что ходят туда пригородные, что кассы находятся на перроне, это почти рядом, что…
Она была счастлива выдать всю имеющуюся у неё информацию такому «красивому, элегантному и скромному «парубку». С прилежностью ученика я терпеливо ждал, когда можно остановить затянувшийся тёткин монолог, но она, взглянув на вокзальные часы, сама осеклась на полуслове и с беспокойством посоветовала:
– Да вы идить, идить швыдчей. Десять хвылынок зостало. Я ведь почему знаю? У меня в Лозовеньках…
Трогательную историю о родственниках я не дослушал, подхватил чемодан и кинулся в указанном направлении…
Чем ближе подходил я к территории института, тем чаще колотилось сердце. Мы не виделись почти три года – срок достаточный, чтобы эатушевать в памяти события далёкой юности.
Была суббота, но я предупредил Светлану о своём приезде и надеялся застать в общежитии. Провожаемый любопытными взглядами студенток, я приблизился к заветной комнате и робко постучал в дверь костяшками чужих пальцев.
– Открыто, – донёсся приглушенный голос изнутри, я весь напрягся, как лётчик перед катапультированием, и перешагнул через порог.
Она стояла в пол – оборота у стола в зелёном сарафане, стройная, как молодая ёлочка, и нисколько не удивилась моему появлению.
Глупо улыбаясь, я прочистил горло и с весёлой непринуждённостью произнёс:
– Здоровеньки булы, селяне. Как вы здесь живёте без меня?
– Привет, – кивнула Света, откладывая книгу в сторону. – Рада тебя видеть. И не лень было ехать в такую даль?
Голос остался такой же, а лицо изменилось. Появились признаки какой – то озабоченности во взгляде, уголки рта слегка опустились, потух дерзкий огонёк в серых глазах, но причёска осталась прежней.
– Это Катя, моя однокурсница, – представила Светлана розовощёкую, с ямочками на щеках, девушку, которую я вначале не заметил. – Между прочим, незамужняя.
Последняя фраза мне совсем не понравилась. Что она хочет этим сказать? Намекает, что отношения между нами не более, чем дружеские? А я – то, дурак, слюни распустил.
Боковым зрением я заметил смущение институтки.
– Да ты проходи, присаживайся, – спохватилась Светка. – Устал, наверное, с дороги? Может, чайку? Конечно, чайку. Катя, – обратилась она к подруге, – сходи на кухню, поставь чайник.
Катя понимающе поднялась и вышла из комнаты.
– Ну, рассказывай, как и что, – уселась Светлана напротив, когда мы остались одни. На лице её можно было прочитать естественное любопытство, и только. Ни намёка на симпатию, и это меня беспокоило. Неужели у меня действительно нет ни одного шанса на ответное чувство? И почему мы влюбляемся в тех, кто к нам равнодушен? Из противоречия? Своей настырности? Эгоизма? Масса вопросов, на которые нет ответа.
Сбиваясь, я коротко рассказал, что знал о её родителях и ребятах из нашего двора, вскользь заметил, что через год заканчиваю училище и становлюсь офицером и что рассчитываю показаться перед ней в парадной форме. Светлана слушала невнимательно, поглядывала на часы, и я понял, что она куда – то торопится.
Пришла Катя с чайником в руке.
– Заждались, – сказала она с явным украинским акцентом. – Зато чай достала роскошный, три слона. Лидка из шестнадцатой поделилась, посылку из Москвы получила. Приступим?
– Вы меня извините, – посмотрела Светлана на часы, – но мне необходимо отлучиться на часок. Чаёвничайте без меня, я скоро.
Она быстро переоделась за моей спиной, бросила «пока» и скрылась за дверью. В растерянности я не знал, как себя вести, но выручила Катя:
– Давайте пить чай, в конце концов. Я ещё не завтракала.
– Вот вы мне скажите, а правда, страшно летать? – поинтересовалась Катерина, когда мы, не торопясь, прогуливались вдоль небольшой речушки, полукольцом огибающей институтский городок.
– Всякое начало страшит, – чуть помедлив, философски ответил я. – Страшно сделать первый шаг, попасть в грозу, переступить закон, окунуться в холодную воду. Страшно, но крайне заманчиво. Хотите, искупаемся?
– Да что вы! Вода ледяная. Разве позагорать немного. Уж очень солнышко припекает.
Мы сбросили одежды. На Кате (видимо, предполагала пляжный вариант прогулки), подчёркивая девичьи достоинства, сидел модный купальник. Коротенькие трусишки не портили и моей фигуры. Расположившись на зелёном мыске на краю речки, мы, украдкой оглядывая друг друга, молча наблюдали за тихо журчащими струями.
– Знаете, не моё, конечно это дело, – прервала мысли моя новая знакомая, – только кажется мне, что Светлана создана не для вас.
– Вот как!
– У неё другие увлечения. Как вы думаете, где она сейчас?
– И где же?
– На свидании с МНС.
– МНС? А что это такое?
– Ну, как же, младший научный сотрудник. Аспирант из нашего института.
– И она просила об этом сказать?
– Почему, я сама. Только за то, что вы мне понравились, – откровенно сказала девушка и заглянула в мои глаза.
Оглушённый известием, я опустил между колен голову и сцепил пальцы на затылке. В висках мощно стучало, а сердце рвалось наружу. Мне было больно от жестокого и беспощадного удара по самолюбию, но я пересилил себя:
– По – моему, сейчас самое время освежиться, – нарочито беспечно и подчёркнуто весело сказал я и смаху нырнул в объятья речки. Ледяная вода, как кипятком, ошпарила тело и привела в чувство. Нащупав ногами дно, я оттолкнулся и пробкой выскочил на поверхность.
– Вы с ума сошли! – крикнула Катя с берега. – Вылезайте немедленно, простудитесь.
В самом деле, чего это я запаниковал. Ну, не любит она меня, так это же не новость. Насильно мил не будешь. Пораскинуть мозгами – весь мир живёт любовью и без любви.
– Какие же вы глупые, мужчины. Сущие дети, – с укором выговаривала Катя. – Одевайтесь скорее.
Вечер мы провели в уютном молодёжном кафе. Сухое вино, как нельзя кстати, подходило к цыплятам «табака», и мой изголодавшийся за день желудок с явным удовольствием переваривал пищу. Мёртвое – живому, живое – мёртвому.
Наблюдательная девочка засекла, что я украдкой поглядываю на часы, и в перерыве между танцами обронила, что Светка появится не раньше комендантского времени.
Как заправский джентльмен, я проводил свою даму до общежития, прикидывая, где бы скоротать ночь.
Однако всё разрешилось совсем просто. Катя поговорила с бдительной тучной вахтёршей, и меня устроили в какой – то комнате с похрапывающим в уголке студентом. В те далёкие времена к человеку в погонах относились с уважением.
В знак благодарности я поцеловал Катину руку, а она на прощанье сказала:
– Читайте Пушкина, курсант. Спокойной ночи.
Я лежал в темноте с открытыми глазами и с грустью перебирал события ушедшего дня. Не такой рисовалась мне встреча с любимой. Реальность оказалась прозаичнее грёз. Всё, что рассказала мне Катя, было очень похоже на правду, но я не хотел в неё верить, зная о склонности девушек драматизировать события.
Забывшись под утро в тяжелой дрёме, мне рисовались картины одна ужаснее другой: то я скакал на красном коне в пасть какому – то чудовищу, то пробирался между свиных бело – красных туш, подвешенных к потолку, и они, как живые, били меня по лицу, плечам и груди, то вдруг оказывался в роли шафера на свадьбе Светланы с перекинутым через плечо красным рушником, и мерзкая красная рожа счастливчика, похожая на Марьина, злорадно и торжествующе хохотала, захлёбываясь в гомерическом смехе.
Настойчивый стук в дверь вывел меня из кошмара. Знакомый Светкин голос требовал немедленно просыпаться.
– Минуточку, – откликнулся я, одеваясь как по команде «подъём».
Помятый, непричёсанный, небритый и заспанный я нарисовался в дверном проёме.
– О, – засмеялась Светка, осмотрев меня с головы до ног, – точь-в-точь, как наши парубки с похмелья. У меня есть время, жду на выходе, лётчик. Расправляй свои крылышки.
Было около одиннадцати, когда, наскоро перекусив в знакомом мне кафе, мы неторопливо двинулись вдоль вчерашнего маршрута. Скорее всего – любимое место для прогулок у студенческой братвы.
– Говорят, будто бы ты вчера купальный сезон открыл, – не то утверждая, не то спрашивая, посмотрела на меня Светка. – У тебя что, крыша поехала?
Я засмеялся и с шутливой озабоченностью ощупал голову:
– Да нет, кажется всё в порядке.
– Вот дурачок, – с укоризной сказала Света, и мне это понравилось.
– А как Катя?
– Что – Катя? Хорошая девушка, но не в моём вкусе. А у тебя как дела, решила свои проблемы?
– Всех проблем не решишь, – наклонилась она и сорвала травинку, – одни уходят, другие появляются. В природе пустот не бывает. Ты вот, например, приехал. Зачем? – бросила она взгляд в мою сторону.
«Господи, – подумал я, – да она меня в упор расстреливает. Действительно, зачем? Повидать возлюбленную? Признаться в своих чувствах? Но она увлечена МНС, а влюблённая женщина, как глухарь на токовище: ничего не видит вокруг и ничего не слышит. И всё же объясниться надо».
Откашлявшись, я подцепил её под руку и чуть не расплакался, когда она этого не позволила:
– У нас здесь, как в деревне, все на ладони. И склонны к преувеличению.
Понятно. Боится, как бы молва о нашей встрече не достигла ушей МНС. Я шагал словно по минному полю с завязанными глазами и снова вспомнил слова Кадочникова в первом детективном советском фильме « Подвиг разведчика»: «Терпение, мой друг, и ваша щетина превратится в золото». Что ж, в моём положении лучшего не придумаешь.
– Ты не ответил на мой вопрос, – напомнила Светлана.
– Прости, задумался. Я вот что тебе скажу, жизнь – сложная штука. Иногда она выкидывает такие фортели, что и уму непостижимо. Как я догадываюсь, тебе сейчас не до меня. Только знай, как бы не повернулись события, у тебя есть человек, который тебя любит и желает счастья.
Ну, наконец – то, сколько бабушка ни мучилась, а родила!
Мы стояли лицом к лицу как раз на том месте, где вчера загорали с её подругой. Я опустил голову, и в испуге от своей дерзости ждал приговора.
Нервно теребя травинку снежной белизны зубами, Светлана долго обдумывала мой ответ, потом тихо произнесла:
– Что ж, откровенность на откровенность. Ты тоже мне нравишься. Но не будем торопиться. Давай закончим учёбу, а там видно будет. Не обижусь, если тебе встретится девушка достойнее, чем я. Да и мне всё человеческое не чуждо. А пока, я думаю, нам надо расстаться.
Молодость не умеет ждать. Ей подавай всего много и сразу. И оттого она дерзка и нахальна. Именно этот феномен и является первопричиной сенсационных открытий, фундаментальных потрясений и гениальных произведений. Неустоявшаяся психика позволяет молодым легко и просто игнорировать каноны и выдвигать, как альтернативу, сумасбродные идеи, одну глупее другой, и совершают гениальные открытия.
Боже упаси, я никогда не помышлял и рядом – то постоять с гением, хотя в школе ко мне прилипла почему-то такая кличка. Поэтому на уровне банального влюблённого я никак не мог взять в толк, почему Светка не отвечает взаимностью на мои искренние чувства. Это несправедливо, в конце концов. Она ведь тоже была в моём положении, когда Желтов, её первая любовь, обращал на неё ноль внимания.
Получается, как заколдованный круг: один смотрит в затылок другой, а та – в затылок третьему, и так – до бесконечности. Просто молодые редко оглядываются.
Покачиваясь на верхней полке третьего вагона, я предавался дурацким рассуждениям в поисках формулы взаимной любви. В те времена третий вагон всегда отдавался военным пассажирам, и я не удивился, когда на первой же остановке после Харькова в проёме появился курсант – артиллерист. Подвижный, как ртуть, весёлый и говорливый, он еле успел перецеловать толпу провожающих родственников, когда состав дёрнулся, и буфера проиграли прощальный аккорд.
– Эй, авиация, спускайся вниз и заходи на посадку! – командирским голосом, отвергавшим всякие возражения, приказал он.
– Остап, – ткнул он себя в широкую грудь. – А ты чего такой хмурый? С девушкой не поладил? Да плюнь ты на это. Их много, а мы одни. Присаживайся, я тебя живо развеселю. Коньячок будешь?
– А давай! – махнул я рукой.
– Вот это по – нашему, – достал он бутылку из раздутой от провианта сумки, проворно накрыл стол, плеснул в стаканы и поднял один из них:
– Ну, за знакомство. И чтобы дома не журились.
Мы чокнулись, я проглотил густую желтоватую смесь, почувствовал острый свекольный запах и приподнял брови.
– Что, не понравилось? Коньяк местный, «Три свеклы», – улыбаясь, пояснил Остап и нарезал широкие, в ладонь, полосы сала.
– Закусывай, авиация, такого по лётной норме не дают.
Сало действительно показалось отменным. Мягкое, как масло, в меру солёное и слегка подкопченное, с приятным чесночным запахом. Только теперь я вспомнил, что давно ничего не ел. А Остап уже выложил на столик каравай домашнего хлеба, жареного цыплёнка, свежую редисочку и зелёный лучок с маминого огорода. И снова плеснул в стаканы:
– Как говорят мои земляки, давай, друже, выпьем тут – на том свете не дадут, – хитро посмотрел он в мою сторону. – Ну, а ежели дадут, выпьем там и выпьем тут.
Налегая на еду, я, расслабившись, рассказал Остапу о своих злоключениях. Парень бурно реагировал, сочувствуя, вздыхал, и смешно ругал всех девчонок, называя их «рыбьими головами».
От выпитого и съеденного дурные мысли отодвинулись на задний план, настроение улучшилось, и мне было плевать на окружающих. Я благодушно улыбался, слушая бесконечные байки Остапа, и мы наперебой вспоминали курсантские казусы.
Улеглись далеко за полночь, а внизу молодожёны – наши попутчики – негромко хихикали и занимались чем – то возбуждающим.
Было ещё рано, но всех разбудил голос проводницы, громко и бесцеремонно предлагающей традиционный ржавый железнодорожный чай. Мы быстро расправились с остатками вчерашнего пиршества, покурили, хотя я не терпел запаха табака, и чтобы скоротать время, уселись играть в подкидного, неторопливо беседуя о превратностях судьбы.
В Москве у Остапа предстояла пересадка на поезд южного направления. Мы попрощались, как родные, обменялись адресами и обнялись на прощанье.
Остап непременно хотел всучить мне шматок сала, но я не разрешил, понимая, что до Ташкента путь и далёк и долог, а голод не тётка.
Ещё свежи были воспоминания о моём авантюрном приключении лет восемь назад, когда я, увязавшись за дружком, в толпе подростков, отъезжающих на отдых в пионерлагерь, благополучно устроился на верхней полке вагона. До Кыштыма ехать было не близко, и всё бы обошлось, если бы не жалоба одного из попутчиков, что у него из сумки пропал кусок колбасы. Меня никто не знал, пионеры были из соседней школы, и я попал под подозрение. Время, конечно, голодное, и этот злополучный кусок представлял значительную ценность даже для такого толстяка, как потерпевший. Старший сопровождающий это дело уладил по – тихому, однако взял на заметку, хотя вины моей здесь не было, Уж об этом я знал точно, но молча проглотил обиду.
Утром пионерская ватага прибыла на место и расселилась на берегу изумрудного озера в сосновом бору. Я ликовал от восторга, наивно полагая, что затеряюсь среди сверстников, не имея путёвки. И действительно, благополучно прожил в лагере трое суток. Однако рацион оставлял желать лучшего: нас кормили только сушёной картошкой во всём её разнообразии. Но главное, не понравилось чрезмерное внимание к моей особе со стороны воспитателя.
– Что-то я твоих документов не найду, – озабоченно проговорил он на четвёртый день, и я понял, что пора сматываться.
Дорогу на станцию я хорошо запомнил, и, помахав издали рукой гостеприимному дому, бодро зашагал в обратном направлении.
Погони, которой я опасался, не было, но путь оказался заметно длиннее, чем я рассчитывал, и только к вечеру, голодный и обезвоженный до чёртиков, добрался до цели. Сердобольная старушка на вокзале, приняв меня за бездомного, угостила сухариком и объяснила, что поезд будет только утром.
– Правда, – сказала она, – через час с третьего пути отправляется товарняк в твою сторону…
В сумерках я отыскал среди вагонов тормозную площадку, и до утра трясся на голом полу, пока не вернулся в город.
Дома меня встретил отец. После правдивой исповеди он благословил меня крепким подзатыльником и дал кусок чёрного хлеба.
Прошло пол – века, но и теперь, вспоминая его вкус, у меня рефлекторно текут слюнки. Не забылся и ядрёный подзатыльник отца, за всё моё счастливое детство он был единственным от него физическим наказанием…
Остаток пути до Челябинска я провёл в обществе трёх моложавых женщин. У каждой багаж состоял из сумок, набитых продуктами, от которых исходил дразнящий букет запахов гастрономического содержания. В те годы почти во всех магазинах страны полки ломились от банок с крабами, вкус которых для людей был непривычен и непонятен, других продуктов катастрофически не хватало. Зато столица на удивление иностранцев ломилась от изобилия товаров. Что делать, надо было поддерживать марку благополучного государства перед чванливой Европой. И к этому богатейшему всесоюзному продуктовому складу люди стекались, как мухи на мёд. Сейчас, глядя на баснословные цены на снатку, принявшую статус деликатеса, я понимаю Верещагина из фильма « Белое солнце пустыни», с отвращением смотревшего на опостылевшую чёрную икру…
По моему невесёлому виду мудрая мать сразу поняла, что поездка не принесла мне душевного спокойствия. Деликатно и мягко она пыталась смягчить полученный от Светки нокдаун, но от этого было не легче.
Я обошёл всех своих друзей и знакомых, встречался с приятелями, и мы по старой памяти перекидывались в «шубу» и «очко», играя по маленькой.
Несколько раз встречался с половой разбойницей Нинель, как всегда неутомимой, горячей и страстной.
Однако всё хорошее когда-нибудь кончается. Тепло и сердечно попрощавшись с домочадцами и друзьями, я укатил в альма – матер на решающий штурм последнего Рубикона, за которым уже просматривалась роскошная самостоятельная жизнь.
В учебном полку меня встретила приятная неожиданность. В прикроватной тумбочке, где кроме туалетных принадлежностей и конспектов хранить ничего не полагалось, на видном месте лежали бланки почтовых денежных переводов на общую сумму более двухсот рублей. В полтора раза больше, чем курсантское месячное содержание. Ребята потребовали событие отметить чем-нибудь этаким. Естественно, я был бы свинтусом, если бы зажилил хоть часть гонорара, и потому в ближайшую субботу мы прокутили его в единственном в городе кафе. Вкусили по кружке алтайской медовухи – напитка приятного на вкус, возбуждающего и зовущего на любовные приключения.
Я внутренне гордился, что за мою писанину получил реальные деньги. Этот небольшой гонорар стал сильнейшим стимулом в укреплении связей с прессой.
Должен сказать, что с раннего детства меня привлекали две профессии – военного лётчика и журналиста. Именно военного, а не гражданского. Полагаю, что эта мечта возникла в подсознании с того памятного воздушного боя, за которым я наблюдал в небе Сталинграда во время войны. И с большого количества с жадностью проглоченных книг в детские и юношеские годы. В особенности французского военного лётчика и писателя Антуана де Сент – Экзюпери. Его «Маленький принц» и «Земля людей» меня очаровали.
В последнее время я всерьёз увлёкся Есениным. Его чистые, сердцем выстраданные, стихи обвораживали. Снедаемый завистью и тщеславием, я тоже захотел выразить свои чувства в стиле его письма. В глубоком секрете от всех, почему-то стыдясь ещё не содеянного, я смаху написал такие строки:
На твоих волосах – роса
Заискрилась, как первый снег.
Огоньками горят глаза,
Гибкий стан, словно лозы побег.
Белизною меж алых губ
Отливает полоска зубов.
Каждый кустик тебе здесь люб,
Ты – хозяйка июньских цветов.
И рука у тебя легка:
В переклик петухов на заре
Струйки тёплого молока
Нежной песней звучат в ведре.
Я тебя не видал такой –
Словно горный ручей звенишь,
Будто небо – взгляд голубой,
Радость сердцу улыбкой даришь.
Сегодня я скептически отношусь к своему опусу, и сохранил его, как воспоминание о зрелой юности, но тогда, раз за разом перечитывая написанное, я был твёрдо убеждён, что стих вполне благозвучен и послал его в местную газету под заголовком «Девушке – доярке».
Дней через десять, полный собственного достоинства, я гордо шагал по пути к многотиражке «для уточнения кое-каких деталей», как говорилось в тексте полученного письма накануне.
Табличка на обшарпанной двери гласила, что за ней находится ответственный редактор газеты «Заря коммунизма». Стало быть, сделал я для себя вывод, что есть редакторы и безответственные.
Комната, куда я вошёл, ничем не отличалась от тысяч других казённых. Два стола, заваленных кучей бумаг и папок, тройка стульев, небольшой диванчик в углу и громада шкафа эпохи Людовика четырнадцатого. На стене, прямо над огненно – рыжей головой молодого человека, склонившегося над рукописью, висел портрет Н.С. Хрущёва, необузданность характера которого мне импонировала.
Как выяснилось, с редактором мы были одногодки. «Надо же, – с уважением подумал я, – такой молодой – и уже редактор».
Выудив из груды бумаг моё письмо, он занялся анатомическим препарированием моего опуса. Я ожидал разгрома и позора за мою смелость, но парень предложил заменить синонимами пару-тройку слов. Тогда стихотворение получит право на публикацию.
– Давай, присаживайся на диван и твори, – радостно, словно выиграл в лотерею, предложил он. – А я пока сбегаю на полчасика по делу.
Явился он к обеду, бегло просмотрел мои исправления и пожал руку.
Парень выполнил своё обещание и опубликовал моё «произведение» в середине июля. Но увидеть газету мне так и не удалось. Об этом я узнал от Зойки, с удивлением смотревшую на меня квадратными глазами.
Кстати, с Зойкой надо было завязывать. Она стала капризной, не в меру требовательной и нудной. Каждая наша встреча начиналась с вопроса, когда, наконец, мы определим свои взаимоотношения, и определим ли. Я – то знал, что никогда. Но мне хотелось обойтись без ненужной крови. Поэтому заметно увеличил сроки свиданий, стал невнимателен и сух. Мне хотелось, чтобы она во мне разочаровалась, и, кажется, я добился своего. Возможно, у неё появился новый приятель или другие обстоятельства сыграли мне на руку, только и она вдруг стала ко мне безразличной.
Но не успел я вывернуться из одного щекотливого положения, как попал в другое, чуть ли не катастрофическое. И угораздило же меня познакомиться со стопроцентной немочкой! Родословная её начиналась с Петровских времён, с «Немецкой слободы», но времена изменились и волею судьбы предки перебрались в Поволжье, а потом другой волей были депортированы на Алтай. Тем не менее, вековые традиции сохранились, и, несмотря на расхожее мнение о фривольном отношении немцев к добрачным связям, оно не подтвердилось, и по-русски ревностно соблюдались. Через три свидания с Эльзой мы настолько подружились, что позволяли себе не только поцелуи, но и другие шалости. Я тискал её в объятиях, массировал полные груди, прижимал её крутую податливую попку к своему лобку, она стонала от восторга, млела на руках, готовая углубить наши отношения. Однако решившись как-то овладеть ею, я получил такой отлуп, что растерялся и не на шутку встревожился.
– Как ты мог! Как ты мог! – заливаясь слезами, причитала Эльза, театрально заламывая руки. – Этим неблагородным поступком ты уронил себя в моих глазах. Я буду жаловаться!
Только этого не хватало. Если её угроза – не игра, то меня ожидают серьёзные неприятности. Особисты за связь с иностранкой, пусть даже она советская подданная, по головке не погладят. «Ну, и сволочь, – подумал я, – спровоцировала на любовь, а теперь шьёт попытку к изнасилованию».
Надо было как-то выкручиваться. Успокаивая стерву, я наобещал ей золотые горы, признался в любви, намекнул на возможность будущего брака и выразил крайнее сожаление по поводу своего необдуманного поступка в состоянии аффекта.
Девушка решила, что карась на крючке, и к концу свидания оттаяла, взяв с меня честное комсомольское, что такого больше не повторится.
Следуя своему обещанию, я прекратил всякие контакты с Эльзой. Но трезвый ум и холодный расчёт калманской подружки мне понравились. До чего же ловка, чертовка! И другой для себя я сделал вывод: любовные игры на грани фола мне пока не по карману.
С моим приятелем МиГом мы стали неразлей – вода. Я уважал его за скоростные качества, высокую манёвренность и послушность. Мой авторитет перед ним день ото дня возрастал, и были моменты, когда строгая натура истребителя, исключающая всякую фамильярность, снисходительно прощала допускаемые в технике пилотирования ошибки. Круг наших интересов ширился. С явным обоюдным удовольствием мы летали в зону на отработку сложного и высшего пилотажа. В комплексе фигур, выполняемых на головокружительной скорости, мы стремились к гармонии, как танцующая пара перед строгим жюри. В каждом воздушном танце нам хотелось страсти и самозабвения.
В другие дни, уединившись, мы мирно уходили от базы, следуя по заданному маршруту. В эти минуты мы развлекались в придуманном истребителем соревновании. Машина украдкой меняла курс, скорость и высоту полёта, а я с улыбкой восстанавливал заданные параметры по нулям. Это нас забавляло. Иногда, устав от одиночества, мы брали в спутники кого-нибудь из многочисленных приятелей МиГа. Но летать в паре ни мне, ни самолёту не нравилось, слишком скучно. И нет свободы действий.
Зато с каким наслаждением мы ввязывались в воздушные бои! Пусть они и носили характер учебных, но поймать «противника» в перекрестие прицела, поразить его условным огнём, зафиксировать атаку на фотоплёнке, а после дешифровки втайне хвастаться победой,– это было верхом блаженства!
С одинаковым увлечением мы летали по приборам в закрытой кабине и стреляли по наземным целям, и только полёты по кругу воспринимались нами, как досадная необходимость. Они были скоротечны и в любом случае заканчивались посадкой и вынужденной разлукой.
В воздухе проблемы встречаются редко. Они систематизированы в разделе особых случаев. Любые отказы техники и ошибки лётчиков регламентируются чёткими указаниями, гарантирующими благополучный выход из создавшегося положения. Конечно, бывает и непредсказуемое. Но будь у пилотов время, справились бы и с ним.
Другое дело – на земле. Здесь всё гораздо сложнее, но и легче. И есть время, чтобы определиться, выбрать позицию, понять настрой окружающих и адаптироваться к среде. Главное – не паниковать. И этому учили нас неутомимые инструкторы, – педагоги пилотажа с большой буквы.
Нашего Сулиму мы уважали. Высокий брюнет с широко расставленными плечами и могучими, как у молотобойца, кулаками, слегка надушенный и чисто выбритый, он напоминал мне Голиафа, разрывающего пасть льва. В чёрных, антрацитовых глазах инструктора, казалось, навсегда застыла хитрая смешинка, замешанная на благородной снисходительности. В свободное от полётов время мы часто бывали у него в доме и недоумевали, почему такой привлекательный, просто неотразимый, мужик ведёт холостяцкий образ жизни. По этому поводу было немало разговоров и пересудов, но ни в одном из них никто не пытался замарать честь загадочного капитана. К благородным грязь не пристаёт. Удивляло и то, что, несмотря на возраст и опыт, Сулима ходит в капитанах и занимает скромную до обидного должность. Не знаю, как другие, но наш инструктор работал по призванию и щедро делился своим опытом с экипажем.
В то раннее, насыщенное свежестью утро, мы, сытые и довольные, весело шагали на аэродром, небрежно помахивая шлемофонами и обсуждая предстоящее празднование Женского дня. Холодное багровое солнце уже висело над горизонтом, и хотя тёмно-синее небо сияло первозданной чистотой, я верил поговорке, выуженной из какой-то книги: «Солнце красно поутру – моряку не по нутру. Солнце красно вечером – моряку бояться нечего». Так что не хуже полкового метеоролога я знал, что к концу полётов погода испортится.
Самостоятельные полёты я выполнил вполне прилично, и теперь до полудня ждал своей очереди, чтобы взлететь с командиром звена капитаном Рудковским на очередную проверку по технике пилотирования.
Я оказался прав. Буквально в считанные минуты на городок обрушился мощный снеговой заряд, мгновенно запуржило и завьюжило, но самолёты уже сидели на земле, а в стартовый домик народу набилось – яблоку негде упасть.
Пережидая непогоду, ребята травили анекдоты и хохотали до колик. Алик Стриков вдруг пожаловался на живот и кинулся к выходу. За ним, озорно улыбаясь, исчез и Мишка Звягин. Вскоре он вернулся, стряхнул с себя снег и доложил:
– Он тут за углом устроился, до туалета не добежал. Так я ему вместо очка лопату подставил. Теперь наверняка ищет плоды своего труда.
Вскоре в дверях появился и Алик. Не скрывая любопытства, ребята следили, как он стряхивает с себя снег.
– С облегчением тебя, – посочувствовал Стрикову Валерка Варнавский, наш главный конструктор летающих ракет. – Съел что-то не то?
– Наверное, – ответил Алик и уселся на свободное место.
Речь перешла на другую тему, но вскоре Мишка потянул носом и с подозрением сказал:
– Ребята, не чуете? Что-то говнецом пахнет.
– Верно, – отозвались и другие ребята, сидящие поодаль. – А ну, признавайтесь, кто пустил шептуна?
– Лучше геройски пёрднуть, чем предательски бзднуть! – резюмировали из-за спины Алика. – Какие нравы!
Стриков беспокойно заёрзал на месте, украдкой оглядывая комбинезон, потом осторожно встал и тихо прикрыл за собой дверь. Минут пять курсант отсутствовал, и, удовлетворённый осмотром одежды, вернулся в помещение. Раздался гомерический хохот, и Алик понял, что стал жертвой розыгрыша.
– Вот паразиты! – только и сказал Стриков и облегчённо улыбнулся.
Наконец, небо посветлело, и полёты продолжили.
– 312-тый, – раздался из динамика мой позывной, – на вылет!
Командир звена капитан Рудковский только что зарулил на стоянку и, не вылезая из кабины, ждал, пока я застегну парашютные и привязные ремни.
УТИ негромко зудел турбиной, а техник самолёта, стоя на стремянке, помогал подогнать привязную «сбрую». Мне предстояло выполнить контрольное упражнение «полёт под шторкой». Занятие однообразное и утомительное. Сидишь, как попугай под колпаком, и кроме приборной доски ничего не видишь. С другой стороны, без навыков полётов по приборам не научишься летать в облаках. Ещё не изгладился из памяти случай в Аткарске, когда я по глупости чуть не разбился из-за ребячьей самоуверенности. Теперь опыт полётов вне видимости земли уже появился, и я действовал вполне прилично, чётко распределяя внимание между приборами через авиагоризонт.
Задание уже подходило к концу, когда в эфире прозвучала команда руководителя полётов:
– Всем бортам возвратиться на точку!
– Выполняю, – подтвердил я получение приказа, разворачиваясь в сторону аэродрома и размышляя, что это за экстренность такая.
– Погода ухудшается, – пояснил с задней кабины Рудковский, словно прочитав мои мысли. – Открывайся. Видишь справа тёмное облачко? Это снежный заряд, так что поторапливайся, если хочешь сесть благополучно.
Я увеличил обороты турбины, и через три минуты мы были уже на третьем развороте. Лёгкое движение краном выпуска шасси – и загорелись зелёные лампочки, извещающие, что всё в порядке.
– Я 312-тый! Шасси выпустил. Зелёные горят. Разрешите…– и осёкся, заметив, что на правой плоскости нет механического указателя выпуска шасси, «солдатика», визуально сигнализирующего о том, что стойка шасси встала на замок.
– И что разрешить? – полюбопытствовал руководитель полётов. Но мне было не до шуток.
– 312-тый. Зелёные горят, – подтвердил я своё сообщение. – Механический указатель правой стойки не вышел.
Радио задумалось, а потом приказало:
– Уберите шасси и снова выпустите.
– Команда выполнена. Изменений нет, – вмешался в разговор инструктор.
– Снижайтесь до высоты пятьдесят метров и пройдите над стартом! – приказал РП чётким голосом. – Посмотрим, что у вас под брюхом творится.
Мы погасили скорость до минимально допустимой и пролетели между посадочной полосой и СКП.
– Внешних повреждений нет, – коротко сообщил РП. – Убрать шасси, набрать высоту над точкой, спикируйте, и в момент максимальной перегрузки при выводе выпускайте, – посоветовал руководитель.
– Выполняю. По моей команде поставишь кран на выпуск, – сказал капитан Рудковский, беря управление на себя.
– Понял, – слегка волнуясь, отозвался я.
Пока мы набирали высоту, снова раздался голос РП:
– 312-тый! Погода ухудшается. Сколько горючего в баках?
Понятно. На всякий случай нас готовят к посадке на запасном аэродроме. Я доложил, а КЗ уже свалил спарку на крыло, вгоняя её в крутое пикирование. Скорость нарастала, высота стремительно падала.
– Пр – риготовились…– напомнил о себе инструктор, и я перенёс руку на кран.
Перегрузка резко увеличилась, УТИ по крутой траектории выходил из пикирования в горизонтальный полёт, и в этот момент, как выстрел, прозвучало:
– Выпуск!
Песню реактивной турбины заглушил свистящий рёв воздушного потока. Машина задрожала, споткнувшись о невидимую преграду, узлы её заскрипели, словно их никогда не смазывали, а меня пригвоздило к сиденью.
– Зелёные горят, – доложил я по СПУ, – «солдатик» не вышел.
– Вижу, – спокойно подтвердил Рудковский, выполняя заход на посадку.
Мы были одни в воздухе, и остаток полёта прошёл спокойно. На четвёртом развороте стало отчётливо видно тёмную полосу аэродрома, по которому уже мела позёмка, и редкая рвань облаков проскакивала по обеим сторонам кабины, отвлекая внимание.
Дальше всё шло обычным порядком, и только на выравнивании мы попали в снежный заряд, потеряв на мгновение землю, но она уже неслась под крылья, подставляя свою широкую грудь.
Основная нагрузка легла на левую стойку. Мы это сделали сознательно, полагая, что при ударе возникнут дополнительные инерционные силы, которые поспособствуют, в случае необходимости, правой стойке встать на замок. Однако всё обошлось, и нам повезло. Мы это поняли, как только самолёт опустил нос и заскользил по поверхности «железки».
На стоянке целая бригада технарей кинулась под крыло, и уже через пару минут Рудковскому доложили, что обломилась тяга, управления «солдатиком».
Отказ техники в воздухе оформили как предпосылку к лётному происшествию по вине личного состава ТЭЧ. Действия экипажа в усложнённой обстановке одобрили, и с меня в виде поощрения сняли ранее наложенное взыскание.
Чертовщина какая-то получается: с одной стороны я как бы отбыл трое суток на гауптвахте, компенсировал свой проступок, но, оказывается, это не в счёт. Судимость за тобой остаётся, не забывается и висит на шее, как Петровская медаль за пьянство. А ещё говорят, что дважды за один проступок не наказывают!
В армии хорошо. Здесь безупречной службой можно добиться реабилитации замаранного имени. На «гражданке» куда как хуже – единожды осуждённый, всю свою оставшуюся жизнь обязан сообщать об этом в любой официальной анкете, вызывая негативное к себе отношение со стороны чиновника. Человек с судимостью становился изгоем общества.
Но нет исключения из правил. Изучая историю КПСС, я убедился, что почти все видные деятели партии в разное время и по разным причинам полировали задницами тюремные нары. В их героических биографиях красной нитью проходит мысль, что они стали жертвами беззакония в борьбе со злой несправедливостью. Эти умники, ловко подтасовывая факты, нажили богатый политический капитал на инертности мышления масс, однажды поверивших, что настоящий революционер тот, кто сидел за решёткой. Судимость для власть имущих всё равно как орден для обывателя, так-то вот!
Если вы думаете, что снятое дисциплинарное взыскание очистило меня перед командованием в моральном плане, то глубоко ошибаетесь. Прошлогодний арест всплыл в совсем неподходящей ситуации. И вот как это произошло.
По случаю приближающегося выпуска из училища в полку шла интенсивная компания по приёму будущих офицеров в Коммунистическую партию.
– А если кто не хочет? – опрометчиво задал вопрос кто-то из задних рядов, когда замполит закончил свою агитацию.
– Как это – «не хочет»? – искренне удивился наш духовный отец. – Партия и народ вручают вам современное боевое оружие. Самолёт, которым вы управляете, стоит два миллиона рублей. Неужели кто-то думает, что такую ценность доверят беспартийному?
Никто, конечно, так не думал, и курсанты искали партийцев со стажем, имеющих привилегию давать рекомендации. По правилам их должно было быть три, но порядки изменились, и одну из них давал комсомол, как верный и надёжный помощник партии.
Оформив все документы и заполнив анкеты, я стал ждать. Собрание коммунистов состоялось в конце мая. И первым вопросом на повестке дня был приём в партию. Я волновался, когда, стоя лицом перед аудиторией, отвечал на спонтанные вопросы партийцев. Наизусть процитировал права и обязанности члена КПСС, толково объяснил современное международное положение, рассказал короткую биографию.
Всё шло хорошо до тех пор, пока не коснулись соблюдения мною воинской дисциплины. Замполиту бы промолчать, однако как честный коммунист он напомнил о моём аресте в прошлом году. Собрание сразу насторожилось, и замполит это уловил.
– Правда, – сообразил он с опозданием, – курсант сейчас на подъёме. Учится прилично, летает хорошо, в самодеятельности участвует, является военкором окружной газеты, – перечислил он мои плюсы, и собрание одобрительно закивало головами, согласившись с тем, что я хороший.
Но перед голосованием выступил начальник политотдела училища и испортил всю обедню. В своей проповеди он напомнил, что Никита Сергеевич Хрущёв поставил задачу бороться за чистоту и крепить авторитет партии и что ничего не случится, если с моим приёмом повременим.
– У него достаточно времени, чтобы доказать нам, что мы ошибаемся, – закончил он. – Такие ошибки приятны.
Большинством голосов собрание согласилось с мнением полковника, и я, сгорая от стыда, покинул душное и враждебно настроенное помещение. Глубокая обида, как кипятком, ошпарила моё сердце, ярости не было предела. Морду бы набить этому полковнику!
Прошло время, и страсти улеглись. Ничего, даже с таким проколом в биографии жить можно. Главное – не терять головы. Мы ещё утрём нос этому демагогу. Вот возьму и закончу училище с отличием, почему бы нет? Что я, пальцем деланный?
Мне припомнился момент пятьдесят пятого, когда я, в поношенном кургузом пиджачишке стоял перед списком офицеров, занесённых в Книгу Почёта за выдающиеся успехи в обучении. Книга висела рядом со Знаменем училища, и на её метровых страницах золотом сияли фамилии отличников. Их было около сотни, и я тогда ещё подумал, что неплохо было бы присоединиться к этой славной компании.. Но в рое наступивших событий и бытовых проблем тщеславная мысль затерялась где-то на задворках подсознания. Теперь наступила и её очередь. Кровь из носа, а стать золотым медалистом! Уж если быть, так быть первым! Тем более, что особых усилий для этого не требовалось. Память у меня вполне подходящая, но вот юношеская лень могла испортить погоду. Она никак не вписывалась в девиз капитана Григорьева: «Бороться и искать, найти и не сдаваться!».
Учился я легко, и по всем дисциплинам имел стабильные пятёрки. За исключением воздушно – стрелковой подготовки. С ней у меня не заладилось с самого начала. Не знаю почему, но я чувствовал предвзятое ко мне отношение со стороны нового начальника воздушно – стрелковой подготовки майора Томина.
Помню, ещё в школе учительница по истории Ноткина резко изменила ко мне отношение, когда я по своей глупости сознался, что не люблю её предмет. С тех пор оценок выше четвёрки у меня не было. Преподаватели, они как дети, тоже выбирают себе кумира из числа учеников. Может быть, и здесь такой же случай.
Решив расставить все точки над «и», я искал случая, чтобы переговорить с майором наедине. И через месяц такой момент представился.
Я был дежурным по классу и наводил порядок, когда он вошёл за какой – то надобностью. Набравшись смелости и сгорая от стыда, я сказал:
– Хотел бы с вами посоветоваться, Николай Васильевич. По всем предметам у меня оценки отличные. Кроме вашего. Вот я и подумал: стоит ли ломать копья за получение диплома с отличием?
Майор с любопытством поднял седую голову, помедлил и весело сказал:
– Давайте договоримся так: если экзамен по лётной подготовке вы сдадите на пятёрку, я не стану препятствовать вашему выпуску по первому разряду.
Господи, до чего просто решаются дела, возводимые нашими фантазиями в проблему. Спасибо тебе, старый вояка. Душу курсанта ты понимаешь.
Между тем, отношения мои с окружной газетой «Советский воин» сложились неплохо. Мой заочный редакционный куратор на всякий полученный им материал отзывался рецензиями, давал советы, хвалил, реже критиковал и указывал направления по темам, которые интересовали газету. В сущности, он активно обучал меня журналистскому мастерству. От мелких заметок я перешёл к расширенной информации, и на свой страх и риск позволял вносить в неё элементы домысла. Я отослал в редакцию обширную зарисовку под заголовком «Цена двух минут», где описал случай с выдуманной фамилией курсанта, который попал в ходе выполнения полётного задания в сложные метеорологические условия, летать в которых научен не был. Сюжетом послужил мой полёт в зону, на отработку сложного пилотажа, где я, проигнорировав команду руководителя полётов о немедленном возвращении на базу, выполнил лишний вираж и из – за этого чуть было не посажен на запасной аэродром – так запуржило на нашем.
Неискушённые в жанрах журналистики, ребята посчитали, что я написал рассказ. Разубеждать их в этом я не стал, побаиваясь обвинения в подтасовке фактов.
Редакция ежегодно объявляла конкурсы по жанрам и, как правило, подводила итоги к Дню Победы, почти совпадающем с днём печати. Участия в них я не принимал, считая, что к маститым журналистам не подхожу по весовой и умственной категориям, а проигрывать не позволял юношеский апломб. Однако был приятно удивлён, когда в списках победителей нашёл своё имя.
По этому случаю в полк прибыл мой куратор – майор, среднего роста военный, добродушный, слегка раздобревший и чрезвычайно разговорчивый.
Мы долго и с обоюдным интересом обсуждали планы редакции, соприкасались с проблемами в обучении, определяли ближайшие задачи и перспективы творческого роста. Весёлый и подвижный, майор по ходу разговора вставлял крепкие словечки, сыпал прибаутками и травил анекдоты на журналистские темы.
Встреча произошла накануне праздника, а утром на построении начальник политотдела полка зачитал приказ Командующего Сибирским округом, в котором мне за активную и плодотворную работу в газете объявлялась благодарность и вручались именные наручные часы. Новенькие, анодированные, с центральной секундной стрелкой, они побежали по рукам ребят, выражающих неподдельное одобрение и здоровую зависть. Моя старенькая «Победа», заметно проигрывала в эстетике, да и поизносилась за три года изрядно. Я ожидал увидеть на задней крышке подарка надпись со своей фамилией, но у Командующего на гравировку, наверное, денег не хватило.
Однако этот, в общем – то незначительный факт не помешал мне чувствовать себя героем. Я ходил гордый и надутый, как индюк. Мишка Звягин категорически потребовал обмыть награду. Я согласился, но поставил условие: обмывать без спиртного. Не всем это понравилось, но что поделаешь, хозяин – барин. Известием с таким событием, как премия на ниве журналистики, не поделиться с друзьями и родными я не смог, втайне надеясь, что информация об этом дойдёт и до зооинститута…
Лето пятьдесят девятого года выдалось на редкость горячим. От жары под сорок посохли все цветы на клумбах, несмотря на тщательный уход и ежедневный полив. Сухой раскалённый воздух нещадно скручивал листву, и чтобы как-то спастись от невыносимого зноя, полёты планировали с четырёх утра.
Задолго до рассвета авиационный городок оживал, и его обитатели, наскоро умывшись, спешили на аэродром. Курсанты проглатывали лёгкий завтрак, проходили медицинский контроль и неторопливо, сонно брели к самолётам. Истребители расчехляли, и пока разведчик погоды выполнял свою неизменную работу по исследованию воздушного пространства в районе предстоящих полетов, проводили подготовку, пробовали работу силовых установок, сверяли показания приборов.
Потом лётный состав собирался в классе предполётной подготовки. Обычно начинал старший метеоролог, докладывая об особенностях воздушной обстановки, доктор информировал о состоянии здоровья курсантов и инструкторов, инженер эскадрильи – о готовности техники, а под занавес о конкретной погоде говорил и лётчик – разведчик.
Руководитель полётов напоминал о строгом выполнении плановой таблицы и других, важных на его взгляд деталях, от которых зависела безопасность и чёткость работы, и по традиции заканчивал выступление фразой «вопросы есть?». Как правило, вопросов не возникало, и тогда раздавалась долгожданная команда « по самолётам».
На втором году обучения на МиГ – 15 – х мы приобрели статус равноправных с постоянным лётным составом, и даже техники самолётов, офицеры по званию, рапортовали нам, курсантам, о готовности материальной части к полётам, приложив руку к головному убору.
Ослабла опека и со стороны инструкторского состава. Предполётный и послеполётный разговоры не касались о выполнении заданий вообще. Речь шла об особенностях и тонкостях выполняемых элементов, о тех нюансах, которые позволяют добиться превосходства над воображаемым противником в воздушном единоборстве.
Сулима имел полное право гордиться своими питомцами. Почти всё, что он умел, передал каждому. Это был инструктор от Бога, профессор – педагог, умеющий из кучи дерьма выудить ту самую золотинку, которая впоследствии становилась сердцевиной высоких бойцовских качеств лётчика – истребителя. Стоит ли говорить, что инструкторами становились лучшие из лучших выпускников в училище. Однако в нашей среде укрепилось твёрдое мнение, что остаться «инструкторить» – значит навсегда расстаться с мечтой о большом небе.
Положение о том, что эта должность на ступень выше, чем в строевой части, никого не прельщала. Возможно, что одной из причин негативного настроя остаться в училище являлось слишком затянувшееся обучение. Судите сами: вместо положенных двух лет мы добивали четвёртый. Казарма была почти тюрьмой, а всякие ограничения становились пыткой. Душа рвалась на свободу, и до смерти хотелось самостоятельности.
Разговор об инструкторской работе коснулся и меня. В приватной беседе Сергей Александрович прямо спросил, как я отношусь к этому вопросу.
– У меня, товарищ капитан, другие планы, – не задумываясь, ответил я. – Понимаю, что в приказном порядке меня можно к этому принудить, но я готов сделать всё, чтобы попасть в строевую часть. Что от меня для этого требуется?
Сулима помолчал, тяжело вздохнул, сказал «жаль, очень жаль, я на тебя имел виды», и закончил:
– Что ж, если решение твоё окончательное, вот тебе моё слово: закончишь училище по первому разряду,– сам выберешь округ, в котором будешь служить. Это, кстати, привилегия отличников. А теперь ступай, у меня через полчаса важная встреча.
Время Государственных экзаменов приближалось. Ждали мы его, как манны небесной, как заключённый дня своего освобождения после долгой отсидки.
Амурные дела отодвинулись на второй план, с местными девушками я не встречался, да и со Светланой переписка велась вяло. На мои письма она отвечала с большой задержкой, ход её мыслей был суховат и краток. Я не без основания предполагал, что за этим скрывались проблемы личного плана, но об этом она помалкивала. Светка перешла на последний курс и в будущем году должна была стать дипломированным зоотехником. По существу род её будущих занятий никак не совпадал с профилем работы военного лётчика. Рассуждая на эту тему, я уже тогда обратил внимание на то, что спутницами жизни кадровых военных становятся, как правило, врачи и педагоги.
Вероятность трудоустройства в гарнизонах по таким профессиям была достаточно высока, но если Светка выйдет за меня замуж, то реализовать на практике своё образование ей вряд ли удастся. Разве что разводить свиней в прикухонном хозяйстве батальона обслуживания. Свинарка и лётчик-истребитель? А что, в этом что-то есть. Славная выйдет парочка – баран да ярочка!
Между тем, в общении с редакцией я получал не только моральный, но и материальный стимул. Курсантского денежного содержания мне хватало, и в последние месяцы большую часть гонорара я стал отсылать родителям. Несмотря на приличные заработки отца и небольшие доходы матери, промышляющей торговлей семечками и вяленой воблой, в семье ощущалась нехватка денег, чтобы жить достойно. Значительную часть доходов съедало обучение моего брата в музыкальном училище и оказание помощи дочери, до сих пор не решающей разорвать связь с мужем Александром, старшиной сверхсрочной службы, оказавшимся выпивохой и скандалистом. Несмотря на его несносное поведение в состоянии подпития, мне он нравился за весёлый нрав и безропотное выполнение обязанностей главы семьи в остальное время. Племяннице шёл уже десятый год, и она расцветала, превращаясь в девушку с симпатичной мордашкой.
Брат и сестра писали редко, по большим праздникам, и об их жизни я узнавал из писем матери.
Семья гордилась моими жалкими переводами, но в каждом письме мать укоряла меня за то, что я транжирю свои деньги, пусть хотя бы они были и гонорарные. Она одобряла моё увлечение журналистикой и как-то призналась, что вынашивает мечту написать книгу о своей жизни, да вот грамотности нехватает и базар затянул, будь он неладен.
В самый разгар лета, когда всё живое пряталось в спасительную тень, командование решило провести олимпиаду по лёгкой атлетике.
Мне предстояло выступать по двум видам спорта – в эстафете 400 на 4 и упражнениях на лопинге. На снаряде отработал я прилично и занял третье место в училище, а вот на беговой дорожке не повезло. На финишной прямой мой извечный противник Двинских наступил на левую пятку шиповкой, сбил с темпа, и, испытывая неимоверную боль, я всё – таки доковылял до цели, но последним. Сделал ли это он умышленно или по неосторожности, не мне судить. Но травма приковала меня к постели на полторы недели, я не летал и на этой почве чуть не подрался с обидчиком. Пораненное сухожилие не на шутку меня тревожило, на носу были выпускные экзамены, и я боялся, что не закончу положенной программы.
Тем не менее, бодрился, и используя вынужденное безделье, приналёг на теорию, пробегая по диагонали конспекты по ведущим дисциплинам и строго выполняя предписания врача.
Молодость и здоровый организм всегда были моими надёжными союзниками, и через десять дней я уже летал, навёрстывая упущенное.
В середине августа месяца начались Государственные экзамены. Из Главного штаба ВВС прибыла компетентная комиссия во главе с генералом, члены которой присутствовали на сдаче всех теоретических дисциплин. Разумеется, обстановка крайне накалилась. Курсанты волновались, как студенты, но бодрились, ожидая вызова, и тщательно прятали шпаргалки.
Однако никто не провалился. Да этого не могло и быть, поскольку среди нас кретинов не было.
У меня всё шло хорошо, дополнительных вопросов не задавали, а приобретённый опыт показывал, что это один из важнейших показателей качества твоих ответов. Дело ведь не только в том, чтобы приобрести знания. Нужно уметь их выгодно продать, в конкретном случае – преподнести. Мне это удалось. И только по проклятой воздушно – стрелковой подготовке один из оппонентов засомневался при определении окончательной оценки, зануда.
Наконец наступил долгожданый день, – день испытаний на лётную зрелость. По плановой таблице моим проверяющим должен был быть полковник Шмелёв. Однако в последний момент капитан Сулима подошёл, спросил о самочувствии, ободряюще хлопнул по плечу:
– Полетишь с председателем комиссии. – Шмелёва медики к полётам не допустили. Ты справишься, я знаю.
«Вот тебе, матушка, и Юрьев день!» – дрогнуло моё сердце. Ну, чем я тебя провинил, Господи? Шмелев, говорят, боевой летчик, а председатель комиссии
– не сахар, уже двоим, закатал по технике пилотирования по четвёрке. Не судьба, значит.
– Так, – сказал генерал, помахивая стянутым с головы шлемофоном: – Про задание, к которому готовился, забудь. Выполнишь пару крутых виражей, переворот, пикирование, петлю и боевой разворот, а там посмотрим. И не выпендривайся. Делай так, как умеешь. Готов?
– А как же, товарищ генерал? Готов, как пионер! – бодро ответил я.
– Ишь ты, шустряк, – добродушно одобрил проверяющий. – Тогда вперёд, пионер.
Простота генеральского лексикона мне понравилась.
Мы подошли к спарке, и Авдеич, тридцатилетний техник самолёта, по всей форме доложил генералу о готовности матчасти к эксплуатации.
Проверяющий неторопливо поднялся в заднюю кабину УТИ, я ящерицей скользнул на рабочее место, накинул привязные ремни, по привычке осмотрелся, фиксируя показания приборов, положение тумблеров, переключателей и рычагов управления. Всё было в ажуре.
– Запрашивай разрешение на выруливание, – донёсся из задней кабины приглушенный генеральский голос и больше я его не слышал, вплоть до посадки. И только на земле, когда я зарулил на стоянку, откашлявшись, бросил:
– Замечаний нет. Но перегрузочка на виражах предельно ощутимая.
Пока я, стоя в сторонке, ломал голову, хорошо это или не очень, Сулима отделился от генерала, нашёл меня глазами и украдкой поднял большой палец вверх – жест, понятный даже глухо – немому.
Вскоре были подведены итоги, и к нашему ликованию экипаж капитана Сулимы получил общую отличную оценку. И Девин, и Чирков и Мазикин заработали пятёрки, и только Володька Забегаев срезался на боевом развороте, но огорчения на его лице никто не заметил.
Сулима ходил именинником, на радостях пригласил всех в гости, и мы с удовольствием выпили по маленькой, празднуя триумф инструктора и нашу замечательную победу.
Не скажу, что это был последний полёт в училище. Доводилось летать и позже, но в других, уже в качестве пассажира, когда я стал профессиональным журналистом.
Конец августа и весь сентябрь братва томилась в ожидании приказа Министра Обороны о присвоении первого офицерского звания.
Нам выдали комплект офицерского обмундирования. Его было так много, что еле помещалось в два приличных размеров чемодана.
Все увлеклись подгонкой, и для пошивочного ателье снова наступили авральные дни. Всё тот же резвый закройщик – толстячок хлопотал, бегая вокруг нас, заставляя по несколько раз снимать и наряжаться в пахнущие новизной элегантные костюмы. Это был настоящий портной, по уши влюблённый в свою профессию, как мы в полёты, и там, где нам казалось, что китель и брюки сидят по фигуре, он обнаруживал только ему известные изъяны. Мы терпеливо сносили неудобства и безропотно подчинялись всем его капризам. А потом, уже в казарме, снова облачались в новенькую, в буквальном смысле с иголочки, парадную форму, надевали сияющие в зайчиках солнечного света ботинки, не торопясь, повязывали голубые галстуки на белые рубашки, подпоясывались канареечного цвета парадным ремнём, набрасывали на головы офицерские фуражки и в самодовольном смущении дефилировали по казарме. На ремнях ещё сохранилось устройство для подвески офицерского кортика, и мы с огорчением сетовали, что пару лет назад какому – то чиновнику пришла паскудная мысль в целях экономии упразднить выдачу холодного оружия вновь испечённым офицерам. А вот лётчиков морской авиации этот приказ не касался. Обидно, но выше головы не прыгнешь.
Местные парикмахерские за две последние недели выполнили годовой план.
Стриглись все, и по самой последней моде – под «полечку». Рассматривая себя в зеркале, мы тщательно оценивали работу цирюльников и безропотно платили по явно завышенной таксе.
Магазины райторга тоже не были в накладе. Все чемоданы, даже те, что долгие годы пылились на складах, были реализованы: не везти же офицерское приданое в паршивых рюкзаках.
Большой популярностью пользовалась и местная фотография. Мы снимались персонально, парами и группами, фиксируя на память счастливые лица ещё не офицеров, но уже и не курсантов. Фотографии по большому счёту были так себе, средненькие, но считались по прейскуранту художественными.
В этот же беспокойный период произошло событие, которого я с нетерпением ждал. На партийном собрании я стал членом КПСС. Проголосовали за это решение единогласно.
Обо всех событиях я подробно написал в окружную газету, сопроводив материал снимками друзей и инструкторов. Редакция среагировала во – время, и моя зарисовка вышла как раз в день присвоения лейтенантского звания. Впрочем, публикации, как и гонорара, я уже не увидел.
Военный городок гудел в эйфории, и женская половина Топчихи зачастила на его территорию, нарушая график, предписывающий посещения части только в выходные дни.
Наше непосредственное начальство заметно ослабило требовательность к строгому соблюдению дисциплины и распорядка дня. Даже замполит без лишних слов и нравоучений отпускал в город в любое удобное для нас время. Без всяких увольнительных! Грань между офицерским составом и курсантами заметно стиралась.
К этому времени я уже завязал всякие общения со знакомыми девушками. С Зоей мы расстались по – хорошему. Несмотря на невзрачный вид, она была мудрой женщиной и поняла, что наша любовная связь не давала права на предъявление каких – либо серьёзных претензий друг к другу. Вместе нам было хорошо, но этот роман не мог длиться вечно. К тому же она сама призналась на последнем свидании, что у неё появилось новое увлечение, сулящее перспективу стать замужней дамой. С улыбками встретились, по – дружески разбежались.
Согласитесь, что нет на свете большей муки, чем ждать и догонять. Время шло, а известий из Москвы, увы, не было. Несмотря на пробивной характер порученца, попасть на приём к Министру Обороны ему никак не удавалось. Каждый самолёт, приземлившийся на нашем аэродроме, встречался с надеждой, что из него покажется тучная фигура начальника отдела кадров. Ребята злословили: до войны самым популярным был лозунг « Кадры решают всё!», после войны – « В кадрах решают всё!», а сегодня – «Кадры решили – и всё!».
Мы с тревогой и любопытством следили за поединком между девушкой и нашим товарищем (не будем называть его фамилию ), попавшем в щекотливое положение. Девушка во что бы то ни стало хотела быть офицерской женой и написала заявление в политотдел, что курсант её изнасиловал. Дело оборачивалось крупным скандалом, а по большому счёту уголовщиной, и серьёзно подмачивало репутацию училища. Ни попавший впросак выпускник, ни, тем более, командование не желали, чтобы их водили мордой по батарее. Надо было что-то делать.
Выход нашли друзья курсанта. Двое из них в письменной форме признались, что с непорочной заявительницей они тоже находились в интимной близости.
Обливаясь слезами, проклиная тот час, когда поверила в искренность чувств отъявленного негодяя, воинственная покусительница на свободу нашего героя покинула кабинет начальника политотдела. Честь прославленного училища была спасена.
Картина построенного на широком плацу в полном составе полка была потрясающе красива. Алое полотнище полкового Знамени, щедро облитое солнечными лучами, гордо стояло между ассистентами. Духовой оркестр блистал начищенными до сияния инструментами, ослепляя неосторожный глаз.
В голове каждой эскадрильи, в парадной форме, украшенные орденами и медалями, плечом к плечу выстроились наши инструкторы. За ними строго по линейке вытянулись мы, в синих, как небо, мундирах, с золотыми погонами на плечах, подпоясанные жёлтыми плетёными ремнями.
Торжественное построение возглавлял сам начальник училища, седой и бравый, с тяжёлым иконостасом боевых наград на широкой груди. В окружении своих заместителей и офицеров штаба полка, он стоял в центре небольшой трибуны, оглядывал строй и приветливо улыбался.
Наконец раздалась долгожданная команда « Равняйсь! Смирно!», и оркестр заиграл ритуальный сигнал « Слушайте все!».
Начальник штаба училища развернул коричневую папку и громко и внятно зачитал приказ Министра Обороны о присвоении выпускникам первого офицерского звания «лейтенант». В ответ под звон литавр, грянуло мощное и протяжное троекратное офицерское «Ура!».
Перед каждой эскадрильей, чуть впереди трибуны, на покрытых бархатными скатертями столах высились горки дипломов и белые коробочки со значками с короткой, но выразительной аббревиатурой «ВУ».
Генерал и иже с ним спустились с трибуны и приняли участие в церемонии вручения дипломов. Именно из его рук я принял жёсткие красные корочки и нагрудный знак.
– Поздавляю с успешным окончанием училища и присвоением воинского звания «лейтенант»! – сердечно произнёс он и энергично потряс мою руку.
– Служу Советскому Союзу! – как и подобает в этом случае, по уставу ответил я, чётко повернулся кругом и внутренне ликуя вернулся на место.
Через полчаса под звуки бравурной мелодии полк по – эскадрильно прошёл торжественным маршем и у казармы рассыпался.
Что тут началось!
Родители, сумевшие приехать на празденство, смешались с военными, обнимали и целовали сыновей, смеялись и плакали, и гордость за них, не менее высокая, чем у нас за себя, так и брызгала из сияющих счастьем глаз.
Знакомились, фотографировались на память, обменивались адресами, перебивая друг друга, вспоминали курьёзные случаи, показывали свои кровати и тумбочки в казарме, как будто это было важно, и везде улыбались.
Нет ничего приятней, чем видеть вокруг себя море улыбок.
Постепенно ажиотаж стал спадать, толпа редела, рассасывалась по городку, и лейтенанты под крендель чинно вели своих родных и девушек по принаряженным аллеям. Аура беспечного веселья и безобидного щебетанья, словно бархатом, мягко и нежно покрывала и людей, и постройки и всю округу вместе с аэродромом и присмиревшими на стоянках самолётами. Те, кто был свободен, остались в казарме, некоторые отправились в штаб выправлять проездные документы и получать денежное содержание.
Кроме двухмесячного жалования, мне выдали премию за красный диплом, и теперь внутренний карман моей тужурки приятно оттопыривался и вселял уверенность, что всё будет хорошо.
К курсанту… э-ээ, простите, к лейтенанту Давлетшину явилась с вещичками топчихинская красавица. По обоюдному согласию они должны были ехать к месту его службы вместе. Давлетшин оставил невесту караулить чемоданы в курилке, и убежал в штаб батальона выправлять проездные документы, да так и забыл вернуться, в спешном порядке укатив в Барнаул на ближайшем поезде. Брошенная самым бессовестным образом девушка нашла утешение в старых подшивках газет, обнаруженных в багаже беглеца.
Этой трагикомичной сцены мне увидеть не удалось, и узнал я о ней из письма Вовки Забегаева, оставленного в училище работать инструктором.
Заключительным аккордом незабываемого торжества прозвучал прощальный праздничный обед, организованный вскладчину.
В Красном углу за почётным столом лицом к залу сидели именитые гости из местной знати и командование. Лились рекой поздравительные речи и вино, от имени новоиспечённых лейтенантов кто-то выступил с благодарственной речью и проповедью, а за столиками слегка подвыпившие ребята клялись друг перед другом в вечной дружбе.
Перед разводом Мишка Звягин затянул песню « Мы друзья – перелётные птицы…», её дружно подхватили и на этой оптимистической ноте стали расходиться. На выходе из столовой я бросил взгляд на раздевалку, где провёл с Зойкой немало приятных минут, и искренне пожелал ей удачи в жизни.
Через два часа, слегка обалдевший от событий и выпитого, я вместе с группой ребят трясся на местных колдобинах в гарнизонном стареньком автобусе, навсегда увозившим нас из милой альма-матер. И сердце колотилось часто и звонко, и щемящее чувство сжимало грудь, и было почему-то и радостно, и грустно и тревожно. Так, очевидно, чувствует себя жеребёнок, отбившийся от табуна, перед бескрайними просторами ковыльных степей…
– Разрешите доложить?
Взяв под козырёк, я стоял на пороге родного дома, подпираемый с двух сторон внушительных размеров чемоданами, смотрел на изумлённую мать, и улыбка от уха до уха раздирала мои щёки.
– По случаю окончания истребительного училища прибыл в очередной отпуск! Здравствуй, мама!
Впоследствии я не раз сравнивал эту картину с Ивановской, увиденной по случаю в Третьяковке – «Явление Христа к народу». И было в них что – то похожее.
Мы припали друг к другу, и материнские глаза, переполненные слезами радости, засияли от счастья. Заметно подросший Юрик повис у меня за спиной, а мать, оторвавшись, осмотрела меня сбоку и покачала головой:
– Осподи, я как знала. Собралась на базар, да что-то расхотелось.
– А ну-ка, мать, дай и мне обнять сына, – шагнул навстречу поседевший мартеновец, и мы молча и крепко обнялись.
Дом наш был всегда хлебосолен. Даже в голодные военные годы у матери для прохожего всегда находилась корочка хлеба, чтобы заморить червячка, и она никогда не скупилась, отрывая порой от семьи последнее.
– Бог взял, Бог и даст, – объясняла она свои поступки незатейливой поговоркой.
А здесь событие исключительное – старший сын, надежда семьи, состоялся!
И этот субботний завтрак затянулся до обеда.
К вечеру в нашей небольшой квартирке яблоку не куда было упасть. За столом мест не хватало, и подвыпившие друзья и вовсе незнакомые мне люди устраивались, как могли. Раскрасневшаяся и весёлая мать хвасталась перед товарками моим красным дипломом:
– С отличием, паршивец он этакий! Не зря, стало быть, я его порола, как сидорову козу!
Подруги одобрительно шептались, ели меня глазами и, не скрываясь, завидовали матери.
Кроме братьев Григоровых, заглянула на огонёк и их сестра Зиночка, успевшая после родов заметно раздобреть. Она обзавелась семьёй, и теперь жила отдельно. Я мысленно представил её своей женой, и совершенно не одобрил своего выбора.
К полуночи я так устал, что мгновенно уснул на своей старой подружке – кровати. А наутро, ещё не успев разомкнуть глаз, почувствовал дразнящие запахи материнской стряпни.
Праздник продолжался. Всё повторилось по вчерашнему сценарию, но на этот раз за столом восседала элита старшего поколения. В полном комплекте явилась семья моей сестры Марии. Александр, её муж, по-солдатски крепко стиснул меня в объятьях, троекратно расцеловал и шутливо спросил:
– Надеюсь, господин лейтенант, вы позволите старому вояке осушить в вашу честь пару-тройку бокалов?
– Не возражаю, – ответил я ему в тон, и мы рассмеялись.
Племянница Люська заметно подросла и пополнела. Смущаясь, она протянула мне букетик цветов и застенчиво поздравила.
Чуть позже за порогом раздались заливистые переборы гармони, и в дом, приплясывая, вошла чета Пугаевых – Мария Олимпиевна и Иван Алексеевич. Окая, он пожелал через двадцать лет увидеть меня генералом, а его жена, великолепная и непревзойдённая стряпуха, выложила на стол собственного приготовления кастрюлю знаменитых уральских пельмешек необыкновенной вкуснятины. Ну как же без них на таком торжестве!
Но самым убийственным сюрпризом для меня оказался визит Светкиных родителей. Её отец, Егор Петрович, сухонький и жилистый мужичок среднего роста, был человек партийный и избегал шумных компаний. Никогда и нигде я не видел его не то, чтобы пьяным, но и навеселе, или оказавшемся бы замешанным в каком-то скандальном деле. Как всякий худой, он обожал поесть всласть, а на десерт предпочитал яблоки, уверяя всех, что они – источник долголетия. Прав он был или нет, но только прожил Егор до глубокой старости и расстался с этим миром на девяносто пятом году жизни.
Его жена Фаина Дмитриевна по комплекции была совершеннейшим антиподом супруга. Ниже среднего роста, с тяжёлой грудью и вполне упитанная женщина, она производила впечатление дамы довольной и обеспеченной. На круглом её лице, как визитная карточка, всегда присутствовала милая улыбка, но однако подозрительный взгляд и вкрадчивость движений настораживал и отпугивал окружающих. Она очень смахивала на сотрудника НКВД, хотя на деле работала поваром в заводской столовой.
Пожелание Егора Петровича сделать мне хорошую карьеру слегка удивило. Дело в том, что слово это из уст партийца было, по сути, кощунственным. Склонность к карьеризму, упомянутая, не дай Бог, в характеристике, считалась самым тяжким грехом и загодя ставила крест на продвижение по службе. Странно, очень странно слышать о моей карьере от закоренелого большевика.
Однако праздник удался. Как всегда, много пили и ели, хором пели старинные романсы и современные песни, плясали под лихие переливы звонкой гармони. Весь в поту, Иван Алексеевич, натянув тальянку на голову, задорно притопывал в такт музыке и охмелевшим голосом выводил одну частушку озорнее другой:
– Ах, милка моя, милка ласковая. Все кальсоны порвала – хрен вытаскивала, – под хохот гостей выложил он очередной перл из своего нескончаемого репертуара и, обессиленный, упал на стул. Ему тут же предложили стопку, и он, озоруя, ухватил её зубами за край, и, не переставая играть, опрокинул в рот под одобряющие возгласы окружающих.
От отбивающих дробь женских каблуков резонировали стёкла, а в коридоре у двери кучковались детишки. Мать, как всегда, уделила внимание и им, угостив пригоршней конфет, выуженных из широкой стеклянной вазы.
Веселью, однако, пришёл конец, и я, как образцовый сын, целый месяц помогал семье по хозяйству, закупал продукты, носил воду из колонки, расположенной неподалеку от Светкиного барака. Родители её о наших отношениях разговоров не вели, но уже сам визит их в мою семью говорил о многом.
По шлакоблочному участку уже все знали, что в скором времени бараки снесут и на их месте построят современные пятиэтажные дома со всеми удобствами. Это была розовая мечта людей, по самые ноздри нахлебавшихся прелестей полулагерной жизни. Камеры – квартирки, на окнах ставили решётки. Не хватало только охранников. Но милицейский надзор не дремал ни днём, ни ночью. Присматривал, на всякий случай, за порядком.
Режим перемещения по стране явно смягчился, и недели через две после моего прибытия состоялся семейный совет, на котором родители высказали желание вернуться на малую родину. Мои предложения потерпеть, дождаться квартиры в новом доме и обменять её на Сталинград, были отвергнуты. Ностальгия превышала разум.
…Ещё в училище мы, выпускники – челябинцы, договорились о времени встречи в кафе «Родина». Добираться до него пришлось на трамвае.
– Вы у « Родины» сходите? – спросил я у девчонок, готовясь выйти на одноименной остановке в районе Заречья. Окинув меня презрительным взглядом, они в голос ответили:
– Сам ты урод!
Надо же, как по глупой неосторожности можно обидеть людей!
Явились все, и Володька Дружков в роскошном бостоновом костюме, и Забегаев в новеньких штиблетах при галстуке(!), и Романов в белоснежной рубашке с запонками, и Женька Девин прикатил со славного шахтёрского города Копейска, ну, и конечно, я, но только почему – то в парадной форме.
Вечеринка всем понравилась, мы пользовались заметным вниманием и уже увлеклись амурными делами, но развернуться по – настоящему не получилось. Вовка Романов, слегка захмелевший от местного портвейна, неожиданно заявил, что во что бы то ни стало должен к утру быть в Свердловске.
Я помнил этот город, где по счастливой случайности удалось попасть в театр и посмотреть « Сильву» – знаменитую оперетту Кальмана. Мне было пятнадцать лет, и впечатлений было – на всю оставшуюся жизнь.
Мы покинули кафе и всей кодлой поехали на вокзал провожать Романова.
В кассовом зале народу было гуще, чем на барахолке. Несмотря на поздний час, каждый энергично штурмовал единственное зарешечённое окно, где продавались железнодорожные билеты. В крошечной амбразуре словно навсегда застряли три кулака с зажатыми в них деньгами и документами. В очередь становиться и думать было не чего, тем более, что до отхода Вовкиного поезда оставалось не более получаса.
Вспомнив известную поговорку, что лётчик должен быть слегка пьян и немножко нахален, я взял Вовкины проездные, поправил парадную фуражку, продвинулся к кассе, насколько мог, и громко и отчётливо произнёс:
– А что, Героям Советского Союза – тоже стоять в очереди?
Головы штурмующих как по команде повернулись в мою сторону. Говор на секунду смолк, и в наступившей тишине чей-то женский голос с уважением произнёс:
– Нет, почему же, проходите, пожалуйста.
И люди, готовые перегрызть глотки друг другу за получение вожделенного права стать пассажирами, послушно расступилась…
С билетом в ладони я вылетел из толпы, как пробка из бутылки. Уже на излёте кто-то с опозданием полюбопытствовал:
– Вы что же, и вправду Герой?
– А что, – невинно, во всё лицо заулыбался я, – и спросить нельзя?
Как меня не побили, – ума не приложу!
Удивительно, но открывшиеся блестящие возможности по покорению женских сердец – и собой хорош, и перспективный молодой лётчик – истребитель и, стало быть, при деньгах, – меня не привлекали. Если раньше я готов был оседлать любую шевелящуюся щепку, то теперь, встречая зовущие взгляды уральских красоток, учтиво раскланивался и равнодушно проходил мимо. О своей неожиданной метаморфозе я не задумывался. Возможно, что на это повлиял мой новый статус? Или визит родителей Светки? Умный и хитрый Егор Петрович приходил к нам, конечно, неспроста. Из разговора со мной он сделал вывод, что я попрежнему увлечён его дочерью, остался доволен и сделал свои выводы. Как я понимаю, в мою пользу.
В последний осенний день, рано утром я покидал дом, где прожил десять длиннющих, полных нищеты и лишений, но по – настоящему счастливых, лет. Впереди ждал боевой истребительный полк, офицерская семья и работа, без которой я уже себя не мыслил.
…Чёткое выполнение армейских канонов и предписаний выработали у меня стойкий инстинкт ощущения времени, хотел бы я этого или нет. Помните, у Чаплина после однообразной работы на конвейере выработался рефлекс крутить гайки всегда и везде? Что-то похожее появилось и у меня. В народе бытует мнение, что люди делятся на жаворонков и сов. Жаворонок – птица ранняя, жить начинает с первыми лучами солнца, а совы, как известно, – хозяйки ночей.
В детстве я был, безусловно, совой, и мать поднимала меня с постели с боем. Но теперь времена изменились. За моими плечами остались долгие четыре года армейской жизни с жёстким распорядком дня и командой «Подъём!» ровно в шесть часов утра, и ни минутой позже. Жуткая, насильственная, отвратительная команда даже для тренированного человека. Так что согласитесь вы или нет, но я твёрдо убеждён, что армия – это фабрика по производству жаворонков.
…Подчиняясь приобретённому иммунитету, я проснулся на новом месте ровно в шесть. И сразу же понял, что торопиться некуда. Мои друзья – однокашники Толя Летунов и Саня Балабриков ещё спали. Большое окно нашей комнаты тёмно – сине чернело по правую руку, информируя о том, что до рассвета ещё далеко. Я сладко потянулся и восстановил в памяти события минувшего дня.
Вчера около восьми утра я благополучно добрался до города Ленинграда, сдал багаж в камеру хранения и налегке вышел из здания Московского вокзала. Прямо передо мной широко и вольготно развернулась привокзальная площадь, а за ней в свете фонарей, знаменитый Невский проспект, роскошный и интеллигентный, неповторимо красивый и привлекательный.
Несмотря на ранний час, по проспекту двигался плотный поток автомобилей с зажжёнными фарами, создавая иллюзию огненной реки. У меня в запасе был целый час до начала работы штаба, и я, расспросив, как добраться до Зимнего Дворца ( оказалось – прямо, прямо и снова прямо), с любопытством двинулся к цели.
Лёгкий морозец слегка пощипывал щёки, лениво падал редкий снежок, деловито спешили навстречу люди, какие – то особенные, необычные, если хотите – загадочные. Сначала я не понял, почему так думаю, а потом догадался – это были ленинградцы.
Невский проспект поразил меня своей архитектурой. Никогда и нигде я не видел столь экзотических зданий. Каждое было по-своему оригинально и представляло музейную редкость. Елисеевский магазин, Аничков мост, Колизей, Дом книги, Гостиный двор, Летний сад, – всё было восхитительно прекрасно, и я завидовал людям, которые вкушают эту красоту каждый день. В конце проспекта на одном из зданий справа от меня висела табличка с надписью: « Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна». Война давно закончилась, но её эхо навсегда застыло в этом коротком, как выстрел, предупреждении.
Если смотреть на Зимний Дворец со стороны фасада, то штаб воздушной армии размещался как раз по правую от него руку. Перед революцией здесь по уверению старожилов размещались царские конюшни и помещения для обслуживающего персонала, но об этом я узнал позже, а пока, найдя вход, не без робости открыл тяжёлую половинку высоких дубовых дверей и оказался лицом к лицу с дежурным подполковником. Выслушав мой доклад, он куда – то прозвонил, выписал разовый пропуск и объяснил, как попасть в отдел кадров.
Двигаясь в указанном направлении, я невольно вспомнил, что именно здесь тридцать лет назад служил в кавалерийском полку мой отец, и вполне возможно, что сейчас я шагаю по его следам. Вот тебе и преемственность поколений!
В узком и длинном кабинете высотой не менее пяти метров фигура кадровика, поднявшегося мне навстречу, показалась явно коротковатой. Мягко улыбаясь, майор пригласил к столу, внимательно изучил поданные документы, сделал по телефону какие-то распоряжения и попросил подождать в коридоре.
Высокие и широкие окна выходили во двор штаба, в котором находилось несколько машин, возле них хлопотали солдаты, очевидно, водители. Мимо меня, чем-то озабоченные, проходили офицеры, я приветствовал, но никто из них этого не замечал.
Через час томительного ожидания меня, наконец, вызвали, и тот же майор, вручил свеженькое предписание и удостоверение личности:
– Вы направляетесь в распоряжение командира 26-го гвардейского истребительного полка. Это хороший полк, и личный состав его – тоже. Ближе познакомимся по ходу службы, а пока – успехов вам, лейтенант! – и он крепко, по-мужски, стиснул мою руку.
Наскоро перекусив слоёным пирожком с кофе в одном из многочисленных кафе, я забрал вещи из камеры хранения и через пару часов, покинув Финляндский вокзал, двинулся в сторону Сиверской на пригородном поезде. По уму нужно бы было нанести визит моему двоюродному брату, проживающему на Васильевском острове, но нетерпение оказаться как можно быстрее на месте первой службы было выше этого желания.
Удобно расположившись на жёсткой, изрезанной инициалами и короткими надписями вагонной скамье, я с жадностью и любопытством, рассматривал заоконные пейзажи, островерхие крыши дачных посёлков и старинные постройки Гатчины – цитадели императора Павла 1-го и одного из фаворитов Екатерины Великой. И от того, что мне по счастливой случайности повезло соприкоснуться с историей моего Отечества, приятно щекотало самолюбие, и тешила мысль – всё будет хорошо.
Высокий сухощавый полковник с ярко выраженной сединой и глубоко посаженными острыми глазами встал из-за массивного стола и принял от меня доклад о прибытии для дальнейшего прохождения службы. Резкие морщины на лбу, чуть приспущенные уголки рта, крепко сжатые и потому казавшиеся тонкими губы, слегка раздвоенный ямочкой подбородок выдавали в нём человека волевого и решительного. На груди командира полка слева красовались четыре ряда орденских планок, а справа – нагрудный знак в перекрестии кинжалов со щитом в центре, на котором чётко вырисовывалась цифра «1», говорящая о том, что перед тобой – первоклассный военный лётчик. У меня был такой же, но без цифр.
Тот, кто разбирается в геральдике, не задавая ни одного вопроса, по иконостасу полковника мог бы рассказать всю его биографию.
– Присаживайтесь, – пригласил командир мягким приятным баритоном, указывая на массивный стул возле длинного, накрытого зелёным сукном, стола.
Я осторожно расположился напротив и огляделся. Кабинет моего босса был просторен и внушителен. Вдоль узких и высоких окон свисали бордовые гобеленовые шторы, в углах накрепко врезались в дубовый пол два массивных застеклённых шкафа, заполненных книгами, папками и рулонами ватмана. На столе командира, кроме бронзовой чернильницы и нескольких бумаг, стояла модель МиГ-17.го, выполненная из плексигласа.
– Рассказывайте, – так же коротко предложил полковник Лукашевич и только теперь с любопытством осмотрел мою физиономию.
Я коротко, по– военному доложил ему, о чём не упоминалось в личном деле, потому что догадывался, что с ним предварительно поработали, и повторяться не имело смысла.
– Хорошо, – подытожил мой монолог Лукашевич, прихлопнув ладонью о край стола и как бы заканчивая аудиенцию. – Остальные детали уточним в полётах. А пока назначаю вас в эскадрилью майора Прошкина. Командир боевой, фронтовик, и летает – дай Бог каждому.
Я осторожно закрыл за собой дверь, прошёл мимо Знамени части с застывшим рядом с ним часовым, отдал, как положено по уставу, честь и направился искать своего будущего командира эскадрильи.
Прошкин нашёлся на втором этаже в классе предварительной подготовки к полётам. Передо мной стоял уже не молодой приземистый крепыш с простоватым взглядом зелёных глаз, чуть одутловатыми щеками и круглым, как у девушки, подбородком. Странно, что у такого человека за плечами было столько подвигов, что их хватило бы на пятерых. Об этом говорили боевые награды на его тужурке.
– Ребята, – обратился он к сидящим в классе лётчикам, – нашего полку, ибитть, прибыло. – Давай, рассказывай, что, где и откуда.
И он коротким движением поддёрнул в ложечку сложенными пальцами собственную ширинку.
Я повторил свою коротенькую биографию, отметив, что среди присутствующих сидят и мои друзья – Володя Олифиренко, Колька Алексеев и Вовка Романов.
– На первый раз хватит, – разрешил майор. – Садись и слушай, ибитть. Кстати, жильё нашёл? Не нашёл. Ну, ребята тебе покажут.
В обеденный перерыв все потянулись к лётной столовой. В приземистом квадратном здании довоенной постройки размещалось несколько помещений: офицерский клуб, библиотека, биллиардный зал и сама столовая, узкая и длинная, как пенал.
Моложавая заведующая приветливо предложила два вакантных места, и я приземлился за стол с однокашниками.
Про Балабрикова я ничего не знал. Он учился в Алейске – филиале нашего училища, расположенного в ста километрах от Топчихи. Но с первых его слов парень понравился. Общительный, с юморинкой и неотразимой золотозубой улыбкой, бесшабашный и безалаберный Балабриков. Про таких говорят, – свой в доску.
В конце обеденного зала, в красном углу и лицом к выходу стоял длинный, накрытый белоснежной скатертью стол для руководящего состава. Лукашевич считал, что видеть личный состав хотя бы за приёмом пищи полезно не только ему.
Окна столовой были задрапированы шёлковыми шторами, а между ними висели репродукции с натюрмортами.
Слева сбоку, за ширмой, судя по звукам и запахам, размещалась кухня.
Столовая сообщалась с клубом. Это было удобно, и по торжественным дням после официальной части именитые гости прямо из президиума чинно следовали в банкетный зал.
Через несколько дней я уже немало знал об этом замечательном местечке, расположенном на берегу небольшой, но полноводной речки со сказочным названием Оредеж. Речка была притоком Луги и катила свои воды в легендарное Чудское озеро.
Сиверская находилась в семидесяти километрах от Северной столицы и была напичкана домами отдыха и пионерскими лагерями. Два года назад здесь, на крутом берегу, под корнями вековой сосны местная пацанва нашла самый настоящий клад с подробным перечислением спрятанных сокровищ. Золотые монеты и драгоценности мгновенно растащили, но по описи профессиональные сыскари сумели собрать незаконно присвоенное добро, за исключением нескольких колец и кулонов, успевших осесть в винных магазинах.
Во время войны в Сиверской размещалась ставка маршала Геринга, и в разгар наступления на Ленинград сюда, по легенде, прилетал сам Гитлер.
Служебный городок с жилым массивом связывала неширокая бетонированная дорожка, проходящая мимо военторга и упирающаяся в кирпичные четырёхэтажные дома. От внешнего мира их отделял невысокий дощатый заборчик, построенный вдоль автотрассы, ведущей на Рождествено и далее – на Псков.
Между трассой и до самого берега реки рассыпались частные дома с небольшими огородиками, садочками и палисадниками. За пределами обжитых участков и по всей территории росли могучие, высоченные сосны – ровесницы века. И оттого воздух насквозь пропитался запахами хвои и озона, и дышалось легко и сладостно.
Дом, где нас поселили, находился в самом конце городка. Недавно отстроенный, он стоял в кучах строительного мусора, терпко пахнущий бетоном, краской и цементом. Для нас была предоставлена трёхкомнатная квартира на первом этаже. В ней разместили пятерых лейтенантов – холостяков. Батальонная коммунально – эксплуатационная часть обставила квартиру с роскошью, на которую была способна. Узкие солдатские кровати с комплектом постельных принадлежностей, простенькие коврики на стенах, стандартные шкафы, столы и стулья с инвентарными номерами, графины для воды и гранёные стаканы, а на полу – вигоневые дорожки. На большее у скромной КЭЧ фантазии не хватило.
В каждой комнате стояло по две кровати, одна пустовала на случай подселения.
– Давай, старик, располагайся и чувствуй себя, как дома, – пригласил Толя Летунов – наш однокашник – на правах старожила. – На столе найдёшь справочник по работе предприятий быта. Жильё хорошее, тёплое. Только жаль, что ванной комнаты нет. Но зато, говорят, здесь классная баня имеется, с парилкой.
Весь остаток дня я разгружал чемоданы, заполняя одеждой полупустой шкаф, один из баулов закинул на антресоли, другой сунул под кровать.
После ужина прилёг, успел подумать – «на новом месте приснись жених невесте», и провалился в глубокий сон.
…«Летать любит. Летает смело и уверенно. В усложнившейся обстановке принимает грамотные решения. Морально устойчив, идеологически выдержан», – такую краткую характеристику дал мне капитан Сулима в выпускной аттестации. В общем – то инструктор душой не покривил, но про мораль – это он загнул. Какая, к чёрту, мораль, если её рассматривать в классическом виде, если мимо моего взгляда не ускользала ни одна мало – мальски выглаженная юбка. И я очень сомневаюсь, что у молодёжи могут быть какие – то моральные устои. Врождённый инстинкт размножения с потрясающей силой толкает особи в объятья друг к другу. Возникает любовь, сущность которой никому непонятна и ничем не объяснима. А сохранение морали в молодости, с моей точки зрения, посильно только импотентам, онанистам и фанатикам, да и то с большой натяжкой.
Однако это к делу не относится, и вы без ущерба для здоровья можете спокойно пропустить просмотренный абзац.
Аттестацию я раньше не читал и узнал про неё от капитана Кулявцева, моего нового командира звена. Спокойный и невозмутимый, по – спортивному стройный и всегда подтянутый, слыл он в полку лётчиком немногословным, замкнутым и в принимаемых решениях однозначным. Его неторопливые, чётко выверенные движения на земле в точности повторялись и в воздухе. Тонкий расчёт и глубина мышления в воздушных учебных боях вызывали к нему невольное уважение не только у нас, но и у лётчиков старшего поколения.
Меня всегда тянуло к сильным личностям, потому что я был твёрдо убеждён: от них есть что перенять. Как говорят, с кем поведёшься, – от того и наберёшься. И я остался доволен, что попал в звено к Кулявцеву.
Больше месяца мы, новоиспечённые лейтенанты, постигали особенности нового самолёта – МиГ-17, на котором предстояло летать. Попутно изучали район полётов, местные климатические условия, спасательные средства и даже катапультировались на наземном тренажёре. Устройство представляло из себя два направляющих рельса, расположенных градусов под семьдесят к горизонту, по ним, как на салазках, скользило настоящее кресло лётчика, приводимое в движение энергией пиропатрона.
Мы садились в кресло, надевали привязные ремни, строго фиксировали положение тела, отбрасывали предохранительную скобу и нажимали красную ручку. Толчок, получаемый под задницу от взрыва пиропатрона, можно было бы сравнить с ударом телеграфного столба.
Взлетев метров на восемь, где сиденье автоматически вставало не замок, мы сбрасывали привязные ремни и имитировали отделение от кресла. Потом нас осторожно спускали лебёдкой на стартовую позицию. Вот и все дела.
В начале декабря я выполнил с Кулявцевым ознакомительный полёт над предстоящим районом и был восхищён, увидев с высоты Финский залив, Балтийское море и даже полоску земли сопредельного государства. А в конце месяца завершились и контрольные полёты, и мы приступили к самостоятельному совершенствованию техники пилотирования, строго придерживаясь метода «от простого – к сложному».
Накануне Нового года я впервые получил денежное содержание, проще говоря, получку. В кармане оказалась куча купюр, и я решил, что самое время обзавестись гражданской одеждой.
Ближайшим субботним утром пригородный поезд уже вёз меня в Северную Пальмиру. И не только за покупками. Настало время нанести визит брату.
Я быстро отыскал 8-ю линию на Васильевском острове и, полный оптимизма, с букетом роскошных цветов поднялся на третий этаж и нажал кнопку звонка.
Дверь открыл плотный, упитанный, ниже среднего роста мужчина, обличьем напоминающий моего дядю из Баку. Такой же курносый, круглолицый, с блуждающим взглядом из – под пушистых бровей и манерой говорить медленно, осторожно, взвешивая каждое слово. Передо мной стоял двоюродный брат собственной персоной. Бывший фронтовик, он воевал в составе Северного флота, был агентом внешней разведки, и это обстоятельство наложило определённый отпечаток на формирование его поведения.
Моему появлению Иван Николаевич чрезвычайно обрадовался. Мы обменялись рукопожатиями и вошли в его коммунальную, метров в восемнадцать, комнату.
Семья была в сборе. Жена, Нина Львовна, типичная еврейка, была женщина в теле, с явными чертами былой красоты, жеманна и кокетлива. При знакомстве она так и не успела снять с себя нарядный фартучек, под которым прятала распаренные горячей водой после мытья посуды руки. Их пятнадцатилетняя дочка Танечка, тоненькая и застенчивая, осторожно протянула руку для знакомства и чуть ли не сделала книксен.
Комната выглядела богатой. Паркетный пол, натёртый до сияния, столь же тщательно отполированные шкафы, за зеркально блиставшими стёклами которых просматривались золотые корешки привлекательных книг, а между шкафами – красивый мягкий диван с подлокотниками.
В центре комнаты в окружении стульев возвышался, покрытый ковровой скатертью с кистями, круглой формы стол, за ним, ближе к окну прилипла к стене горка, за дверцами которой проглядывались нарядные бокалы, чайный сервиз и несколько фарфоровых статуэток.
Как и подобает в приличном обществе, мне предложили чай с бутербродами, я не отказался, и мы начали беседу о нас, о родителях, их образе жизни и быте.
Я коротко рассказал о себе и выслушал монолог Ивана Николаевича о его судьбе, начиная с войны и до настоящего времени. Чувствовалось, что ему доставляло удовольствие выговориться перед внимательным собеседником.
Во время беседы ни Нина Ивановна, ни Танечка не задали ни одного вопроса, меня это удивило, но я посчитал, что женщины, очевидно, скромны и застенчивы.
Часа через полтора, надавав мне кучу советов, где можно выгодно и без хлопот приобрести одежду, меня проводили, взяв обещание непременно заходить, если буду в Ленинграде.
В ДЛТ, Доме ленинградской торговли, расположенном рядом с театром Сатиры, я действительно нашёл всё, что искал. Купил добротное демисезонное пальто, шевиотовый костюм, рубашку в полоску и галстук, ботинки и даже шляпу.
С двумя объёмными свёртками я поспешил на вокзал: с минуты на минуту поезд на Лугу должен был отойти, а следующий по расписанию уходил вечером. Носильщик, к которому я обратился, почему– то улыбаясь, сказал:
– Опоздал, лейтенант. Вон он, отходит.
Увёртываясь от идущих навстречу людей, я кинулся вдогонку, надеясь зацепиться за последний вагон. До него оставалось пару метров, я сходу забросил на открытую площадку проклятые свёртки и уже протянул руку к поручню, когда увидел, что перрон кончился.
Удачное приземление меня не обрадовало: бежать по шпалам за набирающим скорость локомотивом было бесполезно. Я с досадой проводил взглядом удаляющуюся от меня первую получку, прокручивая возможные варианты действий, потом пулей выскочил на привокзальную площадь, плюхнулся на сиденье свободного такси и потребовал:
– В Гатчину, шеф. Если обгоним пригородный, плачу в оба конца.
– Нет проблем, командир, – ответил водитель, разворачивая новенькую «Победу».
Я успел взять билет и даже выпить кружку пива в станционном буфете прежде, чем паровоз, отдуваясь паром, подкатил к Гатчинскому перрону.
Честно говоря, надежды, что вещи найдутся, у меня не было. Но повезло. Проводница, пожилая тётка в форменной одежде, когда я рассказал ей о своей беде, осуждающе сказала:
– Как же это вы? Видела, как вы с поездом в догонялки играли. Хорошо, что целы остались. Вот они, ваши пакеты.
Рассыпаясь в словах благодарности, я отдал ей последние рубли и через час был уже дома.
Переход из старого в Новый год всегда почему – то волнителен. Встреча его началась с самого утра в офицерском клубе на торжественном собрании, на котором речь держал сам Лукашевич. Он коротко сказал о достижениях подчинённых, поощрил ценными подарками лётчиков, техников и людей, обеспечивающих полёты, и пожелал успехов в наступающем шестидесятом.
Не знаю почему, но я всё более проникался симпатией к этому угрюмому немногословному человеку. Поговаривали, что в конце войны его представили к званию Героя. Устроив на радостях вечеринку в столовой, он крепко поддал и в пылу гнева посадил шеф – повара в кастрюлю с борщом. Случай хотели замять, но как на грех у пострадавшего оказались влиятельные родственники, и наградные бумаги затерялись в безбрежном море канцелярских транскрипторов. Так ли это было на самом деле, только истории известно. Но озорной, неординарный поступок командира вызывал невольную симпатию и повышал его авторитет в глазах подчинённых.
После официальной части личный состав распустили по домам. Мы переоделись в гражданскую одежду и отправили Саню Балабрикова за провизией в магазин военторга. Я вертелся у зеркала, безрезультатно пытаясь завязать галстук. Наконец, общими усилиями с ним мы справились и дружно отправились на обед.
Девушки – официантки в нарядных передниках и белоснежных наколках хором поздравили с наступающим Новым и накормили фирменным блюдом – мясными рулетиками по – балтийски.
Мы вернулись домой, выпили по маленькой и стали ждать наступления праздника.
Под вечер в нашей квартире неожиданно появился полковник Лукашевич. Заглянул походя, спустившись со второго этажа, где жила над нами семья командира дивизии генерал – майора Назаренко. Был комполка немного навеселе, сердечно поздравил каждого с наступлением Нового года и уселся за стол.
– Ну, рассказывайте, как вы тут живёте, – сказал он и потянулся к стоящему графину. – Девчат, надеюсь, не водите, барбосы. И правильно. В авиации говорят: не люби, где живёшь, и не живи, где… любишь.
Он пододвинул к себе стакан и взялся за графин. Все, кто находился в комнате, приумолкли и в напряжении замерли. Дело в том, что в графине был спирт, которым нас угостили техники.
Ничего не подозревая, Лукашевич плеснул в гранёный стакан бесцветной жидкости и опрокинул содержимое в рот. На мгновение фронтовик замер, вскинул кустистые брови, крякнул:
– Что ж, хорошо устроились. Молодцы.
И ушёл, плотно прикрыв за собой дверь.
Две недели мы с тревогой ожидали соответствующих репрессий, но они так и не наступили. Авторитет командира полка в наших глазах утроился.
Офицер, конечно, не должен выпивать в компании с подчинёнными, но верх невоспитанности – отказаться от бокала на организованной вечеринке. Тем более, что здесь был случай неординарный.
На банкет, устроенный в лётной столовой, офицеры пришли с жёнами. Воздух наполнился ароматом духов и одеколонов. Все говорили, улыбались и рассаживались по отведённым местам. Мы, молодые, разместились подальше от начальства, и эта дискредитация была воспринята, как должное: всяк сверчок знай свой шесток.
Генерал за столом не присутствовал, и Лукашевич на правах старшего поднял первый тост:
– За безопасность полётов, за здоровье личного состава, за молодых, за всех, кто охраняет мирное небо нашего Отечества! – коротко сказал он под бой курантов Спасской башни.
Все встали и дружно выпили. Раздались крики «ура», начались личные поздравления, смех и говор под перезвон вилок и ножей.
Праздничный ужин продолжался недолго. Первыми зал покинули руководители, потом и мы, зелёная молодёжь.
В клубе гремела музыка. Сводный полковой оркестр разместился на сцене, исполнял мелодию из репертуара популярной аргентинской певицы Лолиты Торез, кресла были сдвинуты, и на танцевальной площадке кружились нарядные пары. В центре стояла высокая, блистающая мишурой ёлка, от которой веером разбегались гирлянды флажков и фонариков.
Оценивая обстановку, я осмотрелся, и мой взгляд задержался на девочке в нарядном крепдешиновом платьице, стоящей у колонны почти рядом с музыкантами. Трудно сказать, что в ней понравилось. То ли глубоко сидящие, абсолютно чёрные глаза – буравчики, то ли овал удлинённого лица, то ли курносый, слегка вздёрнутый носик с чуть расширенными крыльями. А может быть разлёт широких, как крылья чайки, бровей, подчёркивающих глубину и пронзительность взгляда? Или растерянность?
Для меня до сих пор остаётся загадкой, почему к некоторым людям у нас возникает симпатия, а к большинству мы остаёмся равнодушными – таинство, стоящее в одном ряду с понятием жизни и смерти.
Короткая стрижка девушки приоткрывала высокий чистый лоб и маленькие, аккуратные ушки со скромными серёжками в мочках. Среднего роста и нормального телосложения, она не знала, что делать со своими руками, и то теребила пальцами носовой платочек, то прятала их за спину, то поправляла и без того безупречную причёску.
Рядом с ней стояла другая девушка, очевидно подруга, с которой они перебрасывались словами и над чем – то скромно смеялись. Улыбка преображала лицо черноглазой. Тонкая верхняя и припухлая нижняя губы придавали ему вид ребёнка слегка капризного, но не очень.
Не найдя в зале объекта более интересного, я вновь вернулся к смуглянке и успел заметить, как она мгновенно отвела от меня свой взгляд. Оркестр начал исполнять танго «Маленький цветок », я его обожал и решительно направился к своей потенциальной партнёрше.
– Разрешите? – склонил я голову в почтительном поклоне, широко и призывно улыбаясь. Слегка порозовев, девушка робко шагнула навстречу, и я медленно повёл её по кругу, придерживая ладонью тонкую талию.
– С Новым годом, прекрасная незнакомка! – поздравил я свою юную партнёршу, привлекая к себе. Её небольшая грудь коснулась моего тела, и я чуть не застонал от наслаждения.
– Примите и мои добрые пожелания, – прощебетала она еле слышно и подняла своё чудесное личико.
– И как же зовут милую прелесть? – расцвёл я самой обворожительной улыбкой, на которую был способен.
– Лена.
– Красивое имя, – одобрительно сказал я. – Что– то я вас раньше не видел. Вы здесь живёте или приехали в гости?
– Я родилась в Сиверской.
– Любопытно. И чем вы занимаетесь, если не секрет?
– Заканчиваю школу, а там видно будет. Я ещё не решила.
«Только промокашек мне и не хватало, – думал я, сопровождая Лену к месту её стоянки. – Господи, да по лицу видно, что она невинна, как Ева. Пока её раскрутишь – любовью изойдёшь. Переключиться на другую? Вон их сколько подвалило, одна другой краше. Нет, пожалуй, не стоит. Лошадей на переправе не меняют», – пришёл я к циничному заключению.
Мы уселись в свободные кресла, и я, чтобы не молчать, заговорил:
– А знаете, «Маленький цветок» сочинён в застенках гестапо. Не помню фамилии композитора, но перед казнью ему предложили исполнить последнее желание. И он отдал ноты, и под эту мелодию, переполненную тоской и отчаянием, его расстреляли.
– Я знаю эту легенду. Между прочим, местом казни называют Сиверскую.
– Вот как! – удивился я. – Мне определённо повезло с назначением. Здесь каждый камень окутан тайной.
– А вы что – новенький?– полюбопытствовала Лена.
– Разве по мне не видно? Конечно не старенький, – в шутку сказал я. – И очень одинок.
– Я тоже одна, – призналась девушка. – Правда, у меня есть замечательная подруга, и скучать не приходится.
– Это правильно, – одобрил я. – Без друзей тоскливо. Хотите, я составлю вам компанию?
Подняв свои тёмные, как беззвёздная ночь, глаза и, порозовев от смущения, неопределённо сказала:
– Посмотрим. Пойдёмте танцевать?
Лопались хлопушки, бисером осыпая головы и плечи конфетти, длинными змеями взлетал над танцующими серпантин, взрывались шутихи. Зал был полон беззаботного веселья. Я нежно сжимал тонкие пальцы школьницы, не отрываясь, смотрел на её лицо, а правая рука властно и твёрдо удерживала её гибкую, как ивовый прутик, талию. Я по опыту знал, что девушки склонны подчиняться сильным и властным и не терпят назойливых.
Кстати, эта аксиома верна и сейчас, но нравы изменились с приходом вседозволенности, спрятанной под личиной демократии.
С каждой минутой спадала напряжённость между мной и Леночкой. Исчезли неловкость и чувство смущения, откровеннее становился разговор, теснее соприкасались наши тела в танцах.
Отдых – не работа, время идёт стремительно быстро, и в четвёртом часу ночи Леночка стала проявлять признаки озабоченности.
– Всё. Навеселилась, – после жаркого фокстрота сказала она, переведя дух. – В гостях хорошо, а дома лучше. Пора и честь знать. Пока до дома доберёшься…
Я с сожалением взглянул на часы, но возражать не стал:
– Ну, расстояния лётчика не страшат, – бодро ответил я, и в этот момент распорядитель бала объявил белый танец:
– Дамы приглашают кавалеров!
Леночка вопросительно взглянула на меня, я с достоинством кивнул, и мы закружились в вальсе. Вальс танцевала она неумело.
На выходе из клуба к нам присоединилась и Ленина подружка. Что ж, вполне логично: вместе пришли, вместе и возвращаются. Я был настроен лирически, и ускоренный роман с новой пассией не входил в мои планы. Непринуждённо разговаривая и шутя, рассказывая анекдоты, мы неторопливо шагали по снежному насту, миновали станцию и мост через речку, и долго двигались по прямой, как рулёжная дорожка, широкой улице, освещённой фонарями. Справа и слева, как солдаты на плацу, выстроились высокие сосны и ели, а за их спинами светились окнами частные постройки: население продолжало встречу Нового года.
– Вот мы и пришли, – пропели девушки дуэтом, остановившись у тёмных силуэтов высоких домов.
– Здесь живу я с мамой, а рядом Марина, – пояснила Лена и созорничала: – В гости придёте – смотрите, не перепутайте.
Мы договорились о предстоящей встрече, и, как истый джентльмен, я чопорно поцеловал тыльные ладони девушек.
В шесть утра, совершенно измотанный, но довольный, я добрался, таки, до своей постели и провалился в глубокий сон.
Прошло полтора месяца. Каждый свободный вечер, а в субботу – обязательно, тщательно одевшись, я отправлялся на свидания с Леночкой. Ребята провожали меня понимающими взглядами, отпускали солёные вопросики:
– Опять на родительское собрание или на этот раз директор школы вызывает?
Я отшучивался, как мог, улавливая по интонации скрытую зависть, хотя каждый из друзей уже обзавёлся подружками.
Интересно, но нигде, кроме Сиверской, мне не приходилось встречать такое обилие красивых женщин. Будто кто – то нарочно собрал их в этом райском уголке.
И всё же самым страстным моим увлечением оставались полёты. Ими я жил, бредил и наслаждался. Самолёт, на котором я летал, не был последней разработкой серии истребителей. В частях появились новые модификации МиГов, форсажных, скоростных, маневренных и хорошо вооружённых. О них мы мечтали и с ними связывали свою дальнейшую судьбу.
Накануне моего прибытия в полку произошло событие, о котором не переставали говорить. В течение нескольких дней здесь работала комиссия по отбору кандидатов в отряд космонавтов. Собственно, в беседах с подходящими кандидатами речь шла не о космосе ( это было строжайшим государственным секретом), а предлагали летать на больших скоростях и высотах, – голубая мечта каждого истребителя.
Из десятка молодых пилотов отбор прошли только двое. Одним из них был Герка Титов. В училище он был в нашем потоке, но закончил его на год раньше. Не приди этот дурацкий приказ о продлении освоения реактивной техники, – вполне возможно, что судьба моя сложилась совсем бы по – другому.
Перед нами стояла задача минимум. К концу года необходимо было достичь уровня военного лётчика третьего класса. Предстояло освоить сложный пилотаж, умело поражать воздушные и наземные цели из бортового оружия, летать на максимально допустимых и минимальных высотах в простых метеоусловиях и многое другое, без чего победить и выжить в реальном бою практически невозможно.
Мы работали, как звери, на предельно – допустимых перегрузках, и после посадки наши мокрые от пота рубашки прилипали к горячим телам. Однако ни командира звена Кулявцева, ни майора Прошкина это не устраивало.
– В воздухе ваши шеи должны вертеться на триста шестьдесят градусов! – кипятился комэск, прошедший Вторую мировую. – Иначе собьют, как куропатку. Ну, что у тебя за виражи? Размазня, блины на сковороде. А они должны походить на оладушки. Чем меньше радиус, тем больше шансов поймать противника в прицеле, ибитть, – наставлял он, по привычке поддёргивая ширинку.
Мы жадно ловили советы асов, старались воплотить их в жизнь, но не всегда и не во всём это удавалось.
В нашем звене должность старшего лётчика оставалась вакантной. Мы полагали, что ведущим второй пары будет кто – нибудь из ребят старшего поколения, такие были. Но командование решило по – другому, и в канун праздника Вооружённых Сил приказом командира полка я получил повышение. Теперь я стал ведущим второй пары в звене. В связи с этим у меня возникло двоякое чувство. С одной стороны, я испытывал большое моральное удовлетворение, с другой – чувство вины перед товарищами, как – будто залез в чужой карман.
Наступил март и принёс с собой весну. Снег заметно потемнел и подтаял. Из – под сугробов сочились ручьи, с крыш капало, и сосульки, срываясь, пугали прохожих.
Настроение заметно улучшилось, я продолжал регулярные встречи с Леночкой, и наши отношения становились всё более тесными. После танцев я провожал её домой, мы выбирали уединённое место под кронами сосен и неистово целовались. Делала она это неумело, и на страстные объятья отвечала робкими прикосновениями горячих губ.
По воскресеньям мы ходили в кино, бродили по окрестностям, и она много и интересно рассказывала о местных достопримечательностях.
Однажды я пригласил её в Ленинград, познакомил с родственниками, а вечером мы прекрасно посидели и потанцевали в ресторане «Москва». В свою очередь девочка захотела показать свою мать, и для меня было полной неожиданностью, когда на следующий день Лена ввела меня в свой дом, и навстречу мне поднялась молодая роскошная красавица, от которой исходил дурманящий запах зрелой самки. Мужа, как я понял, у неё не было, но наверняка имелся любовник. С такой внешностью и жаждой любви в тёмных, как у дочки, глазах, быть одинокой просто грешно. Она была на десять лет старше, однако разница в возрасте не помешала вести со мной опасный, на грани фола, игривый разговор. Я, грешным делом, подумал, что нелишне завести интрижку и с матерью Леночки. Пикантная вышла бы ситуация – любить и дочь, и мать. Такого у меня ещё не было. Но я увидел, как насторожилась девушка, и отбросил эту кощунственную мысль.
В конце марта разбушевалось в любовном разгуле кошачье племя. Смеха ради, я объявил ребятам, что вечером устрою небольшой концерт у дверей генеральши, которая досаждала нам своими придирками и жалобами на шум. В тот же день я купил в местной аптеке пузырёк валерьянки и разлил её на площадке второго этажа.
Результат превзошёл ожидания. Казалось, все гарнизонные кошки собрались к вечеру на халявный банкет, начисто вылизали пол и начали куролесить: кататься, выть и мяукать так, что разбудили бы мёртвого. Обнаружив вакханалию животных, молодая жена комдива в истерике звала на помощь:
– Солдата мне, солдата!
– Вот видите, как нелегко молодухе живётся в браке. Мало ей мужа – генерала, так ещё солдата подавай, – резюмировал Колька Алексеев под дружный хохот ребят. Пустяшный розыгрыш, однако, под давлением капризной женщины приобрёл серьёзную окраску. К разбирательству подключили даже полкового особиста, и меня непременно бы вычислили и сделали определённые выводы. Но через день произошло событие, которое заставило компетентные органы забыть о невинном озорстве.
Шли плановые учебно-тренировочные полёты в простых метеоусловиях. В ожидании вылета мы сидели в стартовом домике, травили анекдоты, резались в шашки и разговаривали о девчатах. Я уже давно заметил: за бутылкой лётчики говорят о работе, на работе – о лучшей половине человечества.
Радиообмен между экипажами и руководителем полётов транслировался через динамик, позволяя и нам ориентироваться в воздушной обстановке.
– Подбирай, подбирай, подбирай! – неожиданно тревожно раздался голос руководителя из приёмника. И снова через несколько секунд:
– Подбирай!!
Мы мгновенно сообразили, что произошло что – то экстраординарное и кинулись к выходу.
На посадочную полосу с высоты десять – пятнадцать метров садился учебно – тренировочный истребитель. Потеряв скорость, машина жестко ударилась о бетонку, и в тот же миг из передней кабины прямо через фонарь вылетело катапультируемое кресло. Сила порохового заряда подбросила его метров на сорок, но отделения не произошло, и оно вместе с лётчиком камнем рухнуло на землю.
Спарка, подпрыгивая, выкатилась за пределы посадочной полосы, пропахала глубокую борозду и загорелась.
Издали я заметил, как солдат, стоящий в оцеплении, кинулся к потерпевшему аварию самолёту, вытащил из кабины тело инструктора и сумел оттащить его в сторону, прежде, чем раздался взрыв.
Санитарная и пожарные машины рванулись к месту трагедии, а мы, потрясённые, стояли в оцепенении, не в силах ничем помочь: Ваня Гусенков, наш однокашник, погиб на наших глазах. Смерть, как установила экспертиза, наступила мгновенно при ударе головой об арматуру сдвижного фонаря. Он обязан был отстрелиться, но этого не произошло. Следовательно, лётчик не нажимал на скобу катапульты.
Катастрофа произошла из – за ошибки, в результате которой возник прогрессирующий «козёл».
Инструктору повезло. Сгореть бы ему заживо, если бы не смелость и мужество солдата: при ударе о бетонку лётчик потерял сознание.
Хоронили Ваню под траурные звуки полкового оркестра, который совсем недавно играл для него в офицерском клубе.
Военный городок и вся округа застыли в скорбном молчании. Казалось, что даже Оредеж замер, приостановив на время весенний разлив, и тёмные лапы раскидистых елей опустились долу, и как слёзы роняли на землю скупые капли подтаявшего снега.
Ваня был женат, обзавёлся потомством, и настойчиво пробивал у начальства отдельную квартиру. Вот и получил её на погосте в вечное пользование. Маловата, правда, но он не в претензии на чиновников.
«На терновой скамье перед бледной луной мы с тобою, любимый, сидели. Распевал соловей над моей головой, распуская прелестные трели». Грустная мелодия этого старинного романса в минорные дни исполнялась моей матерью. Я вспомнил её, когда бросал горсть земли на гроб своего товарища, и сердце обливалось кровью, присоединяясь к скорби его родных и близких.
Прощальный троекратный салют сухо надорвал тишину, и звуки Государственного Гимна подтвердили, что жизнь продолжается. И будет она вечно, до Вселенского катаклизма, но до этого следует подождать каких – то пять миллиардов лет.
Прошло две недели, и душевная боль по нелепой потере Гусенкова стала притупляться. Мы уже снова летали и с каждой посадкой становились наглее и беззаботней. Наблюдательный и мудрый Прошкин замечал всё и делал выводы:
– Что, ибитть, почувствовали, что на заднице перо выросло? Только с одним пером далеко не улетишь. Работать надо! Если ты в кабине, забудь обо всём, кроме полёта.
Над его необычной, явно похожей на ругательство присказкой, мы по первости потешались, и дружно хохотали над мастерски пародирующим комэска Колькой Алексеевым.
Самоуверенные по молодости лет, на предупреждения Василия Ивановича мы реагировали с известной долей скепсиса. Но однажды я на собственной шкуре почувствовал, как прав был умудрённый опытом наставник.
В один из погожих дней мне предстояло выполнить полёт на предельно допустимую высоту, «на потолок». Задание не сказать, чтобы сложное, но требовало максимального внимания. Особенность заключалась в том, что управляемость самолётом с подъёмом заметно ухудшалась из-за разряжённости воздуха, приборная скорость падала, зато истинная приближалась к звуковой. Вполне понятно, что упражнение выполнялось с кислородной маской, как, впрочем, и остальные на высотах более четырёх тысяч метров.
Была пятница, и я, в предвкушении завтрашнего свидания с Леночкой, находился в отличном настроении.
Вырулив на линию исполнительного старта, я вывел максимальные обороты, и истребитель, спущенный с тормозов , как гончая с поводка, рванулся к цели, мягко вписываясь в атмосферу. Через несколько минут я доложил на СКП о прибытии в зону и ввёл самолёт в вираж с небольшим кренчиком, обеспечивающем оптимальный набор высоты. В пилотажной зоне воздушное пространство строго ограничено, и чтобы не нарушить её границы, требуются определённые навыки. Это просто, если знаешь характерные ориентиры на земле, вылетать за пределы которых категорически запрещено.
Высотомер, установленный на приборной доске, перевалил отметку в восемь с половиной тысяч метров, когда я почувствовал какой – то дискомфорт в герметично задраенной кабине. Что – то было не так, но вот что – не понятно. Я внимательно проконтролировал показания приборов и навигационного оборудования, проверил положение рычагов управления и осмотрел воздушное пространство. Взгляд зафиксировал почти под крылом Балтийское море, Финский залив, окраины Ленинграда и тёмную полоску земли на горизонте. Это уже Финляндия. Всё было в порядке, но чего – то недоставало. И я, наконец, заметил, что кислородная маска болтается у меня под подбородком. Чего проще – взять и пристегнуть её к шлемофону и сразу задышать чистым кислородом. Но я испугался и запаниковал. Господи, да я вот – вот сознание потеряю из – за кислородного голодания! Не долго думая, я свалил самолёт на крыло, перешел в пикирование и помчался за кислородом в плотные слои атмосферы.
С каждой секундой скорость катастрофически нарастала, стрелки высотомера с бешеной быстротой вращались в обратном направлении, самолёт начал дрожать, и резкий свист за пределами кабины заставил подумать о предельно допустимой скорости. На высоте шести тысяч метров я потянул ручку управления на себя, но она, будто налитая свинцом, не двигалась с места. Только тогда я догадался убрать газ, выпустил тормозные щитки и двумя руками, с огромным трудом, мне удалось, наконец, переломить отвесное падение. Вибрация самолёта прекратилась, я с облегчением вытер рукавом пот со лба и зачем – то натянул маску.
Да – а, как ни стыдно признаться, но паника превратила меня в животное.
Конечно же, я никому не доложил о грубейшей ошибке. Но для себя тщательно проанализировал ситуацию, в которой оказался. По показаниям бароспидографа я добрался до высоты десять километров. Избыточное давление, поддерживаемое приборами в герметизированной кабине, делило высоту пополам. Всё равно она оставалась опасной, это вам каждый альпинист скажет. От обморока меня спасло видимо то, что в отрочестве я всерьёз занимался подводным плаванием и запросто проныривали двадцатипятиметровый бассейн. И сделал вывод, что небо мелочей не прощает. Даже пустяковых.
Рабы печати – журналисты, писатели и поэты воспринимались мной особой, загадочной кастой, людьми не от мира сего. С неординарным складом ума и мышлением , с непредсказуемыми поступками. У них исключительно развиты восприятие событий и фантазия. Мне уже приходилось общаться с творческой интеллигенцией, и я убедился, что ни одному из них и в подмётки не гожусь. Это был мир сказочный, таинственный, потусторонний. Встреча с любым из них для меня всегда была волнительной.
Мне повезло. В январе, помнится, в полк приехал корреспондент – организатор армейской газеты « Боевая тревога» капитан Каширин. Редакция располагалась в Ленинграде, в том же здании, что и штаб. Знать бы заранее, – непременно бы зашёл.
Вычислил меня Каширин быстро. Друзья подсказали, что есть среди них тип, который в училище гонорары лопатой загребал. Шутили, конечно. Военные печатные издания всегда сидели на дотации, и вознаграждения от них были более чем скромные.
Стройный, среднего роста, в серо – коричневой шинели и фуражке с «крабом», он тихо появился во время перерыва в классе предварительной подготовки к полётам и с лёгкой ироничной улыбкой, как мне показалось, представился.
– Не будете очень возражать, если побеседуем? – попросил он мягким голосом, усаживаясь рядом и расстёгивая шинель.
– Нет проблем, – ответил я и тоже улыбнулся.
– Насколько мне известно, вы были военкором. Знаю и о том, что писать сейчас недосуг, но не поверю, чтобы вы забросили это дело раз – и навсегда. Я прав?
Я неуверенно пожал плечами и неопределённо произнёс:
– Время покажет, всё может быть.
Музыкальная речь журналиста мне понравилась. Кроме того, обратил я внимание, на правой стороне груди корреспондента золотился авиационный знак с цифрой «2» по центру. Он перехватил мой взгляд и немедленно отреагировал:
– Военный штурман второго класса. К сожалению, бывший в употреблении. Списан на землю по состоянию здоровья.
Обличьем мой собеседник очень напоминал Сергея Есенина. Круглолицый, голубоглазый, привлекательный блондин. Разве что причёска была не на пробор. Зато взгляд с поволокой.
По моей просьбе он коротко рассказал о сотрудниках редакции. О редакторе подполковнике Ялыгине, человеке воспитательного толка, об Анатолии Хоробрых, международном мастере спорта по прыжкам с парашютом, о литературном сотруднике с редкой фамилией Красный, – обо всех понемногу. Естественно, об интригах, которые, безусловно, были, поскольку без них здорового коллектива не бывает, он умолчал: сор из избы не выносят.
К концу беседы мы перешли на «ты», и Сергей Иванович взял с меня слово активно сотрудничать с редакцией. Я получил список тем, над которыми работает газета.
– Пиши на моё имя, – сказал он на прощанье. – И не возмущайся, если вдруг увидишь свой текст с редакционными правками. Без них не бывает. Договорились, и ладненько. И для начала неплохо было бы увезти от тебя какой – либо материал, старик. Ну, например, о становлении молодёжи. Пару дней тебе хватит?
Постоянно публиковаться в армейской газете считается неприличным. Не классик же, в конце концов. Об этом я знал ещё с училища. Поэтому отправлял свои опусы не чаще, чем два – три раза в месяц. Писал не только о лётчиках и техниках, но и тыловиках, связистах и солдатах, обо всём, что, на мой взгляд, могло заинтересовать читателя.
Иногда Каширин присылал конкретное задание, тянувшее по значимости на корреспонденцию или зарисовку. Оно требовало подбора и анализа фактуры, глубокой логической осмысленности. Для этого нужно время, а его не хватало даже на любовь.
Наши отношения с Леночкой с каждой встречей становились всё более опасными. Светлану я не забывал, мы переписывались, и в июне месяце ей предстояла защита диплома. Но она была далеко, а рядом крутилось милое создание, проявляющее явный интерес к моей особе. Её непосредственность, серебристый смех и томные взгляды сводили меня с ума, и, обнимая девушку, я чувствовал, как во мне разгорается страсть и непреодолимое желание обладать ею.
А что – Светлана? Не трудно догадаться, что работа зоотехника связана с сельской местностью. Двухгодичная отработка после окончания института в те времена являлась обязаловкой, открутиться от которой практически было невозможно. Впрочем, свободный диплом выдавался в случае бракосочетания, и я, откровенно говоря, надеялся, что если у Светки нет возлюбленного, то у меня есть какие – то шансы стать её мужем.
Господи, какие дураки – однолюбы! Ну, зачем, скажите на милость, мне женщина, готовая выскочить замуж по расчёту? Жена – это же не пальто на какой – то сезон. Это насовсем, на всю жизнь, навечно. И здесь без взаимной любви никак не обойтись. Хотя бы на время, пока молоды, потому что любовь до гроба бывает только в сказках. Привязанность, уважение – да, любовь – нет…
Этот день своего рожденья я запомнил не только потому, что встречал его в офицерском звании, но и тем, что Леночка отдалась мне тихо и безропотно.
С самого утра мы нагрянули непрошенными гостями к моему двоюродному брату с бутылочкой сухого вина и роскошным тортом. Встретили нас радушно, по – ленинградски. Мы много болтали, шутили и фотографировались на память. У Вани имелся замечательный трофейный аппарат «Лейка», которым он явно гордился. Я был уже знаком с фотографией, потому что в четырнадцать лет вздыхатель моей замужней сестры подарил мне, желая понравиться ей, широкоформатную камеру «Смена». Снимки получались любительскими, но и они приводили меня в восторг, когда я наблюдал, как в кювете с проявителем на совершенно белой бумаге, словно по волшебству, появлялись знакомые лица родных и друзей.
Вечером мы были уже дома. В отдельной комнатке Леночки, небольшой, но уютной, обставленной по– девичьи скромно и со вкусом. Из – за тонкой перегородки доносился оживлённый разговор хозяйки с неизвестным мужчиной. Но нам до них не было никакого дела.
Сидя на постели, мы взасос целовались. Я жадно и с наслаждением ласкал небольшие груди девушки, согревал их горячим дыханием, лизал её лебединую шею и прикусывал мочки ушей. Руки, как у пианиста по клавишам, скользили по её телу, и она, не выдержав атаки, сдалась на милость победителя, опрокинулась на подушки и потянула меня за собой.
В ярчайшем возбуждении мой готовый на подвиги хозяин рвался из брюк, свинцово тяжёлый и натянутый до предела. Руки непроизвольно скользнули вниз и поползли под платье.
– Не надо, – шепнула чуть слышно Леночка, почувствовав, как оттянулась резинка на её трусиках. – Я сама.
Легко и просто, словно ящерица, сбрасывающая хвост, она выскользнула из одежды, обняла и поцеловала.
Совершенно обезумевший от желания, я только и сумел судорожно приспустить брюки и, не целясь, вогнал свой пестик в тычинку и чуть не заорал от восторга. Тело Леночки передёрнулось, ноги взвились вверх и обмякли. Плотно сжатые губы, закрытые глаза и пальцы, собранные в кулаки, говорили о том, что девушка переживает огромное напряжение. Через пару минут я почувствовал начало оргазма и невольно замычал, подавляя готовый вырваться на свободу победный крик. Леночка молча прижала к моим губам ладонь, будто подсказывая, что за стеной нашу любовь могут подслушать.
Скопившаяся за многие месяцы мужская сила, словно из пожарного брандспойта, рванулась наружу, щедро орошая цветок желания. Оглушённый непередаваемым наслаждением, я затих и почувствовал, как смягчается тело хозяина. И только сердце колотилось, как заячий хвост.
Одевались мы молча, пряча глаза, как будто совершили что – то постыдное, непотребное. Я озадаченно думал о том, что это, невинное на первый взгляд, дитя оказалось не совсем невинным. Девушкой Лена не была. В этом я уже разбирался.
Она, видимо, догадывалась, какие мысли меня занимают, робко обняла и ещё раз поцеловала в шею.
– Тебе было приятно? – шёпотом спросила она, и в её тёмных глазах застыл тревожный огонёк ожидания.
Я не сумел произнести ни слова. Деликатные вопросы нельзя решать сгоряча, находясь в мире эмоций, потому что чувства – плохой советчик для принятия правильного решения. В этом – то я был твёрдо убеждён, начитавшись речей знаменитых адвокатов, кумиром из которых был для меня Плевако – образец логики, мудрости и парадоксов.
И всё же меня, с ещё не вытравленным жизнью максимализмом, так и подмывала вспыхнувшая ревность спросить девочку о первой любовной связи. Однако вкравшееся сомнение на этот счёт останавливали от опрометчивого шага. Краем глаза я заметил на покрывале красные пятна – первый признак невинности, и смешался.
Девочки не всегда теряют девственность от мужчины. Любопытства ради, они порой лазают в свой «кошелёк», проверяя наличие пломбы, и некоторым это настолько нравится, что, в конечном счёте, приучает к мастурбации. Тяга к ней с возрастом увеличивается, особенно у тех, кто по характеру замкнут и скрытен. Однако редкая девушка признается в своём пристрастии к сладостному занятию, и на свет рождаются тысячи легенд о потере девственности, одна неожиданней другой.
Отношения к этому щепетильному делу у каждого народа разные. У немцев, например, невинную девушку и замуж не возьмут: кому она нужна, если до свадьбы её персоной никто не интересовался? На Ближнем Востоке такая недотрога ценилась бы на вес золота.
– А тебе? – вопросом на вопрос спросил я Лену.
Она густо покраснела, отвела взгляд в сторону и стыдливо призналась, что ничего такого не почувствовала. И уступила, потому что так принято, если мальчик нравится.
В природе некрасивых женщин не бывает. Бывают просто женщины и женщины влюблённые. Бывают женщины, с которыми мы спим, и те, которых безумно любим. Так думают все, а я ничем не отличался от других.
Молча, не глядя друг на друга, мы торопливо привели себя в порядок, и я привлёк к себе девушку. Нужно было что – то сказать, нарушить опасно затянувшуюся паузу, но мысли были заняты поиском ответа на вопрос: спала или не спала она раньше с мужчиной. Я знал, что неподалеку живёт парень, влюблённый в неё, как я в Светку, но, как мне доложили мои «агенты», Лена к нему была совершенно равнодушна.
По существу, если не думать предвзято, мы ничем не отличались друг от друга, гонимые прочь своими любимыми. Но мне на правах победителя было его немного жаль. Никто не знает, как рождается любовь, зато всем известно, как она умирает. «Уйди с дороги, таков закон: третий должен уйти», – припомнились мне слова популярной песни Владимира Высоцкого из кинофильма « Выстрел в тумане». Может так и поступить? Чушь какая – то!
– Спасибо тебе, – с благодарностью поцеловал я Леночку на прощанье. – Скоро увидимся.
…– Что – то ты рано сегодня, – встретили меня друзья на пороге общежития. – Собрание не состоялось?
Они по – прежнему не упускали случая позубоскалить в мой адрес.
– А идите вы к чёрту! – посоветовал я коротко. – Выпить найдётся?
– На кухне, для тебя оставили, – сказал Вовка Меньшенин, не отрывая взгляда от шахматной доски.
Рюмка коньяка меня успокоила, возбуждение спало, вопросы, на которые хотелось бы получить немедленный ответ, отошли на задний план. Не так уж и много надо, чтобы снять с себя стресс.
Мы поговорили о делах насущных и вскоре улеглись в постели. Я долго лежал с открытыми глазами, прикидывая варианты дальнейших отношений со своей подружкой, да так и заснул с беспокойными мыслями…
И всё – таки разговор на щекотливую тему состоялся. И инициатором его выступила Лена. Ну, зачем, спрашивается в задачнике, она не сдержалась? Не хотела недоговорённости?
Был поздний воскресный вечер, когда мы, утомлённые «скачками» в офицерском клубе, неторопливо шагали по подмороженной дороге к её дому. Мы держались за руки, болтали всякую чепуху и много смеялись. Тем не менее, я никак не мог избавиться от мысли, что у этого чудесного создания кто – то уже был. Или не был? В конце концов, какое мне дело до того, с кем она встречалась до нашего знакомства. Каждый человек имеет право на личную жизнь, и ревновать к прошлому попросту глупо. Однако избалованный вниманием женщин к своей особе, самовлюблённый кретин, каждую из них я считал своей собственностью. Особенно тех, кто мне нравился. Похоже, что Леночкой я увлёкся не на шутку. Иначе чем объяснить «терзания молодого Вёртера»?
Укрывшись под широкими лапами матёрой сосны в двадцати шагах от её дома, мы отдыхали после бурной любви. Полы моего пальто полностью вмещали хрупкую фигурку, я ощущал её трепетное тело и слушал учащённое дыхание девушки. Что ни говори, а заниматься сексом стоя, – занятие не из лёгких.
Начала Лена:
– Я должна тебе кое о чём рассказать, – преодолевая стыдливость, заглянула она в мои глаза. – Дело в том, что ты не первый, с которым я была в… – она замялась, но лица не опустила. – Ну, ты понимаешь, о чём я… Только не подумай, что это произошло по любви, как с тобой.
Я растерялся от откровения своей глупышки. Ну, зачем говорить о том, о чём тебя не просят? Уж лучше бы молчала, оставив меня наедине с догадками. Но слово – не воробей, выпустил – не поймаешь.
– Мне было двенадцать лет, когда я пошла с дядей за грибами, – продолжала свою исповедь Лена. – Тогда это и случилось. Он меня изнасиловал.
Я ожидал услышать что угодно, но не эту потрясающую легенду.
– Почему ты молчишь? – не выдержала затянувшейся паузы Лена. – Скажи что – нибудь.
– А о чём, собственно, спрашивать? – скорее себе, чем ей, задал я вопрос. – И ты никому об этом не сказала?
– Со мной была истерика, я горько плакала, он успокаивал меня, наобещал, что всегда будет заботиться обо мне, а потом стал грозить, что убьёт, если я только заикнусь об этом. И я действительно испугалась.
– Он что, – вдруг дошло до меня, – родной брат твоей матери?
Девушка молча кивнула головой, отвернулась и закрыла лицо ладонями.
– Не плачь! – строго приказал я. – То, что он с тобой сделал, подло и уголовно наказуемо. Я рассчитаюсь с ним!
Решительность, с которой вылетели мои слова, напугала Лену:
– Что ты собираешься делать?
– Я притащу его мерзкое тело к твоим ногам, и ты сама решишь его дальнейшую судьбу! – сквозь зубы процедил я.
– Умоляю, не делай этого. Он был в тюрьме, и у него дружки!
– Меня это не остановит! – подогретый благородством моих любимых литературных героев, впервые возразил я девушке. – И если он однажды придёт вымаливать у тебя прощенье, откажи категорично, – настаивал я.
Она повернулась, положила руки на мои плечи и с какой – то отчаянностью в голосе с надрывом вымолвила:
– Господи, неужели ты не понимаешь, что здесь не обойтись без огласки. Как мне прикажешь жить, если каждый встречный будет тыкать в меня пальцем и смотреть, как на убогую.
Я молча обдумывал её слова и в глубине души соглашался, что ворошить старое всё равно, что сыпать соль на не зарубцевавшиеся раны. Из темноты, со стороны дома неожиданно раздался голос Лениной матери:
– Не пора ли домой, девушка?
– Иду, – тотчас отозвалась она, и наш диалог прекратился.
– До встречи, – поцеловала она меня в щёку.– И не делай глупостей.
Дядька – сволочь не выходил у меня из головы, пока я добирался до нашей ночлежки. Лена, конечно, права: разводить грязь вокруг истории с пятилетним стажем не стоило. Но всякое зло должно быть наказано – в этом я был убеждён. И я строил прожекты, как отомстить насильнику за поруганную девичью честь…
Экипаж, которым я командовал, состоял из трёх человек. Техник – лейтенант самолёта Витька Шапорнёв был самоуверенным, смелым и дерзким человеком. Его задиристость и неуступчивость местная шпана оценила по достоинству, особенно после кровавой драки накануне Нового года. Три здоровенных лба пытались его отметелить, в результате чего двоих Витька послал в нокаут, а третьему сломал челюсть. Озлобленные противники устроили на него засаду, но он выстоял, без посторонней помощи, вычислил вожака и наутро явился к нему домой. О чём шёл разговор, парень не рассказывал, но после этого ни одна местная шавка не смела вякнуть в его сторону мало-мальски неуважительного слова.
Звание мастера спорта по боксу в полутяжёлом весе Шапорнёв заслужил ещё в училище, приняв участие на чемпионате Вооружённых Сил и заняв какое-то призовое место. По утрам он делал часовую зарядку и всегда находился в форме. Кроме великолепно сложенного тела, природа наградила Витьку острым языком и страстью к розыгрышам, отдельные из которых балансировали на грани скандалов. Однако против его обворожительной улыбки, как, впрочем, и против пудовых кулаков, устоять было невозможно. Он не знал комплекса неполноценности, а знакомства заводил запросто. Полный достоинства и благородства, этакий Робин Гуд с советской закваской, абсолютно бескорыстный и до определённой степени наивный, он безотказно одалживал взаймы, никогда не требовал возвратить долг, и потому всегда ходил с пустыми карманами. С ним охотно дружили, а вокруг его фотогеничной внешности всегда роились стайки девчат, и я не без оснований подозревал, что с доброй половиной из них он кувыркался в постели.
Незаурядные физические данные Шапорнёва тесно гармонировали с его деловыми качествами. Эксплуатацию самолёта и двигателя он знал назубок, профилактические и регламентные работы выполнял непринуждённо и весело, справедливо считая, что хороший настрой компенсирует каторжный труд технического персонала.
Самолёт мой всегда находился в исправном состоянии, готовым к боевому вылету, и начальство его ценило.
Во многом этому способствовал и механик самолёта рядовой Чурилов. Фигурой парень и лицом, как две капли воды, смахивал на Квазимодо, разве что горб отсутствовал. Но и душой владел отменной. На Рязанщине, в селе Константиново – родине Сергея Есенина, у него проживали многочисленные родственники, к которым он относился с любовью и культовым поклонением. Чурилов не пил, не курил, но крепчайшую махорку с непонятным названием «Вергун» ежемесячно отправлял братьям. От безделья солдат скучал, однако в самовольные отлучки не ходил, предпочитая заниматься резьбой по дереву. По характеру замкнутый, молчун обожал своего техника и расцветал, когда получал от него коротко брошенную оценку за выполненную работу – « молоток».
Вот такая у нас подобралась команда, и мне она нравилась.
Традиционно по субботам мы в одиночку и группами посещали гарнизонную баню. В общежитии имелась, конечно, умывальная комната с душем, но использовалась она только в будние дни, как правило, после полётов.
Баня славилась на всю округу не только за стерильную чистоту и великолепную моечную с рядами мраморных скамеек, но, главным образом, за парную, высокую, светлую с тремя ярусами полков и каменкой, пышущей перегретым сухим жаром. До обеда баней пользовались коренные жители военного городка, потом она отдавалась на откуп местному населению.
К парной меня приучил Витька Шапорнёв.
– Баня, командир, – на правах наставника говаривал он, – не только место для омовения тела нашего бренного. Это храм очищения душ и отпущения грехов праведных. И, избивая себя вениками в парной, мы как бы выгоняем из себя беса. В виде лишнего веса. Соображаешь?
В бане имелся небольшой, в три квадратных метра, бассейнчик, созданный по инициативе полковника Лукашевича, убеждённого в том, что закалка лётчику так же нужна, как необходимость умываться. И хотя на территории аэродрома имелась ещё одна банька для узкого круга ограниченных лиц, командир полка не стеснялся показываться перед подчинёнными и без погон.
Прикупив пару веников перед входом, мы быстро раздевались в предбаннике, входили в моечную, находили свободную скамью и по – хозяйски раскладывали мочалки, массажные, будто рашпиль, щётки, пузырьки с настоями трав, мыло и тазики. Настойки входили в ассортимент парного производства и приобретались в аптечных киосках. Мята или эвкалипт, чабрец и хвойный экстракты, разведённые в горячей, настоянной на берёзе или дубе воде, мелкими порциями отправлялись в жерло раскалённой каменки и вырывались оттуда мощной струёй ароматного запаха.
После двух – трёх заходов в парилку ритуал заканчивали обязательным омовением в бассейне. И только потом наслаждались « Жигулёвским», предаваясь пустой, лёгкой болтовне в предбаннике.
Витька научил меня процедуре под названием «гидроудар», уверяя, что автором этого открытия является именно он. Технология его была проста, но оригинальна. Он расстилал моё тело на скамье, делал массаж, потом взбивал густую пену, обильно покрывал ею мою спину и наполнял тазики водой. Один – холодной, другой – чуть ли не кипятком. После тщательных приготовлений Витька со всего маху выплескивал на тело жертвы второй и мгновенно первый тазики.
Эффект был потрясающим. Когда я впервые испытал на себе его метод, со мной случился шок. Но уже через минуту он прошёл, и я ощутил необыкновенную лёгкость и истинное наслаждение.
«Гидроудар» ребятам нравился, а Витька уверял, что запатентовал своё открытие в Палате Мер и Весов.
Однажды в отведённое для военных время на баню мы не вписались и пришли, когда её оккупировали местные. С трудом отыскав свободные места и шайки, в тесноте голых тел мы заняли круговую оборону, но стало понятно, что праздника не получится. Разведка в парную тоже показала, что сельдей в бочке бывает меньше.
Никогда не унывающий Витька, прихватив веник, решительно сказал:
– Ничего, командир, прорвёмся!
В парной бок о бок, словно ласточки на проводах, сидели потные, раскрасневшиеся люди. Но Витьку узнали, и кто – то из молодых уступил ему место.
Витька молча опрокинул шайку вверх дном, уселся на неё верхом и стал чесать свой лобок, обильно заросший растительностью. Потом большим и указательным пальцами вытащил что – то из волос, поднёс к глазам, внимательно рассмотрел и щелчком отправил невидимую соринку прямо перед собой. И снова захлопотал и зачесался. Эту манипуляцию техник повторил несколько раз. Соседи, подозрительно наблюдающие за его действиями, стали спешно покидать насиженные места.
– Всё! – подвёл итоги мой подчинённый, когда последний абориген исчез за дверью. – Теперь самое время помахать веничками.
Я от души расхохотался наглости друга и спросил, поддав ковшик настоя на каменку:
– А не боишься, что за такие шутки тебе голову намылят, а то и шайками забросают?
– Командир, – с огорчением посмотрел на меня Витька, – в психологии толпы ты слабак. Ну, подумай сам, кому захочется связываться с носителем манда…, пардон, лобковых вшей, не рискуя подхватить их в потасовке?
Через час, отмытые и утомлённые, мы покидали баню, и провожающие нас взгляды были полны презрительного осуждения. Витька от души веселился.
Вторую субботу Леночка не показывалась на танцах. Я уже решил нанести ей дружеский визит, но подумал, что это будет не совсем корректно. Чуть подвыпивший для храбрости, я топтался в кругу танцующих с какой – то случайной партнёршей и лениво блуждал взглядом по лицам девушек, ни на каком не останавливаясь. И вдруг чутьём угадал, что кто – то за мной упорно наблюдает. « Кому это я понадобился, – с беспокойством подумал я. – Парням, – вряд ли. Я ни с кем не конфликтовал». Короткие бытовые стычки были не в счёт. Шерше ля фам, маэстро. И действительно, через несколько минут я её вычислил.
У колонны, стоящей на выходе, как дневальный на контрольно – пропускном пункте, стояла роскошная шатенка в голубой кофте и синей юбке, и её с поволокой глаза неотрывно следили за моими. Выше среднего роста, с прямыми, расчёсанными на пробор волосами и в модных бирюзовых туфельках, она подчёркнуто высоко держала крепкую грудь и бесстрастно взирала на окружающих. Однако зрачки, когда бы я ни посмотрел, упирались в меня, словно взгляд с фотографии, снятой анфас. Напускное её равнодушие обмануть меня не могло. Девушка явно заинтересовалась моей персоной. Если так, то события торопить не стоит. Лучший способ заинтриговать женщину – не обращать на неё внимания. Нужно только дать ей понять, что зовущий взгляд принят и зафиксирован. Проще, конечно, пригласить её на вальс, но я этого не сделал. Пусть созреет до консистенции.
Я стоял у выхода из клуба и ждал её появления. В лёгком весеннем пальтишке она нарисовалась на крылечке, осмотрелась и решительно подошла.
– Добрый вечер, ковбой, – мягким бархатным голосом проговорила девушка. – Меня зовут Верой, а ты как раз тот, кому судьбой предопределено проводить одинокую девушку домой.
– Верой во что? – спросил я, подхватывая её под руку.
– В неизбежность, конечно. Жизнь – это спектакль, в котором каждый играет свою роль. Верно?
– Надо подумать, – осторожно ответил я. – А вдруг во время спектакля потребуется замена актёра?
– С тобой этого не случится. Не люблю дублёров. Ничего, что я на «ты»?
– Годится, – кивнул я головой. – Ты что, не любишь танцы? Что – то раньше я тебя не замечал
– Угадал. Своё отплясала, да и дел невпроворот.
– Выходит, сегодня было исключение.
– Это верно. Приходила выбрать для себя мужика. Я ведь не монашка.
У неё был небольшой симпатичный домик прямо за кладбищем, островерхий и с палисадничком, словно теремок из сказки.
– Не боишься жить рядом с покойниками? – спросил я, рассматривая кресты в лунном свете.
– А чего их бояться? Они смирные, не обижают. Да и мне до них нет никакого дела. Я больше живых опасаюсь. Входи, – пригласила она, распахнув двери, – я одна живу.
«Странно всё это, мистика какая – то, – думал я, перешагивая через порог незнакомого дома. – Привели, словно жеребца на случку, а я доволен. Нравы, что ли, дали трещину?»
Дом внутри разделялся перегородкой, отделяющей кухоньку с голландской печью от большой, метров в двадцать жилой комнаты. Прямо на меня смотрел трельяж, заставленный незнакомыми флакончиками, перед которым стоял пуфик на гнутых ножках. Слева возвышалась горка с посудой, а справа – широкая тахта, накрытая дивандеком.
В доме было тепло и уютно и пахло женщиной.
– Раздевайся, – просто предложила Вера, – и не бойся: непрошенных гостей здесь не бывает.
– Ты что, одна живёшь? Скучно одной – то, – сбросил я пальто и ботинки.
– Была замужем, но не повезло, разошлась через два года, и рада, что бросила лоботряса, – безразличным голосом произнесла женщина, накрывая на стол.
– Наверное, правильно, тебе видней. Но ведь рано или поздно всё равно заарканят. Ты красивая.
На комплимент девушка никак не отреагировала, слегка улыбнулась и ответила:
– Меня не уведут. Это ваш брат – мужик думает, что выбирает невест, а на самом деле командуем парадом мы. Ты здесь только потому, что я этого хочу, – засмеялась она. – Если хочешь, – это мой каприз. И потом, надо же как – то решать сексуальную проблему. Я ведь не железная…
Мы сидели рядышком на тахте за небольшим столиком, покрытым цветастой скатертью. В центре горел подсвечник, около стояли бокалы, бутылка « Цинандали» и раскрытая коробка конфет.
– Ну, за взаимопонимание, – предложила она короткий тост. – Подожди, может ты голоден?
– Есть немного, – улыбнулся я, рассматривая необычную девушку сквозь стекло бокала. – Только он скорее интимного характера.
– Тогда поспешим? – чокнулась Вера, пригубила вино и аккуратно отщипнула краешек шоколадки жемчужными зубами.
– Хорошее вино, – похвалил я. – У тебя неплохой вкус. Правда, кисловато немного. Давай – ка его подсластим и выпьем на брудершафт.
– А что, идея не оригинальна, но вполне приемлема, – согласилась женщина, и я почувствовал её волнение.
Мы осушили бокалы, слегка соприкоснулись губами, потом ещё, ещё и взасос. Общее возбуждение толкнуло нас в объятья, и хозяин моей промежности категорически потребовал немедленного освобождения. «Свободу Манолису Глезосу!», возник и канул в вечность в подсознании партийный лозунг тех времён и народов.
Я лихорадочно расстёгивал пуговицы на её кофте, а она трепетными пальцами освобождала меня от рубашки. Предметы мужской и женской одежды падали к ногам, с сухим коротким треском отскочили пуговички Вериного лифчика, бежевая тряпочка с затейливыми кружевами упала, и в мерцающем свете свечей, показались полные, налитые желанием белые груди с тугими сосками.
Не переставая осыпать женщину ласками, я наощупь нашёл на холме пупырышек и нежно, как только мог, покрутил его между пальцами. Вера застонала от наслаждения и провела ладонью по моему хозяйству. Призывный запах желания исходил от её открытого тела, и это было последним искушением, против которого не помогло бы никакое противоядие. Я с силой приподнял её за ягодицы, и она мгновенно, как живая лиана, обвила мою талию длинными ногами. Губы жадно ловили губы, и Верин язык, жёсткий, как хрящ, вторгся в мой рот, как только я ворвался в её пышущую страстью огненную розу.
Это был танец наслаждения, я, словно глухарь на токовище, ничего не видел, ничего не слышал в эксклюзивном парении. Новизна любовной позы покоряла. Я чувствовал себя настоящим мужчиной – сильным, мощным и властным. В исступлении Вера откинула голову далеко назад, обнажив свою длинную лебединую шею, плотно сомкнула веки и наслаждалась, слегка постанывая и ритмично работая животом и попкой. Эта безумная пляска между столом и тахтой продолжалась не более двух минут, но казалась бесконечно долгой и сладкой. Я почувствовал, что через мгновение кончу, приостановил возвратно – поступательные движения, но она этого не позволила и, целуя мою грудь, с силой нанизывала себя на обалдевшего от восторга хозяина. Её губы нежно, ритмично и властно сжимали его в объятиях, выгоняя семя наружу, словно доярка, выдаивающая корову. Сдерживаться дальше не хватило сил. Я успел выдернуть своего верного друга, и из него, словно из огнемёта, полыхнуло пламя блаженства, обжигая и шею, и груди и живот распластанной женщины.
– Вот за эти божественные моменты и стоит жить, – сыто промурлыкала Вера, уже лёжа на тахте и ласково поигрывая с моим шанцевым инструментом – беспомощным и вялым, как новорождённый младенец. – Ты удовлетворён?
Вместо ответа я лизнул её ухо и с силой прижал к себе.
– Вот сумасшедший, – довольно улыбнулась Вера. – Отпусти, раздавишь
Она помолчала, а потом, как о чём – то давно решённым, произнесла:
– Ты мне понравился. Останешься до утра. Только не рассчитывай, что приобрёл на меня какое – то право. Никаких обязательств – вот условие, при котором наши отношения могут иметь продолжение. Переспать с женщиной – это еще не повод для близкого знакомства.
«Странно, – подумал я. – Девушки, как правило, преследуют прямо противоположные цели». Однако меня это устраивало.
– Свободные художники интима? Не правда ли, звучит интригующе, – сказал я, поднялся, подошёл к столу и жадно выпил из бутылки остатки «Цинандали»…
Полёты в облаках, вне видимости земли, всегда относились к категории повышенного риска, а уж взлёт при ограниченных условиях погоды, заход на посадку и сама посадка по сложности своего выполнения превосходили любую фигуру высшего пилотажа. Именно такое задание я получил от командира звена капитана Кулявцева.
– Ты не волнуйся, – ободрял меня он, усаживая в кабину. – В крайнем случае, всегда приду на помощь. Делай, как учили, и не пытайся изобрести колесо.
«Как учили»… В авиации, пожалуй, это самая расхожая фраза. В ней заложена концентрированная мудрость всех поколений лётчиков. Она выступает гарантом безопасности полётов и сохранения твоей драгоценной жизни. Любой шаг в сторону от последовательности действий, заученных и выработанных на предварительной подготовке, может стать началом твоего конца, если ты не научен исправлять допускаемые ошибки хладнокровно и грамотно.
«Лётчик должен быть чисто выбрит, слегка пьян и немножко нахален». Это одно из шутливых наставлений первоклассных асов, эквилибристов и канатоходцев, выполняющих свою работу на грани фола, цена которому – жизнь. Но оно сугубо земное, и совершенно неприемлемо там, где опорой является воздух. Здесь нет обочины, у которой можно было бы остановиться, подумать и проанализировать логику своих действий, а потом, сообразуясь с обстановкой, двинуться дальше. Здесь кругом пустота.
Говорят, естественным дефицитом на свете являются деньги. Может быть это и так. Но для лётчика, находящегося в воздухе, есть своё понятие дефицита – времени, высоты и скорости. Провожая в последний путь погибших товарищей, мы с сожалением думаем о том, что будь у него в запасе доля секунды, пара лишних метров, – не пришлось бы идти за его гробом в скорбном молчании.
Я привычно скользнул в кабину, пристегнул привязные ремни и осмотрелся. Одного взгляда было достаточно, чтобы убедиться, что все тумблеры и переключатели находились в исходном положении, приборные стрелки – в норме, и рычаги управления готовые к действию. Связь с руководителем полётов была отменной, и я, захлопнув фонарь, вырулил на взлётную полосу, запросил разрешение на взлёт и благополучно отделился от земли. Через минуту она исчезла.
За бортом ничего не просматривалось, словно я попал к негру в задницу. И только показания приборов, с которых я скачивал информацию о поведении самолёта в пространстве и работе силовой установки, подтверждали, что отклонений от схемы полёта нет. В крайнем случае, у меня был инструктор, готовый в любой момент оказать необходимую помощь. Но уже приобретённый опыт выработал условный рефлекс – в любой ситуации рассчитывай только на свои силы.
Я отрабатывал метод захода на посадку отворотом на расчётный угол, где важнейшими элементами полёта было чёткое выдерживание скорости, высоты, времени и курса.
Воздушная масса возмущёнными потоками бросала самолёт из стороны в сторону, и непредсказуемую турбулентность я инстинктивно компенсировал с помощью рулей управления.
С РП мы перебрасывались короткими дежурными фразами, и по его спокойному голосу я догадывался, что полёт происходит нормально.
На расчётном развороте я выпустил шасси и перевёл машину на снижение. Скорость и показания авиагоризонта оставались в норме и после четвёртого разворота. А потом началась такая свистопляска, словно меня взяли в оборот боксёры – профессионалы. Самолёт, будто загнанную в угол мышь, кидало из стороны в сторону, вверх и вниз, стрелки приборов взбесились, ручка управления дёргалась и плохо реагировала на мои усилия.
– Выше глиссады на двадцать метров, – предупредил меня РП.
– Понял, – подтвердил я полученную информацию, отжимая от себя ручку и прибирая обороты турбины.
– Следи за скоростью, идёшь ниже глиссады, следи за высотой. До полосы тысяча метров. Не снижайся! – теперь в голосе руководителя прослушивались явно беспокойные нотки.
Я покрылся испариной и отдал сектор газа вперёд до максимума. Но опоздал: потерявший скорость истребитель катастрофически падал…
И вдруг наступила оглушительная тишина.
– Всё, вылезай, пилот, – с сарказмом прозвучал голос Кулявцева. – Полёт окончен.
Я откинул фонарь кабины, стянул с головы шлемофон и спустился на пол тренажёрного класса.
– Вот, смотри, – показал он схему моего полёта, аккуратно вычерченную осциллографами.
– Упал за триста метров до полосы. Это не есть хорошо.
За окнами назойливо моросил дождь, и тёмные тяжёлые облака цеплялись за кровлю домов.
– А что, – отшутился я. – Погода– то нелётная …
С Еленой происходило что – то неладное. Прошло уже три недели с того памятного разговора, а от неё не было ни слуху, ни духу. Я понимал, что чистосердечное признание в несовершённом грехе далось ей нелегко. Напуганная собственной откровенностью, влюблённая девочка в смятении ожидала развязки из щекотливого положения, в которое попала по неопытности. Ну почему бы ей не промолчать? Я – то был неуверен, что она имела какие – то отношения с мужчинами, спросил наугад, а, выходит, попал в точку.
Противоречивые чувства раздирали мою душу. С одной стороны, мне льстило, что такая юная красавица среди множества молодых людей предпочла меня, зрелого и уже имеющего определённый опыт в любовных приключениях парня. С другой, меня не покидала мысль о предстоящей встрече со Светланой. Чем она закончится, я не знал, но твёрдо решил поставить все точки над «и». И если получу отказ выйти за меня замуж, возьму в жёны Леночку.
Признаться, я впервые ощутил себя порядочной сволочью.
Глава седьмая
В разгар знойного засушливого лета, одетый по сезону и во всё модное, с традиционными подарками в фибровом чемодане и приличной суммой денег в карманах я подъезжал к городу, где прошла моя юность. С детства знакомые высоченные трубы заводов и фабрик курились вечным дымком, знакомые здания ничуть не постарели, и маршрутный трамвай, содрогаясь, как в былые времена, на стыках изношенных рельсов, лениво бежал по нескончаемому замкнутому кругу. Обстановка за время моего отсутствия в барачном мире заметно изменилась. Вдоль трамвайных путей выстроились новостройки, и жилой массив пятиэтажных домов уверенно наступал на обветшавшие постройки военного времени.
Предупреждённые телеграммой о моём приезде, все домочадцы были в сборе. Располневшая мать по обычаю первой заключила меня в объятья и, как всегда, всплакнула на радостях. Отец, заметно постаревший, но ещё жилистый и сильный, троекратно расцеловал и отступил в сторону, давая возможность младшему сыну с любовью ткнуть меня кулаком в грудь. Юрка заметно подрос и походил на стройного тополька, ещё худощавого, но уже раздавшегося в плечах. «Десять к одному, – подумал я, – что он засматривается на девчонок».
– Какой ты стал! – удивлённо проговорила сестрица Маша, отстраняясь от меня в сторону и рассматривая как диковинку.
– А других в авиации не держат, – перебил её мой шуряк, обнимая и по-солдатски похлопывая по плечу.
– Постойте, – искренне удивился я, разглядывая племянницу, – а это что за красавица? Неужели Люська так вымахала за полгода? Ну, вы и даёте…
Стол уже был накрыт, и всё семейство дружно уселось в предвкушении сытого обеда, в ходе которого у меня брали интервью.
Соблюдая обычаи семьи, я преподнёс каждому подарки, принятыми с явным удовольствием.
Ближе к вечеру, когда все порядком устали от разговоров, мать, поджав губы, сообщила, что Светлана закончила институт и уж как месяц приехала. Лучшего известия для меня не было. Радость и тревога разом вспыхнули в груди, и я, слегка подвыпивший, стал просчитывать, что лучше: нанести визит немедленно или отложить его до завтрашнего дня.
– Утро вечера мудренее, – словно угадав мои мысли, посоветовала мать. – Отдохни с дороги, никуда она не денется.
В самом деле, куда торопиться? Чтобы получить от ворот – поворот?
– Ямщик, не гони лошадей, – затянул отец любимую песню.
Да что они, сговорились?
Наутро, наскоро позавтракав, я надел костюмную пару, повязал галстук и пошёл навстречу будущему. Провожая, мать наставляла:
– Веди себя скромно и больше слушай. И не спорь со старшими, это неприлично.
Занятый своими мыслями, я озабоченно спросил:
– Цветов, где бы достать…
– Осподи, – всплеснула мама руками, – да у нас в палисаднике.
– Мне нужны розы, обязательно розы, мам, а у тебя их, конечно, нет.
– Денег, что ли, девать некуда? – недовольно проворчала она. – Твой – то отец и полевыми обходился. Да и когда это было, – прозвучала грустная нотка в её голосе. – Розы можно купить только на КБСе.
Через час, взведённый как курок пистолета, с роскошным букетом алых роз, тортом и коньяком, палец робко постучал в дверь, за которой жила моя судьба. Я стоял на краю пропасти, и шанса на спасение практически не было.
По – казённому сухо щёлкнул замок, дверь распахнулась, и в проёме появилась она. Знакомый разрез чуть прищуренных серых близоруких глаз, воздушный разлёт длиннокрылых бровей, высокий лоб, прикрытый завитушками русых волос и её растерянная от неожиданности улыбка, – такой осталась она в моей памяти.
– О, какие люди! Что ж ты стоишь, заходи, – пригласила Светлана мягким голосом с украинским акцентом, приветливо улыбаясь.
– Здравствуй, это я, – представился я осевшим голосом.
– Не может быть, – пошутила она, принимая цветы. – Спасибо. Какая прелесть.
Я огляделся. В небольшой прихожей под вешалкой на четыре крючка властно обосновался внушительных размеров широкий сундук Напротив висело овальное зеркало, отражающее соломенную шляпу Егора Петровича, а под ним небольшая полочка с парфюмерией.
– Мама, – крикнула Светка вглубь коридорчика, – у нас гости.
На зов из глубины квартиры выплыла седоватая женщина лет пятидесяти, сразу меня узнала, блеснула золотом зубов и приветливо пригласила:
– Проходить. Гостям всегда рады.
Хозяин дома сидел за столом, при моём появлении отложил в сторону газету, снял очки и откровенно обрадовался.
– Давно не виделись, – пожимая руку костяшками сухих пальцев и оглядывая с ног до головы, негромким голосом говорил он.– Славный парубок вырос.
Щуплый на вид, невысокий и поджарый, отец Светы располагал к себе мягкой доброжелательностью и простотой.
– Богатым будешь: только вчера о тебе говорили, и ты смотри – лёгок на помине.
– Папа, – с укором взглянула на него дочь, устанавливая вазу с цветами на середину стола, – ну к чему эти подробности?
– А что здесь запретного? – искренне удивился Егор Петрович. – Вспоминали. Но ведь гарным словом.
Брови его опустились, он придвинул ко мне стул, сам сел на диванчик:
– Давай, рассказывай, как живётся военным.
Первоклассный слесарь широкого профиля, он, как и мой отец в мартене, так и не попал на фронт, имея броню от оборонного завода, хотя, как член партии, писал заявление с просьбой отправить его на передовую.
Светлана присела рядом, лёгким движением руки поправила причёску и тоже навострилась слушать. Мать возилась на небольшой кухоньке, но дверь не прикрыла, прислушиваясь к разговору.
Я коротко обрисовал круг моих занятий, дислокацию своей части, и как – то получалось, что лучшего места, чем Сиверская, на земле не было.
Светлана, устремив взгляд в пустоту, о чём – то думала. Я пытался угадать, о чём, но лицо было непроницаемым.
– Выходит, всё у тебя в ажуре, – с одобрением подвёл итоги моего рассказа Егор Петрович. – А у нас всё по – прежнему: дом – работа, работа – дом.
– Тебя послушать – будто сирота казанская, – выглянула из кухни Фаина Дмитриевна. – С неба звёзд, конечно, не хватаем, а живём не хуже других.
По тону, которым она произнесла фразу, стало ясно, что командующим в семье была хозяйка. Кроме того, я знал, что Фаина работает шеф – поваром в заводской столовой, так что по части снабжения продуктами проблем в доме не было.
– Ну, что ж, – когда стол накрыли, поднялся Егор Петрович, – выпьем за встречу и за успехи нашего гостя.
Я зарделся, как непорочная девушка, бросил взгляд на Светлану и встретил её поощрительную улыбку.
– Диплом – то покажи, – попросил я. – Интересно.
– Да что в нём интересного, – пренебрежительно ответила девушка, но поднялась, открыла секретер и протянула мне синюю книжку в коленкоровом переплёте. Внутри, после графы «профессия» каллиграфическим почерком было выведено: «учёный зоотехник». Подлинность документа подтверждалась тремя росписями – закорючками и гербовой печатью на украинском языке.
– И куда ты теперь? – поинтересовался я, возвращая диплом.
– А никуда, – беспечно ответила Светка. – Заведу поросят на балконе, кур на кухне и овечек в прихожей. То – то соседи обрадуются…, – и она засмеялась.
– Да ты ешь, ешь, – перебил дочь Егор Петрович. – Во, грибочки в сметане. Люди из леса корзинами тащат, а мы на рынке покупаем. Взяли бы и съездили по грибы. А что, – предупредил он протестующий жест жены, – отдых должен быть активным.
– Почему бы и нет, – согласилась захмелевшая Светка. – Завтра утром и поедем. Ведь поедем, лейтенант?
– Да чего тут думать, – решила за меня Светкина мать, – грешно жить у реки и не напиться.
С полчаса мы ещё поговорили за чаем, обсуждая, куда лучше поехать, потом я поднялся, поблагодарил за угощение и вышел в прихожую.
– Значит, до завтра?
– Приходи к пяти утра, до грибов не близко, – предупредила Света, помахала рукой и закрыла за собой дверь.
Мысли, одна слаже другой, не давали мне заснуть и будоражили до рассвета. Перебирая в памяти подробности встречи, смакуя каждый жест и каждое слово любимой, я купался в роскоши розовых наслаждений, боясь признаться себе, как близко подошёл к заветному желанию. Не было никаких сомнений, что Светлана повернулась, наконец, ко мне лицом.
Оглушённый неожиданной удачей, я не хотел и не желал понимать причины её рождения. В извечной борьбе между чувствами и разумом победу одержала слепая любовь.
Я чётко понимал, что с её стороны никакой взаимности не исходит, но твёрдо верил, что сумею создать для неё такие условия совместной жизни, не полюбить за которые невозможно. «Стерпится – слюбится», – словно заноза засела в мозгу расхожая душеспасительная поговорка, я был в этом твёрдо убеждён, потому что считал свою любовь самой сильной на свете. Впоследствии за свою слепую самоуверенность я был жестоко наказан. Но это случилось потом, а сейчас, в стремлении схватить жар – птицу за хвост, я испытывал такой кайф, который не снился никакому закоренелому наркоману.
За пять минут до условленного времени, одетый по походному, я уже робко стучался в квартиру Светланы. Дверь тотчас же распахнулась, и она, в ситцевом платьице и сером трико, с ещё заспанными глазами встретила меня коротким кивком.
– Время терять не будем, пойдём через Порт, – накинула она косынку, и мы направились по маршруту, по которому я когда – то провожал Дашу. Интересно, как бы она прореагировала на нашу пару? Не думаю, чтобы осталась равнодушной. Девушки, как к никому, ревнивы к соперницам.
Через полчаса мы уже мирно тряслись в жёстком вагоне пригородного поезда среди десятка людей с корзинами и вёдрами, – явных грибников и дачников.
Разговор крутился вокруг друзей и подруг. Вспоминали голодное и беззаботное детство, делились планами на будущее. Я с вдохновением расписывал прелести офицерской жизни, рассказывал о своих связях с прессой и о несравненном городе Ленинграде.
Наивно было бы думать, что я хоть как – то обмолвился о своих любовных похождениях. Однако, опираясь на свой опыт, я ревниво подозревал, что и она, учась в институте на очном факультете, не сидела без дела. «Расскажи, со сколькими ласкалась? Сколько знала рук и сколько губ?», совершенно не к месту припомнилась песня Есенина.
Минут через сорок мы уже бодро шагали за грибниками – попутчиками, всё более углубляясь в смешанный лес. И хотя в руках у нас были корзинки, я не думал о грибной охоте. Уик-энд предназначался для приватного разговора, не больше.
От проводников мы незаметно отстали, я старался держаться поблизости от Светы, не забывая вести детальную ориентировку: лес был чужой, и заблудиться в нём ничего не стоило. Изредка мы хвастались хорошей добычей, сходясь и расходясь в разные стороны. К полудню, наконец, устроили привал в кругу берёзового хороводья и, оживлённо подводя итоги розыскной работы, принялись за еду. Грибов у меня оказалось больше, и я остался доволен: мужчина, как – никак, по природе своей – добытчик.
Мы сидели в тени среди духмяного разнотравья, где – то в кронах деревьев щебетали птицы, и казалось, что на сто вёрст вокруг не было ни одной человеческой души.
Светка, поджав колени к подбородку, задумчиво покусывала стебелёк мать – мачехи и выглядела, как никогда, озабоченной.
– Больше года прошло после нашей встречи, а ты почти не изменился, – начала она. – Не забыл свой визит в Лозовеньки?
Я мгновенно напрягся, сообразив, что вопрос был задан не зря:
– Как можно? Даже имена твоих подруг помню.
– И о том, что сказал на прощанье?
– Очень хорошо. Сама знаешь, в любви признаются только один раз.
Девушка сделала длинную, показалось, бесконечную паузу, повернулась ко мне лицом, и взгляды наши встретились:
– Так вот, я долго размышляла и решила стать твоей женой.
Я не поверил своим ушам. Измаил, этот неприступный орешек, сдался, наконец, на милость победителя! Бурные волны восторга, необыкновенная радость, подобная той, которая возникает у человека, пережившего смертельную опасность, обуяли моё тело, Я вскочил на ноги, легко, словно это была пушинка, поднял Свету и осыпал поцелуями её руки.
– Ты не пожалеешь о своём выборе, – от всего сердца сказал я, заглядывая в её лучистые глаза. – Я действительно тебя люблю и постараюсь сделать счастливой Жизнь готов за тебя отдать!
– А вот этого делать не надо, – довольная, рассмеялась Света.– Мне муж больше здоровым нравится.
Я притянул к себе любимую и, замирая от счастья, впервые поцеловал в губы. Они были бесстрастны и холодны, как неживые. Зато я изрыгал огонь и пламень, всё крепче прижимая её талию. Мощная волна желания накатила на меня, как девятый вал, колени подломились, и она, не выдержав моей тяжести, упала на приготовленное природой ложе.
– Только не сейчас, – не в силах говорить, прошептала Светка. – Давай, как у людей, после свадьбы.
Это было не предложение, это прозвучала волшебная, космическая, никогда не слышанная музыка, необыкновенно сладкая и чарующая. Господи, да я пятнадцать лет ждал этого предложения, неужели не потерплю ещё несколько дней?!
Ошалевший от счастья, не зная, как выразить свою благодарность любимой, я совсем потерял голову, мощным рывком усадил девушку на шею и как застоявшийся жеребец, помчался галопом по присмиревшему лесу, дико вопя от восторга:
– Она согла – а – сс – на – а!!!
Светка от души хохотала, крепко держась за мою голову, и умоляла опустить её на землю.
О своём решении пожениться мы объявили сразу. Реакция родителей была неоднозначной. Егор Петрович, не скрывая радости, обнял и поощрительно похлопал меня по спине, а Фаина известие восприняла спокойно. И я понял, что этот вопрос между женщинами был решён накануне. И несмотря на интуитивную ненависть к будущей тёще, в этот момент я был ей безмерно благодарен.
Мать по привычке всплакнула. Сентиментальная по натуре, она никогда не проливала слёз в непогожие для семьи дни, была жёсткой, властолюбивой женщиной. А вот сейчас, вытирая рушником отсыревшие глаза, грустно сказала:
– Ты, оказывается, стал взрослым, сынок, и время для моих советов миновало. Но чует моё сердце – не будет проку от вашего брака, ты уж прости меня, старую, за откровенность.
На следующий день мы со Светкой написали заявление о желании вступить в брак и отнесли его в отдел записи актов гражданского состояния. Миловидная стерва, принявшая его, своим ответом чуть меня не убила. Оказывается, по инструкции ритуал обручения мог состояться только через месяц. Время даётся для того, терпеливо разъясняла она, выслушав мои бурные протесты, чтобы брачующиеся глубже осознали важность предстоящего события и ещё раз проверили свои чувства друг к другу.
Аргументы о моей принадлежности к ВВС, о коротком отпуске и многолетней дружбе с невестой её не убедили.
Зато заведующий Загсом оказался мужиком покладистым и, в виде исключения, назначил регистрацию через три дня.
От хлопот и забот в домах дым стоял коромыслом. На объединённом семейном совете все пришли к выводу, что свадьба должна быть скромной, а деньги, собранные по такому случаю, пригодятся на обустройство молодой четы.
В понедельник ровно в полдень в сопровождении свидетелей со стороны жениха и невесты мы перешагнули порог Загса, и та же строгая миловидная женщина, поправив очки, громко поздравила нас с законным браком.
Участники церемонии скрепили наш союз звоном бокалов с шампанским, и все покинули помещение. Светка сияла, прижимая к груди свадебный букет, я чувствовал себя на седьмом небе, и только теперь сообразил, что ЗАГС находился под квартирой старой моей подружки Нинель. Я поднял глаза вверх, и мне показалось, что за приоткрытой занавеской промелькнуло её осуждающее лицо.
Вдосталь ели и пили, пели и плясали дорогие гости. Свадебные столы установили в двух наших комнатушках. Всё лишнее, мешающее простору, было вынесено. Даже от стульев отказались, резонно решив, что скамья и вместительней, и сближает людей, объединённых единым событием. Несмотря на распахнутые настежь окна, духота стояла тропическая.
Как водится, жених и невеста сидели в красном углу и под пьяные крики «горько» изредка соприкасались губами под восторженный рёв толпы. По обычаю, после третьей рюмки пустили поднос вдоль столов, и гости поочерёдно выкладывали на него заранее припасённые деньги, словно оплачивали счёт в ресторане. А потом Иван Алексеевич небрежным жестом рассыпал по полу горсть мелочи и заставил молодых подметать пол:
– А вот мы посмотрим, как невеста умеет соблюдать чистоту в доме!
Светка добросовестно трудилась с веником, но безрезультатно: не успевала домести до конца, как снова раздавались звонкие переливы подбрасываемых монет. Но и этот этап был преодолён достойно, и тарелки мелочи были прибраны на чёрный день.
Дежурно улыбаясь, я чокался бокалами с друзьями и родственниками и озабоченно думал о предстоящей брачной ночи. Я предполагал, что родители моей законной(!) супруги останутся ночевать в нашей квартире, а мы уйдём к Светке, и с тоской ожидал, когда же наступит конец этой ритуальной канители.
Наконец, далеко за полночь приглашённые начали рассасываться, время двигалось к финалу, и я, наклонившись к Светке, робко задал сверлящий меня вопрос:
– Свет, а где мы будем спать?
– Не знаю, – пожала она плечами, – я думала, что ты об этом позаботился.
Вот тебе – раз! Да будь на её месте другая, я бы её и на шифоньере трахнул! Но это была ОНА, моя любовь, и лихорадочно просчитывая ситуацию, я стал искать выход из тупикового положения.
– Может быть, в гостинице? – предложил я Светке.
– Ещё чего, – фыркнула она, – на замусоленных – то простынях…
Я совсем растерялся.
– А знаешь, – сказал я, вспомнив обалденные ночи в сарае Григоровых, – Пойдём на сеновал?
Она с великим удивлением подняла вверх длинные, чуть подкрашенные брови, и ответила:
– Ты это серьёзно? Мы – что, скотина какая – то?
«Та – ак, – подумал я, вспоминая поговорку о том, что с милым рай в шалаше, – девочка первую брачную ночь проводить со мной не собирается. Почему, спрашивается в задачнике?»
Горькая обида захлестнула моё сердце. Ревность была не в счёт. И Светка, и я до женитьбы имели право на свободу выбора в своих поступках. Но теперь – то всё принципиально изменилось, выбор сделан, и отступать некуда.
Она заметила моё побледневшее от волнения лицо, может быть даже догадалась о моём состоянии, взяла меня за руку и в самое ухо прошептала:
– Подожди, что-нибудь придумаем…
Я с надеждой заглянул в её глаза, пытаясь найти в них решение тупиковой задачи.
Надеясь, что предки наши сообразят, о чём думает молодёжь, мы поднялись и тоже засобирались в дорогу. Но, то ли они были слишком пьяны, или посчитали, что первая брачная ночь для нас осталась позади, но никаких действий с обеих сторон в плане создания для нас интимной обстановки предпринято не было.
Стало уже светать, когда тесть с тёщей и мы неторопливо побрели в направлении их дома. Подвыпившая Фаина держала дочь под руку и с пьяной неожиданностью стала её оплакивать, словно покойника. Даже Егор Петрович, всегда сдержанный, не удержался и вставил реплику:
– Прекрати, женщина, здесь не на кладбище!
– Конечно, конечно, – тотчас заулыбалась тёща, и её вставные золотые зубы зловеще сверкнули в лучах восходящего солнца. Наступал первый день моей супружеской жизни.
С глубоко саднящей раной на сердце я вернулся домой, бросил в угол матрац, и, обнимая вместо жены подушку, провалился в небытиё.
День второй начался по знакомому сценарию. Сменилась только декорация. Теперь гулянка перешла на территорию Светкиной квартиры. Гостей заметно поубавилось, и я рассчитывал, что теперь – то молодожёнов наверняка оставят наедине. Мы сидели на кухне и говорили о совместной предстоящей жизни. Отпуск подходил к концу, надо было думать об отъезде, и я с волнением думал, как встретит моё появление в гарнизоне Леночка. Только бы не закатила скандал. Лучше пулю в лоб.
«Видит кучер в смутной дымке сна сорок бочек белого вина. А лошадке снится до утра тысяча подков из серебра», – сквозь пьяный шум доносилась до нас из радиолы мелодия популярного шлягера. Господи, у каждого свои проблемы. Кому – вино, кому – копыта, а я вот со своей женой переспать не могу. Может, к вечеру повезёт. Правила приличия обязывали хозяев проводить моих родителей до дому, и мы, наконец – то, останемся наедине. Но не тут – то было. Мило улыбаясь, Фаина дошла только до передней, и волей – неволей мне пришлось сопровождать родственников.
Я не на шутку рассердился, а Светка, как ни в чём не бывало, мило улыбнулась, поцеловала и проворковала:
– Приходи завтра пораньше…
Поневоле я начал подозревать, что вся эта комедия происходит по давно написанному сценарию, и новоиспечённая жена сознательно уклоняется от брачного ложа. Только вот почему – непонятно. И матушка её, старая стерва, создаёт всякие препятствия к нашему сближению. Ревнует, что ли, к любимому зятю? Ох, как я её возненавидел! Ей бы не Фаиной называться, а Наиной – персонажем из пушкинской поэмы «Руслан и Людмила». По части коварства Фаина бы её превзошла.
И прошла ещё одна ночь, и наступило утро. Проснулся я в сквернейшем настроении, злой от ночных кошмаров, обиженный на Светку, на окружающих, на весь мир. Да провались она пропадом такая женитьба, от которой ни капли радости! И что будет потом после такого неудачного дебюта? И не поспешил ли я, поддавшись слепому преклонению перед возлюбленной? Не на неделю же я женился – навсегда.
Что и говорить, в интересном положении я оказался, объективно – женатый холостяк. Это выглядело смешно, если не было бы так грустно. У каждого влюблённого богатое воображение, и первая брачная ночь представлялась мне в романтическом ореоле. Интимные отношения, имевшие место до этого, казались забавой, капризом природы.
Припомнился анекдот по этому поводу. На засидках сидят русский, украинец и грузин, ждут ночи, рассуждают об охоте. Русский говорит:
– Вот, бывало, в Сибири выйдешь на медведя, завалишь хозяина, тут тебе и шкура, и мясо. Это, я понимаю, охота!
Хохол хвастает:
– А у нас на Полтавщине выйдешь на вутей, нашмаляешь полмешка, тут тоби пух, тут тоби и мясо. О це охота!
Грузин мечтательно вспоминает:
– А у нас лежишь на пляже, на берегу Чёрного моря, справа – женщина, слева – женщина, ей охота, тебе охота – вот это охота…
Как всякий влюблённый, я был слеп, как крот, и глух, как тетерев. В томительном ожидании воссоединения со Светкой я находился чуть ли не в прострации и не контролировал ситуации. Огромная, как океан, мысль заполняла голову, – когда же, наконец, наступит конец света.
Мне припомнился разговор с Витькой Шапорнёвым месячной давности. Мы загорали на берегу Оредежа, когда я поделился с ним планами о возможной женитьбе.
– Ну, и дурак, – резюмировал он. – Куда торопишься, командир? Допустим, ты сегодня влюблён до потери сознания, после потери сознания распишешься, а потом сознание к тебе вернётся, и что тогда?
– Циник ты, Витька. Посмотрим, как ты запоёшь, когда самого прижмёт.
– Да ну тебя к лешему, – отмахнулся техник. – Лучше посмотри на ту красавицу. Просто прелесть! – повысил он голос, чтобы обратить на себя внимание. – Какие ножки, а талия, а грудь. Вылитая Афродита с руками! Мадам, – галантно обратился он к ней, заметив, что слова его услышаны, – никогда не поверю, что вы настоящая блондинка.
– Конечно настоящая, – кокетливо заулыбалась девушка, сражённая тонким комплиментом.
– И васильковые глаза ваши?
В ответ девушка звонко рассмеялась.
– О, какие перламутровые зубки! – не переставал восхищаться Витька, окончательно сразив собеседницу лестными комплиментами, и с озабоченной досадой добавил:
–Только вот один недостаток…
– Это какой же? – стёрла девушка улыбку с лица.
– В постели не кувыркаешься….
На мгновение возникла пауза, а потом, шокированная откровенной наглостью, девушка вскочила и, торопливо собирая вещи, возмутилась:
– Хам! Негодяй! Дурак неотёсанный!
– Да ладно уж, я пошутил, – примирительно крикнул ей вслед Витька. – Кувыркаешься, конечно!
– Знаешь, а по – моему она права, – заступился я за девушку. – Ты действительно скот. Пойдём, пожалуй, отсюда. Что – то расхотелось валяться.
…На третий день сексуально озабоченный, я снова шёл на свидание к Светке, твёрдо решив покончить сегодня с половым беспределом. Встретили меня с ласковым вниманием. Светлана расцеловала в дверях, а тёща сразу же пригласила к завтраку. Егора Петровича в доме не было, видимо, ушёл на работу. За чаем начали прикидывать, что необходимо приобрести на первых порах семейной жизни. Под звуки радиолы жена составляла примерный список вещей, прислушиваясь к советам матери. Большинство намеченного я не одобрял, ссылаясь на то, что это можно приобрести на месте. Рыскать в провинциальном городе в поисках дефицита было неразумно и хлопотно.
Часа через два тёща ушла по делам, я обнял Светку и внимательно заглянул в её серо– голубые глаза. Потом короткими поцелуями стал покрывать её лицо, шею и грудь. На всех моих прежних возлюбленных этот приём действовал безотказно. Женщины млели от удовольствия, теряли над собой контроль, уступая желанию и страсти. Светка от них ничем не отличалась, и её ответные робкие, вежливые поцелую участились. Я чувствовал, как её маняще пахнущее тело всё плотнее прижималось ко мне, и решил, что наступил, наконец, момент нашего сближения. Подхватив её на руки, я закружился по комнате и уложил на застеленную кровать.
– Не сейчас, – сказала вдруг Светка с придыханием. – Мама вернётся, – объяснила она. – Пожалуйста, не сейчас.
Я сделал глубочайший вздох, полный разочарования. Если бы не её «пожалуйста», я бы не остановился.
– Сегодня ты будешь ночевать здесь, – пообещала жена, заметив мои надутые от обиды губы. И ласково провела по щеке мягкой ладонью.
Жить мне оставалось несколько часов…
Прелюдию сближения с женщиной мужчины стремятся сократить на возможно короткий срок. Конечно, есть и самоистязатели, для которых процесс ухаживания важнее и слаще, чем его результат. Это извращение – ставить предвкушение любви выше наслаждения любовью. Настоящим мужчинам подавай всё и сразу. Деловые, вечно занятые добытчики, они интуитивно понимают, что секс – это допинг для жизни, и потому сквозь пальцы смотрят на скоропалительную любовь, поскольку процесс ухаживания требует времени, а время – это деньги, с которыми они расстаются с неохотой, как выразился один из президентов Америки.
Но и в предвкушении секса есть своя изюминка. С того момента, как Светлана согласилась лечь со мной в постель, я ни о чём не мог думать, кроме прелестей, меня ожидающих. Сладкие фантазии настолько заполонили мою голову, что с окружающими говорил я по инерции, отвечал невпопад, оставаясь глухим к некоторым вопросам. Мысли витали в поднебесье, глаза сияли нетерпением, и глупая улыбка не сходила с лица.
Светка тоже пребывала в возбуждении, бросая на меня взгляды, полные любопытства и затаённой тревоги. Они ничуть не отличались от тех, которыми меня одаривали малознакомые случайные девушки. Формально женатые, мы оставались чужими, и ночь, которую я ждал, как манну небесную, обещала разрушить полосу отчуждения.
Чтобы скоротать время, мы заглянули к бессменной Светкиной подружке Лильке, худой и длинной, как колодезный журавль, косоглазой девице. Вполне самостоятельная женщина, деловая и своенравная, она и говорила по– мужски властно, и судила о вещах однозначно, коротко и метко. Лилька на редкость была умницей, и это как бы являлось компенсацией природы за недостатки её внешности.
За чашкой чая, мы сообща настрочили заявление в паспортный стол с просьбой выписать мою жену из занимаемой площади по случаю переезда к месту службы мужа. Втроём мы отнесли свою петицию в местное отделение милиции и по такому случаю заглянули в единственный на всю округу ресторан. За бутылкой десертного вина и умными разговорами время побежало быстрее. Подвыпившую Лильку интересовал контингент сиверских холостяков, и она без обиняков заявила, что готова познакомиться с одним из них. Про себя я усмехнулся: при Лилькиной внешности шансов выйти замуж за военного было маловато.
К вечеру мы вернулись домой. Егор Петрович, как всегда, сидя за столом, мусолил газету «Челябинский рабочий». При нашем появлении он встал, снял очки, сердечно со мной поздоровался. Фаина молча накрывала на стол.
– Да сыты мы, мама, – запротестовала Светка. – Только что из гостей.
– А ничего, – примирительно произнёс отец, – лакомый кусочек найдёт закуточек. К тому же я и премию получил, – хитро подмигнул он мне, извлекая из – под дивана бутылку белоголовки.
– С каких это пор премировать водкой стали, – осуждающе поджала губы тёща.
– Здрасте вам, – развёл руками Егор Петрович. – Ты что, газет не читаешь? По этому случаю Указ был. Не веришь, у соседки спроси.
– Хватит чепуху – то молоть, – засомневалась Фаина. – Премию – и водкой?
– Обязательно! А женщин, говорят, премируют духами. Тебе, случаем, не выдали? Ну, значит, жди. Скоро получишь.
Все рассмеялись, а Егор Петрович, подняв рюмку, коротко сказал:
– Ну, чтобы дома не журились!
Вот и наступил долгожданный момент, о котором я мечтал всю свою сознательную жизнь. Родители исчезли на кухне, плотно притворив за собой двери, и мы остались наедине. Охваченный возбуждением, я совершенно забыл об обидах, ещё утром терзавших моё сердце. Светка стояла лицом к трюмо и делала вид, что поправляет причёску. Я шагнул вперёд, обнял её за покатые плечи и потёрся щекой о её ухо. Сквозь полузакрытые веки она наблюдала меня в зеркальном отражении и тихо улыбалась, но во взгляде улавливался полуиспуг и настороженность. Руки мои соскользнули с её плеч, нащупали девичью грудь и осторожно, боясь не помять, обжали её трепетными пальцами. Она повернулась ко мне лицом, и я медленно, сгорая от нетерпения, стал освобождать её от одежды.
– Выключи свет, – прошептала Светка, и пока я выполнял команду, она проворно сбросила платье и юркнула под одеяло. Роняя на ходу мужскую экипировку, я безошибочно нашёл путь к брачному ложу и пристроился с краю, надёжно перекрыв пути отступления моей Дульцинеи. Телом я почувствовал тонкую ночнушку, прижался к Светке и медленно стал поглаживать её эрогенные зоны.
Она лежала, не шевелясь, с вытянутыми вдоль бёдер руками, но когда я стал ласково поглаживать бёдра, чуть раздвинула ноги. Боясь, что сокровище исчезнет, я ускорил события.
– Тише, – одними губами прошептала Светка, – родители услышат. «Какая теперь разница, – раздвигая колени любимой, подумал я. – Даю голову на отсечение, что они навострили уши».
Ладонью я нащупал нежный холмик Светкиных волос, подчиняясь инстинкту, раздвинул коленом податливые ноги супруги, и мой головастый разведчик резко нырнул в эпицентр событий. Светка охнула, и её неожиданный крик взорвал тишину, подтверждая, что я попал в «яблочко». Не давая ей из – под себя выскользнуть, я всё глубже и неистовей вгонял свою плоть в частицу её плоти и, упиваясь райским блаженством, вознёсся к облакам. Длинные толчки мужской силы привели в такой восторг, которого я не испытывал никогда в жизни, и чтобы не закричать, я зажал зубами край подушки и мычал что – то нечленораздельное.
«Вот и всё!» – с сожалением подумал я, когда мой хозяин, успокаиваясь, стал выпускать дух и сокращаться в размерах.
С благодарностью я начал осыпать мою любимую поцелуями и почувствовал солоноватый привкус на губах: Светка плакала. Может быть, от боли, которую испытывают перезревшие девы, расставаясь с невинностью? Но я не ощутил никаких преград на своём пути. Ну, и что? Девушке было почти двадцать три года – возраст, до которого невинность доживает в редких исключениях. Я не в претензии. И был доволен тем, что цели, которые я ставил перед собой, пока сбывались. Я стал лётчиком – истребителем, я завоевал сердце любимой женщины, я доволен своей работой и жизнью.
Я осыпал свою жену поцелуями и осторожно слизывал остатки её слёз с невидимого лица. Она отвернулась к стене, я придвинулся плотнее и ощутил её голую попку. Нашарил под ночнушкой её пупочек и замер в блаженстве. «Нехорошо, конечно, что не довёл её до оргазма, – осуждал я себя мысленно. – Но, с другой стороны, в первую брачную ночь это происходит далеко не всегда». Ничего, успокаивал я себя, теперь она моя жена и, дай Бог, чтобы стала моей любовницей и другом.
Постепенно погружаясь в сон, мне чудились какие – то кролики, образы людей, горные вершины и пропасти, в одну из которых, бесконечно глубокую, я и сорвался…
Утро встретило всех ярким солнышком, щебетаньем птиц за распахнутым окном и мирным побрякиванием посудной утвари на кухне. Тёща, похоже, на работу сегодня не собиралась.
Светлана лежала на спине, закинув руку за голову, и делала вид, что спит. Но по дрожащим векам угадывалось, что она давно бодрствует и ждёт моего пробуждения.
Я молча рассматривал её лицо, детально изучая каждую чёрточку, лицо, которое буду видеть теперь каждый день и всю жизнь. В отдельности фрагменты выглядели заурядно. Нос короткий, тонкий, слегка приплюснутый, брови удлинены, губы могли бы быть и попухлее. Скулы, скошенные к подбородку, придавали портрету элипсовидную форму. Но в целом лицо, обрамлённое кудряшками волос, выглядело миловидно и по – своему красиво.
Но вот Светкины веки дрогнули, она распахнула свои серые глаза, встретила мой взгляд и широко улыбнулась:
– Ах, как хорошо поспала! Доброго утречка, мой суженый, – приветливо проворковала она и чмокнула меня в щёчку. – Не пора ли нам – пора?
– Вот и я говорю, – услышала наш разговор Фаина. – Вставайте, лежебоки. Я уж и завтрак приготовила.
Быстро накинув одежду, я отправился в туалет приводить себя в порядок, а когда вернулся, застал тёщу за уборкой нашей постели. Меня покоробило, когда она, демонстративно сдёрнув с кровати простыню, измазанную красными пятнами, потрясла ей в воздухе, как флагом, и горделиво бросила на меня многозначительный взгляд.
«Не валяй дурака, Наиночка! Меня не проведёшь, – подумал я про себя. – У меня за спиной семилетний опыт общения с женщинами, и я отлично знаю, что такое девственная плева. И Светка сглупила, подгоняя месячные к первому половому акту. Ну, зачем начинать совместную жизнь с обмана?».
Ах, как порой опрометчиво поступают девицы, пытаясь запудрить мужчинам мозги! Неужели они думают, что любой парень полный идиот в этом плане? Если так, то через пару – тройку лет вызреет прекрасный семейный букет: Муж – идиот, дети – дебилы, а жена?
С детства меня научили играть в карты. На чердаках и в стайках мы с увлечением резались в буру, очко, шестьдесят шесть, шубу, секу и в ещё целую охапку азартных игр. Это был самый короткий способ обогащения. Или разорения. Всё зависело от того, как ты умеешь управлять нервами. Покер для меня был недоступен, но уже тогда я был знаком с красивым словом «блеф». Уметь блефовать – целое искусство, мастерство, с которым ты должен убедить противника, что у тебя на руках прекрасные карты и тягаться с тобой бесполезно. Проиграешь.
В буквальном смысле блеф – это красивая на лице мина при плохой игре.
Вот эту самую мину я и демонстрировал за завтраком. Ни взглядом, ни жестом, ни неосторожным словом не выдал я своих мыслей. И настороженные вначале лица женщин постепенно оттаяли. Пусть думают, что пилюлю я проглотил. Не начинать же семейную жизнь со скандала…
Меня до чёртиков интересовали эротические впечатления Светланы. По всему было видно, что и ей хотелось пообщаться на эту тему. Мы ловили себя на том, что украдкой бросали взгляды друг на дружку и стыдливо отводили их в сторону, будто люди, случайно оказавшиеся свидетелями интимной сцены.
– У тебя всё в порядке? – вполголоса спросил я, когда Фаина на минуту исчезла за дверями кухни.
Светка залилась маковым цветом и коротко кивнула.
– Не боялась?
– Ещё и как! – ответила она с робкой улыбкой. – Очень боялась, что ты перепутаешь дырки…
Ответ нас развеселил, и мы сменили тему разговора.
За завтраком женщины в подробностях интересовались о жизни в Сиверской и, главное, где мы будем жить.
Этой проблемой был озабочен и я. В разгар дачного сезона найти пристанище в посёлке – задача не из лёгких, а казённой жилплощади в гарнизоне, я это точно знал, не имелось.
– Не пропадём, Фаина Дмитриевна, – с оптимизмом отбивал я атаки тёщи. – Мир не без добрых людей. Да и начальство в беде не оставит.
– Вам, молодым, виднее, – соглашалась она с неохотой.
– Это точно. Так что, Светочка, неделю тебе на сборы – и в путь.
– Так мало? Да у меня куча дел, – порозовела от удовольствия жена. – Успею ли?
– Успеешь. А где надо, и я помогу. Теперь нас двое.
Интересное кино получается: я, истребитель, теперь имел пару и по жизни, и оставалось только надеяться, что мой ведомый не подведёт. Если тылы крепки, то и на передовой порядок…
Первым, кого мы встретили, выйдя из вагона, был Лёха Мазуров. Очень подвижный и всегда весёлый острослов, он пользовался репутацией надёжного друга и человеком слова. Его любили за простоту и скромность, удивительную, прямо таки фантастическую целеустремлённость в достижении намеченной цели. Мало кто видел Лёху серьёзным. Обаятельная улыбка, казалось, навсегда приклеилась к его округлому лицу, придавая ему сходство с рубахой – парнем. У него была тайна, про которую знали все. Лёха мечтал стать лётчиком – испытателем. Будь судьба чуть – чуть благосклоннее, он бы непременно попал в отряд космонавтов. По – моему, я уже об этом говорил, но хотел бы уточнить.
Дело в том, что за месяц до нашего прибытия в полку отработала медицинская комиссия по отбору молодых лётчиков для выполнения особого задания. Какого конкретно – никто не знал, но тот факт, что каждый кандидат давал подписку о неразглашении, вызывал неподдельный интерес и всеобщее внимание. Для какой цели и по каким параметрам отбирались люди, оставалось тайной, но не для нас. По крупинке, по зёрнышку сложилось мнение, что истребители нужны для работы в космосе. Весть была настолько неправдоподобной, что большинство в неё не верило. Однако из десятка тщательно осмотренных и скрупулезно проверенных лётчиков серьёзная комиссия отобрала только двух. Но в Москве, после повторных исследований, одного не только не взяли в отряд космонавтов, но даже списали на землю. Оставили Герку Титова, кудрявого, приземистого и улыбчивого парня, чем – то похожего на прославленного Кожедуба. Герка учился в нашем потоке, но в связи с реорганизацией методики обучения закончил СВАУЛ на год раньше. С большой досадой каждый из нас сожалел, что не успел поймать за хвост улетевшую жар – птицу, и Мазуров – в особенности.
Лёха возник у меня сзади, как только мы сошли на перрон станции Сиверская, дружески похлопал по спине, и мы обнялись, словно братья после долгой разлуки. Через пару минут я был уже в курсе всех событий. Светлана, стоя рядом с чемоданами, с любопытством наблюдала за встречей друзей и ждала, когда обратят на неё внимание.
– А это что за изящество? Я всех гарнизонных красавиц наперечёт знаю, – убеждённо произнёс он, оценивая карими глазами Светкину фигуру. – Что, неужели женился?
Светка зарделась, как маков цвет, – протянула руку и представилась:
– Тогда принимайте пополнение.
– Рад, несказанно рад новому знакомству! Замечательных людей в полку много. Так что найдёте себе и подруг, и друзей по своему интеллекту. Обустроитесь, приходите в гости.
Лёха был женат и уже имел комнату в благоустроенном доме.
Не переставая улыбаться, он вскочил на последнюю подножку уходящего поезда и приветливо помахал нам рукой.
В общежитии в гордом одиночестве валялся на кровати Алексей Миронов, нелюдимый, мало разговорчивый, замкнутый в себе лейтенант. Но при нашем появлении лётчик поспешил встать, представиться и помочь занести весь багаж.
Холостяцкое убежище Светлане понравилось. Светло, чистенько, просторно и занавесочки на окнах. Много ли молодым нужно, если целыми днями пропадаешь на работе?
Я оставил жену под присмотром Миронова и отправился по делам. Прежде всего, к начальнику политотдела подполковнику Ковалёву. Мужик он был свойский, доброжелательно – покладистый. В души беспредметно не лез, незримого надзора не устанавливал и к каждому относился с уважением. Подчинённые платили ему той же монетой, по пустякам не тревожили, предпочитая решать мелкие проблемы своими мозгами. Однако жилищные вопросы решались под его руководством, и обойти его в этом плане было невозможно.
Мне подфартило: полётов не было, и мы встретились с ним у штаба полка. Подполковник только что отобедал, и я уже по опыту знал, что лучшее время для решения серьёзных вопросов с начальством, когда оно сыто и благодушно настроено.
Не заходя в кабинет, я тут же доложил о возвращении из очередного отпуска и об изменениях в семейном положении.
– Поздравляю! Но пока помочь ничем не могу. Время у тебя ещё есть. Так что бери супругу под «крендель» и подыскивай жильё. А я вас пока поставлю на очередь.
Комнату в частном доме мы отыскали на удивление быстро. Крохотная, в семь квадратных метров, она была заставлена кроватью, узеньким столиком у окна с видом на речку, шкафчиком для одежды, вешалкой и парой стульев. Минимально необходимым набором мебели для отдыхающей пары.
Дородная, молодящаяся хозяйка лет сорока сообщила, что есть и кухонька, а что касается удобств, то они, конечно, во дворе.
– Маловата комнатёнка для семейной жизни, – самокритично оценила она сдаваемое гнёздышко, – ну, в тесноте, да не в обиде. Дорого не возьму, так что пользуйтесь.
Я вопросительно взглянул на жену и понял, что она согласна.
– Тогда сегодня же и перебирайтесь, – посоветовала хозяйка. – До вечера–то ещё далеко.
Ночью, уставшие, но очень довольные, мы лежали на свежих простынях, чуть прикрытые покрывалом, и шёпотом строили планы на ближайшие дни. Я обнимал горячее тело любимой, с наслаждением вдыхал аромат её кожи и в какой – то момент остро почувствовал, что счастливее человека на земле нет, и никогда не было.
Последующие два дня были посвящены благоустройству. Мы съездили в Ленинград, приобрели кухонную утварь, посидели в кафе «Север», что на Невском проспекте, и к вечеру вернулись домой. Хозяйка, Нина Константиновна, покупки одобрила, после обмывки подобрела и благодушно разрешила:
– Будьте, как дома, но не забывайте, что в гостях. Чистоту, конечно, соблюдайте.
На этом и порешили.
Я приступил к работе, получил несколько контрольных полётов и пересел на боевой самолёт. Каждая встреча с небом приносила откровенную радость. Ободряло и то, что и капитан Кулявцев, и комэск майор Прошкин оставались мной довольны.
После полётов Светлана встречала меня с явной радостью, обнимала, расспрашивала и с удовольствием делилась новостями и новыми знакомствами. Меня это вполне удовлетворяло, и я с благодарностью уделял для неё всё своё внимание.
Мы облазали все достопримечательности Сиверской и его окрестностей, Ездили в Рождествено, посещали Гатчину, катались на лодках по Оредежу и коптились на её пляжах.
Всё было бы прекрасно, если бы не тайная боязнь повстречать невзначай мою прежнюю подружку Леночку. Как бы там ни было, но я остро чувствовал моральную вину перед ней. В моих фантазиях я представлял себя законченным негодяем, скорее всего потому, что был к ней неравнодушен.
Отношения с ребятами из « Боевой тревоги» продолжали укрепляться. Наезжая в Ленинград, я обязательно встречался с журналистами. Особенно мне нравился Серёжа Каширин. Подражая знаменитому тёзке – поэту, мой новый друг пописывал стихи, посвящённые авиатором, проникнутые тонким лиризмом, поражающие точностью деталей и специфическими особенностями лётной работы. Впоследствии он опубликовал несколько небольших книжек, на мой взгляд, удачных, но не замеченных критикой.
В те памятные дни фаворитом поэтического бомонда Северной столицы слыл Михаил Дудин, поэт по – настоящему талантливый, умный, но не в меру тщеславный. В звуках литавр в честь безусловной знаменитости голос Серёжи Каширина тонул, как гайка в пучине безбрежного океана. Списанный с лётной работы какой – то капитанишка, пусть даже талантливый, не имел и одного шанса пробиться в элиту творческого Ленинграда. Сопляки не допускались в общество благородных мужей.
Моей возлюбленной импонировали и мои увлечения журналистикой. И когда я усаживался за крохотный столик для подготовки материалов в газету, она отправлялась на прогулку или по более прозаичным делам.
В конце августа в гарнизон нагрянула выездная бригада артистов с Ленфильма. Событие взбудоражило не только авиаторов, но и местное население. Естественно, мы не могли не пойти на концерт. Из всех участников на всю жизнь запомнилось улыбающееся молодым задором лицо Олега Табакова. Мы сидели во втором ряду, смотрели на него снизу вверх и слушали забавные закулисные истории актёра. Красивый и статный, с милыми ямочками на круглых щеках – накинь на такого платок на голову – ни дать, ни взять молодая девушка.
По инициативе начальника парашютно-десантной службы и по приказу командира полка на аэродроме провели соревнование по прыжкам с парашютом на точность приземления. Участие в нём принимали все желающие, а молодёжь – в особенности. «Старики» от этого мероприятия самоустранились, – какой смысл подвергать лишний раз риску свою и без того короткую жизнь.
В списках оказался и я. Не потому, что очень жаждал острых ощущений, а из – за своей Светланки. Ну, как я мог выглядеть в её глазах, если все мужья её подруг прыгают, а её – сидит дома. Кроме того, побудила меня на этот шаг врождённая настырность. Дело в том, что я никак не мог избавиться от страха перед свободным падением. Летать я не боялся, хоть на метле, но пусть будет, в конце концов, какая – то точка опоры под задницей! А здесь под тобой – ничего, пустота, с которой ты остаёшься один – на – один.
Короче, я боялся, но не хотел быть в подчинении врождённого инстинкта самосохранения. Кроме того, были и другие нюансы в этой ситуации. Во – первых, нужно подготовить отчёт о соревнованиях для прессы, и быть при этом сторонним наблюдателем я считал для себя позорным. Во – вторых, на соревнования приехал корреспондент – организатор армейской газеты капитан Хоробрых. Мы были уже знакомы с Анатолием Михайловичем, и я знал, что он является мастером спорта по прыжкам с парашютом. Более того, этот парень был единственным в стране, а может быть и в мире, обладателем оригинального рекорда: «Ан – 2», прозванный народом « Аннушкой», протащил его на буксире на высоте сто метров по кругу, после чего над посадочной полосой спортсмен отцепился и благополучно опустился, естественно, на парашюте. И он тоже принимал участие в наших прыжках. Но в другой, профессиональной команде.
Накануне соревнований каждый из участников лично, под присмотром опытного специалиста, укладывал свои парашюты на длинном широком столе. Мне помогал укладчик рядовой Круглов, немногословный, флегматичный и красивый юноша из Красноярска. И хотя команда состояла из офицеров, ему, перворазряднику, тоже разрешили участвовать в состязаниях – форму поддержать да подработать: худо – бедно, а за каждый прыжок платили.
Соревнования начинались с четырёх утра, и я поднимался задолго до рассвета. Светлана безмятежно спала, когда её муж, накинув лётный комбинезон, тенью исчезал из дома и спешил на аэродром.
В разбитом, обозначенным белыми флажками, «квадрате», со скамьями для отдыха, как всегда, суетились люди. В сторонке, на длинном, в тридцать метров, брезентовом полотнище, были в рядок выложены, готовые к «бою» парашюты. Здесь же, неподалеку, стояли санитарная, пожарная и бортовая машины, а ближе к взлётной полосе тарахтел на малых оборотах брюхатый самолёт «Ли – 2».
После медосмотра и короткого инструктажа первая шестёрка спортсменов, облачённая и экипированная основными и запасными парашютами, гуськом направлялась на посадку, неуклюже переставляя ноги. Все провожали их сочувствующими взглядами: кто знает, как он обернётся – этот наглый вызов притяжению Земли.
В первом заходе с борта самолёта сбрасывали « ваньку» – чучело для уточнения скорости и направления ветра и определения точки начала работы. А потом по команде штурмана по одному ныряли в открытую настежь дверь любители острых ощущений. Скажу прямо, занятие для меня лично не из весёлых, но в компании дышалось посвободней. Это не то, что прыжки с «По-2», здесь, если замешкался в фюзеляже, и под зад – есть кому поддать.
Опыта управления парашютом у меня было – кот наплакал, но даже я приноровился как – то воздействовать на поведение « ПД – 1», парашюта десантного первой модели. Во всяком случае, к концу соревнований на точность приземления я занимал устойчивое третье место, чем был весьма озадачен: оказывается, и я на что – то гожусь.
Об этих соревнованиях я упомянул только потому, чтобы почтить памятью рядового Круглова. Месяц спустя на одной из тренировок солдат погиб. Ни основной, ни запасной парашюты не раскрылись. Очевидцы рассказывали, что ударившись о землю, тело его, словно футбольный мяч, подпрыгнуло метра на два над полем, и медики, прибывшие на место катастрофы, положили на носилки мешок с костями.
С тех пор к прыжкам с самолёта я стал относиться с отвращением и брезгливостью.
Между тем лётная подготовка шла своим чередом. Мы отработали полёты строем и приступили к стрельбам по воздушной мишени. Неутомимый трудяга фронтовой бомбардировщик «Ил –28», который пока не подозревал, что служить ему в авиации остались считанные дни, таскал за собой на длинном тросе конус, который мы старались сбить, гоняясь за ним с гироскопическим прицелом. В то, что это возможно, никто из нас, сосунков, не верил, до тех пор, пока наш комэска Прошкин, взбрыкнув от возмущения, взлетел и отстрелил его напрочь.`
– Соображать надо, ибитть, – сказал майор на предварительной подготовке, и, как всегда, поддёрнул пальцами приспущенную мотню.
А в это время вдали от нас, на самых верхних эшелонах власти происходили события, потрясшие мировые основы и принципы ведения войны, и изменившие судьбы десятков и сотен тысяч людей. В Вооружённые Силы страны респектабельной дамой вошла ракетная техника. Та самая, которая могла доставить ядерный заряд в любую точку земли за сумасшедше короткое время.
С лёгкой руки Никиты Сергеевича пошла под пресс ставшая ненужной фронтовая авиация. С какой стати держать старые вещи про запас, если приобретены новые. Только себе и стране в убыток.
С точки зрения логики – решение верное. Но вот американцы – дурачьё – до сих пор хранят в штате Невада законсервированными самолёты времён Второй мировой войны. Да полно те, какое нам было дело до потенциального врага, если пошёл слушок о сокращении численности войск и боевой техники. Нас пока Бог миловал, но мы точно знали, что и в ВВС, и в ПВО лётные полки расформировывались, а личный состав беспощадно увольнялся в народное хозяйство.
Не знаю, как другие, но я с беспокойством думал о том, что ни на что не гожусь, кроме как управлять истребителем, да и то с большой натяжкой. Возможное увольнение воспринималось мной как трагедия с летальным исходом. В самом деле, если уволят, как я смогу достойно содержать семью? Да и не в этом даже дело. Я люблю летать, люблю небо, люблю людей к нему приближённых. Для меня нет приятнее запаха, чем запах отработанных газов, исходящих из чрева турбины. Я уже стал частицей, молекулой, электроном в теле авиации, и никакие силы не могли оторвать меня от неё, предварительно не уничтожив.
Было и ещё одно важное обстоятельство, заставляющее крепко призадуматься о своей судьбе. Всё началось с того, что через месяц нам выделили прекрасную двадцатиметровую комнату в коммунальной квартире. Две другие занимала семья майора Фридмана, еврея по национальности и снабженца по призванию. Жена его, женщина миловидная, но неряшливая, с первых минут общения свалила меня наповал. На вопрос, есть ли у неё тряпка с ведром для помывки полов, она, с чисто одесским прононсом вежливо ответила:
– У нас всё есть, но мы никому ничего не даём…
Через три дня мы обставили свои хоромы необходимым набором мебели, отпраздновали новоселье и улеглись на новенькую, с панцирной сеткой, кровать. Присмотрели её давненько, полагая, что спальное ложе – важнейшая деталь, укрепляющая взаимоотношения полов.
Довольная и счастливая Светка лежала у меня под боком, удобно положив головку на моё плечо. От её светлых волос исходил тонкий аромат ландышей и манящий, возбуждающий запах желания.
– Тебе не кажется, что наступило время испытаний кровати на прочность, – прижимаясь к ней, ласково спросил я.
– Кажется, дорогой, – прошептала она в ухо, и я немедленно загорелся, поспешно освобождая её от остатков одежды. Затяжной поцелуй сопровождался ласками груди и более интимных частей тела, а когда стало уже невтерпёж, мой торчащий, как на крыле самолёта, « солдатик», с удовольствием нырнул в недра моей богини.
– Тише, тише, – успокаивала Светка, охлаждая не в меру разбушевавшуюся стихию, – раздавишь. А это теперь, мне кажется, противопоказано.
Времени на ответ не было, но когда страсти улеглись, и я отдышался, вернулся к оброненной ею фразе:
– Что значит «противопоказано»?
С полминуты Светка молчала, а потом, словно извиняясь, жалобно произнесла:
– Кажется, я беременна…
– Ты уверена? – повернулся я к ней лицом с вспыхнувшей радостью.
– Мне кажется – да. Ну, ты знаешь, если месячные прекратились…
Я не дал ей договорить и осыпал в темноте благодарными поцелуями:
– Ай, да молодец, Светка! Ай, да гигант! Значит, скоро мы будем жить втроём?
– Да.
– И у нас будет сын?
– Да, я тоже хочу мальчика.
Я быстро поднялся с постели и начал одеваться.
– Ты это куда? – с подозрением спросила жена, приподнявшись.
– Не опоздать бы на первый поезд. В Ленинград, конечно. За коляской.
– Вот дурачок, – довольная шуткой, рассмеялась Светлана. – Ложись спать. Утро вечера мудренее.
…Дыма без огня не бывает. И это правильно. Волна сокращений личного состава ВВС докатилась и до нашего полка. Прежде всего, она обрушилась на молодые кадры. Нас выдёргивали по одному, проводили оздоровительную профилактическую беседу об укреплении обороноспособности страны и без лишних разговоров предлагали два варианта: увольнение в запас или альтернативную службу в Ракетных войсках. Всякое инакомыслие отслеживалось как поверхностное понимание текущего момента и политическая близорукость. Столь жёсткие условия диктовались крайним дефицитом времени на проводимую акцию, вошедшую в историю под ёмким названием «миллион двести».
Три четверти офицеров нашего выпуска из Прибылово, Смуравьёво и других авиационных гарнизонов с лётной работой расстались навсегда. В нашем полку строю осталось только девять. Я недоумевал, почему основной удар пришёлся по молодёжи, а руководящий состав остался нетронутым. Видимо, не созрел для осознания государственных интересов?
Но более всего было обидно за тех, кому до пенсии оставалось дослужить год – полтора, а то и несколько месяцев. Этих тоже выгоняли, не считаясь с обстоятельствами. Чтобы уцелеть, остаться в седле, люди шли на всякие ухищрения, вплоть до подсиживаний, оговоров, анонимных доносов. Никогда раньше в авиации не расцветал так пышно и не давал столь обильных плодов принцип « ЧЧВ», человек человеку – волк. Принцип – самый гнусный, мерзкий и чрезвычайно опасный. Как будто какая – то сторонняя вражеская сила специально всколыхнула дерьмо с самого дна аморальных отходов. Меня, как других, на «ковёр» не вызывали, может быть потому, что имел красный диплом, но, как и все остальные, я жил, как будто попал под бомбёжку, уцелеть под которой можно только по воле случая.
В частях стали происходить кадровые перестановки. Вместо исключённых из списков личного состава стали приходить лётчики из других расформированных полков, люди постарше в званиях, и повыше в классной квалификации. Наш знаменитый гвардейский истребительный полк переименовали в истребительно – бомбардировочный, а меня понизили в должности.
В принципе я не возражал. Обидно только, что всё произошло за моей спиной, и о том, что я стал рядовым лётчиком, мне сообщили в финчасти при получении денежного содержания.
В поисках лучшей доли рузья покидали Сиверскую. Володя Романов подался в гражданскую авиацию, Олифиренко завербовали в кадры КГБ, навсегда исчез с горизонта Саша Балабриков.
Натянутые до предела нервы стали сдавать. Взвинченный и раздражённый, я приходил домой, пытаясь обрести покой с любимой. Но Светка меня не понимала. Занятая заботой о будущем ребёнке, она скептически относилась к моим сомнениям и легкомысленно судила о ближайшем будущем. Я злился на это, и наши отношения впервые попали на оселок отчуждения.
Интимные дела тоже не годились ни к чёрту. Светка всё реже и неохотней шла на контакт, агрессия её против моих поползновений всё более обострялась. Теоретически я её понимал, но потребность в женщине не давала покоя. Мне её катастрофически не хватало.
Как – то раз после полётов мой неугомонный техник Витька Шапорнёв, тонко реагируя на моё состояние, плеснул в солдатские кружки неразбавленного спирта, используемого на самолётах для чистки приборного оборудования, без обиняков пригласил:
– Давай, командир, хлопнем, чтобы дома не журились.
Впереди ожидались выходные, и я, поколебавшись секунду, проглотил обжигающую, почти не пахнущую алкоголем, жидкость. Тёплая волна разлилась по всему телу, ударила в голову и отодвинула все проблемы на задний план. Мне действительно стало легче дышать, и жизнь показалась намного проще.
Вечерело. Я неторопливо шагал домой, когда почти у входа в жилую зону меня остановил знакомый женский голос:
– Эй, ковбой, в какую сторону скачешь?
Старая подружка Вера стояла в сторонке и с улыбкой смотрела в мою сторону.
– О, сколько лет, – обрадовался я, шагнув ей навстречу. – Ты что, на перехвате работаешь?
– За что ты мне нравишься, ковбой, так это за прямоту. Верно, тебя поджидала.
– Что, приспичило?
– Тоже верно. Пойдём, ковбой, пришла пора освежить наши добрые отношения. У меня для такого события и бутылочка припасена.
– Предусмотрительная, – одобрил я. – А как на счёт нравственности? Я ведь, как ты наверняка знаешь, женат.
– А одно другому не помеха. Я же не покушаюсь на твоё семейное счастье. Так, баловство, каприз, если хочешь.
Почти не колеблясь, я решительно произнёс:
– Тогда вперёд!
И мы бодро зашагали к дому Верочки.
Двухчасовое отсутствие мужа Светкой зафиксировано не было. Нас часто задерживали на всякого рода мероприятия, и она стала привыкать к не лимитируемому рабочему времени офицера. К тому же дома я её не застал, была у подруги.
Утром я поделился своими сомнениями в потенциальной возможности своего увольнения из армии, но выбор дальнейшей судьбы она решила отдать мне на откуп:
– Дорогой, не поверишь, но в авиационных делах ничего не соображаю. Делай, как считаешь нужным.
Я ещё раз прикинул положение, в котором оказался. Пока оставался на плаву. Очевидно, этому способствовали два обстоятельства: мой красный диплом об окончании училища и определённые успехи в полётах. Но тотальное истребление молодого лётного состава в частях достигло своего апогея. Ещё одна волна, и меня, как щепку, смоет в открытый океан. В жизни надо уметь упреждать ожидаемые события. Только в этом случае можно оставаться хозяином положения. Но для этого просто необходимо заставлять себя думать. Ошибка неудачников, на мой взгляд, состоит в том, что из – за своей природной лени они предпочитают дрейфовать во времени вместо активных действий во спасение. И формулировочку выбрали для себя подходящую: чему быть, того не миновать. Очень удобно и не обременительно.
Мне не хотелось падать на голые камни. Мне хотелось подстелить соломки. И роль соломки, на мой взгляд, могла сыграть вертолётная авиация. Уволенным в запас ребятам предлагался и такой вариант. Будь я вертолётчиком – и не было бы проблем. На худой конец, можно было бы устроиться и в гражданской авиации. Дурачком был, когда не поддался уговорам «купца». Ребята, покинувшие когда -то предбанник истребительного училища, теперь уже старшие лейтенанты. И о дальнейшей судьбе головы у них не болят, потому что вертолётчики сейчас в фаворе.
В конце января, раздираемый противоречивыми чувствами, я перешагнул через порог кабинета «бати», как за глаза мы называли командира полка Лукашевича. Седой полковник с благородным, изрезанным глубокими морщинами лицом, каждая из которых могла рассказать не одну боевую историю, он молча выслушал мою исповедь. В глубине его умных внимательных глаз пряталась горькая обида за опалу на истребительную авиацию. Но он был далёк от политики, его дело было летать и водить в бой своих питомцев. Жаль только, что их один за другим живыми и в самом соку вышибают из седла. Он не стал задавать ненужных дежурных вопросов о причинах, побудивших меня проситься в вертолётную авиацию, и ответил коротко:
– Постараюсь помочь. Жди.
Прошло два месяца. Я по-прежнему летал по программе подготовки на классную квалификацию, увлёкся интересной работой и перестал думать о своём визите в кабинет командира полка.
Наши семейные отношения стабилизировались, Светка быстро вошла во вкус лидера в доме и ловко управляла хозяйством. Животик у неё заметно округлился, аппетит разыгрался, и её всё время тянуло на солёненькое – верный признак нормального протекания беременности. Я привёз в дом роскошную детскую коляску и охотился за дефицитными сосками, а она натаскала кучу пелёнок, распашонок и ползунков. По нашим подсчётам родить она должна была где – то в конце апреля.
С наступлением весны на аэродром пожаловала съёмочная группа из Ленфильма. Нам объяснили, что картина, которую они снимают, посвящена первому полёту человека в космос. По этому поводу заговорил не только гарнизон, но и вся Сиверская. Все были убеждены, что коль киношники взялись за космическую тему, полёт неизбежен. Вот только когда? Над этим ломали головы.
Помощник режиссёра отобрал из нас группу для массовых сцен, пообещав щедро вознаградить каждого. Не помню точно фамилии актёра, игравшего главную роль, кажется, Пушкарёв, но Игоря Дмитриева с его выразительным взглядом забыть было невозможно. Высокий, красивый, с мужественным лицом и весёлым нравом, он нравился не только женщинам.
В список статистов попал и я. Мы должны были сыграть товарищей будущего героя. Он как бы совершил вынужденную посадку, а мы его спасаем.
Съёмки на натуре шли ускоренными темпами. Дошлый народ актёры привезли с собой весть, что запуск космического корабля с человеком на борту вот – вот состоится, и фильм к этому событию будет очень кстати. Забегая вперёд, скажу, что фильм вышел на экраны под заголовком «Самые первые», я мельком узнал себя в кадрах и очень этим гордился.
Во время работы над фильмом я познакомился с Сашей Сусниным, красивым, с девичьим лицом молодым актёром. Меня покорил его неповторимый жемчужный взгляд и мягкая манера разговаривать. Впоследствии мы дружили некоторое время, но жизненные обстоятельства и несхожесть профессий разлучили нас к обоюдному огорчению.
Мне и раньше приходилось встречаться с актёрами. Помню случай, который произошёл за несколько месяцев до встречи с Сусниным. На одном из спектаклей ленинградского драматического театра имени Пушкина я имел неосторожность преподнести букет цветов понравившейся актрисе и был несказанно рад, когда она пригласила меня на свои именины.
Абсолютный профан в закулисной жизни, по дороге к её дому я закупил пол – гастронома, и в кругу её подруг мы славно повеселились. Девушка была обольстительна, и у меня уже потекли слюни, когда в пятом часу утра щедрого мецената самым наглым образом выперли на улицу. Сиротливо ожидая первого поезда на привокзальной скамейке, я с горечью думал, что меня попросту артистически обобрали.
Утро 12 апреля 1961 – го года выдалось на редкость солнечным, и съёмочная группа интенсивно работала над завершением последнего эпизода картины. Повторяя дубли, статисты изрядно набегались, когда из репродуктора, установленного на съёмочной площадке, вместо оборвавшейся музыки донёсся торжественный голос знаменитого диктора Левитана, сообщающего о том, что на орбиту Земли выведен космический корабль с человеком на борту по фамилии Гагарин.
Ликующие вопли людей взорвали аэродромную тишину. Все обнимались и целовались, как будто каждый был причастен к этому историческому событию. О съёмке забыли, и мы на радостях скинулись « по рыжему» и с гордостью сомкнули звонко зазвеневшие гранёные стаканы. По дороге домой каждый встречный широко улыбался и спешил поделиться ошеломляющей новостью. И столько гордости звучало в голосах незнакомцев, ставшими вдруг близкими и родными, что я искренне поверил в величие и могущество своей Родины.
Возбуждённая Светка встретила меня лучезарной улыбкой, и в разговоре посетовала, что не я оказался на месте космонавта.
– Какие наши годы, – отшутился я, искренне завидуя подвигу, совершённому далёким коллегой.
Через неделю меня пригласили к полковому кадровику. Я догадывался, в чём дело и неожиданно затосковал.
Встретились мы по – дружески, из вежливости он поинтересовался самочувствием, расспросил о семейных делах, а потом перешёл к официальной части и сообщил, что моя просьба удовлетворена и что есть приказ о переводе меня в вертолётные части. Остаётся только решить, ехать ли мне в Североморск, или отдать предпочтение Ташкенту.
Под впечатлением полёта Гагарина в космос я робко попросил отозвать свой рапорт обратно, на что кадровик с садистской улыбкой ответил, что приказ есть приказ, поезд ушёл, и путь к отступлению отрезан.
– С ответом не тороплю, – сказал он, закрывая моё личное дело, – думаю, что для принятия решения двух часов хватит.
Я вышел за порог и с горечью подумал, что истребители измены не прощают.
Что ж, как говорил Остап Бендер, графа Монте-Кристо из меня не вышло. Буду переквалифицироваться в управдомы.







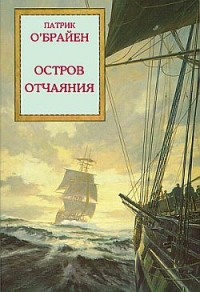
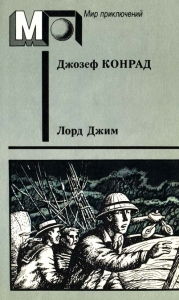
Комментарии к книге «Любовь и небо», Геннадий Федорович Ильин
Всего 0 комментариев