Александр Борисович Кердан Экипаж машины боевой
Караул
Глава первая
1
– Печень трески… Горбуша в собственном соку… Слышь, Сань? – толкнул стоящего в первой шеренге Кравца его друг Юрка Захаров. – Ребята из семьдесят четвертого рассказывали: в выездном нажрались всего от пуза… Ты пробовал печень трески?
– Тише, Гейман услышит, – сквозь зубы осадил Кравец. На ужин был похожий на клейстер комок каши, который он есть не стал, а чай и кусок хлеба с маслом только разожгли тоску о человеческой еде.
– Так пробовал печень? – не унимался Юрка.
– Да пошёл ты со своей печенью!
– Отставить разговорчики в строю! – рявкнул старшина. – Ротя-а! Смирр-на! Равнение налево!
Из канцелярии вышел ротный Епифанцев, за низенький рост и визгливый голос прозванный Бабой Катей. Гейман, браво повернувшись на каблуках, отпечатал ему навстречу пять шагов:
– Товарищ капитан! Рота на вечернюю поверку построена! Разрешите начинать?
– Начинайте, – тоненько распорядился Баба Катя.
Раскрыв книгу вечерней поверки, старшина принялся выкрикивать фамилии курсантов.
Услышав свою, Кравец внутренне подобрался и выдохнул:
– Я!
– Головка от буя! – раздался сзади комментарий. «Мэсел выёживается!» – подумал Кравец о своем постоянном недруге Масленникове, показал ему за спиной кулак. И тут же снова принял строевую стойку. К шеренге отделения подошёл Баба Катя.
Известно: с Бабой Катей лучше не связываться. Не то он наморщит лоб, переходящий в яйцеобразную лысину, прищурит желтоватые глаза, плотно сожмёт и без того узкие губы и дискантом выпалит традиционное:
– Я вас, таварищ курсант, на гауптвахте згнаю! Там вы у меня узнаете, что такое наста-ящий афицер-палитработник!
Ну, сгноить – не сгноит, а кровушку попортит изрядно!
Второкурсник – существо беззащитное. Его начальник училища запросто отчислит. Это старшие курсанты ходят с гордо поднятыми головами. Они на третьем году – «под крылом» Главкома ВВС, а он народные деньги, затраченные на их обучение, на ветер выбрасывать не станет. Разве что действительно произойдёт громкое чэпэ…
Младшим, чтобы навсегда распрощаться с училищем, и одной самоволки хватит, а то и просто нелюбви Бабы Кати. Напишет рапорт на имя комбата, и – поминай, как звали…
Если же до отчисления дело не дойдёт, у Епифанцева много других рычагов воздействия на неугодного. Например, лишение увольнения. В город – не сержанты и не комсомольские активисты – ходят по очереди, раз или два в месяц. Именно на второй курс приходятся различные наряды: караулы, кухня, дежурство по автопарку… Из-за этого оказаться в городе, когда назначил свидание девушке или в кинотеатре идёт новый фильм, и так-то непросто. А уж если сержанты и старшина Гейман получат приказ ротного, то просидишь на Увале, в семи километрах от столицы Зауралья, до самого отпуска.
Но и в день начала отпуска ротный может устроить авральную уборку казармы. Тысячу шестьсот квадратных метров пола, впитавшего в себя несколько слоёв мастики и черноты от каблуков, надо до первозданной белизны выскоблить стёклышком. Кроме того, отмыть до блеска окна, стены, выдраить туалет… И при этом умудриться не опоздать на поезд, идущий в сторону дома…
Что и говорить! Ротный для курсанта – царь, бог и воинский начальник в одном лице. От него зависит всё (или почти всё) на ближайшие годы учебы, а то и на служебную перспективу. Именно командир роты пишет характеристику выпускнику. Она многое решает в распределении, особенно если ты – не генеральский сынок…
Впрочем, на втором году обучения мало кто задумывается о выпуске. «Приказано выжить!» – так в училище зовётся этот курс. Вот и выживают второкурсники по принципу: день прошёл и хорошо! Протянуть бы все последующие так, чтобы не заработать наряд вне очереди, не лишиться положенных тебе благ и, отгуляв отпуск, перейти на третий курс, который именуется куда отрадней – «весёлые ребята».
Епифанцев, словно почувствовав мысли подчиненных, окинул правофланговых пронзительным взглядом снизу вверх, задержал его на Кравце:
– Таварищ Кравец, пачему у вас вид атсутствующий? Апять стишки в страю сачиняете? Сколька раз вам павтарять: строй – места священнае! Тут вам не царскасельский лицей, а ваеннае училище!
Сзади сдержанно хохотнул Мэсел и тут же осёкся под взглядом ротного. А он, довольный своим остроумием, неторопливо зашагал к левому флангу, куда по мере чтения перемещался Гейман.
Когда ротный и старшина удалились на безопасное расстояние, Кравец снова услышал шёпот Захарова:
– Сань, а Сань! А ведь выездной караул – почище, чем фотокарточка у развёрнутого знамени… Почему его в перечень поощрений не включили?
– Тебя спросить забыли! – отмахнулся Кравец и тут же нарвался на «грубость»: теперь уже от непосредственного командира – сержанта Шалова:
– Курсант Кравец, ещё одно слово и…
– Товарищ сержант, чуть что – сразу Кравец! Я молчу…
– Поогрызайся мне!
Кравец надулся и стал мысленно повторять: «Я совершенно спокоен, я совершенно спокоен». Так их недавно учили на военной психологии управлять эмоциями.
Тем временем старшина закончил поверку и объявил:
– Слушай наряд на завтра!
«Если известие о выездном – не плод чьей-нибудь фантазии, то сейчас узнаем, кому повезло, – подумал Кравец. В отделении в состав выездных караулов приказом по училищу было отдано несколько человек. В том числе и он. – Попаду или нет?»
Сопровождение воинских грузов – целое событие. С позиции Бабы Кати, это, конечно, наряд. Нелёгкий и ответственный. А с точки зрения курсантов – тут прав Юрка Захаров – что-то похожее на поощрение: увольнение или небольшой отпуск, сулящий радостные приключения. Пускай и с автоматом за плечами, но на неделю, а то и на две ты ускользаешь из-под опеки Бабы Кати. Питаешься не баландой, а вполне сносным сухпайком, в котором и тушёнка, и сгущёнка, и рыбные консервы, каких ни в одном курганском магазине не купишь…
Вообще-то, зачитывание нарядов всегда напоминало Кравцу сцену из фильма «Операция Ы», когда начальник вытрезвителя отправлял своих подопечных на разные работы: «На стройку – два человека. На мясокомбинат – заявок не поступило…» – с той только разницей, что в кино распределялись по объектам алкоголики и тунеядцы, а здесь – будущие политработники.
Вполуха Кравец прослушал, кто пойдёт в наряд по учебному корпусу, кому предстоит дежурство по штабу училища, кто заступит дневальным по роте. Наконец прозвучало долгожданное:
– Выездной караул… – старшина, как нарочно, сделал долгую паузу, – будет снаряжён от семьдесят первого классного отделения.
«Ура!» – чуть не вырвалось у Кравца, но, боясь сглазить возможное счастье, он замер.
– Начальник караула – сержант Шалов.
– Я!
– Караульные: курсанты Захаров…
– Я!
– Масленников…
– Я!
– Кравец…
2
Космонавтов для полёта, так же как экипажи подводных лодок, отбирают по принципу психологической совместимости. Об этом Кравец однажды делал доклад на семинаре по партийно-политической работе. Сокращенно – ППР.
По какому принципу формировался их выездной караул, он объяснить не мог. Может быть, согласно аббревиатуре главного училищного предмета, которую местные остряки расшифровывали как Полная Потеря Рассудка… Иначе с какой стати выполнять «боевую задачу в мирное время» (так в Уставе гарнизонной и караульной службы определён караул) поручили людям, на дух не переносящим друг друга?
Взять сержанта Шалова. Его не любил даже подхалим Мэсел. Да и за что любить въедливого младшего командира, бесконечно делающего замечания, сующего нос в каждую прикроватную тумбочку и, что самое обидное, постоянно доносящего на своих подчинённых Бабе Кате.
– Ну и гад этот Шалов, – перешёптывались курсанты. – Так ж… рвёт, как будто по выпуску лишнюю звёздочку на погоны получит!
И то верно. Было бы дело в войсках, где сержант, как правило, старшего призыва: «дед» или «дембель». Ему, как говорится, с молодыми солдатами детей не крестить. Он отыгрывается на них за собственные унижения, перенесённые в начале службы. Но в военном училище младший командир – это тоже курсант. И выпустится он таким же лейтенантом, как и те, кем помыкал, нося сержантские лычки. Потому-то, если ведёт он себя не по-товарищески, сам собой напрашивается вывод, что повинно в этом не служебное рвение, а натура.
Сергей Нуратдинович Шалов (сказалась ли кровь «гордого кабардинского народа» или родство с генералом, занимающим пост в Министерстве обороны) смотрел на всех свысока. В отличие от других сержантов требовал к себе обращения только на «вы» и по воинскому званию. Сам же с курсантами в выраженьях не стеснялся.
Бывают люди, у которых даже положительные качества превращаются в недостатки. То же было и с Шаловым. Он отлично владел английским. На занятиях по иностранному языку получал одни пятерки, но консультировать сослуживцев отказывался. Шалов никогда не расставался со словарём и то и дело вставлял в свою речь английские словечки, подчёркивая, что готовится к карьере военного дипломата. Впрочем, свои дипломатические способности он проявлял только в присутствии ротного или преподавателей. Перед ними изображал из себя блюстителя уставных норм, надевал маску заботливого и доброго командира.
Двуличие Шалова больше всего и раздражало Кравца. Однажды он сочинил что-то вроде эпиграммы. Текст был незамысловатым:
Шалов, наш сержант, с пелёнок Был по всем статьям подонок. Он в строю на нас рычит, Ну, а за спиной стучит…К эпиграмме прилагался шарж, на котором Шалов изображён был, в чём мама родила. Причём его мужское достоинство представлялось в виде молота, которым он колотил в дверь с табличкой «Канцелярия роты». Из-за двери с испуганным лицом выглядывал некто, очень похожий на капитана Епифанцева.
Кравец прочитал эпиграмму и показал рисунок Юрке Захарову. Тот сначала покатился со смеху, а потом предостерёг:
– Порви! Попадёт в руки к комоду[1], загремишь под фанфары…
И накаркал!
Кто хотя бы раз познал муки творчества, поймёт, как трудно автору уничтожить своё детище. Хочется поделиться содеянным с окружающими, услышать одобрительные отзывы, погреться в лучах славы… Кравец не послушал Юрку, показал шарж ещё нескольким курсантам из своего отделения. Окрылённый их восторгами, решил сохранить рисунок на память. Спрятал его в святая святых – конспектах произведений Владимира Ильича Ленина. Надеялся: здесь шарж никто не обнаружит. Потом забыл о нём. Конспекты дал переписать кому-то из однокурсников. Тот ещё кому-то…
Кравца вызвали в канцелярию неожиданно, перед самым отбоем. Пока он шёл мимо товарищей, расправляющих кровати, судорожно перебирал в уме поводы, по которым мог понадобиться ротному. Никаких провинностей за собой не припомнил.
В кабинете находились Епифанцев и Шалов. Сержант стоял у стены, а ротный нервно прохаживался от стола к двери.
– Товарищ капитан, курсант Кравец по вашему приказанию…
– Чта эта? – Епифанцев, как фокусник, извлёк откуда-то тетрадный листок и сунул под нос Кравцу. Тот с ужасом узнал свой шарж.
– Чта эта? – повторил командир роты. – Я вас спрашиваю, таварищ курсант?
– Шутка… – выдавил Кравец. – Просто шутка, товарищ капитан…
Баба Катя стал пунцовым: нос, лысина, белки глаз. Казалось, даже просвет на погонах ротного из голубого, как положено в авиации, сделался бордовым, точно у вэвэшника.
– Шутка! Да ты… Как пасмел издеваться над сваим камандирам? – переходя на «ты», взвизгнул он.
– Это подрыв единоначалия… – поддакнул Шалов.
– Я ничего не подрывал… – попытался оправдаться Кравец.
– Ма-алчать! – голос ротного стал ещё пронзительней. – Я тебя…
Капитан минут десять орал, всё больше заводясь от собственного крика. Он то подскакивал к Кравцу, потрясая кулачками, то отпрыгивал в сторону и топотал хромовыми сапожками, сшитыми на заказ и вызывающими зависть у всей роты отглаженными, блестящими голенищами. Но сейчас Кравцу было не до любования капитанскими хромочами.
Под шквалом упрёков и угроз он стоял – руки по швам, тупо уставясь в одну точку: «Точно, губы не миновать… А то и отчислят…»
Взрыв командирского гнева закончился непредсказуемо.
– Таварищ Шалов, я решил назначить курсанта Кравца редактарам ротнай сатирическай стенгазеты, – Баба Катя ещё раз, словно любуясь, взглянул на злополучный рисунок и спрятал его в сейф. Повернул ключ в замке и подвёл резюме: – Картинку я сахраню для истории, а этат Кукрыникса пускай сваи таланты упатребит на переваспитание нарушителей воинскай дисциплины…
Шалов попытался возразить:
– Товарищ капитан, но…
Ротный никаких «но» не терпел:
– А вы, чта, таварищ сержант, сразу хатели атличника учебы на гауптвахту атправить? За наличие чувства юмара? Вы знаете, чта классики марксизма-ленинизма гаварят: главнае – не наказание, а убеждение…
– Так точно, – нехотя согласился Шалов.
– Ладна, идите, – отпустил подчиненных капитан, напоследок произнеся фразу, которая в отношении Кравца стала крылатой. – Запомните, курсант, здесь вам не лицей!
Когда вышли из канцелярии, Шалов процедил сквозь зубы:
– Зря радуешься, бэби… Не надейся, легко не отделаешься…
С той поры и стал Кравец у командира отделения чем-то вроде мальчика для битья. Как только подвернётся наряд или грязная работа, не ходи к гадалке, отправит Кравца. Или за якобы несвежий подворотничок и плохо надраенные сапоги лишит увольнения. Но что хуже всего – перед строем отделения начнёт отчитывать: мол, отличник, а дисциплину нарушает – на самоподготовке художественную литературу читает, на построения опаздывает… А как тут не опаздывать, если из-за бесконечных нарядов всегда спать хочется? Ну, вздремнул Кравец пару раз за партой, не услышал команды… А вот книжки – совсем другое дело. Он читает их только потому, что все задания уже выполнил. Не играть же в карты, как остальные, не считать ворон за окном, мечтая о грядущем отпуске? Но разве всё это объяснишь тому, у кого ты, как бельмо в глазу? Шалов даже собрание комсомольской группы организовал с повесткой: «О поведении комсомольца Кравца». Оно было разыграно как по нотам. Шалов сделал доклад. С критикой в адрес Кравца выступили трое курсантов, явно подготовленные командиром отделения. Особенно старался Мэсел.
О его роли в истории с шаржем Кравец узнал случайно. Мэсел сам проговорился, когда они раскапывали аварийную теплотрассу.
Кравец давно заметил, что у коммунальных трубопроводов существует свой закон: аварии случаются всегда в непогоду. Вот и этот прорыв теплотрассы пришёлся на промозглый октябрьский день. Отделение подняли по тревоге прямо с самоподготовки, а завтра ожидалась контрольная по высшей математике!
В разрытой накануне траншее грязь чавкала под ногами. Дождило. Все перемазались, как черти, и промокли, словно водяные. Но самое противное: в напарники Кравцу достался Мэсел!.. Вместо того чтобы поскорей сделать то, что им поручили, он постоянно устраивал перекуры. Или просто стоял, опершись на лопату. На замечание отпарировал:
– Хочу и курю. Это тебе, Кравец, надо стараться… Ты же на крючке у Бабы Кати висишь со своими рисуночками…
– А ты откуда знаешь про шарж? – вскинулся Кравец.
– А? На комсомольском собрании говорили…
– Врёшь! Про это не говорили… А если ты о рисунке знаешь, то… ты и заложил меня Шалову!
– Нужно мне тебя закладывать… Это он мне рассказал, как тебя Баба Катя выдрал!
– Опять врёшь! Не станет Шалов рассказывать, как опарафинился!
– Ну, хотя бы и так! Только называется это, Кравец, по-другому. Не заложил, а доложил! Имею право… Что, по-твоему, настоящий комсомолец должен терпеть, когда рядом с ним порнографию распространяют? А воинская честь? Я, как и положено по уставу, до-ло-жил своему непосредственному командиру… Скажи лучше спасибо, что прямо в парткомиссию твои картинки не попали!
Упоминание об училищной парткомиссии, секретарём которой был родной дядя Мэсела, окончательно вывело Кравца из себя:
– Ну и сволочь ты, Мэсел! – он отбросил лопату и шагнул к недругу.
Обычно трусливый, Мэсел тут не сдрейфил. Обложил Кравца матом и вкатил ему такую оплеуху – аж искры из глаз посыпались. Кравец устоял на ногах и ответил прямым ударом. Мэсел опрокинулся на спину, но тут же вскочил и, оскалившись, как самурай, бросился на Кравца с лопатой в руке. Ударить не успел или побоялся – их оттащили друг от друга.
– Кравец, за драку будешь отвечать по полной программе… – сразу нашёл виновного Шалов. – Я тебе устрою экскурсию на кичу!
Однако обещание своё он не выполнил – всех троих назначили в выездной караул. Одна радость – туда же попал и Захаров.
– Слушай, Юрка, – спросил Кравец после поверки, – ты что-нибудь понимаешь? Почему Шалов взял нас в выездной? Он же нас терпеть не может… Меня, по крайней мере…
– Шут его знает, Сань, чё ему на ум взбрело?.. Может, и не он составлял караул…
– А кто тогда?
3
Инструктаж Епифанцев начал высокопарно:
– Таварищи курсанты! Вам даверена высокая честь – паехать в выездной караул. Этай чести вы удастоены как пабедители сациалистическава саревнавания в честь истарическава двадцать пятава съезда КаПаэСэС. Вы учитесь без троек и патаму, надеюсь, справитесь с паставленнай задачей…
Кравец чуть было не заорал: «Слава КПСС!», да вовремя сдержался – руководящую и направляющую силу советского общества в стенах училища всуе поминать не принято. Да и как иначе? Коммунистическая партия Советского Союза – альма-матер всех политических училищ. В январе 1967 года ЦК партии принял постановление «О мерах по улучшению партийно-политической работы в Советской Армии и Военно-Морском Флоте», по которому и был создан институт ротных политработников, открыто несколько военных училищ, в том числе и Курганское высшее военно-политическое авиационное. Оно же – КВАПУ.
Правда, ещё одно обстоятельство удержало Кравца от готовой сорваться с языка здравицы. В седьмой роте, вопреки расхожему анекдоту, что «Слава КПСС» – вообще не человек, был курсант с таким именем и фамилией. Ненец по национальности.
В училище ежегодно принимали представителей разных народов СССР. В роте были украинцы, белорусы, азербайджанец, грузин, узбек, гагауз… Словом, весь интернационал – налицо. Кроме немцев и евреев. Последних, по какому-то негласному распоряжению, в училище не брали.
Слава Капээсэс (именно так в военном билете и было записано) отличался от остальных не только фамилией, но и каким-то необыкновенным трудолюбием. Большую часть времени он, кривоногий и невзрачный, проводил в подвале казармы, где была устроена слесарно-столярная мастерская. Слава всегда что-то строгал, пилил, сверлил. Ни на какие построения он не являлся. Даже в столовую приходил самостоятельно, а не с ротой. В казарму поднимался только перед отбоем. Книг никогда не читал, конспекты не переписывал. Как он сдавал экзамены и зачёты, для однокурсников так и осталось тайной. Наверное, ему просто ставили тройки за происхождение и «золотые руки». Но забавнее всего было то, как Слава ездил в отпуск. Его отец-оленевод постоянно кочевал где-то за полярным кругом.
– Кагда вернётесь, Капээсэс? – строго спрашивал Славу ротный.
– Когада пурга кончица, однако, – невозмутимо ронял тот.
Точно. Все остальные курсанты, прибыв в положенный срок, успевали проучиться уже добрую половину следующего семестра, а Слава только появлялся в училище, всё такой же невозмутимый.
– Самалёта не летал… – докладывал он Бабе Кате. И Славе всё прощалось.
– Слава, а почему у тебя фамилия такая необычная? – как-то поинтересовался Кравец.
– Зачем «необычная»? – удивился Капээсэс. – Кароший фамилия. Отец давал. Он у меня – б-а-альшой коммунист, однако. Главный в совхозе… – Слава надолго замолчал, потом сказал совсем неожиданное: – Сам отец другой фамилия имел.
– Какой? – Кравец невольно перешёл на ломаный язык.
– Олесов.
– Как же так: отец – Олесов, а ты – Капээсэс?
– Разве не можно? – снова удивился Слава.
– У русских так не принято…
– Плохо…
– Отчего же плохо?
Слава внимательно посмотрел на Кравца: не подшучивает ли тот, и сказал с глубоким убеждением:
– Отец – главная в семье. Как захочет, так и правильно. Он в сельсовет меня записать приехал. Над сельсовет плакат висит: «Слава КПСС!» Отец обрадовался. Значит, Торум его сыну имя подарил…
– Торум – это кто, председатель сельсовета?
Лицо Славы окаменело:
– Торум – это бог!
– Слава, ты же сказал, что твой отец – большой коммунист… Как же он может верить в бога? – усомнился Кравец.
– Разве не можно? – изумление Капээсэс было таким неподдельным, что Кравец только рукой махнул: о чём разговаривать с дитём природы?..
Капээсэс вспомнился Кравцу неспроста. В этот самый момент Епифанцев, успевший уже рассказать, что можно и чего нельзя делать в выездном карауле, заговорил как раз про Славу:
– Не забудьте атремантиравать ящик для баеприпасов. Курсанты из семьдесят четвертава раскалатили его в прошлом карауле… Как умудрились? Железный ведь… Капаэсэс я задание дал… Всё нада сделать сегодня. Выезд завтра в семь тридцать от штаба училища. Ясна?
– Так точно, – за всех ответил Шалов.
– Харашо. А теперь распишитесь в журнале инструктажа… Каждый – напротив сваей фамилии.
– Для чего расписываться-то? – шёпотом спросил Захаров у Кравца, пока Шалов ставил свою подпись в амбарной книге на столе у Бабы Кати.
– Ротный страхуется… Вдруг с нами что случится…
– Типун тебе на язык!
– Разгаворчики! – призвал к порядку Епифанцев.
После инструктажа Шалов отправился в штаб за караульной ведомостью и проездными документами. Захарова и Мэсела он послал с накладной за сухпайком. Кравцу, как тот и предполагал, поручил починку ящика.
– Потом, май дарлинг, пройдёшь на вещевой склад к прапорщику Нечитайло. Захаров и Масленников подойдут туда же. Получите полушубки и телогрейки. Ю андестенд? – Шалов был в приподнятом настроении.
– Понятно, – буркнул Кравец. Но, отойдя, улыбнулся: никакой Шалов не может отравить радость от предстоящего караула.
Так, улыбаясь, и зашёл в мастерскую.
– Зачем смиёсся? – поинтересовался Слава, отрываясь от работы. На верстаке лежал ящик, над замком которого он колдовал.
– Разве не можно?
– Можно. Только потом, однако. Когда снова в училисче приедешь…
– Я в приметы не верю.
– Ты стрелять умеешь? – неожиданно спросил Капээсэс.
– Умею. На стрельбах пятерку получил…
– А белка в глаз попадёшь? – хитро прищурился Слава.
– Не знаю.
– Плохо. В караула надо стрелять метка…
– А ты сам-то белке в глаз попадал?
– Попадал, однако…
– А в караул тебя не взяли! – отыгрался Кравец. – В общем, ты мне зубы не заговаривай, ящик чини, а то у меня дел по горло…
4
Полушубки были ослепительной белизны, не надёванные ни разу. Начальник склада прапорщик Нечитайло, выдавая их, запричитал:
– Загубитэ таку красу, бисовы дэти! Який командир зрозумив у караул таку нову вещ видаваты? Там жэ гряз, копот… Глядыте, хлопчики, вы ж мэни за них головой отвечайетэ!
– Ответим, товарищ прапорщик. Не беспокойтесь! – примеряя полушубок с серебристым мехом на отворотах, отозвался Захаров и крутанулся перед Кравцом. – Ну, как, Сань, идёт мне такой прикид?
– Хоть в кино снимай! В фильме «Морозко»…
– В роли Бабы Яги… – тут же ввернул Мэсел.
– На эту роль ты уже кинопробы прошёл… – вступился за друга Кравец, но дальше тему развивать не стал. Ссориться не хотелось. Даже с Мэселом.
Полушубки действительно были – загляденье.
– Почему нельзя прямо в них из училища поехать? – вслух стал размышлять Кравец, прикидывая, что в таком наряде было бы неплохо прошвырнуться по улицам Кургана: вдруг кто-то из знакомых встретится…
– Это караульная форма одежды, а не повседневная, – загубил мечты невесть откуда взявшийся Шалов. – Рашн коллорит… Он в деревне хорош да на посту. А в городе тебя первый же патруль сцапает…
– Так ведь тащить сколько… – тут же застонал Захаров. – Сухпай, боеприпасы, полушубки, телогрейки, автомат, подсумок… Так и пупок развяжется, товарищ сержант…
– Своя ноша рук не тянет! Ты, Захаров ещё не успел за ворота училища выйти, а уже ноешь. Вспомни, как в уставе сказано: военнослужащий обязан стойко переносить тяготы и невзгоды военной службы…
– Так то – тяготы. Они не в килограммах измеряются, а тут на каждого по два пуда придётся…
Утром, когда Шалов построил их, чтобы ещё раз проверить готовность снаряжения, оказалось, что ноши и впрямь больше, чем рук у караула. Четыре вещмешка, набитых до отказа. Сверху приторочены скрученные в скатку полушубки. Ящик с боеприпасами и документацией. Автоматы в чехлах да ещё две тяжеленные коробки с сухпайком. Телогрейки, не поместившиеся в вещмешки, курсанты вынуждены были надеть под шинели, отчего сразу приобрели мешковатый вид. Только сержант ухитрился впихнуть свою телогрейку в ящик для боеприпасов и теперь выгодно отличался от караульных. Его отутюженная шинель была перетянута офицерским ремнём, на котором красовалась кобура с пистолетом.
Это пижонство аукнулось Шалову, как только вышли из казармы и в сопровождении двух дневальных потащились к штабу. Ноябрьское утро выдалось морозным, и ветер пробирал насквозь. «Довыпендривался!» – злорадно подумал Кравец, заметив, как скукожился ещё минуту назад такой бравый комод. Даже в шинели с телогрейкой было совсем не жарко. Но холод не мог остудить азарт и предвкушение приключений. От Кравца не ускользнуло, с какой завистью смотрели на них, волокущих свои мешки и коробки, курсанты, чистившие заснеженный плац. «Скребите, ребята! Помните, что только труд превратит курсанта в человека!»
У штаба уже урчал дежурный Газ-66. За рулем – сержант из роты обеспечения. С ним рядом – помощник дежурного по училищу, лейтенант. Он дал знак: загружайтесь скорее. «Шалову опять не повезло: рассчитывал прокатиться в кабине… Так оно и было бы, если б дежурной машиной оказался ЗИЛок!» – ухмыльнулся Кравец и тут же получил нагоняй:
– Тебе что, особое приглашение надо? Чего сопли жуёшь!
Быстро закидали экипировку в кузов и устроились на откидных сиденьях.
– Кравец, старший по левому борту. Я по правому, – определил Шалов диспозицию и постучал по кабине. – Поехали!
В считанные минуты промелькнула главная аллея училища, домик КПП с заспанным дежурным. Справа потянулся зелёный забор. Потом его заслонила берёзовая роща. Замаячили четырехскатные крыши увальских домиков, засыпанные снегом. Вот и поворот на Звериноголовский тракт. Постамент с устремлённым в небо МИГом, на котором выведено красной краской: «Слава советским авиаторам!» И опять берёзы, сосны с двух сторон. Знакомый, много раз виденный из окна рейсового автобуса – «шестерки» – пейзаж. Сейчас, в сумеречном утреннем свете, он показался Кравцу иным. Более суровым и, как ни странно, более красивым. «Наверно, так виделись родные места уходящим на войну», – пришла мысль. Но развить её он не успел. Газик пошёл под гору и выкатился в степь. Она раскинулась до самого города, являя собой тот самый «оперативный простор», который, по словам Бабы Кати, не в силах преодолеть ни один самовольщик. Что и говорить, пять километров по снежному полю – расстояние немалое! Но смельчаки в роте всё-таки находились. Правда, Кравец не из их числа. Не из боязни, что не дойдёт до Кургана и замёрзнет в степи, как ямщик из народной песни, а скорее по идейным соображениям. Самоволка не вписывалась в его жизненные принципы, в понятие воинской чести. Хотя было бы ради кого, может, и рискнул бы… Особенно в белом нагольном полушубке, что нынче приторочен к вещмешку! «Этот бы полушубок да сейчас на плечи, а то во все щели свистит!»
Наконец добрались до дамбы. Переехали через замёрзший Тобол и очутились в Кургане. Областной центр уже проснулся. На остановках толпился рабочий люд. Было совсем светло, но уличные фонари ещё горели. «Обычное раздолбайство по формуле: всё вокруг советское, всё вокруг моё!» Притормозили на перекрестке у ЦУМа и, двигаясь дальше, собрали по пути все красные светофоры. Такие уютные летом, улицы Кургана сейчас были стылыми и навевали тоску: Ленина, Советская, Горького… Проехали городской парк. Напротив центрального входа, словно в насмешку, располагалось здание комендатуры – старинный двухэтажный особнячок из красного кирпича. Захаров и Кравец переглянулись. Резиденция коменданта им была памятна по-своему…
Ещё на первом курсе, в начале марта, они были назначены в патруль по городу. «Не считайте, что вам повезло! – предупредил Гейман. – Смотрите, оттуда прямая дорога на «кичман»… Напоминание было излишним. Известно всем, что в лапы к Шурику попасть легко, вырваться из них трудно. Шурик, он же Мясо, он же майор Мисячкин, слыл в курсантской среде человеконенавистником и хамом. Был он таким по долгу службы или из-за трудного детства в послевоенном детдоме, неизвестно. Но лютовал страшно. Очутиться на «губе», независимо от числа нашивок на рукаве, было проще простого, тем паче, когда целые сутки у него на глазах. Один вид Мисячкина вызывал отвращение. Красное, пористое лицо, нос, иссечённый сиреневыми прожилками, бесцветные глаза и скрипучий голос. Таким только детей пугать!
Прибыли Кравец и Захаров в комендатуру с легким мандражом. Не успели расположиться в комнате для патруля, как влетел комендант. Они вытянулись, не зная чего ожидать.
– Так, значит, вы – новые патрульные, – глаза-буравчики просверлили их насквозь. – Первокурсники, значит… Хорошо… Так вот, товарищи курсанты, нам предстоит ответственная задача, – Мисячкин сделал ударение на слове «ответственная», – задержание неизвестного. Поступила информация: на железнодорожном вокзале находится подозрительный человек в полувоенной форме. Слушай боевой приказ! Сейчас отправляемся на вокзал. Будем действовать так: я подойду к субъекту с фронта и спрошу документы, а вы, значит, зайдёте с флангов и будете внимательно следить за его руками. В случае неадекватного поведения хватайте и держите, пока не прикажу отпустить! Уразумели? – совсем не по-военному спросил он.
– Так точно, товарищ майор!
Неизвестный субъект оказался крупным мужчиной лет сорока пяти. Он сидел за столиком в привокзальном кафе, не снимая парадной шинели с погонами подполковника. Из-под полы выглядывали цивильные брюки. На голове незнакомца была шапка из какого-то дорогого меха. На столике стояли бутылка армянского коньяка и тарелка с тонко нарезанным лимоном. При взгляде на лимон у Кравца свело скулы.
– Предъявите ваши документы! – строго потребовал Мисячкин, выставив левую руку с повязкой «Офицерский патруль».
– Па-жал-ста, – незнакомец окинул майора внимательным взглядом и полез во внутренний карман. Курсанты напряглись. Но ничего страшного не случилось. Незнакомец предъявил Мисячкину удостоверение в красном переплёте.
Комендант долго вертел его в руках.
– Вам придётся проехать в комендатуру для уточнения некоторых деталей.
Незнакомец медленно встал. Только тут Кравец увидел, какой он громадный – выше его на две головы, не говоря уже о коренастом Захарове. Между тем задержанный не оказал им никакого сопротивления и спокойно прошёл к уазику коменданта. Они следовали по пятам и являли, наверное, довольно забавную картину – этакие лилипуты, конвоирующие Гулливера. В эти минуты Кравец страха вроде бы не испытывал. Страх возник позднее, когда в комендатуре Мисячкин, наставив на незнакомца пистолет, предложил предъявить содержимое карманов. Среди вещей незнакомца оказались ТТ с полной обоймой и пачка двадцатипятирублёвок. Держа неизвестного на мушке, комендант позвонил дежурному по КГБ области. Вскоре к комендатуре подкатила чёрная «Волга». Из неё вышли четверо в штатском. Они увезли задержанного. Кто он такой, так и осталось загадкой.
– Наверное, Юрка, мы поймали шпиона… – предположил Кравец, когда они вернулись в роту.
– Станет тебе шпион с «тэтэшкой» расхаживать! У шпионов небось «пушки» поновей будут…
– Ну, тогда это – матёрый бандит. Видел, какая рожа?
– Ну, рожа… Хотя, был бы он бандит, мы бы с тобой сейчас здесь не сидели… У него кулачищи, как у меня голова… – Захаров сделал страшное лицо и неожиданно предположил: – Я так скажу, Сань, если этот, в форме подполковника – важная птица, нас к награде представят. К государственной!
– Ты загнул, к государственной… Считай, мы и так с тобой награждены: сутки возле Шурика пробыли и не на «губе»!
Мисячкин, и верно, за время дежурства к ним не придирался, а в конце наряда даже пообещал походатайствовать о поощрении. Слово своё, правда, не сдержал. Но происшествие в патруле запомнилось надолго. Оно ещё больше сблизило Кравца и Захарова. Не зря говорят, что испытания укрепляют дружбу.
5
Приключения, о которых мечталось в КВАПУ, начались сразу же – на курганском вокзале.
Поклажу выгрузили и по частям перетащили в зал ожидания. Шалов отправился за билетами. Поскольку воинской кассы на вокзале не было, процесс покупки обещал затянуться.
Кравец осмотрелся.
Зал был забит до отказа и поражал разнообразием пассажиров. Почтенные семейства: муж, жена, дети. Путешественники-одиночки, в основном мужчины средних лет или старушки с сетками, вязаными кошёлками и дерматиновыми сумками. Сновали туда-сюда какие-то тёмные личности. Милиционеры прохаживались с безразличным видом. Военных людей, кроме их караула, не было. Да и откуда им взяться, если во всём Кургане воинских организаций – только училище да военкомат…
У Кравца сами собой сложились строчки:
На вокзале суета людская, Люди честные и люди разные, Пробираются в толпе, толкаясь…Дальше ничего не приходило на ум. Кравец хотел записать родившееся, но для этого надо было лезть в вещмешок за заветным блокнотом и авторучкой. На глазах Мэсела делать этого не хотелось – опять начнёт ехидничать.
Кравец снова оглядел людское скопище. Его внимание привлекла одна бродяжка. Таких зовут «синявками». Она уселась на цементный пол прямо напротив курсантов. Достала из сетки чекушку, заткнутую обрывком газеты, и алюминиевую миску, такую же, как в училищной столовой. Зубами вытащила затычку. Перелила содержимое «мерзавчика» в чашку и накрошила туда серого хлеба. Потом размешала спиртовую тюрю ложкой и неторопливо принялась хлебать, поводя вокруг мутными глазами, причмокивая и громко икая.
Кравца передёрнуло: «Откуда берутся такие? Неужели и эта старуха – тоже советский народ?..» Он испугался собственной крамолы и постарался найти какое-то внятное объяснение увиденному: «Может, она и есть один из тех буржуазных пережитков, о которых нам говорили на научном коммунизме?.. Пережитки эти не изжиты, с ними надо бороться!» Его осенило: «Наверное, у неё родители были пьяницы… И не нашлось рядом настоящего человека, который помог бы отыскать правильную дорогу в жизни… Для того и нужны коммунисты, чтобы помогать таким, как она… Но как помогать? Дать ей денег? Так она потратит их на новую бутылку… Да и не видно что-то желающих помочь… Хотя, наверное, среди тех, кто в зале, есть и коммунисты, и комсомольцы… Мы, например… Да, как-то трудно представить себя в роли спасителя этой грязной, вонючей… Язык не поворачивается сказать – женщины…»
Кравец почувствовал, что его замутило.
– Я ненадолго… – сказал он Захарову, передал ему автомат и вышел из зала.
Туалет размещался в подвале. Туда вели плохо освещенные ступени. «Как будто в наш подвал…»
Кравец рос у матери-инвалида один, без отца. С семи лет на нём была заготовка дров. У них в квартире стоял титан, который топился два раза в неделю. Для него и требовались дрова.
Подвал в доме пользовался дурной славой. Там постоянно околачивались пьяные мужики и хулиганы-подростки. Каждый поход требовал от Кравца изрядного мужества. Однажды его сильно напугал бродяга, внезапно вышедший из неосвещённого угла. Он широко расставил руки, словно хотел его схватить. Кравец увернулся и убежал. После этого случая он ходил в подвал с топором наизготовку.
Вот и сейчас, Кравец невольно нащупал на боку штык-нож в пластмассовых ножнах.
Едва он открыл дверь туалета, как услышал крик:
– За-ре-за-ли! Ка-ра-ул!
Мимо него по лестнице наверх метнулся мрачный тип.
Кравец растерялся: бежать следом или посмотреть, что случилось в туалете?
Очередной крик заставил его шагнуть в туалет.
Там он увидел плюгавенького мужика, присевшего у стены с писсуарами. Мужик был без пальто. Двумя руками в синих наколках он зажимал бок. По его замызганной рубахе расползалось багряное пятно.
– Кюрсантик, родимай! – просипел он. – Подь сюда…
Кравец опасливо приблизился. Мужичок разжал руки и обнажил резаную рану, из которой толчками выхлёстывала кровь. Кравец невольно попятился.
Мужик взмолился:
– Кюрсантик, постой! Уважь, посци на рану…
– Зач-чем?
– Чтоб за-ра-же-ния не бы-ло!
– Нет-нет, я не могу… Вы подождите, я сейчас… Я доктора… – Кравец бросился к выходу.
– Не надо док-то-ра! – взвыл раненый.
Но Кравец уже бежал наверх, перескакивая через ступени.
Когда он с фельдшером из медпункта и дежурным милиционером вернулся в туалет, там уже никого не было. Только тёмная лужа в углу говорила, что резаный мужик ему не привиделся.
– Шпана вокзальная разборки устраивает, – констатировал старшина. – Ну, что, будем составлять протокол или ты ничего не видел?
– Мне некогда составлять протокол, я в карауле…
– Ну, веди к своему начальнику!
Шалов уже рвал и метал:
– Где тебя носит, Кравец? Мы же на поезд опоздаем… Что он натворил, товарищ старшина?
– Не натворил, но является свидетелем преступления…
– Свидетелем… У нас поезд отправляется через десять минут да ещё куча вещей!
– Да я и не настаиваю, – старшине самому, как видно, не хотелось «вешать» на своё дежурство «палку» – трудно раскрываемое преступление. – Как твой подчинённый скажет…
– Ну, что, Кравец, говори… – Шалов всем видом показывал, что альтернативы нет.
– Можно мы не станем составлять протокол? – Кравец был противен самому себе.
– Ладно, валяйте! Счастливого караула! – козырнул старшина.
– Тебя, Кравец, ни на минуту нельзя оставить! Вечно ты во что-то влипаешь! – сказал Шалов. – Бери вещмешок и живо на платформу!
– А куда мы едем, товарищ сержант? – До последнего момента адресом их командировки был некий «почтовый ящик» с четырехзначным номером. Но что это за «ящик» и где он располагается, Шалов важно называл «военной тайной». Он и сейчас продолжил гнуть своё:
– Много будешь знать, скоро состаришься.
Но шила-то в мешке не утаишь.
– Груз будем получать в Копейске, – шепнул Кравцу Захаров. – Я видел в билете у Шалова… Это же рядом с твоим домом!
– Чего же он нам не говорит?
– Боится, чтобы ты в самоволку не рванул!
От Копейска до Колгино и в самом деле было всего пятнадцать километров! На душе у Кравца посветлело. Забрезжила надежда – вдруг удастся оказаться дома, хотя бы на минуту!
В поезде Шалов неожиданно сделался благодушным:
– Мы все – теперь одна команда. Надо держаться друг друга: вы за меня, а я за вас!
«За такого подержишься…» – переглянулись Кравец и Захаров. Только Мэсел поддакнул комоду:
– Так точно, товарищ сержант. Можете на нас рассчитывать!
«Кого же он мне напоминает? – подумал Кравец. – Ах, да! Шакала из мультфильма о Маугли… Что ж, хотя мы и одна команда, но, вопреки тому же мультику, кровь у нас разная…»
До номерного завода добрались, когда уже надвинулись сумерки. Разместив курсантов и багаж в комнате для охраны, Шалов пошёл в заводоуправление.
– В военную приёмку, – с видом знатока пояснил Мэсел. Кравец его не слушал. Он вернулся к мыслям о близком доме, о маме.
В комнате было жарко. Разморённый, Кравец незаметно задремал. Следом за ним все остальные.
– Рот-тя, подъём! – разбудил их Шалов, передразнивая старшину роты Геймана. Они заученно вскочили с мест.
– Я же предупреждал: сразу всем спать нельзя! – нравоучительно заметил сержант. – Кто-то один должен бодрствовать, следить за оружием! Ю андестенд?
– Понятно…
– Ол райт! Значит, так. Груз нам подадут в теплушках к заводскому тупику через три часа. Не раньше! Сейчас пойдём в заводскую столовую. Я договорился, нас покормят. Потом будем ждать погрузки… Ну, что ты на меня так смотришь, Кравец? Домой хочешь? Да тебя же одного отпустить никуда нельзя… Ты же – настоящее ходячее происшествие…
– Товарищ сержант, а вы отпустите меня не одного, а с Захаровым… – с разгоревшейся надеждой попросил Кравец. – Тут же рядом. Мы тачку возьмём и одним махом туда и обратно… У нас, в Колгино, никаких патрулей… А, товарищ сержант?
Шалов в этот вечер не походил на себя.
– Может, и правда отпустить… А водки привезёшь?
Кравец не сразу нашёлся с ответом.
– Постараюсь…
– Ну, смотри! И ты смотри, Захаров. Не только за собой, но и за ё фрэнд… Опоздаете, я с вас три шкуры спущу, – с добренькой улыбкой напутствовал Шалов. – Да, сдайте штык-ножи и про водку не забудьте! Здесь быть в двадцать ноль-ноль и ни минутой позже!
– Будем, товарищ сержант!
Ещё не веря в происходящее, они выбежали из проходной мимо вохровца, над головой которого висел старый, полуистёршийся лозунг: «Товарищи рабочие, инженеры и техники! Строго храните государственную тайну!» Кравец успел заметить, что стрелки на часах над дверью показывали половину шестого: «Успеем!» По протоптанной тропинке припустили вдоль забора, сверху опутанного колючей проволокой. Им повезло. В последний момент заскочили в отходивший автобус, который довёз до автовокзала. Там, удачно поймали такси. Молодой чернявый водитель за пятёрку – месячная «стипендия» второкурсника – согласился «пулей» домчать их до Колгино и подождать полчаса, если оставят денежный залог, равный стоимости обратной дороги. «Какой разговор! Получишь, только дождись!»
Старенькая, постанывающая на ухабах «Волга», невзирая на возраст, резво взяла старт. Вскоре слева замаячили отвалы угольного разреза, как пояснил Кравец Захарову, самого глубокого на континенте. Даже во тьме были различимы берёзки, выросшие на старой насыпи. Новая – голой громадой высилась за ней, как настоящая, а не рукотворная гора…
Вот и бронзовый шахтёр с отбойным молотком на плече у въезда в пригород. Извилистые улочки посёлка Тимофеевки. Бассейн. Двухэтажный вокзал и разделённая яблоневой аллеей улица Ленина. Парикмахерская. Книжный магазин. Ресторан «Урал». А вот и родной дом.
Как на крыльях, взлетели на третий этаж. Кравец позвонил и прислушался. Сердце стучало гулко. «Да нет же, это мамина палочка стучит о пол…»
– Кто там? – спросил из-за двери родной голос.
– Это я, мама, открой!
Глава вторая
1
Телеграмму подполковнику Кравцу вручили ранним утром. Дежурный по мотострелковому полку, где Кравец служил заместителем командира по воспитательной работе, вместо обычного доклада о положении дел торопливо сунул ему телеграфный бланк.
«Срочно приезжай воскл знак мама тяжёлом состоянии тчк Анна Якимовна», – прочитал Кравец сообщение, которое уже несколько лет боялся получить. Поначалу он не обратил внимания, что телеграмма пришла на адрес войсковой части, а не домой, что на бланке нет необходимой в таких случаях подписи врача, заверенной на почтамте.
На это сразу же указал ему командир полка полковник Смолин, к которому обратился Кравец.
– Всё понимаю, комиссар, – так, по старинке, Смолин обращался к своему заму, – понимаю, но официально, в отпуск по семейным обстоятельствам, отпустить не могу. Тут буча какая-то закручивается. Сегодня в четырнадцать ноль-ноль комдив собирает весь офицерский состав. Что будет на совещании, пока даже мне неизвестно. А ты знаешь, какие у меня в дивизии «уши»…
Кравец кивнул, мол, помнит, что супруга командира работает в секретной части. Благодаря ей в полку раньше соседей узнают обо всём, что планирует командование.
– Как мне поступить, Сергей Владимирович?
– Ну, что ты вопросы задаёшь, ёкарный бабай, как будто первый год в армии… Иди к начмеду. Я позвоню, чтобы сварганил тебе освобождение денька на три. У тебя же мать где-то под Челябинском – успеешь обернуться. Ну, а если, не дай бог, что-то серьёзное с ней, дашь телеграмму на моё имя по всей форме…
– Спасибо, командир, – поблагодарил Кравец, а про себя подумал, что, наверное, серьёзней не бывает, иначе Анна Якимовна, мамина соседка и его бывшая учительница, вызывать бы не стала.
Смолин приобнял заместителя за плечи:
– Ну, что ты, Саня: мать – это святое! Возьми мой уазик. Заедешь домой, соберёшь чемодан, и на автовокзал…
Домой Кравец заезжать не стал. С Тамарой он уже давно находился в состоянии «холодной войны», да и новость о болезни свекрови вряд ли произвела бы на жену впечатление. С его матерью она отношений не поддерживала. А отсутствие дома самого Кравца, из-за частых командировок и ставших традиционными задержек на службе, жена просто не заметит.
Всё необходимое для поездки было под рукой. Бритвенные принадлежности, полотенце, мыло и зубную щётку он извлёк из тревожного чемодана, хранившегося в кабинете. Денег перехватил у начфина. Уже год как денежное содержание выплачивалось нерегулярно и с задержкой на несколько месяцев, но у полкового финансиста денежки водились.
– С первой получки отдам, – пообещал Кравец.
– Ого, когда она ещё будет… – хмыкнул начфин и тут же спохватился: – Да вы не беспокойтесь, Александр Викторович: когда сможете, тогда и отдадите…
Всю дорогу от Екатеринбурга до Челябинска, поёживаясь в стылом «Икарусе» и потом, в колгинском ЛиАЗе, Кравец думал о матери, вспоминал последний приезд к ней.
Уже несколько лет мать, которую он, любя, называл по имени и отчеству – Ниной Ивановной, едва передвигалась по своей «хрущёвке», во двор выходила только с помощью соседей, и то всё реже и реже. В больницу, невзирая на уговоры, ложиться наотрез отказывалась. Говорила, что её «болячки» – дело возрастное и никакие врачи тут не помогут.
Кравец всё же привёз к ней доктора из гарнизонной поликлиники. Тот после осмотра сказал:
– Ваша матушка, подполковник, нуждается в постоянном уходе… С её хворями одной жить нельзя…
– Не знаю, что делать. Ко мне она ехать не хочет, мол, старое дерево на другое место не пересаживают. А для перевода к ней поближе нужно заключение ВВК[2]…
– Будет вам заключение, – пообещал врач и не обманул.
Через пару месяцев в отдел кадров управления по воспитательной работе округа такое заключение поступило. В нём значилось, что по состоянию здоровья матери подполковник Кравец А.В. должен быть переведён для дальнейшего прохождения службы в город Челябинск. Знакомый кадровик заверял Кравца, что перевод состоится в ближайшие месяцы. Однако прошёл год, а никаких перемен в службе не произошло. Кравец снова написал рапорт. Потом ещё и ещё… Ответа ни на один из них так и не получил.
– Дай взятку… – посоветовали ему. – Сейчас без этого ничего не добьёшься…
– Никогда на лапу не давал и тут не стану!
– Тогда перевода не жди…
– Почему? Мне же по закону положено…
– Какие теперь законы? Лучше обратись прямо к начальнику управления. Он ведь твой давний знакомый!
Кравец покачал головой: «Просить не буду!»
Конечно, он использовал любую возможность, чтобы заглянуть к матери. Едет ли в командировку, возвращается ли с учений… Благо от места службы до родного дома – всего двести пятьдесят километров. А от окружного полигона – и того ближе.
Последний раз он видел мать месяц назад. Ничего не предвещало резкого ухудшения её здоровья. Нина Ивановна, как всегда, улыбалась, шутила. У неё такая манера: не сосредоточиваться на своих болезнях, будто бы их и нет вовсе. Только взгляд был не такой, как обычно, а тревожный, пристальный. Или, может быть, это сейчас так припомнилось ему…
Говорят, что люди должны чувствовать, когда близким плохо. Может, это и так. А вот Кравец ничего не почувствовал. Наверное, слишком был занят разборками с Тамарой, служебными делами… Теперь корил себя за это и мрачнел всё больше.
В дверях маминой квартиры торчала записка: «Ключ у меня», – и подпись соседки.
Когда на его звонок Анна Якимовна открыла дверь, сердце у Кравца сжалось: неужели опоздал?..
– Нину Ивановну вчера на «скорой» увезли. Она в реанимации, я узнавала: у неё инсульт, – скороговоркой сообщила соседка и, заметив порывистое движение Кравца, удержала: – Куда ты, Сашенька? Сейчас не пустят. Утром вместе пойдём…
2
Два эскадрона несутся навстречу друг другу. Мёрзлые комья со звоном летят из-под копыт. Хрипят кони. Пена с боков летит клоками. Перекошены криком и ненавистью лица всадников. Над одной лавой трещит и мечется красный флаг, над другой – бело-зелёный, колчаковский.
Сшиблись. Зазвенела сталь. Обагрился снег. Ржут кони, вертятся. Кричат раненые. Матерятся пока что уцелевшие. Вдруг двое, сойдясь в сече, встали на стременах, застыли на миг, почти одновременно выдохнули:
– А-а!
– О-о!
– Ванька!
– Антон!
– Яд-рить тя в корень!
– Братка!
Соскочили со стремян. Обнялись. Тяжело отстранились.
– Ты с голопузыми? Какого рожна?
– А ты с мироедами?
– Ты ж офицер! Присягу давал!
– Кому? Царю? Так нет больше царя! Расстреляли…
– При чём тут царь? Ты России присягал… Присяга дважды не даётся!
– А я России и не изменял! Как служил ей, так и служу…
– Ты-то, может, и служишь, а вот внук твой…
– Какой внук, Антон? У меня дочке всего три года!
– Как это какой? Сашка… Он-то своей присяге точно изменил! – сказал Антон, и… Кравец проснулся.
Он долго лежал, уставясь в потолок маминой комнаты, чувствуя себя усталым, как столетний старик. «А ведь деду Ивану было бы сто лет, доживи он до сего дня!»
…В больницу отправились, как было условленно, вместе с Анной Якимовной. В справочной узнали, что пациентка Кравец Н.И. ещё в реанимации и посещение её нежелательно. Лечащим врачом оказался соученик Кравца из параллельного класса – Андрей Живетьев.
Он обнадёжил:
– Мать твою на ноги поставим. Считай, Александр, что ей повезло. Правосторонний инсульт.
– Что я могу сделать?
– Если при деньгах, купи лекарства импортные. Я выпишу. Да ещё можешь заплатить медсестре. Так сказать, за персональное внимание… Ты же знаешь, на блокадном пайке нас государство держит…
– Какой разговор. Заплачу, лишь бы на пользу пошло. Сколько мама пробудет у тебя?
Живетьев пожал плечами:
– Трудно сказать, как реабилитационный период пойдёт. Обычно недели две-три. Да не волнуйся. Обещаю, что к матушке твоей будет отношение самое доброе…
– А мне, когда можно её навестить?
– Приходи завтра. Но, само собой разумеется, ненадолго и без всяких треволнений для больной. Уразумел?
– Спасибо, Андрей.
Когда вернулись из больницы, Анна Якимовна предложила пообедать. Кравец отказался: хотелось побыть одному. Перекусил дома всухомятку. Потом достал альбом и стал разглядывать фотографии. Остановился на одной, где мама была сорокалетней, улыбчивой, и едва не расплакался. Ощутил себя таким же беззащитным и беспомощным, как в то утро, когда впервые пошёл в детский сад. Мама оставила его одного среди незнакомых детей. Он плакал, колотил по стеклу ладошками, умолял её вернуться, взять с собой, а она, прихрамывая, не оборачиваясь, уходила всё дальше и дальше. «И ощутить сиротство, как блаженство», – неожиданно пришли на ум ахмадулинские строки. «Что за бред? Какое может быть блаженство? Нет, это не о настоящем сиротстве…» Ему стало страшно, а что если мама, вопреки увереньям Живетьева, вдруг умрёт? Как он будет без неё?
Ему было семь лет, когда у мамы случился сердечный приступ. Он тогда жутко испугался и понял, что мама для него – всё. Когда повзрослел, её влияние вроде бы уменьшилось. Военное училище. Служба. Женитьба на Тамаре. Рождение сына… Отдельная, самостоятельная жизнь. Мать как будто отошла в тень. Но её присутствие в своей судьбе ощущал всегда. Был уверен, что с ним ничего не случится, пока мама жива.
В последние годы в доме у матери появились иконы и Библия. Нина Ивановна и Кравцу вручила маленькое Евангелие и иконку с изображением князя Александра Невского.
– Ты же не крещёная… – удивился он.
– Мы все крещёные, кто в мои годы родился…
– Ты об этом никогда не говорила…
– Нельзя было, вот и не говорила.
– А теперь что, можно? – усмехнулся Кравец. – Новая мода: церковь, иконы… Вон даже бывший секретарь Свердловского обкома партии Ельцин в храм со свечкой ходит… А ведь совсем недавно приказ отдавал о сносе дома, где царя грохнули. И ты, Нина Ивановна, туда же… Где ж вы все были, когда церкви разрушали и священников расстреливали?
Мать обиженно поджала губы. Но перед самым отъездом снова попросила:
– Сынок, возьми иконку… И послушай мать: покрестись… Я тебе защита теперь ненадёжная, а Он защитит…
– Что-то не больно он твою семью защитил… – сказал Кравец, но иконку взял.
3
Историю маминой родни Кравец узнал поздно. Уже во время «перестройки», той самой, о которой мрачно шутили, что она когда-то перерастёт в перестрелку. До перестрелки пока ещё не дошло. А вот иллюзий в головах у тех, кого называли «человеческим фактором», возникло немало. О демократии. О свободе слова. Об исторической памяти. Не устоял и Кравец, поверил в «социализм с человеческим лицом». Задумал написать книгу об армии. О той, какой она была до революции. А ещё – о современной. О том, что мешает ей быть по-настоящему сильной и боеспособной. Название придумал – «Сказание об офицерской чести». Поделился планами с матерью.
Она сказала, приглушив голос, хотя они были одни:
– Не делай этого, сынок! Посадят…
– Сейчас не сталинские времена! За книги не сажают.
– Времена для простых людей всегда одни и те же. От сумы да от тюрьмы не зарекайся…
– Да ты, Нина Ивановна, настоящая диссидентка… Вот уж никогда не подумал бы…
– Ты, сынок, о многом судишь торопливо, потому что страха настоящего не знал. А со мной он – всю жизнь, с самого детства…
…Семья прадеда Кравца, выходца из Полтавской губернии, оказалась на Урале во время столыпинской реформы, давшей крестьянам наделы и разрешившей строить хутора на окраинных землях Российской империи. Семья была большая, и, что важнее прочего, все пятеро детей – мужеского полу. На каждого по закону положен отрезок пахотной земли. Так что общий надел вышел приличным. Поселенцы работы не гнушались. После первого урожая отстроили хутор. Назвали – Николаевкой. То ли в честь государя императора, то ли по имени бывшего владельца этих земель – помещика Николаева.
Подросли сыновья. Завели семьи. Рядом с отцовским куренем свои дома поставили. Паровую мельницу приобрели. Одну на всех. Конечно, у каждого в хозяйстве и лошади, и коровы, и даже верблюды были. А овец и птицу просто не считали…
Жили своим трудом и по труду. Нелегко, но сытно. Надеялись, что заживут лучше.
Когда случилась война с немцами, многие мужики, в том числе и дед Кравца – Иван, ушли на фронт. Он и его братья оказались в кавалерии, но в разных частях. Иван и старший брат, Антон, отличились во время Брусиловского прорыва, выслужили офицерские чины и Георгия – за храбрость. Три других брата погибли в Курляндии.
После февраля семнадцатого Иван и Антон вернулись домой. Хозяйство в их отсутствие пришло в упадок. Только стали его поднимать, началась другая война. Белые, красные, зелёные, чехи, колчаковцы, чапаевцы. Все они вытаптывали пашни и сенокосы, опустошали дома, уводили с собой лошадей и не успевших спрятаться мужчин. Братья оказались под разными флагами. Так продолжалось, пока однажды не сошлись – лоб в лоб. Как в кино… Обнялись, расцеловались. Ивану удалось уговорить Антона, и тот вместе со своим эскадроном перешёл на сторону Советов…
– Эту быль, мама, я от бабушки слышал…
– А вот двадцать третьего февраля тридцатого года…
– Был день Рабоче-крестьянской Красной Армии и Военно-Морского Флота…
– Так оно, конечно. Но это ещё и день, когда нас раскулачили…
– Да вы разве были кулаки?
– Конечно нет. После Гражданской жили бедно. Но со временем и лошадь снова появились, и корова, и овечки. Куда меньше, чем до войны, но всё-таки какое-никакое хозяйство. Встали бы на ноги покрепче, но в двадцать девятом дошли до Николаевки слухи о коллективизации. Дядя Антон всё своё имущество продал и уехал на Кубань. А дед твой остался. Надеялся, что не тронут как бывшего красноармейца. Правда, перед самым тридцатым годом уехал и он. В Ташкент. Якобы для покупки посевного зерна. На самом деле с расчётом: мол, семью без кормильца с места срывать не станут. Стали. Ещё как! За неделю до высылки приехали на хутор уполномоченные из Кислянки – села, что верстах в семи от нас. Отняли все тёплые вещи. Бабушку твою и нас, детей, из родного дома выселили во времянку с земляным полом. Всю скотину со двора увели. Продукты, сельхозинструмент – всё забрали. Даже балалайку и мешок с семечками. А в ночь на двадцать третье приехали снова. На этот раз с ними был председатель сельсовета. Он когда-то в молодости за нашей мамой сильно приударял, но она деда твоего выбрала. Наверное, председатель с того времени злобу и затаил. «Собирайся, – говорит, – Фрося, к белым медведям. Там тебе и Ванькиным выродкам жарко будет!» Погрузили нас на сани. В деревянный короб с сеном. И повезли. Холод был страшный. Двое суток добирались до станции Шумиха. Потом пересадили в теплушки. Везли ещё несколько дней до Тобольска. Затем снова на санях до поселения Малый Нарыс. Привезли в тайгу – снег по пояс. Выгрузили: «Здесь будете жить!» А где, как? Никого не волнует. Там я и простыла. Заработала туберкулез кости. Были сильные нарывы. А в районе лечить отказывались. Дескать, дочь врагов народа – не положено. Могла и вовсе сгинуть, да учительница, тоже из ссыльных, надоумила написать письмо в Москву, Косареву. Был такой секретарь комсомола…
– Слышал… Его в тридцать седьмом расстреляли.
– А в тридцать первом он мне помог. Пришёл ответ в комендатуру для ссыльных переселенцев, что дети за родителей не отвечают и девочку надо отправить на лечение… К этому времени и дед твой нас разыскал. Добровольно в ссылку приехал, вслед за семьей.
– Надо же, не струсил…
– Они же с твоей бабушкой венчаны были. Перед лицом Господа клялись. Это не шутки.
– Ты, Нина Ивановна, опять проповеди читаешь… Лучше расскажи, что дальше было…
– А дальше повезли меня в больницу. На лодке. А у меня уже жар и боли сильные. Плачу тихонько. А папа строгий был, говорит: «Терпи! Не хнычь, а то накажу!» Когда в Тобольске поднимались в гору по Прямскому взвозу, родители несли меня на носилках и остановились передохнуть, к нам подошёл какой-то мужчина и попросил у отца прикурить. После отец сказал, что это – бывший троцкист. Находится на поселении. «Что он говорил?» – спросила мама. «Всё сетовал, мол, жил бы Ленин, с нами такой беды не случилось бы…»
– Мам, ну, Ленин, Сталин, это я понимаю, это было давно. А мне-то почему нельзя книгу писать?
– Разве давно? Полвека не прошло. Вот у нас в Малом Нарысе был старичок, Кузьмичом его все звали. Он, как только война с фашистами началась, на завалинке с соседом поделился своими соображениями. Мол, зачем столько народу губить? Лучше бы, как в старину, Гитлер со Сталиным на кулачках сошлись и силой померялись. Кто победит, тому и править… Что ты думаешь? На следующее утро забрали Кузьмича, и больше его никто не видел…
– Не беспокойся. Теперь за слова не расстреливают. Ладно, если ты так боишься, я не буду писать эту книгу…
– Вот и хорошо, – посветлела лицом мать. – Помнишь, как бабушка говорила: «Не высовывайся, целей будешь!»
…Книгу Кравец всё-таки написал. Понёс рукопись в местное издательство. Сунулся в кабинет главного редактора. Секретарша, дама бальзаковского возраста, вся в буклях и рюшах, к главному его не пустила. После долгих переговоров, сопровождавшихся ослепительной улыбкой посетителя, она из уважения к офицерским эполетам, а может, по причине неутолённой любви ко всем представителям противоположного пола, направила Кравца в общественно-политическую редакцию. Редактор – невзрачный мужичок неопределённого возраста – повертел в руках папку с рукописью и присоединил её к кипе, громоздящейся на столе.
– Зайдите через месяц-полтора…
«Оставь надежды, всяк сюда входящий», – подумал Кравец, но через пять недель зашёл в издательство.
На этот раз редактор встретил его по-другому. Он долго тряс Кравцу руку и бормотал, что никак не ожидал от человека военного подобной смелости суждений и откровений об армейской жизни.
– И под грубой солдатской шинелью может биться пламенное сердце, – перефразируя Лермонтова, ответил польщённый Кравец.
– Я буду предлагать вашу рукопись в план издательства… – важно сказал редактор.
– На следующий год?
– Ну, что вы, голубчик, – перешёл собеседник на отеческий тон. – Планы издательства свёрстаны на пятилетку вперёд. У нас даже члены Союза писателей в очередь стоят…
Кравец нахмурился.
– Не огорчайтесь и не теряйте надежды. Главное, вы написали хорошую книгу… Будем надеяться на лучшее, – утешил редактор.
Книга так и не увидела свет, хотя и попала в план издательства на тысяча девятьсот девяносто первый год. А когда он наступил, стало не до книг об армии. Да и вообще не до книг…
В условиях рынка местное издательство не выдержало конкуренции с крупными московскими фирмами и распалось. Рукопись Кравца бесследно исчезла. Да в это время он и не вспоминал о ней. Реформаторы перевернули всю жизнь страны вверх ногами и не оставили людям никакого права, кроме одного – бороться за существование. Не в переносном, а в прямом смысле слова. Курсантская присказка «Приказано выжить!» по сравнению с реальностями новой жизни выглядела детским лепетом. В конце августа того же года пришёл указ Ельцина о приостановке деятельности коммунистической партии. Кравец, вместе с остальными политработниками, оказался за штатом. Несколько месяцев находился в подвешенном состоянии, не зная, как сложится дальнейшая служба, чем будет кормить семью. Тут уж точно – не до писательской карьеры!
Но удивительное дело, именно когда разладились и личная жизнь, и жизнь государства, которому он присягал, к нему вернулась способность писать стихи, почти забытая с курсантской поры. «Самозащита души» – так для себя определил Кравец назначение поэзии.
«Поэты ходят пятками по лезвию ножа и режут в кровь свои босые души», – повторял он строчки Высоцкого. Именно так: босые души и – в кровь! Откуда приходит вдохновение или нечто другое, что движет рукой и сердцем, это оставалось загадкой. Но он вывел для себя формулу: чем труднее, невыносимее жизнь, тем больше вероятности, что стихи родятся.
Вот и сейчас, глядя на фотографию матери, он почувствовал их приближение. Не к месту, невпопад. Или, напротив, – в самую точку…
Если под уклон ведёт дорога И мелькают без просвета дни, К маме обращаюсь, словно к Богу, Мысленно: спаси и сохрани!4
Анна Якимовна вошла неслышно. Присела на краешек дивана рядом с Кравцом, спросила:
– Ты чего дверь не закрываешь? Сейчас время, сам знаешь какое…
Он пожал плечами. Анна Якимовна какое-то время посидела молча, потом, совсем, как в школе, повернула его к себе и заглянула в глаза:
– Не знаю, стоит ли показывать тебе это, – она вынула из кармана байкового халата конверт.
– Что такое?
– Сам увидишь… Думаю, всё-таки ты должен прочитать… Именно после этого письма с Ниной и случился удар… Извини меня… – она отдала конверт и ушла.
Кравец посмотрел на адрес и сразу узнал почерк жены. Достал сложенный вдвое листок из тетради в клетку. На листке – ни здравствуйте, ни до свидания – всего две фразы: «Я ненавижу вашего сына! И сделаю всё, чтобы мой сын не был похож на него!»
…С Тамарой он познакомился на четвёртом курсе, так, как обычно знакомятся курсанты, – в увольнении. Один из товарищей пригласил его на свадьбу. В числе подружек невесты оказалась рыжеволосая, разбитная девчонка с огромными голубыми глазами.
– Тамара, – смело представилась она, оказавшись за столом по правую руку от Кравца.
– Царица Тамар… – пошутил он.
Девушка ответила вполне серьёзно:
– Почему бы и нет, – и тут же лукаво рассмеялась, окинув его благосклонным взглядом.
Потом были танцы. Одна подвыпившая девица пригласила его, повисла на шее и неожиданно поцеловала в губы. Вот тут и случилось нечто из ряда вон выходящее. Тамара оттолкнула соперницу и, закатив Кравцу пощечину, метнулась к выходу. Кравец за ней. Догнал на троллейбусной остановке и, чего сам от себя не ожидал, врезал ответную оплеуху. Тамара зашипела, как взбешённая кошка, и попыталась полоснуть ногтями по щеке. Он перехватил её руки, крепко сжал запястья. Тамара обмякла и припала к нему…
Любил ли он её? Кравец не знал. Возможно, просто пришло время. Один из преподавателей училища назвал этот период в жизни курсантов «брачно-гнездовым». Все старшекурсники искали себе подруг, чтобы по выпуску не ехать в дальние гарнизоны в одиночку. Да и действительно, время пришло. Невзирая на физическую и интеллектуальную нагрузку гормоны в организме играли. Сны, в которых преобладали обнажённые красавицы, замучили… Было и ещё одно обстоятельство. «Женатики» получали еженедельно два суточных увольнения в город, а это на четвёртом году жизни в казарме аргумент весомый.
Пару месяцев спустя, после их знакомства, когда от поцелуев дело естественным порядком дошло до того, к чему яростно взывали гормоны, Тамара упёрлась:
– Милый, а это после свадьбы…
– Так давай поженимся!
– Ишь какой торопыга… А меня ты спросил?
– А чего спрашивать, если ты со мной сейчас в чём мама родила?..
– Лежать в одной постели – это ещё не повод для женитьбы…
– А что повод?
– Любовь, глупенький, любовь…
– Ты что, меня не любишь?
– А ты?
– Что за манера отвечать вопросом на вопрос? Пойдём лучше в ЗАГС!
Решили подать заявление через неделю. А накануне этого похода приснилось Кравцу, будто лежит он на полянке с изумрудной травой. Над ним небо высокое, голубое, как Тамаркины глаза. Хорошо на душе у Кравца. Безоблачно. Разнежился он. Блаженствует. Но боковым зрением замечает, что трава справа от него заколыхалась. Что-то живое в ней. Страшное. И точно, выползает рядом с ним змея необычной окраски – рыжие и чёрные полосы. Кравец понимает, что змея ядовитая. Она заползает к нему на грудь. Свивается в кольцо там, где сердце, и тянется своей мордой с удивительно голубыми глазами и чёрным раздвоенным язычком к лицу. Всё внутри у него холодеет, а змея целует его…
Он проснулся со странным ощущением, что совершает горькую ошибку, но в ЗАГС всё-таки пошёл. Характер отступить не позволил… Потом была свадьба. Нина Ивановна, узнавшая о ней в последнюю очередь и приехавшая в Курган перед самым бракосочетанием, сдерживала слезы, старалась не показать, что не одобряет выбор сына. Она и Тамара были друг с другом любезны и обходительны. Но Кравец, будь он внимательней и не так занят собой, сумел бы разглядеть, что новоиспечённые свекровь и сноха с первого взгляда не понравились друг другу.
Впрочем, времени и возможности для проявления взаимной антипатии у них не оказалось. Вскоре молодые супруги уехали, как и предполагалось, в дальний гарнизон. Потом родился сын, названный Иваном, в честь деда. Были переводы и переезды. Тамара то сидела с малышом, то пропадала в школе, где преподавала математику. Кравец большее время суток был на службе. Обычная жизнь офицерской семьи.
Только отношения у молодых супругов были не совсем обычные. То ластятся, как два голубка, то ссорятся – дым коромыслом. Всё не могли определить: кто в доме хозяин… Правда, до оплеух, как в день знакомства, не доходило, но покоя не было – ни ему, ни ей. Задним умом Кравец понимал, что сам виноват во многом. Где надо бы настоять, уступал, а где следовало бы сдержать эмоции, был нетерпимым. Слабым оправданием служило, что не знал он, как должен вести себя мужчина в семье. Мать и отец разошлись, когда ему не исполнилось и трёх лет. Из такой же несостоявшейся семьи оказалась и Тамара. Вот и строили свои отношения методом проб и ошибок. И может, притёрлись бы когда-то, притерпелись, но однажды…
Кравец вернулся с учений на день раньше, чем обещал. Приехал поздно вечером, открыл дверь своим ключом. В прихожей споткнулся о чьи-то незнакомые ботинки. Боясь поверить очевидному, шагнул в спальню и первое, что увидел, – смятый Тамарин халат, обвивающий рукавами чужую рубашку…
– А-а-а-а! – не то застонал, не то взревел он и сорвал со спящих одеяло. Но драться не стал. – Одевайся, уходи! – бросил проснувшемуся и перепуганному парню.
– Что ты в нём нашла, в сморчке этом? – допытывался у жены, когда остались одни. Его переполняла обида, смешанная с жалостью: к себе – обманутому и к ней, бестолковой. «Даже сблудить так, чтобы никто об этом не знал, ума не хватило!»
Тамара, поначалу побледневшая и задрожавшая, пришла в себя и ответила вызывающе:
– Ты на себя посмотри, поэт-самоучка!
– Ну, ты и тварь! – Кравец хлопнул дверью и ушёл в офицерское общежитие.
– Ты даже за себя постоять не можешь! – упрекала Тамара, когда они помирились и сошлись вновь. – У тебя жену из-под носа уводят, а ты…
– Сучка не захочет, кобель не вскочит…
– Я тебе не сучка!
– А я не дурак из-за тебя кулаками махать!
– Ничего, ещё помашешь…
И точно. Пришлось Кравцу не раз махать кулаками. После тридцати Тамара как с цепи сорвалась. Приходила домой за полночь. «Дыша духами и туманами», так, кажется, у Блока. От неё пахло кабаком и чужими мужиками. Со вторым и третьим её любовником Кравец бился насмерть. Не помогло. Подал заявление на развод. Не развели. Сын был ещё маленьким. Потом смирился, не смирился, но заявлений больше не писал. Надо было поступать в академию, а кто же разведённого в ВПА[3] примет? А дальше – повышение по службе. Значит, снова разводиться нельзя… Какой же ты замполит полка, когда с собственной женой справиться не можешь? Да и Тамара со временем стала умнее. Любовников в дом приводить перестала. Если и встречалась с ними, то где-то на стороне. Так и жили: под одной крышей, а будто бы и не в браке…
Нина Ивановна, конечно, догадывалась, что в семейной жизни сына что-то не так. Но с вопросами не лезла и советами не досаждала. Кравец ей ничего не рассказывал. Не хотел волновать. А Тамара вот не побоялась…
Чем могла мать так насолить Тамаре? Как вообще может женщина, которая сама мать, написать другой матери такое?
Он силился припомнить, когда мать и Тамара повздорили. И не вспомнил. Тамара после свадьбы почти не встречалась с Ниной Ивановной. Даже во время отпусков, когда Кравец собирался в Колгино, находила любые предлоги, чтобы не поехать к свекрови. Внешне, конечно, соблюдались приличия: открытки к Новому году и к дням рождения, приветы в письмах, редкие посылочки. В одну сторону – с отрезами на платье или косынками, в другую – с вязаными носками, свитерами для сына, снохи и внука, с картонными коробочками-шкатулками, которые, выйдя на пенсию, научилась красиво мастерить Нина Ивановна.
«Неужели это из-за того случая?» – встрепенулся он.
Да, был один случай, когда Кравец влюбился. Может быть, впервые. По-настоящему. С Валентиной он повстречался в Москве, когда учился в академии. Познакомились у Большого театра, куда Кравец ходил для «повышения эстетического уровня». Его сокурсник на спектакль не пришёл. Из толпы жаждущих попасть на премьеру Кравец выбрал хрупкую девушку и предложил ей лишний билет. В антракте, как и положено кавалеру, пригласил Валентину в буфет. Разговорились. Она, оказалось, тоже учится заочно. В экономическом институте имени Плеханова. А живёт в Челябинске. То есть ко всему прочему – землячка. За время сессии встретились с ней ещё несколько раз. Бродили по Страстному бульвару, держась за руки, как дети. Даже не целовались. Но искра между ними проскочила. Договорились встретиться в Челябинске через месяц.
В один из выходных он сказал жене, что поедет к матери, а сам отправился к Валентине. Тамаре обычно дела не было до того, где находится её благоверный, а тут словно почуяла что-то. Позвонила в Колгино соседке Нины Ивановны и поинтересовалась, приезжал ли Кравец. По возвращении устроила ему допрос с пристрастием: где был, что делал?
– У матери, – соврал Кравец.
– Врёшь! Не был ты у неё!
– Да поезжай к ней сама и проверь: был или не был…
– Ты со своей мамочкой всегда заодно! – рубанула Тамара и в этот вечер дома не ночевала.
Теперь ясно, что жена посчитала Нину Ивановну причастной к его измене. А измены, в привычном понимании, никакой не было. Они с Валентиной просто просидели рядом до утра. Пили кофе. И говорили. Обо всём. Тамаре, наверное, трудно даже представить, что такое бывает.
– Ты женатый человек, – говорила Валентина. – Я не могу разрушать твою семью. Пусть даже и неудачную. Может быть, когда всё переменится, мы встретимся и…
Они больше не встретились. Валентину сбил грузовик с пьяным водителем за рулём. Об этом Кравец узнал из заметки в челябинской газете.
«Я ненавижу вашего сына! И сделаю всё, чтобы мой не был похож на него!» – он снова перечёл письмо. Что ж, Тамара давно начала выполнять своё обещание. Сын всё больше сторонится его. Наотрез отказался пойти в Суворовское училище: «Ну, ты даёшь, ещё я в армии только не служил… Что мне, делать больше нечего?» Иван живёт своей жизнью, в которой только телевизор да телефонные звонки знакомым девчонкам. А может, и что-то другое, неведомое Кравцу… Горько сознавать, что твоё чадо будто бы и не твоё. Словно и не стирал ты его пелёнки, не рассказывал сказки, когда он был малышом, не носился по больницам, когда он болел… «А что, если я сам виноват в отчуждении сына? Ведь у меня всегда впереди семьи служба была. Служба и литература. А сын-то – живой человек! Ему не рукописи, не звёздочки на погонах, а я сам нужен…»
Кравец скомкал Тамарино письмо. Потом разгладил и засунул в конверт. «Зачем? Чтобы когда-нибудь ткнуть ей в лицо, обвинить?.. Глупо. Она давно чужая… Ей ни к чему мои обвинения, моя боль. Вывод один: винить надо себя одного. За всё. В том числе за это послание. А значит, и за мамину болезнь…»
5
Ночь была бессонной. Он лежал на стареньком диване, пружины которого больно впивались под ребра, и глядел в окно. Там, под порывами ветра, метались из стороны в сторону ветки старого тополя. На тёмном небе стыла одинокая звезда, создавая иллюзию далёкого маячка, дарующего надежду. Теснились в голове мысли, одна мрачнее другой. И ни одного просвета между ними, словно жизнь уже закончилась и потеряла всякий смысл…
Вспомнилось вдруг, как после второй измены жены пытался повеситься. В ванной приладил к трубе бельевую верёвку. Завязал петлю. Просунул голову… И тут в дверь забарабанил сын – Ване тогда было пять:
– Папа, папа! Открой! – и заплакал навзрыд, как будто понял, что происходит.
Кравец мог бы подогнуть колени и повиснуть в удавке, но вдруг увидел ситуацию со стороны: плачущий ребёнок колотит в дверь, а за ней – здоровый мужик пытается свести счёты с жизнью из-за того, что запутался и не может найти выхода… «Что будет с мальчишкой, когда он увидит меня с выпавшим языком и вытаращенными зенками?» Картина показалась настолько дикой, что он тут же развязал узел, спрятал верёвку в стиральную машину и распахнул дверь.
…Утром он побывал в больнице. Нина Ивановна была ещё очень слаба. Пока он был у неё в палате, дважды заглядывала сестра, которой он вчера вручил деньги. «Отрабатывает аванс», – подумал Кравец.
Из больницы он отправился на почту. Выстояв длинную очередь, отослал в часть телеграмму, заверенную Живетьевым.
Не успел вернуться домой, как по батарее застучали. Тук-тук-тук. Пауза. Тук-тук-тук. Условный сигнал – вас к телефону. Это соседка сверху – Зоя Петровна. Та самая, что когда-то «сдала» его Тамаре. У неё – единственный на весь подъезд телефон, установленный ещё в советские времена. Мать Кравца безрезультатно простояла в льготной очереди семнадцать лет. А вот Зоя Петровна поставила телефон через полгода работы в буфете горкома партии. Правда, надо отдать ей должное, она никогда никому не отказывала: ночь за полночь, приходи, звони, если нужно. Вот даже условный сигнал придумала, как к телефону соседей звать…
Он поднялся к ней, спросил:
– Кто там, Петровна?
– Из части тебя, Саша… – доложила соседка. – Полковник какой-то, фамилию не расслышала…
– И чего хотят? Я ведь только что телеграмму о болезни матери отправил…
Звонил Смолин:
– Привет, комиссар… Как дела?
Кравец коротко объяснил ситуацию, спросил:
– Телеграмму получил?
– Нет ещё. Но если бы и получил, всё равно позвонил бы…
– Что случилось?
– Да на войну готовимся…
– Ты чего, Сергей Владимирович, открытым текстом шпаришь? Враг подслушивает! – по привычке понизил голос Кравец.
– Да какие теперь секреты? Бакатин, ёкарный бабай, все наши секреты вместе с шифровальными кодами американцам выдал… По телевизору да из газет нынче можно больше узнать, чем из документов с грифом… Не волнуйся, Саня: тот, кто не должен знать о наших приготовлениях, узнал о них в первую очередь… Как говорится, враг среди нас!
– А кто враг-то?
– Не поверишь, сам не знаю… Эшелоны оформляем на юг… До той узловой, куда третий мотострелковый отправили. Помнишь?
– Ага, – отозвался Кравец. Речь шла о Северной Осетии, где уже пару месяцев находился батальон их полка.
Кравцу не к месту вспомнилось, как в декабре 79-го на их аэродроме для дозаправки приземлились десять Ан-12, до отказа набитых десантниками, без знаков различия, но с полным снаряжением и боекомплектом. Прилёт этот был окутан какой-то тайной. В автозаправщики были посажены офицеры батальона обеспечения, на стоянках дежурили инженеры и политотдельцы. Пока специалисты осматривали и заправляли самолеты, Кравец вместе с другими политработниками разносил газеты и термосы с горячим чаем.
Первый вопрос, который задавали в каждом самолете, – выходить из них десантникам было категорически запрещено:
– Ребята, что в мире происходит?
Стало понятно: они не знают куда летят. Потом выяснилось – в Афган. «Всякая большая война начинается с тайны и неразберихи», – подвёл итог невесёлым воспоминаниям Кравец, но в трубку сказал ободряюще:
– Может, не так страшен чёрт, как его малюют? Может, это и не война?..
– Не думаю… Слишком много помощников из штаба округа понаехало… Подготовку к командировке контролируют. Но и окружники, ёкарный бабай, не знают, в какой бочке мы будем затычкой… Наше дело – телячье… Куда прикажут, туда и поедем… – продолжил Смолин излагать диспозицию. – Я вот что тебе звоню, Саня. Нужен ты здесь позарез! Знаю, что причина у тебя уважительная… Но если сможешь, приезжай поскорей!
– Приеду, командир, – пообещал Кравец.
Попрощавшись со Смолиным и поблагодарив Зою Петровну, он спустился к себе. Наскоро собрался. Задумался: идти к матери проститься или лучше написать ей письмо? Решил написать.
Закрыл квартиру. Зашёл к Анне Якимовне. Она встревожилась:
– К чему такая спешка?
– Так надо, Анна Якимовна. Вы же сами нас учили: прежде думай о Родине, а потом о себе…
– А что я Нине скажу?
– Ничего пока говорить не надо. Потом объясните, что срочно вызвали в часть.
– Куда же ты, на ночь глядя?
– До Челябинска как-нибудь доберусь, а там ночной поезд до Екатеринбурга… Вы уж присмотрите, пожалуйста, за мамой… Вот деньги на расходы… – он протянул несколько купюр и ключи от квартиры.
Анна Якимовна взяла ключи и деньги. Поцеловала Кравца в лоб, как мальчишку, и перекрестила:
– Храни тебя Бог!
У вокзала он поймал частника. Сговорились по сходной цене. И тут Кравцу неожиданно приспичило. Он попросил водителя:
– Подожди, земляк, я сейчас… – и зашёл в вокзал.
Когда вернулся, машины на месте не оказалось. Частник уехал, как тогда, в семьдесят пятом…
Глава третья
1
– Ну и сука этот водила! Мне сразу его рожа не понравилась! – флегматика Захарова было не узнать. – Он же деньги взял… И свалил! Чё делать будем, Саня? Опоздаем ведь…
– Чё делать, чё делать… – передразнил Кравец. – Снять штаны да бегать!
– Ага, штаны… Шалов их и так сдерёт, если к отправке не успеем…
– Как же он сдерёт, если не успеем?
– Да ну тебя, хохмач хренов!
– Не дрейфь, Юрка, сейчас тачку поймаем…
– А деньги? Чё, нас за твои красивые глаза повезут?
– Плохо ты мою маму знаешь. Она перед уходом мне червонец сунула. А за «чирик» нас с тобой не то что до Копейска, а до самого Челябинска доставят!
– Так чего мы стоим?
– Команды ждём… По направлению к вокзалу… бе-гом арш!
Они припустили во всю мочь. Вдох – два шага – выдох… Вдох – два шага – выдох… Маршрут знакомый. По нему Кравец ежедневно бегал, когда занимался в ДЮСШ – детско-юношеской спортивной школе. Мечтал стать знаменитым прыгуном в высоту. Таким же, как кумир, Валерий Брумель. Тренировки давались нелегко. Мальчишкой он был хилым и неуклюжим. Тренер и не выгнал-то его сразу, как потом признавался, из жалости. Да ещё из надежды на длинный голеностоп нового воспитанника – мечту всякого прыгуна. Но тренерские надежды сбылись нескоро. В первый год у Кравца ничего не получалось: ни отработка элементов «перекидного», ни силовые упражнения. Но трудней всего давались кроссы – тренировка выносливости и «дыхалки». Он всегда плёлся в хвосте, страдая от насмешек. Вот и определил для него тренер индивидуальную дистанцию: ДЮСШ – дом – вокзал и обратно.
– Ты, Кравец, постарайся, и у тебя всё получится! В спорте побеждает не самый способный, а самый упёртый.
Упорства Кравцу было не занимать, да и преодолевать себя ему оказалось легче, когда – один. На соревновании полгода спустя он, неожиданно для себя самого, выполнил нормативы третьего разряда. И пошло, поехало… Через два года стал второразрядником сразу по нескольким видам лёгкой атлетики, приблизился вплотную к заветным метру восьмидесяти сантиметрам – норме первого разряда по прыжкам в высоту…
Спортивные достижения пригодились при поступлении в военное училище и во время учёбы. Особенно в месячник «дикого мустанга». Так курсанты прозвали прошлый декабрь, когда утренняя пробежка по территории училища была заменена десятикилометровым лыжным кроссом. Лыжи даже не сдавали в каптерку, а привязывали под кроватями. Рявкнет Гейман своё: «Рот-тя, подъём!», даст три минуты для утреннего туалета, и – выходи строиться! Лыжи на плечо! Бег трусцой до ворот училища. А там – увальские пригорочки, сосенки да ёлочки… Если не хочешь замёрзнуть и опоздать к завтраку, вставай на лыжи и беги! Жгучий воздух перешибает дыхание. Лыжи армейские похожи на неструганые доски – тяжёлые, негнущиеся, с неудобными креплениями для сапог. Но ритм всё тот же, кроссовый: вдох – скольжение – отталкивание палками – выдох, вдох – скольжение – отталкивание – выдох… Через сорок пять минут надо оказаться на финише. Скорым маршем вернуться в казарму. Умыться холодной водой. И в том же сопревшем исподнем и пэша[4] выйти на плац для движения к столовой. До неё метров триста. Гейман, как нарочно, тянет с командой. Над строем клубится пар от сотни молодых, разгорячённых тел. На гражданке после такого слёг бы с температурой, а в училище – хоть бы что…
Однако месячник «дикого мустанга» всё же закончился плачевно. Во время заключительного марш-броска на пятьдесят километров с полной выкладкой при температуре ниже тридцати градусов многие курсанты сильно поморозились. А устроитель этой гонки – заместитель начальника училища по строевой подготовке полковник Терновой – отделался лёгким выговором.
О Терновом в КВАПУ ходили разные слухи. Дескать, у него «лапа» в ЦК, которая и делает ему карьеру. Самого полковника боялись. Из-за непредсказуемости характера. Бывает, остановит какого-то встречного курсанта на плацу и тренирует его в искусстве отдания чести старшему начальнику. До опупения. На виду у всего училища. Или заставит роту маршировать с песней. Всем известно его пристрастие к маршу «Прощание славянки». Только называет он его по-своему. Завидят идущие в строю Тернового и переглянутся: сейчас начнётся. И точно.
– Старшина! Разверните роту на исходный рубеж. И – ко мне с песней: «Прощайте, славяне!»
И тут уж не до смеха. Будет рота песню горланить, пока сам полковник не устанет. Но случается, вдруг Терновой проявит милость, как однажды с двумя старшекурсниками. Они пьяными возвращались из увольнения и упали в сугроб у самого КПП. Терновой в это время выезжал из ворот училища. Посмотрел на лежащих и резюмировал:
– Отнесите их в казарму, пусть проспятся!
– Почему, товарищ полковник? Они же нарушители! – удивился ехавший с ним офицер.
– Нарушители. Но упали головой к училищу. Значит, стремились вернуться на службу невзирая на свое состояние. Из таких вырастут настоящие офицеры…
Эта история потом передавалась из уст в уста, со временем превратилась в легенду. Но уважения к Терновому почему-то не добавила. Напротив, даже появилась поговорка, опровергающая геометрическую аксиому: «Всякая кривая короче прямой, на которой стоит полковник Терновой!»
Впрочем, если бы сейчас на пути Кравца и Захарова стоял грозный зам по строю, они, наверное, не свернули бы в сторону – так боялись опоздать к назначенному сроку.
У вокзала ни одного такси не оказалось. Зато тарахтел рейсовый автобус до Тимофеевки. Они вбежали в салон, и автобус тронулся.
За окном потянулись городские улицы. Кирпичные пятиэтажки. Потом деревянные домики. Заснеженный городской пруд. Снова улочки и бетонные заборы продовольственных баз. На одной из них Кравец работал после девятого класса грузчиком. Зарабатывал себе на выпускной костюм. Работа была тяжёлой, но вкусной. Он разгружал ящики с яблоками. Наелся от пуза да ещё и заработал. Денег хватило не только на костюм, но и на подарок маме. Она и сейчас носит платок, который купил ей с первой получки. И ещё воспоминание, связанное с Тимофеевкой. После одного из затянувшихся допоздна заседаний школьного комитета комсомола, куда Кравца выбрали в старших классах, ему поручили проводить девочку-восьмиклассницу, живущую на окраине.
– Ты, Кравец, у нас спортсмен, – сказал комсомольский секретарь, – тебе и провожать.
Девочка была так себе – серенькая мышка. Никаких эмоций, в смысле влюбленности, она у Кравца не вызывала. Но поручение есть поручение. Он довёл девочку до дома на краю Тимофеевки – «Шанхая», имеющего дурную славу, как и все окраины с подобным названием. Пожал спутнице руку, как положено комсомольскому товарищу, и, подождав, пока за ней захлопнется калитка, двинулся в обратном направлении, стараясь проскользнуть незамеченным и боясь, что это не удастся…
Давно замечено, что дурные предчувствия сбываются гораздо чаще, чем добрые. Дорогу ему преградили несколько человек. Подростки из местного ПТУ. О жестокости «шанхайских» по городу ходили страшные слухи. В свете фонаря Кравец различил у встречных колья и цепи. «Убьют!» – эта шальная мысль придала ему решимости. Не дожидаясь атаки, он бросился в сторону. Одним рывком перемахнул высокий забор. Сзади раздался запоздалый свист и топот. «Ну, теперь догоните спортсмена-разрядника!» Раздирая одежду о кусты, он продрался через чей-то огород. Перепрыгнул через другой заборчик – пониже и дунул по чёрной степи в сторону города, мерцающего огнями…
Тогда, с перепугу, расстояние от Тимофеевки до дома показалось ему незначительным. Нынче автобус полз как черепаха. Кравец то и дело поглядывал на часы. «Командирские». Он месяц назад купил их на сэкономленные от походов в буфет рубли. Такие – почти у всех офицеров училища. Стрелки часов покрыты фосфором и светятся в темноте. Кажется, что сейчас они бегут быстрее обычного. «Опоздаем… Как пить дать опоздаем… И никакой “командирской” карьеры нам с Юркой не видать – Шалов тут же заложит…»
Захаров тоже менжевался.
– Скоро уже? – то и дело спрашивал он.
– Да не зуди ты! И так тошно…
На конечной остановке было пустынно. Ни людей, ни машин. Как назло, пошёл снег. Крупный и влажный. В двух шагах ничего не видать.
– Айда на тракт!
Они выбежали на шоссе. И тут им пофартило. На обочине стоял «жигулёнок» – «копейка». Передними колесами машина увязла в сугробе. Около неё топтался пожилой дядька в драповом пальто и ушанке.
– Ребята, выручите, застрял…
– Это мы мигом! А вы нас подбросите? Не за так, за деньги…
– Отчего же не подбросить… Ну, взяли!
Вытолкали автомобиль на дорогу. Забрались в салон. Поехали.
– Куда вам, служивые?
– В Копейск… Если можно, побыстрее…
– Побыстрее – опять в кювете окажемся. Я быстро ездить пока побаиваюсь. Только-только на права сдал… И машину недавно купил. Пятнадцать лет стоял в очереди на шахте… Жалко бить-то, своя…
– Ну, пожалуйста, мы опаздываем…
– В гости к Богу не бывает опозданий…
– Так то ж к Богу… А нам – к сержанту! – кисло улыбнулся Кравец. – Он у нас стро-огий…
– Не рассказывай. Сам служил. На Камчатке, в ПВО. А вы, я вижу, «летуны»… Из штурманского училища, что ли?
– Да нет. Не из штурманского, а… – начал Захаров, но под взглядом друга умолк: с посторонними о службе их учили не заговаривать.
– Мы в командировке, – за него закончил Кравец.
– Понимаю…
В Копейске, неподалеку от железнодорожного тупика, водитель затормозил:
– Тут сами доберётесь.
– Спасибо вам… Вот деньги…
– Рваные ваши я не возьму… Что я, гад какой, со служивых тянуть?.. Вам они в командировке ещё сгодятся… Ну, бывайте, ребята! – он нажал на газ.
– Вот это настоящий мужик, понимающий…
– Ага. Не то, что подлый таксист… – на бегу обменялись они мнениями.
Теплушки отыскали без труда. Девять новеньких «телячьих» вагонов стояли на стрелке. К ним медленно пятился маневровый паровоз. В центре состава взад-вперёд нервно прохаживался Шалов.
Заметив подчинённых, он глянул на часы. Кравец посмотрел на свои. Двадцать ноль-ноль.
– Товарищ сержант… – стал рапортовать он, но комод оборвал:
– Водки привёз?
2
«Питие определяет сознание», – так творчески переработал классиков марксизма народ. Именно – питие, а не бытие. В справедливость этого утверждения Кравец поверил, когда они забрались в теплушку, предназначенную для караула.
Половина вагона была перегорожена листами фанеры с косо висящей на ременных петлях дверцей. Вторая половина была заставлена продолговатыми ящиками.
– Это часть груза. Особо важная, – осветив фонариком сургучные печати на ящиках, пояснил Шалов. – Ну, что встали, как идолы. Заходите в караулку, май дарлинг, и помогите Масленникову растопить печь. У него ничего не получается… Да поторапливайтесь, сейчас тронемся!
– Есть поторапливаться! – в голос отозвались Кравец и Захаров. От радости, что прибыли вовремя, и Шалов показался не таким противным, как всегда.
В караулке царил полумрак. Керосиновый фонарь, висевший справа от входа, освещал только часть пространства: печку-буржуйку в центре, большой фанерный ящик у стены, заменяющий стол, и два ящика поменьше вместо табуретов. За ними едва просматривались деревянные нары. Дальняя стена скрывалась во мраке.
У буржуйки на корточках сидел Мэсел в телогрейке. Приставив штык-нож к большому сучковатому полену, он изо всех сил колотил по нему другим поленом, поменьше. Штык-нож соскальзывал. Мэсел матерился.
– Привет, Железный дровосек! Ты так штык-нож угробишь!
– Ты бы, Кравец, не подкалывал, а помог, – оскалился Мэсел. – Печку растапливать – это тебе не к мамочке ездить!
– Договорились же, в карауле называть друг друга по именам… Чего ты сразу в бутылку лезешь? – выступил в роли миротворца Захаров.
– Ты попробуй эту железяку раскочегарить, тогда посмотрим, полезешь в бутылку или нет… Кстати, о бутылке… Привезли?
– А то как же!
– Вот это здорово! А вот это… – Мэсел ткнул пальцем в потолок, – не очень…
Потолок вагона был покрыт толстым слоем льда. У стен лёд образовывал могучие наросты, похожие на сталактиты. Кравец видел такие во время школьной поездки в Кунгурскую пещеру. Там его поразил грот под названием «Бриллиантовый». Подсвеченные прожекторами стены пещеры переливались разноцветными красками, создавали ощущение, что находишься в сказке. Сосульки в теплушке восхищения не вызвали – напротив, озноб прошёл по телу.
– Печка, видать, только что с завода – ни разу не топленная, – пожаловался Мэсел. – Я и бумагу совал, и бересту пробовал поджечь… Не горит, паскуда!
– Не ругайся, дай, я попробую… Дома титан всегда растапливал… А ты, Лёнь, надевай полушубок, погрейся! – Кравец скинул шинель на нары и присел к печке. Мэсел впервые за время их знакомства не стал спорить, протянул ему штык-нож и тут же натянул полушубок прямо поверх телогрейки.
Кравец выгреб из буржуйки поленья. Штык-ножом ловко отщепил несколько лучин. В топке сложил их шалашиком. Сунул обрывок газеты и чиркнул спичкой. Огонёк едва занялся и тут же погас.
– Что я говорил? Не горит! – злорадно заметил Мэсел.
– Может быть, тяги нет… – предположил Захаров.
Он постучал по трубе. Сначала внизу, потом повыше. Звук был глухой.
– Да там же лёд! Нам никогда не растопить это уё…
В караулку вошёл Шалов:
– Хау найс то миит ю хиэ?
– Чего-чего? – переспросил Захаров.
– Как вы себя чувствуете здесь, бестолочи? Знать надо язык потенциального противника…
– Куда нам до вас… – пробурчал Кравец.
Мэсел скорчил слезливую мину:
– Замерзаем, товарищ сержант…
Шалов оглядел потолок и стены, зябко передёрнул плечами, сдвинул ушанку на лоб, поскрёб затылок мизинцем с длинным ухоженным ногтем:
– Откупоривай водку, Кравец!
Кравец раскрыл «тормозок». Кроме бутылки с зелёной наклейкой «Московская» в нём оказались пирожки, заботливо упакованные мамой. Они были еще тёплыми.
Сержант первым сделал два больших глотка и передал бутылку Мэселу. Тот Захарову. Дошла очередь и до Кравца. Ледяная водка обожгла горло, но вниз по пищеводу прокатилась горячей волной. Водку Кравец пил второй раз в жизни. Впервые это случилось три года назад. Сосед – Ильдар Гиндуллин, только что отслуживший в погранвойсках, – пригласил его и ещё двоих пацанов помочь копать картошку. Когда закончили работу, Ильдар, как и положено хозяину, предложил перекусить. Здесь же, у кромки картофельного поля, расстелили клеёнку. На неё разложили лепёшки, кильку в томатном соусе, помидоры и зелёный лук. Последней Гиндуллин извлёк из сумки бутылку.
– С устатку положено, – он налил в гранёные стаканы. – Давайте дёрнем, мужики!
От этого «давайте дёрнем» и взрослого обращения «мужики» Кравец мигом забыл мамины наставления «не пить спиртного» и опрокинул содержимое стакана в себя. Что было потом, он помнил плохо. Вроде бы они с ребятами, как сумасшедшие, носились по полю, пинали и подбрасывали вверх картофельную ботву. Потом полезли на террикон угольной шахты, находившийся неподалёку. В памяти осталось ощущение какой-то неиспытанной доселе свободы и равного ей чувства стыда за себя и своих друзей. Когда хмель немного выветрился, они вернулись домой. Кравец поскорее, чтобы мама не заметила его состояния, улёгся в кровать и сразу же заснул. Наутро у него болела голова и было сухо во рту.
– Ты что-то неважно выглядишь, сынок? – забеспокоилась мама.
– Устал с непривычки… – отговорился он.
Теперь, проглотив порцию «Московской», Кравец запоздало удивился, как это мама не задала вопрос: «Зачем тебе водка, сынок?» Так же запоздало пришло чувство стыда: ворвался в родительский дом, как ветер. Поел. Взял деньги, водку, всегда хранимую мамой для гостей, и… поминай как звали. Забыл даже спросить маму, как она себя чувствует…
Голос Шалова вернул его в теплушку.
– А теперь проведём «мозговой штурм», как учили нас на психологии. Исходный момент: без печки, как только начнём движение, сами превратимся в сосульки. Вывод: «буржуйку» надо растопить! Ну, комридс[5], как будем раскочегаривать это наследие Гражданской войны?
– Думаю, надо сбить лёд на трубе… – выдвинул идею Захаров. – Тогда и тяга появится.
– Каким образом?
– Залезем на крышу и чем-нибудь постучим… – за друга пояснил Кравец и тут же пожалел об этом.
– Ты принцип помнишь: инициатива должна быть наказуема? Другими словами, тебе, Кравец, и лезть… Что ещё?
Захаров и Мэсел, наученные примером Кравца, молчали.
– Эх, вы, мыслители… – недовольно сказал сержант. – Надо найти какой-нибудь горючий материал, чтобы прокалить эту чёртову печь! Масленников, за мной, а ты, Захаров, остаёшься в теплушке. Отвечаешь за вооружение и груз. Бди!
Шалов и Мэсел ушли на поиски, а Кравец, проклиная сержанта и свою несдержанность, полез на крышу. Железные скобы, служившие ступенями, обледенели так же, как сам вагон. Рискуя сорваться, он добрался-таки до трубы. Рукояткой штык-ножа сбил с её макушки ледяной нарост. Крикнул вниз:
– Юрка, как там?
– Полную топку льда нападало… – глухо отозвался Захаров.
– Ладно, тогда я спускаюсь…
Вернулся в караулку. Следом пришли сержант и Мэсел. Принесли какие-то грязные тряпки. В теплушке запахло мазутом.
– Что это?
– Буксы… – пояснил Шалов. – Мы увидели, как обходчик заглядывал в железные ящики, приделанные к колёсам. Там и нашли их.
– А почему буксы?
– Читать надо больше! – глубокомысленно изрёк Мэсел. – В книге про Заслонова, который у немцев эшелоны подрывал, партизаны вместо буксов песок в эти ящики засыпали, и поезда шли под откос…
– А если нельзя эти…ну, буксы из ящиков вынимать? Для чего-то они нужны?
– Если бы да кабы, в лесу выросли грибы! Цель оправдывает средства… Зажигай!
Пламя ярко полыхнуло, озарив лица склонившихся к топке. В трубе загудело, затрещало, и в считанные секунды она стала менять свой цвет – из чёрного в сиреневый, потом в тёмно-красный. Вскоре печка раскалилась добела, распространяя кругом запах горелого масла и тепло. С потолка началась настоящая капель. В разгоревшуюся печь подбросили уголь.
– Теперь не погаснет!
– А я что говорил! Раскочегарили! А то – буксы не надо брать! – восторгался собственной находчивостью Шалов.
– Ох ты, голубушка наша, – пьяно осклабился Мэсел и обхватил буржуйку, как любимую подругу.
– Стой, сгоришь! – закричали ему, но было поздно. Полушубок Мэсела задымил. К прежним запахам, царившим в теплушке, добавился запах горелой кожи.
Мэсела оттащили в сторону. Последствия его выходки были печальными – на новом полушубке образовались длинные чёрные подпалины.
– Привет прапорщику Нечитайло… – мрачно пошутил Кравец.
В это время состав дёрнулся и медленно пошёл вперед.
3
Тадам-дадам, тадам-дадам, тадам-дадам… Гремят на стыках колёса. Взвихривается снег. Свистит ветер. В распахнутой двери теплушки меняются, как на экране, пейзажи, сливаясь в один, ночной, где только белизна заснеженных полей, берёзы, зябкие огни полустанков да бессонные зеленоглазые семафоры.
– Кравец, закрой ворота! – голосом дистрофика из больничного анекдота оборвал идиллию Мэсел, высунувшись из караулки.
– Что? С горшка сдувает? – в тон ему спросил Кравец.
– Это у тебя один горшок на уме…
Насчет «горшка» Мэсел прав. С этой насущной проблемой караул столкнулся уже через несколько часов пути. Приспособления, именуемого «ночной вазой», «нужником» и т. д., в теплушке никто не предусмотрел. Даже ржавого ведра не оказалось. Прикинули – ну, малую нужду можно и в открытую дверь справить. А как быть с нуждой большой?
Начали экспериментировать.
– Штаны сни-май! – приказал Шалов.
– Ага, снимай! На дворе-то не месяц май! – блеснул остроумием Кравец и сразу попался.
– Курсант Кравец! По разделениям: делай раз, делай два!
– Да, что это такое, товарищ сержант? Опять я – крайний…
– Ты же сам говорил, что тебе надо…
– Ну, говорил…
– Тогда скидывай бриджи!
Кравец медленно расстегнул поясной ремень, пуговицы брюк, спустил их вместе с фланелевыми кальсонами. Крепко ухватился за руки Захарова и Мэсела, упёршихся ногами в дверной косяк, и выставил заднюю часть наружу.
Ветер хлестнул по ягодицам снежной крупкой, будто наждаком прошёлся. Кравец поднатужился. Безрезультатно. От непривычной и неловкой ситуации, под насмешливыми взглядами однокурсников, всю охоту как рукой сняло.
– Что, Данила-мастер, не выходит у тебя Каменный цветок? – изображая Хозяйку Медной горы, поинтересовался Мэсел.
– Не вы-хо-дит…
– Втягивай его обратно, а то он себе всё хозяйство отморозит! – распорядился Шалов. – Нэкст!
У следующего тоже ничего не вышло. Но выход был найден. Вчетвером (тут и Шалов подключился) отодвинули в сторону несколько ящиков с грузом и освободили узкий проход в дальний конец нежилой части теплушки. Пол застелили обрывками газет, и – импровизированный сортир готов. Но чтобы теплушка не превратилась в настоящий телятник, договорились, что каждый за собой будет убирать. Сделать это проще, когда «добро» застынет. Завернуть в те же газеты и сбросить удобрения на полосу отчуждения. Так, кажется, железнодорожники называют зону у откоса.
«Наверное, Мэсел вообразил, что я уединился для этого… – промелькнуло у Кравца, – Как объяснить этому олуху, что можно просто в одиночестве любоваться природой?»
– Выхожу один я на дорогу, под луной кремнистый путь блестит… – с выражением продекламировал он.
Мэсел скорчил постную рожу:
– Будешь умничать, без ужина останешься!
«Нет уж! Война войной, красоты красотами, а ужин по распорядку», – Кравец потянул на себя дверь теплушки. Тяжёлая и неподатливая на вид, она легко скользнула по обледеневшим пазам и захлопнулась.
Следом за Мэселом Кравец нырнул в караулку.
Она за время пути преобразилась, приобрела жилой вид – люди военные быстро обживаются на новом месте! Слева от входа, на гвоздях, погон к погону, шеврон к шеврону, как в казарме, висят шинели. Рядом – полушубки. Они теперь нужны только на остановках, и то не все сразу, а только два – для очередного часового и начальника караула.
В самой теплушке – рай земной, тепло и сухо – и всё благодаря «буржуйке», поначалу заслужившей столько нареканий. Прокалившись, она трещит ровно и весело, дымком, бликами создавая то самое ощущение жилья, которое дорого любому человеку со времени, когда далекий пращур придумал первый очаг.
На ровной поверхности «буржуйки» теснятся открытые консервные банки. В них – каша с тушёнкой. Шкворчит растопленный жир. Рядом в котелке закипает вода для чая. На фанерном ящике-столе – буханка хлеба. Ещё недавно она была такой застывшей, что штык-нож не брал. Побывав на плите, оттаяла и даже чуть-чуть подгорела, теперь источает ржаной сладковатый дух, от которого у Кравца заурчало в животе.
Кашеварить и топить печь они условились по очереди. В ней, само собой разумеется, не нашлось места только Шалову, хотя в уставе об этом ничего не сказано. По словам сержанта, выходило, что не положено начальнику караула заниматься «чёрной работой», это, мол, обязанность караульных свободной смены, то есть тех, кто сейчас не на посту.
Постовую ведомость Шалов составил по алфавиту. Первый – Захаров, за ним – Кравец и, наконец, Мэсел. Времени на смену каждому отвёл по четыре часа, а не по два, как в обычном карауле. Юркина смена пришлась на обустройство. В следующие четыре часа на всех остановках Кравец напяливал полушубок, срывал со стены автомат и выпрыгивал на насыпь. Задача часового – патрулировать вдоль вагонов, вверенных под охрану, наблюдать, чтобы к ним не приближались посторонние, и самое главное: не прозевать отправление и успеть забраться обратно в теплушку. Тепловоз трогался с места рывком и быстро набирал ход. По звёздам Кравец определил, что состав шёл на север. Почему именно на север – было неизвестно.
Странным образом курсируют воинские эшелоны. Если конечная точка пути, как записано в караульной ведомости, станция Капустин Яр (а это где-то за Волгоградом), то самая короткая дорога туда от Челябинска пролегает через Уфу и Куйбышев. Состав же почему-то идёт в другую сторону. Совсем как в дурацком анекдоте про лошадиную голову. Сидит на берегу рыбак, смотрит на поплавок. Вдруг выныривает лошадиная голова, спрашивает: «Далеко ли до города Парижу?» – «По течению – пять вёрст, против течения – пятнадцать». – «А мне всё равно. Я не доплыву!»
Короче, передвижение воинских грузов – тайна великая есть. Правда, по поводу крюка, который они сейчас совершают, у Кравца возникли некоторые предположения, которыми он за ужином поделился с товарищами. Мол, всё это для того, чтобы американцы со спутников не зафиксировали, куда движется секретный груз.
– Да, какие спутники? В ЦРУ все наши тайны и так знают! Это нас самих с панталыку сбивают! – со знанием дела заметил Мэсел и пододвинул Кравцу банку с кашей. – Ешь лучше, спутник американский!
4
Часовому на посту запрещено многое: пить, есть, курить, спать, читать, разговаривать с кем бы то ни было, кроме прямых начальников, оправлять естественные надобности…
Но никто не может запретить часовому думать.
Сколько всего передумал Кравец на посту номер один, у Боевого Знамени училища. Весь пост – три квадратных метра на площадке между первым и вторым этажами в штабе. Бархатные витые шнуры, подвешенные на бронзовых столбиках – это граница поста. А в самом его центре – училищная святыня, на постаменте, под стеклянным колпаком и сургучной печатью. Круглые сутки пост освещается лампами дневного света. Поэтому часовой у Знамени, скосив глаза, может видеть своё отражение в стекле, на алом фоне. Особенно нравилось Кравцу, чуть подвигав рукавом, наблюдать, как одна курсовка на нём превращается в две, а если колебания усилить, то и в три полоски. Для непосвящённых, курсовка – всего лишь нашивка на мундире, а для курсанта – свидетельство его статуса. Представишь, что ты уже на третьем курсе, и сердце замирает от восторга. Ведь старшекурсник – это не только человек, обладающий большей свободой, но и любимец студенток местных институтов. Для них каждый курсант с тремя курсовками – потенциальный жених. С первокурсником дружить – занятие неблагодарное: сколько ещё воды утечёт до его выпуска, тут и любовь пройти может. Да и с выпускником знакомиться – перспектива ненадёжная: он уже, как правило, имеет подругу или успел приобрести горький опыт дружбы с местными девчатами.
Но если говорить откровенно, на первом посту Кравцу чаще думалось не о девушках, а о подвигах. Всё к этому располагало. И Знамя, доверенное ему под охрану. И инструктаж, где приводились примеры спасения Знамён часовыми и отрабатывались приёмы практических действий в случае экстремальных ситуаций. Часовой обязан сделать всё для спасения святыни, даже если его жизни угрожает смертельная опасность. Ведь в случае утраты Знамени училище будет расформировано. Сколько раз Кравец представлял себя в подобной, требующей самопожертвования, ситуации…
Вот открывается дверь штаба, и на пороге возникают преступники, стреляющие через стекло в дежурного по училищу, сидящего справа от входа. Потом они целятся в него, в Кравца, но он успевает залечь и открыть ответный огонь. Один из бандитов падает. Второй продолжает стрелять. Стреляет и Кравец, успев нажать тревожную кнопку, извещающую товарищей в караульном помещении. Потом и у него, и у бандита кончаются патроны. Преступник выхватывает нож, бросается на него, и завязывается рукопашная схватка… Здоровенный бандит умудряется повалить Кравца, заносит над ним острый клинок. Кравец из последних сил сопротивляется, и тут появляется тревожная группа. Преступник связан. Раненый или убитый дежурный по училищу отправляется, соответственно, в госпиталь или в морг, а Кравца все называют героем…
Никаких подвигов на посту номер один ему совершить так и не удалось. Преступники так и не ворвались в штаб, и не случилось ни наводнения, ни пожара, ни других стихийных бедствий, во время которых часовой имеет право вскрыть шкаф со Знаменем, прижать алое полотнище к груди и вынести его в безопасное место. Но желание совершить подвиг осталось. И в выездном карауле заявило о себе с новой силой.
Ищите и обрящете. Проще сказать: хочешь подвигов – получай! Только в жизни они вовсе не такие, как в мечтах. И первый случай убедиться в этом судьба подбросила Кравцу уже через сутки.
После продолжительного перегона эшелон остановился на узловой станции. Стояли долго, на дальнем пути, между двумя составами: один с лесом, другой с нефтью. Уже стемнело, когда Шалов пошёл, как он выразился, «ин интелидзенс сервис», то есть на разведку. Через полчаса он вернулся к теплушке в необычно приподнятом настроении. Дружески похлопал по плечу Захарова, стоящего на часах, и бросил остальным, высунувшимся из вагона:
– Кравец и Масленников, фолоу ми! За мной!
– Куда, товарищ сержант?
– Шагайте, сейчас узнаете… Итс гуд фо ю!
– А по-русски это как?
– Вам это полезно… – перевёл Шалов. Он на самом деле был в хорошем настроении. Даже нотацию не прочитал, что необходимо учить язык потенциального противника. И более того, по дороге к голове состава проговорился: – Мы идём в гости…
– К кому?
– Мы на станции Юдино, под Казанью. Тут к нам прицепили ещё один выездной караул. Курсачи из Пермского ВАТУ[6]. Я уже познакомился. Ребята классные…
В теплушке у «классных ребят» было накурено, хоть топор вешай. Трое пермяков сидели за таким же, как у них, фанерным столом. На нём громоздились бутылки с наклейкой «Агдам» и открытые банки с тушёнкой. Нары, расположенные так же, как в их теплушке, были отгорожены пёстрой тряпкой, этаким подобием занавески. За ней слышалась какая-то возня.
– Присаживайтесь, гости дорогие, – по-волжски «окая», пригласил один из пермяков.
Все они были в телогрейках, не различишь, в каком говорящий звании, но по интонации Кравец догадался: это – старший. Очевидно, начкар. Шалов обратился к нему по имени:
– Спасибо, Витёк! Мы ненадолго. А то дадут зелёный свет, не успеем до своего телятника добежать…
– Успеете, машинист всегда гудит перед отправлением, – успокоил Витёк, освобождая Шалову ящик, на котором сидел. – Давайте по маленькой, за знакомство!
Подчинённый Витька разлил в кружки тёмную, похожую на чернила, жидкость. Пододвинул гостям. Мэсел и Кравец взяли кружки, выжидательно глядя на Шалова. Сержант выпил первым и разрешил:
– Дриньк ап! До дна!
Они выпили. Выпили и пермяки. Витёк, с минуту помолчав, сказал:
– Может, кто бабу хочет?
Тут растерялся даже бывалый Шалов:
– Какую бабу?
– Обыкновенную. Бл..!
– Откуда она?
– Да сама напросилась. Говорит, возьмите меня, курсантики, с собой, кормите и поите, а я вас ублажать буду…
– Ну, вы даёте! А где она?
– За шторкой, Вадька с ней щас занимается… Вадька, ты живой?
В ответ ему раздались женское хихиканье и недовольный голос Вадьки:
– Да заманала меня, сучка пьяная!
– Ну, курганцы, будете? Баба ненасытная! – криво ухмыльнувшись, предложил Витёк.
В этот момент Вадька отдёрнул занавеску и слез с нар, застегивая штаны. Из-под солдатского одеяла на Кравца глянуло существо с всклокоченными волосами, с заплывшим, давно немытым лицом. Приглядеться, так – копия той бродяжки с курганского вокзала. «Как такую страхолюдину обнять, не говоря чтобы… Да и как без любви можно делать это?» – передёрнул плечами Кравец. А она, словно назло, сказала сиплым голосом, тыча грязным пальцем в него:
– Мне во-он тот понравился, со смазливой мо-ордашкой, – и вдруг запела, жутко перевирая мелодию. – Высо-акий да стру-ункий, высо-акий да стру-ункий, щей на бара-а-де ямка! Ха-ха-ха!
– Давай, Кравец, дерзай! Красотка тебя выбрала… – поддразнил Шалов.
– Нет, я не буду, – потупился Кравец, чувствуя, что кровь приливает к щекам. В свои восемнадцать он ещё ни разу не был близок с женщиной. Целовался-то всего однажды, и то не по-настоящему. С двоюродной сестрой Людкой, которую попросил показать, как вообще целуются парни с девушками. А это на пальцах не объяснишь. Вот Людка и поцеловала его в губы. Но ведь она – сестра, и всё происходило, как бы понарошку. Конечно, уже пора бы Кравцу узнать, что такое – женщина. Но не при таких же обстоятельствах и не с такой…
– Слабак! – откомментировал его отказ Мэсел. – Смотри, как надо!
Он скинул телогрейку, приспустил штаны и полез на нары. Взгромоздившись на бабу, начал телодвижения. Даже занавеску не задёрнул. От такого зрелища Кравцу стало дурно.
– Можно, я пойду? – попросил он Шалова.
– Можно козу на возу… – гоготнул тот, но смилостивился: – Ладно, иди, благородный ты наш, мы тебя догоним…
– Куда ты, красавчик? – раздалось ему вослед. – Ишь, прикикерился, го-ордый какой…
Кравец бегом вернулся в родную теплушку и, отдышавшись, рассказал Захарову о происшедшем.
– Может, зря ты, Саня, таким случаем потерять невинность не воспользовался? Когда ещё представится…
– Скажешь тоже! Я что, такая скотина, как Мэсел? – возмутился Кравец. – Ты бы её видел…
– Да я чё, я так. Только теперь Мэсел с Шаловым тебя всю дорогу подкалывать будут…
– Пусть попробуют…
Мэсел вернулся в теплушку через полчаса. Принёс с собой две бутылки «Агдама».
– Пермяки угостили, гуляем, братва! – шевеля усами, как мартовский кот, сказал он.
– Где комода потерял? – спросил Захаров, разглядывая подношение.
– Где-где? В борозде! – осклабился Мэсел. – Сейчас сержант сделает своё дело и заявится собственной персоной.
– Это то самое, что ты только что делал? – презрительно поинтересовался Кравец.
– На твоём месте, чистоплюй, я бы помалкивал…
– Лучше сам помолчи, да молись, чтобы не закапало! – Кравец выразительно показал взглядом, где именно.
– Да пошёл ты!
Драки было бы не избежать, но тут прогудел тепловоз, почти одновременно с гудком трогаясь с места.
– Ребята, там же Шалов! – Захаров рванулся к выходу. За ним остальные. Они высунулись из теплушки, глядя в ту сторону, где должен был находиться начкар.
– Смотри, вот он! – первым разглядел сержанта Кравец.
– Товарищ сержант, мы тут, тут! – заорали они.
Шалов тоже заметил их и побежал по насыпи, параллельно обгоняющему его составу. Когда теплушка поравнялась с ним, он протянул Захарову, стоящему ближе всех к выходу, два «огнетушителя» – полуторалитровые бутылки с вином. Захаров схватил их и попятился назад, уступая место у дверей Кравцу. Всё это заняло доли секунды. Но их хватило, чтобы сержант отстал.
– Товарищ сержант, руку давайте, руку! – крикнул Кравец, не слыша собственного голоса. Не оборачиваясь, бросил Мэселу: – Лёнька, подстрахуй!
Мэсел ухватил Кравца за ремень. Кравец, высунувшись из дверей по пояс, потянулся к Шалову. Он сделал рывок и вцепился в руку Кравца.
Кравец начал подтягивать сержанта в теплушку, и в этот миг у того подогнулись колени, ноги поволоклись по насыпи. А состав уже набрал полный ход.
– Отпусти его! Впереди стрелка! – истошно закричал Мэсел. – Убьётесь оба!
– Товарищ сер… – выдохнул Кравец и разжал ладонь.
5
Первые несколько минут после случившегося в теплушке царило молчание. Кравец, которого Захаров и Мэсел оттащили от дверей, тряс рукой – свело мышцы от напряжения. Потом он выглянул наружу. Где-то уже далеко позади мигали огоньки злополучного Юдино, а вокруг была непроглядная тьма. Кравец представил себе, как Шалов, матерясь по-английски, выбирается сейчас из сугроба и грозит вслед ушедшему составу кулаком, и неожиданно расхохотался.
Смеялся он так заразительно, что захохотали и остальные: Юрка басовито, Мэсел высоко, повизгивая. Приступ коллективной истерики длился довольно долго, пока Кравец, опомнившийся, не задал вопрос, который буквально висел в воздухе:
– Что будем делать, пацаны?
– Может, бабахнем из автомата… Подадим сигнал машинисту… – запоздало вспомнил инструкцию Захаров.
– Ну и что? Остановится он посреди поля, а как сержант нас догонит? – резонно заметил Мэсел. – Представляете, наш начкар сейчас бежит по шпалам на дальнюю дистанцию. Или на дрезине, на ручной, катит. Уан-ту-фри, уан-ту-фри!
Картинка была такой живописной, что Кравец и Захаров прыснули снова.
– Ну, ладно, посмеялись, и хватит! Что дальше-то? – повторил вопрос Кравец.
– Груз охранять бум… – заявил Захаров.
– Это точно, – согласился Мэсел. – Бум!
– А как же сержант?
– Шалов не пропадёт… Пистолет же при нём…
– Вот именно, куда он на станции, в одной телогрейке да ещё с пистолетом?
– К начальнику. Попросит задержать эшелон где-нибудь поблизости и догонит… на дрезине.
Теперь шутка Мэсела улыбки не вызвала.
– Станет тебе железнодорожное начальство из-за одного опоздавшего сержанта график движения сбивать, – проворчал Захаров. – А Шалова жалко. Шалов, он ведь тоже человек, хоть и сволочь изрядная…
– Да что ты заладил: Шалов, Шалов… Никуда он не денется! Давайте выполнять всё, что положено, и без него не пропадём! Сержант, вот увидите, скоро нас догонит. А при его способностях втираться к начальству в доверие ещё и перегонит! Скажите лучше, куда это девать? – Кравец кивнул на бутылки с вином.
– Как это «куда»? По назначению! – Мэсел щёлкнул пальцами по горлу. – Надо же обмыть то, что случилось! Не каждый день начкары теряются!
– И то верно!
Они расположились в караулке и открыли две бутылки.
– За нашу свободу! – провозгласил Кравец. Это походило на тост артиста Кадочникова из кинофильма «Подвиг разведчика» и звучало так же двусмысленно. Но никто оспаривать тост не стал.
Когда выпили и налили снова, слово неожиданно взял Мэсел:
– Я хочу выпить за вас, Саня и Юрка! Вы ребята что надо! – сказал он и в три больших глотка осушил свою кружку.
Кравец и Захаров недоверчиво переглянулись: чего это Мэсел подлизывается? Но выпили. Отчего ж за себя не выпить?
После того как подошла к концу вторая бутылка, Мэсел затянул популярную среди курсантов песенку:
Как-то раз на поле брани случай был такой: На посту в дивизионе пёрнул часовой. И от выстрела такого прилетел стрелой Командир дивизиона с кухни полевой. – Ах ты, мерзкая скотина, жалкий идиот! Как ты смел пускать из зада сероводород?Откуда появилась эта дурацкая песенка в училище, никто не знал. Судя по тексту, она была написана ещё до Октябрьской революции, да и по смыслу никак не подходила для будущих политработников. Но в том-то и состоял особый шик, чтобы, сидя в Ленинской комнате, исполнять под гитару эту и подобные ей песни, скажем, про господ юнкеров, переделанные на свой лад Кравцом. Или «белогвардейскую»: «Как ныне сбирается вещий Олег отмстить неразумным хазарам…»
И если в училище такие песни – не что иное, как попытка проявить внутреннюю свободу, то теперь, когда последний «символ командирской власти» остался в Юдино, не поддержать Мэсела было просто нельзя. Кравец и Захаров тут же присоединили к песне свои нетрезвые голоса:
Посудили, порядили – его расстрелять, Но тут прапорщик гвардейский стал протестовать: – Разве писано в уставе, что нельзя вонять?Финальный куплет они спели втроём, приплясывая вокруг буржуйки, как дикари вокруг жертвенного костра:
И теперь в дивизионе слышно за версту, Как воняют часовые, стоя на посту!– О-хо-хо! Ха-ха-ха! Очень актуальная песня! Шалов-то наш, наверно, обосрался со страху! – они снова покатились со смеху.
– Открывай следующую!
– Наливай!
Выпили. Закусили.
– Ребята, а не переберём? – неожиданно встревожился Захаров.
– С чего бы это?
– Много уже выпили. Помните, наш комбат говорил, что пить водку на жаре полными стакана́ми – позор!
– Так тож на жаре. При чём тут комбат?
– История одна на ум пришла. Мне брат рассказывал.
Брат Юрки – Александр Захаров – год назад выпустился из КВАПУ и служил сейчас в Кушке. Кравец был с ним знаком, поэтому сразу откликнулся:
– Расскажи.
– История занятная, – начал Захаров. – Может, помните, был у брата однокурсник Сергей Скворцов…
– Как не помнить! Гордость училища! Ленинский стипендиат, секретарь курсового комитета комсомола.
– Ага, он самый. Так вот, с этим Скворцовым был один случай. На почве злоупотребления… Брату всё известно доподлинно, так, как он со Скворцовым дружил. Ну, как мы с тобой, – Захаров положил руку на плечо Кравцу.
– Предлагаю тост за дружбу! – встрепенулся осоловевший Мэсел.
– Погоди, Лёнь, послушай! Однажды к Скворцову, уже за две недели до госов, приехала на Увал подружка. Стюардесса. Красивая – сам однажды видел. Улыбка, как у Бриджит Бардо. Глазищи на пол-лица. Ну, и ноги от ушей растут. Брат говорил, что у Скворцова с ней серьёзно было. Только вот свадьбы почему-то не получилось. Но это потом… Значит, приехала она к Скворцову и привезла с собой бутылку спирту авиационного. «Гидрашка» называется, как вы знаете. Он же – «ликёр-шасси». Зачем был нужен спирт? Мне неизвестно. Может, сам Скворцов попросил, чтобы с мужиками вспрыснуть окончание учёбы. Может, ещё что. Главное, гуляет эта парочка в рощице, ну, возле южного КПП. Воркуют. То да сё. Про любовь, про весну…
– Давайте з-за любовь!.. – опять встрял Мэсел.
– Да не перебивай ты! Ну и что дальше, Юрка?
– Дальше – больше. Уже не знаю, какая моча им в голову ударила. Заспорили. Скворцов говорит, что выпьет всю бутылку из горла. Подруга не верит.
– Да ни в жизнь бутылку «гидрашки» из горла не выпить! – согласился Кравец.
– Это самое и стюардесса ему заявила. А он – ни в какую: выпью, и всё! Ударили, как говорится, по рукам. Скворцов открыл бутылку и стал пить. Как потом его подружка рассказывала, половину пузыря выдул разом и замертво грохнулся на землю. Она перепугалась. Давай его по щекам хлестать. А он лежит, то дышит, то не дышит.
– Надо был-ло искусственное дыханье делать: рот в рот… Ик-ик-о! – не то хохотнул, не то икнул Мэсел.
– Делала, наверно. Только время прошло, и Скворцов сам очухался. Но как будто не в себе. Короче, буйство на него напало. Стал он от неё по лесу бегать. То на дерево взберётся, то в кустах спрячется. Так они из рощи короткими перебежками через тракт оказались в бору. Как раз на той поляне, откуда мы лыжные кроссы бегаем. А там костерок горит. Люди какие-то. Два «жигулёнка». Скворцов к костру прямым ходом. Она за ним. Он подбегает к одному мужику, который шашлыки жарит, и говорит: «Давай с тобой бороться!» Стюардесса его оттаскивает, а он своё: «Силу мою ты ещё не знаешь. Хочу с этим мужиком бороться». А тот: «Здесь бороться не будем. Давайте сядем в машину, отъедем в сторонку. Там и поборемся…» Стюардесса просит: «Не садись!» Скворцов сел. И поехали… – Захаров сделал паузу, нагнетая обстановку: – А конец этой истории брат уже сам видел. Он в тот день был дежурным по роте. Скворцова принесли на руках из штаба училища три первокурсника. Он был в отключке. А когда проспался, стал Сашке плакаться, что, наверное, его из училища исключат. Дескать, он с каким-то большим начальником подрался.
– И кто эт-то был? – осклабившись, спросил Мэсел.
– Кто-кто? Дядя твой! Неужто он тебе не рассказывал?
– Нет, ик… Слушайте, парни, я, ка-атся, перебрал… – Мэсел помотал головой и снова икнул. – Я, п-жалуй, лягу…
– Ага, а я лягу-прилягу… – в тон ему пропел Кравец и спросил у Захарова: – Так что сталось со Скворцовым?
– А ничего. Выпустился из училища и золотую медаль получил. Только нервы ему, конечно, изрядно попортили. На парткомиссию вызывали, чихвостили. Особенно дядя Мэселовский старался. Он ведь Скворцова в штаб училища и доставил, а тот, как знакомый забор увидел, стал руль у Мэсела-старшего из рук вырывать, хотел его из машины выпихнуть…
– Во даёт! И как это ему такие подвиги простили?
– Мусор из избы выносить, наверно, не захотели.
– Во-первых, не мусор, а сор, – поправил Кравец. – Во-вторых, не выносить, а выметать…
– Ладно, грамотей выискался. Выпей с моё, тогда посмотрим, – язык у Захарова заплетался.
Третья бутылка явно была лишней. Это почувствовал и Кравец. Мэсел тем временем уже спал на нарах, посвистывая и похрюкивая. Кравец и Захаров тоже закемарили, сидя на ящиках, прислонясь к стене.
Первым проснулся Кравец. Его разбудили какие-то неприятные, утробные звуки. Очухавшись, он увидел, что Мэсела выворачивает прямо на полушубок, которым он укрыт. Лицо у него бледное, будто неживое, глаза закатились.
– Юрка, проснись! Мэселу плохо! – растолкал Кравец друга.
– А кому сейчас хорошо? – пробурчал Захаров, но глаза открыл. Посмотрел на Мэсела, выругался и предложил: – Слышь, Сань, надо его на бок перевернуть, а то захлебнётся своей парашей! Такое бывает, мне рассказывали.
– Какое там, на бок! Посмотри на эту скотину! Он и так нам все нары изгадил… Как спать будем? Чуешь, вонища? Давай его в нежилую половину оттащим, может, быстрее придёт в себя на сквозняке…
Они поволокли вяло сопротивляющегося Мэсела к двери. Тут состав начал притормаживать и остановился. Захаров распахнул дверь теплушки.
– Сань, на семафоре стоим, вокруг поле, – проинформировал он.
– Всё-таки это Шалов задержал эшелон по радио и едет к нам на дрезине!
– Скажешь тоже, на дрезине… Нас теперь и на вертолёте не догонишь! Мы уже часа четыре прём без остановок!
– Ладно, Юрка, хрен с ним, с Шаловым. Надо, чтобы Мэсел в себя пришёл…
– Ага! Давай его в снег окунём – сразу очухается!
Процесс транспортировки Мэсела на заснеженный откос занял минут десять. Справившись с этим непростым делом, они старательно растёрли снегом его лицо, почистили пэша. Не сговариваясь, поволокли обмякшего Мэсела обратно. Сил хватило только, чтобы приподнять его и забросить в вагон до половины: голова и корпус внутри, а ноги свешиваются снаружи.
– Передохнём… – попросил Кравец и стал делать упражнения: взмах руками, наклон, глубокий вдох, выдох… Захаров повторил несколько взмахов и наклонов вслед за ним, потом слепил снежок и метнул в Кравца.
– Ах, так! – Кравец тоже подхватил снежный комок и бросил в Захарова.
Завязалась перестрелка. Под натиском друга Захаров стал пятиться к хвосту состава. Кравец – за ним. Дурачась, они отошли довольно далеко от своей теплушки.
Какое-то шестое чувство заставило Кравца оглянуться. В этот миг красный сигнал семафора замигал и сменился зелёным.
– Юрка! Стой! Скорей обратно! – крикнул он другу и побежал к теплушке.
Догнал её, когда состав уже тронулся. На ходу Кравец попытался забраться в вагон. Не тут-то было! Ему мешали ноги Мэсела. Раздумывать было некогда. Он сделал рывок вперёд и ухватился за дверную скобу. Пытаясь перебраться через Мэсела, стал подтягиваться наверх.
К ужасу Кравца, дверь сдвинулась с места и покатилась по обледеневшему жёлобу, загораживая вход…
Глава четвертая
1
Служба и дружба, как две параллельные линии, не сходятся никогда. Это высказывание Суворова всегда казалось Кравцу несколько сомнительным. Он имел немало примеров, чтобы его опровергнуть. Взять хотя бы Смолина.
Командира полка Кравец с полной ответственностью мог назвать своим другом. Ибо друг – не только тот, с кем в праздник распевают песни, и не тот, с кем делят чашу на пиру. А тот, с кем в трудную минуту ты встречаешь вместе беды и потери, холод и жару. Так пелось в песне советских времён. С командиром, конечно, и за одним столом они сиживали не единожды, но дружбу проверили всё-таки не застольем, а совместной службой, где торжества нечасты, а разных неприятностей – хоть отбавляй. Жизнь полка, вопреки представлениям об армии как об организации упорядоченной и строго регламентированной, на деле трудно предсказуема. В коллективе, где выполняют разные боевые и хозяйственные задачи полторы тысячи человек, каждый божий день что-нибудь случается. И хотя ответственность за всё происходящее, по уставу внутренней службы, в первую очередь лежит на командире-единоначальнике, но и заместителю по воспитательной работе тоже достаётся. Если, конечно, не прячешься за спину комполка, как делают некоторые коллеги. Кравец прятаться не привык. Это качество и ценил в нём Смолин.
Отношения со своим заместителем по воспитательной работе он строил на равных, любил посоветоваться, поговорить по душам.
На этот раз Смолин с порога ошарашил новостью:
– У нас ЧэПэ, комиссар! И не одно, а сразу два!
– Неужто собачка Жучка сдохла? – попытался пошутить Кравец.
– Не до шуток, Саня! Погибли два бойца из ремроты и зампотех…
– Ротный?
– Да нет. Наш! Грызлов! Застрелился в кабинете, ёкарный бабай!
Заместитель командира полка по технической части майор Грызлов был «тёмной лошадкой». Замкнутый и неприветливый, он ни с кем из сослуживцев дружбу не водил. Как говорят на Кавказе, хлеб не ломал, или, по-русски, водку не пил. Впрочем, это дело каждого: с кем праздники отмечать. По службе к Грызлову особых претензий не было. Не то чтобы техника в полку находилась в хорошем состоянии (в годы всеобщего развала этого добиться было просто невозможно!), но приезжающие комиссии оценивали её боеготовность как удовлетворительную. Какие старания для этого предпринимал Грызлов, никого не интересовало. Важен результат! До Кравца, конечно, доходили слухи, что майор на руку нечист, проворачивает махинации с запчастями, с талонами на бензин. Но ревизия недостачи не обнаружила. Не пойман за руку – значит, не вор.
– Вчера начали нас шерстить окружники. Проверяют готовность к убытию. Или, как они заявили, помогают выполнять поставленную задачу. Помощнички, ёкарный бабай! Ходят по пятам, суют нос в каждую щель, сто советов в одну минуту, а толку никакого, – хмуро излагал Смолин. – А тут, как назло, пожар на частной автомойке. Той, что за парком боевых машин. Ну, пожар как пожар. Мы же его тушить помогали. Потушили и два трупа обнаружили. Сильно обгорели, но документы сохранились. Оказалось, наши бойцы: Сиразетдинов и Марласов. Ты их знаешь.
– Как не знать! Самовольщики. Сам сведения в дивизию подавал. Если память не изменяет, с сентября в бегах числятся.
– Так точно. Но это на бумаге. Когда прокурорские стали ротного трясти, тот раскололся, что, дескать, по приказу Грызлова этих бойцов отправил на заработки. А в самовольщики записал, чтобы не искали. Они почти полгода на заправке жили, как рабы… Понимаешь, ёкарный бабай! Вкалывали за пайку. Деньги у хозяина автомойки ротный забирал. Основную часть – зампотеху, ну, и что-то себе на карман…
– Ты думаешь, это правда? Может, ротный с перепугу наклепал на Грызлова, чтобы себя выгородить?
– Эх, Саня! Какой ты, ёкарный бабай, инженер человеческих душ, если современную молодёжь не знаешь! Она сейчас ушлая. Ротный понимал, что закон нарушает. Потому заручился письменным распоряжением Грызлова. Его и предъявил «следаку». Тот по горячим следам назначил прокурорскую проверку всей техслужбы. На складах эНЗэ выявили недостачу на несколько «лимонов», а следы опять к Грызлову тянутся… Ты у него дома бывал?
– Не доводилось.
– Так сходи на экскурсию. Посмотри, как господа майоры живут! Мы с ним – соседи, а в гостях я у него оказался впервые. Понятым пригласили. Будто в музее очутился… Картины, гобелены всякие. Мебель кожаная… Золото и доллары нашли под ванной. Потом отправились к нему в кабинет, сейф вскрывать. Идём, я Грызлову говорю: «Я бы на твоём месте, ёкарный бабай, пулю в лоб пустил!» Он скривился и отвечает: «А вы, командир, сначала на моём месте окажитесь, а потом советуйте!» Наглец! Зашли в кабинет. Следователь попросил открыть сейф. Грызлов спокойно достал ключи, открыл дверцу. Не успели мы опомниться, выхватил из сейфа пистолет и бахнул себе в висок. Пуля полбашки снесла. У всех, ясное дело, сначала – шок! Потом стали разбираться, откуда ПээМ взялся, откуда патроны? Грызловский-то, табельный, как положено, у дежурного по полку, под замком. А у «макарова», из которого он застрелился, номера сточены, будто у киллерского. И патроны из серии, какой на складах в дивизии нет. Короче, тёмная история. Так что готовься, комиссар, на ковёр…
– Ну, это нам не впервой!
– Да нет, тут мозги вынесут, не ходи к гадалке!
– Да, пришла беда, открывай ворота, – согласился Кравец.
– Сань, прости дурака, – спохватился Смолин. – Я ведь и не спросил, как у твоей матери дела?
– Не будем сейчас об этом, Серёжа. После расскажу…
2
Линия судьбы на руке у Кравца – прямая и чётко очерченная. Без разветвлений и разрывов. В жизни же, как у всякого военного, без зигзагов не обошлось. А иначе как выпускник военно-политического авиационного училища смог стать политработником в мотострелковом полку?
…Кравец окончил училище с золотой медалью. Из-за желания служить поближе к больной матери отказался от престижного распределения в заграничную группу войск. Но в Челябинск служить не попал. Был назначен замполитом роты в авиационный арсенал в Кировской области. Часть располагалась в лесу, в ста километрах от областного центра, и считалась местом неперспективным, а попросту – ссылкой.
– Тебя-то сюда за что? – вопросом в лоб встретил Кравца командир роты – седой капитан с испитым лицом.
– Ни за что… – ответил Кравец. – Служить прибыл.
Служить он и вправду хотел. Потому и не испугался этого назначения. Помнил советы бывалых офицеров, что службу в «медвежьем углу» лучше начинать, чем заканчивать. Впрочем, в том, что он очутился в таком месте, было ещё одно преимущество: на фоне спивающихся старших сослуживцев легче было проявить себя. Командир роты по причине этого самого пьянства вскоре был уволен. Кравец, оставшийся за двоих, дневал и ночевал в казарме. Через год сделал роту лучшей среди таких же подразделений ВВС. Его заметили.
После итоговой проверки офицер из политического отдела предложил перейти на комсомольскую работу.
– Комсомол – это школа жизни, – убеждал он. – Вы, Кравец, офицер молодой, толковый. Вас на этом поприще ждёт блестящее будущее…
– Не советую, Александр Викторович, делать такой опрометчивый шаг, – стал отговаривать Кравца замполит арсенала, которому лейтенант рассказал о поступившем предложении. Может быть, он просто не хотел отпускать от себя добросовестного офицера, может, действительно не видел открывающейся для подчинённого перспективы.
– Это движение в сторону, – говорил он. – Ну, кто ты такой? Офицер-политработник. Перед тобой прямая дорога. Ещё годик-другой побудешь на роте, а там двинем тебя на замполита батальона. Поступишь в академию. А что ждёт тебя на комсомольской работе? Максимум – капитанская должность. Просидишь на ней, пока не станешь старпёром. Знаешь поговорку: «волосы выпали, зубы торчком, старый дурак с комсомольским значком?»
Кравец не послушал замполита. Вспомнил другую поговорку: «на службу не напрашивайся, от службы не отказывайся». На следующий день разыскал проверяющего и сказал, что согласен.
Армейский комсомол оказался хорошей школой. И главное – необычной. Ведь секретарь комитета обязанностей имел много, а власти никакой. Попробуй в таких условиях завоюй авторитет, организуй работу, убеди начальников в необходимости того, что придумал, мобилизуй комсомольцев. Сумеешь – честь тебе и хвала. Не найдёшь своего места в полку (будешь бить баклуши или бегать на побегушках у замполита) – считай, пропал. Застрянешь на комитете, как и обещал бывший начальник, до седых волос. А потом путь один – в начальники солдатского клуба и в запас, с тремя маленькими звёздочками на погонах…
В авиации у политработников, кто не из лётного состава (а таких – большинство), карьерный рост невелик. На должности замполитов полков, начальников политотделов назначаются только лётчики или штурманы. Не пройдя ступеньки замполита эскадрильи, нечего и мечтать о дальнейшем продвижении. Если станешь к пенсии майором, пропагандистом авиаполка или замполитом батальона обслуживания, уже – удача.
Но Кравцу повезло. Он попал помощником начальника политотдела по комсомольской работе в авиационный полк, который занимался поиском и эвакуацией космонавтов и космических объектов в казахстанской степи. Полк был московского подчинения. Все в нём – на виду. Только служи, не ленись! Через два года Кравец ушёл на повышение в политотдел ВВС. Потом был приглашён в комсомольский отдел политического управления округа.
Там и произошло переодевание его в общевойсковой мундир. Начальник политуправления на дух не переносил авиаторов. Голубые петлицы и просветы на погонах напрямую ассоциировал с расхлябанностью и недисциплинированностью, якобы присущими всем «летунам».
– Чтобы я вас, капитан, в этой форме больше не видел! – приказал он Кравцу, представлявшемуся по случаю прибытия к новому месту службы.
– Есть! – только и осталось ответить бывшему авиатору.
В политуправлении Кравец стал майором, отсюда поступил в военно-политическую академию, после окончания которой и был назначен заместителем командира мотострелкового полка по политической части.
Быть бы Кравцу если не генералом, то уж точно полковником – начальником какого-нибудь политотдела, если бы не пресловутая «перестройка». Она, как и пророчили «злые языки», переросла-таки в «перестрелку». Путч в Москве, показавший полную неспособность высшего руководства не только к управлению страной, но даже к организации самого переворота, закончился фарсом возвращения Горбачёва из Фороса и непомерным возвеличиванием роли трёх «героев-демократов», задавленных во время бестолковых передвижений войск по столице. Офицеры полка, где служил Кравец, тогда отказались выводить танки на улицы далёкого от политики уральского города, остались в расположении части, не выполнив приказ командующего округом генерала Макашова, тут же снятого с должности, когда путч был подавлен. А потом пришло указание о роспуске политорганов.
Тогда-то, оказавшись за штатом, Кравец впервые и узнал, что такое настоящая «безнадёга». К ощущению собственной никчёмности добавилось чувство горечи от раскола великой страны. То, что это – следствие пьяного сговора трёх удельных князей в Беловежской пуще, только усиливало безысходность. Для офицера нет ничего страшнее ситуации, когда он не в состоянии защитить государство, которому присягал. Ведь если тебя заставляют давать новую присягу и ты делаешь это, значит, предаешь прежнюю…
Кравец присягу новой власти не давал. Впрочем, его к этому и не призывали, в отличие от сослуживцев, оказавшихся в бывших союзных республиках. Полгода он находился не у дел, пока наверху не уразумели, что любая армия, даже самого «демократического» толка, не может обойтись без воспитателей, как их ни назови: политработники, капелланы, психологи…
Сначала Кравца назначили помощником командира полка по воспитательной работе, потом эту должность переименовали в «заместителя». К чести Смолина, он всегда относился к Кравцу, как к своей правой руке, видел в нём профессионала и единомышленника. И ещё – человека со связями, способного найти выход в трудных ситуациях. Кравец лично знал многих офицеров штаба округа, со многими находился в приятельских отношениях. А это, как ни крути, один из важнейших двигателей любого дела. Скажем, во время разного рода проверок или когда случается что-то непредвиденное.
Именно на старые связи своего зама и уповал Смолин, предупреждая о грядущем вызове на «ковёр» после самоубийства Грызлова.
Такой вызов не заставил себя долго ждать. В дивизию прикатил начальник управления воспитательной работы округа генерал-майор Павел Николаевич Плаксин.
– Твой лучший друг, ёкарный бабай, на свидание зовёт, – заметил Смолин, получив приказ прибыть вместе с Кравцом в кабинет комдива.
Плаксина в округе побаивались даже генералы, не говоря о простых смертных. В советское время он возглавлял группу народного контроля, проверявшую наличие «нетрудовых» доходов, дач, автомобилей и т. д. Плаксин был из сибирских крестьян. В гору он пошёл, женившись на дочери секретаря Хабаровского крайкома партии. Слыл Плаксин человеком недалёким, но честным и принципиальным. Не терпел всего, что не соответствовало моральному облику строителя коммунизма и его собственным представлениям о службе. Сам был закоренелым службистом и в требовательности к подчинённым порой доходил до педантизма и даже жестокости.
На памяти у Кравца был случай с одним полковником, провинившимся только в том, что на старости лет влюбился в молодую женщину и во имя брака с ней развёлся с первой женой. Инициатором партийного судилища и последующего увольнения этого офицера из Советской Армии, как дискредитировавшего своё звание, был Плаксин.
Однако в словах Смолина о «лучшем друге» была не только ирония, но и большая доля правды. Плаксин благоволил к Кравцу и даже покровительствовал ему как «литературному дарованию».
Всё началось со дня рождения командующего округом. Как принято, во всех управлениях и отделах штаба готовили поздравления имениннику. Но Плаксин решил всех перещеголять. Узнав, что Кравец «балуется стишками», вызвал его и велел за пару часов сочинить оду и отпечатать приветственный адрес в окружной типографии.
– Я не успею, товарищ генерал-майор, – промямлил Кравец.
– Никаких «не успею»! Возьмёшь мою «Волгу», а начальнику типографии я позвоню!
О том, что существует такое понятие, как вдохновение, с генералом вести разговор было бесполезно. Кравец заперся в кабинете, призвал на помощь всех существующих муз и… успел.
Как просил Плаксин, «в цветах и в красках», и главное – в рифму, расписал трудное военное детство генерал-полковника, его успешную службу в Монголии и ГСВГ, учёбу в разных академиях, славную семейную жизнь, вплоть до сведений о детях, внуках, и упоминании о нежных чувствах к красавице-жене. Не забыл и о генеральском хобби: рыбалке и игре в волейбол. Текст, набранный петитом, был золотом отпечатан на лощёной бумаге. К тому же Кравец проявил инициативу и на развороте поздравления оттиснул портрет именинника при всех орденах и медалях. Ещё сырой, пахнущий типографской краской поздравительный адрес был доставлен Плаксину ровно в назначенное время.
Начальник политуправления, даже не поблагодарив, отпустил Кравца.
Не прошло и часа, как дежурный по политуправлению собрал всех офицеров в зале заседаний. Генерал вывел вперёд Кравца и объявил благодарность за образцовое выполнение задания командования. Затем с придыханием рассказал, какое впечатление произвёл на командующего текст поздравления.
– Командующий обнял меня и прослезился, когда прочёл сочинение этого капитана, – указал он согнутым пальцем на покрасневшего Кравца. – Так проникновенно, сказал товарищ командующий, о моей судьбе ещё никто не писал. Вы слышали? Никто! А посему объявляю, что капитан Кравец – есть наш доморощенный талант. И с этой минуты он находится под моим покровительством. Как говорится, талантам надо помогать…
«Бездарности и так генералами станут», – про себя завершил генеральскую тираду Кравец, не зная, радоваться или нет внезапно обрушившейся на него благосклонности.
Расположение Плаксина оказалось долговременным. Он был приветлив с Кравцом все годы службы в округе, немало поспособствовал поступлению в академию и после назначения на должность заместителя командира полка поддерживал его. Правда, ЧэПэ, подобного нынешнему, прежде не случалось, и Кравец не знал, как поведёт себя его благодетель в этой ситуации.
– Как вы довели полк до такого безобразия, отцы-командиры? – устало спросил генерал, когда Смолин и Кравец предстали перед ним. – Дожили, а! Уже солдаты у вас в наёмных рабочих превратились, майоры стреляются…
Они стояли, потупясь, ожидая долгого разноса. Но получилось иначе.
– Сейчас не время для объяснений, – неожиданно произнёс генерал. – От лица командующего округа объявляю вам обоим о неполном служебном соответствии. А теперь идите и готовьтесь к выполнению боевой задачи.
У самой двери он задержал Кравца:
– Смотри, Александр, больше меня не подводи! А то ты меня знаешь…
– Постараюсь, товарищ генерал-майор!
– Уж постарайся.
Смолин ждал на крыльце. Повернувшись спиной к ветру, он нервно курил, зябко поводя плечами.
– Ты же бросил? – удивился Кравец.
– Бросишь тут, ёкарный бабай… Что задержался?
– Да так. Плаксин попросил не подводить больше.
– Понятно, – Смолин ещё пару раз затянулся и бросил окурок в урну. – А всё-таки мы с тобой, комиссар, везунчики: легко отделались. Я думал, снимут…
3
– Товарищи офицеры, ещё раз довожу, что включает экипировка военнослужащего для боевых действий. Попрошу принять это, ёкарный бабай, как моё неукоснительное требование, – Смолин сделал паузу и обвёл строгим взглядом офицеров полка, прибывших на совещание. – Итак. Куртка ватная двубортная – один комплект. Куртка и брюки хэбэ («афганка») – один комплект. Шапка-ушанка – одна штука. Сапоги кирзовые – одна пара. Портянки зимние – две пары. Ремень поясной – одна штука. Фляга для воды – две штуки. Оружие по штату. Боеприпасы – два боекомплекта…
«Хорошо, что походные Ленкомнаты теперь не нужны… – Кравец, вполуха слушая комполка, подумал о своем, о “комиссарском”. – Вот мороки-то с ними было бы…»
Вспомнилась «целина». За годы замполитства он дважды выезжал с автомобильным батальоном на уборку урожая. Тогда, по воле всемогущего ЦК, помощь колхозам в перевозке зерна приравнивалась к выполнению боевой задачи под лозунгом: «Бой за хлеб!» В «бой» бросались и солдаты-срочники, и «партизаны» – мужики, призванные из запаса. И у первых, и у вторых – только водка да бабы на уме. Если же учесть, что целинный батальон – это тысяча человек и пятьсот машин, разбросанных на огромной территории, то управлять этой «ордой» было делом нелегким, если не сказать – невозможным. Какая уж тут партийно-политическая работа! Удержать бы «целинную вольницу» в повиновении, избежать бы аварий, драк с местными да междоусобной поножовщины…
На целине сборно-щитовые Ленинские комнаты – чистая профанация воспитательной работы. Даже там, где они были, их использовали не для проведения политинформаций, а для свиданий с девками, перекуров и игры в карты. Все начальники это знали, но никто ничего поделать не мог. Была линия партии. Её надо было выполнять. Готовить планшеты, отражать на них состав политбюро, следя за изменениями в рядах его членов, которые мрут один за другим, вывешивать на стенах разные лозунги далёкого от жизни содержания. Делать это приходилось хотя бы ради самосохранения. «Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолёте» – холёный проверяющий из московской опергруппы – и за недостатки в оформлении Ленкомнаты может снять с должности. За пьянство не снимет, за плохие показатели по перевозкам зерна – тоже, а вот за пропущенную очередную Звезду на груди Генсека – запросто! За это получишь по «самое не хочу», как любит выражаться Смолин.
– В вещевом мешке у каждого бойца должны быть в наличии… – нудно продолжал Смолин, – плащ-накидка – одна штука, котелок, кружка, ложка, комплект сменного белья (летнего и зимнего), полотенце – одна штука, туалетные принадлежности – один комплект, письменные принадлежности: конверты, ручка блокнот… Затем, сухпаёк на трое суток, хозяйственный пакет…
– Разрешите, товарищ полковник? – подал голос командир первой мотострелковой роты старший лейтенант Морозов. Красавец-атлет, энергичный и деятельный офицер, он пользовался авторитетом у Смолина и знал об этом.
– Говори, – разрешил Смолин.
– Докладываю, товарищ полковник, – поднялся со стула старлей. – Туалетных принадлежностей нет, ни у нас на полковом складе, ни на дивизионном. Я вчера лично проверил…
– Зам по тылу, что такое? – перебил ротного Смолин.
Заместитель командира по тылу подполковник Анисимов через месяц готовился увольняться в запас. Лысый и тучный, он только руками развёл:
– Так точно, командир, и у нас, и в дивизии пусто. Я и на окружные склады ездил – там мой приятель начальником. Пять лет никаких поступлений не было. Как только эта катавасия в стране началась…
– Давай без обобщений, Иван Романович, – остановил Смолин. Анисимов был человеком «левых» взглядов, что крайне удивительно для тылового служаки, и его реплика могла вполне перерасти в политическую дискуссию. – Что ты предлагаешь?
– Собрать с бойцов деньги и закупить всё необходимое.
– Собрали бы давно, товарищ подполковник, – опять не удержался Морозов, – но денежное довольствие… Вы же сами знаете. Уже полгода…
– Ладно, Морозов, не грузи меня больше. Пораскинь мозгами, ёкарный бабай, – ты же командир. Прояви наконец инициативу… – прекратил возникающий «базар» Смолин.
Однако после совещания, когда в зале остались только он и заместители, попросил Кравца:
– Будь добр, Александр Викторович, порешай эту проблему. Конечно, она не совсем твоя, а скорее Ивана Романовича. Но у него сейчас забот и так невпроворот: полк будет разворачиваться до штата военного времени. А это и укомплектование имуществом всех прибывших, и ГСМ, и продукты… Короче, заму по тылу сейчас не до вещмешков. Ну, а мыло, зубная паста, мочалки, письменные принадлежности – это, ёкарный бабай, как ни крути, проявление заботы о личном составе и, в конечном счёте, о его моральном духе. Боец должен ведь иметь возможность написать письмо матери или девушке… Согласен?
– Что-нибудь придумаем, командир, – кивнул Кравец.
– Вот и хорошо. Да, ещё, товарищи офицеры, – обратился уже ко всем заместителям Смолин. – Сроки у нас самые сжатые. По моим данным, отправка через десять суток. Попрошу всех быть предельно собранными…
Вернувшись в свой кабинет, Кравец стал перебирать визитки, которых у него за последние годы собралось немало. Все эти разноцветные карточки до поры до времени бесполезной грудой лежали в ящике рабочего стола и извлекались на свет божий лишь при необходимости. Интуиция подсказывала Кравцу, что среди карточек обязательно попадётся та, с помощью которой задача укомплектования солдатских вещмешков будет непременно решена. Круг общения у него был довольно широким. Да и как прожить в большом городе без знакомств? В основном это были бывшие сослуживцы, после увольнения из армии осевшие в различных чиновных кабинетах, работающие в страховых фирмах или коммерческих структурах. Встречались визитки деятелей культуры и искусства: писателей, артистов, музыкантов. Был даже один знакомый фокусник-иллюзионист. «Вот, кто мог бы одним мановением волшебной палочки достать полторы тысячи комплектов для умывания и три тысячи конвертов… – криво усмехнулся Кравец. – Только такое даже народному артисту не под силу! Тут нужен серьёзный «спонсор», для которого цифра с пятью нулями ничего не значит».
Перевернув половину визиток, он наткнулся на ту, где на чёрном лаковом фоне золотыми буквами была оттиснута фамилия «Масленников».
Хоть и говорят, что армия – это большая деревня и в ней трудно потеряться, с Лёней Масленниковым – Мэселом они не встречались лет семнадцать. После выпуска до Кравца доходили слухи, что Мэсел был оставлен в родном КВАПУ командиром курсантского взвода, потом женился на девушке-мотористке с местной швейной фабрики. Выбор будущей супруги был сделан с дальним прицелом. Помимо «пролетарского происхождения», очень ценимого кадровиками, девушка была ещё и депутатом Верховного Совета СССР. Благодаря связям жены Масленникова вскоре перевели в Москву, вроде бы в штаб дальней авиации, где его следы на время затерялись.
Кравец столкнулся с ним нос к носу в канун прошлого Дня защитника Отечества, или, по-старому, Дня Советской Армии и Военно-Морского Флота. Мэсел в смокинге и бабочке шествовал на фуршет, устраиваемый мэром города для ветеранов войны и Вооружённых Сил. Кравец же спешил в управление культуры, чтобы договориться о приезде в полк артистов из музкомедии. Военно-шефская работа давно уже не велась, но в его полк местные артисты всё же наведывались. В управлении культуры работала давняя (ещё по обкому комсомола) знакомая Кравца. Она-то и направляла к нему творческие «десанты».
Мэсел узнал бывшего однокурсника. На ходу сунул визитку и благосклонно похлопал по плечу:
– Забегай, старичок, если что. Не стесняйся.
На визитке красовалось название холдинга – «Лидер». Об этом холдинге Кравец был наслышан, но и предположить не мог, что его генеральный директор Масленников и его товарищ по училищу Мэсел – одно и то же лицо.
Получив визитку, Кравец навёл дополнительные справки о «Лидере» через знакомого из УВД.
Холдинг основал дядя Мэсела. Масленников-старший после увольнения из армии работал инструктором промышленного отдела обкома партии. В конце восьмидесятых, будто бы по партийному заданию, он открыл один из первых в области кооперативов. В период, когда в ходу была поговорка: «Куй железо, пока Горбачёв!», он проявил себя ловким предпринимателем. Запустил кожевенный цех, наладил производство дефицитных кожаных курток и плащей и быстро пошёл в гору. Во время «дикой» приватизации за бесценок скупил у нескольких тысяч доверчивых «совков» ваучеры и сумел выгодно вложить их в акции топливно-нефтяного комплекса и алюминиевого завода в Горно-Уральске. Потом стал обладателем пакета акций двух медеплавильных заводов и коммерческого банка. При этом активно занимался благотворительностью, а на выборах в Верховный Совет вместе с Мэселом, к этому времени тоже уволившимся в запас, поддерживал коммунистов.
Когда пошла волна передела собственности и предпринимателей прямо среди бела дня стали, точно уток в разгар охотничьего сезона, отстреливать в самом центре Екатеринбурга, Масленников-старший внезапно исчез. Наверное, укатил на какие-нибудь коралловые острова – спокойно доживать свой век на проценты от вложений в заграничные банки.
Его место занял Мэсел, к тому времени распростившийся с первой женой – экс-депутатом. Новый руководитель «Лидера» сумел заручиться поддержкой известного в регионе преступного авторитета. Благодаря этой «крыше» холдинг серьёзно упрочил свои позиции и в городе, и в области. В него влилось ещё несколько фирм и предприятий игрового бизнеса, где опять же, если верить слухам, по сей день отмываются деньги того самого авторитета.
Штаб-квартира холдинга занимала старинный особняк в центре города, неподалёку от Исторического сквера. Кравец, ещё в ту пору, когда не знал, кто здесь хозяин, несколько раз проходил мимо. Тогда и отметил помпезные мраморные колонны и пару львов у парадного подъезда. Теперь вдруг вспомнил, что Мэсел – «Лев» по гороскопу. «Наверно, в свою честь и поместил хищников возле офиса…»
В курсантские времена Мэсел и Кравец симпатии друг к другу не питали. «Но ведь это было давно, – подумал Кравец. – Столько воды утекло. Может быть, Мэсел переменился в лучшую сторону. Да и деньги найти надо… У кого их ещё возьмешь? В конечном счёте, хозяин “Лидера” – бывший офицер и не может в одночасье забыть об этом! Ну, а коли позабыл, тогда и сожалеть будет не о чем…»
Словом, прикинув, что в случае отказа ничего не теряет, Кравец набрал телефонный номер, указанный на визитке. Трубка отозвалась молодым женским голосом, звучавшим так соблазнительно, словно это была не коммерческая структура, а агентство «Секс по телефону».
Невольно переняв интонацию абонентки, Кравец представился по полной форме и поинтересовался, сможет ли господин Масленников принять его в любое удобное время. Он специально сделал акцент на словах «господин» и «удобное время», зная по опыту, как греют они слух тем, кто считает себя «новыми русскими».
– Прошу вас подождать, – проворковала трубка. И в ухо Кравцу полилась приятная музыка.
Через какое-то время в трубке что-то щёлкнуло, музыка прекратилась, и тот же милый голосок сообщил:
– Леонид Борисович ждёт вас завтра в пятнадцать ноль-ноль. Просьба не опаздывать: у генерального директора очень напряжённый день.
– Не опоздаю, – непонятно на что разозлился Кравец и положил трубку.
Наутро его вдруг одолели сомнения: идти или не идти. Будь на месте Мэсела любой другой бывший сослуживец, может быть, роль просителя и не вызвала бы в душе такого горького осадка.
Чувство долга, в конце концов, взяло верх.
На входе в особняк «Лидера» охранник с бычьей шеей и оттопыривающей подмышку кобурой долго и придирчиво разглядывал удостоверение Кравца: «Надо же, охрана дотошней, чем при входе в штаб округа!» Потом металлоискателем были проверены карманы посетителя на предмет наличия оружия и другой охранник – точная копия первого, от причёски до кобуры, – молча проводил Кравца на второй этаж. Приставив магнитную карту к замку стальной двери, пропустил в холл, за которым находилась приёмная.
4
– А помнишь, на экзамене по философии я заплыл и ни на один вопрос в билете не мог ответить? Что же мне тогда досталось? Кажется, диалектика Гегеля… Потом что-то о свободе выбора и что-то ещё… А препод стал выговаривать, мол, стыдно, товарищ курсант, не знать Гегеля, у него сам Карл Маркс учился…
– Конечно, помню. Твой ответ потом анекдотом по всему училищу ходил. Нельзя объять необъятное, товарищ подполковник! Ха-ха!
– Ха-ха ни ха-ха, а свою государственную оценочку я тогда заработал…
Они сидели в просторном, отделанном красным деревом кабинете. Хозяин за рабочим столом, на котором, кроме плоского компьютера и массивного письменного прибора из малахита, ничего не было. Кравец – чуть поодаль, за другим столом, приставленным к первому в торец.
Как и положено людям, давно не встречавшимся, начали с воспоминаний. Впрочем, они длились недолго. Масленников, на правах хозяина, первым оборвал ностальгическую прелюдию:
– Ладно, все эти Гегели и трояки – в прошлом. Подумать только, чем нам головы забивали: научный коммунизм, политическая экономия… Лохотрон какой-то. Я тебе вот что скажу, Александр. Мне гегели-могели, бахи-фейербахи и даже марксы с энгельсами – теперь не указ. Свою судьбу я сам делаю. Видишь: холдинг и всё такое… – он побарабанил по столу короткими пальцами с ухоженными ногтями и массивной золотой печаткой, усыпанной бриллиантами и изумрудами.
– Красивый дом, красивая жена… Что ещё надо бизнесмену, чтобы счастливо встретить старость? – перефразируя басмача Абдуллу из «Белого солнца пустыни», не удержался Кравец от улыбки.
Но Масленников юмора не понял:
– Зря смеёшься, Кравец. Вот посмотри: ты у нас – отличник, медалист. Такой весь умный из себя, но, как сказал бы наш командир отделения: иф ю a сoу клеве, шоу ми ё мани![7]
В карманах у Кравца было пусто. Вступать в спор тоже не хотелось. Он уже пожалел, что пришёл сюда: «Впрочем, чего я ждал? Мэсел – есть Мэсел!»
Расценив молчание гостя по-своему, Масленников продолжал куражливо:
– Удивляешься? Как это троечник Лёнька Масленников вдруг выучил язык «потенциального противника»? Правильно удивляешься. Я с репетиторшой уже год как, по три раза в неделю, себе мозги парю. Профессорша из универа. По сто баксов за урок плачу. Но ничего не поделаешь. Прав был Шалов, язык – требование времени. Да и для бизнеса надо. Партнёры, понимаешь, зарубежные. То да сё. А с партнёрами лучше с глазу на глаз дела перетирать, говорить, вот как мы с тобой. Без переводчика. Ну, так выкладывай, зачем пришёл, однокурсник?
Кравец сухо, в нескольких предложениях, изложил суть проблемы. К его удивлению, Масленников неожиданно быстро согласился помочь:
– Что ж, дело нужное. Родной армии надо содействовать, а то придётся кормить чужую…
«Надо же, и Наполеона цитирует… Это что, ещё от одного репетитора? Или Мэсел и впрямь за ум взялся? – снова удивился Кравец и тут же резюмировал про себя: – Что ж, дураки директорами холдингов не становятся. Дураки сегодня в армии служат».
Масленников тем временем не спеша открыл сейф, достал толстую пачку денег, перетянутую резинкой. Не пересчитывая, протянул Кравцу:
– Бери, на укрепление обороноспособности. Всё, что создано народом, – он обвёл взглядом кабинет, – должно быть надёжно защищено.
В пачке оказались доллары. Кравец не удержался от вопроса:
– Сколько тут?
– Тонна. Или чуть больше, – закрывая сейф, ответил Масленников. – Не боись, должно хватить…
– Тонна – это сколько?
– Ну ты даёшь! Неужели не знаешь? Или прикидываешься? – и, поймав недоумённый взгляд Кравца, хмыкнул: – Ладно. Рассказываю на пальцах. Тонна – это штука, а штука – это тысяча баксов.
– Спасибо за ликбез… и за тонну, – со смешанным чувством благодарности и унижения выдавил из себя Кравец.
Масленников от своего очевидного превосходства над бывшим сослуживцем пришёл в самое благодушное настроение. Желая ещё больше подчеркнуть свою значимость, нажал на кнопку звонка и, подождав, пока в кабинет впорхнёт длинноногая, похожая на Синди Кроуфорд секретарша, распорядился:
– Юлечка, сообрази-ка нам с товарищем подполковником что-нибудь… Ну, в общем, как обычно…
Юлечка понимающе кивнула, одарила шефа и гостя ослепительной улыбкой и скрылась за дверью. Масленников проводил её хозяйским взглядом и подмигнул Кравцу, мол, видал: говна не держим.
Через несколько минут на столике в углу кабинета появились «Хенесси» и «Смирнофф», тарелочки с лимоном, балыком и икрой и два столовых прибора.
– Хорошо живёшь, – невольно сглотнул слюну Кравец.
– Живём как умеем. По принципу «бэст оф зе бэст – лучшее из лучшего», – самодовольно осклабился Масленников и пригласил: – Милости прошу к нашему шалашу, товарищ подполковник.
Всё ещё чувствуя себя не в своей тарелке, Кравец не нашёл сил отказаться.
Они устроились в глубоких креслах, напоминающих сиденья астронавтов.
– Водка? Коньяк? – спросил Масленников и, не дожидаясь ответа, сам определил диспозицию: – Давай-ка коньячку. Ты небось и не пробовал такой?
– Не имел удовольствия.
– Ну, тогда вздрогнули. За удовольствие, которое мы имеем!
Чокнулись. Выпили. Тяжёлая, как ртуть, отдающая морёным дубом жидкость, заставила желудок Кравца судорожно сжаться. «Точно, печень отвалится», – запоздало спохватился он.
…Когда-то, в самом начале войны в Афганистане, Кравец, находясь в Союзе, умудрился переболеть самым настоящим афганским гепатитом. Полковые Ан-12 в первые месяцы после ввода войск «за речку», когда у сороковой армии ещё не было своей авиации, работали «чёрными тюльпанами» и «летающими госпиталями». Они и привезли болезнь в Кустанай, где базировался полк. Гепатитом заболели несколько десятков офицеров, прапорщиков и солдат. В городской больнице для всех инфицированных не хватило мест. Исполком выделил заброшенный детский сад на окраине, где они два месяца лежали на раскладушках, разглядывая разрисованные айболитами, красными шапочками и цветочками стены.
Все, по кругу, переболели целым набором разных хворей: желтуха, тиф, дизентерия… Двое соседей Кравца по палате умерли. Ещё пятерых офицеров врачебная комиссия списала с лётной работы. Кого-то совсем уволили по болезни в запас. Кравец остался служить, хотя в Афган, куда просился тогда, так и не попал. Очередная, третья по счёту, попытка прорваться на войну, закончилась двумя памятными беседами: с начпо и начмедом. Начальник политотдела, только что похоронивший сына, погибшего под Кундузом, обложил Кравца матом и порвал его рапорт: «Мальчишка! Тебе жить надоело? Занимайся комсомолом! Войн на твой век хватит!» – «Товарищ подполковник, – попытался объясниться Кравец, – а как же интернациональный долг?» – «Вон из кабинета! И чтоб я больше твоих рапортов не видел!» Начальник медицинской службы был ещё категоричней: «С таким анамнезом, как у вас, Александр Викторович, в Афганистане делать нечего. Это равносильно тому, чтобы сразу цинковый ящик для вас заказать. Нет-нет, даже не уговаривайте. У меня инструкция медицинского управления в загранкомандировки на юг переболевших гепатитом не направлять!» – «Какая это командировка? Это война!» – «Вы только не горячитесь, Александр Викторович. Вам сейчас горячиться противопоказано…» – «Может, мне и жить противопоказано?» – «Зачем вы так? Жить вам пока можно. Спортом заниматься. Женщин любить. И даже рюмочку-другую по праздникам… Всё можно. Только теперь с оглядкой, с оглядкой, мой дорогой…» Потом доктор прочитал целую лекцию о том, что печень – это жизненно важный орган, что после тяжёлой формы гепатита она (печень) как бы деформирована, говоря военным языком, контужена, а посему к ней надо относиться как к ветерану, с почтением и вниманием. «Ладно, хоть рюмочку можно», – обречёно сказал Кравец. «Рюмочку – да. Но только водочки! Запомните: коньяк и пиво для вашей больной печени убийственны…»
Очевидно, эти воспоминания отразились на лице Кравца. Масленников поинтересовался:
– Как коньячок? Не понравился, что ли? Зря… Вещь стоящая. И в прямом, и в переносном смысле. Я даже тебе не скажу, сколько стоящая, а то рюмка поперёк горла встанет. Ты столько и за полгода в «Красной Армии» не получаешь…
«Уже встала», – Кравец сделал над собой усилие, чтобы не сказать в ответ какую-нибудь гадость – всё-таки Мэсел помог… Печени своей он приказал не дёргаться.
Выпили ещё. За разговором, который больше походил на монолог Масленникова, бутылка коньяка приказала долго жить.
Масленников потянулся к водке и вдруг заявил:
– Щас поедем в баню!
– У тебя же, секретарша говорила, сегодня плотный график…
– Со своим графиком я как-нибудь разберусь…
– Да, некогда мне, Леонид… – попытался отнекаться Кравец, поглядев на часы.
Но Масленников был непреклонен:
– Поедем! Классная сауна! Ты в таких ещё не был! Ну, чего ты заладил – некогда, некогда? У тебя же в городке три месяца горячей воды нет. Вашу котельную за долги отключили. Мне теплосети этот должок по взаимозачёту передали. И пока его министерство финансов не примет, будешь ты в тазике мыться! Так что не упрямься, поехали…
«Вот паразит, – подумал Кравец. – А почему бы и не поехать? Дело-то сделано. Да и помыться по-людски перед командировкой не мешало бы…»
– Поехали, – сдался он.
5
Парился Кравец долго. С остервенением хлестал себя веником, словно хотел избавиться от тошнотворного осадка, возникшего во время общения с Масленниковым.
Окунулся в бассейне с привезённой морской водой, вытерся махровым полотенцем и, завернувшись в накрахмаленную простыню, прошёл в комнату отдыха. Здесь обнаружил, что их компания пополнилась особами противоположного пола.
Масленников, подобно римскому патрицию, восседающий на скамье в обнимку с двумя пышногрудыми блондинками, увидев его, пьяно воскликнул:
– Вот и он! Вот и он, ле-нин-град-ский поч-таль-он! Девочки, прошу любить и жаловать защитника нашей Родины… Под-пол-ков-ника, между прочим, на-сто-я-ще-го… Между прочим, моего старинного друга… Между прочим, зовут его Саша, или Шура, или как захотите…
– Ах, какой был мужчина, настаящий палковник! – довольно артистично пропела одна из девиц, поглаживая волосатый живот Леонида Борисовича пухлой ручкой с ярко-красными ногтями.
– Мы будем звать его Алексом, – жеманно произнесла её подруга, изучающе-профессиональным взглядом окидывая Кравца с головы до ног.
– Это – Алла, – представил первую блондинку Масленников, потом кивнул на другую, – а это Люся…
– Называй меня Люси! – капризно отозвалась она.
– Ну, а вот это, – Масленников перевёл взгляд в дальний конец комнаты, – наша красавица Марина!
Только сейчас Кравец обнаружил, что в комнате находится кто-то ещё. Марина полулежала на угловом диване. Лицо её заслонял журнал, который она разглядывала с таким видом, будто ей нет никакого дела до всего происходящего. В позе этой третьей девицы что-то показалось Кравцу знакомым, но он не понял, что именно.
– Маринка, красавица наша, да брось ты этот журнал! Иди к нам! – недовольно сказала та, которая попросила называть её Люси. «Ох, уж эта женская психология! Если одну назвали “красавица”, значит, остальные обиделись!» – Кравец улыбнулся своему наблюдению, но улыбка тотчас слетела с губ, едва Марина опустила журнал. Он остолбенел от неожиданности – на диване нагой возлежала его жена. Правда, на Тамаре был чёрный парик (это и помешало ему сразу узнать её) да ещё имечко «Марина» (не в память ли о том моряке-подводнике, с которым Кравец застукал её однажды?), но это была она, вне всякого сомнения!
После возвращения от матери Кравец видел жену только раз, когда заходил домой за вещами. Сын был в школе. Тамара сидела, уставясь в телевизор. Она ни о чём не спросила. Он ничего не сказал. Кравцу неприятно было даже смотреть на неё после того злого письма… Что-то выяснять, призывать к совести? Это возможно, когда хоть какие-то чувства ещё живы. Пусть не любовь, пусть – ненависть. Он ощутил тогда, что, кроме брезгливости, не испытывает к этой женщине ничего.
И вот неожиданная встреча. Вроде бы всё в сердце Кравца по отношению к Тамаре уже умерло – ан нет, задело за живое: «Женщина, которую много лет считал своей, и вдруг – проститутка?!» Для уважающего себя мужчины в одном только упоминании древней профессии вместе с его именем есть что-то постыдное, с чем никак не может смириться душа, что иначе как матерным словом и не выразишь…
Первым порывом Кравца было броситься к жене и врезать ей по фэйсу, как тогда, в день их знакомства, только теперь врезать уже во всю силу, на какую способен. Он даже сделал шаг к ней, но остановился, испугавшись себя самого. Понял – убьёт!
И Тамара поняла, что с ним происходит, но виду не подала. Помахала ему кончиками пальцев, как обычному клиенту, вальяжно покачивая бедрами, прошла и уселась за стол. Мэсел пододвинул к ней бокал с мартини. Она сделала маленький глоток, оставив на краю бокала яркий след помады.
Кравца перекосило, как патрон в патроннике. Круто повернувшись, он вышел в предбанник, громыхнув дверью. Масленников, заглянувший к нему через минуту, застал Кравца одевающимся:
– Ты куда, приятель? – удивился он.
«Знает или не знает, кто она? Хочет совсем растоптать?»
Но Масленников, похоже, ничего не понял или умело изобразил непонятливость:
– Ты чего это меня одного под три «танка» кидаешь? А кто девочек будет… – он сделал выразительный жест, напоминающий усилие летчика, выводящего самолет из пике. – Если ты о деньгах, так не бери в голову. За всё уплачено!
Кравцу пришлось в очередной раз собирать волю в кулак. Теперь, чтобы не врезать ему. «Хорошо бы приложиться по холёной физиономии Мэсела, швырнуть ему в рожу эти доллары! Но нельзя: деньги нужно принести в полк. И если не получилось сразу уйти “по-английски”, то надо сделать это сейчас, как можно скорее…»
– Не люблю шалав… – выдавил из себя Кравец.
Масленникова это объяснение неожиданно разозлило:
– Да пошёл ты! – презрительно скривился он. – Всегда был чистоплюем. Я помню, как ты в эшелоне от бабы отказался! Конечно, она была не фонтан. А эти чем не подошли? «Тёлки» проверенные, всё могут…
Кравец схватил шинель, нахлобучил шапку и опрометью вылетел из бани.
Всю обратную дорогу в часть, трясясь в промёрзшем трамвае, на окне которого кто-то нацарапал банальный призыв: «Мужайтесь, люди, скоро лето!», жалел, что не оказалось под рукой гранаты. Противотанковой. Хотя и «эфка» сошла бы, чтобы разобраться с этой «весёлой и проверенной» компанией. Так, чтобы мозги по стенам размазались.
На остановке с тёплым названием «Ферганская» он вышел. Поёжился. Запрокинул голову, спрашивая небо, где он, Бог? Вверху – чернота, звёздочки, колкие, как Тамаркин взгляд, да месяц, искривившийся в ухмылке, словно Мэсел. Хрустя настом, Кравец побрёл к городку, поймав себя неожиданно на мысли: «Хоть бы шпана какая-нибудь привязалась, что ли…» Как тогда в Тимофеевке, когда провожал комсомольскую активистку. Теперь бы он не побежал. Заставил бы побежать их. Или, затоптанный, остался лежать на снегу. Он почувствовал в себе такую злую силу, что поверил: сейчас убил бы любого, вставшего на пути. Убил бы или сам умер. Умер бы или убил.
Он даже определение нашел этому чувству – желание не жить. Желание, неотступное, как зубная боль. Такое же испытал в Колгино, когда прочитал письмо жены. Кравец вдруг признался себе, что так стремительно уехал из дома, оставив больную мать, только потому, что звонок Смолина давал возможность ему, Кравцу, реализовать это навязчивое желание. Сдохнуть, но не в петле. Рассчитаться с миром, но так, чтобы никто не смог упрекнуть его в малодушии…
Однако, уличив себя в собственной слабости, он разозлился ещё больше. Теперь уже не на Тамару и Мэсела, а на себя: «Какой я, к лешему, офицер?! Распустил слюни! Нет уж! Не выйдет! Так просто я не сдамся! – погрозил он кулаком в пустоту. – Даже зубная боль – и та отступает перед волей человека…» Вспомнил, как бабушка Фрося заговаривала зубы. Надо выйти на такой, как сегодня, молодой месяц. Набрать полную грудь студёного воздуха и на одном дыхании сказать: «Месяц, месяц, был на том свете? Был. Видал моего деда? Видал. Болят у него зубы? Не болят. Пусть же и у меня не болят!»
Кравец остановился посреди улицы, заглотил воздуха и заорал в небо:
– Месяц, месяц! Был на том свете?…Видал моего деда? Болят у него зубы?
От холода перехватило дыханье, но месяц перестал ухмыляться, звёзды показались уже не такими колкими, а ночь не такой стылой. Он тряхнул головой и зашагал в гору по заснеженной улочке мимо притихших частных домов.
Перед самым КПП пришла мысль, простая и обнадёживающая: «Всё, что ни делается, – к лучшему». Вот и с Тамарой всё встало на свои места. Сразу нашлось объяснение её поздним отлучкам, появляющимся в доме французским духам и разным дорогим вещам. Понятны стали теперь её холодность и цинизм, и даже письмо, адресованное его матери. Ведь Тамара, наверное, считает виновным во всём, что с ней произошло, Кравца. Хотя, наверное, так оно и есть. Мужчина всегда несёт ответственность за женщину, которая рядом. Кравец сам, конечно, виноват, что не смог понять жену, не сумел сделать счастливой.
Но теперь он отстранился от неё. Теперь ему нет никакого дела до Тамары, до прежних обид и разочарований. Ведь его собственная жизнь ещё не кончилась. Он вдруг захотел возвратиться с войны живым, чтобы попытаться что-то исправить в своей судьбе и, может быть, даже начать всё с самого начала.
В этой новой жизни не будет больше места лжи: разным тамарам и мэселам, с их миром, в котором всё можно купить и продать – офис, женскую ласку, положение в обществе. «Кто сказал, что деньги не пахнут? Ещё как пахнут. Предательством, кровью, в общем – дерьмом!»
Кравец прикоснулся к карману, где лежали доллары Мэсела, и невольно усмехнулся собственным революционным мыслям: «Обратно отнести, что ли, баксы Мэселу? Как бы не так! Чем бы ни пахли эти презренные иностранные дензнаки, а без них никуда. Так что придётся с идеальной жизнью подождать… Вот такая философия. Единство и борьба противоположностей. Вечный конфликт между сущим и должным. Нравится это или нет, но Мэсел сегодня снова выручил меня, как тогда, в выездном…»
Глава пятая
1
Кравца спас Мэсел. Точнее, его задняя часть, торчащая из теплушки. Она-то и не позволила двери захлопнуться. Отпустив дверную скобу и вцепившись в телогрейку Мэсела, Кравец по нему вполз в вагон и, обессиленный, упал. Тут его заколотило: ведь мог запросто погибнуть, сорвавшись под колёса.
Распластавшись, он долго приходил в себя. Потом поднялся, втащил Мэсела в теплушку, перекантовал подальше от двери. Выглянул наружу.
Ночь сделалась ещё беспросветней. Чёрный лес придвинулся к насыпи. Тучи заслонили луну и звёзды. Чёрным хлыстом, уходящим во мрак, извивался состав. Кравец смог отчётливо различить только три теплушки впереди да столько же позади. И на душе у него было черным-черно: «Где Юрка, что с ним? Может, всё-таки успел вскочить на подножку какого-нибудь вагона?»
Ветер свистел в ушах, хлестал по лицу, выдувал остатки хмеля из головы. Вместо недавнего веселья в сердце вполз страх. Да что там страх – настоящий ужас! Такой же леденящий, как ночь вокруг. До Кравца только сейчас дошло, что случилось. Конечно, смутное ощущение творимого ими безрассудства жило в нём и раньше, когда потерялся сержант, а они веселились и пили вино, как мальчишки, играли в снежки. Но теперь это ощущение обрело чёткую форму: под срыв поставлено выполнение боевой задачи, стратегический военный груз остался без охраны. Караула, как такового, больше нет. Начкар и Юрка – неизвестно где. Мэсел в отрубе. Выходит, он, Кравец, единственный, кто отвечает сейчас за всё: за груз, за оружие, за пьяного Мэсела и, в конечном счёте, за судьбу всего караула. Кто даст гарантию, что не найдутся желающие похитить что-то из перевозимого секретного оборудования или завладеть оружием и патронами? Впереди Ульяновск и Сызрань. Там – военные коменданты, в обязанность которых входит проверка выездных караулов. Что будет тогда? Минимум остановка эшелона, снятие и замена караула, отправка с позором в КВАПУ, где неизбежна встреча с комендантом Мисячкиным и с «губой». И это в лучшем случае. А в худшем? Тюрьма или дисбат.
Воображение тотчас нарисовало жуткую картину. Казарма. На табуретках, ровными рядами расставленных в проходе между кроватями, сидят курсанты родной роты. За накрытым красным ситцем столом с гранёным графином посередине – Баба Катя, парторг и комсомольский секретарь. Сбоку, на отшибе, понурив головы, Шалов, Захаров, Масленников и он сам. Но судят почему-то только Кравца. Дескать, ты один остался из состава караула и подвёл всех.
– Таварищ курсант, – визжит ротный, – я же гаварил вам, чта здесь не лицей. Паэтам в армии не места! Вам места в дисбате! Там узнаете, где раки зимуют…
– В дисбат его, в дисбат! – вторит ротному парторг.
– Кто «за»?
Все курсанты, как один, поднимают руки. Кравец косится на своих «подельников». Шалов, Мэсел и даже Захаров, отводя взгляд, тоже голосуют «за».
Тут пришла на память история с Витькой Пивнем, курсантом старшего курса. Он женился на курганской девушке-студентке. Очень любил её. Из-за своей любви и погорел. Однажды сбегал к жене в самоволку. В следующий раз кто-то сдал его взводному. Лейтенант вызнал адрес и заявился к молодожёнам среди ночи. Пивню повиниться бы, попросить прощения. А он в бутылку полез, чуть ли не в драку со взводным. Тогда и устроили общее собрание батальона. Драли Витьку и в хвост, и в гриву. А в конце предложили проголосовать за то, чтобы отдать самовольщика под трибунал. Все подняли руки. В том числе и Кравец. А как тут не поднимешь, когда офицеры «инакомыслящих» записывают в блокнотики? Вот и не нашлось смелых, чтобы выступить против. Конечно, можно оправдываться тем, что командование Витькину судьбу ещё до собрания решило. Но факт остаётся фактом – побоялся, не заступился, проголосовал как все.
«Так и со мной будет… – подумал Кравец. – А то и хуже… Пивню за самоволку дали полтора года дисбата, чтобы другим неповадно было. Но самовольная отлучка – это всё-таки не караул! За преступление в карауле дадут куда больше…»
Впрочем, и полутора лет в дисбате достаточно, чтобы судьбу человеку испортить. Пивню там отбили почки. Руки разрисовали наколками. Вышел Витька из дисциплинарного батальона полуинвалидом. Дослуживал в стройбате, где-то в Заполярье. Потерял от цинги почти все зубы. После дембеля заезжал в училище к знакомым ребятам. Его было просто не узнать. На щеке шрам: подарок от «дедов». Бывший отличник, симпатяга, он стал весь какой-то скукоженный, приблатнённый – вылитый «зэка». Жена его бросила. На работу устроиться нигде не может. В общем, жизнь наперекосяк.
«Что будет с мамой?..» – Кравцу представилось, будто уже осуждённым сидит он в Челябинском СИЗО, а мать выстаивает длиннющую очередь к окошку, где принимают передачи. Стоять ей трудно. Она сутулится и опирается на палочку. На палочке же висит сетка с печеньем и пачками «Беломора», который знающие люди посоветовали купить для того, чтобы сына не обижали паханы. Вокруг матери толкутся чужие люди. Кто-то плачет, кто-то хорохорится и зубоскалит по поводу тюряги и вертухаев, кто-то ругает всех и вся на чём свет стоит. Мать прячет глаза. Ей стыдно находиться здесь. Стыдно, что не смогла воспитать сына настоящим советским гражданином, достойным членом общества. «Это всё потому, что растила Сашу одна, без мужской руки, – укоряет она себя. – Вот и вырос безотцовщиной, уголовником!» Наконец подходит её очередь, и мать называет его фамилию и протягивает кошёлку в оконце. Охранник со злым лицом, заглянув в список, возвращает ей сетку: «Заключённому Кравцу, осуждённому за преступление в карауле, передачи не полагаются!» Мать рыдает и, прихрамывая, ковыляет на остановку…
Кравец усилием воли остановил разыгравшееся воображение: «Что это я разнылся, ведь пока еще ничего подобного не случилось! А если не случилось до сих пор, значит, и не случится вовсе!»
Вернувшееся здравомыслие потребовало немедленных действий. «Перво-наперво, – решил он, – надо привести в чувство Мэсела. Тогда я буду не один. Вдвоём мы сумеем как-нибудь продержаться, пока не отыщутся Шалов и Юрка. Но как заставить Мэсела прийти в себя? Устрою-ка ему вытрезвитель…»
Он распахнул до конца дверь теплушки. И ушёл в караулку, оставив Мэсела на полу в «предбаннике». Мысль о том, что тот может спьяну просто вывалиться из вагона, как-то не пришла в голову.
2
Иногда кажется, что время обретает плотность и вес – становится осязаемым, тяжёлым и густым. Иногда же его просто не ощущаешь, как воздух, которым дышишь. Вот так, когда бежишь кросс на три километра с полной выкладкой, вдохи-выдохи становятся судорожными, ноги ватными, глаза заливает едкий пот, в голове гулко отдаётся каждое движение, и только усилием воли приказываешь себе: бежать! Но мышцы не повинуются, заставляют перейти на шаг, а то и вовсе остановиться. Единственный выход в такой момент – победить собственную немощь и терпеть до «второго дыхания».
Когда Кравец остался в караульном помещении наедине с собой, стрелки на его «Командирских», как будто зависли. Словно кто-то невидимый ухватился за них и не давал двигаться вперёд. Стрелки, казалось, отражают его настроение. Чем тяжелее на душе, тем свинцовее становятся они. Чтобы привести в порядок чувства, ему пришлось сделать волевое усилие и заставить себя заняться чем-нибудь позитивным.
Он раскрыл блокнот и попробовал написать стихи. Получилось выспренно и неадекватно ситуации:
Опять гудок по нервам бьёт — Мы третий день в пути… Лети, наш паровоз, вперёд, Лети, лети, лети! Колёсный стук, как метроном, И не видать ни зги. Давно пора забыться сном И скинуть сапоги. На грубых нарах крепко спят Товарищи-друзья… А я не сплю, несу наряд — Нельзя мне спать, нельзя!Слова про товарищей-друзей, крепко спящих рядом, у самого Кравца вызвали усмешку. Нет рядом никого. Мэсел – в «предбаннике», а не на нарах. Да и какой он друг? Впрочем, после всего пережитого Лёньку вполне можно считать товарищем и даже боевым. А вот где настоящий друг – Юрка? Снова встрепенулась тревога: «Если Захаров не успел заскочить на подножку, то, в отличие от Шалова, он сейчас не возле станции, а где-то в заснеженном поле. Там уж точно негде спрятаться от ветра и не от кого ждать помощи!» Тут же кольнуло запоздалое раскаянье: ведь мог бы дождаться Юрку, вместе бы как-нибудь заскочили на какую-нибудь подножку или вместе бы отстали. А он, Кравец, бежал, даже не оглянулся, только о собственной шкуре и думал. С другой стороны, что случилось бы, если бы они отстали оба? Да ничего хорошего! Тогда и груз, и оружие оказались бы вовсе беззащитными. И Мэсел точно выпал бы по дороге…
От дальнейших размышлений Кравца отвлек шорох – будто мыши скребутся. Звук доносился из-за фанерной перегородки. Кравец распахнул дверь и увидел Мэсела, стоящего на карачках, безуспешно пытающегося подняться. Полоска света от керосиновой лампы высветила его белое лицо и посиневшие губы:
– Г-д-д-е я? П-па-че-му т-так х-хо-лод-но? – морзянкой выстучал он. – Г-д– д-е т-т-ут с-сор-тир?
Кравец обречённо вздохнул и поволок Мэсела за ящики. Когда тот облегчился, втащил его в караулку и уложил на нары. Накрыл полушубком и приказал:
– Спи! Скоро твоя смена… – потом вернулся в «предбанник» и затворил дверь теплушки – вагон уже основательно выстыл.
Кравец вернулся в караулку, снова устроился у «буржуйки» на ящике. Подбросил в топку угля и раскрыл блокнот. На этот раз муза вовсе не появилась. Наверное, испугалась похрапывающего с присвистом Мэсела. Зато пришли думы о дружбе. Вот взять их с Юркой. Жили они когда-то вдалеке, ничего друг о друге не знали, а познакомились и стали не разлей вода. «Только в армии и возможна искренняя мужская дружба, – высокопарно размышлял Кравец. – На “гражданке” такую точно не сыщешь. Потому что только, когда вместе делаешь что-то значимое, испытываешь одни и те же лишения, терпишь муштру, глупость начальства, и возникает настоящее товарищество, понимание, которые связывают людей. Но ведь случается и наоборот: трудности заставляют людей возненавидеть друг друга».
Кравец посмотрел на Мэсела. Тот уже отогрелся. Лицо его приобрело обычный красноватый оттенок, ещё более усиливающийся из-за рыжего ёршика, буквой «м» спускавшегося на низкий лоб. Рот приоткрыт. Верхняя губа обнажает ряд неровных, острых зубов. «Вылитая баракуда!» И ещё этот надрывный хрипяще-свистящий звук, вырывающийся из носоглотки!
«Нет, какие бы трудности нам ни пришлось пережить вместе, никогда мы не станем с Мэселом настоящими друзьями!» – окончательно решил Кравец.
Несколько часов поезд шёл без остановок. Ничего за это время не случилось. Мэсел, похоже, стал постепенно приходить в себя. Время от времени он просыпался и спрашивал который час. Это вселило в Кравца надежду: смена всё-таки будет! «Но ещё нескоро, – рассчитал он. – Пусть лучше Лёнька отоспится! По крайней мере, потом не заснёт на посту!»
Когда состав наконец остановился, Мэсел дрых без задних ног. Кравец снял со стены автомат, присоединил магазин и распахнул дверь теплушки.
Эшелон стоял на небольшом полустанке. Кругом было тихо и безлюдно. «И всё же бережёного Бог бережёт!» Кравец собрался уже спрыгнуть на платформу, как откуда-то снизу, из-под вагона, вынырнул человек, засыпанный снегом с головы до ног, и, не говоря ни слова, полез в теплушку.
3
Всё произошло так неожиданно, что Кравец не успел ни подать команды: «Стой!», ни передёрнуть затвор.
– Не ждали? – простуженно спросил «снежный человек».
– Юрка! Ты откуда? – радостно завопил Кравец и кинулся обнимать друга.
Юрку била крупная дрожь. Он вырвался из рук Кравца и, не говоря ни слова, шагнул в караулку. Там припал к «буржуйке», не боясь обжечься и спалить телогрейку.
– Осторожней, сгоришь, как Мэсел!
Вскоре от Захарова повалил пар, но прошло не менее десяти минут, прежде чем он заговорил.
– Выпить осталось? – его всё ещё трясло.
Кравец открыл бутылку «Агдама». Налил в кружку вино и поставил её на печь.
– Погоди, не пей! Пусть закипит. Это поможет согреться…
Захаров послушно дождался, когда в кружке забулькало и запахло приторно и сладко. Прихватив кружку варежкой, он стал маленькими глотками отхлебывать из неё. Горячее вино и впрямь помогло. Дрожь унялась.
– Ну, рассказывай, – Кравцу не терпелось узнать его одиссею.
– Чё рассказывать-то? Состав пошёл. Ты побежал. Я дёрнулся за тобой. Вижу: не догоню. Стал смотреть, куда забраться. А тут как раз полувагон мимо катился. Я в него и запрыгнул…
– Как же ты на открытой площадке выдержал?
– Лёг под наветренный борт. Свернулся калачиком и не высовывался, пока поезд не остановился…
– Ну, ты даёшь! Мы же часа четыре пёрли без остановки…
– Это для тебя четыре часа. А когда лежишь на морозе да ветер во все щели задувает, как будто несколько суток прошло.
– Не заболел бы после такого…
– Не заболею, если ещё «Агдамчика» плеснёшь! – облизнулся Захаров.
– Да пей сколько хочешь, лишь бы был здоров. Только не напейся, как Мэсел…
– Чё, всё ещё в себя не пришёл?
– Дрыхнет, как сурок… Ложись и ты. Я тебя укрою. Согревайся. Только не забудь: скоро Ульяновск. Там – комендант. Нам его прозевать нельзя, – вспомнил о собственных страхах Кравец. – Мэсела я через пару часов подниму, чтобы меня подменил. Тоже ведь спать охота. А он, когда нужно, поднимет тебя. Будь внимателен!
– Не переживай, Саня. Чё уж мы, совсем без мозгов?
Захаров ещё выпил подогретого вина, улёгся рядом с Мэселом и через минуту захрапел.
Кравец подождал, когда состав тронется, закрыл дверь теплушки и снова заступил на «пост истопника».
Тут припомнился ему рассказ преподавателя по тактике, как во время учений один солдат обманул всех. В палатке офицерские кровати стояли по кругу. В центре такая же «буржуйка». Около неё и дежурил солдатик-истопник. Он время от времени засыпал. Офицеры от холода просыпались. Откроют глаза: огня в щелях печки не видно, и заорут на солдата. Разбудят, дождутся, когда тот дров подбросит, и снова спят. Проснулся упомянутый преподаватель, когда задубел, покосился на печку, а там, внутри, огонёк мерцает. Вроде бы топится печь. Поворочался он с боку на бок и опять задремал. Замёрзнув, снова проснулся: огонёк горит. Подумал, что дело не чисто. Встал, поглядел: истопник седьмой сон досматривает, а в печке лежит светящийся электрический фонарик. Находчивый оказался солдат: придумал такую хитрость, чтобы офицеры его не тревожили…
Кравец оглянулся на Захарова и Мэсела: «Эти, пожалуй, прекрати даже я кочегарить, всё равно не проснутся. Правда, говорят, что сон добра не помнит: спишь, спишь, а всё спать охота».
Чтобы самому не задремать, он стал перебирать в уме разные случаи из курсантской жизни. А поскольку ночь располагает к самым сокровенным воспоминаниям – все случаи были связаны с девушками.
Своей подруги у Кравца ещё не было. Но так как у курсанта-второкурсника по неписаному закону уже обязательно должна быть таковая, он в разговорах с товарищами для поддержки собственного статуса называл своей девушкой Ирину – одноклассницу, даже не догадывающуюся о его чувствах. Что их связывало? Обмен долгими взглядами в десятом классе, одно приглашение на танец на выпускном вечере. Ни поцелуев, ни объятий. Даже в кино ни разу вместе не сходили. Конечно, Ирина была просто несбыточной мечтой. И первые рифмованные строчки о любви, хотя и адресовались ей, но до неё так и не дошли. Они пригодились потом Юрке Захарову. Вот у него девушка есть. Самая настоящая – Ольга. Они тайно дружат и целуются ещё со школы. Почему тайно? Потому что родители Ольги считают Юрку неподходящим кавалером для своей дочери. А вот она так не считает. И даже приезжала однажды к нему на свидание. Подумать только, с Кубани – в Зауралье. Вот это любовь! Правда, к Ольгиному приезду приложил свою руку и Кравец, чем нимало и гордится. Вышло так, что Ольгу что-то обидело в письме Захарова. Она написала ему в ответ гневное послание, а после писать перестала совсем. Юрка места себе не находил. Даже похудел. Потом сказал Кравцу: если через неделю письмо не придёт, покончит с собой. Такие случаи нередки, когда ребята в армии из-за девчонок стреляются, вешаются, объявляют голодовку. Допустить, чтобы такое случилось с другом, Кравец не мог. Он узнал адрес Ольги по конвертам, которые хранились в их общей с Юркой тумбочке. Написал ей письмо, в котором как мог поведал о сердечных муках друга. Вдобавок приложил несколько стихотворений о любви, якобы написанных по мотивам Юркиных рассказов. Неизвестно, что произвело на Ольгу большее впечатление: стихи или прозаическое изложение Юркиных чувств, но она простила Захарову все обиды и прилетела в Курган. Юрка был счастлив. И Кравец был счастлив за него.
А ещё памятна Кравцу свадьба друга детства Гоши Ецкало и одноклассницы Зои. На ней Кравец был шафером. К деревенскому дому невесты они подъехали на серой «Волге», украшенной золотыми кольцами и разноцветными лентами. Дом был обнесён двухметровым забором. Ворота заперты на засов. Любая свадьба без выкупа не обходится. На это из-за ворот весело намекали жениху Зоины родственники и друзья. Предполагалась долгая «осада». Но это было бы не по-курсантски! Оценив обстановку, Кравец вскарабкался на дровяной сарай и спрыгнул во двор. Там завязалась нешуточная потасовка с защитниками невесты, но он всё же сумел отодвинуть засов и впустить Гошу с товарищами. Потом они всё же отгадывали разные загадки, называли невесту ласкательными именами, откупались конфетами и шампанским. Но главный «бой» был выигран у ворот. Потому что, если ты во дворе у суженой, никто тебя оттуда уже не выгонит… «Где она, моя суженая?» – тоскливо подумал Кравец.
…За теплушечным оконцем тьма стала напитываться синевой. Скоро рассвет.
Кравец поглядел на часы и растолкал Мэсела. Тот, недовольно ворча, поднялся. Позёвывая, выслушал инструктаж и пообещал не спать на дежурстве, а при подъезде к Ульяновску всех разбудить.
Убедившись, что Мэсел на самом деле проснулся, Кравец улегся на нагретое место. Укрылся шинелью и тут же уснул.
4
В дороге тишина – гремящая. Когда долго едешь в эшелоне, ухо начинает улавливать её в промежутках между перестуком колес, скрипом нар, гудками встречных составов. Кравец проснулся от тишины непривычной, такой, от которой звон в ушах.
Он открыл глаза и удивился не столько этой тишине, сколько яркому свету, заполнившему теплушку. В окошке виднелись какие-то высокие здания.
Вскочив, он толкнул в спину Мэсела, мирно спящего у печки:
– Подъём! Тревога! Ульяновск! – быстро надел полушубок, схватил автомат и бросился к выходу.
Спрыгнув на перрон, Кравец огляделся по сторонам, прислушался. Какой-то шум доносился со стороны теплушки курсантов-пермяков. Не переставая следить за подходами к своему вагону, Кравец положил автомат и подсумок с магазинами на снег, застегнул полушубок, перепоясался ремнем и снова вооружился. Теперь вид у него был самый что ни на есть уставной, не считая небритой и неумытой физиономии. Он медленно двинулся в сторону соседей. Дошёл до последней охраняемой теплушки и остановился. Теперь от пермского караула его отделяла всего пара вагонов. Он наконец смог разобрать, что там происходит.
«Что вы тут устроили за бардак! – разорялся чей-то гневный бас. – Проститутка в помещении караула, пьянство… Я снимаю вас с эшелона! Я арестовываю вас! О вашем поведении немедленно будет доложено начальнику училища!»
«Комендант… – внутренне подобрался Кравец. – Сейчас с этими закончит и до нас доберётся! Тогда – полный амбец…»
Кравец попятился, негодуя на себя за этот страх и ничего не в состоянии с ним поделать. Он не был особенно смелым от природы, знал об этом и потому всегда больше боялся не самой опасности, а струсить перед ней. А ещё больше боялся, что его страх заметят окружающие. И коль встречи со страшным комендантом не миновать, Кравец, отступая, решил: во что бы то ни стало не поддаваться панике.
Комендант не заставил себя долго ждать. В тот самый момент, когда Кравец добрался до своей теплушки, он выпрыгнул из вагона пермяков, как чёрт из табакерки, и быстро пошёл в сторону Кравца. «Что делать?» – судорожно подумал Кравец и, подавляя новый приступ страха, заорал во всю мощь лёгких:
– Стой! Кто идёт?
– Комендант железнодорожной станции Ульяновск капитан Сидоров, – ответил коренастый комендант, продолжая движение.
– Стой! Стрелять буду! – ещё свирепее возопил Кравец. Холодея от страха, он так выпучил глаза, что это придало его лицу суровое выражение.
Капитан не послушался и не остановился. Тогда Кравец передёрнул затвор и повторил команду:
– Стой! Стрелять буду!
Лязг затвора подействовал на коменданта охлаждающе. Он остановился в пяти шагах от Кравца и несколько мгновений внимательно разглядывал его. Потом распорядился:
– Часовой, вызовите сюда начальника караула! Да поскорей! Некогда мне с вами антимонии разводить…
В душе у Кравца всё оборвалось: «Ну, начинается…», но он ответил как можно сдержаннее:
– Вызвать начальника караула не могу.
– Что значит «не могу»? – в голосе капитана зазвенела сталь. – Я с вами не в бирюльки играю, как вас там…
– Часовой второй смены курсант Кравец.
– Так вот, курсант Кравец, или вызывайте начальника караула, или я вас арестую…
– Товарищ капитан, вызвать начальника караула я не могу. Он отстал от эшелона на станции Юдино. Пошёл к начальнику станции за свечами. Они у нас кончились, а комендант в Казани не обеспечил… – вдохновенно соврал Кравец. Точнее, не соврал, а сказал полуправду. Шалов ведь, действительно, отстал на станции Юдино, и свечи, на самом деле, подошли к концу, а керосина в лампе осталось на самом донышке.
– Тогда пропустите меня в теплушку, – потребовал комендант.
– Без разрешения начальника караула не имею права, товарищ капитан, – кое-как нашёл уставную опору в разговоре с комендантом Кравец. Входить в караульное помещение посторонним часовой и впрямь может позволить только с разрешения начкара.
Неподчинение Кравца окончательно разозлило коменданта. Он сделал шаг к нему. И тут Кравец бабахнул в воздух, чего сам от себя не ожидал, и рявкнул по-настоящему грозно:
– Стойте, товарищ капитан! Следующий раз – стреляю на поражение!
Сидоров, кажется, почувствовал, что переборщил:
– Ладно, курсант, хватит пулять. Как за израсходованный патрон отчитываться будешь? – голос его звучал уже миролюбивей.
– Рапортом, как положено, отчитаюсь! – снова рявкнул Кравец и вдруг вспомнил, что, обороняясь, лучше всего атаковать. – Вы помните, какой сегодня день, товарищ капитан? – выпалил он.
Комендант от неожиданности замялся:
– Какой?
– Седьмое ноября. День Великой Октябрьской Социалистической революции. Красный день календаря, праздник, – торжественно напомнил Кравец и добавил: – Мы, конечно, от всего личного состава караула вас с этим днём поздравляем. Но вынуждены заявить, что на протяжении всего маршрута нам не поставляется питьевая вода, как положено. Опять же, нет свечей. И в баню уже пора. Мы неделю, как из училища, – тут он снова приврал. В дороге они были четвёртый день. Но чего не скажешь ради складного рассказа? Да и проверить комендант его слова сейчас не сможет: постовая ведомость в металлическом ящике, а ключ – у Шалова.
– Откуда ты такой выискался? – искренне изумился Сидоров.
– Курганское высшее военно-политическое авиационное училище, – бодро доложил Кравец.
– Политработник, значит. Да вы, я посмотрю, молодцы, – перевёл взгляд комендант куда-то за спину Кравца.
Кравец, остерегаясь подвоха, осторожно оглянулся. То, что он увидел, заставило его внутренне расхохотаться. Из раскрытых настежь дверей теплушки Мэсел и Захаров берёзовыми вениками выметали пыль.
– Молодцы, политработники! – повторил комендант. – Начальника караула нет, а вы службу несёте по уставу, порядок в караульном помещении поддерживаете. Вот что значит политическое училище. Не чета вашим соседям из ВАТУ. Я их караул снял. А вам за хорошую службу объявляю благодарность!
– Служим Советскому Союзу! – заученно отозвался Кравец.
Комендант повернулся, чтобы уйти, но Кравец остановил его:
– Товарищ капитан, а как же вода, свечи, баня…
– Ах, да… Давай караульного свободной смены с пустым бачком. Он воды наберёт, ну, и свечи получит. А вот бани пока не обещаю. Сдадите груз, тогда и помоетесь.
– А с начкаром как? Надо бы распорядиться, товарищ капитан! – Кравцу понравилась роль «атакующего». Это заметил и комендант.
– Не перегибай палку, курсант! А то ведь я не всегда такой добрый. Ну, где там твой караульный?
– Курсант Захаров, – приказал Кравец. – Сходите с товарищем капитаном.
– Ну, смотрите, курганцы! Службу в красный день календаря надо нести особенно бдительно, – сказал комендант, уходя. – До прибытия начальника караула, вы, Кравец, исполняете его обязанности. С вас и спрос будет, если что. А о своём начкаре не беспокойтесь. Я позвоню в Юдино, чтобы ему помогли вас догнать.
«Не знаете вы Шалова, товарищ капитан, – подумал Кравец. – Будет он в Юдино вашего звонка дожидаться. Он небось уже без вашей помощи что-нибудь придумал».
Но коменданта поблагодарил:
– Спасибо, товарищ капитан, – и заверил: – Мы вас не подведём…
Захаров, пробегая мимо, шёпотом восхитился:
– Ну, ты даёшь, Санька! – И посоветовал: – Гильзу подбери. Сдать надо будет в училище…
Когда комендант и Юрка скрылись из виду, Кравец забрался в теплушку. Мэсел тоже не скрывал своего восхищения, захлебываясь говорил, что никак не ожидал от Кравца такой решительности. «Лебезит, гад. Знает, что это из-за него пришлось мне так выкаблучиваться, – почему-то беззлобно подумал Кравец. – А может, это он подлизывается, потому что я теперь за начкара остался?»
Встреча с комендантом вымотала Кравца. Он поставил автомат в пирамиду, снял полушубок и завалился на нары, успев отдать, теперь уже на правах начальника, распоряжение:
– Курсант Масленников, заступайте на пост. Ваша смена, – и закрыл глаза.
5
Поспать по-настоящему Кравцу не удалось. Сначала разбудил Захаров. Он принёс не только воду и свечи, но и ходатайство коменданта перед командованием училища о поощрении отличившихся в карауле курсантов Кравца, Масленникова и Захарова. По этому поводу Юрка и Мэсел открыли оставшуюся бутылку и шумно веселились, пока Кравец не призвал их к порядку. Потом его разбудили гудки тепловозов и команды громкоговорителя: «Обходчик Петров! Зайдите к дежурному!», «Состав на пятом будет осажен», «Эй, на горке, что вы там телитесь?»
– Сортировка, – пояснил Мэсел.
Потом они с Захаровым громко заспорили, кому заступать на пост. Юрка утверждал, что Мэсел свою смену проспал, тот говорил, что Захаров положенное для службы время проехал на тормозной площадке. Кравцу снова пришлось вмешиваться и принимать сторону Мэсела. «Дружба дружбой, а служба службой. Тем более что наступила Юркина очередь». Когда Захаров, недовольно ворча, вышел из караулки, Кравцу наконец-то удалось поспать подольше.
Во сне его мучили кошмары. Снился старшина Гейман, орущий: «Ротя-а, подъём!», а потом вдруг: «Ротя-а, песню!» Гейман вскоре превратился в Бабу Катю, выговаривающего Кравцу: «Тута вам, таварищ курсант, не лицей. Тута вам – ваеннае училище». Во время нотации ротный стал меняться в лице и принял облик коменданта Сидорова, который голосом Шалова начал читать лекцию о необходимости знать язык потенциального противника. «Уот из ё нэйм?» – то и дело спрашивал он. Вдруг заиграл военный оркестр. Комендант растворился в воздухе, и Кравец оказался в рядах какой-то процессии, идущей по улице его родного Колгино. Рядом с ним печатали строевой шаг Захаров, Мэсел, какие-то незнакомые люди. Он спросил у Юрки: «Куда мы идём?». «Тебя хоронить», – ответил Захаров. Тут Кравец и разглядел, что впереди курсанты старшего курса несут гроб и памятник, где в чёрной рамке его фотография со стенда «Отличники учебы». Оркестр неожиданно перестал выдувать марш «Прощание славянки» и заиграл польку-бабочку. Процессия, приплясывая, вышла на училищный плац. Направилась прямо к памятнику Ленину, показывающему на дыру в заборе и провожающему самовольщиков каменным напутствием: «Верной дорогой идёте, товарищи!» Около памятника пляска с гробом прекратилась и начался траурный митинг. Выступал Мэсел и, утирая слёзы, говорил: «Кравец был моим лучшим другом!» Потом слово взяла одноклассница Ирина. Она тоже плакала, жалела Кравца и рвала на себе одежду: «Почему я вовремя не оценила его любовь?» В конце выступления Ирина оказалась совершенно голой, похожей на рубенсовскую пышнотелую матрону с многослойными складками на животе и могучими жировыми отложениями на бёдрах. Кравцу всегда нравились девушки хрупкие и утончённо-нежные, но растолстевшая Ирина показалась ему прекрасной. Вдруг на обнажённую Ирину-матрону набросился Мэсел, повалил её на асфальт и, непристойно хихикая, стал делать с ней то же, что с вагонной проституткой… Кравец хотел ударить Мэсела, но руки сделались, как будто ватные, отказывались повиноваться. В это время крышка гроба открылась, и оттуда поднялся покойник в курсантском парадном мундире с двумя курсовками на рукаве, о трёх головах, как Змей Горыныч. Только головы у этого чудища были не драконьи, а человечьи. Одна – Геймана, другая – Бабы Кати, а третья – Шалова. Все три головы вращались в разные стороны на длинных шеях и кричали, перебивая друг друга: «Ротя-а, песню! Эта вам не лицей! Надо изучать язык потенциального противника!» Трехголовый покойник направился к Кравцу, протянул к нему костлявые руки с длинными крючковатыми ногтями. Вот-вот – и схватит за горло… Кравец закричал, не слыша собственного крика, и… проснулся.
В теплушке кто-то разговаривал. Голос был незнакомый. Ещё под впечатлением страшного сна Кравец прислушался. Незнакомец низким, с хрипотцой басом рассказывал:
– На каждой станции приходится от алкашей отбиваться… Оружие-то нам, не то что вам, не положено… А за сохранность груза несём ответственность. Материальную. А они, алкаши, чуют, что ли, что у нас за груз. Лезут во все щели, как тараканы. Доски у вагона отрывают, ну и винцо, где бутылку, где пару, умудряются «скоммуниздить». Так я, в натуре, туристским топориком целую пол-литровую банку пальцев нарубил. Б… буду! Хочешь покажу? Щас кореш мой за ними сгоняет…
– Да, что твои пальцы, я в Кунсткамере не такое видал! – отказался Мэсел и тут же спросил: – А после никто за своими обрубками не приходит?
Кравец приподнялся на локте и увидел картину, которая заставила его вздрогнуть. В караулке помимо Захарова и Мэсела находилось двое здоровенных мужиков бандитской наружности. Руки того, кто рассказывал об отрубленных пальцах, были сплошь испещрены синими наколками. Левую щёку рассекал багровый шрам, придававший ему ещё более устрашающий вид. На столе громоздились бутылки с уже знакомым «Агдамом» и новые: «Солнцедар» и портвейн «777». Тут же лежали жареная курица и куски белого хлеба. От вида этого изобилия Кравцу до тошноты захотелось есть.
Увидев, что Кравец проснулся, рассказчик умолк и тронул Мэсела за рукав.
– А это наш начальничек, – представил Мэсел Кравца. Он снова был навеселе. – Посмотри, какие у нас лю-у-ди в гостях… Скажи, Юрка!
Кравец сел на нарах и строго спросил у Захарова:
– Кто это?
Глаза Захарова тоже пьяно поблескивали.
– Наши новые соседи. Хор-рошие парни, Сань… Ну, чё, ты надулся, в самом деле… – заметив недовольство друга, сказал он. – Ну, вместо пермяков на сортировке подцепили к нам два вагона. А там – ребята. Валера, – показал он на мужика со шрамом, – и его напарник Анар. Они в Волгоград вино везут. Вот это…
– Мы их к себе при-игласили. Праздник ведь, помнишь? – поддержал Захарова Мэсел.
– Я-то помню. А то, что посторонним находиться в караулке нельзя, кто помнить должен?
– У, какие мы сурьёзные, – иронично покачал головой тот, кого назвали Валерой и, по-южному смягчая окончания слов, спросил: – Что ты на пацаноу накинулся, в натуре? Какие ж мы посторонние? Мы тоже караульные, тоже груз охраняем! Тоже стратегический…
– Не положено! – настаивал Кравец, косясь на пирамиду с оружием, оценивая, все ли автоматы на месте: если дело дойдёт до драки, без автомата с такими бугаями не справиться. В памяти тут же всплыли инструктаж Бабы Кати, его рассказ о расстрелянном недавно уголовниками выездном карауле и фотография убитых солдат, которую ротный показывал.
Валера, перехватив взгляд Кравца, понимающе усмехнулся, но сказал вполне серьёзно:
– Не боись, начальник. Нам эти волыны без надобности. Не за тем пришли. Пацаны твои нам глянулись. Да и праздник, в натуре. Душа компании просит. Садись, выпей!
И Кравец смирился. Отпил немного вина, съел кусок курицы. В это время тепловоз дал два гудка.
– Анар, вали к нашим вагонам, – распорядился Валера, – а я ещё с кентами посижу немного…
Анар молча поднялся и вышел. Когда состав тронулся, Валера взял гитару, которая оказалась у него за спиной, и стал перебирать струны:
– Хотите, песню про вас спою?
– Про нас? – обрадовался Захаров. – Валяй!
Валера откашлялся и начал с прибаутки:
– А я вам песенку спою, а не Высоцкого, свою. Сочинил её как раз с похмелья… Ну, слушайте, кенты.
Он запел о часовом, который стоял на посту и к нему пришёл проверяющий. А он выстрелил в него и убил. Судят этого бедного часового, а он прокурору объясняет:
Это было год назад, а я обид не забываю скоро… В шахте мы повздорили чуток. Жаль, что там у нас не получилось разговора — Нам мешал отбойный молоток. На крик души: «Оставь её!» – он стал шутить. На мой удар он закричал: «Кончай дурить!». Я чуть опомнился и, не вступая в спор, Чинарик выплюнул, нож бросил и ушёл…Но прокурор продолжал пытать подсудимого, и тот объяснил, мол, он стоял на посту, на небе были тучи, но, по уставу, верно он стрелял.
На первый окрик: «Стой!» – он стал шутить. На выстрел в воздух закричал: «Кончай дурить!». Я чуть опомнился и, не вступая в спор, Чинарик выплюнул и выстрелил в упор.Вообще-то, песенка была так себе. Блатная. Но чем-то давно знакомым от неё повеяло. Особенно Кравцу понравились последние строчки, про чинарик, про выстрел в упор в того, кто увёл любимую девушку у часового. В родной пятиэтажке Кравца большинство соседских мужиков прошли через зону или «малолетку». Так что в дни народных гуляний окна в доме перекликались похожими песнями. Тут были и про Ванинский порт, и про тундру, по которой мчит курьерский «Воркута – Ленинград». Кравцу в детстве нравилась одна песня, жалостливая: «Мы брели по сугробам, нам морозило ноги, а чекисты штыками подгоняли вперед… Мать-старушка седая, знай, воды нам давала, головою кивала, утирала слезу…» И хотя Кравец с младых ногтей хотел стать разведчиком, то есть тем же чекистом, но, слушая песню, жалел бедных зэка. В их дворовой, мальчишеской компании считалось шиком уметь «ботать по фене», сплёвывать сквозь зубы и курить «Беломорканал». Кравец не курил и не плевался, но песен блатных и таких слов, от которых мама упала бы в обморок, знал много. Правда, всё это забылось в старших классах, когда он стал заниматься спортом и комсомольской работой. Но, видать, на дне души след от «блататы» остался. Да у кого такого следа не нет, если в каждой семье кто-нибудь в лагерях срок мотал! Уже курсантом, когда изучали историю КПСС и культ личности, Кравец придумал для сталинской эпохи такое определение, как «приблатнённый марксизм-ленинизм». Правда, этим ни с кем не поделился. Даже с Юркой Захаровым. Такое определение – не шарж с голым Шаловым: за него мигом за воротами КВАПУ окажешься, а то и в психушке.
А Валера тем временем пел уже другую песню.
А за окном хорошая погода, Окно откроешь – светит месяц молодой. А мне сидеть ещё четыре года: Душа болит, так хочется домой…После окончания песни ещё выпили. Потом Валера снова пел. Окончательно окосев, Мэсел завалился спать, и Захаров закемарил, уронив на стол отяжелевшую голову. Кравец, который пил меньше других, и Валера, на которого вино как будто не действовало, доели курицу и вышли в «предбанник». Валера открыл настежь дверь теплушки и уселся на пороге по-зэковски, на корточках. Достал из кармана маленький транзисторный радиоприемник, выдвинул антенну и стал крутить ручку настройки. Поймал «Маяк». Передавали последние известия о том, как советские люди радостно встречают очередную годовщину Великого Октября. Диктор с придыханием говорил о состоявшемся вчера торжественном заседании в Кремлевском Дворце съездов и о речи верного ленинца – Генерального секретаря ЦК КПСС товарища Леонида Ильича Брежнева. Далее следовали купюры из этой речи, где престарелый вождь с трудом выговаривал «сиськи-матиськи», то есть «систематически», и так далее, и тому подобное…
Валера жестом пригласил Кравца устроиться рядом.
Кравец, забыв всякую осторожность, свесил ноги вниз и взял транзистор в руки. В отличие от попутчика, подсмеивающегося над дряхлым генсеком, он стал вслушиваться в трудно различимые слова партийного лидера: по возвращении в училище придётся эту речь конспектировать, да и на следующем экзамене она обязательно окажется в билетах. Он так увлёкся прослушиванием, что не заметил, как Валера исчез. А когда спохватился и оглянулся, то увидел его с автоматом, к которому Валера пытался пристегнуть магазин…
Глава шестая
1
Смолин в сердцах сорвал с головы каракулевую ушанку и ударил оземь:
– Пока полный боекомплект снарядов не загрузите, эшелон не тронется. Это, товарищ генерал, я заявляю официально как командир полка!
– Поднимите головной убор, полковник! Приведите себя в надлежащий вид! Вы забываете, с кем говорите! – заместитель командующего округом по вооружению генерал-лейтенант Лобов сорвался на крик.
Первый батальон заканчивал погрузку на станции «Зелёное поле». Станция – одно название. Обыкновенная эстакада на краю картофельного поля, сразу за рядами гаражей, у забора военного городка. Лобов приехал проверить, как идёт погрузка, и всё время торопил Смолина: мол, у тебя, командир, ещё тринадцать эшелонов впереди, а ты с одним возишься. Смолин и сам знал, что на погрузку каждого эшелона положено не более трёх часов, но отправляться в горячую точку без боеприпасов решительно не желал. Дошло до скандала.
– Я хорошо знаю, с кем говорю! – жёстко сказал он. – Это вы, товарищ генерал, кажется, забыли, куда нас отправляют! Говорю вам с полной ответственностью: эшелон без снарядов не уйдёт!
– Я тебе приказываю, полковник! – окончательно выйдя из себя, по-медвежьи взревел Лобов. – Я тебя за неповиновение под суд отдам!
– В таком случае пошёл ты, ёкарный бабай, со своими приказами! Знаешь куда? – Смолин поднял шапку и зашагал прочь.
– Что, что? – у Лобова от такой наглости дыханье перехватило. – Да ты… Ты Родину предаёшь, полковник!
Смолин резко обернулся и отчеканил:
– Я-то её не предаю. А вот такие, как ты, генерал, её уже продали! Оптом и в розницу!
– Я тебя, Смолин, с дерьмом смешаю! – тон генерала не оставлял сомнений, что обещание он выполнит.
Смолин только плюнул в его сторону.
Кравец, на глазах которого всё происходило, поспешно козырнул Лобову и бросился вслед за командиром.
Взбешённого заместителя командующего принялся неуклюже успокаивать зампотех дивизии. Вскоре они уехали, так и не добившись отправки эшелона. Смолин приставил к машинисту двух автоматчиков и приказал стрелять в каждого, кто приблизится к паровозу без его разрешения.
День стоял морозный, безветренный. Из трубы гарнизонной кочегарки, возвышающейся над всей округой, как Вавилонская башня, дым густым столбом уходил в серое небо. Солдаты и офицеры, грузившие БМП на платформы, время от времени тёрли носы и щёки.
– Надень шапку, Серёга, простудишься, – попросил Кравец командира.
Смолин послушно натянул ушанку. Но внутри у него всё кипело и рвалось наружу:
– Что за цирк, комиссар? Мало того, что полк доукомплектовали солдатами из разных частей и даже из других округов, так теперь ещё на войну хотят без боеприпасов послать!
Это было правдой. Взамен первого мотострелкового батальона, в начале осени отправленного в Северную Осетию, полк пополнили бойцами из Чебаркуля, из Западной Сибири и Забайкалья. Но и этих новичков пришлось обменивать в соседних частях, после того как командующий округом распорядился в горячие точки молодых солдат не отправлять. Так что боевого слаживания, в его классическом понимании, у полка не было. Один раз постреляли на полигоне да провели ротные тактические учения.
– Я не знаю такой боевой единицы, как сводный полк! – тихо свирепел Смолин. – Я знаю только сводный оркестр, да и тому потребно время, чтобы сыграться!
Для других положенных при развертывании полка мероприятий времени и вовсе не осталось. А тут ещё служба вооружения сплоховала – не успела снаряды подвезти. А без них, Смолин, конечно же, прав, отправляться туда, где стреляют, нельзя. И так до сих пор доподлинно неизвестно, куда и зачем они едут. Одно ясно: не на прогулку. При этом Кравец понимал: Смолину крепко не поздоровится. Генералы обид не прощают. Тем более нанесённых публично. Это и высказал командиру.
– Да надоело мне на лампасы оглядываться и в Афгане, и здесь! Не простит – и не надо! Пошёл он в задницу со своим «лампасным синдромом»! Речь о жизни людей идёт, – отмахнулся Смолин.
Кравец подумал, как мало рассказывал Смолин о своём «афганском» прошлом. Известно, что служил он в провинции Кунар, командовал батальоном и что его батальон много раз участвовал в боевых операциях, зачищал «зелёнку» и кишлаки. И ещё что остались нереализованными два представления на орден Красной Звезды. В итоге привёз Смолин «из-за речки» только медаль от благодарного афганского народа да малярию, которая нет-нет да и начинает его потрясывать. «В любом случае, – подумал он, – опыт Смолина пригодится при выполнении боевой задачи. Но что за задача их ждёт?» Девятого декабря, говорят, вышло Постановление Правительства «Об обеспечении государственной безопасности и территориальной целостности Российской Федерации, законности, прав и свобод граждан, разоружении незаконных формирований на территории Чеченской Республики и прилегающих к ней регионов Северного Кавказа».
Именно через три дня после этого Постановления в дивизии и был получен приказ на отправку полка для действий в составе группировки прикрытия государственной границы России. Но так как самого Постановления в войсках никто не видел, то и из приказа оставалось неясным: куда направляется полк, как, прикрывая границу, он будет разоружать незаконные формирования?
Знакомые офицеры из Уральского округа внутренних войск рассказывали, что их части тоже отправляются на Кавказ, но позднее. В отличие от армейцев им поставлены более чёткие задания, которые сводились к мероприятиям по изъятию незаконно хранящегося оружия, выявлению лиц, подозреваемых в совершении тяжких преступлений, досмотру автомобилей, жилых помещений, проверке документов, охране общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и транспортных коммуникаций. Всё это «вэвэшники» должны были проводить совместно с армейскими подразделениями. Но об этом армейцы до сих пор не были уведомлены. И, более того, никто не мог сказать, что за вооруженные формирования будут противостоять им, какова их численность, каково вооружение, где они базируются?
Вопросов было больше, чем ответов. Однако по бестолковости и поспешности, сопровождающей подготовку к командировке, Смолин сделал единственный логичный вывод: полк отправляют на войну. Война всегда начинается с неразберихи. Потому и требовал он от командования то, что считал самым необходимым в бою – боеприпасы.
– Вот увидишь, комиссар, – сказал Смолин, немного успокоившись. – К вечеру снаряды будут! Или я тебе, ёкарный бабай, эту каракулевую ушанку подарю…
– Смотри, как бы тебе без шапки не остаться! – уловив перемену в настроении командира, улыбнулся Кравец.
Интуиция не подвела Смолина. К исходу двадцать третьего декабря к эшелону, стоящему под парами, подвезли боеприпасы. Правда, не весь боекомплект, но всё же его значительную часть. Заверили, что ко времени погрузки остальных составов всё недостающее снаряжение будет доставлено. Смолин спорить больше не стал и отдал команду загружаться. Истомившиеся в ожидании и промёрзшие солдаты быстро закончили погрузку, и первый эшелон полка тронулся в путь по маршруту: Свердловск – Уфа – Самара – Волгоград – Кавказская – Прохладный – Моздок.
2
Только в поезде день бывает таким же нескончаемым, как в детстве. Долгое утро сменяется неторопливым полднем, а тот ещё более протяжённым вечером. А уж про ночь и говорить нечего. Она длится, как мексиканские сериалы, заполонившие пореформенный телеэкран: бесконечные донны марии и доны педро со своими высосанными из пальца переживаниями, из которых ясно только одно – богатые тоже плачут…
Кравец смотрел в окно штабного вагона, и комок подступал к горлу. Во что превратилась некогда могучая страна всего за несколько лет. Слепые окна деревень, полустанки с фонарями, отключёнными за долги перед энергетиками, переставшие дымить трубы заводов, а рядом со всем этим – каменные громады новорусских особняков с люминесцентным освещением, возле них – обтекаемые иномарки, похожие на корабли пришельцев, которым нет никакого дела до всего происходящего вокруг. Но главное, простые люди, глядящие вслед эшелону с откосов, у переездов, на платформах, мимо которых грохочет состав. Мрачные взгляды, поджатые губы, сгорбленные спины. Никто, как бывало, не помашет солдатикам вослед, не угостит варёной картошкой и пирожками во время остановок. Не до этого. Выжить бы самим!
Невольно напрашивался вывод: провинциальная, корневая, угрюмая, оставшаяся без света и тепла Россия ещё не знает о новой войне, в которую втягивается. Но ощущение, что она уже примеряет вдовий траурный платок, не покидало Кравца.
Вторые сутки он ехал в эшелоне вместе со штабом полка. Эшелон растянулся на добрый километр. Помимо штабного в составе находились вагоны с комендантским взводом, с двумя взводами инженерно-сапёрной роты, далее следовали полувагоны с техникой, теплушки с ротой связи и противотанковой батареей. Состав шёл почти без остановок, что было тоже удивительно. По опыту «целины» Кравец знал, что воинские перевозки – одни из самых неторопких: от Чебаркуля до Красноярского края в восемьдесят восьмом они добирались целую неделю. Но тут, очевидно, железнодорожники получили строгий приказ сверху, и составу везде давали «зелёную улицу».
«Раньше такие эшелоны называли “литерными”, – вспомнил Кравец, – а теперь, наверно, их надо называть “президентскими”. Кто, как не “всенародно избранный”, определяет сегодня, кому давать “улицу”, кому не давать? А может, кто-то другой, сидя за кулисами, дёргает “всенародно избранного” за верёвочки и, подобно кукловоду, руководит распадающейся страной?»
Об этом и зашёл спор в штабном вагоне где-то между Уфой и Самарой.
– Армия давно уже ведёт войну. Войну на два фронта, – убежденно вещал Смолин, прихлёбывая чай из солдатской кружки. – И в горячих точках, и против недругов здесь, внутри страны. Ещё со времён Горбачёва у нас таких – до хрена и больше. Пятая колонна, ёкарный бабай! Вспомните, как все последние годы поливали нас разные журналисты, правозащитники и иже с ними. Если копнуть поглубже, так обнаружится, что все эти печатные издания и правозащитные организации созданы на деньги наших новых «партнёров» из-за океана, всяких там Соросов и ЦРУ. Не мне вам рассказывать, что это за «партнёры» и чего они хотят!
– Страну раскачивают, – это у них приём отработанный, ещё с Афгана, – поддержал Долгов.
– Точно. Если бы Горбачёв тогда войска «из-за речки» не вывел, может быть, у нас сегодня никакой бучи не было бы. Смотрите, как только мы ушли, сразу началось: Узбекистан, Таджикистан, Нагорный Карабах, Абхазия, Сумгаит… Такое ощущение, что мы из Афгана войну в Союз в своих вещмешках принесли! Значит, кому-то это было выгодно, ёкарный бабай. И у нас, и за «бугром».
– Вас послушать, товарищи офицеры, так весь мир против России ополчился. У них что, своих проблем мало? Взять хотя бы «Бурю в пустыне»… – влез в разговор полковник Бурмасов – заместитель начальника управления воспитательной работы округа, сопровождающий эшелон до станции выгрузки. Смолин называл его «смотрящим». Бурмасов был весь какой-то напыщенный, самодовольный, считающий справедливой только собственную точку зрения.
Смолин ответил уклончиво:
– Проблем в каждой стране хватает. Только одна страна не знает, как с рухнувшей экономикой справиться, а другая – весь мир сферой своих интересов определила и всем свою волю диктует. А чтобы легче было диктовать, чиновников разных на корню скупает… Ежу понятно: легче одного предателя найти, чем с целым народом воевать!
– На что это вы намекаете, Сергей Владимирович? – скорчил недоумённую гримасу Бурмасов и обратился к Кравцу: – А вы что молчите, Александр Викторович? У вас тут что, работа с офицерским составом не проводится? Откуда такое непонимание международной ситуации?
Кравец знал, что с Бурмасовым спорить бесполезно, но поддержать Смолина счёл своим долгом:
– Не понимаю, товарищ полковник, что вам не нравится в сужденьях командира? По-моему, он абсолютно прав. Всё, что происходит сейчас в мире, – обыкновенная геополитика. Когда такая супердержава, как СССР, погибает, на тризну немедля собираются хищники всех мастей. Сильнейшим достаются самые лакомые куски, тем, кто помельче, остатки. Никто не брезгует падалью. Да что тут о мировых проблемах говорить, когда в обычном подъезде, стоит завестись какой-то шпане, и она весь дом на рога поставит, если нет ей противодействия!
– Прекратите демагогию, Александр Викторович! Иначе не понятно до чего договоритесь! – возмутился Бурмасов.
– Извините, товарищ полковник, не я затеял разговор. Вы меня спросили, я отвечаю. Вы же сами понимаете, что во времена передела сфер влияния все средства хороши. Тут и подкуп чиновников, и шантаж тех, кого подкупить не удалось. Всё идёт в ход: и грязные избирательные технологии, и просто убийство. И всё только для того, чтобы во власть попали или уже подкупленные, или сломленные. Очень уж высоки ставки. Потому-то кукловоды ничем и не брезгуют…
Бурмасов сердито замахал руками, но рта раскрыть не успел. Вмешался Смолин:
– Правильно, комиссар. У тех, кто хочет управлять Россией, одна цель – покончить с внутренним сопротивлением. А это, ёкарный бабай, в первую очередь силовые структуры. Они основа любого государства: армия, милиция, служба безопасности, прокуратура. Для того чтобы их добить, и не жалеют никаких средств.
– По-вашему выходит, что в российском правительстве совсем не осталось патриотов? – никак не хотел признавать очевидное Бурмасов.
– Отчего же. Остались. Но власть – машина коллективная. Тут даже президент в одиночку ничего не решает, – Смолин обвёл глазами купе. – Слушает, что советники насоветуют…
– Короля делает свита, – поддакнул Долгов.
– Погляжу, вы тут спелись, – Бурмасов поднялся. – Пойду к связистам, посмотрю, как у них. Вы со мной, Александр Викторович?
Кравец отказался вежливо, но твёрдо:
– С вашего разрешения, товарищ полковник, останусь.
Бурмасов недовольно зыркнул на него бесцветными глазами и ушёл. Смолин чертыхнулся:
– Вот, ёкарный бабай, послал бес попутчика на нашу голову. Слышь, комиссар, мы ёще с ним горя хлебнём…
– Да ладно. Это ж только до Моздока, – утешил Кравец. – Я Бурмасова по политуправлению знаю. Дальше Моздока он ни ногой! О своей породистой шкуре слишком печётся. Генералом стать мечтает.
– Хорошая мечта.
– Ясный перец, хорошая. Только вот какой ценой? На наших костях!
– Россия-матушка вся на косточках стоит… Здесь, если и победа, так одна на всех, мы за ценой не постоим… – задумчиво произнёс Смолин. – Эх, не видать нам с вами, мужики, генеральских лампасов…
– Это почему?
В глазах у Смолина промелькнула усмешка. На вопрос он так и не ответил. Заговорил как будто бы о другом:
– Одна мечта у меня есть.
– Какая мечта? Колись, командир!
– Слушайте. Если меня там, куда мы… Ну, в общем, грохнут, пусть мне на гроб фуражку положат. Мою, шитую по спецзаказу.
Фуражку Смолину, с непомерно высокой тульей и вышитой, как у генералов, кокардой, два года назад привезли друзья из Москвы. Её сшил один армянин – известный среди военных франтов мастер-фуражечник. Фуражка служила поводом для вечной критики со стороны комдива на строевых смотрах и была предметом зависти у однополчан. Но сейчас упоминание о ней вызвало у Долгова и Кравца недоумение:
– Какая фуражка, командир, – зима на дворе! Или ты думаешь, что мы на границе до лета околачиваться будем? – спросил начштаба.
– Ты как будто ни разу на Кавказе не был. Там не зима, а слякоть одна, – сказал Смолин, но, подумав, согласился: – Хорошо. Не надо фуражки. Положите на гроб папаху.
– Так ведь отняли у полковников папахи, Серёжа… – напомнил Кравец, придав лицу серьёзное выраженье. Он уже догадался, что Смолин разыгрывает их, но решил ему подыграть. – Или ты свою ушанку по традиции папахой зовёшь? Так и она после беседы с генералом Лобовым потеряла товарный вид…
Смолин, пропустил его слова мимо ушей и невозмутимо продолжал:
– Я настаиваю, товарищи офицеры, положите на гроб фуражку, папаху, ушанку – всё едино. Главное, чтобы головной убор о моей принадлежности к офицерскому корпусу свидетельствовал. А чтоб он не слетел, гвоздём к крышке приколотите. Ясно?
– Зачем тебе это? – изумился Долгов, всё ещё не улавливая в словах Смолина подвоха.
– Как это «зачем»? Покойницы из соседних могил знакомиться придут, сразу увидят: здесь полковник лежит, ёкарный бабай, а не замухрышка какой-нибудь! Ха-ха-ха! – наконец не выдержал и рассмеялся Смолин.
– Ну, ты придумал, командир. Тьфу, тьфу, тьфу! – суеверно сплюнул Долгов. – Едем воевать, а ты про гробы, про покойниц…
– А что, может быть, в загробном мире престиж офицера ещё не упал? Вот мой московский дядюшка, Василий Иваныч, тоже, кстати, полковник, на одном из кладбищ заранее откупил место под свою будущую могилу. Специально выбирал: с одной стороны балерина лежит, с другой – артистка драмтеатра. Они ему по фотографиям на памятниках приглянулись. Я сначала, грешным делом, над дядей посмеялся, а после задумался: совсем не безразлично, ёкарный бабай, с кем рядом лежать будешь. Потому о себе убиенном заранее и беспокоюсь. Не откладывай на потом то, что можно сделать сейчас!
Кравец покачал головой:
– Я бы сформулировал иначе, командир. Не откладывай на потом то, что можно не делать вообще!
3
Прибытия эшелона в Волгоград Кравец ждал с особым нетерпением. Ещё в Екатеринбурге он позвонил своему другу и однокашнику Юрию Ивановичу Захарову, который служил в Волгоградском гарнизонном Доме офицеров. Надеялся, что Захаров через местных восовцев – офицеров-железнодорожников – сможет разузнать, когда эшелон прибудет в Волгоград, и приедет повидаться. Сам Кравец в Волгограде не бывал со времени давнего выездного караула. То есть почти двадцать лет. Да и Захарова не видел уже лет пятнадцать. Правда, все эти годы они регулярно обменивались письмами и поздравительными открытками.
Под вечер состав остановился где-то на разъезде, не доезжая Волгограда. Дежурный по эшелону вызвал Кравца к выходу:
– Товарищ подполковник, вас лётчик какой-то спрашивает, старший лейтенант.
Кравец выпрыгнул из штабного вагона и нос к носу столкнулся с Захаровым. Юрий Иванович, в шинели старого образца с голубыми авиационными петлицами, крепко обнял его. Кравец успел заметить, что Захаров стал ещё шире в плечах, да и в талии тоже. Но лицом не изменился: такой же открытый взгляд, белозубая улыбка, как в юности.
Однако когда они зашли в купе, оказавшееся в этот миг пустым, Кравец понял, что первое впечатление было обманчивым. Виски у друга оказались совсем седыми, а лоб прорезали несколько глубоких морщин. Они уселись друг против друга и заговорили одновременно.
– Ну, вот и встретились.
– Как ты меня разыскал? Даже мы не знаем график движения…
– Это дело нехитрое… Ты не гляди, что я – старлей. У меня в Волгограде всё схвачено. Ты же помнишь, что в армии есть «эй, офицер», есть «товарищ офицер» и есть «господин офицер».
– Слышал про такое…
– Так вот, напоминаю тебе, Санёк, «господин офицер» – это тот, у кого имеется служебная машина, собственный кабинет и собственный телефон, желательна ещё и секретарша. У меня как у заместителя начальника ГДО всё это в наличии. Ну, и уважение со стороны окружающих соответствующее. Мы, культпросветработники, всякому пригодиться можем. У того – свадьба, у этого – юбилей. А у нас в Доме офицеров ансамбль собственный имеется и кафе. И то, и другое, несмотря на всеобщий бардак, мы сохранили. Так вот, как только я твоим эшелоном заинтересовался, мне железнодорожный комендант полный расклад дал. В такое-то время будет остановка на разъезде Колоцком, а следующая на разъезде Привольном… Вуаля! И вот я здесь. Надеюсь, не возражаешь? – Захаров потряс увесистым полиэтиленовым пакетом, в котором явно просматривались очертания бутылок.
Кравец покачал головой:
– Ты, Юрка, в своём репертуаре! Помнишь, как в выездном…
– Кто ж такое забудет! – Захаров начал выкладывать припасы на столик. С гордостью повертел бутылкой армянского коньяка. – Настоящий! Ещё с советских времён… Ну что, вздрогнем?
– А если отправку дадут? Не успеешь выскочить!
– Не волнуйся, Саня. Я же тебе говорил, всё схвачено, за всё уплачено! – И, видя недоверчивое лицо друга, пояснил: – Волгоград вы обойдёте стороной. Без остановок. А вот часа через три опять встанете – на Привольном. Там я тебя и покину. «Уазик» свой я уже туда направил. А у нас есть время поговорить, ну и…
Кравец сделал предостерегающий жест: кто-то подошёл к купе и дёрнул за дверную скобу. «Только бы не Бурмасов». Пришли Долгов и Смолин. Кравец представил Захарова и пригласил сослуживцев к столу.
– Где наш «смотрящий»? – спросил Кравец Смолина, многозначительно кивнув на бутылки.
– Всё ещё у связистов. Думаешь, возмутится, что пьём?
– Развоняется, не ходи к гадалке, мол, посторонний в эшелоне…
– Это факт, – подтвердил Смолин. – Впрочем, повоняет, повоняет да перестанет. Ты же знаешь поговорку: не воняет, не запахнет! Что же тебе, ёкарный бабай, со старым другом встретиться нельзя? Кроме того, ещё никто наркомовских сто грамм не отменял в боевой обстановке.
– В боевой-то, оно, конечно. Но мы же ещё не в боевой!
– Если мы в эшелоне – это уже боевая обстановка!
– А в боевой обстановке даже православный пост – нам не помеха!
– Верно, комиссар! – подтвердил Смолин. – У меня есть батюшка знакомый, так он на мой вопрос: «Можно ли пить во время поста?» – ответил: «Можно, но только воинам, путникам и больным». Скажите мне, товарищи офицеры, кто из нас не воин? Кто не в пути? И кто, ёкарный бабай, после двадцати лет службы хоть чем-нибудь не болен?
– Ну, вы даёте, мужики! – восхитился Захаров и открыл коньяк. Разлил его по одноразовым стаканчикам, предложил: – Давайте за встречу!
Коньяк оказался выдержанным, соответствующим звёздочкам на этикетке.
– Сосуды хорошо расширяет, – прорекламировал Захаров. – Мне его из Еревана привезли, с какого-то элитного склада. А то пойло, что сейчас в «комках» продают, лучше не брать. Дерьмо собачье. Самогонка.
– Так точно, – подтвердил Долгов. – У меня батя взял на юбилей бутылку. Потом оглох на оба уха и чуть зрения не лишился.
– Это что! Кто-то вообще «коньки» откидывает, – брякнул Захаров и спохватился: – Извини, Василий…
– Проехали… – примирительно сказал Долгов.
Захаров налил в стаканчики новую порцию и поинтересовался:
– Знаете, куда вас?
– Пункт назначения – станция Моздок.
– Ага! Значит, в Чечню едете.
– Нам сказали, что на усиление госграницы.
– Что-то говорить надо… – Захаров поднял стаканчик. – За вас, мужики!
Когда выпили и закусили, Кравец спросил:
– А что слышно про Чечню?
– Да худо там, – помрачнел Захаров. – Русские семьи вырезают и выбрасывают из квартир. Девчонок насилуют. Мужиков кастрируют. Дикари, одним словом. У нас, в Волгоградской области, полно беженцев. Тех, кто сумел выехать. Рассказывают, что все чеченцы поголовно, даже женщины и дети, вооружены и готовятся к войне. А ведь это наши войска, уходя из Чечни, технику и вооружение им оставили. По приказу Грачёва… Если помните, Закавказский военный округ всегда лучше других экипировался. Теперь вся эта экипировка у чеченцев. Словом, не позавидуешь вам, славяне…
– Ну, Юрий Иванович, ты нас не хорони раньше времени, – Смолину последние слова Захарова пришлись явно не по душе. Чтобы разрядить обстановку, он сказал: – Кто курит, за мной!
Когда Смолин и Долгов вышли, Кравец спросил друга:
– Как ты живёшь, Юрка? Как Ольга, как дочка?
– Разошлись мы, Сань. Ольга с дочерью к родителям уехала. Год уже как один обретаюсь…
– Что случилось?
– Ничего особенного. Просто устала. Ты же знаешь нашу жизнь: переезды, переводы, бесквартирье. Теперь ещё и безденежье. В Волгограде вроде бы наконец обустроились – двухкомнатную получили. Тут мою благоверную начало другое корёжить, что я – всё ещё старший лейтенант, когда мои однокашники… – он выразительно посмотрел на погоны Кравца.
Кравец попытался отшутиться:
– Зато у тебя секретарша, кабинет да и звёздочек больше…
– Да я-то не комплексую, Саня, – успокоил Захаров. – А вот у Ольги как будто крыша съехала. Упреки, подозрения. Начали лаяться по всяким пустякам. А когда муж и жена как собаки, это уже не жизнь. В общем, решили расстаться. Квартиру, правда, пока не разменяли. Вот и холостякую. Первое время, конечно, подраскис. Потом понял, что и со своими погонами я для некоторых дамочек – завидный жених.
– Нашёл уже кого-то?
Захаров загадочно улыбнулся:
– Жаль, что не можешь у меня погостить. Я бы тебя с такими девочками познакомил…
– Один уже познакомил, – Кравец махом выложил всё про Мэсела и Тамару.
– Да… – Захаров озадаченно поскрёб затылок, став снова похожим на себя – курсанта. – Не повезло нам с бабами, Сань…
– Ничего, пробьёмся! – сказал Кравец, потянувшись к бутылке. В это время вернулись Смолин и Долгов. Следом пришёл Бурмасов. Он поздоровался с Захаровым и, к удивлению Кравца, ничего не спросил. Очевидно, Смолин уже подготовил его к встрече с гостем. Захаров, увидев незнакомого полковника, насторожился, но, успокоенный жестом Смолина, полез в пакет за чистым стаканчиком.
Бурмасову плеснули коньяку. Он не отказался. Выпил со всеми, закусил. Но разговор не клеился.
– Пойдём, Саня, в тамбур, просвежимся, – предложил Захаров.
4
Когда встречаются двое незнакомых между собой военных, им хватает нескольких минут, чтобы узнать друг о друге всё самое важное. Какое училище закончил, где служил, под чьим началом, знаешь ли того, встречал ли этого? А если бросишь взгляд на орденскую колодку, армейская судьба вообще как на ладони: воевал или нет, сколько лет выслуги, служил ли за границей… Конечно, бывают всякие нюансы, о которых колодка поведать не сможет, да и в короткой беседе о них не расскажешь. Но это именно нюансы. Они важны скорее не для новых знакомых, а для старых друзей, которым есть что рассказать друг другу.
– Так, ты думаешь, нас в Чечню? – переспросил Кравец, когда они вышли в тамбур. Ему хотелось разузнать у Захарова подробней о том, что происходит сейчас в этой бывшей советской республике. Из газет было известно только о махинациях с фальшивыми авизо, спекуляциях с нефтью да о неудачном штурме Грозного антидудаевскими формированиями в октябре этого года. По телевизору показывали интервью с несколькими захваченными в плен русскими офицерами, якобы добровольцами, оказавшимися в разбитой танковой колонне. И ещё одно интервью – с министром обороны Грачёвым, который тут же открестился от взятых в плен подчинённых: мол, ничего не знаю, ничего не ведаю. Все эти отрывочные сведения никак не складывались пока в голове Кравца в одну, общую картину.
– А куда ещё? – искренне удивился Захаров. – У нас об этом все говорят. – И спросил неожиданно: – Ты читал Ермолова?
– Какого? Который в прошлом веке Кавказ усмирял?
– Совершенно верно. Недавно его записки «Воениздат» выпустил. Как будто специально для вас.
– Нет, не читал. А что?
– Советую ознакомиться. Очень поучительно. Знаешь, как назвал Ермолов местечко, куда вы направляетесь? Гнездом всех разбойников, самых злейших и самых подлейших, для которых грабёж равен доблести, а обмануть иноверца, то есть русского, считается благим делом. Запомни. Пригодится.
– Да сталкивался я с чеченцами, ещё когда служил в Кустанае. Один меня чуть не запорол…
– Да ну…
– Точно тебе говорю. Наш полк тогда только что из Упруна перебросили. Жили мы в общаге. Семьи ещё в старом гарнизоне оставались. Само собой разумеется, когда все кругом – холостяки, свободное время проводили весело. Денежки, как ты помнишь, тогда у нашего брата водились.
– Значит, шлындали по кабакам.
– Догадливый. В Кустанае в ту пору всего два ресторана было: «Турист» и «Кустанай» – метрах в ста друг от друга. Так вот, в одном из них, кажется, в «Туристе», познакомились мы с Вовкой Перегудовым, моим приятелем, с двумя девицами. Танцы-прижиманцы. Выясняется, что у одной из подружек квартира в наличии. Следовательно, можно на чай напроситься со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но тут выясняется одно обстоятельство. Оказывается, у наших новых знакомых есть третья подружка, которая тоже пойдёт «пить чай» со своим новым кавалером. А этот кавалер – чеченец. Алим, как сейчас помню. Оказались мы на окраине города, в районе камвольного комбината, в однокомнатной квартирке на пятом этаже. Выпили шампанского, ну и танцы продолжили. Каждый со своей пассией. Вроде всё чинно и благородно. Танцую я со Светкой. Вдруг прямо перед моим лицом какой-то предмет блестящий со свистом проносится. Гляжу – а в дверном косяке кинжал торчит и раскачивается, как в кино. Не успел я опомниться, как Перегудов (а он раньше в десанте служил) этого Алима в охапку схватил и к выходу поволок. А тот, маленький, вёрткий, из рук вырывается и верещит, что меня всё равно «зарэжит», потому что я «на его дэвушка глаз палажиль».
– И что потом?
– Да ничего. Вовка чеченца с пятого этажа спустил, а кинжал мне подарил. Красивый кинжал, ручка с серебряными насечками. Где-то до сих пор дома валяется. А вечер, как ты понимаешь, был испорчен. Подружка Алима устроила скандал, что без ухажёра осталась. Наши «тёлки», из солидарности, тоже заартачились. В общем, пришлось нам с Перегудовым несолоно хлебавши пёхом (деньги-то все в кабаке оставили) переться до своей общаги.
– Да, – посочувствовал Захаров. – А меня чеченец от смерти спас. В Афгане.
– Ты разве там был?
– И был, и не был.
– Как так?
– А вот так. Ещё до официального ввода войск, двадцать пятого декабря семьдесят девятого, в одном из районов на севере ДРА, потерпел катастрофу Ан-12 с ротой десантуры на борту. По секретному распоряжению Генштаба срочно сформировали группу альпинистов, призванных из запаса. Командиром назначили мастера спорта международного класса по альпинизму из Ташкентского спортклуба армии. Для прикрытия выделили роту охраны, где я был замполитом. Загрузили нас в два «караван-сарая» – Ми-6. Тайно перебросили через границу в район катастрофы. Задачу поставили: найти тела погибших, не вступая в бой с местными племенами. Разбили мы палаточный лагерь на высоте четырёх тысяч метров. И стали окрестные отроги Гиндукуша прочёсывать. В начале января нашли останки самолета. Он врезался в гору и переломился. Хвост на одном склоне, фюзеляж и крылья на другом. Причём оба склона голые – скалы и лёд. К обломкам ещё и подобраться надо. Днём наши альпинисты лазили наверх. Ночью отдыхали. А мы их стерегли круглые сутки. Держали круговую оборону. По счастью, «духов» поблизости не оказалось. Но проблем и без этого хватало. Так вот, однажды я поскользнулся и чуть не свалился в трещину. Был у меня солдатик Амирханов из Грозного. Он-то меня за рукав бушлата и схватил, а то не говорил бы сейчас с тобой.
– Что тут скажешь: в каждом народе есть и плохие, и хорошие люди.
– И я – про то же. Нельзя всех под одну гребёнку. Мне беженцы рассказывали, что некоторых из них во время погромов прятали у себя соседи-чеченцы. Только таких «добрых чеченцев» дудаевцы тоже не щадили. У большинства же там, как я понимаю, сегодня просто антирусская истерия. Может, и Амирханов тот теперь меня спасать бы не стал…
– Кто знает, может, и стал. А история с самолётом чем закончилась?
– Странно, скажу тебе, закончилась. Ещё через неделю альпинисты обнаружили единственный уцелевший труп. Верней, то, что осталось: половинку тела с рукой. К руке на металлической цепочке чемоданчик фибергласовый прикован. Вышли на связь со штабом округа. Доложили о находке. Сразу же получили приказ сворачиваться. Свернулись быстро, но эвакуации ещё неделю ждали. А вот за чемоданчиком тут же вертушка пришла. Что было в нём? Не знаю. Может, какая-то секретная инструкция. Причём настолько секретная, что в Москве испугались, как бы не попала она в чужие руки. Короче, я догадался, что вся наша тайная экспедиция и была организована из-за этого саквояжа, а вовсе не для поиска погибших. Но самое интересное: по прибытии в Ташкент запасников отправили по месту жительства, а мою роту расформировали. Меня перевели в Приволжский военный округ. Тогда даже на ум не пришло посмотреть, есть ли в личном деле запись о командировке в Афган. После спохватился, но было поздно. Начал ходить по инстанциям, объяснять, что был «за речкой» почти месяц, а это значит, могу и удостоверение афганское получить, и льготы соответствующие. Ведь получают же «корочки» все, кому не лень: артисты, с концертами в сороковую армию приезжавшие, москвичи-инспекторы. А мне в ответ – ничего не знаем, ни о чём не ведаем. Доходился до того, что вызвали меня в особый отдел и приказали заткнуться. Я с дуру возбухнул, написал в Москву. Тогда-то служба моя и дала первую трещину. Спихнули меня с роты на солдатский клуб. Там одному хаму, пропагандисту полка, рожу начистил. Парткомиссия. «Строгач с занесением». Последствия – у меня на погонах, – Захаров покосился на свои звёздочки. – Так что помни, Саня, подвиги твои в Чечне никому не нужны. Поберегись, насколько возможно. У меня друзей немного осталось.
– Ладно, уговорил, речистый… Поберегусь, – пообещал Кравец.
…Спустя пару часов состав, как и предсказывал Захаров, остановился на заметённом снегом степном разъезде.
На прощанье обнялись. Захаров грузно выпрыгнул из вагона и, не оглядываясь, вперевалку зашагал к стоящему у станционного домика заиндевевшему «уазику». Кравец долго смотрел другу вслед, вдруг поймав себя на щемящей мысли, что увиделись они, возможно, в последний раз…
5
Двадцать девятого декабря эшелон прибыл в Моздок. Пока выгружалась боевая техника, Смолин, Долгов и Бурмасов отправились на поиски штаба группировки. Кравец остался на «хозяйстве». Он прошёлся вдоль состава, посмотрел, как идёт разгрузка. Поговорил с несколькими солдатами о том о сём: как настроение, в чём нуждаются. В общем, обычное «комиссарское» занятие.
В это время на соседний путь прибыл ещё один эшелон. Едва он остановился, из штабного вагона двое прапорщиков выволокли пьяного в стельку полковника, которого тут же вывернуло на платформу. «Вот скотина! – разозлился на незнакомца Кравец. – Надо же так нажраться! И главное: на глазах у солдат. Попробуй потом объясни им что-то про дисциплину и про честь мундира…» Отвернувшись, он зашагал в сторону вокзала.
В зале ожидания было полно солдат разных родов войск. Кравец определил это по шевронам на камуфляже. Впрочем, некоторые бойцы были одеты совсем не по-фронтовому – в шинели или бушлаты старого образца. Служивые дремали на лавках, курили, сидя на подоконниках, что-то обсуждали, балагурили, собравшись в кружок. Чувствовалось, что они предоставлены самим себе и никем не управляются. Между тем в зале находилось несколько высоких чинов, отличающихся от остальной военной массы каракулевыми ушанками и пятнистыми куртками нового образца. Один из таких начальников, видно, не знающий чем заняться, прямо на виду у солдат принялся распекать майора с петличками железнодорожника. Очевидно, местного коменданта. Майор огрызался и что-то доказывал, размахивая руками.
Кравец не стал дожидаться, чем закончится офицерская перебранка, вышел на привокзальную площадь. Она была безлюдной. Заглянул в один из магазинов. Все полки оказались пустыми.
– Народ как взбесился, – пожаловалась пожилая продавщица в застиранном халате. – Сметают всё, как перед войной: соль, спички, крупу…
Кравец ничего не ответил. Побрёл к эшелону, подавленный увиденным. Не добавляла настроения и мерзопакостная погода: с неба сыпалась морось, под ногами чавкала грязь, моментально превращающая сапоги в тяжёлые гири. Словом, всё, как у Бисмарка: «Война – это грязь, пот, кровь, железо». Правда, с кровью они ещё не столкнулись.
Комполка и начштаба вернулись одни, без Бурмасова.
– Прав ты оказался, комиссар. Наш «политический смотрящий» здесь решил остаться, – Смолин не скрывал презрения. – Я, говорит, буду вас в штабе группировки прикрывать от вышестоящего начальства, в случае чего… Защитничек, ёкарный бабай! Уже взялся писать донесение в штаб округа о выполнении поставленной задачи…
– Это Бурмасов умеет. Напишет… При помощи пяти «пэ»: пол, палец, потолок, прошлогодняя подшивка… За такие донесения, вовремя отправленные, и стал большим начальником! Погоди, Серёга, он ещё орден за участие в боевых себе выхлопочет!
– До орденов всем пока далеко, комиссар. А вот пять «пэ» уже начали действовать…
– В том-то и дело, что не пять, а всего три. Нет никакой прошлогодней подшивки, а только пол, палец и потолок, – пожаловался Долгов. – Посмотри, Александр, какие карты выдали. Шестьдесят первого года. Даже станция, где мы сейчас выгружаемся, на них не указана. Как воевать по таким будем?
– Не стони, Василий, без того тошно, – осадил начштаба Смолин. – Собери мне комбатов и командиров отдельных подразделений через двадцать пять минут.
– Есть, командир.
На «летучке» Смолин был краток:
– Товарищи офицеры! Получена задача: совершить передислокацию по маршруту Моздок – перевал Колодезный и к 4.30 тридцать первого декабря сосредоточиться в районе отметки 246.3. Начальник штаба, доведите порядок построения колонны и организации связи на марше.
После такого же лаконичного доклада Долгова Смолин спросил:
– Вопросы есть?
– Что с вещевым имуществом делать, товарищ командир? – подал голос Анисимов.
– Приказано всё – палатки, спальники, вещмешки – пока оставить здесь. С собой берём только оружие, боеприпасы, сухпай на двое суток. Остальное подвезут, когда обустроимся. Ясно?
– Так точно.
– Ещё вопросы?
– Нет, – за всех ответил Долгов.
– Хорошо. Начало движения через час. И доведите до личного состава, что возможны вооруженные провокации со стороны чеченцев. Нам приказано на провокации не поддаваться, ответный огонь без команды не открывать. Все свободны, товарищи офицеры.
Движение начали точно в назначенное время. БМП Кравца следовала за командирской машиной в центре колонны. Долго ехали по всхолмленной равнине в сторону синеющих впереди гор. Через три часа колонну обстреляли из лесополосы вдоль шоссейной дороги. По счастью, никого не зацепило. Следуя приказу, в ответ не произвели ни единого выстрела.
Когда въехали в первое чеченское селение, их встретили старики и старухи. Они стояли на обочинах и кричали проклятия на ломаном русском языке. В самом селении по колонне не стреляли, но на окраине Кравец увидел два сгоревших бронетранспортера с рваными ранами на бортах. На одном из них белой краской было выведено: «Добро пожаловать в ад!», на другом: «Ичкерия останется свободной! Аллах акбар!» А рядом, как будто в насмешку, – придорожный плакат советских времён: «Да здравствует братская дружба народов СССР!» – весь посечённый пулями.
«Да была ли дружба?» – Кравец вспомнил, как в шестьдесят восьмом они возвращались на Урал из Ферганы, где гостили у маминого брата. В Ташкенте до посадки на челябинский самолет оставалось несколько часов. Отправились на троллейбусе посмотреть город, только что восстановленный после землетрясения. Мать тогда ещё ходила без палочки, хотя и прихрамывала на больную ногу. Она только присела на освободившееся место, как в троллейбус вошёл похожий на басмача пожилой узбек в стёганом халате и чалме. Он стал кричать на мать: «Что ты тут расселась, русская! Убирайся в свою Россию!» Мать безропотно уступила ему место, но старик всё не унимался: долго ругался по-узбекски и по-русски. Кравца очень удивило, что никто в троллейбусе не вступился за маму. Милиционер-узбек, стоящий рядом, отвернулся. А узбечонок с пионерским галстуком, ровесник Кравца, во все глаза пялился на старика и улыбался, как казалось, с одобрением. Кравец не решился тогда ничего сказать в защиту матери, да и не знал, что сказать. Когда вышли, он спросил: «Почему этот старик так ненавидит русских, которые помогли отстроить Ташкент?» Мать ответила: «В каждом народе, сынок, есть плохие и хорошие люди». – «Почему же тогда все промолчали? Неужели во всём троллейбусе не оказалось ни одного хорошего человека?»
Впоследствии Кравцу ещё не раз приходилось убеждаться, что лозунги о дружбе между народами – одно, а жизнь – совсем другое. Он видел, как стенка на стенку сходятся на призывных пунктах армяне и азербайджанцы, как бьются в кровь спинками от солдатских кроватей военные строители: узбеки и казахи. Сам, в роли третейского судьи, не однажды разнимал такие драки, пытался примирить враждующие стороны.
Словом, межнациональные проблемы были всегда. Но в советские годы о них открыто не говорили. Союзные республики под крылом России удерживались, где силой, где финансовой поддержкой. Но противоречия оставались и нарастали. Корень их таился в непонимании национальных особенностей того или иного народа, в нежелании признавать ошибки в национальной политике. «Вот и пожинаем теперь плоды собственной бестолковости…»
Чем ближе колонна продвигалась к Грозному, тем чаще на обочинах чернели остовы подбитых машин, тем сильнее сердце Кравца сжимало недоброе предчувствие, что простой демонстрацией силы здесь не обойдётся, что это, как предупреждал Захаров и прогнозировал Смолин, война. И война – надолго.
По радио Смолин передал: «Всем экипажам открыть люки десантного отделения! Пехоту на броню!» «Вот уже и афганский опыт в действии, – догадался Кравец. – Прав Серёга: если при закрытых люках в БМП шмальнут из гранатомета, всех, кто внутри, размажет по стенкам. А на броне, хотя и под прицелом снайперов, есть шанс во время подрыва уцелеть».
Вскоре дорогу тесно обступили горы, и весь остаток дня двигались по серпантину. Колонна растянулась на несколько километров. Три БМП второго батальона совсем отстали. «Вот где аукаются грызловские дутые оценки за состояние техники!» С отставшими машинами оставили «Урал» технического замыкания, а сами продолжили путь. Впрочем, среди причин отказа техники были и объективные. Когда уезжали с Урала, на градуснике было минус тридцать. Система БМП замёрзла. Здесь – оттаяла. Да ещё высокогорный воздух. Двигатели на изношенных машинах с трудом справлялись с такой нагрузкой. «Не хватает только, чтобы моя БМП заглохла», – переживал Кравец.
Но его бээмпэшка, чихая и натужно ревя, всё-таки дотянула до вечернего привала. Там Смолин получил по радио очередной приказ: «К 4.00 тридцать первого декабря заменить подразделения 131-й отдельной мотострелковой бригады в районе севернее два километра поселка Садовое и к семи утра провести “демонстративные” действия силами первого мотострелкового батальона в направлении Пролетарское». Иными словами, первому батальону предстояло провести разведку боем, ведь никаких сведений о противнике, о его огневых средствах и опорных пунктах штаб группировки не предоставил.
Смолин выругался, вспомнив мам, пап и всех родственников до седьмого колена этих штабных идиотов, и скрепя сердце отдал приказ двигаться дальше.
Из-за плохой видимости на исходный рубеж вышли с опозданием на три часа, потеряв в пути ещё две боевые машины третьего батальона.
Командный пункт полка развернули в заброшенной кошаре. Когда рассвело, разведрота отправилась на разведку моста через Алханчуртовский канал.
В бинокль уже хорошо были видны чёрные силуэты высотных домов на северной окраине Грозного.
Глава седьмая
1
Валера не успел прищёлкнуть магазин. Кравец вскочил и шагнул к нему. Спросил, стараясь не показать, что испугался:
– Ты чего с автоматом балуешься? Это не туристский топорик, которым пальцы алкоголикам рубят, а боевое оружие…
Валера хмыкнул вполне миролюбиво:
– Я тебя на понт брал. Хотел посмотреть, что делать будешь, когда волыну у меня увидишь. А ты мужик нессыкливый оказался. На, бери свой пулемёт… – он протянул Кравцу автомат и магазин.
Кравец взял оружие и зашёл в караулку. Валера следом. Кравец демонстративно поставил автомат в пирамиду, решив при первом же удобном случае оружие убрать подальше. Вертя магазин в руках, спросил:
– А это где взял?
Валера усмехнулся, на этот раз снисходительно:
– У твоего корешка. Вон у того, – он показал на спящего Захарова.
– Как ты достал? У него же подсумок под головой… – искренне удивился Кравец.
– Не такое доставали, – важно сказал Валера и выставил вперёд пальцы левой руки. – Видишь, перстенёк расписан. Это, в натуре, не простой перстенёк, а особенный. Всё равно что у вас, вояк, звёздочки на погонах. Такие «писки» есть у каждого, кто на зоне оттягивался. Это наши знаки отличия, с той разницей, что за «писку», тебе по рангу не положенную, точно рога поотшибают, а то и на вечное поселение отправят. К жмурикам.
Кравец посмотрел на синий перстень на среднем пальце у Валеры и ничего особенного не увидел. Так, четырёхугольник, одна половина которого заштрихована, на другой выколоты какие-то цифры и ключ, а сверху – корона с неровными зубцами.
– Перстень как перстень. А что он означает?
– Чудак человек. Всё. Всю мою, тэк сказать, биографию. Кто я по профессии воровской, где сидел, и ваще, что из себя представляю, по понятиям…
– Ну и кто ты и что ваще из себя представляешь? – невольно передразнил Кравец.
Валера окинул его оценивающим взглядом:
– Много будешь знать – скоро состаришься.
Кравец обиделся и, хотя его распирало любопытство, буркнул:
– Не хочешь говорить, не надо.
– Да не пузырись, командир. Я же не сказал, что не доверяю. Просто, на сухую, житуху мою не перескажешь, – Валера шагнул к столу. Налил вино в кружки. – Ты, в натуре, хочешь, чтобы я тебе ликбез устроил?
– В натуре.
– Лады. Слушай и запоминай, авось пригодится.
– Лучше бы не пригодилось, – покосился Кравец на Валерины наколки.
– Ну, не мы придумали: от тюрьмы и от сумы не зарекайся, – нравоучительно заметил Валера и предложил: – Давай корешка твоего на нары перенесём: и ему сподручней дрыхнуть, и место у стола освободим.
Они перенесли обмякшего Захарова и положили рядом с Мэселом. Кравец наконец-то вернул Юркин магазин в подсумок, забросил амуницию подальше на нары. С видом прилежного ученика уселся на ящик и выжидательно уставился на Валеру. Польщённый вниманием, тот поднял кружку, одним махом заглотил её содержимое и объяснил:
– Значитца, перстенёк вот этот говорит знающему человеку, что его хозяин, то бишь я – вор. Вор необычный. «Избач» или «домушник». Секёшь?
– Ага. Домушник – это тот, который квартиры грабит?
– Э-э, деревня. Не грабит – грабят гопстопники, а берёт. Домушник – профессия в воровском мире одна из самых уважаемых. Потому что мозги тут надо иметь, глаз зоркий, ну и ручки золотые, как у Сонечки Мармеладовой…
– Сонечка Мармеладова – это же у Достоевского. Ты, наверно, про Соньку-«Золотую ручку»?
– Грамотный. Ну, дело не в Соньке. Знаешь, что такое «взять на хоровод»?
– Откуда?
– Это, когда за три дня все квартиры в подъезде берёшь. И всё чисто, без сучка, но с задоринкой.
– Как это, с задоринкой?
– Есть своя техника. Особый шик – скачок, который называется: «С добрым утром». Часов в пять тихонечко открыть дверку в квартирке, вынести всё, что хозяева-ротозеи в прихожей оставили, и так же по-английски удалиться…
Кравца уже начали коробить Валерины откровения:
– А совесть не гложет: люди зарабатывали своим трудом, а ты, вот так, за один заход уносишь?
– Всякий зверь в природе нужен. Если бы в лесу одни козлы водились, так и травы бы не осталось. Волки стадо козлов прореживают, значитца, и природу сохраняют. Секёшь?
– А кто тебя уполномочивал «волком» быть? Может, ты и есть этот самый «козёл»?
Валера побагровел и стиснул кулаки.
– Жисть уполномочила, – сказал он зло. – А она, служивый, не такая, как вам в военной школе рассказывают. Ты вот «бровастого» слушал, как он с трибуны лапшу работягам на уши вешает. Так, если разобраться, в натуре, где «волки» сидят, – в Кремле. Там воры настоящие, наши паханы им в подмётки не годятся. «Коммуняки» целую страну опускают, на базар разводят…
Тут взъерепенился Кравец:
– Ты партию не трогай! Это не твоего ума дело! Взялся про наколки рассказывать, про них и говори. А нет, так вали отсюда!
– Э, пацан, ничего ты не смыслишь… Ничего не видал ещё…
Валера налил полную кружку вина, выпил одним махом. Достал сигарету и закурил. Он как-то сгорбился, и суровое лицо его приобрело унылое выражение.
Кравцу вдруг стало жаль его, ничего не понимающего в политике партии, загубившего свои таланты и способности в тюрьме. Он подумал, что Валера, наверное, очень одинокий человек. Некому было его в своё время на путь истинный наставить, объяснить, что живёт он не так, не нашлось доброго человека рядом.
– Ты, Валера, не злись, – примирительно заговорил он. – Я тебя обидеть не хотел. Конечно, жизнь у всех разная. И правда тоже – у каждого своя.
– Правды нет вообще, – философски изрёк Валера. – Ты что думаешь, я всегда вором был? Был таким же, как все. Из-за шалавы одной погорел. Пацаном, шестнадцати ещё не было, втюрился в одну «тёлку» двадцати годов. А она беспутная была, парней меняла, как перчатки. Но красивая, падла. Фигурка точёная, соски в лифчике вот-вот дырки просверлят. А я её, в натуре, так хотел, аж язык во рту топорщился. Нонкой звали, курву эту.
– Чего ж ты о ней так отзываешься? Ведь любил же, говоришь!
– Ну любил, не любил, а тащился, как медведь от мёда. А она мной, как мячиком, играла. То приманит, то холодом обдаст. А ещё страшней – с собой на свиданье брала, вроде как я – её младший брательник. Сама с другими задом вертит, а мне глазки строит. Сука!
Валера снова закурил. Сделав несколько затяжек, погасил сигарету о стол:
– Я уже взбесился не на шутку, грохнуть её надумал: не моя, так пусть никому не достанется! Вдруг Нонка предложила: укради из церкви крест позолоченный, тогда я твоей стану.
– И что?
– Что, что? Хрен в пальто! – Валера снова налил себе и выпил. – Сделал я, что она говорила. Только потом узнал воровской закон: нельзя у Бога ничего брать…
Кравец назидательно заметил:
– Дело не в Боге. Его нет вообще. Просто воровать нехорошо!
– Есть Бог, – убеждённо сказал Валера. – Если бы Его не было, меня бы ни за что не повязали. А тут, сразу на выходе из храма, две богомолки заметили, что я распятие упёр, и вой подняли. Вцепились в меня, как клещи. Я одну ударил, вырвался и дёру! Откуда ни возьмись, менты на мотоциклете. В общем, надели на меня браслеты. А там пошло-поехало. Зона – университет на всю жисть. Кто туда однажды поступил, вечным студентом будет. Во, видишь наколку, – он вытянул вперёд правую руку и пошевелил пальцами, на которых было наколото: «СЛОН». – Эту «писку» блатные мне в первую ходку сделали.
– А что такое «СЛОН»?
– Переводится красиво: Смерть Легавым От Ножа…
– А при чём здесь Бог? – удивился Кравец.
Валера показал шрам на щеке:
– Видишь?
– Ну.
– Лапти гну! Метка мне до деревянной телогрейки, что Он есть.
– Не пойму я тебя.
Валера расстегнул рубаху и показал Кравцу золотой крест на толстой золотой цепи. Кравец успел разглядеть на его волосатой груди ещё одну наколку – орла, парящего над церковными куполами. Валера перехватил его взгляд:
– Орёл – это ещё до шрама. Во второй ходке. Я тогда уже в авторитете был. А крест православный надел и с ворами завязал, когда после третьего срока откинулся. Попал в одну передрягу. Меня «беспредельщики» в оборот взяли. При «бровастом» они в силу вошли: ни понятия, ни «законников» ни во что ни ставили. На «стрелке» меня и ещё двух братков пиками встретили. Братков на месте кердыкнули, а меня затащили в подвал рядом с церковью и давай медленно на портянки рвать. Не знаю, сколько бы я промучился, пока со своими корешками свиделся на том свете. Батюшка местный меня отбил – отец Максим. Он бывшим десантником оказался. Трёх «беспредельщиков» вырубил. Меня из подвала забрал. Выходил. А потом и окрестил. Пока я у него отлёживался, разговаривали много, и будто глаза мои открылись: как живу, зачем? Понял, в натуре: сколько ни воруй, а туда ничего не возьмёшь. Голым пришёл, голым и уйдёшь. А ты говоришь, Бога нет!
– Какой же ты верующий, если у тебя что ни слово, то «феня»?
Валера пристально посмотрел на Кравца:
– Не путай Божий дар с яичницей, командир. Вера вот тут, – он выразительно постучал себя по груди, – а за «базар» перед Отцом небесным ответим как-нито…
Кравец недоверчиво покачал горловой:
– А эта… Нонка что?
– Нонка? Что ей сделается? Пока сидел, замуж вышла. За кого бы ты думал? За мента, за того самого, который меня упрятал… Шалава, она и есть шалава!
– А как же заповедь: не суди, да не судим будешь?
Валера не успел ответить. Заворочался и проснулся Мэсел. Сел на нарах и, тупо уставясь на собеседников, спросил:
– Мы уже приехали?
– Ага. Сейчас разгружаться будем, – ответил Кравец и задал Валере ещё один вопрос: – Как же ты работаешь, ведь ворам вроде как работать не положено?
– Верно, западло. Но я же тебе сказал, что завязал. А на работку эту, прямо скажем, непыльную, меня отец Максим пристроил. Он ведь теперь духовник мой.
– Да. Работа у тебя – и впрямь позавидуешь. Опасная только.
– Бог милует пока.
– А выпить у нас есть? – снова подал голос Мэсел. – В горле пересохло…
– Хватит пить, Лёнька! Скоро Сызрань, – попытался приструнить Кравец.
Но Мэсел настаивал:
– Выпить хочу! Валера, налей…
Валера потянулся к бутылке. Она оказалась пустой. И все остальные тоже.
– Извиняй, служивый. Кончились «патроны».
– Так принеси ещё, – скорчил капризную мину Мэсел. – У тебя же целый вагон…
Валера отрезал:
– Всё, халява закончилась. У меня на «бой» только два процента списывают, а за остальную недостачу мы с Анаром свои кровные выкладываем. Так что хочешь пить, приятель, плати.
– А я и заплачу, – захорохорился Мэсел. Он пошарил по карманам, наскрёб несколько смятых рублей и спросил: – Хватит?
– Смотря на что.
– Хочу купить ящик портвейна, – важно произнёс Мэсел, невзирая на протестующие жесты Кравца.
Валера расхохотался:
– Хэ-хэ! Ты совсем ориентиры потерял! Тут от силы на два пузыря. – Потом добавил уже без смеха: – Лады, служивые. Вижу, что с «бабками» у вас туго. Предлагаю натуральный обмен. Ящик вина на ящик тушенки. А то мы без жратвы остались с напарником. Ну, как?
– Нет. Мы на это не пойдём, – запротестовал Кравец.
– Чего это ты за всех выступаешь? – возмутился Мэсел. – Я, например, от своей доли тушёнки отказываюсь. Я портвейна хочу!
– Тут нет твоей и моей доли. Продукты выделены на весь караул, – Кравец уступать не собирался. – Помнишь, кто сейчас за начкара? Так вот, я запрещаю обмен. Приедет Шалов, пусть он и разрешает.
Масленников обиженно умолк. Валера развёл руками:
– Как знаешь, командир…
2
До Сызрани доехали к вечеру. Остановок, во время которых можно было бы пополнить запасы спиртного, не случилось, поэтому все протрезвели. В караулке навели порядок: пустые бутылки засунули под нары, убрали остатки пищи со стола, подровняли шинели на вешалке.
Под насмешливым взглядом Валеры побрились и подшили к «пэша» свежие подворотнички.
– Давайте, служивые, старайтесь! Авось в генералы выйдете, – благодушно похохатывал бывший зэк.
– Не до генералов нам, – отмахнулся Кравец, которому Валера, как это ни странно, нравился всё больше. – Нам бы мимо очередного коменданта проскочить…
Не проскочили. Комендант, высоченный старший лейтенант, появился, когда его не ждали. На сызранской сортировке. Да не один, а с Шаловым. Сержант был зол и мрачен. Комендант просто лют.
– Почему посторонний в теплушке? – с порога набросился он на караульных. – Остались без начальника караула, думаете, всё можно?
– Да не посторонний я, – запел свою «песню» Валера. – Из соседнего вагона, соли попросить зашёл…
– Немедленно покиньте караульное помещение! – приказал комендант. – А вы, сержант, – обратился он к Шалову, – давайте постовую ведомость.
Шалов беспрекословно открыл металлический ящик и достал документы. Комендант задал Масленникову и Захарову несколько вопросов по уставу гарнизонной и караульной службы. Они что-то невнятное промямлили в ответ. Старлей уселся за стол и при свете свечей сделал запись в ведомости.
– Доигрались, отличники! – произнёс Шалов вместо приветствия, когда старлей ушёл. Он поднёс ведомость поближе к керосиновой лампе и, с трудом разбирая почерк коменданта, прочитал: «Личный состав выездного караула службу несёт спустя рукава. В караульном помещении на момент проверки находился посторонний. Караульные первой и третьей смены курсанты Захаров и Масленников уставные обязанности знают слабо. Начальник караула сержант Шалов отстал от поезда и отсутствовал сутки. Оставшийся за начальника караула курсант Кравец службу должным образом не организовал». Время. Дата. Подпись.
Шалов обвёл всех тяжёлым взглядом и констатировал:
– Дисгрейс! Позор! Зэ гейм из ап – дело проиграно.
Кравец достал рапорт ульяновского коменданта и протянул Шалову. Тот прочитал и немного просветлел лицом.
– Фифти-фифти! Пятьдесят на пятьдесят! Может, это и зачтётся, а может, и нет, – он спрятал рапорт и постовую ведомость в ящик и спросил уже миролюбивей: – У нас пожрать что-то имеется?
– Так точно, товарищ сержант, – тут же прогнулся Мэсел. Он достал банку колбасного фарша, которую совсем недавно предлагал обменять на вино, открыл и поставил на «буржуйку». Полез за второй банкой, но Шалов остановил:
– Зэт уил ду.
– Чего, чего?
– Достаточно, говорю, пока хватит!
– Понял, товарищ сержант.
Потом они наблюдали, как Шалов жадно ел, как пил чай, давясь куском хлеба.
«Оголодал, начкар», – подумал Кравец. Всех троих распирало от любопытства, но спросить сержанта о его приключениях они не решались.
Наевшись и сыто икнув, Шалов поинтересовался:
– Закурить есть?
– Вы же не курите, товарищ сержант… – сделал круглые глаза Захаров.
– Теперь курю, – отрезал Шалов. – Ну, так найдёте сигарету?
Мэсел с торжествующим видом протянул сержанту пачку:
– Валера забыл. Курите, товарищ сержант.
– Кто этот Валера? – прикурив, лениво поинтересовался Шалов. – Какого рожна ты, Кравец, его в караулку пустил?
«Опять я – крайний!» – подумал Кравец, но сдавать Юрку и Мэсела не стал. Коротко, без ненужных подробностей, рассказал начкару о встрече с капитаном Сидоровым и о своей просьбе помочь в поисках Шалова.
– Никто мне ни хрена не помог, – отмахнулся Шалов. – Сам вас догнал.
– Расскажите, товарищ сержант, – подобострастно улыбаясь, попросил Мэсел.
– Что тут рассказывать. Когда вы меня бросили, – Шалов выразительно посмотрел на Кравца, – я пошёл на станцию. Никого из начальников там уже не было. Ну, а дело-то к ночи. Надо было искать, где перекантоваться. Стал стучаться в домики рядом. Безрезультатно! В щёлку выглянут, увидят человека с пистолетом на ремне и тут же дверь захлопывают. В общем, обошёл я все дома – никто на порог не пускает. Уже замерзать начал. Вижу: стоит на отшибе строение двухэтажное. Пошёл туда. Это оказался жилой барак. Стал проситься на ночлег. Тоже не пустили. Пришлось проявить смекалку. Собрал коврики у дверей, постелил их в конце коридора возле батареи и лёг. Прохладно, конечно, но терпимо. Зэ риз насинь ту би ду. Для бестолковых перевожу: ничего не поделаешь…
– А не боялись вы, товарищ сержант, что пистолет своровать могут, пока спите? – нарочито серьёзно спросил Кравец, внутренне давясь от смеха, представив сержанта в виде пса, лежащего на подстилке возле батареи.
Шалов почувствовал насмешку.
– Лет слипинь догс лие – не будите спящую собаку, как говорят англичане. Во-первых, Кравец, сплю я очень чутко. Во-вторых, «макарова» я из кобуры вынул и засунул за пазуху. Так что попробовал бы кто-то ко мне сунуться, мигом – пиф-паф, ой-ой-ой! – Шалову импонировала роль героя. В таком же духе он и продолжал: – Ну, а когда светать стало, я покинул «гостеприимный» барак и пошёл искать попутный тепловоз. Думаю: люди-то у нас всё-таки советские, помогут. При свете дня и правда помогли. Машинист тепловоза к себе в кабину пустил. До Ульяновска довёз. Там я купил билет на скорый поезд и очутился в Сызрани раньше вас. А здесь уже совсем просто: у военного коменданта узнал, на какой путь наш состав подадут. И всё бы ничего, только вот комендант следом увязался… – Шалов докурил сигарету и выбросил окурок в топку.
– Товарищ сержант, вы просто гений, – восхищенно сказал Мэсел. – Так быстро нас догнали, не растерялись в сложной ситуации. Теперь с вами мы не пропадём!
Такая откровенная лесть нисколько не покоробила Шалова. Наверное, он так о себе самом и думал. Он улёгся на нары, закрыл глаза, но уже через минуту подал голос:
– А где вино, что я вам отдал в Юдино?
Мэсел и Юрка отвели глаза. Ответил Кравец:
– Выпили…
– Вот, товарищи курсанты, вся ваша забота о командире. Выпили, и хоть трава не расти!
Мэсел с готовностью доложил:
– Найдём вина, товарищ сержант! Только прикажите!
– Где найдёте?
– Здесь. Рядом. Ну, Валера, что у нас сидел, он же целый вагон винища везёт. Ещё нам обмен предлагал.
– Какой?
– Тушёнку на вино.
– И что?
– Ничего! Кравец не разрешил, – не упустил случая ущипнуть недавнего начальника Мэсел. – Я, говорит, начкаром назначен и не разрешаю менять продовольствие на спиртное. А вино, я вам доложу, товарищ сержант, классное – портвейн и даже марочное есть, «Букет Молдавии».
– Да если бы я тебя не остановил… – возмутился Кравец.
– И что бы тогда?
– Донт би нойси! Не шумите! – приказал Шалов и спросил Кравца: – Сколько у нас сухпайков осталось?
– На трое суток.
Шалов наморщил лоб, что-то высчитывая:
– А хлеба?
– Пять буханок, – доложил Кравец.
– Вот что я решил, – сказал Шалов. – Зачем мы будем сидеть на ящике с сухпаем, как дог ин зе манже, то есть собака на сене. Хард дриньк – спиртное – это те же калории. Половину сухпая можем спокойно обменять. Масленников, бери продукты и дуй к этому Валере. Да верни ему балалайку, – кивнул он на гитару. – Хорошо, что её комендант не заметил!
– Товарищ сержант, а если задержка где-то будет? Как мы без жратвы? – сделал попытку вразумить начкара Кравец. Но в армии такие попытки заканчиваются всегда одинаково.
– Стоп ё гэб! Заткнись! – приказал сержант. – Ты, видать, всё ещё начальником караула себя чувствуешь. Ступай-ка на пост, просвежи голову!
3
– А вы знаете, что такое шашлык по-карски? Берётся мясо молодого барашка, обязательно на косточке. Сутки вымачивается в собственном соку. Никакого уксуса, только соль, перец, репчатый лук. Нанизывается каждый кусок на отдельный шампур. И жарится на тлеющих углях. Лучше, чтобы они были берёзовыми. Переворачивается шашлык только один раз. Тогда запекается корочка с двух сторон, а внутри мясо хранит сок и даже немного крови. Аджика, кинза, базилик, сладкие помидоры с кулак величиной, красное вино… – Шалов сглотнул слюну, а Кравец поймал себя на мысли, что начкар, рассказывая о шашлыке, умудрился не произнести ни слова по-английски.
– А у меня мама борщ с пампушками такой ди-и-вный готовит, – мечтательно протянул Захаров. – Густой, наваристый. Фасоль, сметана, чесночок. А к нему ещё горилочки чарку… Мама, как я хочу борща!
– Лучше у мамы сала попроси… – посоветовал Мэсел, включаясь в «съедобные» воспоминания. – Представляешь, картошка, жаренная с луком, а к ней сало – розовое, с тоненькими мясными прожилками. Или грузди в сметане.
– Тогда лучше рыжики. Я читал, что для Петра Первого специально собирали рыжики размером не больше пятикопеечной монеты и солили по особому рецепту… С тех пор и зовут рыжик царским грибом!
– А моя мама замечательно делает вареники с вишней или с творогом… – сказал Кравец.
– А моя – печёт блины обалденно вкусные. Особенно, когда прямо со сковородки. В масло растопленное их макаешь… Одна сторона у блина гладкая, другая шершавая – «мать и мачеха» называются. Мама всегда говорила, что надо с «мачехиной» стороны блин маслом мазать, а мне нравилось, наоборот, с «материнской». Ешь такой блин, а он во рту тает…
– Ну-ну, и я там был, мёд-пиво пил! По усам текло, а в рот не попало. Ел, не ел, а за столом сидел. Хватит сказки рассказывать! И без того жрать охота… – прервал аппетитные воспоминания Шалов.
Эту игру «в еду» у них во взводе придумали на первом курсе, когда только поступили в училище и ещё не забыли вкус домашней пищи. Непросто было вчерашним школьникам привыкнуть к курсантскому пайку, с его прогорклым комбижиром, вечным недовесом, трижды прокипяченным чаем и так далее, и тому подобное. Ко всему прочему именно на первом курсе их много гоняли по физподготовке, нагружали нарядами. Тогда стихийно и родилось коллективное «бессознательное» – ностальгия о вкусной и здоровой пище. Как будто этим можно заглушить непреходящее чувство тоски по родительским разносолам. Кравцу, например, ещё сильнее хотелось есть после разговора о материнских пирожках.
– Я бы сейчас и в наряд по кухне согласился пойти, – сказал Захаров.
– Придумал тоже! Кухня! Забыл, как мы три раза подряд посуду перемывали? – напомнил Мэсел.
– Ну, перемывали… Что с того? Зато тушёнки нахавались от пуза и масла сливочного…
– А мне после вида той горы объедков, что со столов собрали, никакая тушенка в горло не лезла… – пробурчал Кравец.
– Ха-ха! То-то ты потом с «очка» не слезал трое суток! – злорадно хохотнул Мэсел.
– Ты лучше вспомни, как сгущёнки на спор выпил шесть банок и под капельницей лежал!
– Я же говорю, хватит о жратве! – прикрикнул на них Шалов.
– Так мы же – о кухне!
– Ты, Кравец, точно дождёшься! Сказано, больше повторять не буду: о кухне тоже разговоры прекратить!
«Может, Шалов и прав, – подумал Кравец. – О кухонном наряде вспоминать – себя не уважать!» «Кухня» была бичом Божьим для всех первокурсников, особенно брезгливых. При одном упоминании о ней перед мысленным взором Кравца сразу же рисовалась посудомойка – огромное помещение с тремя стоящими друг за другом ваннами, в которых, соответственно, горячая, тёплая и холодная вода. Первая ванна торцом примыкает к окну, за которым находится «параша» – бак с пищевыми отходами – пост самого стойкого и небрезгливого. Он черпаком, а чаще – руками должен выгребать остатки пищи из тарелок в помойный бак и бросать очищенную посуду в первую ванну. В ней – почти кипяток, в который насыпано полведра соды. Бачки, алюминиевые кастрюли и тарелки навалены в ванну грудой. Ещё один курсант деревянной лопатой переворачивает их. Это первый помыв. Следующий посудомойщик должен выхватить из кипятка тарелку или бачок и перекинуть в соседнюю ванну с тёплой водой. В ней, таким же макаром, как в первой ванне, два курсанта с лопатами производят второй помыв. Невзирая на то, что посуда побывала в содовом растворе, она всё ещё скользкая от жира. Жирные пятна снуют по поверхности воды, как солярка с подбитых субмарин – такой образ пришёл Кравцу после первого наряда. В третьей ванне уже вручную посуда ополаскивается и ставится в сушилку. Потом приходит дежурный по кухне, как правило, курсант старшего курса, и носовым платком проверяет чистоту. После проверки обычно процесс мытья посуды повторяется. Бывает, что перемывать посуду приходится несколько раз. Делать это, в общем-то, нетрудно. Но на это затрачивается время. А его у кухонного наряда в запасе нет. Ведь надо кроме мытья посуды протереть столы в двух залах, где питаются полторы тысячи курсантов, вымыть полы, очистить котлы для варки пищи и начистить две ванны картошки. По этим «картофельным» ваннам и идёт основной зачёт: справился наряд с задачей или нет. Необходимо до утра заполнить ванны очищенной картошкой доверху. По странному стечению обстоятельств ни одна из двух имеющихся в столовой картофелечисток во время нарядов не работала. Однажды, правда, удалось включить один из этих допотопных агрегатов. Так он вместо очистки кожуры стал рубить неочищенную картошку на четыре части. Старший по кухне тут же приказал не заниматься ерундой и чистить картошку вручную.
Дома Кравцу случалось это делать не однажды. Но какая это работа – с пяти-шести картофелин срезать кожуру острым ножом? Мама всегда просила срезать кожуру потоньше, и Кравец старался… Когда же перед тобой четыре полных бака картофеля, а в руках тупой столовский нож, то ни о какой тонкой кожуре речи уже нет. Действуешь, как заведённый: взял картофелину левой рукой, поднёс к ней нож и, вращая корнеплод, срезаешь длинную ленту кожуры. Глазки выковыривать некогда. Почистил кое-как и – плюхнул в ванну. Следом новая картофелина и ещё, и ещё… Через пару часов на указательном пальце правой руки появляется мозоль, ещё через пару – слипаются глаза, руки отказываются повиноваться…
Но у каждого неприятного явления всегда есть какая-нибудь приятная сторона. На кухне это – харч. В наряд шли, чтобы отъесться за месяцы недоедания. Здесь, прав Мэсел, можно было отведать и жареного мяса, и жареной картошки, перепадали и сгущенка, и рыбные консервы. Обычные курсанты ничего этого не видели. В больших варочных котлах трудно было выловить кусок мяса или рыбы. Мясную вырезку воровали поварихи, умело имитируя закладку этих деликатесов в котлы. Сколько ни ловили их у служебного входа наиболее ответственные из дежурных по училищу, а качество пищи не улучшалось. Может, потому, что принципиальных офицеров было немного. Основная масса преподавателей, оказавшись в наряде, не хотела ссориться с поварами, у которых им ещё не однажды обедать. Но курсантский котел скудел ещё и потому, что, глядя на старших, приворовывали сами курсанты. Сначала Кравца коробило, что ему предлагают украденную сгущёнку или сухофрукты, но потом он смирился, приняв условия «игры». Да и есть сильно хотелось…
Но училищные танталовы муки – ничто по сравнению со страданиями нынешними. Самонадеянность Шалова обернулась для караула настоящей катастрофой. Вино, которым в обмен на банки консервов снабдил их Валера, утоляло жажду, но не голод. А он наступил, когда эшелон загнали в какой-то тупик за Волгоградом и по непонятным причинам продержали двое суток. Тогда караул и перешёл на «блокадную норму» – двести граммов хлеба в день.
Когда и этот паёк закончился, разговоры о еде Шалов запретил.
Первым зароптал всегда лояльный к начкару Мэсел:
– Товарищ сержант, мы так не договаривались! Кушать хотца… Надо бы подкупить где-то жратвы…
– Масленников, ты забыл, что написано в уставе про тяготы и лишения воинской службы? – отозвался Шалов. – Потерпи, скоро приедем в Капустин Яр, там и затоваримся.
Но Мэсел не угомонился:
– Если бы ехали, потерпел бы, а то стоим, и неизвестно, когда нас отправят. Разрешите я схожу на разведку, узнаю, где можно пожрать достать?
– Хватит, уже находились. Не отпускайте его, товарищ сержант, а то отстанет, как вы в Юдино, – Кравец даже не пытался скрыть недовольства.
Шалов отреагировал зло:
– Это кто такой самый умный? Ты, Кравец? Вот и сходи на разведку. Не сидеть же нам голодом, в самом деле.
– Никуда я не пойду! – возмутился Кравец очередной несправедливости.
– Что? Бунт на корабле?
– Я сказал, не пойду! Не собираюсь отставать от поезда!
– Ай донт гив э дэмн! – процедил Шалов. – Мне наплевать на твоё желание или нежелание. Я вам приказываю, товарищ курсант, – перешёл он на «вы», – при свидетелях приказываю, пойти и добыть пропитание для личного состава караула! В случае неповиновения сами знаете, товарищ Кравец, что с вами будет…
– Сходи, Саня, – примирительно предложил Захаров. – Не нагнетай обстановку!
Кравец сердито зыркнул на него и повернулся к Шалову:
– Не надо из меня вечно крайнего делать, товарищ сержант. Я никуда не пойду. А если вы хотите меня запугать, ничего у вас не выйдет. На ваш рапорт я отвечу своим. Ещё поглядим, кому поверят… – отчеканил он, дивясь своей смелости. Может, голод виноват в пробуждении собственного достоинства? Или чувство правоты придало ему силы?
Шалов подскочил, словно ужаленный, и, совсем как ротный, завизжал:
– Да я тебя под суд отдам! За неповиновение!
Кравец сжал кулаки и ринулся на него. Шалов отпрянул. Захаров и Мэсел схватили Кравца за руки. Он стал вырываться. Неизвестно, чем бы всё закончилось, если бы состав не начал движение.
4
У всякой дороги есть начало и есть конец. Но конец одной дороги – это, как правило, начало другой.
Двенадцатого ноября, через сутки дороги по бесснежной, но продуваемой стылыми ветрами степи, они добрались до конечного пункта. Здесь теплушки отцепили от состава, идущего дальше, в сторону Астрахани, и загнали в тупик.
Шалов ушёл искать представителей грузополучателя – войсковой части с пятизначным номером, приказав голодным подчинённым упаковывать вещи. А что там упаковывать? Как говорят, голому собраться – только подпоясаться. Они мигом сложили в вещмешки свои пожитки, приторочили полушубки. Впервые после отъезда из училища надели шинели и стали ждать, озирая окрестности. Как-то не верилось, что всё закончилось. Закончилось, очень уж обыденно. Без духового оркестра, без встречающих с цветами…
Кравец хотя уже и знал, что в армии почти всегда бывает так: выполнил служивый задачу, и о нём тут же забыли, хотя и не ждал, что на конечной станции кто-то выстроит военных музыкантов и грянет встречный марш, но где-то в глубине души чувствовал себя не то чтобы разочарованным, а опустошённым. Не так-то просто проститься с надеждой, что в карауле должно произойти нечто особенное, такое, что запомнится на всю жизнь.
Но и в дороге ничего такого не случилось, и станция Капустин Яр тоже не представляла собой ничего примечательного. Обычный «буранный полустанок», если выражаться словами писателя Чингиза Айтматова, прочитать книги которого им советовала преподавательница по литературе. Кравец прочитал, хотя на экзамене вопросов по Айтматову нет. Понравилось. Теперь он разглядывал местный пейзаж и мысленно сравнивал его с айтматовским. Такие же неказистые деревянные строения в глухой и ветряной степи. Сухой ковыль, перекати-поле, мечущееся туда-сюда в нескольких шагах от насыпи и группа искривлённых деревьев подле маленького вокзала, колеблемых ветром. Всё только усиливало ощущение какого-то вселенского сквозняка.
В настоящей степи Кравец оказался впервые. На Южном Урале есть лесостепи, но нет такого простора – берёзовые колки, то там, то тут, мелькают среди распаханных колхозных полей, делая пейзаж не таким унылым. А здесь – дикая, необозримая, голая равнина. Кравец, конечно, слышал, что Капустин Яр – это ракетный полигон и место, где ежегодно проводятся учения разных родов войск. Но где здесь можно спрятать ракеты, где казармы обслуживающего персонала, где военные городки? Ничего не видно.
Шалов вернулся через час с двумя офицерами: капитаном и лейтенантом. Они долго и придирчиво проверяли сопроводительные документы, сохранность сургучных печатей на теплушках и ящиках, сверяли номера вагонов. Потом лейтенант куда-то ушёл и вернулся с несколькими вооружёнными солдатами, на петлицах которых были перекрещённые пушки. Солдаты взяли груз под охрану.
– Следуйте за мной, – приказал курсантам капитан.
– Лэтс гоу! Пошли! – продублировал команду Шалов.
– Куда мы? – полюбопытствовал Захаров.
– Не задавайте лишних вопросов, товарищ курсант, – одёрнул Шалов, но не удержался, похвастался: – Я договорился, мы заночуем в части. Там нас накормят. Ду ю андестенд?
– Ура! Жратва будет! – развеселился Юрка и толкнул локтем Кравца. – Слышал, Сань, сейчас похаваем!
У станционного домика их ждал запылённый армейский «Урал». Они забрались в кузов, капитан сел в кабину. Через полчаса езды по накатанной степной дороге въехали в широкую ложбину и остановились перед КПП войсковой части.
– Выгружайся! Становись!
Построились в одну шеренгу. Капитан сказал, что заночуют они в клубе, так как других свободных мест нет. Матрасы им сейчас принесут, а без постельного белья придётся обойтись.
Курсанты переглянулись.
– А как насчёт ужина, товарищ капитан?
– Ужин в восемнадцать часов. Столовая вон там, – он показал на одноэтажное здание в конце аллеи пирамидальных тополей и обратился к Шалову: – Товарищ сержант, пойдёмте в штаб, оформим документы.
Пока ждали Шалова, успели оглядеть часть военного городка возле клуба. Бросились в глаза: чистые тротуары, побелённые бордюры, плакаты: «Ракетчик! Помни: ты – надёжный щит нашей Родины!» Кравец представил ракетчика в роли «щита» и усмехнулся: как-то не по-русски написано. Этак и про авиатора можно сказать: «Ты – небо СССР!», а про подводника: «Ты – пучина нашей страны!» Он придумал ещё несколько подобных транспарантов, но настроение не улучшилось. Так сильно сосало под ложечкой, да и на душе после ссоры с Шаловым кошки скребли. Припомнит ему сержант эту стычку, отомстит… Вид степного гарнизона тоже не радовал: неужели в такой глуши придётся ему служить после училища! Куда пойти в свободное время? Разве что в клуб, на танцы. Но с кем здесь танцевать? Со стулом? Кравец так учился когда-то вальсировать. Из-за Ирины. Она ходила в танцевальный кружок и слыла самой лучшей танцовщицей на школьных вечерах. Он попробовал записаться в тот же кружок, но преподаватель, оценив его способности, отказала.
– Вам, молодой человек, надо учиться танцевать со стулом, – по балетному прямо держа спину, посоветовала она. – Запомните движения. Правая нога идёт всегда вперёд, левая – назад. И по кругу. Главное, не сбиться с ритма: раз-два-три, раз-два-три…
Он сначала обиделся, а потом внял совету. Через пару месяцев упорного кружения по комнате с деревянным «партнёром» стало что-то получаться. Снова пришёл в кружок. На этот раз его приняли. Правда, в партнерши ему досталась не Ирина, а девочка на два года младше. А с Ириной, как ни обидно, насмелился он потанцевать только однажды. Но ничего этот танец в их отношениях не переменил. Точнее, в отношении Ирины к Кравцу. Да и кто сказал, что один танец может что-то изменить? Это только в романах так пишут, а в жизни всё иначе…
Кравец опять ощутил чувство неудовлетворенности оттого, что в карауле всё закончилось так буднично: пост сдал – пост принял! Ни восторга в душе, ни благодарности от командования…
Он поделился своими мыслями с Захаровым.
– А ты чего хотел? – удивился Юрка. – Чтобы на нас настоящие бандиты напали? Или чтобы крушение поезда произошло? Радуйся, что всё обошлось…
– Ага, обошлось! А рапорт сызранского коменданта?
– Вот-вот, а я чё говорю! Вспомни Бабу Катю: «Таварищи курсанты, караул закончен, кагда автаматы сданы в ружкомнату!» Нам ещё назад ехать. Знаешь, сколько чего может случиться…
При напоминании о ротном Кравец поморщился:
– Мне и так кошмары снятся, а ты о Бабе Кате…
– Это я к слову. Если честно, Сань, я уже по училищу соскучился.
– Скажи лучше, по нашей «тошниловке». Кстати, вон и Шалов шкандыбает. Щас хавать пойдём…
Необычайно вкусным показался ужин в солдатской столовой. Хотя солдатский паёк и поскромнее, чем у курсантов, но, наверное, здесь «нормы закладки в котел» не нарушают. Кравец мигом смёл перловую кашу (с добавкой), и обыкновенный жареный минтай показался ему деликатесом.
Спали на матрасах, расстеленных прямо на сцене клуба. Сытые – уснули быстро. Утром, позавтракав в гостеприимной части и выпросив у заведующего столовой, оказавшегося родом из Кургана, несколько буханок хлеба на обратную дорогу, на дежурной машине поехали на станцию. Шалов, подобревший после ночлега, изложил план дальнейших действий:
– Поезда здесь останавливаются редко. Поэтому до Волгограда поедем на электричке. Там, если будет время, проведём экскурсию по городу. Масленников обещал нам всё рассказать и показать.
– Он-то откуда Волгоград знает? – удивился Кравец. – Он же – москвич…
– А вот знаю, – самодовольно оскалился Мэсел. – Жил я там до пятнадцати лет, пока отца в Москву, в министерство не перевели…
– Летс гоу эт зэт! Пусть будет так! – резюмировал Шалов. – А дальше видно будет. Давайте посмотрим, что у нас с финансами.
Они вывернули карманы. На круг получилось семь рублей тридцать две копейки.
– Не густо, – почесал за ухом сержант. – Уэл! Хорошо! Билеты нам покупать не надо. Возьмём по проездным документам. А эти деньги будем экономить…
– Как сухпаёк? – съехидничал Кравец.
– Гоу изи! – предупредил Шалов. – Осторожней!
– Хватит вам ссориться, ребята! – попросил Захаров. – Домой же едем!
В электричке больше всех говорил Мэсел. В предвкушении встречи с городом детства, он был необычно красноречив.
– Волгоград самый протяжённый город в СССР! – хвастался он, как будто это была его личная заслуга.
– Неужели больше Москвы? – вытаращился Захаров.
– Не больше, а протяжённей. Город-то построен вдоль Волги. От ГРЭС до Заканалья – вы даже представить себе не можете – восемьдесят километров! Чтобы весь город проехать, надо трижды сделать пересадки с троллейбуса на троллейбус и ещё на один. Я только однажды так прокатился, от кольца и до кольца, и мне хватило. Больше никуда из центра не выезжал. Жили мы недалеко от вокзала, на улице Рабоче-крестьянской. Когда приедем – покажу. Там же поблизости и наши волгоградские достопримечательности: Мамаев курган, дом Павлова… Вы знаете, что Родину-мать скульптор Вучетич делал, а её лицо со своей жены копировал?
– Не копировал, а лепил, – поправил Кравец.
– Ну, конечно, ты у нас – отличник, – даже не обиделся Масленников. – А мужика с гранатой, ну, который на подступах к кургану, он вылепил со знаменитого маршала Чуйкова. Отец мне рассказывал, что Чуйков и Вучетич вроде бы были дружбаны, ну, как ты, Кравец, и как Захаров.
– Представляешь, Саня, – подхватил Юрка. – Я бы тебя вылепил. Здорового и мускулистого, как Аполлон Бельведерский…
– Стоит скульптура в лучах заката, а вместо хера торчит лопата! Хи-хи-с! – прыснул Мэсел.
– Поаккуратней с выраженьями, – предупредил Шалов. – Люди кругом! Ты, Масленников, рассказывай лучше про город…
– Я и рассказываю, товарищ сержант. Вообще, с этим курганом и со скульптурой много чего необычного произошло. Когда Родину-мать установили, вдруг над городом начал раздаваться какой-то страшный вой. Фронтовики говорили, что так немецкие пикирующие бомбардировщики выли. Представляете, днём всё тихо, а ночью воет, – Мэсел сделал многозначительную паузу. – Слухи поползли, что здешняя земля эту скульптуру отторгает. А потом разобрались, оказалось, что на мече у Родины-матери оторвалась стальная пластина и ветер, попадая внутрь меча, устраивал такой концерт. Аэродинамическая труба, одним словом… Тут же вызывали специальную монтажную бригаду, и на высоте почти сто метров этот лист приварили.
– И что?
– Да ничего. Стоит теперь как миленькая, и больше ни звука. А ещё с Мамаева кургана открывается такая картина, что дух захватывает… Жаль, что вы её не увидите…
– Почему не увидим?
– Поздновато едем. Вот, если бы в августе, то смогли бы увидеть кровавую степь.
– Как это, кровавую? – у Кравца после рассказа о воющей Родине-матери по спине поползли мурашки. – Кровь, что ли, выступает из земли?
Мэсел скептически посмотрел на него:
– Скажешь тоже, кровь! Тут никакой мистики. Просто на левобережье огромные плантации помидоров. Когда поспевают, становятся ярко-красными, тяжеленными. Кусты сгибают до самой земли. Поэтому, если смотришь на них издали, полное впечатление, что степь залита кровью…
– Что-что, а земля под Волгоградом кровью на самом деле вся пропитана, – согласился Шалов и неожиданно разоткровенничался: – Мой дед здесь воевал, как раз в армии Чуйкова. Был военным корреспондентом. Рассказывал, что его блиндаж был врыт в берег, как ласточкино гнездо, всего в двадцати шагах от немцев. Можно было слышать, как над головой фашисты переговариваются. Представляете, дед под носом у немцев всю Сталинградскую битву провёл. Ночью ползком выбирался в подразделения, беседовал с бойцами, возвращался назад и писал про их подвиги во фронтовую газету. Это он первый рассказал про знаменитого снайпера Зайцева, которому после дедовой статьи Героя дали.
«Надо же, у такого хорошего деда такой позорный внук, – подумал Кравец и сам себя одёрнул: – А может, зря я так про Шалова? Что нам делить? Мы оба – советские люди, оба станем политработниками, будем пропагандировать одни и те же идеи. Да и прошлое у нас одно и то же. И у меня дед – участник войны. Правда, был он в трудармии, так как поначалу раскулаченных на фронт не брали. А когда вышло разрешение, уже по годам не подошёл…» Кравцу захотелось сказать, что на самом деле фронтовики, их отцы и деды – это самая главная гордость страны: они такого врага свалили… Но почему-то постеснялся.
Разговор в тему продолжил Захаров:
– А у меня дед по отцу был в разведке. Командовал ротой. На своём горбу больше тридцати фрицев из немецкого тыла приволок. У него к сорок четвертому разве что Звезды Героя не было, а весь остальной набор орденов – в наличии. Если расскажу одну историю про него, вы точно не поверите! Но дед мой, хоть и был коммунистом, всегда крестился, вспоминая её…
«Как у Славы Капээсэс, – вспомнил Кравец рассказ ротного мастера на все руки. – Отец – коммунист, а в Торума верит!»
– Ну не тяни, рассказывай, – попросил он.
– Так вот, в сентябре сорок четвертого, – начал Захаров, – дед вместе с группой разведчиков направился в тыл к немцам. Было это в Западной Белоруссии. Уже перелом в войне наступил. И наши почувствовали, что побеждают. Подрасслабились немного. В общем, пошли в поиск, не сдавая орденов и медалей, как положено. Просто напялили поверх гимнастерок маскхалаты, и – айда. Идут по лесу – грудь нараспашку, орденами поблескивают, автоматы на шее болтаются. Вышли на одну поляну и столкнулись лицом к лицу с такой же разведгруппой, только – немецкой. У немцев шмайсеры сбоку – наизготовку. Дед шёл впереди, запоздало всполошился, потянулся к оружию, а немецкий командир вдруг поднимает руку и на чистом русском говорит: «Кавалеры в кавалеров не стреляют». Дед понял, что немец увидел его ордена, и тоже рассмотрел, что у фрица под воротом френча Железный крест с Дубовыми листьями. Их, немецкая, высшая награда… Дед не знал, что делать: первыми выстрелить наши не успеют, да и стрельба всех в округе всполошит. Они-то уже за линией фронта где-то… Пока он размышлял, немец подал своим знак, и те быстро прошли мимо наших и скрылись в зарослях.
Шалов запротестовал:
– Чтобы фашист да проявил благородство… Придумаешь тоже: «Кавалеры в кавалеров не стреляют…» – передразнил он. – Итс импотенс! Это невозможно!
– Что же, по-вашему, товарищ сержант, мой дед врёт?
– Почему сразу – врёт? Может, просто чуток приукрашивает. У фронтовиков такое случается.
– Не будет мой дед приукрашивать, – Захаров обиженно умолк.
«История на самом деле необычная, – подумал Кравец. – Хотя вся жизнь и состоит из таких историй. Ведь расскажи я потом кому-нибудь про наш выездной караул, скажут: быть такого не может, придумываешь! Тем не менее всё это было».
5
В четырнадцатый вагон поезда «Москва – Иркутск» сели поздней ночью. Этому предшествовало два долгих дня.
Один день провели в Волгограде. Мэсел сдержал слово и устроил им экскурсию по городу. На Мамаевом кургане Кравец в списках погибших, к своему удивлению, нашёл пятерых однофамильцев…
Второй день был поделён на две неравных части. Сначала с двумя пересадками добирались до Сызрани. Потом толкались на вокзале, пытаясь купить билеты на проходящий поезд до Кургана. Купив, пристроили багаж в камере хранения и шатались по городу – в поисках каких-то давних знакомых Шалова.
Никаких знакомых так и не нашли, зато посмотрели Сызрань. Она показалась Кравцу похожей на бесконечно длинную деревню, на улицах которой им встретилось, однако, много красивых девушек. «Не город, а ярмарка невест». Впрочем, ни с одной из них познакомиться не удалось. Шалов всё время подгонял вперёд. Ко всему прочему у них закончились деньги, иссякли хлебные припасы, и снова наступил голод.
– А ты говорил, отожрёмся в карауле… Печень трески, деликатесы… – припомнил Захарову его слова Кравец. – Какая тут, на хрен, печень? Сейчас бы кашки училищной! Даже дробь шестнадцать за милую душу пошла бы…
– Кто же знал, что всё так получится! – не понятно за что оправдывался Захаров.
Когда вернулись на вокзал, он предложил:
– Давайте сядем в подземном переходе, положим шапки на пол и «на зубах» будем песни играть, как беспризорники в «Республике ШКИД»: «У кошки четыре ноги, а сзади у ней длинный хвост…»
– Ага, чтобы нас тут же патруль заграбастал! – скривился Мэсел. – Уж лучше пусть Кравец изобразит инвалида, ногу под себя спрячет и станет просить: «Подайте раненому защитнику Отечества! Подайте ветерану всех войн!»
– Скажи ещё «участнику Куликовской битвы»! – возмутился Кравец. – Вы что сговорились? Нашли козла отпущения? Садись сам и попрошайничай!
– Итс ноу гоу! Это не пойдёт! – прекратил назревающую ссору Шалов. – Не хватает нам ещё на обратном пути влипнуть в какое-то дерьмо.
– Так ведь кушать охота, товарищ сержант, – привычно состроил слезливую мину Захаров.
– Всем охота. Терпи!
«Терпеть» до прибытия поезда оставалось ещё часа четыре. Но самое печальное, что и поезд не сулил спасения от голода. Чтобы время пошло быстрее, Кравец стал вспоминать все известные ему высказывания великих по поводу терпения. Первое, что на ум пришло, слова писателя Николая Островского: «Умей жить и тогда, когда жизнь становится невыносимой».
К Островскому в доме у Кравца было особое отношение. Дело в том, что Нина Ивановна в пору, когда была девочкой и лежала в тобольской больнице, переписывалась с матерью писателя. Как реликвию, хранила она несколько ответных писем Ольги Осиповны и первое издание книги «Рождённые бурей». Ещё подростком, по совету матери, Кравец прочитал всё, что смог найти о писателе-коммунисте, о его героической судьбе. Он заучил наизусть многие из высказываний Островского. Например, такое: «Надо жить так, чтобы не жёг позор за подленькое и мелочное прошлое, чтобы, умирая, мог сказать, что все силы, всю жизнь свою отдал делу освобождения человечества».
Сам Кравец умирать пока не собирался, потому и вспомнил слова одного древнего философа, кажется, Сенеки: «Переноси с достоинством то, что изменить не можешь». Ещё пришлись ко двору слова английского ученого Леббока: «Большие несчастья не бывают продолжительными, а малые не стоят внимания». Это последнее высказывание так ему понравилось, что он долго смаковал каждое слово. «Действительно, что такое голод? Чистая физиология. Человек без пищи может сорок дней прожить. Значит, до училища как-нибудь дотянем! А там, там…»
Но не зря утверждал Суворов, что долгий привал служивых балует. Об училище сейчас Кравцу думать не хотелось. Напротив, гуляния по Сызрани и лицезрение местных красавиц настроили его сугубо на лирический лад. Он размечтался о любви. Почему-то в последнее время всё чаще думалось об этом. Как в том анекдоте про лейтенанта, которому лектор показывает кирпич и спрашивает: «Что это напоминает?», а лейтенант в ответ: «Девушку». – «Как это?» – изумляется лектор. «А я, товарищ пропагандист, на что ни смотрю, всё об этом думаю!»
Так и Кравец, что бы он ни делал, где бы ни находился, а любовные грёзы всё не выходили у него из головы. Особенно в такие вот минуты, когда заняться нечем. «И правда, о чём ещё думать человеку в восемнадцать лет?»
Кравец представил, как окончит училище и приедет в родной город лейтенантом. Новая парадная форма синего цвета, золотые погоны, белая рубашка, фуражка с голубым околышем. Пройдёт он мимо окон Ирины. Она посмотрит на него с третьего этажа и поймёт, что любит. Любит его одного. Что будет потом, он даже в мечтах представлял смутно. Наверное, какое-то неземное блаженство. Почему оно должно быть именно с Ириной? Потому что она так недоступна. Осуществление самой неисполнимой из надежд, наверное, и есть счастье. Кравец был убеждён в этом, как говорится, на все сто, ещё не зная, что через несколько часов будет думать совсем иначе.
Поезд прибыл без опозданий, но со своим багажом, как ни старались, к вагону они добрались, когда возле него уже собралась толпа пассажиров. Вагон был плацкартным, а так как в графе «место» у всех значилось: «Указывает проводник», началась давка. Каждый пассажир торопился поскорее забраться в вагон и занять полку поудобней. «Совсем как в Гражданскую, – оценил обстановку Кравец. – Не хватает только беспризорников, о которых вспоминал Юрка. Облепили бы они крыши вагонов, словно воробьи… Кондуктора гоняли бы их, а мешочники влезали бы прямо в окна…»
– Подождём, когда все рассядутся, – распорядился Шалов. – Без нас всё равно не уедут. Раз есть билеты, без места не останемся…
Им достались четыре верхних боковых полки в разных отсеках. Пришлось потревожить одного из пассажиров, чтобы спрятать в ящик под нижним сиденьем оружие и боеприпасы. Вещмешки растолкали на третьи полки. Постельное бельё не брали (по понятной причине), а матрасы без простыней не разрешила расстелить заспанная и недовольная проводница. Устроились на голых полках, свернув вместо подушек полушубки и укрывшись шинелями.
Кравцу достался отсек перед дверью в туалет. Он долго ворочался на узком и жёстком ложе. Вдруг взгляд его упал на нижнюю полку. Там, свернувшись калачиком, лежала девушка. В вагоне было полутемно, но блики от фонарей падали ей на лицо. Она пыталась заслониться от света, но рука то и дело соскальзывала вниз. Девушка показалась Кравцу очень красивой. Высокий лоб, чуточку курносый нос, толстая коса на подушке.
Неожиданно резко дернулся состав. Девушка приоткрыла глаза и снова закрыла их. Просыпаться ей явно не хотелось. Но Кравец так пристально глядел на неё, что она это почувствовала. Посмотрела на часы, провела ладошкой по волосам. Затем глянула наверх. Их глаза встретились.
Глава восьмая
1
Первую мотострелковую роту, усиленную танковым взводом, боевики зажали среди металлических гаражей на окраине Грозного.
Смолин, подгоняемый приказами командующего группировкой, спешащего отправить победную реляцию к новогоднему банкету в Кремле, двинул роту в мятежную столицу без артподготовки и надлежащего прикрытия. Всё это было вопреки его командирскому опыту и положениям боевых уставов. Но с возражениями Смолина не посчитались.
«Чехи», как сразу окрестили боевиков уральцы, действовали тактически грамотно и умело, по «афганской схеме». Пропустили колонну в глубь гаражного массива. Затем, одновременно подожгли головной танк и замыкающий БТР, с двух сторон закупорив ловушку. Их гранатометчики и противотанковые орудия с заранее пристрелянных позиций стали методично жечь одну боевую машину за другой.
Факелы горящей техники, разрывы боекомплектов, беспорядочная ответная стрельба тех, кто ещё оставался в живых – всё это Смолин и Кравец видели в бинокли с наблюдательного пункта полка, не имея никакой возможности помочь своим подчинённым. Бессмысленно было лупить из пушек по такой мешанине: своих больше положишь. Столь же бесполезно вводить подкрепление: среди гаражей не развернуться в боевой порядок. Оставалось смотреть, беситься и ждать.
Радио, по которому Смолин пытался связаться со старшим разведотряда – Морозовым, молчало. Потом заговорило по-чеченски. Понятно было только: «Аллах акбар!»
Смолин матерился жутко и витиевато, поминая боевиков и тех, кто отдал ему приказ о наступлении, не позволив отработать вопросы взаимодействия с соседними частями, организовать огневую поддержку и связь. В сложившейся обстановке его бранные слова не казались неуместными и грязными.
Кравец, не отрывавшийся от бинокля, увидел, что один из танков, находившихся в конце колонны, протаранил горящий БТР, очищая дорогу для отступления, и тут же оказался подожжён гранатомётным выстрелом. Но благодаря самоотверженным танкистам нескольким БМП удалось вырваться из огненного кольца.
Когда они подкатили к КНП, лейтенант, заместитель командира роты, пропахший порохом и гарью, с лихорадочно блестящими глазами доложил Смолину о потерях:
– Девять бээмпэ, три танка, товарищ полковник… Сам видел, как сожгли машины командиров первого, второго взводов, а командир танкового взвода подставился, чтобы дать нам отойти.
– Что с Морозовым? Где ротный?
– Ротный, скорей всего, погиб… Его бээмпэшка наскочила на фугас в самом начале. Башню подкинуло метров на пять…
– Вот что, лейтенант, и все остальные, – Смолин обвёл тяжёлым взглядом подчинённых. – Зарубите себе на носу: я не поверю в смерть ни одного из моих людей, пока тела не будут найдены и опознаны. Начштаба…
– Я, товарищ полковник, – глухо отозвался Долгов.
– Приказ по полку. Немедленно взять у каждого солдата и офицера данные и приметы! Каждому завести патрон с запиской, где ФИО, адрес и так далее… Раньше-то почему не догадались, ёкарный бабай?
«А сам-то что не подсказал?» – едва не вырвалось у Кравца.
Наверное, нечто похожее подумал и Долгов, но только козырнул:
– Будет сделано, товарищ полковник.
Смолин снова приложил к глазам бинокль. Перестрелка уже закончилась. Вокруг догорающей техники толпились какие-то люди.
Смолин, не прекращая наблюдения, приказал:
– Долгов, ну-ка, свяжись с артиллеристами. Пусть врежут по гаражам.
– А если кто-то из наших уцелел?.. – заикнулся Кравец.
Смолин опустил бинокль, зыркнул в него, острым, как штык, взглядом:
– Тем, кто там, комиссар, только этим и поможем. По Афгану знаю, что «духи» с пленными делают…
После получасовой артиллерийской подготовки мотострелки Смолина вошли в гаражный массив. Поле недавнего боя, вспаханное снарядами, представляло жуткое зрелище: искорёженная техника, исковерканные гаражи. И среди этого «металлолома» – обгоревшие человеческие останки: свои и чужие.
Разведчики приволокли и положили перед командиром тела пятерых боевиков. Все – бородатые, в камуфляже российского производства.
– Смотри, комиссар, экспериментальная форма, – хмуро сказал Смолин. – До войск ещё не дошла, а у них – в наличии…
– Частные поставщики работают лучше, чем оборонный заказ…
– Что с трупами «чехов» делать, товарищ полковник? – спросил командир разведчиков. – Хоронить?
– Погоди. Ещё своих не всех нашли. Так что эти могут пригодиться.
…В течение следующих трёх дней подразделения Смолина прорывались к железнодорожному вокзалу, где вела бой в окружении Майкопская бригада.
Вообще-то, прорывом, в тактическом смысле, эти боевые действия назвать было нельзя. Новую боевую задачу полку в штабе группировки сформулировали как сопровождение колонн с боеприпасами.
– Что это за война? Разве это задача для мотострелкового полка? – свирепел всё больше Смолин. – Ни артиллерию, ни маневр тут не используешь. Наши танки и бээмпэ – здесь только мишени для «чехов».
Так оно и было. Вражеские гранатометчики появлялись самым неожиданным образом. Из канализационных колодцев и подвалов, из чердачных окон, они быстро наносили меткие удары и снова исчезали, оставаясь практически всегда безнаказанными.
Но задача полку была поставлена. Её надо было выполнять. И мотострелки Смолина делали это, на ходу осваивая тактику действий в городских кварталах, изобретая новые формы боевого построения, неся новые невозвратные потери.
Ежедневно, возвращаясь из рейдов в центр города и не досчитываясь людей и техники, Смолин старел прямо на глазах. Но своего приказа о поиске тех, кто погиб в первом бою, не отменял. Разведчики, рискуя попасть в засаду боевиков, продолжали прочесывать окрестности злополучных гаражей, верней, того, что от них осталось. Но восемь тел, в том числе и тело старшего лейтенанта Морозова, так и не нашли.
Кравец поймал себя на мысли, что поговорка: «Живой не без места, а мёртвый не без могилы» для Чечни не подходит. Здесь и живые неприкаянны, и мёртвые никак не найдут упокоения.
И всё-таки предположение Смолина, что тела боевиков могут пригодиться, оказалось верным. В ночь с третьего на четвертое января на связь со штабом полка вышел неизвестный полевой командир. Он предложил встретиться для переговоров об обмене погибшими. Этот «чех», назвавшийся Сайпи, был хорошо информирован: назвал номер полка, фамилию командира. Он высказал также пожелание, чтобы со стороны «федералов» переговоры вёл заместитель командира полка по воспитательной работе подполковник Кравец.
– Откуда такая осведомлённость? – удивился Кравец.
– Наверное, оттуда же, откуда новую форму получил и оружие. Чему ты удивляешься, комиссар? Сегодня в России, ёкарный бабай, всё можно купить и всё продать!
– Всё, но не всех, – поправил Кравец.
Смолин устало согласился:
– Таких, как мы, комиссар, никто и не покупает. Честь нынче не в цене… Хотя и среди нашего брата, офицеров, наверняка есть сволочи продажные. Но не о них речь. Давай лучше о переговорах подумаем…
– А что тут думать, идти надо, – ответил Кравец, внутренне содрогнувшись и прилагая усилия, чтобы не показать этого. – Конечно, пойду, Серёга, а там – будь что будет.
– Не хочу тобой рисковать…
– Мной или кем-то другим… Рисковать всё равно придётся!
– Ладно, утро вечера мудренее. Завтра этот Сайпи снова выйдет на связь. Поговорю с ним, тогда и решение примем. А теперь спи, комиссар. Спокойной ночи тебе не желаю – всё равно не поверишь…
– Эх, нам бы только ночь простоять да день продержаться, а там Красная Армия подоспеет…
– Была бы Красная Армия, не сидели бы мы сейчас в такой заднице…
Они улеглись на плащ-палатке, расстеленной прямо на полу подвала полуразрушенной школы, куда несколько часов назад перебрался командный пункт полка.
Рядом непрерывно трещала радиостанция. Непроглядную зимнюю тьму прорезали всполохи трассеров. Где-то в центре, у площади Минутка, зло ухали пушки. Там продолжался штурм президентского дворца.
2
Сайпи вышел на связь ранним утром.
– Мы согласны встретиться, – сухо сказал Смолин. – Вы гарантируете безопасность парламентёру?
Сайпи сдержанно хохотнул:
– Не бойся, полковник. Чеченцы умеют держать слово. Ничего с твоим переговорщиком не случится. Но повторяю ещё раз, это должен быть твой заместитель подполковник Кравец.
– Почему именно он?
– Не будем терять время на объяснения, полковник. Это моё условие. Не хочешь, не надо!
Смолин сделал паузу, потом спросил:
– Где и когда состоится встреча?
– В двух кварталах от места вашего расположения, – продемонстрировал отличное знание обстановки Сайпи, – пятиэтажный дом с красными подъездами. В пятнадцать ноль-ноль у второго подъезда Кравца встретят мои люди. Он должен быть один и без оружия. Конец связи.
Смолин отложил наушники и пристально посмотрел на Кравца:
– Нет у тебя никаких гарантий, комиссар. «Духам» обмануть неверного, как пропуск в Эдем получить… Может, не пойдёшь? Какого хрена этот ёкарный бабай именно тебя затребовал?
Кравец, у которого и так кошки на душе скребли, ответил сдержанно:
– Уже всё решили, командир.
– Добро. Василий, – повернулся Смолин к Долгову, – распорядись, чтобы разведчики проводили комиссара до точки и подстраховали по возможности. Скажи, что это не приказ, а моя личная просьба.
По вызову прибыл командир разведроты капитан Смирнов. Он пообещал:
– Подстрахуем, товарищ полковник, – а Кравцу даже подмигнул заговорщицки. – По-генеральски доставим вас, Александр Викторович, с комфортом. Мои гвардейцы, кстати, персональный автомобиль для вас раздобыли.
Во дворе школы урчал «Москвич-412». Автомобиль был старый, без дверей, но движок работал ровно, точно москвичок только вчера сошёл с конвейера. За рулём сидел сержант-разведчик.
– Откуда дровишки? – поинтересовался у ротного Кравец.
– Из лесу, вестимо… – в тон ему отозвался Смирнов и пояснил: – Нашли неподалёку. Видим, стоит драбадан бесхозный. Подумали, может, заминировали «чехи». Ну, типа ловушки. Проверили – нормалёк! Ну, мы и прихватизировали технику по методу господина Чубайса. Правда, ключа зажигания не было, пришлось проводку замыкать. А так машина – зверь. И цвет для переговоров подходящий – когда-то был белым…
– Ты думаешь, эти уроды различают, где белое, где чёрное? У них зенки кровью залиты… – Смолин вышел проводить Кравца. – Лучше пусть твои архаровцы на палку тряпку белую привяжут…
– Изладим, товарищ полковник.
Смолин и Кравец обнялись.
– Ты, комиссар, смотри возвращайся. Ты мне живым нужен.
– Постараюсь, командир.
Вместе с тремя разведчиками он выехал со двора школы. В окно «Москвича» высунули палку с белой тряпицей. Двигались медленно. Улица, по которой ехали, имела недобрую славу. Она, как «чёрная дыра», ежедневно втягивала в себя боевую технику и не выпускала обратно. Половина БМП второй роты здесь была сожжена гранатомётчиками. Ещё несколько машин техроты подорвалось на минах и фугасах.
Кравец озирался по сторонам. Он впервые видел город не через триплекс БМП. Зрелище было удручающим. Во всех домах выбиты стекла, стены посечены осколками и пулями. То там, то тут зияют огромные пробоины от прямых попаданий снарядов. Чёрный пепел, смешанный с грязью, покрывает выщербленный гусеницами и разрывами асфальт. И гробовая тишина вокруг. Когда руины вот так молчат – это ещё страшнее, чем когда они стреляют.
Хотя казалось, что вокруг ни души, Кравца не покидало ощущение, что за ними следят, что они у кого-то на мушке. Ощущение это было таким же назойливым, как кошмары о войне, которые мучили его в военном училище. В этих снах он всегда оказывался на фронте и всегда – один. Его окружали враги. Они были все на одно лицо, в фашистских касках, со шмайсерами. У него тоже был автомат. Но оружие во сне всегда оказывалось неисправным. Или не стреляло вовсе или стреляло, но пули, как в замедленной киносъёмке, вылетали из ствола и тут же зарывались в землю. А враги всё приближались! Он понимал, что сейчас его схватят, будут мучить, но ничего не мог поделать. Просыпался в поту, задыхаясь от беспомощности… Такую же беспомощность ощущал и сейчас…
«Москвич» остановился, не доезжая полсотни метров до пятиэтажки, о которой говорил командир боевиков. Смирнов и разведчики выбрались из машины и осмотрели подступы к дому:
– Пока тихо, товарищ подполковник.
Кравец глянул на часы: без пяти три.
– Ну, я пошёл, – он отдал Смирнову свой АКМ и пистолет.
– Может, «эфку» возьмёте, Александр Викторович? На всякий пожарный…
– Спасибо, Лёша, пойду так. Договорились же – без оружия…
У дверей подъезда Кравец остановился. Его никто не встречал. Он снова посмотрел на часы. Ровно три.
Прошло ещё несколько томительных минут, пока откуда-то сверху не раздался приказ:
– Камандыр! Захады! Толыко бес шюток…
Кравец распахнул дверь и шагнул внутрь тёмного подъезда. Сделал несколько неуверенных шагов, и в него с двух сторон упёрлись стволы:
– Стой! Нэ двыгайса! – распорядился тот же грубый голос.
– Я и так стою.
Кравца больно саданули прикладом по спине.
– Малычи, сабака, эсле жыт хочеш! Рукы назад!
Он выполнил приказ. Ему больно скрутили руки веревкой. На голову накинули мешок. По голосам он успел определить, что боевиков трое. Раздался новый приказ:
– Ыды!
Подталкиваемый в спину, он спустился в какое-то подземелье. Даже через мешок Кравец ощутил запах сырости и мочи. Шли долго. Под ногами хлюпала вода. Время от времени ему приказывали пригнуться. В одном месте пришлось пройти несколько метров на корточках, что со связанными руками оказалось делом непростым. Потом почва под ногами стала суше, запах канализации исчез. Скрипнула дверь, и Кравца повели по крутым ступеням наверх. Вскоре раздались гул дизельного движка и гортанные голоса. Неожиданно с головы Кравца сдёрнули мешок. От яркого электрического света он зажмурился и услышал:
– Развяжите!
Веревки, стягивающие запястья, ослабли. Он высвободил руки, открыл глаза и увидел перед собой человека в камуфляже, сидящего за столом со спутниковым телефоном. На стене за спиной у него – зелёно-белый флаг с замысловатым орнаментом, напоминающим цветок, и чёрным волком в центре. Человек был длинноволос и бородат. Лоб стягивала зелёная повязка с арабской вязью.
– Ну, что, Кравец, не думал, не гадал, как доведётся встретиться? Ду ю римэмбэ? Помнишь?
– Шалов, ты?
3
Это был действительно он – бывший сержант, командир его отделения и начальник выездного караула Сергей Нуратдинович Шалов. Русая борода, повязка моджахеда, конечно, изменили его облик, но глаза остались теми же – светлыми, пронзительными. Только ещё появился в них какой-то необычный блеск, как у наркомана со стажем.
Бывший однокашник сразу всё расставил по своим местам:
– Зови меня Сайпи. Это теперь моё имя.
– Новые хозяева дали, когда ислам принял? Ты же не чеченец, а кабардинец, насколько я помню.
– Был кабардинцем, когда надо было. А вообще-то, моя бабка по отцу – чеченка, а дед по матери – ингуш. Сам знаешь, при Советах таких, как я, в военные училища не брали.
– А как же Дудаев?
Шалов-Сайпи встал из-за стола, сказал напыщенно, скорей не для Кравца, а для своих моджахедов, которые, как каменные истуканы, застыли по обе стороны от парламентёра:
– Президент свободной и независимой Ичкерии Джохар Дудаев – великий человек, гордость всего вайнахского народа. Его нельзя мерить общими мерками. Он и при Советах смог стать генералом благодаря своим выдающимся качествам, вопреки вашей колониальной политике. Я служил под его началом в Тарту. Знаю, какой это замечательный военачальник. Наша дивизия была лучшей в советских ВВС. А наш вождь Джохар Дудаев и сейчас – лучший полководец. С ним мы непобедимы.
– Аллах акбар! – эхом отозвались боевики.
«Чувствуется бывший пропагандист», – подумал Кравец, постепенно приходя в себя от неожиданной встречи.
– Но тебе-то, генеральскому племяннику, чем Советская власть не угодила? – не удержался он от вопроса.
– Ты, Кравец, этого никогда не поймёшь. Ты не рождён на Кавказе. Мы все здесь ненавидим вас, русских. Россия во все века была нашим общим кровным врагом!
– Особенно, когда она целые кавказские народы от резни спасала… Ты же, Шалов, хотел стать дипломатом, должен это знать.
Шалов-Сайпи поморщился:
– Мы, вайнахи, сами всегда резали других и ни от кого помощи не ждали. Поэтому и изображен чёрный волк на нашем государственном флаге, – он сделал ударение на слове «государственный». – Потом, не забывай: это русские пришли на нашу землю с оружием. И полтора столетия угнетали мой гордый и свободолюбивый народ.
Шалов подошёл вплотную к Кравцу, зло посмотрел ему в глаза, как будто хотел ударить. Но не ударил, вернулся к столу, сказал уже другим, деловым, тоном:
– Хватит. Закончили с историческими экскурсами. Давай говорить по делу. Вчера мы стреляли друг в друга. Сегодня дипломаты мы оба. И от нас зависит, договоримся или нет. Кстати, один наш общий знакомый рассказывал, что теперь ты стал не таким щепетильным: не гнушаешься доллары у богатого человека попросить…
Догадка пронзила Кравца:
– Так это Мэсел у тебя информатором заделался! Ему стучать на товарищей не привыкать!
Шалов-Сайпи усмехнулся:
– Зачем мыслить так примитивно: стучать, не стучать… Не скрою, я поддерживаю отношения с уважаемым российским предпринимателем господином Масленниковым. Он – мой давний партнер по бизнесу. Но не строй иллюзий, что разоблачил вражеского агента. Наши отношения не выходят за рамки ваших законов. Только бизнес и не более того. Но, замечу, что таких партнёров, как упомянутый господин, у нас – половина вашего бомонда. Все, кто мыслит широко и знает, как зарабатывать деньги…
Кравца передёрнуло:
– Скажи лучше, это – предатели Родины! Для них война, как мать родна!
– Что ты мне о своей родине рассказываешь? Да, для вас, русских, Россия во все времена – джеляб![8] Вы её обворовываете и опускаете кто как может. А для вайнаха Родина – святое! Мы за нашу свободную Ичкерию любому неверному горло перегрызём! – Кравец заметил, что Шалов разозлился по-настоящему, но не удержался, подлил масла в огонь:
– От кого свободную? От закона?
– Это у вас закона нет. А у нас закон шариата…
– По которому вы, как дикие животные, головы пленным отрезаете, – Кравец вдруг пожалел, что отказался взять «эфку». Так захотелось швырнуть гранату на стол этому новоявленному борцу за веру. Совсем как в Екатеринбурге, в бане с Мэселом.
– Молчи, шакал! – по-волчьи оскалился Шалов-Сайпи. – Мы не на митинге. Не забывай, где ты находишься и зачем ты здесь, – он достал сигарету. Один из боевиков услужливо щёлкнул зажигалкой. Шалов-Сайпи сделал несколько глубоких затяжек и добавил уже снисходительно: – Я прощаю твою дерзость, Кравец. По старой дружбе, не хочу пополнять число ваших трупов твоим… Уэл! Слушай мои условия. У меня восемь ваших покойников. У вас, как мне известно, пять моих. Предлагаю честный чейндч: тело на тело… – он снова глубоко затянулся. Выдохнул несколько колечек сизого дыма, проводил их медленным взглядом. – А за каждого из трёх оставшихся ваших ты отдашь мне по одной винтовке СВД со снайперским прицелом.
– Ты взбесился, Шалов! У тебя, видать, совсем крыша поехала, от сиденья в подвале.
Шалов-Сайпи что-то сказал по-чеченски, и Кравец тут же получил в спину такой удар прикладом, от которого едва устоял на ногах.
– Это ты, смотрю, совсем не дружишь с головой. Вот видишь, монетка, – Шалов подкинул на ладони тускло блеснувшую денежку. – Хэдс о тэйлс! Орёл или решка! Вот и вся твоя жизнь. Если через три часа у подъезда дома, где тебя встретили, не будут лежать мои погибшие, а рядом с ними три винтовки, вы будете искать своих мертвяков по кускам в разных районах Грозного.
– Ты же был офицером. Как ты можешь так? Где твоя честь?
– О, знакомая песня! Помню, ты всегда любил порассуждать на эту тему. Так вот, моя офицерская честь – при мне. Я ведь и сейчас служу, только в своей родной армии. Уже, в отличие от тебя, полковник. Скоро стану бригадным генералом. Так что не ерепенься, Кравец. С генералами надо дружить…
Потушив сигарету, Шалов-Сайпи добавил:
– Кстати, ещё к вопросу о чести. Дай слово, что винтовки будут исправны. Чтоб никаких фокусов!
– Выходит, выбора у меня нет?
– Правильно понимаешь обстановку. Ну, прощай, Кравец. Желаю тебе, заметь – вполне искренне, остаться в живых. Ты всё-таки мой однокашник. Помнишь: кавалеры в кавалеров не стреляют! – и приказал моджахедам: – Отведите его обратно.
Кравец хотел сказать, что вовсе не считает Шалова кавалером, но вместо этого неуклюже кивнул, как будто согласился с ним.
Боевики снова стянули Кравцу запястья, нахлобучили мешок и повели. У подъезда, освободив от пут, подтолкнули в спину:
– Ыды, сабака. Жывы пака.
Под прицелом автоматов Кравец быстро пересёк улицу и нырнул за угол, где его поджидали разведчики.
4
Смолин, ни о чём не спрашивая, налил в кружку водки и протянул Кравцу:
– Пей!
Кравец послушно выпил. Водка показалась ему безвкусной, и хотя в животе потеплело, внутренняя дрожь не унялась.
В нескольких словах он рассказал о встрече с Шаловым-Сайпи и о результатах переговоров.
– Что будем делать, командир?
– Выполним требования, – немного подумав, ответил Смолин. – Я обязан вернуть ребят домой! Пусть в цинках, но вернуть… Солдат должен быть похоронен в родной земле! Иначе, ёкарный бабай, не будет покоя ни ему, ни его родным, ни нам с тобой! Понимаешь, комиссар?
– Как не понять.
– Сайпи сейчас заказывает музыку. Сила на его стороне, – тяжело вздохнул Смолин и тут же со злостью спросил: – А вот что прикажешь с нашими идиотами делать?
– С какими?
– Пока ты вёл переговоры, приезжал командир «вэвэшного» полка – наш сосед справа попросил помочь снарядами. Его, понимаешь, с неполным боекомплектом сюда выкинули, совсем голый сидит. А «чехи» напирают. Я позвонил наверх, и вот что мне из группировки ответили. «Помочь можешь, но только после того, как “соседи” оплатят снаряды по госрасценкам! Ты видел такой “лампасный синдром”? На все сто войсковое взаимодействие налажено! Оплати, платёжку предъяви, тогда снаряды получишь…»
– Они что, совсем охренели? Это ж полный маразм!
– Вот и я говорю, маразм: из войны коммерцию делают. С одной стороны, с нами «чехи» торгуются, за убитых винтовки требуют, с другой – родное командование обязывает боевому товарищу боеприпасы по государственным расценкам продавать!
– И что ты решил?
– Да гори они, такие приказы, синим пламенем! Конечно, помог «соседу» чем мог. За так, естественно.
– Ну, и правильно. Только, ведь отвечать за переданные снаряды придётся.
– Живым останусь, отвечу. Помнишь, как в песне: «А наутро вызвали меня в политотдел: “Почему ты, сука, в танке не сгорел?” Я им отвечаю, я им говорю: “В следующей атаке обязательно сгорю!”»
– Да, Серёга! При коммунистах хоть кому-то пожаловаться на дураков можно было. В тот же политотдел вышестоящий. А теперь и в управлении воспитательной работы такие же коммерсы сидят: всё на доллары меряют! Или типа нашего «смотрящего»…
– Ага. Представляешь, узнал бы Бурмасов о наших переговорах с боевиками, мигом бы, ёкарный бабай, настрочил рапорт куда следует: командование полка пошло на сговор с сепаратистами! Под трибунал подвёл бы…
– Ничего, командир: семь бед – один ответ!
– И то правда. Что же касается предложения «чехов», на обмен пойдём. Но… – Смолин ухарски сдвинул шапку на затылок, став похожим на бравого кавалериста, – поскольку в торговле без обмана нельзя, дадим задание вооруженцам, чтобы «эсвэдэшки» подготовили соответствующим образом: с оптикой повозились, со спусковыми механизмами. Так, чтобы через пару выстрелов они посыпались.
Кравец отрицательно замотал головой:
– Шалов, ну, который Сайпи, с меня слово офицера взял, что винтовки будут исправными!
– Хитёр этот твой Сайпи, ничего не скажешь! Что же, комиссар, слово есть слово, даже когда оно даётся врагу. Только скажи: скольких наших они из этих винтарей ещё подстрелят?
– А что делать-то?
Смолин только руками развёл.
Тела боевиков и снайперские винтовки Кравец повёз сам.
Обмен прошёл без эксцессов. Разведчики выгрузили убитых чеченцев у подъезда. Из него вышли несколько боевиков в масках. Один из них знакомым голосом спросил:
– Вынтовкы гыдэ?
– Здесь, – ответил Кравец и показал одну из «эсвэдэшек». – Отдам, когда передадите наших…
– Жды! – сказал боевик и вместе с товарищами скрылся в подъезде.
Через десять минут они вынесли тело первого солдата, за ним другого, третьего…
Когда все тела были погружены в десантное отделение БТРа, Кравец передал винтовки старшему. Тот внимательно осмотрел каждую, заглянул в прицел, подёргал затвор – остался доволен:
– Парадок. Можеш уезжат.
Вернулись к своим. Осмотрели убитых. Это были солдаты и офицеры первой мотострелковой. Лица троих представляли собой кровавое месиво. Ещё трое сильно обгорели. Тело старшего лейтенанта Морозова было изувечено, но голова уцелела. Ещё один убитый – командир взвода Рязанцев – был без головы. Его опознали по наколке на левом плече – «Московское СВУ». На теле Рязанцева были видны следы пыток, а ладони пробиты. Очевидно, перед смертью его распяли.
У Смолина желваки заходили на скулах. Он ссутулился ещё больше и молча ушёл в штаб-подвал. Кравец отправился следом. Все необходимые распоряжения по отправке погибших отдал Долгов.
Ночью они решили раскупорить остатки водочного энзэ.
Рядом крутился щенок дворняжки, которого солдаты нашли среди руин соседнего дома. Был он мохнатый, округлый, смешно переваливался на коротких лапах и всем своим видом подтверждал кличку, на которую отзывался, – Шарик. Щенок холодным носом тыкался в ладони то к одному, то к другому. Наконец он устроился на коленях Долгова, время от времени поскуливая, преданно заглядывая ему в глаза и пытаясь лизнуть в лицо.
Смолин достал заветную фляжку. Закуска – тушёнка и сухари из сухпайка.
– Кстати, мужики, сегодня день рождения у моего Ваньки, – неожиданно вспомнил Кравец. – Телеграмму бы дать… Только откуда? Впрочем, жена телеграмму сыну всё равно не покажет. Всё делает, чтобы его от меня отвадить.
– Это наши бабы умеют, – подтвердил Долгов. – Моя вот заладила: костьми лягу, но Андрюху в военное училище не отпущу! Ты, мол, за всю родню своё Родине отдал… С другой стороны, их тоже понять можно: с нами натерпелись! Не хотят для детей такой же судьбы… Ну, давай, Александр, за твоего сына!
Выпили. Закусили.
– Слушай, комиссар, – сказал Смолин. – А ведь праздник-то двойной. И у тебя тоже что-то вроде дня рождения: из самого логова боевиков, ёкарный бабай, живым вернулся.
– Это точно.
– А с сыном, думаю, отношения наладишь, когда война закончится. Мальчишке всегда отец нужен! Повзрослеет, своими, а не материнскими глазами на тебя посмотрит, всё поймёт. За это и выпьем!
Выпили снова. Потом где-то неподалёку начался обстрел. Затявкали пулемёты. Глухо рвануло несколько мин. С жутким воем пронеслись над руинами школы «эрэсы».
Выпитая водка сделала своё дело. Наконец прорвало и Кравца.
– Понимаете, мужики, мы же четыре года с Шаловым в одной казарме жили, вместе в выездной караул ездили… Конечно, Шалов и тогда не был ангелом. Перед начальством выслуживался, нас, курсантов, мурыжил. Но всё это воспринималось как завышенная требовательность, что ли, или просто как черта характера. А оказалось, что он по жизни сволочь! И Мэсел, ну, Масленников, который помог нам деньгами перед отъездом, такой же гад! Он ещё в юности Шалову зад лизал…
– Брось, Саня, душу рвать, – сказал Смолин. – Не стоят они того!
Долгов, с ладони кормивший Шарика крошками, поддержал:
– Не казнись, Александр. Каждому ведь в душу не заглянешь. И потом, подумай: может, Сайпи этот на самом деле искренне убежден, что за свою землю воюет, и мы для него – оккупанты.
– Пусть так, – не принял дружеского утешения Кравец. – Пусть Шалов воюет за свою Родину, а Мэсел? Он-то ведь – русский. Он-то как с ними?
– Ты как будто Маркса не читал, – удивился Долгов. – При десяти процентах прибыли капиталист согласен на всё, при двадцати становится оживлённым…
– Да помню я, Вася. При пятидесяти готов сломать себе шею, а при ста процентах и мать родную продаст, и отца!
– Во! Учение Маркса всесильно, потому что оно ве́рно! – кивнул Смолин. – Только я с вами, ребята, не согласен насчёт Родины. Для бандитов всех мастей нет такого понятия. Они – космополиты! Поэтому ты, Саня, не грузись по поводу своих однокашников. Не люди они, ёкарный бабай! Твари! А с тварей какой спрос?
– Да, умом-то я всё понимаю. Только сердцем принять не могу. Откуда они взялись? Ведь в политическом училище учились! Книжки те же самые, что и мы с вами, читали, про Мересьева, там, про «Молодую гвардию»…
– Книжки-то одни, а выводы из книжек, получается, разные сделали, – Долгов неосторожно ущипнул Шарика и тот цапнул его за руку. – Вот, глядите на псину. Я его кормлю, глажу, а он кусается…
Кравец продолжал настаивать:
– А как же честь офицера?
– А может, всё дело в том, что и не воспитывали в нас никакой чести, – задумчиво произнёс Смолин. – Идеи воспитывали, а чести нет. Идеи-то в голове, а честь – это то, что в душе…
– Откуда же, командир, у тебя честь взялась, если в тебе никто её не воспитывал?
– А я тебе скажу откуда. От отца с матерью. Понимаешь, Саня, мне кажется, что только в семье это всё и закладывается. С самого детства. Если ребёнок уже с детского сада говнюк, то и в любом возрасте таким останется. Как у Маяковского: «Вырастет из сына свин, если сын свинёнок!»
– В том-то и дело, что у Шалова дед – фронтовик, в Сталинграде был. Дядя – генерал. У Мэсела отец – вообще чуть ли не министр! А дядя парткомиссию у нас в училище возглавлял. Неужели они чему-то плохому учили?
– Не знаю насчёт их родичей, но всё-таки настаиваю: человек, хорошо воспитанный с детства, не переменится ни при каких обстоятельствах.
– А как же знаменитый принцип соцреализма? Изменение личности к лучшему под воздействием общества?
– Ты сегодня свой принцип на практике увидел! Давайте лучше наших ребят помянем. Третий.
Они выпили. Возникла долгая пауза. Даже Шарик на коленях у Долгова притих.
Смолин первым нарушил молчание:
– Ты вот про свой выездной караул вспомнил, комиссар. Я так думаю, мы все с самого рождения стоим в карауле. Только одни – часовые света, другие – тьмы. И смены с этого поста не будет, пока живём.
– Во-во! Как тому часовому во время Первой мировой, которого засыпало в подземном складе с продовольствием… – подхватил Долгов.
– И он его бессменно охранял двадцать лет, пока его перед Второй мировой не отрыли: заросшего, ослепшего, полубезумного… – сказал Кравец. – Ты что, в эту легенду веришь?
– Сказка – ложь, да в ней намёк.
Кравец, подумав, заметил:
– А мне больше нравится рассказ Леонида Пантелеева о мальчишке, которого во время игры поставили на пост, а потом забыли. Все его друзья разбежались по домам. Уже ночь, а он всё стоит. Плачет да стоит. Как мы с вами, мужики.
– Ну, только не плачем пока.
– Погоди, не зарекайся…
5
Через два дня на улице Лермонтова граната попала в БМП Кравца. Он ещё в начале боя сел за пулемёт. Стрелок из его экипажа был ранен, да и обзор из башни лучше.
Почти сразу обнаружил позицию гранатометчика в угловом доме. Выпустил несколько длинных очередей – в ответ. Тут сбоку прилетела вторая граната. БМП залихорадило. Движок взревел и захлебнулся. Башня наполнилась удушливым дымом. А по броне пули горохом – не высунешься. Он склонился к водителю. Солдат был мёртв. Оставалось одно – выбираться самому.
Воспользовавшись затишьем, Кравец выбросился из люка и побежал к ближайшему дому. Когда до него оставалось совсем немного, в спину ударило.
Кравец по инерции сделал два шага и упал лицом вниз.
Пришёл в себя оттого, что кто-то волочёт его за ноги. Резкая боль пронзила всё тело. Он застонал и снова потерял сознание. Очнулся во второй раз уже в каком-то помещении.
– Держитесь, товарищ подполковник, – склонился над ним незнакомый и чумазый боец. – Только не спите! Нельзя закрывать глаза! А мы «чехов» немного отгоним и заберём вас отсюда, – сказал и исчез.
Рядом раздались автоматные очереди. Несколько пуль тонко звенькнули над головой, вонзаясь в кирпичную кладку. Посыпалась сухая штукатурка.
«Где я? Кажется, в доме… А может, сарае… Какая разница?» – Кравец сделал над собой усилие, чтобы остаться в сознании: боец прав – закрывать глаза нельзя.
Вот и вспомнил, как первый раз оказался под обстрелом.
В роте охраны, куда после училища Кравец прибыл замполитом, был казах по фамилии Джамаев. Ростом – метр с кепкой. Ручки хилые, ножки кривые. Как призвали такого в армию, одному Аллаху известно. Толку с Джамаева не было никакого. В караул не назначить, так как на всех стрельбах постоянно попадает в «молоко». Как ни бились с ним, объясняя, как держать автомат, он приклад не к плечу приставлял, а засовывал под мышку, закрывал не левый, а правый глаз. На замечания твердил, как заведённый:
– Моя твоя не понимай!
Всё это надоело ротному, он поставил Джамаева в тридцати шагах от мишени и приказал:
– Стреляй, как хочешь, но если не попадёшь в мишень, останешься без обеда!
Джамаев выстрелил и… не попал. В общем, мучились с ним полгода, потом решили всё-таки поставить на пост, чтобы не задаром армейский хлеб жевал. Проверять караул в этот день выпало Кравцу. Как положено, отправились на посты вместе с разводящим и караульным свободной смены. Дошли и до того поста, где нёс службу Джамаев. Когда до колючки оставалось метров двадцать пять, раздался крик:
– Сотой! Сотой!
Они остановились. Разводящий откликнулся:
– Джамаев, это я – разводящий, иду с проверяющим!
Но казах то ли не услышал, то ли сделал вид, что не слышит:
– Сотой! Сытырыляю! – и выпустил по ним очередь.
Пули прошли буквально над головами. Кравец и солдаты уткнулись лицом в снег. Джамаев продержал их так около часа, пока уговорами его не убедили больше не стрелять. Вероятнее всего, просто подошло время смены и ему самому захотелось уйти с поста.
Кравец после этого происшествия гадал: почему казах их обстрелял? Может, надеялся, что больше не поставят в караул? Не тут-то было. Ему за неуставную пальбу вкатили трое суток «губы», после которой он стал нести службу наравне со всеми. И даже однажды проявил себя как отличный стрелок. В День Победы в 1979 году на пост, где стоял Джамаев, проник нарушитель с рогами. Короче – лось. Загнанный охотниками, он прорвал два ряда колючей проволоки и выскочил в пятидесяти метрах от Джамаева. Казах двумя одиночными выстрелами свалил матёрого самца больше тонны весом. Причём одна пуля угодила лосю в лоб, вторая, когда зверя развернуло, попала под лопатку, прямо в сердце. Тушу передали в сельсовет, а рога и шкуру оставил себе командир части. Джамаева поощрили отпуском на родину, из которого он в часть не вернулся – подался в бега.
«Может, сейчас этот снайпер тоже где-то воюет под знамёнами ислама?»
Повязка на ране намокла, сил думать и бороться с беспамятством больше не осталось. Кравец увидел, будто он спускается по скользким ступеням. Распахивает тяжёлую дверь и оказывается… в курганском привокзальном туалете. На каменном полу сидит в чёрной луже плюгавый мужик с распоротым боком и ревёт:
– Зарезали! Зарезали! Караул!
Свет начал медленно тускнеть, и Кравец провалился в темноту.
Он не почувствовал, как вернулся боец с двумя другими солдатами, как они вынесли его к БТРу, как под шквальным огнём прорывались к ближайшему медсанбату…
Капитан медицинской службы, осмотрев раненого, сказал:
– Надо срочно в госпиталь. Слишком большая кровопотеря…
Быстро переправить Кравца в Ханкалу не удалось: не было попутного транспорта и бронетехники для сопровождения. На операционном столе он оказался только поздней ночью.
Хирург извлёк пулю, несколько миллиметров не дошедшую до сердца, и намётанным взглядом оценил:
– Винтовочная. От РПК или от «эсвэдэшки»…
Глава девятая
1
Соединить пространство и время можно несколькими способами. Научным – с помощью теории относительности Эйнштейна. Армейским – выполняя команду: «Копать траншею – от этого столба и до обеда!» Алкогольным – побратавшись с «зелёным змием» до «белочки». И – медикаментозным. Он, пожалуй, будет эффективнее всех остальных.
После окончания училища Кравец прибыл в политический отдел авиации округа за распределением. Вопреки собственным ожиданиям, попал служить не в Челябинск, а в авиационный арсенал, расположенный в глухих вятских лесах. Сроку на сборы и прибытие в часть дали всего три дня. Надо было успеть и за женой заехать к тёще, и контейнер с нехитрыми лейтенантскими пожитками отправить к новому месту службы. Чтобы уложиться вовремя, он решил добираться до Кургана самолётом.
С воздушным транспортом взаимоотношения у него были непростыми, если не сказать отвратительными. В детстве летал на самолетах дважды: к родственникам в Фергану и обратно. И оба перелёта сопровождались… гигиеническими пакетами при взлёте и посадке. В КВАПУ курсанты на самолётах не летали. «Авиационная составляющая» обучения сводилась к теории, где были и конструкция летательных аппаратов, и аэродинамика, и авиационное вооружение. Ведь готовили их как политработников для наземных частей ВВС. Словом,
Полюбила летчика, Думала: летает, А пришла на аэродром — Поле подметает.Но ситуация, в общем, складывалась неприглядная: лейтенант в парадном авиационном мундире и вдруг в самолете облюётся! Это же позор на все Военно-Воздушные Силы!
Запятнать честь мундира (в прямом и в переносном смысле) Кравец себе позволить не мог. Потому запасся «Аэроном». Пока ожидал посадки, проглотил две таблетки, в самолете – от страха опарафиниться – одну за другой съел остальные.
По трапу спустился, как пьяный. Едва добрался до тёщиной квартиры. Тамара, посмотрев на него, спросила:
– Ты где так наклюкался?
Кравец, с трудом подбирая слова, объяснил ситуацию. Жена с тёщей засуетились, стали промывать ему желудок, но «Аэрон» уже сделал свое дело. В голове у Кравца мир перевернулся. Лица у тёщи и Тамары раздулись и исказились, как в кривом зеркале. Собственные руки казались худыми и длинными, ноги, напротив, короткими и слоноподобными. Речь стала бессвязной, движения нескоординированными. Он совсем потерял ощущение времени.
В таком состоянии, пугая домочадцев, находился почти двое суток. Упаковывать и отправлять контейнер пришлось родственникам. На третьи сутки Кравцу как-то сразу полегчало, и время с пространством вернулись в привычные измерения.
…В Ханкале после наркоза он долго приходил в себя. Сознание, едва вернувшись, привело с собой боль. Ему вкололи обезболивающее, и он снова впал в беспамятство. Провалы и проблески сознания несколько раз сменяли друг друга, так, что уже трудно было определить, где реальность, где чёрная пустота, где галлюцинации.
Кравцу мерещилось, что рядом сидит мать и монотонно уговаривает:
– Сходи в церковь, сынок, покрестись. Сходи в церковь, сынок. Сходи…
То вдруг он оказывался в бане с проститутками и у всех у них Тамаркино лицо с яркой раскраской, как у индейца, вступившего на тропу войны. Все они похотливо крутили задами, липли к нему. Тела у шлюх были противные: рыхлые и потные, но Кравцу хотелось обладать ими… Неожиданно по потолку спускался Шалов, иссиня-чёрный, как негр из Сомали. Он потрясал перед Кравцом пачкой долларов и вещал скрипучим голосом:
– Итс э син! Это – грех!
Кравец снова превращался в курсанта в выездном карауле. Мэсел в белом, прожжённом на груди полушубке продавал уголовнику Валере трупы солдат. Они торговались, словно на базаре. Валера синими – в наколках – руками доставал из ящиков снайперские винтовки, щёлкал затвором и совал их почему-то Кравцу, приговаривая с мэселовской интонацией:
– Тут три тонны! Тут три тонны! Тут-тут-тут!
– Тук-тук-тук… – стучали колёса.
– У-у-у-у! – надсадно гудел тепловоз.
С таким же воем проносились над составом снаряды «Града». И опять появлялась мама:
– А-а-аа-ааа, а-а-аа-ааа, – тихо баюкала она его, совсем маленького, голого, со смешным сморщенным красным личиком и куском пластыря на животе…
– А-а-а, – стонал он в бреду, пытаясь сорвать с груди повязку.
– Тише, тише, родной. Потерпи, потерпи, – уговаривал его мягкий голос. – Всё будет хорошо, Сашенька…
«Кто же так звал его? Почему этот голос кажется таким знакомым?»
С потолка опять спускался негр Шалов. На этот раз он был в форме советского подполковника:
– Уви олвиз гет бэк. Мы всегда возвращаемся, – говорил он зловеще и приказывал Кравцу: – Твоя полка верхняя, сбоку, у туалета! Гы-гы! У-у-у! – гудел, как локомотив, и лез обратно на потолок.
Над Кравцом нависало лицо-солнце:
– Та-ня, Та-ня, – по складам, как первоклассник, читал он огненную надпись, вспыхнувшую перед ним.
– Откуда вы знаете, как меня зовут? – спрашивали по-детски припухлые губы.
Маленький мальчик с лицом Мэсела запрыгивал на колени Кравцу и, дёргая его за отросшую бороду, требовал:
– Дядя курсант, расскажи сказку! Дядя курсант, сказку-у-у хочу-у-у!
– У-у-у! – пролетали над головой «эрэсы».
– У-у-у! – гудел тепловоз.
Тьма окутала Кравца. Глухая, непроглядная. Она длилась вечность или больше. Он понимал: тьма владеет всем. Она вбирает в себя и пространство, и время. Она и есть соединение их. И эта тьма – всё, что ему осталось.
– Нет! – рвал бинты Кравец. – Не тьма, а любовь соединяет время и пространство. Любовь – это свет, солнце, вечность…
Тьма не отвечала ему. В её молчании чувствовалась сила, которую Кравцу не одолеть. Он знал это, но барахтался, как жук, упавший в реку. Тьма несла его по течению, становясь всё гуще и страшней. Кравец-жук судорожно грёб мохнатыми лапками, силясь выбраться из чернильной немоты. И когда показалось, что последние силы на исходе, тьма начала редеть, как редеет мрачный еловый лес, когда появляются в нём сосёнки, осины, когда где-то далеко впереди предчувствуется опушка. Во тьме, ещё мгновение назад густой, как кипящая смола, появилась светящаяся точка. Она стала медленно расти, увеличиваться в одном направлении и превратилась вдруг в полоску света от фонаря, пробивавшуюся сквозь щели в занавеске на окне вагона.
Свет упал на лицо спящей девушки. Она заслонила глаза ладонью, но рука соскользнула вниз. Девушка показалась Кравцу красивой. Высокий лоб. Чуточку курносый нос, толстая коса на подушке.
Она приоткрыла глаза и снова закрыла. Просыпаться ей явно не хотелось. Но Кравец так пристально глядел на неё, что она проснулась окончательно. Посмотрела на часы, провела ладонью по волосам. Затем её взгляд скользнул вверх, по рукаву шинели Кравца, свесившемуся с полки. Задержавшись на мгновение на авиационной эмблеме, она перевела взгляд выше, и их глаза встретились.
2
Мальчик трёх лет всё утро не слезал с коленей Кравца.
– Дядя курсант, расскажи сказку, сказку хочу-у-у! – теребил он.
Отчего у мальчика возникла такая «любовь» к нему, Кравец не знал. Он не любил возиться с детьми. Верней, у него просто не было подобного опыта.
– Хочу сказку-у! – канючил мальчик.
– Ну, ладно, слушай. Про Курочку Рябу… – сдался Кравец.
– Не хочу про Рябу. Про Рябу я знаю! – вредничал пацан.
– А про кого хочешь?
– Про Кащея Бессмертного!
– Про Кащея я не знаю. Слушай про царя Салтана. Три девицы под окном пряли поздно вечерком…
– Не хочу-у про девицу-у! – расшалившийся мальчик больно ущипнул Кравца за щёку.
– Ай! – невольно вскрикнул Кравец.
– Вова, иди сейчас же ко мне, ты совсем дядю замучил! – позвала мать.
Вовка крепко ухватился за шею Кравца и замотал головой.
– Что с этим сорванцом делать, не знаю. Никого не слушается, – пожаловалась мать мальчика своей соседке – грузной женщине лет пятидесяти, раскладывающей на столике съестные припасы.
Эта женщина, её муж, седой и массивный, их дочь, та самая девушка, с которой он встретился взглядом ночью, – соседи Кравца по «кубрику».
Кравец несколько раз ловил на себе взгляды девушки, когда играл с Вовкой. При утреннем свете она оказалась не такой красавицей, как привиделось ночью. Но её взгляды почему-то волновали. И больше того, он поймал себя на мысли, что играет с Вовкой и терпеливо сносит его щипки и болтовню ради этих взглядов, которые становились всё пристальнее и продолжительнее.
– Вова, иди, будем кушать, – снова позвала мать.
Вовка неохотно сполз с коленей Кравца, сунув ему игрушечную машинку, мол, поиграй пока.
От запахов съестного голодный желудок Кравца сжался и затрепетал.
– Александр, пошли пить чай, – подал голос Шалов. На публике он снова разыгрывал давно забытую роль «демократа».
Кравец отправился в соседний «кубрик», где на столике стояло четыре кружки с чаем. Чай оказался крепким и с сахаром.
– Откуда такое изобилие? – уныло поинтересовался Кравец.
Ответил Мэсел:
– Товарищ сержант у проводницы выцыганил. Начкар у нас – во! – он поднял вверх большой палец.
Кравец поморщился: «С паршивой овцы хоть шерсти клок», – и присел на краешек полки.
Чай обжёг внутренности и на какое-то время, обманув желудок, заставил забыть о голоде. Но вода, что ни говори, остаётся водой. Вскоре есть захотелось ещё сильнее. Правда, тут выручил Вовка. Он стал угощать Кравца печеньем, которое предварительно обмусолил. Отказаться от угощения у Кравца не хватило мужества.
После полудня Вовка наконец заснул. Кравец, освободившись от роли «усатого няня», ощущая на себе взгляды Танюши (так звали девушку родители), открыл записную книжку. Стихи, как он назвал их, «О мальчике Вове» родились тут же:
Мы все торопим время будней, Хотим, чтоб был подольше праздник. Ведь и курсанты – тоже люди… Пойми, мой маленький проказник. Но нам не прыгнуть на колени И не вцепиться в дядин чубчик… И ты, дружок, будь постепенней, И не вопи ты так, голубчик!Мальчик Вова, проснувшись, стал и впрямь поспокойней, словно услышал эту поэтическую просьбу. Или попутчик уже надоел ему, утратил элемент новизны, как говорят психологи.
Кравец забрался на вторую полку и стал искоса наблюдать за Таней. Она – за ним.
Ах, эти юные, перекрестные наблюдения, когда взгляды сталкиваются и расходятся только затем, чтобы встретиться вновь! Сколько всего в этих взглядах намешано? И любопытство, и интерес, и желание любви, и обещание счастья, и страх обмануться.
«Хотя бы один день полного счастья оправдывает всю горечь бытия», – вычитал Кравец в книге Ричарда Олдингтона «Смерть героя», популярной в курсантской среде. И хотя дальше писатель предостерегал, что в любви краткие счастливые передышки всегда будут снова и снова заменяться страданием, он запомнил только первую часть фразы. О том, что счастье, несомненно, влечёт за собой месть судьбы, в восемнадцать лет думать не хотелось.
Этот день в поезде, когда он и девушка Таня обменивались взглядами, был на самом деле счастливым, невзирая на муки голода. Потому что счастье (этот вывод принадлежал уже самому Кравцу) – это предвкушение счастья, ожидание его.
«Что-то должно произойти, обязательно должно произойти, – думал Кравец. – Я ей понравился. Конечно, понравился. А она мне? Трудно сказать. Но…» Всё его существо требовало любви, жаждало её и находило приметы желанного чувства во всём: даже в необычности их пока ещё не состоявшегося, но вполне возможного знакомства. Это чувство было таким сильным, что он решил отбросить обычную по отношению к девушкам робость и действовать решительно.
Таня, словно угадав его намерения, вечером сказала отцу:
– Давай поменяемся. Я хочу лечь на верхнюю полку…
Она забралась на полку, включила ночник. Взяла в руки книгу и раскрыла её. Кравцу показалось, что на самом деле она машинально перелистывала страницы, думая вовсе не о прочитанном. Может быть, о нём?
Теперь они лежали на противоположных полках и могли обмениваться взглядами, не боясь, что это заметят посторонние. Когда родители Тани и соседка с мальчиком уснули, он открыл записную книжку на чистой странице и написал:
О чём задумалась, Танюша, Твой взгляд и долог, и печален…Дальше ничего путного в голову не пришло, и он закончил строфу невыразительно и даже глупо:
Висит он, как на ветке груша, В многозначительном молчании.Кравец с минуту подумал, сомневаясь: стоит ли посылать такую записку? Желание завязать знакомство пересилило стыд за неудачные строки. Он вырвал листок из книжки и, сложив вдвое, протянул через проход. Девушка широко распахнула глаза (он ещё днем заметил, что они у неё зеленовато-карие), жестом спросила: «это – мне?» Кравец закивал: «да, да». Она взяла записку, раскрыла, прочитала, совсем по-девчоночьи шевеля губами и наморщив нос. Жестом попросила авторучку. Когда он передавал её, их руки впервые соприкоснулись, и она не отдёрнула свою.
Кравец поймал себя на мысли, что мог бы так – рука к руке с незнакомкой – просидеть вечность, но надо было прочитать ответ. На листке крупным округлым почерком была написана всего одна фраза: «Откуда вы знаете, как меня зовут?»
3
Когда Кравец впервые после операции пришёл в себя, он увидел Таню. Она чуть заметно улыбнулась ему и тут же исчезла. Кравец сразу узнал её, хотя прошло столько лет.
Над головой качался зелёный брезент УСБ – большой медицинской палатки. Было довольно тепло. С трудом повернув голову, Кравец увидел, что лежит рядом с буржуйкой, такой же, какая была у них в карауле. Она уютно потрескивала и распространяла вокруг запах жилья.
Словно подтверждая реальность происходящего, где-то рядом затренькала гитара. Кто-то хриплым, простуженным голосом запел:
Мы с вами заходим В Чечню мимоходом, Мы снова в Афгане, друзья… А вы говорили нам, Павел Сергеич, Что здесь не такая война. На Грозный ходили, Из пушек долбили — Руины на каждом шагу… А вы говорили всем, Павел Сергеич, – Полком этот город возьму.В припеве к песне присоединилось несколько голосов:
Мама, мама! Не жалеючи голов, Мы дерёмся за Россию, а не ради орденов!«Надо же, успели сочинить… Так припаяли министра обороны, что до смерти теперь не отмоется», – как-то отстраненно подумал Кравец. Под звуки песни он уснул. А когда проснулся, его первая мысль была о Тане: «Откуда она здесь? Вот уж не думал, что встречу её на войне…»
Таня появилась под вечер. Наклонилась, чтобы поставить градусник, и он прошептал:
– Здравствуй.
– Здравствуй.
– Ты не узнаёшь меня?
– Узнаю, – ответила она так же шёпотом.
К ночи у него поднялась температура, он стал бредить. Сквозь бред ему казалось, что Таня сидит рядом и гладит его по лицу горячими руками.
Сознание к нему вернулось нескоро. Опять потрескивала «буржуйка». Тускло светила над головой электрическая лампочка. Ветер гудел в трубе и раскачивал брезент палатки.
Таня сидела на краю кровати и держала его за руку. Вид у неё был измученный, а руки холодными.
– Как ты очутилась здесь?
Она пожала плечами:
– Я же закончила медучилище. Или забыл?
– Ничего не забыл.
– И я тоже.
– Всё ещё сердишься на меня? Я ведь не сделал тебе ничего худого… – вглядываясь в её лицо, неуклюже произнёс он.
Она промолчала.
– Ну, точнее, не успел сделать.
– Не сделал ничего худого, – медленно повторила она. – А разве посеять в человеке надежду и потом отнять её – это не подло?
– Но ведь и Бог дарит человеку надежду на загробную жизнь. Обещает и не выполняет обещание…
– Не богохульствуй!
– А я некрещёный…
– Это не играет никакой роли. На войне неверующих нет. Здесь все под Богом ходят.
– Убедила. Не буду… – пообещал он, надеясь подольше удержать её рядом.
Но Таня отпустила его руку и ушла. Он закрыл глаза, но не уснул. Лежал и думал о ней и о себе, о том, что было у них тогда, в семидесятых.
…Они расстались, когда поезд подошёл к Кургану. Ночь была бессонной. Все чистые листочки его записной книжки были потрачены на переписку. Он успел узнать, что она только что окончила медицинское училище в Новосибирске и возвращается домой из Астрахани, где гостила у отцовских родственников. Узнал, какие книги она прочитала недавно, какие песни ей нравятся. И главное, выяснил, что парня у неё на данный момент нет, что она рада будет переписываться с ним. Они обменялись адресами…
Потом полгода были письма. Те самые, о которых ещё до их встречи он сочинил стихотворение:
Наши письма – посланцы души, Вы летите сквозь время и дали, Чтобы в городе или в глуши Нас любимые преданно ждали.О «любимых» он написал тогда абстрактно. А в переписке с Таней слово «любовь» не использовалось. Да и сами письма ещё не были теми любовными посланиями, которыми обмениваются книжные романтические герои. Скорее это был диалог симпатизирующих друг другу молодых людей, ждущих любви, примеряющих это чувство к каждому новому знакомству.
Но между ними сразу возникла атмосфера искренности. А когда люди искренни друг с другом, это – уже начало дружбы. Дружба между юношей и девушкой, как правило, заканчивается любовью. Так что ошибиться и принять предчувствие любви за саму любовь Кравцу было нетрудно, особенно если учесть, что никакого опыта он не имел. Не было его и у Тани. Она, наверное, тоже заблуждалась по отношению к чувствам, которые испытывала к нему. По крайней мере, так ему хотелось думать теперь.
А в семьдесят шестом его письма дышали весной и стихами, как сказал бы поэт. И Кравец сам ощущал себя тогда настоящим поэтом. Он каждую неделю посылал Тане по два-три послания. И в большинстве из них были рифмованные строчки.
Тайга и сопки. Двое у ручья. Она и он. Закат сплетает тени. Была его, а вот теперь – ничья. И тянутся прощальные мгновенья. Их душам всё темней и холодней… Ещё не поздно: помиритесь, люди! Но он ушёл, не помирившись с ней, Лишь бросил, обернувшись: – Всё забудем… Тайга и сопки. Пусто у ручья. И на тропе деревьев стынут тени. Как часто люди рубят всё сплеча, С немудрою поспешностью решений.После письма, в котором он послал Тане это стихотворение, она и предложила встретиться. Пригласила Кравца к себе в гости в Новосибирск во время летнего отпуска. Он пообещал приехать. И приехал, хотя для этого пришлось пойти на обман: врать матери, рассказывая, как погулял у друга-курсанта на свадьбе.
4
«Просто удивительно, сколько непоправимого вреда может причинить добрый, в сущности, человек», – написал Ричард Олдингтон. На самом деле иногда и отъявленный негодяй натворит меньше зла, чем тот, кого все считают добропорядочным человеком. Этот «добрый человек» умудряется испортить жизнь жене, потому что был чересчур податлив и не умел стукнуть кулаком по столу, сыну – оттого, что был к нему недостаточно требователен и внимателен, отцу и матери – потому что не смог стать им опорой в старости, оставаясь всю жизнь большим ребёнком. В результате этот «добряк» напрочь портит свою собственную жизнь, не добившись ничего из того, о чём мечтал, и ожесточившись при этом на весь белый свет. Он ищет оправдание собственным неудачам в накопленных за долгие годы обидах на других людей. Но истоки неудач надо искать в собственной юности. Именно тогда и совершает человек нелепые поступки, которые горьким эхом аукаются во всей его судьбе, заставляя всей жизнью расплачиваться за юношеское недомыслие и неопытность.
У выздоравливающих много времени для раздумий. И Кравец думал обо всём, о чём прежде не хватало времени задуматься. Он снова и снова возвращался теперь к словам Смолина о том, что каждый человек со дня рождения поставлен в караул и является или часовым света, или часовым тьмы. Прокручивая назад свою жизнь, Кравец искал и не находил ответа, к какой из этих двух команд принадлежит он. Профессия политработника обязывала помогать людям. Кому ребёнка в детский сад устроить, кого с женой помирить, кого добрым советом на путь истинный направить. И он, по долгу службы, помогал, мирил, устраивал, снискав себе авторитет человека отзывчивого и добросердечного. Но теперь Кравцу стало понятно, что никогда не принимал он по-настоящему близко к сердцу чужие заботы. Закрыв дверь служебного кабинета, тотчас забывал и о просителях, и об их проблемах. Да что говорить о чужих людях, если и в душу к самым близким не удосужился заглянуть! Взять хотя бы Таню…
Скамейка над Обью досталась им по наследству от парочки, покинувшей набережную, как только стал накрапывать дождь. А для них с Таней дождь помехой не показался. Он был тёплый и не проливной. У Тани был с собой зонт. Они раскрыли его и сидели, тесно прижавшись друг к другу. Дождь создавал иллюзию отгороженности от всего мира, а зонт казался крышей их собственного дома. Они начали целоваться и забыли про зонт. Капли стекали по лицу Тани. Кравец ловил их горячими губами, и ему казалось, что она плачет: дождинки на вкус были горьковато-солёными.
Когда он дрожащими от нетерпения руками расстегнул верхние пуговицы её блузки и прикоснулся губами к груди, Таня отстранилась:
– Сашенька, не надо! Подожди, любимый…
Это «любимый» и ласкало ему слух, и одновременно отрезвляло. Кравец вдруг понял, что не может так же назвать Таню, хотя в порыве обладать ею и лепетал ласковые и бессвязные слова.
…На тело женщины как на тайну он взглянул впервые в тринадцать лет. Именно взглянул. Сосед по подъезду Юрка Даничкин позвал подсмотреть за его старшей сестрой Райкой, когда она ушла в ванную. Райке было уже восемнадцать. Она вовсю женихалась со взрослыми парнями. Волосы красила хной, была фигуристая и длинноногая.
– Смотри, смотри, Саня, – с придыханием проговорил Даничкин, уступая ему место у маленького кухонного окна в ванну.
Кравец припал к запотевшему стеклу. Сначала ничего не увидел. Только бельевую верёвку с развешанными на ней панталонами и бюстгальтером.
– Ничего не вижу, – прерывистым шёпотом пожаловался он.
– Левее, левее, – пихнул его в бок сосед.
Кравец перевел взгляд в указанном направлении и уткнулся им во что-то округлое. Эта округлость шевелилась, вызывая в нём странную, щемящую тоску, потом, посмотрев ниже, он разглядел чёрный треугольник и Райкины руки с мочалкой.
– Ну, что, посмотрел? Дай я, дай я, – зудел над ухом Даничкин.
– Погоди, я ещё немножко, – взмолился Кравец.
Он ещё раз успел увидеть высокую Райкину грудь с большими коричневыми сосками, когда Райка вдруг встрепенулась и заорала:
– Юрка! Гадёныш! Опять подглядываешь! Всё матери расскажу! С кем ты там?
Они с Даничкиным мигом соскочили с кухонного стола и, толкая друг друга, опрометью бросились из квартиры. Побежали на кочегарку, где у них находился «штаб» – место тайных встреч. Там, на куче угля, отдышавшись, долго обсуждали Райкины «прелести». Тогда Кравец впервые и ощутил мужское естество, которое всё настоятельней требовало встречи с естеством женским. По совету всё того же «опытного» Даничкина попытался вручную разрядить томящийся молодыми соками организм. После этого почувствовал себя таким пропащим и нехорошим, что дал себе слово – никогда больше ничего подобного не делать. Но природа требовала своё! Правда, потакать ей, как это сделал Мэсел с дорожной проституткой, Кравец не хотел и не мог.
Таня – дело другое. Она любит его! Тогда, на скамеечке, что-то удержало его от последнего решительного «штурма». Но не Танины слова. Она уже не отговаривала. Ещё чуть-чуть – и полностью принадлежала бы ему. Но он остановился. Подождал, пока Таня приведёт себя в порядок, наденет те части своего туалета, на снятие которых он потратил столько сил. Потом уже без страстных поцелуев, обнявшись, как брат с сестрой, они встретили рассвет…
А вечером он уехал, пообещав писать. И не сдержал обещания: не писал сам и не отвечал на Танины письма. Сначала нежные, полные любви, потом тревожные и наконец обиженные. Правда, одно письмо всё-таки написал. Полтора года спустя, когда собрался жениться на Тамаре. Об этом и сообщил Тане. В ответ пришла открытка. В ней – две фразы: «Я тебя ненавижу! Ты мне испортил всю жизнь!»
Занятый приготовлениями к свадьбе, он только усмехнулся: «Почему – испортил, если целомудрия девушку не лишил? Почему – всю, если Тане – всего двадцать? Вся жизнь ещё впереди!» Но тяжесть на сердце, ощущение своей неправоты некоторое время не покидали его. Потом всё забылось, отошло в область прошлого. А когда лет через пять случайно встретился с Таней, вовсе почувствовал облегчение.
Это было в Москве, на Казанском вокзале. Он возвращался из служебной командировки. Его поезд подали на третью платформу. А на соседний путь прибыл состав из Кемерово. Когда он шёл к вагону, навстречу попалась семья: муж, жена и двое маленьких детей: мальчик и девочка. Мужчина был в годах, солидный, в монгольской дублёнке. В женщине Кравец узнал Татьяну. Проходя мимо, она отвернулась. Наверное, не узнала. Или не захотела узнать. «Значит, вышла замуж. Детей родила. А говорила, что всю жизнь ей испортил», – с облегчением подумал он и вскоре забыл об этой встрече.
Теперь всё вспомнилось. Он с горечью подумал, что послание, полученное им в юности от Тани, почти точная копия Тамариного письма к его матери. Слова разные, а смысл один. Та же ненависть к нему, те же обвинения в исковерканной судьбе. Только, в отличие от Тамары, Таня не стала мстить…
«Неужели его неудачный брак, предательство жены – это расплата за Таню? За то, что не оценил в молодости её любовь и преданность? – спрашивал он себя и сделал однозначный вывод. – Вся жизнь наперекосяк, потому что за всё надо платить! Ведь и война – это тоже расплата. Только уже не за его личные ошибки, а за промахи всего поколения таких же, вроде бы добропорядочных, людей…»
5
Утром в палатку, где лежал Кравец, из реанимации перенесли сержанта, живот – в бинтах. Положили в дальний угол.
Таня пожаловалась:
– Мальчишка! Играл с автоматом… – И пояснила: – С товарищем нашли где-то цинк с холостыми патронами. Решили проверить, что будет, если выстрелить ими друг в друга. Уткнули один другому стволы в животы и пальнули. Товарищ – наповал, а этот – везучий: вытащили с того света…
– Такие у нас сейчас в армии сержанты: лычки надел, а не знает, что холостые патроны имеют пластмассовую заглушку. Если стреляешь в воздух, она через метр плавится, а тут не успела… Страшное дело – пластмасса: в кишках, как разрывная пуля, орудует.
– О чём только думают, дурачки? И так – война, кругом столько смертей…
– Я, Таня, таким же в молодости был. Все молодые – дурачки…
Таня с сожалением покачала головой, поправила ему подушку и отошла.
Она стала приходить и разговаривать с ним чаще.
Но прошло ещё несколько дней, прежде чем он решился снова спросить:
– Ты всё ещё сердишься на меня?
Вместо ответа она стала рассказывать о себе. О том, как ждала его писем, как ненавидела потом, после сообщения о женитьбе, как вышла замуж без любви. Муж был старше её лет на двадцать. Он преподавал в училище, которое она окончила. Был человеком добрым и умным. А ей никогда не нравился. Именно из-за обиды на Кравца она дала согласие на этот брак. Появились дети. Показалось, что можно жить ради них. Может, у кого-то так и получается. У неё не получилось. Через десять лет разошлись с мужем. Без скандалов, по-тихому. Когда железнодорожную больницу, где она работала, закрыли, устроилась в военный госпиталь. С ним и прибыла сюда.
– А где дети? – спросил Кравец.
– Саша, старший, учится в военном училище в Тюмени. А дочка Машенька, ей семнадцать, у мамы, в Новосибирске. А ты как жил?
– Лучше не спрашивай, – ответил он, подумав, что рассказывать нечего. А когда она уходила, сказал совсем неожиданное: – Выходи за меня, Таня…
…Кравец умер неделю спустя, когда его состояние у врачей тревоги уже не вызывало. Умер не от раны. Ночью остановилось сердце. Рядом не оказалось ни дежурного врача, ни медсестры. При вскрытии тела, на котором настояла Таня, обнаружился обширный инфаркт.
Можно как угодно честить армию, но, когда умрёшь, она обходится с тобой, как с человеком. Военным бортом тело Кравца переправили в Екатеринбург. Тамара, быстро освоившись в роли вдовы героя, пошла на приём к Плаксину и выхлопотала автомобиль для перевозки останков мужа в Колгино (она вдруг вспомнила, как однажды Кравец заикнулся, что хотел бы быть похороненным на родине). Там с воинскими почестями (Плаксин распорядился выделить взвод курсантов и военный оркестр из Челябинского танкового училища), при большом стечении земляков, тело Кравца предали земле рядом с матерью. Нина Ивановна умерла через три дня после того, как узнала о смерти сына. Сосед Кравца по подъезду Юрка Даничкин (теперь уже Юрий Афанасьевич), баллотировавшийся в это время кандидатом в депутаты Городской думы, устроил на кладбище настоящий предвыборный митинг. На поминках он не преминул усесться рядом с вдовой, которую и утешал как мог…
В депутаты Даничкина не выбрали. А вот Леонид Борисович Масленников, неожиданно выступив против распространения наркотиков и проституции в регионе, на очередных выборах в Государственную думу преодолел необходимый барьер в своём одномандатном округе и оказался в высшем законодательном органе страны. Там он безо всяких угрызений совести изменил прежним коммунистическим лозунгам, примкнул к партии власти и вскоре возглавил думскую комиссию по борьбе с коррупцией.
Летом девяносто шестого, после постыдного Хасав-Юртовского соглашения, поредевший мотострелковый полк, где служил Кравец, вернулся в Екатеринбург.
Смолин, только что назначенный на генеральскую должность, и Долгов, переведённый преподавателем на военную кафедру университета, приехали на могилу друга. Взамен облезлой металлической пирамидки со звездой привезли мраморный памятник, где рядом с барельефом Кравца был выбит орден Мужества, которым его наградили посмертно.
День был жаркий. Даже в тени кладбищенских деревьев невозможно было укрыться от зноя. Донимало назойливое комарьё и оводы, тяжело кружащие над головами.
Рабочие сноровисто установили памятник и скамейку. Смолин поблагодарил их, расплатился.
Когда рабочие ушли, Долгов достал водку и стаканы, спросил:
– Помнишь, как в Грозном сидели в подвале?
– Конечно, помню. Только вот мы – здесь, а Александр теперь на вечный пост заступил.
– Свет и на том свете охранять надо.
– Да, как у Высоцкого: «наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие, как часовые…»
Они выпили, вылили остатки водки на могилу. Смолин произнёс, вглядываясь в барельеф:
– Саня здесь на депутата похож, только значка на лацкане не хватает…
– Нет, Серега, он бы депутатом не смог. Там сейчас большинство таких, как этот, его однокашник…
– Ты о Масленникове, ёкарный бабай?
– И о нём, и об этом Сайпи, будь он неладен. При тебе ведь ГРУшники рассказывали, что теперь он у Масхадова в советниках ходит?
– При мне, – подтвердил Смолин и резюмировал: – Да, хорошо, что Саня всего этого не узнал. Пусть ему спокойно спится…
А ещё через год в Колгино приехал Захаров, уволившийся в запас капитаном. О смерти Кравца он узнал от Смолина, с которым случайно встретился в военном санатории. Однако он не нашёл ни могилы Нины Ивановны, ни надгробья её сына. На том месте, где по описанию Смолина они должны были находиться, оказались свежие захоронения.
Захаров пошёл разбираться в кладбищенскую сторожку. Оттуда вышел интеллигентного вида очкарик в мятой фетровой шляпе.
– Я тут всего неделю, – признался он. – Про могилу вашего друга ничего не знаю.
– Как же так, не знаете? Он же герой? Он же за Родину погиб! – возмутился Захаров. – У него мраморный памятник стоял! Куда делся?
– Вы что, уважаемый, телевизор не смотрите? – искренне удивился сторож. – Тут недавно показывали целую шайку бомжей, которые кладбищенские памятники воруют и сдают в ритуальные конторы. Там старые надписи затирают, а мрамор для новых памятников используют.
– А вы здесь зачем?
– Вы, видать, нездешний. Порядков наших не знаете. Если к мертвому никто не ходит год-полтора, то могила считается брошенной. Ну, и выводы соответствующие… Кладбище-то смотрите, как разрослось. Люди мрут, а место поближе стоит подороже…
– Значит, вы это место продали?
– Что вы ко мне пристали? Я же вам по-русски объясняю, что ничего о могиле вашего друга мне не известно! – разозлился очкарик. – И давайте без грубостей, а то милицию вызову!
– Я сам пойду в милицию, – пообещал Захаров.
Но не пошёл, уехал.
Повести и рассказы
«Чёрный тюльпан»
1
Военно-транспортный самолёт летел на север.
«Чёрным тюльпаном» зовут его «афганцы» за страшную «почту», которую доставляет он в Союз.
Вот и на этот раз чрево самолета заполнено продолговатыми цинковыми ящиками, похожими один на другой.
День стоял солнечный. На голубом шёлке апрельского неба – ни облачка. Ослепительно сверкали снега Гиндукуша, по которым вслед за самолётом скользила его чёрная тень…
– Конъюнктура! – бросил мне один из знакомых, прочитав первые строчки. – На чужой боли хочешь заработать, имя себе сделать! Да как ты можешь об этом писать, если не воевал там?
Да, я не воевал в ДРА. Хотя, как многие мои сослуживцы, писал рапорт с просьбой отправить туда для выполнения интернационального долга. Не попал – солдат службу не выбирает… Но там воевали мои друзья-однокашники. Двое из них вернулись инвалидами, а одного доставил на родину «Чёрный тюльпан»… Вернувшиеся живыми «афганцы», потрясённые пережитым, нескоро ещё, наверное, напишут мемуары. Для осмысления нужно время. Для определения своего места в мирной жизни тоже нужен срок. Какой? Месяц, год, жизнь? До мемуаров ли тут?
А как быть с теми мальчишками, которые уже сегодня ждут рассказа о подвигах своих старших братьев? Как быть с матерью, которой тень «Чёрного тюльпана» застила свет? Она уже сегодня хочет знать, как служил и погиб её единственный сын. Да, ответ надо дать уже сегодня.
Потому и пишу я об этом.
В Афганистане, в «Чёрном тюльпане» С водкой в стакане мы молча плывём над землей. Скорбная птица через границу К русским зарницам несёт наших братьев домой, —поёт Александр Розенбаум.
Однако я узнал о «Чёрном тюльпане» не из его песни.
…Шли тактические учения. Продрогнув на февральском беспощадном ветру, мы набились в стоящий неподалёку от огневого рубежа санитарный автобус, чтобы хоть немного согреться. Тут кто-то сказал:
– Да, наши морозы – это не Афган…
– И там морозы бывают, – отозвался майор Полыгалов, недавно вернувшийся из-за «речки». – В горах и летом снег, а в Джелалабаде круглый год – весна.
– Зато у нас война ненастоящая, – разговор раскручивался по формуле «а у нас в квартире газ, а у вас?».
В этом же ключе съязвил и наш начвещ:
– А если бы здесь убивали, то тела на таком морозе хорошо сохранялись бы…
– Тебе бы все хранить, тыловая твоя душа, – неожиданно резко оборвал «шутника» Полыгалов. И, словно поясняя свою резкость, сказал:
– Я вот, мужики, однажды видел такое…
Поручили мне тела трёх солдат к «Чёрному тюльпану» доставить. В Кабульский аэропорт. Там укладывают их в «цинки» для отправки в Союз. Дело в том, что «цинки» развозить по частям, когда идут боевые, невозможно. Да и некому в войсках заниматься траурными делами. В частях «двухсотых» просто заворачивают в специальную полиэтиленовую пленку и вертолётом или БТРом, если расстояние небольшое, отправляют в Кабул. Там есть пересыльный пункт для мёртвых – мертвецкая, проще говоря.
Такое поручение я выполнял впервые. Мне, конечно, объяснили, как доехать до «пересылки».
Подъехали. Стоит обыкновенная палатка УСБ. В таких полевые медицинские пункты разворачивают. Ничего на первый взгляд необычного. Только вокруг армады мух и – лето, жара! – запах такой, что всё нутро выворачивает.
Вытащили мы тела из БТРа, положили на землю. Тут из палатки человек вышел. А на нём только медицинский халат, кроссовки да на руках – резиновые перчатки. Подошёл к нам. Спиртом от него разит – чиркнешь спичкой, загорится.
– Новых привезли? – развязно так спрашивает. Я уже собрался отчитать незнакомца за пьянство, а он:
– Щас, майор, все оформим. Я – старший команды… Щас всё будет в порядке. – И, повернувшись к палатке, позвал:
– Володя!
Вышел второй – тоже в халате и кроссовках.
– Щас вскрытие сделаем, обмоем, протрём формалинчиком, оденем как положено… – продолжая бормотать себе под нос, старший кивнул помощнику, и они, взяв тело одного из убитых, понесли в палатку.
Потом забрали остальных.
Прошло, наверное, около часа, когда старший выглянул из палатки и так же фамильярно (что в его состоянии вполне объяснимо) крикнул:
– Майор! Зайди посмотри, всё ли так сделали?
Я пошел, стараясь не дышать глубоко. И все-таки, когда очутился внутри, с трудом сдержал тошноту…
Поверьте, на войне со смертью сталкиваешься почти ежедневно, но это всё не то. Совсем не то, что увидел я в мертвецкой!
Тела лежали везде, заполнив палатку.
Никогда не забуду одного убитого – атлетического сложения парень, светловолосый, глаза открыты, улыбается, как живой. А под левым соском чуть заметная ранка…
– Солдат, десантник, – сказал старший, перехватив мой взгляд, и указал рукой в перчатке:
– Вон ваши!
Наши однополчане лежали уже в парадках. Я кивнул старшему и быстро вышел.
Только побывав там, понял, – трезвому человеку работу в мертвецкой не выдержать! А когда зальёшь шары – легче, наверное. Ведь кому-то надо и эту работу делать…
На следующий день погрузили мы «цинки» в «Чёрный тюльпан» и в обратный путь отправились, в свою часть. А ребята полетели в Союз…
Полыгалов умолк. Молчали и остальные. А мне показалось, я вижу, как «Чёрный тюльпан» летит на север, и медленно плывёт за ним по ослепительно белым снегам траурная тень.
2
Телефонограмму о прибытии «груза двести» начальник отделения райвоенкомата капитан Пухов получил незадолго до окончания рабочего дня. Ему было хорошо известно, что скрывается за этими цифрами. Из Афганистана везут на родину тело погибшего военнослужащего. Чуть позже сообщили и фамилию – рядовой Смирнов Игорь Дмитриевич. Год призыва – 1985-й. Воздушно-десантные войска…
Пухову даже показалось, что он помнит этого призывника…
Взвод разведки принял бой в извилистом ущелье.
Головной БТР сразу подбили душманские гранатометчики.
Игорь Смирнов, который был на броне второго БТРа, только и успел подумать: «Там же братишка!»
Братишкой он звал своего однофамильца Ивана Смирнова, с которым подружился за время службы в разведбате. Да и внешне они были похожи, как настоящие братья: русоволосые, голубоглазые, рослые.
Иван был старше на год и готовился к дембелю. На эти «боевые» он просто напросился пойти у взводного – по неписаным традициям, когда до замены оставался месяц, дембелей на «дело» не брали…
Что такое попадание гранаты в БТР, Игорь знал хорошо. Если люки закрыты – считай, в живых никого из экипажа нет! Но поверить, что друг погиб, не мог.
До подбитого БТРа было метров пятьдесят. «Надо вынести Ваньку», – решил Смирнов.
– Прикройте! – крикнул он товарищам и рванулся вперед. За скатом БТРа упал. Перевёл дыхание и пополз к боковому люку. Тот, на счастье, оказался открытым. Вытащил окровавленного друга: кажется, дышит! Вернулся проверить остальных. В живых – больше никого. Взвалил на спину Ивана и тяжело побежал к своему БТРу.
И тут сзади тяжело грохнуло…
Проводить Игоря Смирнова в последний путь пришли почти все жители уральского городка: школьники и учителя средней школы, которую он закончил два года назад; рабочие вагоноремонтного завода, на котором работал до призыва; знакомые и незнакомые люди.
Пухов волновался, как пройдет траурная церемония. Особенно беспокоила его мать погибшего.
Худенькая, невысокая женщина, Зинаида Ивановна Смирнова на похоронах сына держалась неестественно прямо. На лице ни слезинки, губы плотно сжаты – ни вздоха, ни причитаний.
«Железный характер, – подумал капитан, – а ведь совсем одна на белом свете осталась…»
Ещё вчера Смирнова убеждала его, что с сыном ничего не случилось, что он жив. И тогда, когда он показывал ей документы и когда встречали они вместе в аэропорту областного центра гроб, Зинаида Ивановна повторяла одну и ту же фразу:
– Игорь не погиб, он жив – я знаю.
– Я вас понимаю, Зинаида Ивановна, – говорил Пухов, – но вот же документы, вот гроб!
– Нет, пока не увижу сына мертвым – не поверю! – отрешённо, но твёрдо заявила она.
Тогда, в аэропорту, всё же удалось убедить её, что вскрыть гроб нельзя, что такой приказ. Но как поведёт она себя здесь, на кладбище?
После траурного митинга, когда было предложено родным и знакомым попрощаться с погибшим, Зинаида Ивановна неожиданно громко сказала:
– Как же я буду прощаться при закрытом гробе? Откройте, я хочу видеть сына!
– Не положено… – попытался заспорить Пухов.
– Тогда меня закопайте вместе с ним! – Смирнова встала между гробом и могилой.
В толпе зашумели: «Да что ж это такое? Матери с сыном нельзя проститься!» Кто-то крикнул: «Дай команду вскрыть гроб, капитан! А то мы сами вскроем!»
Пухов махнул рукой, мол, делайте что хотите. В руках одного из мужчин появился топор. Орудуя им, он снял обтянутую красной материей крышку деревянного гроба, затем ловко вскрыл «цинк».
Когда цинковый лист отогнули в сторону, все, кто стоял рядом, увидели светловолосого парня в десантной форме. И хотя смерть уже наложила на него свой отпечаток, но улыбка была, как у живого. Могло показаться, будто солдат спит и снится ему хороший сон.
Однако все, знавшие Смирнова при жизни, могли поклясться, что в цинке лежал, улыбаясь, не он, а совсем другой человек. И только мать Игоря вдруг упала на грудь лежащего в гробу солдата и впервые за последние дни зарыдала, сквозь слёзы повторяя одно лишь слово: «Сынок!»
– Это невозможно! – только и смог сказать я, услышав рассказ Олега Черемных – замполита той самой роты, где служил Игорь Смирнов.
– Ничего невозможного нет, – грустно парировал Олег. – И настоящий героизм, и элементарная безалаберность на войне стоят рядом. Бывает, старослужащий в бою заслоняет собой молодого солдата, а вечером в палатке глумится над ним. То мы для того, чтобы отбить тело погибшего, целый батальон под пули посылаем, а то проявляем бездушие к живому инвалиду. Трудно это понять. Ещё труднее объяснить… В той жуткой истории разобрались. Ошибка вышла. Не по нашей вине: писарь в госпитале документы перепутал. И с телом Ивана Смирнова, скончавшегося от ран, отправили документы Игоря, тяжело раненного в том же бою.
Когда ошибку обнаружили, Ивана похоронили на его родине, в Сибири. Долго объяснялись с начальством, как это получилось…
А Игорь после излечения вернулся домой. Вот и не верь, когда говорят, что сердце матери – вещун и защита солдату в бою.
– Так-то оно так, но как это материнское сердце само не остановилось от такой ошибки? Нашли хоть виноватого?..
– Да как его найдёшь? С операции мы вернулись только через месяц… Хотя сам знаешь, без крайнего никогда не останемся. В приказе по армии досталось всем: от нас с ротным до комдива. А тот, который всё напутал, как обычно, вышел сухим из воды…
– Но ведь это не ошибка, а настоящее преступление, за которое по законам военного времени судить надо, – мне очень хотелось, чтобы справедливость восторжествовала.
Олег только плечами пожал. Может быть, с высоты воевавшего человека ему было видно что-то такое, что не выхватывал из окружающей действительности мой взгляд.
3
«Чёрный тюльпан» летел на север. В огромном чреве самолета теснились «цинки», похожие друг на друга, как патроны в обойме.
В одном из них находилось тело врача медсанбата, любимой женщины командира артполка.
О любви на войне говорят разное.
Несколько лет критики вели споры вокруг романа уральского писателя Николая Никонова «Весталка», рассказывающего о судьбе женщин – участниц Великой Отечественной войны. Автора обвиняли и в очернительстве, и в других смертных грехах. Вспоминаю об этом потому, что сейчас не меньше спорят о девчатах, воевавших, служивших, работавших в Афганистане. Высказываются самые противоречивые суждения. Иногда злые и несправедливые. Вновь выплыл на свет пронафталиненный эпитет «ППЖ – походно-полевая жена». Появились и новые ярлыки, например «чекистки» (то есть торгующие собой за чеки).
Но я – о любви. Она есть. Настоящая, верная, человеческая. Эти критерии там, на грани жизни и смерти, когда каждую минуту можешь потерять любимого, наверное, самые важные.
БТР медсанбата отстал от колонны. Был окружён «духами». Солдата-водителя, прапорщика – старшего машины и женщину-врача после короткого, но ожесточённого боя взяли моджахеды. Над захваченными глумились, пытали.
Три изуродованных тела нашли у обочины дороги близ одного кишлака наши разведчики.
Какие чувства испытал командир полка, увидев растерзанной свою любовь? Как отомстил?
Говорят, не разбираясь, виновны или нет в смерти любимой жители злополучного селения, он просто стёр его с лица Земли залпом «Градов»… Но кто возьмётся судить его?
– Война каждого метит клеймом жестокости. Не щадит она и любовь, – задумчиво произнёс Олег Черемных.
Мы ещё долго говорили с ним о войне и ненависти, о милосердии и жестокости. И всякий раз, когда разговор заходил о погибших ребятах, по лицу Олега пробегала тень, словно след от крыла «Чёрного тюльпана».
Да, подумалось мне тогда, отгремели оркестры, встречая возвращающиеся в Союз полки. Многие газеты и журналы посвятили этому свои первые полосы.
Но мы не знаем ничего о том, когда вылетел из Кабула последний «Чёрный тюльпан»? Чьи тела он вёз? Чьи не сумел довезти? И теперь уже вряд ли узнаем…
Сегодня, когда погребены в родной земле последние советские солдаты, погибшие в Афганистане, не забыть бы нам про «Чёрный тюльпан», не похоронить бы память о тех, кто стал или мог стать его невольным пассажиром.
Потерянный «ураган»
Командира взвода разминирования старшего лейтенанта Вадима Колкова вызвали к комбату прямо из офицерской столовой. Случай – небывалый.
Армейская пословица гласит: «Война войной, а обед – по распорядку!» По традиции, отнимать одну из солдатских радостей – не принято. Их и так в Афгане немного: сон, баня и еда… И если уж Тихомиров выдернул Колкова из-за стола, не дав даже дохлебать первое блюдо – изрядно надоевший суп из сухой картошки с тушёнкой, значит, случилось что-то из ряда вон выходящее.
У входа в командирскую палатку Колков привычным движением одёрнул «афганку», провёл пятернёй по выгоревшим, давно не стриженым волосам и, придав своему лицу уставное выражение, откинул полог.
– Проходи, садись, – не дослушав рапорт, предложил Тихомиров. У майора был никак не вяжущийся с миролюбивой фамилией зверский вид. И только глаза, синие, не утратившие своего природного блеска, говорили, что недоброе впечатление о майоре – обманчиво.
Колков знал комбата уже больше года. И, если, по казённым меркам, каждый день, проведённый здесь, приравнивается к трём, можно смело считать: съел вместе с Тихомировым не один пуд соли.
– Худые новости, взводный, – мрачно сказал Тихомиров. Он ткнул пальцем в карту района ответственности, распятую перед ним на столе двумя банками консервов и обрезком снарядной гильзы, заменявшим пепельницу:
– По дороге на Тулак два дня назад пропала реактивная установка «Ураган». В ней – двое наших: лейтенант Иванов и водитель… Здесь, а может, и вот здесь, – палец комбата передвинулся по карте, – неизвестно. Пятнадцатый блокпост они прошли, на шестнадцатом не появились. По карте километров двадцать будет. Потерянная машина – из артиллерийской бригады армейского подчинения, выделена нам для поддержки… Экспериментальный образец! Артиллеристы вчера сами «чесали» дорогу и окрестности – боялись докладывать наверх: за такую пропажу точно голову снимут!
– Выходит, не нашли… – догадался Колков.
– Комдив грома и молнии мечет, – продолжал майор, – радиостанцию, как печку, раскалил. Полчаса драл меня за то, что в моей зоне это случилось… Говорит, что хочешь делай, а «Ураган» найди! Нельзя, чтоб секретная техника «духам» досталась! В общем, расклад такой, Колков: придётся тебе с разведчиками сходить, посмотреть, куда эта экспериментальная «хреновина» подевалась…
Колков хотел напомнить майору, что по его же приказу завтра должен выехать в один из кишлаков на разминирование, но передумал: начальству виднее, кому куда ехать, а исполнителю – всё одно, что огонь, что полымя… Спросил деловито:
– Когда выход?
– Свяжись с Лукояновым. Он всё уже знает, под его началом и пойдёшь. Да, прихвати с собой ребят посмышлёней. Ну, сапёр, с богом!
Выйдя от комбата, «озадаченный» Колков направился к палатке разведчиков. С капитаном Лукояновым – командиром разведроты, у Вадима дружба давняя, подкреплённая не только личной симпатией, но и служебной необходимостью. Без сапёра разведчикам в горах – дело гиблое. Но и сапёр без надёжного прикрытия – лёгкая добыча для «духовских» снайперов. Валерка Лукоянов или попросту – Люлёк, как беззлобно окрестили его сослуживцы, и Вадим Колков пол-Афганистана вместе проехали на броне, а вторую половину протопали на своих двоих. «Сработались!» – так это называют в Союзе, а здесь и определения-то подходящего не подберёшь: «Своевались, что ли?»
…Люлёк сразу начал изливать душу.
– Ты погляди, Вадик, какой дурдом! – потрясая перед носом отпускным билетом, разорялся царь и бог полковой разведки. – Я же со вчерашнего дня в отпуске! Сегодня «вертушка» на Кабул уходит… Уже жене и дочке «бакшиш»[9] упаковал – вчера, как волк, по дуканам рыскал. Думал: послезавтра дома буду… А тут эта машина чёртова! «Батя» как с цепи сорвался: подай ему «Ураган»! А всё остальное – потом: ордена, отпуска, манна небесная… Ну, вылитый дурдом!
Колков понимающе кивнул – не повезло – и, не дожидаясь приглашения, присел на краешек самодельного топчана, покрытого солдатским одеялом.
– А потом, ты же знаешь заповедь, – понизил голос Люлёк, – нельзя на дело идти, когда ты уже душой не здесь. Помнишь Ваську Смородинова из третьей мотострелковой? Во! Полез в горы уже с предписаньем в кармане – заменщик в модуле ждал, водка на «отходную» затарена была… А он решил в благородство сыграть… Привезли со звездой во лбу – станешь тут суеверным!
Колков эту историю знал. Что тут скажешь? Каждому – своё.
– Слушай, а может, мне «заболеть»? Начмед освобожденье сварганит… Обидно ведь: завтра был бы в Союзе…
Колков пожал плечами: Люлька можно понять и даже простить за мысли малодушные. Он свой отпуск честно заслужил. Не отсиживался по штабам, от войны не прятался…
– Ладно, что тут базарить, – неожиданно остыл капитан. – Первым делом, первым делом – самолеты… Собирай, Вадим, своих архаровцев. Через час выходим. До темноты надо успеть добраться до пятнадцатого блокпоста. Там оставим «броню», а сами рейдик по окрестным пригоркам произведём!
Что такое «рейдик» по-лукояновски и какие это «пригорки», Колкову объяснять не надо. Люлёк не признает никаких запретов, действует всегда на свой страх и риск. Из времени суток предпочитает ночь. Для маршрута выбирает самые неприступные скалы. В полку шутят, что каждый солдат в разведроте уже давно выполнил норматив мастера спорта СССР по альпинизму! И шутка эта недалека от истины. Зато и воюет разведрота почти без потерь и возвращается всегда с трофеями. Знакомые царандоевцы рассказывали, что за голову Люлька «бородатые» кучу афганей обещают. А вот комполка даже к ордену его представить не хочет: уж больно «залётный» этот капитан, непредсказуемый, и поддать – не дурак…
– Ну, что ж, рейдик так рейдик, – Колков поднялся. У самого выхода из палатки спросил:
– Ты Иванова, лейтенанта, который пропал, случайно, не знаешь? Что за мужик?
– Нет, лично не знаком. Он вроде бы только по замене прибыл, выпускник артиллерийского училища.
– Значит, прямо с корабля на бал! Совсем наши полководцы из ума выжили… Кто ж пацана необстрелянного сразу в рейд посылает?
– А тебя самого не так, что ли?
– Я – дело другое…
* * *
В первый рейд Вадим Колков на самом деле попал, не успев выйти из вертолета. Ступив на землю, на которой ему предстояло служить, удивился, что не спешит к нему с распростёртыми объятиями заменщик, как пообещали в отделе кадров дивизии. Встречный солдат, у которого спросил, как найти комбата, торопливо объяснил и умчался, даже не задав офицеру традиционный вопрос: «Как там, в Союзе?»
Майора Тихомирова Колков отыскал в парке боевых машин. Тот уже собирался «оседлать» БТР, отдавая какие-то распоряжения дежурному. Колков представился.
Суровое лицо комбата оживилось:
– Вот это подарок! Вы, Колков, как нельзя более кстати. Сейчас же отправляйтесь в третью роту – поедете старшим машины. А чемоданчик свой можете здесь, у дежурного по парку, оставить – будет в целости и сохранности… Вернёмся, познакомимся поближе, а сейчас некогда!
Вадим не успел задать Тихомирову вопрос, как ему ехать в рейд без оружия и экипировки, как тот ловко вскарабкался на броню и бронетранспортер, подняв облако едкой пыли, покатил к выходу. Колкову ничего не оставалось, как, сдав дежурному на хранение свой нехитрый багаж, отправиться на поиски третьей роты.
Лейтенант, исполняющий обязанности ротного, со щеголеватыми вздёрнутыми усиками, при инструктаже, как и комбат, был краток:
– Едем на перехват каравана! По данным разведки, он будет проходить по нашей зоне. Пойдём на максимально возможной скорости. В движении необходимо строго держать дистанцию, идти колея в колею, следить за сигналами старшего колонны. Главное – никакой самодеятельности! Водитель машины Шорохов – парень опытный, в случае чего подскажет. А сейчас – по машинам! Твой КамАЗ вон там!
В кабине Вадим попытался завязать разговор с Шороховым. Широкоплечий загорелый сержант оказался немногословен. Колков понял только, что батальон подняли по тревоге час назад, офицеров в роте не хватает, а его, Колкова, заменщик, недавно угодил в госпиталь: подхватил то ли тиф, то ли лихорадку… Что же касается самого Шорохова, то он родом с Алтая, скоро на дембель. Служба здесь ему не то чтобы нравится, но жить можно. Комбат у них толковый – попусту солдата в пекло не пошлёт…
На этом красноречие Шорохова иссякло. Он надолго умолк, очевидно, считая, что и так выложил перед незнакомым офицером слишком много.
Сам Колков от быстрой смены событий и всего того, что узнал, пребывал в некой прострации. Ещё неделю назад он служил на Урале в гвардейской части, в воскресенье бегал на танцы в гарнизонный офицерский клуб. И вдруг – спешное оформление документов. В кадрах объяснили: вместо какого-то «отказника». Семейного офицера без подготовки не пошлешь: то у него жилья нет, то ребёнок в садик не устроен. А Колков – холостяк, с ним никаких проблем. Так стремительно и очутился в Афганистане…
Потому-то, глядя в окно КамАЗа, Колков не мог поверить, что всё это происходит с ним. Что он едет по незнакомой земле. Что в любой миг может просвистеть пуля – и ничего больше для него не будет: ни неба, ни солнца, ни прошлого, ни будущего…
К настоящему его вернул Шорохов:
– Товарищ старший лейтенант, Чёртова пята!
Колонна в облаке пыли втягивалась на просторное плато, напоминающее коровье копыто. Вскоре пылевая завеса стала такой густой, что Шорохов включил стеклоочистители и фары.
– Дурное место, – сказал он, напряжённо вглядываясь вперёд. – Здесь всегда что-то случается…
– Что случается? – встрепенулся Колков. Шорохов не ответил. Впереди идущий бронетранспортер так резко затормозил, что только реакция сержанта спасла КамАЗ от столкновения.
– Ну вот, началось! – буркнул водитель.
За стеклами кабины творилось и впрямь что-то невообразимое. То облако пыли, которое Вадим поначалу принял за шлейф от впередиидущих машин, не осело и тогда, когда колонна остановилась. Колков попытался опустить боковое стекло и выглянуть наружу.
– Не открывайте, товарищ старший лейтенант! Это – афганец, – остановил сержант. – Здесь такое часто бывает. Раз проскочить не успели, теперь будем ждать, пока не закончится.
Тем временем в кабине стало совсем темно. Колкову, впервые попавшему в песчаную бурю, показалось, что ветер, словно живое существо, стонет, воет, царапает по кабине тысячью когтистых лап, швыряет в стёкла охапками песка, каменной крошки, раскачивает машину, как игрушку…
Прошло около получаса и афганец стих так же внезапно, как начался. Когда пелена рассеялась, взору Колкова предстала экзотическая картина: увязшие по ступицы колес БТРа и машины были покрыты красно-бурым налётом и стали похожи на доисторических чудовищ.
Ещё некоторое время экипажи не подавали признаков жизни, словно всех унёс с собой ураган. Первым человеком, появившимся перед КамАЗом, был Тихомиров. По колено проваливаясь в песке, комбат медленно продвигался вдоль колонны, энергичными жестами призывая подчинённых быстрее разгребать заносы. Поравнявшись с Колковым, он поднял руку с часами, давая понять, что они опаздывают.
…Что ещё запомнил Вадим из того первого рейда? Не найдя каравана, который словно растворился в завихрениях афганца, колонна понуро возвращалась в гарнизон. Когда проходили мимо одного кишлака, серыми дувалами прилепившегося к склону хребта, случилось ещё одно происшествие, потрясшее Колкова. Солдаты второй мотострелковой роты, шедшей впереди них, начали расстреливать всякую живность, попадавшую в поле зрения. Вадим видел, как под пулями полегло около десятка верблюдов, как заметались и бросились врассыпную перепуганные бараны, а один ягненок, потерявший мать, остался на месте, не зная куда бежать… Снова заработал пулемет, ягненок, как-то неестественно подпрыгнул и завалился набок.
– Зачем это они? – спросил Колков.
– Наверное, со злости, что караван не взяли, а может, так просто, чтоб поприкалываться, – объяснил Шорохов.
– Что ж офицеры их не удержат? Это же… Они же как фашисты…
– Попробуйте удержите. Это вам не Союз!
Колков обратил внимание, что номера стрелявших бронетранспортёров были нарочно замазаны грязью, чтобы нельзя было определить, кто стрелял! Значит, всё-таки боятся…
…Ночью, уже на подходе к гарнизону, колонну обстреляли моджахеды. Обстреляли там, где, по утверждению Шорохова, с местными всегда были добрососедские отношения и наши машины нападению никогда не подвергались. От пуль, к счастью, никто не пострадал. Правда, в борту своего КамАЗа Колков потом обнаружил три маленькие аккуратные дырочки, безобидные на вид…
Возможно, это был обычный обстрел, совершённый какой-нибудь чужой бандой, но в сознании Колкова он почему-то соединился с убийством животных и с застигнувшим их на плато афганцем.
* * *
Разведчики Люлька прочёсывали ущелье уже вторые сутки. Никаких следов потерянного «Урагана», никаких ответвлений дороги, узкой серебристой лентой петляющей по гигантскому каменному коридору. Короче – нулевой вариант.
К полудню лавиной навалилась усталость. Даже видавшие виды солдаты разведроты не выдерживали темпа, заданного их неукротимым капитаном. Про сапёров Колкова и говорить нечего. Вадиму уже несколько часов приходилось тащить на себе часть амуниции рядового Кочнева – длинноногого, словно цапля, солдата. Второй подчинённый старшего лейтенанта – ефрейтор Мерзликин топал в авангарде рядом с проводником и ротным.
Привал устроили, взобравшись на высокую скалу. Так безопаснее.
Присев на круглый камень рядом с Люльком, Колков с наслаждением вытянул натруженные ноги:
– Какие планы, главком? Долго ещё блукать думаешь?
– Какие тут планы… Надо на связь с «большой землёй» выходить: может, у них что нового… – чувствовалось, что Люлёк зол на весь мир. – Говорил же я тебе: не будет толку от этой командировки! Без настроения иду… Только отпуск мне обосрали… Эй, связь! Запроси «первого»!
Через пару минут связист доложил:
– «Первый» на связи, товарищ капитан!
Люлёк тут же завладел гарнитурой:
– Первый, первый, я – тринадцатый. Докладываю: у меня – пусто. Нахожусь в шестнадцатом квадрате у отметки семьсот двадцать восемь. Какие будут указания?..
Это «какие будут указания» из его уст звучало примерно как отречение от престола коронованной особы. Впрочем, помимо признания в собственном бессилии в словах капитана был ещё и упрёк старшим начальникам, пославшим роту без надлежащей подготовки в район, напичканный бандами и минными полями…
Наблюдая за ним, Колков пытался угадать, как протекают переговоры с ЦБУ[10]. По тому, как разгладились и снова собрались морщинки на переносице Люлька, догадался: разговор с «первым» облегчения капитану не принёс. Но обстановку, похоже, всё-таки прояснил.
– Нашли железяку пропавшую! – возвращая наушники и микрофон связисту, сообщил Люлёк. – Без нас с тобой, Вадик, нашли, вёрст за тридцать отсюда… Вертолётчики обнаружили. А вот теперь опять мы потребовались: не могут обойтись без разведки! Приказано ждать «вертушку» здесь. Полетим на место – там и разберёмся во всём. А роту Борька поведёт к дороге. Так что радуйся, старик: Аллах в лице комдива лаптям твоим даёт сегодня передышку, посылает за тобой железную птицу… Слышал анекдот про чукчу: «…железная птиса летит – экспедисыя называеса…» – Люлёк нерадостно хохотнул и направился к сидящему в окружении солдат замполиту – старшему лейтенанту Борису Закатаеву.
Через четверть часа большая часть роты начала спуск вниз. На вершине остались Люлёк с отделением разведчиков да Колков со своими сапёрами – больше Ми-8 в условиях высокогорья не поднимет.
…«Вертушка», поблескивая выпуклыми стеклами, зависла над ними, словно гигантская стрекоза. Лопасти несущего винта бешено молотили разреженный воздух, будто задались целью сдуть людей со скалы.
Борттехник по одному втянул их в салон. Командир вертолёта обернулся в отсек: всё ли в норме? – и, получив утвердительный знак Люлька, сдвинул рукоятку «шаг-газ». Знакомая вершины за иллюминатором быстро поплыла назад, уменьшаясь в размерах.
Колков с деланным безразличием уставился в окно. Летать вертолётами он не любил: постоянная вибрация, уши словно ватой набиты. Опять же, в полёте не покидало назойливое ощущение, что он у кого-то на прицеле… Но к вертолётчикам он питал самое глубокое уважение. Хотя кто их в Афгане не уважает? Разве что «духи»? Да и те за каждого сбитого вертолётчика златые горы сулят… Тоже знак уважения, своеобразный, конечно.
Ободряя себя аргументом, что лучше плохо лететь, чем хорошо карабкаться по скалам, Колков попытался сориентироваться на местности.
Ми-8 скользил над хребтом, окаймляющим ущелье так низко, что казалось, шасси его вот-вот зацепятся за какую-нибудь вершину. Внизу, то появляясь, то исчезая под скалами, юлила дорожная лента. Чёрными скелетами громоздились на обочинах останки сожжённых «наливников» и «бурбухаек» – афганских грузовых фургонов. Чем выше в горы забиралось шоссе, тем чаще среди расстрелянной и подорванной техники попадались танки и БТРы. Но война не обошла стороной и афганские селения, изредка проплывавшие под вертолётом. Разрушенные дувалы, завалившийся минарет, раскуроченные воронками ракет квадраты крестьянских полей, на которых даже в страду не заметно дехкан.
Ещё год назад эта картина заставила бы Колкова содрогнуться. А сейчас… Неужели так ожесточилась душа, что и эти следы войны не воспринимаются, как что-то ужасное?
Вертолёт сделал крен влево и, перевалив через хребет, пошёл на снижение.
– Вот он, наш «Ураган», загорает, смотри! – Люлёк прижался носом к стеклу иллюминатора и стал похож на мальчишку.
Колков уже и сам разглядел сиротливо лежащий на покатом склоне неподалёку от небольшого кишлака объект их поисков – злосчастный «Ураган». Машина застыла колесами вверх, что действительно делало её чем-то напоминающей отпускницу на пляже. Только вот место для отдыха было совсем неудачное: дикие горы вокруг, недружелюбного вида кишлак…
Сделав несколько кругов над поверженной машиной и не заметив ничего подозрительного, приземлились, не выключая двигателя, метрах в ста от «Урагана».
Когда разведчики и сапёры покинули борт, вертолёт, натужно гудя, ушёл в сторону заката, торопясь вернуться на аэродром до темноты.
– Ну что, Вадик, – сказал Люлёк, – теперь твоё слово! Посмотри, что с машиной. Если заминирована, не возись, лучше взорвём! А мы по округе побродим, в деревеньку наведаемся. Может, об экипаже что-то узнаем… На всё у нас с тобой пара часов. А там, пойдём к дороге. «Первый» обещал «броню» послать… Ну, давай трудись! Да смотри там, поосторожней! Я за тебя отвечаю…
– С какой это стати грозу душманов на лирику потянуло? – беззлобно огрызнулся Колков. – Ты лучше за своими суперменами поглядывай, чтобы пальбу без нужды не открывали, а то мы и так своей «вертушкой» всех местных переполошили.
– Ну, пока, – оставив двух автоматчиков для прикрытия сапёров, Люлёк с разведчиками направился к кишлаку по руслу пересохшего арыка.
Колков отправил Кочнева проверить, нет ли мин на склоне вокруг «Урагана», а сам вместе с Мерзликиным направился к кабине, внимательно, словно рентгеном, ощупывая взглядом каждую пядь каменистого грунта. Мерзликин шёл поодаль, таща на плече миноискатель и щуп, от которых среди камней толку мало… Здесь, как пел Высоцкий, надеяться надо только «на зоркость глаза и цепкость рук».
У машины Колков сделал знак ефрейтору остановиться, а сам пошёл к кабине, то и дело останавливаясь и внимательно разглядывая «Ураган». Поверхностный осмотр удивил: несмотря на неестественное положение, машина почти не пострадала – ни пулевых пробоин, ни вмятин, даже остекление кабины в целости и сохранности. Дверцы не деформированы. По всей видимости, их можно без труда открыть. Но делать этого он не стал: минирование дверец – излюбленный приём душманов. Присев возле одной на корточки, Колков удовлетворённо прищёлкнул языком: так и есть – растяжка. Тонкая, как струна, стальная проволочка, прикреплённая изнутри к дверной ручке, другим своим концом пряталась в дальнем углу кабины под кучей ветоши. Что там: мина, фугас? Всё равно. Примитив, грубая работа, рассчитанная на дилетанта. Торопились «духи»: ловушка получилась неудачной. Хотя подрывники моджахедов и так изобретательностью не блещут: ставят мины, словно по заранее полученной инструкции, прямолинейно и однообразно. Если и попадётся какая-то закавыка, считай, наёмники-профессионалы поработали… Но сегодня разминирование его не волнует. Задача прямо противоположная: осмотреть «Ураган» и, убедившись, что машина не разграблена, подготовить к уничтожению!
Подозвав Мерзликина, поставил диагноз:
– Растяжка. Будем взрывать! Тащи ПТМ…
Пока устанавливали противотанковую мину, возвратилась группа Люлька. Разведчики привели с собой старика, вылитого Хоттабыча: седая борода, тюрбан, длинная холщовая рубаха, шаровары. Только туфель с загнутыми носками не хватает – старик был бос.
– Наши герои-разведчики «языка» взяли! – усмехнулся Колков.
– Что с машиной? – не удосужился обидеться Люлёк.
– Цела. Но заминирована: мина или фугас на растяжке. Мы в довесок ПТМ установили… Рванёт, стоит только кому-то в кабину сунуться! Так что готовы хоть сейчас взрывать, хоть «душкам» в подарок оставить. Как прикажете, товарищ начальник…
– Добро! – кивнул Люлёк и наконец-то прореагировал на усмешку Колкова. – Старик, что с нами, – кадр ценный! Местный аксакал. По его словам, он – единственный взрослый мужчина в кишлаке, остальных моджахеды угнали в горы…
– И на кой ляд вы его притащили? – спросил Колков, продолжая разглядывать старого афганца, который стоял невозмутимый, точно идол.
– Он говорит, что слышал пальбу здесь несколько дней назад. И ещё видел, как душманы увели каких-то людей в горы… Уразумел? Старик – свидетель (и, может, единственный) того, что приключилось с «Ураганом». Правильно я понял, золотце? – повернулся Люлёк к одному из разведчиков, таджику по имени Телло[11].
Солдат заговорил со стариком на своём языке. Каменная маска на лице аксакала дрогнула, и он ответил голосом скрипучим, как несмазанная арба.
– Там выше по склону стреляли чужие люди, – перевёл Телло.
– Что ж, посмотрим…
– А не засада это, Валера?
– Засада – не засада, а лейтенанта с солдатом нам искать! – Люльку и самому не хотелось лезть в горы по одному лишь утверждению незнакомого старика, но задачу надо выполнять: Иванова с водителем, кроме них, разыскивать никто не будет.
– Товарищ капитан, товарищ старший лейтенант! – неожиданно раздался голос Кочнева. – Там, там… – солдат не мог подобрать нужных слов.
– Где там? Да говори же разборчиво, боец, что ты кашу жуешь! – по способности возвращать младшим по званию присутствие духа с Люльком вряд ли кто-то мог сравниться.
– Я нашёл… руку нашёл… человеческую… – сделав несколько судорожных глотательных движений, выдавил сапёр.
– Человеческую?.. А какие ещё бывают? – усмехнулся Люлёк и добавил строго: – Ладно, показывай!
Люлёк и Колков зашагали вслед за Кочневым вверх по склону. Тот, всё ещё путанно, рассказал, что, проверяя по приказу старшего лейтенанта окрестности, обнаружил обрубок чьей-то руки.
Место, на которое привёл их сапер, оказалось небольшой пологой площадкой с вытоптанной травой. Среди мелких камней тускло поблескивали латунные гильзы. Люлёк поднял одну:
– От АКМСа…
Кочнев остановился на краю площадки – здесь.
Офицеры увидели скрюченную кисть, которая, словно живая, притаилась сбоку от рыжего валуна. Палящее солнце сделало уже своё дело: от обрубка исходил тяжёлый запах, вокруг роились мухи.
Люлёк склонился над страшной находкой, финкой перевернул кисть. Между мертвыми пальцами оказалась зажатой какая-то бумага. Люлек осторожно подцепил и извлек её. Разгладил, прочитал вслух: «Вещевой аттестат. Выдан лейтенанту Иванову…» – резко бросил Кочневу, у которого, как у девушки, мелко подрагивали короткие белёсые ресницы:
– Старика – ко мне! Живо!
Когда угловатый солдат убежал, попенял Колкову:
– Рассопливился твой сапёр, тошно смотреть!
– Не обтёрся ещё: второй раз на выходе, – вступился за Кочнева Колков и перевёл разговор на другое: – Думаешь: врёт дед?
– Не знаю… Сам видишь: бой был здесь. И кисть, похоже, Иванова, того самого. Гранатой оторвало… И чего это он аттестат в руке держал? Вот она, житуха! Аттестат сдать вещевикам не успел… А сейчас он ему без надобности.
– Может, рано хоронишь?
– Может, и рано… – согласился Люлёк.
Старик, которого привели Кочнев и Телло, ничего нового не сообщил. На все вопросы капитана, которые старательно переводил таджик, отвечал одно и то же: бой был здесь, потом моджахеды ушли в горы и увели с собой «шурави»[12], – больше он ничего не знает.
Поняв, что большего не добиться, Люлёк поручил Телло охранять старика, а сам разбил отряд на две части: одна, во главе с Колковым, будет обследовать склон горы у подножия; другая, под командой капитана, продолжит поиски ближе к вершине. Встретиться договорились через час возле «Урагана».
…Экипаж машины нашёл Колков. Пробираясь по ложбине, поросшей чахлой травой, он обратил внимание, что земля в одном конце ложбины отличается по цвету. Такое бывает на месте установки мины…
Щупом стал сантиметр за сантиметром проверять подозрительное место. Щуп беспрепятственно уходил вглубь.
Вместе с Кочневым осторожно разгребли землю руками. Когда убрали верхний слой, в нос ударил знакомый сладковатый запах. Солдат отпрянул в сторону. Его вырвало. Дальше Колков работал один. Вскоре неглубокая могила была разрыта…
Сверху, оскалившись, лежал труп черноволосого солдата, под ним тело лейтенанта. С помощью подоспевших разведчиков Колков извлёк из ямы останки погибших и уложил их на плащ-палатку. Тело Иванова было изуродовано взрывом гранаты до неузнаваемости: вместо лица – бесформенное месиво, живот вспорот, правая рука без кисти. От обмундирования уцелели только обрывки защитной рубашки с измазанными кровью и землей лейтенантскими погонами. Водитель Ташмирзоев, напротив, без единой царапины. Если бы не пулевая пробоина в затылке, трудно было бы определить, от чего он погиб.
Тела отнесли к «Урагану» и стали ждать возвращения Люлька. Он появился точно в условленное время. Потный, раздосадованный бесполезным брожением по горам, капитан, осмотрев убитых, стал ещё мрачнее. Зло зыркнул на старика:
– Обмануть хотел «божий одуванчик»! Ну, пеняй на себя… – и уже Колкову: – Пора сниматься. Там, за перевалом, тропа. Я посмотрел, пройти можно до самой дороги. Дело мы сделали: ребят нашли… Ты говоришь, «Ураган» начинил надёжно?
– Нормально… Если от нашей ПТМ «духовский сувенир» сдетонирует, от установки ничего не останется. А что будем со стариком делать?
Люлёк помолчал, что-то обдумывая, потом крикнул переводчику:
– Золотце, деда сюда! – и когда те приблизились, приказал: – Вяжи его!
Солдат замялся, поглядывая на Колкова.
– Что ты задумал, Валера? – спросил старлей.
– Подстраховаться хочу, чтобы нас на обратном пути «бородатые» не продырявили…
– Как подстраховаться?
– Об этом пусть у тебя голова не болит… Старик – моя забота. А ты забирай команду и дуй на перевал. Мы с Телло вас догоним.
– А может, зря? Отпусти старика с миром. Ну, какой он «дух»? – попытался урезонить Колков.
Но Люлька уже «понесло».
– Послушай, Вадик! – ощерился он. – Кто здесь командует: я или ты? Я! Мне и решать, что зря, а что не зря! А ты – делай, что сказано!
Таким Люлька Колков ещё не видел. Он хотел ответить столь же резко, но только покачал головой.
Уже выйдя на тропу, Вадим оглянулся: Люлёк и таджик ремнями привязывали стоящего на коленях старика к дверце «Урагана». Лица аксакала не было видно, но Колкову показалось, что он молится…
…Люлёк и Телло догнали отряд на седловине перевала, когда Колков приказал сделать пятиминутный привал. Люлёк первым подошел к Вадиму и протянул руку:
– Прости, погорячился… Что-то нашло! Понимаешь: одно к одному…
– Понимаю, – сказал Колков, но руки не подал.
Люлёк продолжал:
– Деду я шанс дал, если дёргаться не будет…
Договорить он не успел. Внизу, там, где остался «Ураган», глухо, как новогодняя хлопушка, сработала ПТМ. Почти сразу, сливаясь с первым взрывом, раздался второй, более мощный. Люлёк отвёл глаза:
– Не послушался старик… Что ж, оно и к лучшему. Теперь можно смело докладывать, что «Ураган» уничтожен… Коли, Вадик, дырку для ордена – я сам буду твоего комбата просить, чтоб представил.
…Одолели перевал и спустились к дороге без происшествий. «Броня» – два БТРа лукояновской роты – ждала их в заданном квадрате. Старший бронегруппы – Закатаев обрадовался им, но улыбка сошла, как только увидел, какую ношу они несут.
Пока грузили тела погибших в десантное отделение, Люлёк связался с комдивом, доложил о результатах рейда. Выбрался из люка довольный, сообщил:
– «Батя» всем объявил благодарность. Возвращаемся на базу!
Назад ехали в сумерках. Люлёк с Закатаевым на первом БТРе, Колков – на втором. Ехать рядом с Люльком ему не хотелось…
Из головы у старшего лейтенанта все не шёл старик, казненный у «Урагана». Смерть старого афганца заставила по-иному увидеть, нет, не Люлька, а себя самого. Эта смерть ещё раз напомнила ему первый рейд и давний расстрел животных, такой же бессмысленный и жестокий.
Возможно, Люлёк и прав, не дав старику уйти к своим и тем самым обезопасив отход отряда. Возможно, всё содеянное можно назвать военной необходимостью. Назвать и забыть… Но почему он, Колков, не помешал убийству старика, не остановил Люлька? Неужели оттого, что год назад не решился удержать солдат, стрелявших в беззащитную скотину?..
Колков оглянулся на разведчиков, облепивших броню: кто напряженно вглядывался в темнеющие вокруг горы, кто пытался дремать, прицепившись к поручням брючным ремнём. Колков столкнулся взглядом с Телло. Таджик, сумрачный и нахохленный, как грач, тут же отвернулся. «Тоже переживает, – понял Вадим. – Интересно, что чувствует сейчас Люлёк?»
А Люлёк думал об отпуске, о доме. О том, что хорошо бы уже завтра улететь попутным вертолётом в Кабул…
Очевидно, замечтавшись, он произнёс слово «улететь» вслух, да так громко, что встрепенулся сидящий рядом замполит. Закатаеву всю дорогу не давал покоя один вопрос: как всё-таки очутился «Ураган» по ту сторону гор? И слово, сорвавшееся с уст Люлька, он отнёс к тому, что волновало его.
– Ты, правда, думаешь, что он по воздуху туда перелетел? – перекрикивая рёв движка, спросил он ротного.
– Кто перелетел? – не сразу «включился» Люлёк.
– Ну, «Ураган», этот… Просто мистика какая-то… Мы же вместе весь хребет излазили. Нигде ни прохода, ни перевала. Не могло же его туда ветром занести?
– Ветром-то, конечно, не могло. А вот мне рассказывали, что однажды в Панджшере «духи» танк в горы утащили. Обмотали верёвками, как египтяне глыбу, и вместе с экипажем подняли на скалу.
– И что потом?
– Финал один, – Люлёк кивнул в сторону десантного отделения, – только там и этого не осталось… Сбросили танк в пропасть. Груда металлолома – и всё.
Закатаев недоверчиво переспросил:
– А ты, командир, не заливаешь насчёт танка? Как можно такую махину в горы на верёвках?
Люлёк дёрнул плечом. Не веришь – твоё дело: за что купил, за то и продаю.
Долго ехали молча, а когда скалы, окружавшие дорогу, начали расступаться, открывая плато, похожее на копыто, Люлёк, словно продолжая прерванный разговор, сказал:
– Чужие мы здесь, чужие, комиссар. И людям, и скалам, и ветру даже… Оттого и понять многого не можем. И друг друга перестаём понимать.
Закатаев покосился: что-то непохоже на ротного? Никак голову напекло? А солнце здесь и впрямь – безжалостное. Того и гляди, крыша поедет…
На минном поле (Рассказ чокнутого)
1
«Моё лицо упало на пол…» – чьи это слова? Вроде бы Пастернака…
«И я, подняв его, заплакал!» – этот «шедевр» уж точно не его. Так говорит, подмигивая мне поочередно то левым, то правым глазом, мой лечащий врач Вольдемар Генрихович Попков – маленький, дёрганый, как паяц, человечек.
Попков, кажется, втайне от всех пописывает стишки и мечтает о мировой поэтической славе.
Но я-то ведь – не Пастернак и не Шизик (так окрестили Вольдемара Генриховича его подопечные), и стихи про упавшее на пол лицо писать не собираюсь. Хотя одно видение, навязчивое, как болезнь, заставляет меня снова и снова переживать былое.
Это видение – белое, застывшее лицо моего нечаянного дружка – Сашки Брусова, повернувшееся ко мне за секунду до взрыва. Лицо, которое мгновение спустя срывается вниз, словно гипсовая маска, и разлетается на множество кровавых осколков. И эти частички Сашкиного лица летят в меня, залепляют глаза, нос, рот. Не дают видеть, дышать, жить!
2
Если сумасшествие может начаться с поноса, то моё именно с него и началось.
И даже чуть раньше. В тот самый миг, когда на призывной комиссии чёрт дёрнул меня брякнуть тучному лысеющему майору – нашему райвоенкому, что я горю желанием выполнять интернациональный долг и оказать посильную помощь братскому народу дружественного Афганистана.
Майор насторожился: не подвох ли это? Ведь не 79-й, а 86-й год идёт! О каком «долге» может идти речь, когда «из-за речки» каждый месяц то цинк, то извещение о пропавшем без вести приходят… Зыркнул на меня подозрительно, но ничего не сказал, только на листочке начертил иероглиф, одному ему понятный.
…Попал я служить в роту материального обеспечения мотострелковой бригады, в город Джелалабад – центр провинции Нангархар, что на юго-востоке Афганистана. Субтропики, что-то вроде нашего Сухуми. Солнце в полнеба. Река Кунар, вся в зарослях камыша. Кругом – эвкалипты, сады. Фрукты разные экзотические…
Вот эти самые фрукты и сыграли со мной злую шутку.
Как-то, месяца через три после моего прибытия в РМО, «дедам» взбрело в голову устроить маленький «сабантуй». Чему посвящается это «народное гулянье», нам, молодым, не докладывали. Правда, один «черпак»[13] – «зёма» мой из Челябы, шепнул, что повод есть: командир роты завтра в Союз улетает. Уже и заменщик ему в штаб бригады прибыл. Об этом землячок в свою очередь узнал (по секрету) от телефониста, дежурившего на узле связи, – солдатская почта работает круглосуточно!
Что ж, замена ротного для дембелей – всё равно что красный день календаря – настоящий праздник. Ротный-то у нас – лютый зверь! Никому спуску не давал: ни «чижам», ни «старикам». Уедет капитан, тогда точно «дедушкам» будет лафа: когда ещё новый командир освоится, начнёт гайки закручивать…
Так что причина самая что ни на есть подходящая. Тем более и «кишмишевка» – бражка виноградная – как раз подоспела! Повара её месяц назад на чердаке офицерского модуля во фляге завели (чердак – самое безопасное место)…
Однако бражка бражкой, но к любой выпивке нужна закуска. Давиться унесёнными тайком с продсклада тушёнкой и сгущённым молоком «старикам» опостылело, потому-то решением дембельского совета и был откомандирован отряд «чижей» – молодых солдат для заготовки дынь на бахчу, неподалёку от части. В число «избранных» попал и я.
3
Эх, говорила мама, что воровать – нехорошо! С самого раннего детства наставляла на путь истинный…
Мама у меня правильная. Учитель. Литературу преподаёт. К тому же секретарь школьной парторганизации. Да, да, не историк, как это обычно бывает, а – литератор. Это о чём-нибудь да говорит!
Вот бы она удивилась, если бы узнала, что её «золотой» мальчик, который «Онегина» всего наизусть знает, совершает опустошительные набеги на дехканские бахчи!
А если бы видела, как её сыночек руками грязнее, чем у питекантропа, уплетает за обе щёки расколотые о камни перезревшие дыни – не всё же «дедам» тащить, надо и самим полакомиться, – то тут ей точно стало бы дурно. «Это же негигиенично!»
Ясное дело – негигиенично. Зато как вкусно! И главное – этого маме ни за что не понять – радостно! Оттого, что набег прошёл без потерь, что никто по нам стрельбы не открыл, погоню не устроил, в плен не взял… А то бы «деды» сразу открестились и посчитали бы отцы-командиры твоего, мама, сына перебежчиком… Такое бывало: ушёл один молодой солдат на бахчу и не вернулся… Замполит, недолго думая, депешу настрочил: сбежал, дескать, дезертировал. Короче – изменник Родины!
4
Последствия моего участия в дынном «промысле» проявились через три дня. Деревянный сортир у забора части сделался моим «родимым домом». А так как ходить в отхожее место поодиночке запрещалось (недавно «духи» выкрали из этого сооружения замечтавшегося солдата), то кто-то из однопризывников с АКМСом наперевес вынужден был топтаться у двери сортира на карауле, отпуская по поводу моих «посиделок» язвительные замечания.
А тут ещё подскочила температура: плюнь на лоб – зашипит! Пришлось мне топать в медсанбат.
– Смотри не трепи лишнего, – напутствовали «старики», – и возвращайся поскорей, а то нам дембель задержать могут, если в роте народу хватать не будет…
В медсанбате диагноз поставили: амебиаз. «Амёба», говоря солдатским языком. Желудочно-кишечное заболевание, похлеще дизентерии… Медики побежали в наших палатках санобработку делать. Вот переполох-то поднимут!
Но мне уже совсем не до этого было. Не знаю, как там микробы себя в моём кишечнике чувствовали, а я сам – точно как это самое одноклеточное: никаких мыслей в голове, одно только навязчивое желание…
С этим непреодолимым желанием и попал я в инфекционное отделение местного госпиталя.
Первые недели полторы, пока мне место пониже спины антибиотиками дырявили, провёл я на новом месте, как в тумане. Позже, когда туман начал рассеиваться, а гонки от туалета и обратно стали более редкими, смог я оглядеться и с товарищами по несчастью познакомиться.
Компания в палате (если таковой считать часть хлева, перегороженную фанерными листами) подобралась шумная – человек тридцать солдат и сержантов на ржавых скрипучих кроватях и деревянных топчанах, кому цивилизованных постелей не хватило. И гепатитчики, и тифозники, и только что поступившие и выздоравливающие, и молодые и старые – все вместе, бок о бок. Картина впечатляющая!
5
Ближайшим соседом по топчану оказался рядовой Сашка Брусов, пулемётчик из десантно-штурмовой роты. Сашка поступил в отделение двумя днями раньше меня с инфекционным гепатитом. Был он жёлтый-жёлтый, будто цветущий одуванчик весной. Как поймал свою заразу, он помалкивал. Тем и показался мне интересен. У каждого человека должна быть своя тайна, пусть совсем маленькая…
А вообще-то, парень он оказался неплохой. К тому же начитанный и в музыке современной разбирается – до призыва диск-жокеем работал. И ещё почти земляк: я – из Челябинской области, он – из Свердловской. А земляки на чужбине – словно родственники.
Короче, мало-помалу мы с Сашкой подружились. Когда же он от капельницы, а я от очка оторвались – умудрились в одну медсестричку влюбиться. В Томку, Тамару Козыреву. Она в госпиталь по замене сразу после медучилища, по рекомендации райкома комсомола прибыла.
Так что я, Сашка, Томка, как ни крути, а – классический треугольник. Совсем как в песне, «третий должен уйти»…
Если бы только треугольник… Может, все было бы совсем иначе!
6
События начали развиваться стремительно с того дня, когда мы впервые увидели её.
Томка появилась в дверях нашей палаты, пылая, словно утренняя зорька, в сопровождении Мегеры – сестры-хозяйки Марии Егоровны, женщины лет сорока пяти.
Мегера, топая громче, чем взвод допризывников, вошла в палату первой и таким же деревянным, как её сабо, голосом, не глядя ни на кого, проскрипела:
– Знакомьтесь, товарищи больные: это ваша новая медсестра Тамара Васильевна Козырева, – Мегера скорчила при этом такую мерзкую рожу, как будто ужа проглотила.
Но мне, Брусову да и всем остальным обитателям палаты в тот миг были глубоко безразличны Мегерины ужимки. Палата в свои тридцать пар глаз зачарованно уставилась на хрупкую светловолосую девушку, одновременно любуясь, мечтая и надеясь…
Томка, почувствовав всю гамму желаний и надежд, закипевших в нашем коллективном мужском взгляде, зарделась ещё больше и сделалась от этого такой милой, что в груди у меня что-то оборвалось и заныло мучительно и сладко.
– А целоваться при знакомстве будем? – по диск-жокейской привычке подлил масла в огонь Сашка Брусов.
– С капельницей целуйся! – отрезала Мегера. – Всех касается: чтобы ничего такого себе не позволяли! Если не хотите завтра же в своей части оказаться… вместе со своим поносом.
Стуча сабо, Мария Егоровна удалилась. Козырева, не зная как загладить неловкость, собралась последовать за ней, когда не у Брусова, утихомиренного отповедью Мегеры, а у меня сам собой вырвался вопрос:
– Так как насчет поцелуя, Тамара Васильевна?
Девушка повернулась в мою сторону, попыталась нахмуриться, но вдруг улыбнулась не мне, а всем сразу:
– Вы быстрее выздоравливайте, ребята, тогда и поцелуемся…
– Ну ты даешь, Марат, – с завистью протянул Брусов, как только затворилась дверь за Козыревой. – На ходу подмётки рвёшь!
– А ты что, уже ревнуешь? – отпарировал я. Сашка ничего не ответил, отвернулся к стене и засопел, делая вид, что спит. Обиделся… А за что?
7
Во второй половине того же дня, ближе к вечеру, когда «дипломатические» отношения с Брусовым были восстановлены, мы решили прогуляться.
А поскольку прогулки инфекционникам разрешены только до туалета и обратно, дабы не разносить заразу по территории госпиталя (как будто один-единственный сортир на всех – не лучший инкубатор для заразы!), по этому привычному маршруту мы и отправились.
Двигались медленно, не столько от слабости в ногах, сколько от желания подольше продлить пребывание вне палаты. Стены нашей «камеры» ничего, кроме чёрной тоски, не вызывали.
Пройдя по длинному, как тоннель на Саланге, коридору, мы направились к входной двери, ведущей на госпитальный двор, и тут из-за поворота, наперерез нам, стрелой вылетела наша новая сестричка – Тамара Васильевна, и, не глядя по сторонам, юркнула в дверь с табличкой «Ординаторская», словно от кого-то спасалась бегством…
– Тут выбегает санитарка, звать Тамарка, и говорит: «Давай, перевяжу…» – проводив девушку ласковым взглядом, нараспев продекламировал Брусов.
– И в санитарную машину «студебеккер» давай с собою рядом положу, – стараясь попасть ему в тон, допел я.
Мы переглянулись и покатились со смеху.
– Что вы ржёте, как жеребцы в стойле? – низкий, властный голос бесцеремонно оборвал наше веселье.
Мы обернулись.
Перед нами, уперев руки в бока, возвышаясь, как скала, стоял неизвестно откуда взявшийся начальник госпитальной аптеки – прапорщик Перегудов, личность необъятная и непознанная, как туманность Андромеды. Он разглядывал нас с высоты своих метр девяноста с изумлением Гулливера, попавшего в страну лилипутов, монотонно размалывая челюстями жвачку… Мы с Брусовым переглянулись. Если мы – «жеребцы», то он – вылитый племенной бык, только что копытом землю не роет! Встретишь такого в тёмном переулке – инфаркт обеспечен!
Прапорщик между тем голосом заботливого наставника молодёжи продолжал:
– Гогот ваш, товарищи солдаты, совершенно неуместен. Тут – медицинское учреждение, а не бордель какой-нито. И вести себя находящимся на излечении военнослужащим подобает надлежащим образом! Ферштейн? – и, продолжая жевать, задал вдруг непонятный вопрос: – Вы никого не видали?
Я кивнул, а Сашка отрицательно покачал головой, но вслух сказали одно и то же:
– Никак нет, товарищ прапорщик, никого!
– Т-э-к! – Перегудов недоверчиво покрутил головой, обошёл нас вокруг, как будто тот, кого он искал, мог прятаться за нашими спинами, – значит, никого? Ну-ну…
По-утиному тяжело переваливаясь с ноги на ногу, прапор направился в сторону пищеблока, оставив нас в недоумении: «О чём это он?»
8
Сашка первым вышел из оцепенения:
– Братан, а кусяра-то – того… – указательный палец Брусова совершил у виска штопорообразное движение, – тебе так не показалось?
– Погоди-ка, – у меня зародилась какая-то неясная догадка.
Стараясь не шуметь, я приблизился к двери ординаторской и припал ухом к замочной скважине – ничего не услышал. Тихонько приоткрыл дверь.
В комнате был полумрак из-за полуопущенных штор светомаскировки. Помещение освещалось небольшой настольной лампой, стоящей на тумбочке в углу. После яркого коридорного света я не сразу разглядел, где Томка.
Она сиротливо сидела на краешке табурета, опершись локтями о подоконник, спиной к двери. Мне показалось, что плечи её вздрагивали. Это при температуре-то больше тридцати в тени…
В это мгновение Сашка, горя желанием узнать, что же я такого интересного узрел, подтолкнул сзади. Мы ввалились в ординаторскую.
Томка испуганно обернулась. Свет от лампы упал на её лицо с покрасневшими, как от порыва «афганца», глазами и тёмными дорожками туши на щеках. Так и есть – плакала!
– Тамара Васильевна, что случилось? Кто вас обидел?
– Ой, мальчики… – девушка закрыла лицо руками, – зачем же он так?..
А кто «он» и что «зачем» – попробуй догадайся! Сколько-то времени прошло, пока Томка смогла успокоиться. Девушка то краснела, то снова начинала плакать. А утешители из нас оказались неважные.
И всё-таки из отрывочных фраз, которые Козырева выдавила из себя, кое-что прояснить удалось.
Например, что «он» – это Перегудов. Он предложил сегодня Козыревой спать с ним за чеки. За очень много чеков… И даже не предложил, а потребовал! Иначе, стращал, жизни здесь не будет. Отправят назад как не оправдавшую доверия партии и правительства и ещё по месту жительства сообщат… Предупредил, чтобы начальству госпитальному не жаловалась – у него, мол, у Перегудова, все на крючке, все повязаны! Так что или к Перегудову в постель, или…
– Ну, что вы, Тамара Васильевна… Не плачьте! Мы с Маратом что-нибудь придумаем… Мы этого «куска» от вас отвадим, – Брусов посмотрел на меня, словно ища поддержки. – Найдём способ!
Я только головой кивнул, мол, конечно, найдём.
9
Еще д'Артаньян считал, что лучший способ понравиться женщине – это спасти её от беды.
В нашей ситуации всё было налицо: девушка, которой мы с Сашкой мечтали приглянуться, беда, грозившая ей, обращение к нам за помощью… Только одно оставалось неясным, как мы, простые солдаты, могли помочь Томке в такой неординарной ситуации?
На «гражданке» всё было бы проще – набили бы Перегудову рожу, невзирая на его габариты и комплекцию (уж мы бы постарались!)… А здесь как поступить? Он – какой-никакой, а прапорщик, старший по званию и на территории госпиталя для нас – начальник. Тут и под трибунал влететь в два счёта можно…
Уединившись в сортире, послужившем для нас этаким «домиком в Филях», мы перебирали все возможные и невозможные варианты мести Перегудову, и здесь нам неожиданно повезло. По крайней мере, тогда мне так хотелось в это верить…
В поисках чистого клочка бумаги, необходимой для завершения туалетного действа, я обнаружил среди валяющихся на полу газетных обрывков записную книжку. Не успел рассмотреть её, как на дорожке, ведущей к сортиру, раздались тяжёлые шаги. Сашка предусмотрительно умолк, а я, скорее интуитивно, чем осознанно, сунул найденную вещицу в карман халата. Тут скрипучая дверь туалета распахнулась и на пороге возник предмет наших споров – прапорщик Перегудов, собственной персоной.
Ни слова не говоря, он «водоплавающей» походкой проследовал вдоль деревянного помоста, на котором мы с Брусовым застыли в позе Швейка при встрече с австрийским генералом, и стал что-то высматривать среди бумажных обрывков. Не найдя того, что искал, не мигая, уставился на нас:
– Где книжка?
– Какая? – вытаращился Сашка.
Я, не надеясь на свое актёрское дарование, промолчал.
– Какая, какая?.. Записная… Такая маленькая, в зелёном переплёте, – кажется, поверил Брусову прапор, – значит, не находили?
– Нет.
– Если найдёте, сразу тащите ко мне.
– Конечно, товарищ прапорщик, мы, если найдём, сразу же, – Сашка начал основательно входить в роль деревенского увальня, у которого что в уме, то и на языке, – и пацанам всем накажем, чтобы пошукали…
– Давай, как тебя?..
– Рядовой Брусов.
– Давай, Брусов, дерзай! Если найдёшь книжку, отблагодарю… Получишь от меня подарок. Ферштейн? – потом перевёл цепкий, словно репей, взгляд на меня. – И дружку твоему «кусок» отвалю… Как фамилия?
– Шамиев, – за меня ответил Сашка.
– А что, он сам говорить не умеет?
– Умеет, просто молчаливый от природы, – снова выручил Брусов.
– Молчаливый – это хорошо. Я люблю молчаливых, – во взгляде прапорщика промелькнуло что-то похожее на одобрение. – В общем, постарайтесь, землячки, в долгу не останусь.
Дверь за Перегудовым громыхнула, как ружейный салют в память о почившем в бозе.
– Слушай, о какой книжке этот козёл распекался? – смачно сплюнув вслед прапору, спросил Сашка.
Я без слов протянул ему свою находку – маленькую записную книжку в зелёном кожаном переплёте.
10
Думал ли я когда-нибудь, что получу удовольствие, просматривая чужую записную книжку? Про «удовольствие» – это я, конечно, загнул, как говорят поэты – гиперболизировал, но что-то похожее на чувство удовлетворения после просмотра записей нашего врага испытал.
Поначалу, листая книжку, мы с Сашкой понять не могли, отчего так переполошился прапор, потеряв её. Ничего примечательного обнаруженные там записи вроде бы не содержали. Несколько похабных самодеятельных шлягеров, бывших в ходу и среди нашего брата. «Сказ о русском Иване, служившем в Афгане» или «Песня о приключениях Бабы-Яги»… Потом следовали какие-то адреса с обширной географией: Москва, Питер, Воронеж, Красноярск… Затем несколько пустых страниц… А последние листочки книжки просто испещрены какими-то цифрами, инициалами…
Сашка закрыл книжку и разочарованно протянул мне:
– И чего затеяли мы спектакль? Ничего тут нет!
– Погоди, – удержал я его, – может, это шифр!
– Ну вот, начитался детективов: везде шифры мерещатся.
Я раскрыл книжку на последней страничке:
– Сам посмотри: вот два столбца, а вверху – «Пр» и «Рас». Это же «Приход – расход»! А ниже – прописные буквы – инициалы: «М.Е. – 400 ч.», «Хаб. – 2000 аф.» и даты с апреля прошлого года по сентябрь нынешнего… Шифр – не шифр, но что-то похожее на амбарную книгу!
– Ну и что нам, мистер Шерлок Холмс, с этих «приходов и расходов», если мы все эти буквы и цифры расшифровать не сумеем? «Ч.», предположим, чеки, «аф.» – афгани… Но кому они и за что?
– Да как ты не поймёшь, Саня, нам с тобой и не надо знать, кому и за что они предназначались! Тут важно другое: если «кусок» так мечется из-за книжки, значит, что-то в ней такое заключено… Вот мне и кажется, что цифры эти как раз то самое и есть! Ферштейн? – передразнил я Перегудова.
Но Брусов уже и сам зачарованно уставился на столбцы цифр.
– Давай возьмём прапора на понт: письмо ему анонимное накалякаем и в аптеку подбросим с требованием, так, мол, и так, если ты кобелиные замашки не бросишь, то сокровище потерянное попадёт…
– В руки «внука Дзержинского»… – весело блеснул глазами Сашка.
«Внук Дзержинского» – кличка гарнизонного особиста майора Феликса Скворцова, личности, невзирая на таинственность профессии, очень популярной в солдатской среде. Длинный, сухопарый «контрик» был похож на своего далёкого тёзку не только внешне, но и характером. Такой же принципиальный и бескомпромиссный. Словом, «железный Феликс» он и есть – рыцарь революции. Помимо прочего, о геройских делах Скворцова ходили по бригаде настоящие легенды.
Рассказывали, что однажды майор с разведгруппой чуть не взял в плен самого Ахмад-шаха. Сумел захватить его любимого телохранителя. Хозяин Панджшера за своего нукера огромный выкуп обещал, предлагал Скворцову сытую жизнь за кордоном, а тот не купился… Такие люди, похоже, вообще, не покупаются. Так что Сашка прав: одно упоминание о «внуке Дзержинского» будет для Перегудова, как удар серпом по… Вжик, и – никакого потомства!
В тот же вечер, устроившись на моём топчане (благо он расположен в углу палаты, подальше от чужих глаз), мы написали печатными буквами на четвертинке мятого тетрадного листа наше послание Перегудову.
Этот шедевр эпистолярного жанра подсунули под обитую железом дверь аптеки.
Теперь оставалось только «лечь на грунт», как подводной лодке после пуска торпеды, и ждать последствий содеянного.
11
Ждать пришлось недолго.
На следующее утро, спустя час после обхода, в палату притопала Мегера. Оглядев всю братию, навела окуляры очков на нас с Сашкой:
– Брусов, Шамиев, подите сюда!
Мы неохотно приблизились.
– До обеда поступаете в распоряжение начальника аптеки. Задачу он сам вам поставит.
«Вот оно, начинается», – я покосился на Брусова. Тот даже виду не подал, что случилось что-то необычное.
И действительно, что тут необычного? У нас выздоравливающие каждый день на какие-нибудь работы назначаются, в том числе и в распоряжение начальника аптеки, который, как всем известно, ещё и нештатный комендант госпиталя. Так что повода для беспокойства вроде бы нет…
Прапорщик встретил нас в проёме аптечной двери. Маленькие глаза из-под нависших бровей прожигали, словно два лазера.
– Не нашли книжку? – вместо ответа на наше приветствие спросил он.
– Никак нет, – настала моя очередь отвечать: Сашка будто язык проглотил.
– Тэк-с, жаль, а могли бы… – глаза Перегудова сделались ледяными. – Ладно, есть для вас другая задача. Будете наводить порядок на территории… Сейчас возьмёте грабли, и до обеда чтобы вся земля вокруг забора на два метра была очищена от всякого хлама. Ждём комиссию из Кабула… Исполнение проверю лично. Ферштейн? Начнёте со стороны «зелёнки»… – прапорщик повернулся к нам спиной, давая понять, что других «цэу» не будет.
Мы поплелись за хозинвентарем, так и не разобрав: догадывается ли Перегудов, кто скрывается за подписью: «Доброжелатель»?
12
Любое дело начинается с перекура.
Мы решили традицию не нарушать.
Перелезли через забор, дыры в котором были заделаны бронелистами различной конфигурации, отчего он был похож на джинсы хиппи. Присели под огромным чинаром. Его лопухообразные листья порыжели, скукожились, но всё-таки служили защитой от неистового, непримиримого, словно моджахед, светила.
Денёк выдался жаркий: градусов тридцать пять в тени. На белёсом, выцветшем, как и всё вокруг, небе хозяйничало солнце. В «зелёнке» без умолку трещали птицы. Я заметил одну из них, чем-то напоминающую нашу сороку, только с более яркой, причудливой раскраской. Загляделся…
Сашка, раскурив бычок импортной сигареты, сказал:
– Давно хотел тебе рассказать, как здесь очутился…
Я не был настроен на откровенья:
– Может, не стоит?..
– Нет, ты послушай, в другой раз не смогу…
– Ну и как?
– Позорно, братан… – Сашка жадно затянулся, закашлялся. Спросил: – Слышал про уринотерапию?
– Это что-то с мочой связано?
– С ней самой… Только я эту терапию на себе испытал…
– Не понял!
– Что тут не понять… Заболел у нас в роте гепатитом один пацан, однопризывник мой. Меня замполит отрядил в медсанбат попроведать его, передать «бакшиш» от роты. Пришёл, а он мне через форточку говорит, хватит тебе, дураку, по горам шастать, мишенью для «духовских» буров[14] быть… Смотри, мол, на умных людей: они себе места поспокойнее находят! А хочешь, я тебе болячку наподобие моей устрою? Не за так, конечно… Гони «бабки» – и комар носа не подточит!..
– Что он, волшебник?
– Я ему тогда то же самое и вылепил. А он – сматерился и стакан мне пустой показывает: «Я сюда отолью, а ты – выпей! И всё будет чики-чики: пожелтеешь в три дня… Только деньги вперёд!»
– Так ведь противно…
– Понятно, не пепси-кола! Но вольному – воля: не выпьешь – завтра в рейд, и может быть, в последний… В общем, решился я… «Бабок» у меня не было в наличии. Приволок корешу свою заначку – «Шарп» гонконговский. Я его у одного дукандора конфисковал именем революции… Торговец был жирный, противный, как в листовках изображают… Явный пособник Хекматияра… Не обеднеет с одного «Шарпа», буржуй проклятый. А солдату – радость! Через ту же форточку произвели натуральный обмен: маг на стакан урины. Зажмурился я и махом эту гадость в себя опрокинул… Ну, а дальше сам видел: не обманул пацан. Через несколько дней уже мог петь песню китайских парашютистов: «Лица жёлтые над городом кружатся!» Зато сорок суток в стационаре: ни гор тебе, ни «зелёнки»… Осуждаешь?
Сашка умолк. «Бычок» обжигал ему пальцы, но он, казалось, не замечает этого.
История меня покоробила. Но я не осуждал Брусова: каждый живёт, как может, как умеет, как совесть позволяет…
Так и сказал ему тогда, ещё не зная, что этот разговор у нас последний.
Сашка затушил «чинарик» о камень. Мы поднялись и пошли вдоль забора в сторону «зелёнки», собирая в кучи металлический, бумажный и прочий хлам, попадавшийся по дороге. Ни о чём больше не заговаривали: ни о наших болячках, ни о Перегудове, ни о Томке…
Когда до первых зарослей осталось каких-нибудь тридцать шагов, Сашка, идущий впереди, неожиданно остановился. Повернулся ко мне, хотел что-то сказать. Потом махнул, дескать, не стоит, нагнулся и поднял лист ржавого железа, лежащий между нами. И когда он оторвал его от земли, что-то со страшным грохотом вырвалось из-под этого листа, ослепляя, круша, корёжа.
Словно в замедленном кино, я увидел, как тело Сашки неестественно надломилось, а лицо его, сметённое, сорвалось со своего привычного места и стало падать вниз, разлетаясь на множество кровавых частиц. И эти частички Сашкиного лица, ещё теплой, живой его плоти, брызнули в меня, залепили глаза, нос, рот. И тут же грубая сила подняла меня, ударила, и солнечный свет померк.
13
Сколько я был в беспамятстве, сказать трудно. Жизнь вернулась ко мне глухими голосами, прорывающимися в сознание, словно через пуховую перину:
– Ты посмотри: парень в бронежилете родился! Дружка – в клочья, а на нём ни царапины. Только о стену взрывной волной шарахнуло…
– Офигеть можно… Надо же на минное поле с граблями залезть! Чокнутые какие-то…
Я с трудом открыл глаза. Все поплыло передо мной, совсем как в восьмом классе, когда впервые выпил вина. В ушах – шум, похожий на стрекотание цикад тёплой ночью. Руки и ноги будто из ваты…
На фоне ускользающего неба возникли две головы в «афганках».
– Кажется, очухался, – донеслось до меня. И я снова провалился в темноту.
Окончательно пришёл в себя я уже на госпитальной кровати. Не на топчане, а на настоящей койке с панцирной сеткой. Её моё тело ощущало каждой клеткой. В комнате, где я находился, было сумеречно. Я несколько раз моргнул, но так и не понял: то ли на самом деле вечер, то ли у меня в глазах темно. Кто-то наклонился надо мной:
– Ну, вот и хорошо, Маратик, теперь всё будет хорошо…
– Томка, Тамара Васильевна, – узнав, произнёс я первые в своей новой жизни слова.
– Маратик, ты не говори, тебе пока нельзя. Лежи спокойно, милый, – Томка неожиданно всхлипнула.
Я всё-таки был ещё не в себе: даже Томкино «милый» на меня впечатления не произвело.
– Где Сашка, что с ним?
Томка долго молчала, потом заговорила, как говорят с ребёнком, желая его успокоить:
– Ты не волнуйся, пожалуйста, Сашу увезли…
– Куда увезли? – я снова ощутил на губах вкус Сашкиной крови.
– В Кабул… Тут в госпитале такой переполох из-за вашего подрыва поднялся. Начальства понаехало разбираться, как вы на минном поле очутились…
– Сашка жив?
Козырева не отвечала.
– Значит, нет… – я попытался встать.
– Тебе нельзя, – удержала она.
– Где мой халат? Посмотрите, в кармане книжка должна быть. В зелёном переплёте…
– Ничего нет, Маратик… А зачем тебе книжка? Домой хочешь написать? Так ты адрес скажи, я могу…
«Ничего ты не знаешь… Да, жизнь Сашки и моя собственная – цена этой книжки!» – подумал я и сказал:
– Тамара Васильевна, узнайте у тех пацанов, что нас нашли, где книжка? Она очень важна для меня…
– Конечно, узнаю. Я ведь уже со всеми успела познакомиться. Принесли тебя два солдата из роты охраны, сейчас их найду, – поправив моё одеяло, Томка бесшумно выскользнула из палаты. Я решил обязательно дождаться её возвращения, но уснул.
…В эту ночь впервые меня мучил кошмар.
Снился мне Сашка Брусов в белой длинной рубахе, со стаканом гепатитной мочи в одной руке и куском ржавого железного листа – в другой (так самодержцы носят скипетр и державу). Идёт он босым по зелёному лугу, а на пути не одуванчики, а мины противопехотные растут на коротких стебельках. Сашка ступает на них, они взрываются беззвучно и нестрашно. Рубаха у него – всё краснее и краснее, кровью пропитывается, а он – ничего не замечает, торопится мне что-то сказать. Слов я не слышу, но по губам разбираю – спрашивает он: «Как же это так случилось, что не тебя, а меня убило? Что же я теперь своей матери скажу? Я ведь у неё единственный…»
14
Проснулся я в липком поту, когда солнце было уже высоко. Открыл глаза – рядом Томка. Только теперь, при свете, разглядел, что ей совсем не так весело, как она хочет, чтобы казалось мне.
– Доброе утро, Тамара Васильевна.
– Здравствуй, Маратик!
– Вы поговорили с ребятами?.. – мне не терпелось узнать о записной книжке.
– Говорила…
– Так, где она?
– У начальника аптеки…
– У Перегудова?! – я, наверное, изменился в лице, и Томка это заметила:
– Ребята рассказали, когда тебя несли в палату, он остановил их в коридоре и стал рыться в твоих карманах. Забрал записную книжку. Всё бормотал что-то про «полный порядок»…
Она ещё что-то говорила про Перегудова, но я уже не слушал её. Кровь прилила к голове:
– Я убью его!
– Что ты, Маратик, это же трибунал!
– Он, «кусок» вонючий, нас на мины… А ему – «полный порядок»… – я задыхался от обиды и ненависти. «Я должен отплатить ему за всё!» – эта мысль овладела мной.
Отстранив Томку, я уселся на кровати. Комната закружилась перед глазами. Усилием воли заставил стены остановиться, а пол и потолок – занять свои привычные места. Опершись на спинку кровати, встал, накинул халат, сделал несколько шагов к двери – ноги меня слушались, а лёгкое головокружение и тошнота – пустяк!
Не обращая внимания на Томкины уговоры, я распахнул дверь ординаторской (именно её превратили для меня в импровизированную палату – надо же какая честь!) и вышел в коридор.
Держась рукой за стену, направился к аптеке, ещё не зная, как буду приводить в исполнение свой приговор. Знал только, что сделаю это, чего бы мне это ни стоило…
Дверь аптеки оказалась закрытой и опечатанной.
– Шамиев, ты почему не в постели? – остановилась, подозрительно взирая на меня, проходившая мимо Мегера. В руках она держала никелированную посудину для кипячения хирургических инструментов.
– Прапорщика Перегудова ищу – лекарства получить надо, – соврал я.
– Он у начальника госпиталя. Так что нечего здесь торчать, отправляйся немедленно в палату. Лекарство принесёт сестра, – Мегера повернулась, чтобы уйти.
Тут, изловчась, я вырвал у неё никелированную шкатулку и рванулся по коридору к кабинету начальника госпиталя. Ноги дрожали, меня швыряло из стороны в сторону, как молодого матроса во время шторма, и всё же мне удалось оторваться от ошарашенной Мегеры. Я уже одолел половину коридора, когда за спиной раздался её дикий вопль и слоновий топот ног.
«Фига с два! Теперь не догонишь!» – я на ходу снял крышку со шкатулки. Удача! Острый, как бритва, скальпель в моих руках! Только бы не промахнуться, с первого удара достать ненавистного прапора…
С Перегудовым я столкнулся на пороге кабинета.
Всё остальное помню, как в бреду.
Увидев у меня в руке скальпель, прапорщик на какое-то мгновение остолбенел и с неожиданным проворством метнулся назад, опередив мой бросок, захлопнул за собой дверь.
Я рванул дверную ручку и вырвал её с «мясом». Крепёжные шурупы полетели в разные стороны. Тогда, рыча, матерясь, плача от ярости, я набросился на обитую дерматином дверь, скальпелем нанося ей колющие и резаные раны…
Кто-то повис у меня на плечах, на руках. На голову накинули шерстяное одеяло, сбили с ног. Обессиленный и полузадохнувшийся, я провалился в чёрную яму беспамятства.
15
Через два дня меня переправили в Союз в сопровождении офицера и двух дюжих солдат (чтобы не брыкался).
Перед самым отлётом ещё раз довелось увидеться с Томкой. Она пробралась ко мне, в охраняемую теперь палату, буквально на минуту. Томка сказала, что начальник госпиталя принял решение отправить меня на обследование в психушку. Инспектор из Кабула это одобрил. А Томка уверена, что такое обследование придумали нарочно, и будет писать обо всём, что у нас произошло, министру обороны или даже Генеральному секретарю… А ещё шепнула она, чтобы я не падал духом и надеялся, а когда у неё подписка закончится – сразу меня найдёт…
Что я мог ей ответить, привязанный простынями к своей кровати?
…Первым человеком, встретившим меня в моей новой тюрьме, был Попков. Пошептавшись с сопровождающим офицером и полистав привезённые им бумаги, он стремительно приблизился ко мне и, по-птичьи моргая широко посаженными глазами, уставился в мою переносицу, как будто там заключались ответы на все волнующие его вопросы.
Я несколько минут терпеливо сносил этот взгляд, потом – не удержался и захохотал, в свою очередь подмигнув Вольдемару Генриховичу сначала левым, а затем правым глазом.
Попков удовлетворённо потёр одну о другую маленькие аккуратные ладошки и прописал мне курс каких-то болючих уколов.
После них я если и не тронулся умом, то внешне стал мало чем отличаться от пациентов шизика: днём бродил, как тень, по серым коридорам или такому же серому двору, а ночью не находил себе места от череды кошмаров и бессонниц. В психушке своё дело знают!
За одно спасибо Попкову: разрешил свидания с мамой…
Господи, как она постарела за год!
Но держится мама молодцом! Ещё и меня утешает. О моей истории она узнала из Томкиного письма (как она так быстро адрес мой разыскала?), и вообще, Томка маме понравилась. Они даже подружиться по переписке успели. Да так, что Козырева маме поведала такое, о чём я знать не знал (хотя когда и узнавать-то было). Оказывается, Томка круглая сирота, в медучилище после детдома поступила. И в Афганистан завербовалась потому, что податься было некуда…
А вот теперь у мамы с Томкой общая цель – меня на волю вызволить!
16
…Скоро год, как я очутился здесь, в этих коридорах с зарешеченными окнами и звуконепроницаемыми стенами.
Тусклая череда дней: вчера, сегодня, завтра – одно и то же. Душеспасительные беседы с Попковым, прогулки по тесному двору с товарищами по несчастью. На одной из таких прогулок я столкнулся с парнем, тоже «из-за речки», москвичом по кличке Кришна. Мне с ним Попков подружиться посоветовал, мол, веселей будет на пару… Сюда Кришна попал потому, что в рейдах (он служил в горно-пехотном батальоне) отказывался стрелять в «духов». Весь боезапас назад приносил, весь до единого патрона. Замполит беседовал, убеждал. Врачи занимались, в конце концов отправили в психлечебницу… Почти моя история.
Но то ли поиздевался надо мной Вольдемар Генрихович, то ли эксперимент психологический проводил, только кришнаит этот оказался и впрямь не в своём уме…
Я пытался про Афган его расспросить, а он всё про карму да про тела астральные бормочет. Так и не нашли общего языка.
И всё-таки самым страшным днём был тот, когда я действительно чуть не сорвался с «шестерёнок». В очередной раз, навещая меня, мама о Томкиной судьбе проговорилась…
Самолет, на котором она летела в Союз, «духи» «Стингером» сбили, уже на подлёте к границе… Маме сообщили об этом потому, что у Козыревой, кроме её адреса, других не оказалось: посчитали родственницей, наверное…
После этого дня меня снова посадили «на иглу»… Маме свидания со мной запретили. Короче, полная изоляция!
И всё же я ещё жив. Жив, потому что надеюсь на лучшее. Так ведь говорила Томка при нашем прощании. И потом, тот же Попков однажды заикнулся, что политических уже из психушек выпускают. Может, и до нас, «афганцев», доберутся?
Должно же когда-то это сумасшествие закончиться.
Афганский детектив
1
– Знаешь, как в Афгане Героями становились? Не те, которые «посмертно», а счастливчики, умудрившиеся в живых остаться?..
– Вообще-то, знаю… Подвиг совершил… В «дивизионке» про тебя заметочку тиснули. А лучше того – в «Правде» или в «Красной звезде»… С командирами имеешь отношения добрые: где не надо не перечил, где надо – поддакнул… И ещё особисты компроматом на тебя не располагают, хотя всю родословную до десятого колена перевернули. Не дай бог на биографии будущего Героя какое-нибудь пятнышко обнаружится! А потом, необязательно и подвиг какой-то особенный совершать… Тут главное, чтобы время твоё подоспело, волна покатила! У кадровиков ведь разнарядка на Героев существовала: этот должен быть из замполитов, тот – из солдат. И чтоб обязательно выходец из крестьян или из рабочих… Потом, национальность непоследнюю роль играла. Надо ведь, чтобы все братские народы Советского Союза в списке награждённых представлены были…
– Ну, а как быть, если всё соблюдено: и заслуг – под завязку, впору, как генсеку бровастому, звёзды в два ряда вешать, и из пресловутых рабочих выйти сподобился и по крови – сущий интернационал?
– Тогда жди Указ Президиума да дырку для звёздочки сверли…
– Как бы не так!
– А что это ты разговор о Героях завёл? Кого в виду имеешь?
– Да, себя, родимый! Я же, когда во второй заход в Афгане полком командовал, к Звезде Героя представлен был… В Москву документы ушли… А Героя так и не получил…
– Что же помешало?
– Пулька, пулечка одна… Та самая, про которую в песне поётся. Помнишь, «девять граммов, сердце, постой, не зови…». А вообще-то, тёмная это история. Целый детектив.
2
Пулю обнаружил замполит полка майор Русаков, только что прибывший в часть по замене. Точней, не обнаружил, а она просто свалилась ему на голову. Откуда? С потолка, конечно. Точней, из щели на стыке потолка и стены.
Пуля была обыкновенная, от ПМа. Русаков таких за офицерскую жизнь видел и не сосчитать. Только вот у этой пули головка была чуть деформирована, очевидно, от удара. «Надеюсь, не о мой чердак», – разглядывая находку, иронично подумал он. Хотя пуля, надо заметить, и впрямь довольно больно саданула его по макушке.
В происшествии виновата была нелюбовь Русакова к жёлтому цвету. В первый же день своего пребывания в новой должности он занялся переоборудованием модуля, служившего ему и рабочим кабинетом, и местом для отдыха. Хотя о каком отдыхе можно вести речь, если стены такого ядовито-жёлтого цвета? Обои – новые, очевидно, незадолго до его приезда наклеены. Но цвет…
«Боже правый, – всуе помянул Господа Русаков. – Да в таком бунгало не то что за два года – за неделю можно на стены полезть… Настоящая палата № 6! Нет, надо немедленно ободрать эту гадость! Лучше уж зампотылу за другие обои выставить энзэшную бутылку водки…»
Заместитель командира полка по тылу подполковник Копырин от пол-литра отказался – новые обои выдал за «так», в знак будущей дружбы.
Не став дожидаться киномеханика и водителя клубной машины, вызванных на подмогу, Русаков засучил рукава «афганки». Первые полосы обоев поддались легко, очевидно, клеились наспех и солдатскими руками.
За ними открылись прежние обои голубоватые в мелкий сиреневый цветочек. «Очень даже симпатичные. Зачем было их менять?» – подумал замполит.
Насвистывая бравурный мотив, он потянул на себя очередную полосу обоев. Вот тут и состоялось уже упомянутое знакомство с пистолетной пулей.
И ещё. Сорванная полоса открыла большое пятно бурого цвета, распятое на стене на уровне человеческого роста и протянувшее безобразные отростки до самого пола. Это пятно пытались соскрести – в нескольких местах доскреблись до деревянного щита, – будто какой-то неумелый хирург попытался отсечь щупальца метастаз и спасти изувеченную стену.
«Похоже на кровь», – машинально крутя пулю в руках, подумал Русаков, ещё не зная, как отнестись к своему открытию.
Из утреннего разговора с командиром полка он знал, что прежнему владельцу этого модуля не повезло: погиб от шальной пули, срикошетившей во время салюта, посвященного дню Саурской революции. Как могла пуля срикошетить от неба, ведь салютуют обычно на открытом воздухе, почему эта пуля угодила в голову именно замполиту, Русаков не понял, а спросить постеснялся, не желая выглядеть ни чрезмерно непонятливым, ни сверх меры любопытным.
Сейчас он досадовал на себя за ложную скромность, ибо детали разговора, всплывшие в памяти, придавали обнаруженному пятну новый смысл. Не специально ли заклеено бурое пятно от постороннего взгляда? Не пытался ли кто-то таким образом скрыть истинные обстоятельства гибели прежнего замполита?
Беседа с подошедшими на помощь солдатами ничего не прояснила. Она только ещё больше утвердила Русакова в подозрении, что со смертью его предшественника не всё чисто.
Рядовой и ефрейтор из клубной машины, по солдатским меркам, люди к начальству приближённые, об обстоятельствах гибели бывшего заместителя командира полка по политчасти подполковника Тюнькина знали не больше официальной версии: случайный рикошет во время вечернего салюта. Откуда в комнате-кабинете Тюнькина это пятно на стене, ничего сказать не могли, хотя жёлтые обои наклеивали именно они. И ещё Русаков узнал от солдат, что Тюнькин был человеком добрым, душевным. В полку его любили и очень горевали, когда замполит так нелепо погиб.
Новые обои закончили клеить поздним вечером. Светло-серый колер скрыл и остатки старых обоев, и большое ржавое пятно на стене. Но в душе Русакова что-то очень похожее на это пятно осталось.
3
То, что инициатива в армии наказуема, Русаков знал давно, но никак к этому не мог привыкнуть. Чёрт дёрнул его заговорить о вчерашнем открытии с командиром полка подполковником Кравченко.
Коренастый, лысеющий украинец, с широкой добродушной улыбкой, выслушав нового заместителя, мгновенно переменился в лице. Глаза сделались колючими, а улыбка стала ироничной.
– Вам что, заняться больше нечем, как детектива из себя разыгрывать? Вы бы, товарищ майор, лучше людей изучали… Скоро выход на «боевые»… А что касается смерти бывшего замполита, не суйте нос не в своё дело. Нечего в чужом грязном белье ковыряться! – сухо порекомендовал он. Русаков оторопел, но, коль скоро рекомендация командира равняется приказу, козырнул и вышел, недоумевая, при чем тут «грязное бельё» и почему оно – «чужое»?
Вышагивая по плацу к сборно-щитовым казармам первого и второго мотострелковых батальонов (третий – базировался в горах в сорока километрах от штаба полка), Русаков продолжал прерванный диалог: «Изучить личный состав мне действительно нужно как можно скорее. Только вот дело с найденной пулей тоже оставить нельзя! Разобраться в обстоятельствах гибели Тюнькина – это мой долг перед погибшим коллегой. Грош мне цена, если не сумею докопаться до истины…»
Расследование он решил начать с секретной части полка, где пронумерованные, опечатанные, под неусыпным контролем старшего прапорщика Семенчука, прозванного «Цербером», хранились донесения о политико-моральном состоянии, о результатах боевых действий, доклады о происшествиях и преступлениях, совершенных солдатами, сержантами и офицерами части.
Русаков получил секретные бумаги, устроился за столом, вытянул гудящие после дневного обхода подразделений ноги и принялся за изучение донесений, отправленных в политотдел дивизии. Наскоро просмотрев те из них, которые были подписаны Тюнькиным, остановился на бумагах, составленных после смерти бывшего замполита. Первая их этих реляций как раз касалась гибели самого Тюнькина. Ничего нового из неё Русаков не узнал. «Но ведь должны же быть результаты служебного расследования…» – недоумевал он. Таких бумаг в «секретке» не оказалось. Не нашёл он и приказа о назначении дознания по факту гибели Тюнькина. По документам складывалось впечатление, что происшествия никакого не было.
Русаков связался с начальником политотдела дивизии.
Изменённый засекреченной связью голос начпо пробулькал рекомендацию, мало чем отличающуюся от того, что советовал Кравченко: «За-у-ни-ма-у-й-ся ли-у-чным соста-у-вом! Не бери на-у себя ли-у-шнего!»
«Может, и правда, я сую нос не в своё дело? – размышлял Русаков, сидя на скамейке, врытой под окном модуля. Носком десантного ботинка он машинально ковырял гравий дорожки. – Что, мне больше всех надо?»
Ботинок неожиданно выковырнул латунную гильзу. Русаков так же машинально отпнул её подальше – мало, что ли, гильз втоптано в эту землю! И тут же спохватился, кинулся её искать: «А что, если она – родня той пули, из модуля?»
В темноте отыскать гильзу оказалось задачей не из лёгких. Но когда это удалось, Русаков был вознаграждён: извлечённая из нагрудного кармана пуля и найденная гильза когда-то составляли единое целое.
4
Наученный печальным опытом, Русаков никому не стал рассказывать об этом. Однако продолжил строить предположения. Если гильза оказалась за пределами комнаты, значит, либо её кто-то выбросил за окно, либо стрелявший сам находился вне модуля. Если салютовал сам Тюнькин, то он должен был находиться вне комнаты. Тогда каким образом пуля, убившая его (рикошетом!), могла очутиться в щели между стеной и потолком? Если он был на улице, то кому принадлежит пятно крови на стене в его модуле?.. Если же в момент выстрела Тюнькин находился в модуле, то каким образом гильза очутилась за окном?
Напрашивался вывод: Тюнькин, вопреки официальному мнению, сам выстрелить не мог. Стрелял кто-то другой, и стрелял, находясь снаружи. Значит, суть происшествия, как минимум, искажена. Всё происшедшее – вовсе не несчастный случай, а непреднамеренное убийство!
Русаков решил рассуждать от противного. Предположим, смерть Тюнькина, это всё-таки – самоубийство. Тогда почему этот факт скрыт от командования дивизии? «Самострелы» не такая уж редкость на войне, если не брать во внимание, что застрелился замполит полка…
Опровергнуть или подтвердить предположение о самоубийстве Тюнькина можно было только одним способом: узнать, из какого пистолета сделан выстрел. Если из пистолета Тюнькина, то на девяносто девять процентов это «самострел» (один процент Русаков оставил на случай, если кто-то другой завладел оружием подполковника с целью убийства или же Тюнькин использовал для сведения счётов с жизнью чужой пистолет). Словом, логика простая: найдя оружие, из которого стреляли, можно выйти на того, кто стрелял. Конечно, провести настоящую баллистическую экспертизу Русакову было не по зубам, но ведь существуют и более простые методы анализа. К ним и решил прибегнуть. Дело в том, что у найденной гильзы капсюль был пробит необычным образом: отметина находилась справа от центра и как будто раздваивалась, точно удар был нанесён двумя бойками. Не являясь большим специалистом в области вооружения, Русаков догадался, что боёк у пистолета, из которого произведён выстрел, за годы службы сточился так, что стал оставлять специфическую метку.
Проверить, оставляет ли такую насечку замполитский пистолет – оказалось делом несложным. Пистолет покойного Тюнькина – ПМ под номером ТК 3759 по наследству достался самому Русакову. На следующий день, испросив разрешения пристрелять табельное оружие, он отправился на полковое стрельбище и всадил в грудную мишень шесть из шести полученных зарядов. На глазах скорчившего недоуменную мину начальника артвооружения (здесь, в отличие от Союза, гильзы после стрельб не сдают), замполит собрал стреляные гильзы и сунул в карман. У себя в модуле сравнил их с той, что нашёл накануне, и с явным удовольствием отметил: капсюли на сегодняшних гильзах пробиты строго посередине, и на них не осталось характерных продольных царапин. Таким образом, пистолет покойного Тюнькина получил полное алиби. Значит, надо искать другой…
Это оказалось делом куда более сложным. Пришлось ждать удобного случая. Судьба подбросила его месяц спустя, когда полк сдавал итоговую проверку за летний период обучения.
Придумал же какой-то кабинетный умник устраивать проверки там, где война! Русаков, напичканный в академии истинами типа: «во всякой войне победу в конечном счете обуславливает состояние духа тех масс, которые на поле брани проливают свою кровь», конечно, понимал, что все эти зачёты по политической подготовке, ЗОМП, уставам – в значительной степени, фикция, необходимая только для доклада наверх. Теоретические постулаты постепенно уступали в нём место опыту, который подсказывал, что лучшая психологическая подготовка для солдата – это сам бой, а все политчасы и политинформации с успехом заменяет простая беседа по душам, разговор о доме, о родителях, о погибших друзьях. И всё же он вместе с Кравченко и другими офицерами прилагал все усилия, чтобы итоги проверки были положительными. По неписаной традиции, именно эти «цифры», а не реальные боевые дела определяли отношение к полку со стороны высшего командования. Не требовалось особой фантазии, чтобы представить, как будут возвращены назад представления на правительственные награды отличившимся в боях, как будут таскать Русакова и Кравченко на заседания парткомиссии, как зачастят инспектора, получи полк неуд.
Что же касается представлений к наградам, тут у Русакова был интерес особого рода. Недавно он подписывал наградной лист на Тюнькина, в котором значилось: «…погиб при выполнении интернационального долга. За проявленные мужество и героизм достоин награждения орденом Красной Звезды (посмертно)». При каких бы обстоятельствах ни погиб предшественник, Русакову очень не хотелось, чтобы это представление осталось нереализованным.
Русаков с нетерпением ждал сдачи офицерами зачёта по стрельбе. Именно тогда и решил проверить, какой след на гильзах оставляют имеющиеся в полку табельные пистолеты.
Чтобы не вызывать у непосвящённых в его расследование лишних вопросов, Русаков придумал оригинальный ход – собрать стреляные гильзы для сдачи цветного металлолома. Полученная недавно директива командарма устанавливала строгие нормы и сроки такой сдачи, потому Кравченко, выслушав предложение заместителя, одобрил: «Действуй!»
В день стрельб Русаков вызвал нескольких солдат из разведроты и дал им поручение собрать по одной гильзе от каждого пистолета. Причём сделать это поручил незаметно для стреляющих офицеров. К вечеру на столе у Русакова лежали десятки стреляных гильз с маленькими свёрнутыми в трубочку бумажками в каждой. На листочках корявым почерком были выведены фамилии стрелявших. Как настоящий сыщик, вооружившись лупой, Русаков внимательно рассматривал каждую гильзу, сверяя её с имеющимся образцом. Каково же было его разочарование, когда он вынужден был констатировать: пистолета, из которого выпущена пуля, застрявшая в стене, в полку нет.
5
Прошло ещё два месяца. Жизнь в гарнизоне шла своим чередом. Продолжалась война, именуемая в Союзе «необъявленной». Здесь она была просто войной, на которой ежедневно гибли люди. Может, поэтому о смерти Тюнькина уже не вспоминали. Даже Русаков, казалось, отступился от идеи докопаться до истины. Было много других забот. Однако вечером каждого дня, когда он укладывался спать, его взгляд неизменно натыкался на гильзу и пулю, лежащие на прикроватной тумбочке. Ворочаясь на скрипучей кровати, он снова и снова возвращался к известным ему деталям гибели Тюнькина и никак не мог связать их воедино.
В одну из таких бессонных ночей Русаков провёл очередной «следственный эксперимент». Включив свет, он встал в том самом месте, где ему на голову свалилась пуля, и дотронулся рукой до стены, где под обоями пряталось бурое пятно. Второй рукой приставил к виску воображаемый ПМ, прикидывая, могла ли пуля из него, пробив голову Тюнькина, оказаться в щели, из которой потом свалилась вниз. По всем законам баллистики выходило, что – нет. Значит, пуля, убившая подполковника, была выпущена под каким-то другим углом. Русаков расставил руки в стороны, как это делают дети, изображая самолёт, и попытался с их помощью воспроизвести траекторию полёта пули. Он то замирал на месте, то начинал кружиться по комнате, наклоняя из стороны в сторону руки-крылья. Так продолжалось довольно долго, пока он не утвердился во мнении: единственным местом, откуда мог быть произведён смертельный для Тюнькина выстрел, является окно (под которым и была найдена гильза). Русаков больше не сомневался: бывший замполит ушёл в мир иной не по своей воле. Он был убит. Но кем и почему? Чтобы раскрыть преступление, надо, прежде всего, узнать его мотивы. Вот тут и была главная загвоздка. Пока не было ни малейшего представления о том, за что лишили жизни такого доброго и обаятельного человека, каким, по мнению окружающих, был Тюнькин. Русаков перебирал возможные мотивы: месть, зависть, пьяная разборка и, наконец, небрежность при обращении с оружием… Возможно, истина была где-то рядом, но он никак не мог приблизиться к ней.
И тут на помощь ему явился Его величество случай. Однажды, проходя по коридору сборно-щитовой казармы первого батальона, где размещались и кабинеты некоторых служб полка, Русаков услышал глухие голоса, доносившиеся из машбюро. Что-то заставило его прислушаться. Он узнал говоривших машинисток. Одна из них – Марья Петровна, рыжая, пышнотелая особа, любившая повторять, что баба в сорок пять – ягодка опять, что-то горячо доказывала Инне – молоденькой женщине, прибывшей в часть по путёвке комсомола и ужасно гордившейся своими связями в политотделе армии. Разговор вёлся о какой-то неведомой Русакову Жанне.
– Из-за него Жанку в Саюз и атаслали, точна тебе гаварю, – по-московски нажимая на «а» и растягивая слова, уверяла Марья Петровна.
– Да что вы, у Жанны и без него кавалеров хватало! – не соглашалась Инна.
– Кавалерав?! Ха… Да, Жанка с каждава «бакшиш» имела… Не мы, дуры. Укатила каралевай – вся в дублёнках и джинсе!.. Шлюха!
Русаков поморщился и собрался уйти: сплетничают бабы, какой-то товарке кости перемывают. А сами что, лучше? Ему докладывали, что обе женщины добропорядочностью и строгостью нравов не отличаются. Чуть ли не притон в своём модуле организовали: вечерами пьянствуют, офицеры и прапорщики к ним уже дорожку протоптали. Впору красный фонарь над входом вешать… Хорошо, хоть солдат пока не принимают…
Однако следующие фразы заставили его остаться.
– Ну, что уж вы так-то про Жанну, она же вашей подругой была!
– Падругай… Тагда и была, кагда я ей патребавалась! Знаешь, кагда ангелочка нашева тюкнули, припалзла Жанка ка мне вся зарёванная, апухшая… Каралева!.. Воет белугай: «Машенька, что теперь будет? Пасадят меня…» Ревёт ревмя. Нос картошкой стал… Красавица…
– А потом?
– Патом пасыльный прибежал. Жанку к Кравченко вызвал. Ушла, тряслась вся, а вернулась, улыбается: «В Саюз еду!»
– И где она теперь, Марья Петровна.
– Ясна, где – дома. Мамины пирожки жуёт, а мы тут с табой…
Русаков не стал больше слушать её откровения и поспешил прочь. Воистину, ищите женщину, как говорят французы. Дело о смерти Тюнькина приобретало новый оборот.
6
Узнать, кто такая Жанна, не составило труда. В строевом отделе Русаков довольно быстро нашёл личное дело, не отправленное вслед за своей хозяйкой из-за обычных бюрократических проволочек. Прочитал в нём: «Хлызина Жанна Павловна. Родилась… Училась… Разведена. Имеет дочь. Живёт с матерью в Таганроге. Беспартийная. Работала официанткой в офицерской столовой. Характеризуется положительно…» И больше ничего: ни причин досрочной отправки, ни подробностей пребывания на Афганской земле. Все недостающие сведения пришлось выпытывать у сослуживцев.
Начальник строевого отдела, только что вернувшийся из отпуска, капитан, смог доложить Русакову, что откомандировать Хлызину приказал командир полка. О самой Жанне он отозвался с присущей молодости прямотой: «Тёлка классная!»
Копырин, под чьим прямым руководством трудилась на ниве офицерского общепита Хлызина, был в оценке ещё более откровенен: «Натуралистка», торговала собой за подарки: магнитофоны, тряпки… Почему терпели такую аморальщину? Так ведь где неаморальных-то взять? К тому же по работе к Хлызиной никаких претензий не было. Обходительная, ловкая, смазливая. Какая комиссия в полк ни залети, только её на обслуживание звали: столы накрыть, кофе подать… Никогда не подводила.
Кравченко о внезапно отправленной в Союз и «положительно характеризуемой» официантке беседовать отказался. Была да сплыла. А хочешь разузнать подробней, поезжай в Таганрог! Так оборвалась ещё одна ниточка, оказавшаяся у Русакова.
Вечером он был приглашен на день рождения к Копырину. Зампотыл в честь своего сорокалетия организовал просто царский ужин: жареная картошка, шашлык из молодого барашка, фрукты и виноградная самогонка из соседнего дукана. Собрались все заместители командира полка, комбаты первого и второго батальонов. Кравченко отсутствовал. Когда выпили и разговор из всеобщего превратился в разрозненные диалоги и монологи, Русаков спросил у именинника о причинах отсутствия комполка.
– Ему нельзя: ком-му-нисто! Облико мор-рале! – фразой из анекдота ответил раскрасневшийся от выпитого Копырин и, заметив недоумение собеседника, добавил громким шёпотом: – Ты не знаешь? Его ж к Герою представили… Т-с-с… Советского Союза! Теперь надо дистанцию держать, от всех и от нас в том числе… Не дай аллах, запачкаешься!.. Понял?
– Понял… – в тон ему ответил замполит, с высоты только что полученной информации по-новому оценив поведение командира: «Из-за этого представления он и боится правды об убийстве Тюнькина!»
Вернувшись к себе, Русаков долго вертел в руках злополучную гильзу. «Не удастся ничего доказать, – с горечью думал он. – Нет ни свидетелей, ни улик. А тут ещё командирское «геройство»… Не будь его, Кравченко не стал бы шутить с огнём – скрывать такое преступление. А теперь наверху меня никто и слушать не станет: Герой Советского Союза, как солнце, на нём пятен быть не должно!.. Все усилия напрасны: эту гильзу можно смело выбросить в кучу цветного лома, ещё не вывезенного в Кабул. Так с неё хоть какая-то, миллиграммовая, польза будет…»
Он поднёс гильзу поближе к глазам и вдруг, словно заново, увидел её: на торце, там, где находился пробитый необычным образом капсюль, на ободке легко прочитывались четыре цифры: «59» и «83». «Какой же я тупица!» – вознегодовал на себя Русаков. Эти цифры указывали на год и серию выпуска партии патронов. По ним можно узнать, кому и когда они были выданы.
Начальник оружейного склада, к которому он обратился наутро, долго листал книгу учёта и выдачи боеприпасов, пока не нашёл нужную страницу.
– Патроны поступили в полк в августе прошлого года в количестве двадцати цинков. Тринадцать до сего дня на складе. Семь выданы в третий батальон в декабре месяце. Вот и расписка в получении, и дата, – сообщил он.
Русаков поблагодарил прапорщика и пошёл восвояси, размышляя о том, что ещё одна грань кубика-рубика встала на свое место. Потому-то и не оказалось в гарнизоне пистолета, так своеобразно пробивающего капсюли, что третий батальон дислоцируется отдельно. И это обстоятельство он в своих умозаключениях до сих пор не учитывал.
7
Дорога к месту базирования третьего батальона для бронегруппы из четырёх БТРов заняла часа полтора. С учётом труднопроходимых участков бетонки, – не так уж много. До сих пор у Русакова не получалось побывать здесь: колонны не шли, а одиночное передвижение в районе ответственности полка комдив запретил – душманы активизировались, нарушив прошлогоднее перемирие.
Комбат-три – тридцатидвухлетний майор, с невоенной фамилией Пальчиков, – всем своим видом опровергал любые сомнения в его боевитости. Высокий, плечистый, он с особым шиком носил мешковатую «афганку». Она сидела на нём лучше, чем на ином офицере – парадный мундир. Невзирая на бурую пыль, которой пропитано всё вокруг, башмаки у Пальчикова всегда глянцево блестели, а полевая кепи с защитной кокардой была залихватски заломлена на затылок.
Знакомый с Русаковым по совещаниям в полку, Пальчиков четко, с чувством собственного достоинства (дабы гость не забывал, кто здесь хозяин), доложил, как положено, об отсутствии во вверенном ему гарнизоне происшествий и о том, чем в данное время занимается личный состав. Комбат провёл Русакова по территории своего «глинобитного» хозяйства. Батальон размещался в небольшом, покинутом жителями кишлаке. Это само по себе было необычным – нашим войскам в Афганистане строго запрещалось подобное расквартирование. Но этот кишлак – наиболее возвышенная точка в округе – был признан лучшим местом для базирования. Бойцы Пальчикова (в отличие от остальных подразделений полка, строивших себе жилье, что называется с «первого колышка») сразу же имели пусть саманную, но всё же крышу над головой. Русакову понравился порядок, ухоженный вид жилых помещений, столовая и баня, от помывки в которой у него не хватило духу отказаться: даже в полку такой не было.
После омовения и дружеского ужина Русаков в самом благодушном настроении приступил к комбату с вопросами. Пальчиков спокойно выслушал их, с явным интересом отнёсся к предположениям замполита о насильственной гибели Тюнькина и выразил готовность помочь в поисках.
Утром приступили к проверке. Начали с журнала учёта выхода и возвращения машин в парк, поскольку до полка отсюда можно добраться только на какой-то технике. Русаков в присутствии Пальчикова выписал себе в блокнот все машины, выходившие в рейс в день гибели Тюнькина, а также фамилии старших этих машин и маршруты движения. Таких единиц техники набралось около десятка. Из них только три покидали пределы кишлака: два КамАЗа, выезжавшие за продуктами, и БТР самого Пальчикова. Старшим на КамАЗах был начпрод – седой старший прапорщик. Его маленькая колонна вернулась в кишлак ещё до наступления темноты, что само собой вычеркивало начпрода из числа подозреваемых: по данным Русакова, Тюнькин в это время был ещё жив. Время возвращения начпрода подтверждали десятка полтора солдат, с которыми Русаков побеседовал в курилке. Что же касается комбата, так, по словам Пальчикова, он в этот день был ответственным и проверял выносные посты. Комбат вызвался сопровождать замполита к этим постам, чтобы, как он выразился, рассеять малейшие подозрения.
В путь отправились на бронетранспортере Пальчикова. Экипаж его – два немногословных солдата и сержант-чеченец, ловили каждое слово своего командира.
– «Мультяшки» меня с полувзгляда понимают, – похвастался он.
– Почему «мультяшки»? – спросил Русаков.
– Их так прозвали за маленький рост, они же каждый по метру с кепкой, но солдаты отличные. С такими ничего не страшно!
Оставив БТР на бетонке, поднялись к первому блокпосту, расположенному в километре от кишлака. Подъём на «горку», как назвал склон Пальчиков, отнял сорок минут. Во время подъёма Русаков шёл молча. Пальчиков, напротив, занимал замполита побывальщинами из жизни своего батальона.
– Бойцы зовут мой бэтээр «Летучим голландцем». Считают, что он для духов неуязвим. Никто, пожалуй, не рискнёт в одиночку по этим дорогам мотаться… А мне доводилось… А ещё… – Пальчиков не успел договорить, как их окликнул часовой. Узнав комбата, разрешил двинуться дальше.
– Молодец, – похвалил долговязого таджика со снайперской винтовкой Пальчиков, – караулишь хорошо. Давай сюда командира с журналом проверки.
Из небольшой землянки выскочил заспанный старший сержант, на ходу застёгивая ремень, подбежал с докладом. В журнале, на странице, помеченной днём гибели Тюнькина, Русаков увидел разборчивую запись о проверке блокпоста и подпись Пальчикова. А ниже точное время.
Такие же записи были и на двух других постах, где они с Пальчиковым успели побывать. Время последней проверки всего чуть-чуть не совпадало с часом предполагаемой смерти Тюнькина. Блокпост находился на середине пути между батальоном и полком. Исходя из этого, у Пальчикова было столь же абсолютное алиби, как и у начпрода. Нужен был примерно час, чтобы спуститься с вершины к «броне». Потом ещё столько же времени, чтобы добраться до полка. Следовательно, Пальчиков никак не мог очутиться там во время убийства. Так что «экскурсия» по горам, кроме морального удовлетворения, что симпатичный комбат в происшествии с Тюнькиным не замешан, ничего Русакову не дала.
Вечером снова был накрыт «дастархан», пили араку – рисовую водку, реквизированную при зачистке одного из кишлаков. Пальчиков, в роли гостеприимного хозяина, усиленно подливал «огненную воду» в кружку Русакова, не прекращая побасенок.
– Однажды шманаем караван, – отбросив со лба густой русый чуб, рассказывал он. – И тут из «тойоты» выпрыгивает «дух» и ну дёру в «зелёнку». А у меня под рукой АКМСа не оказалось. Так я его из ПМа с пятидесяти метров снял, хотя во всех таблицах пишут, что у «макарова» убойная сила только на двадцать пять!
– Ну, пятьдесят – это ты загнул, – усомнился Русаков.
– Не веришь? На спор, я и сейчас с пятидесяти метров вот эту посудину расхерачу! – указал Пальчиков на опустевшую бутылку.
Ударили по рукам. Пошли на пустырь. Комбат установил бутыль на камень и старательно отмерил пятьдесят шагов.
– Все честно, без обмана… Смотри, – сказал он, доставая ПМ.
Хлопнули один за другим три выстрела, и от бутылки в разные стороны полетели стеклянные брызги.
– Вот видишь, попал! – азартно, как мальчишка, закричал Пальчиков. Русаков только озадаченно поскрёб затылок – проиграл.
Перед возвращением в дом замполит скорее по привычке, чем по какому-то умыслу, поднял одну из ещё неостывших гильз и разом протрезвел: на её капсюле была такая же двойная пробоина, как и на донышке гильзы, которую он нашёл под окном своего модуля.
8
На рассвете, отправляясь в полк, Русаков холодно простился с комбатом. «Неужели убийца он, Пальчиков? – мысль об этом мучила, как зубная боль. – Но ведь у комбата железное алиби?»
Пальчиков почувствовал перемену в настроении замполита и тоже был сдержан. Официально приложил руку к козырьку и, дождавшись, когда БТРы тронутся в путь, скрылся за дувалом.
Весь день Русаков не знал, как ему поступить. Первое, что пришло на ум: написать донесение в политотдел армии и военному прокурору ТуркВО. Он закрылся в модуле и взял авторучку. Дважды рвал написанное – такими бездоказательными показались ему собственные выводы и подозрения. Что, в самом деле, у него есть? Две гильзы с одинаково пробитыми капсюлями, пуля и бурое пятно на стене… Несколько отрывочных фраз о Жанне, отправленной в Союз сразу после смерти Тюнькина, и факт сокрытия преступления представленным к высшей государственной награде Кравченко…
Но ведь надо ещё доказать, что преступление совершено. Имеющихся данных слишком мало, чтобы в Кабуле поверили его доводам, а не словам Кравченко. Нужны новые свидетельства или свидетели. А пока их нет, надо ждать. Ждать, не подавая вида ни комполка, ни Пальчикову. Впервые Русакову пришло в голову, что если настоящий преступник поймёт, что разоблачён, свести счёты с ним самим ему ничего не стоит: сколько пуль вокруг свистит… Не по такой ли схеме и погиб Тюнькин?.. Русакову стало страшно и мерзко за свой страх. Вспомнились жена и пятилетний сын. Что будет с ними? Он поспешил отогнать эти мысли, решив жить, не опережая событий.
А события стали развиваться совсем не так, как он ожидал.
Через два дня в полку случилось чрезвычайное происшествие, да такое громкое, что взбудоражило не только Кабул, но и Москву. Трое военнослужащих третьего батальона – старший сержант и два солдата, с того самого блокпоста, на котором однажды побывал Русаков, совершили бесчинство по отношению к семье местного учителя – искреннего сторонника Саурской революции. Из-за бутылки виноградной бражки они убили его самого, изнасиловали жену и тринадцатилетнюю дочь и потом задушили их. Эти пьяные мерзавцы не пощадили даже десятимесячного младенца, размозжив ему голову кулаком. Из всей семьи уцелел только старший сын – четырнадцатилетний подросток. Он, раненный выстрелом в упор, притворился мёртвым, а когда насильники ушли, дополз до ближайшего поста местной милиции, царандоя, и рассказал о трагедии. Ещё не проспавшихся убийц взяли под стражу. Они даже не отпирались, только тупо смотрели вокруг мутными глазами.
В полк сразу же понаехало проверяющих разных мастей: из штаба армии и округа, из ГлавПУРа и Министерства обороны. Кравченко и Русаков, сопровождая многочисленных генералов и полковников, встретились друг с другом только на заседании парткомиссии, куда их вызвали вместе с Пальчиковым. Решение партийного суда было довольно странным: два «строгача» с занесением в учётные карточки – замполиту и комбату и «товарищеская критика» – в адрес командира полка.
«Не решились на полную катушку наказать будущего Героя, – так про себя прокомментировал ситуацию Русаков. – Наверное, представление на Кравченко уже в Москве. Никто из местных начальников не берёт на себя ответственность отозвать наградной лист! Оно и понятно, в столице спросят, как же вы кандидатуру отбирали, о чём раньше думали?»
Пальчиков отнёсся к взысканию с юмором:
– Взыскания и накладывают для того, чтобы их потом снимать! Не вешай нос, Русаков! Стерпится – слюбится. Это у тебя выговор первый, а у меня уже два было и ничего – притерпелся…
«Он ещё шутит», – неожиданно беззлобно подумал Русаков, но поддерживать разговор в весёлом тоне не стал, спросил сухо:
– Где сейчас твои преступники?
– На «губе», ждут вертолёт на Кабул. Можешь пообщаться, – раздавил каблуком окурок Пальчиков, – они в слове пастыря сейчас ох как нуждаются!
И хотя Русакову после партийной выволочки вовсе не хотелось разговаривать с виновниками своего позора, он отправился на гауптвахту. Как и предполагалось, беседа с арестованными оказалась малоприятной. Солдат-таджик, черноволосый и долгоносый, как грач, на все вопросы отвечал односложно: «Моя твоя не понимай!» Его соучастник – армянин рядовой Акопян, напротив, был очень разговорчив, но из его бестолковой болтовни Русаков ровным счётом ничего не понял, кроме того, что солдат – человек маленький и делает то, что ему прикажут. Позиция, конечно, очень удобная! Но в данном случае какая-то доля правды в словах Акопяна была: ни он, ни второй солдат организаторами преступления явно не являлись! Беседа с начальником блокпоста затянулась. Старший сержант Дульский, в прошлом детдомовец, – это Русаков узнал, составляя о нём биографическую справку для политотдела, поначалу угрюмо молчал, обхватив голову руками. Постепенно разговорился, сначала о детдоме и о своей сиротской судьбе, потом и по существу дела. Рассказав всё, что произошло в доме учителя, он вдруг заплакал, по-детски, навзрыд. Русаков его не утешал… Когда сержант немного успокоился, спросил его о другом:
– Помнишь, я к вам на пост приезжал?
– Так точно, – хлюпнул носом Дульский.
– А скажи, только честно, как вас начальство проверяло? Неужели каждый раз проверяющие на гору взбирались? Трудно ведь…
– Ага, трудно. Только ведь никто, кроме начальника штаба, на гору и не лазил…
– Хм… а как же записи в журнале?
– Я сам с журналом проверки спускался вниз, к дороге, когда мне по рации вызов дадут… Офицеры ведь постарше меня будут… Зачем им на гору лезть!
– И там, внизу, проверяющие делали записи и время проверки ставили… Такое, которое понадобилось бы, чтобы к тебе на вершину подняться… – закончил за Дульского Русаков, про себя делая вывод, что признание старшего сержанта вдребезги разбивает казавшееся несокрушимым алиби комбата. Он заставил Дульского написать всё в объяснительной записке на имя прокурора округа и, засунув сложенный вчетверо лист в карман «афганки», вышел из камеры.
9
Пальчикова, которому сейчас Русаков очень хотел заглянуть в глаза, у штаба дивизии не оказалось. Комбат-три уже укатил к себе, в горы. «Ничего, мы ещё встретимся…» – подумал Русаков. Но вышло совсем иначе. К вечеру у него поднялась температура.
С подозрением на тиф он был госпитализирован и отправлен в Шинданд. Там диагноз подтвердился, и он на пару месяцев оказался изолированным, оторванным от своего полка, от всех событий, которые так волновали.
Месяцы в госпитале остались в памяти Русакова жуткой толчеей, отвратительной кормежкой и полной антисанитарией. Как в таких условиях люди умудрялись выживать да еще и выздоравливать – было для него ещё одной тайной русского характера.
Однажды, когда он сам пошёл на поправку, его, гуляющего в чахлом госпитальном саду, окликнули. Обернувшись, он увидел солдата на костылях и долго не мог вспомнить, где и когда встречался с ним.
– Я – водитель бронетранспортера майора Пальчикова, – напомнил тот.
– Точно, «мультяшка», – обрадовался Русаков однополчанину и тут же насторожился: – Что с тобой?
– На фугас наскочили три недели назад… Нету больше нашего «Голландца»…
– А что с Пальчиковым? С комбатом что? – перебил Русаков.
– Товарищ майор сразу погибли… Их всего осколками посекло…
– Как же так… погиб! Мне же с ним…
– Я к вам по делу, товарищ майор…
– По какому делу?
– Письмо у меня к вам. От комбата. Мы его в нагрудном кармане нашли. Так и написано на конверте: «Майору Русакову. Вручить после моей смерти».
– Где оно? – встрепенулся Русаков.
– Здесь. У меня в тумбочке лежит. Сейчас принесу, – солдат заковылял в сторону палаты.
– Подожди, я с тобой, – Русакову не терпелось скорее получить послание.
По пути солдат рассказал:
– Остальных наших, кто в БТРе был, сильно поувечило. Их сразу в Союз отослали. А у меня так – сквозное. Доктор говорит, скоро плясать буду. Вот ребята мне и поручили вас найти, волю последнюю комбата исполнить. Он у нас мужик мировой был.
Конверт, который получил Русаков, был сделан из грубой серой бумаги, в нескольких местах посечён точно бритвой и запятнан кровью.
«Русаков! – прочитал он первое слово, обращённое к нему, и перед глазами встало улыбчивое лицо Пальчикова. – Это письмо попадёт к тебе, когда я буду уже далеко. Так далеко, откуда не возвращаются. Потому нет смысла больше кривить душой. Самому эта ложь надоела».
«Ты был абсолютно прав, – писал дальше Пальчиков, – думая, что Тюнькин умер не от рикошета своей собственной пули во время салюта. Только полный дурак мог придумать подобную нелепицу и надеяться, что кто-то поверит. Ты прав и в том, что Тюнькина убили, и в том, да-да, я заметил, что подозревал в убийстве меня. Я действительно убийца. И потому что, как все, участвую в этой грязной войне, и потому, что отправил на тот свет ни в чём не повинного человека.
Теперь детали. Для тебя, чтобы не впутывать в эту историю посторонних. Тебя, конечно, интересуют причины… Ты же хочешь до сути докопаться. Так вот, во всём виновата любовь (здесь можешь посмеяться: банально, но это – чистая правда). Действующие лица тебе уже известны, по крайней мере, ты можешь о них догадываться: она – Жанна Хлызина, он – твой покорный слуга, а третий лишний – все остальные.
Я знал про неё всё: что спит она с каждым вторым за подарки. И даже то знал, что ей до меня дела никакого нет. Но ведь бывают в жизни мужиков роковые женщины, которых раз увидишь и всё – пропал. Жанка для меня именно такой оказалась. Ревновал её ко всякому столбу, бесился, а забыть не мог…
В тот проклятый вечер она сама мне впервые свидание назначила. Через начпрода моего, ты помнишь, ездил он в полк, записку передала: так, мол, и так, жду, люблю, целую. Ну, я, конечно, сорвался к ней. Один, на своем бэтре. Что мне духи, засады, если меня женщина ждёт! По пути, будто чуял, для подстраховки заскочил на посты, в журналах отметки сделал. Если кто хватится, где комбат, есть оправдание – службу контролирует… И потом на всех парусах к Жанке полетел. «Мультяшки» меня мигом домчали. Сами с «Летучим голландцем» в ложбинке притаились, чтобы не светиться. У нас этот манёвр отработан давно. Я знал, мои ребята меня никогда не сдадут, хоть огнём пытай. Метнулся к столовой с заднего хода – нет там Жанки. Обогнул здание. Смотрю, а вот и она – через плац мимо казарм – вместе с подполковником Тюнькиным к модулю его идёт. Он перед ней дверь так галантно открывает, вперёд пропускает и сам следом… У меня аж дух зашёлся: «Ах, ты морализатор вонючий… Перехватил!» Заглянул в модуль через окно, вижу: сидит на замполитской кровати Жанна и улыбается. А Тюнькин перед ней, руки в боки, лица не видно. Да и на что мне оно, если Жанкина улыбка (если бы ты знал, Русаков, какая у неё улыбка!) прямо перед глазами…
Тут Тюнькин руки к Жанне протянул – ах ты, собака! Выхватил я пистоль да и жахнул в лысеющий его затылок! Всё остальное, будто со стороны, увидел: пуля моя мозги Тюнькина на стенку вынесла. Жанка завизжала, потом меня увидела, обмерла, побелела, губы дрожат. Шепчет что-то, вроде того, что ничего у неё с замполитом не было, что он её на беседу пригласил, а она меня одного любит… А я грязно выругался и дёру дал. Похоже, никто меня не заметил – стемнело уже. Примчался к бэтру. Скомандовал «мультяшкам»: «Вперед!» и – в родной батальон. Затаился, жду последствий. Решил: «Живым в руки прокурорским не дамся! В тюрьму не пойду!» День проходит, второй. Всё тихо.
Что было в полку, знаю по рассказам друзей-комбатов: происшествие с Тюнькиным представили несчастным случаем. Жанка, видимо, никому ничего не сказала. Никому, кроме Кравченко. А у того, сам понимаешь, свои резоны шум не поднимать: как-никак, Героя ждёт… Чтоб всё шито-крыто оставалось, и спровадил он любовь мою в Союз, и меня не тронул… Разве что батальон стал всё чаще в самые опасные операции пихать. Может, надеялся, что погибну? Радуется теперь, поди… Бог ему судья…
Вот, кажется, всё тебе и рассказал. Снял с души камень. Теперь мне, и мёртвому, легче будет. А ты, Русаков, постарайся выжить. И не поминай меня лихом».
И подпись – «Пальчиков».
Русаков долго сидел над письмом. В нём боролись сострадание к Пальчикову, конечно, совершившему страшное преступление из-за своей любви, но собственной гибелью и предсмертным покаянием заслуживающему если не прощения, то хотя бы понимания, и чувство долга по отношению к коллеге Тюнькину, бывшему так же, как сам Русаков, «человеком системы». Проходившая мимо санитарка позвала его на ужин. Вместо столовой он прошёл в свою палату, достал из тумбочки тетрадный листок и чётко вывел на нём: «Прокурору Туркестанского военного округа. Заявление».
10
– Что же было потом?
– Приезжала в полк прокурорская проверка. По случаю гибели обвиняемого, дело замяли… Русакова после госпиталя назначили на другую должность, с повышением. Я его больше не встречал.
– А геройское звание?
– Мне скоро замена вышла. Планировал в Ленинград, а попал в ЗабВО. Как-то ехал в Москву, в командировку. В Свердловске в купе ко мне подсел полковник. Разговорились. Оказалось – кадровик, тоже бывший «афганец». Мы с ним примерно в одно время за «речкой» служили. Он-то меня и просветил насчёт того представления. Оказывается, прокурор округа вышел на члена Военного совета армии, убедил его позвонить в наградной отдел ЦК и отозвать мое представление…
– Обидно…
– Да нет, по совести если, всё правильно. Это я теперь, спустя время, понимаю: кровавая получилась бы награда, на убийстве замешанная. Такая ни славы, ни счастья не приносит! А Тюнькин был награжден посмертно. И это справедливо. Он и Русаков – люди на войне не последние. Они всю эту бойню, с её грязью и кровью, хоть как-то очеловечивали, и остальным пережить помогали… Жаль, мало таких…
– Отчего же жаль, если без Звезды остался?
– Ну, ты, брат, и вопросы задаёшь! Не маленький, сам знаешь…
Праздничная ночь
Три вещи губят офицерскую карьеру: карты, водка и женщины. Так на заре туманной лейтенантской юности наставлял меня один начальник.
Что касается карт… Опасаюсь азартных игр и никогда не играю (наверное, потому, что сам азартен)… Женщины – это разговор особый (но об этом чуть позже). А водка? Пью по праздникам да и в будний день, если компания стоящая… «Ничто человеческое нам не чуждо», – так, кажется, у классика…
Правда, на службе – ни грамма! Впрочем, грешен, братцы, был один случай – нарушил эту заповедь. И вот по какому поводу…
Несколько лет назад, в канун Восьмого марта, о котором мой преподаватель по академии написал стишок:
Иду домой, несу цветы, И мысль одна свербит в затылке: «А вдруг на женский праздник ты Купить забыла мне бутылку…» —оказался я и без цветов, и без бутылки – ответственным по политотделу дивизии.
«Дивизия», к слову, одно название – «кадр»: офицеров – полный штат, а солдат и батальона не наберется. Но представительные органы все, честь по чести: штаб, политотдел, партучёт и т. д. и т. п. Вот по этой «куцей» воинской части и заступил я ответственным. Или, справедливее сказать, безответственным, так как никакими уставами пост сей не предусмотрен и не регламентирован, а является изобретением какого-то начальника перестроечной эпохи. На деле всё выглядело так: ходи себе по территории части целые сутки, «пинай воздух» и не мешай дежурному офицеру, который и так заинструктирован до предела (праздник как-никак)…
Но поскольку над каждым «безответственным», по железной армейской логике, должен быть «безответственный» рангом повыше, рядом со мной «пинал воздух» Серёга Игнатенко – командир соседнего полка, тоже «скадрованного». Серёга – подполковник, я – майор, но мы с ним – на «ты». Он мне не прямой начальник. По возрасту – почти ровесники. Да и «афганские» воспоминания связывают. Соратник по праздничной ночи, что надо!
Игнатенко – высокий, широкоплечий блондин, с открытым лицом, кажется этаким добродушным увальнем. Увидишь без формы и регалий – ни за что не поверишь, что в Афгане горным батальоном командовал. Да ещё как! Орден Красной Звезды привез… А сам – ни ранен, ни контужен. Значит, за геройство представлялся и за командирский талант…
Серёга устал от бестолкового брожения первым:
– Слушай, Вить, пора наше патрулирование заканчивать. Бойцы уже давно десятый сон видят. Наряд службу блюдёт. Давай и мы «червячка» заморим…
Мне наше полуночное бдение, честно сказать, тоже порядком обрыдло, поэтому откликнулся с готовностью:
– Нет возражений!
– Тогда потопали в мой кабинет, там теплее.
Кабинеты у нас в одном здании, но на разных этажах: у меня – на первом, у Игнатенко – на втором. Если верить закону физики, гласящему, что тепло поднимается вверх, то у Сереги, точно, должно быть теплее (хотя батареи не греют ни у него, ни у меня).
Предупредив дежурного, где мы есть – мало ли что случиться может: тогда, невзирая на «безответственность», штаны со всех троих спустят, – расположились в тесной каморке Игнатенко на деревянных табуретах. Развернули «тормозки» со снедью. Харч у обоих оказался самый что ни на есть армейский – хлеб да сало. Не расстарались подруги наши боевые, провожая мужей на службу… Понятное дело: на другой вариант рассчитывали, чтобы – рядом да за праздничным столом. А тут… Женщины почему-то в этот праздник особенно остро на разлуку реагируют. Но ведь и нам не легче… Тоска. Бутерброды «насухую» в горло не лезут. Эх, сейчас бы…
Мы, очевидно, подумав об одном, переглянулись.
– Что-то не праздничный ужин у нас получается… Даже аппетит пропал. Может, дёрнем по маленькой?.. У меня есть… – Игнатенко открыл сейф и достал бутылку «Белого аиста».
Я только языком прицокнул, мол, ты даешь, командир! Но тут же замполитский тормоз сработал: «А не влетит нам…»
– Не боись, комиссар, семь бед – один ответ. А потом, здесь я – старший… – Серёга ловко выдернул пробку. Мы сдвинули солдатские кружки. Первый тост гусарский: «За дам-с!»
Коньяк обжёг гортань. На душе потеплело. Не от спиртного – от мыслей о женщинах… «Всё-таки удивительный это народ – слабый пол!»
Игнатенко продолжил:
– Знаешь, Вить, только на войне и понял, что женщина для мужика значит…
Так и начался наш ночной разговор, который я запомнил навсегда.
– Я в Афгане, – зачем-то понизив голос, сказал Серёга, – хоть верь, хоть не верь – два года без «пэпэжэ» (походно-полевая жена) прожил. Не потому, что святой такой. Сам знаешь: все мы – не ангелы… Первые полгода от желания аж скулы сводило… Поначалу, конечно, не до баб было: пока батальон принимал, на первые боевые сходил… А потом – три месяца без «командировок» на базе – в голову всякая блажь полезла… На фотку Людки посмотрю – волком выть охота! А кроме фотки, никаких женщин во всей округе нет: ни наших, ни афганок. Ещё бы был гарнизон как гарнизон, где-нибудь в центре провинции… Так нет, мой батальон на перевале, на самой верхотуре посажен. Зона ответственности – нефтепровод афганский. Мы, значит, от «духов» его стеречь должны… Понятно, у тех, кто внизу, к штабам поближе, и машинистки, и прачки, и поварихи в столовых – весь этот «спецконтингент» в юбках… А к нам в горы кто женщину направит? Для неё здесь и удобств никаких: мы с солдатами наравне по землянкам ютимся. Но нам и так сойдёт, а для неё ни сортиров, ни бань отдельных не предусмотрено. И потом, стреляют у нас почаще, чем на равнине… Так что вольно или невольно вели аскетический образ жизни.
Я съехидничал:
– От такой жизни и до онанизма – один шаг…
Серёга даже не улыбнулся:
– И вот, под самый Новый год, получил я приказ – закрыть перевал. Что уж там стряслось: моджахеды начали какую-то операцию или наша совдеповская перестраховка сработала, не знаю. Только приказ есть приказ – мои архаровцы мигом БТРами дорогу перегородили. Дозоры, посты дополнительные выставили – всё как положено… Когда совсем стемнело, мы с замом – Санькой Духониным обошли наше хозяйство, солдат с наступающим праздником поздравили, караулы проверили. Собрались накрывать «дастархан» по случаю Нового года, и тут заваливается в землянку лейтенант, командир дежурного взвода, и с порога грохочет:
– Товарищ майор (подполковника я уже в Союзе получил), к вам женщина…
«Неужто галлюцинации начались?»
– Какая женщина? – строго так спрашиваю.
– Наша, советская, – с готовностью докладывает взводный, а у самого глаза, как у мартовского кота, блестят.
– Ладно, если наша, давай её сюда!
Не прошло и полминуты, появляется – эх, Витек, видел бы ты! – Снегурочка, краса ненаглядная… Или мне это с голодухи показалось… Ну, в общем, глаза, улыбка – всё при ней! Женщина! Наша, российская. Только порог переступила, в землянке словно посветлело, настоящим праздником запахло. Понимаешь, есть у женщин свойство такое – жизнь делать ярче, радостней…
Я с топчана привстал. Обращаюсь к незнакомке, стараясь придать голосу надлежащую важность:
– Кто вы?
– Лида, – отвечает она просто и руку мне протягивает.
А я, Вить, поверишь, уже забыл, как с женским полом обходиться. С бойцами-то чаще, чем на русском литературном, на командно-матерном общаемся… Так вот, вместо того чтобы ручку эту поцеловать или хотя бы пожать для приличия, уселся обратно на топчан и свой допрос продолжаю:
– И откуда вы взялись?
У Лиды уже слезинки на глазах наклюнулись:
– Из госпиталя я, медсестра. К жениху меня на Новый год отпустили. Вместе встретить хотели, а тут БМП попутная…
– И где ваш жених? – несколько смягчаю я тон. – Да вы присаживайтесь, – наконец вспоминаю о светских манерах.
Духонин девушке табурет придвинул, а та своё:
– Некогда мне, товарищ майор. Надо к полуночи до «точки» добраться. Жених там взводом командует… – и называет такой блокпост, куда теперь не то что на БМП, но и на «вертушке» не поспеть!
– Да вы соображаете, барышня, что говорите? – снова прорываются у меня покровительственные нотки. – Мы ведь здесь не в бирюльки играем. У меня приказ комдива до завтрашнего утра закрыть перевал и никого – ни в ту, ни в эту сторону… Так что пропустить вас я не имею никакого права…
Игнатенко прервал свой рассказ, плеснул в кружки коньяку. Выпил, не дожидаясь меня. Уставился в окно кабинета, за которым льнули к стеклу крупные хлопья мартовского снега.
– И ты не пустил, Серега? – мне не терпелось узнать продолжение истории.
– Не пустил… Плакала она, обещала генералу знакомому пожаловаться… Не пустил, и всё! Да как я мог девчонку эту и экипаж БМП заведомо под пули подставлять? Ты же сам воевал, знаешь: перевал – моя зона ответственности… Жизнь человеческая дороже, какая б там любовь ни была…
– Так оно, конечно, – согласился я. – И что же Лида?
– Порывалась обратно ехать. Да куда? Кругом – ночь. Потом стрельба где-то неподалёку началась… В общем, осталась она в батальоне Новый год встречать. Гостьей поневоле… Уж не знаю, как бы мы с её кислым настроением боролись, да солдаты мои выручили.
Только-только наши «разборки» закончились, вдруг стук в дверь. Распахиваю, а там – целая солдатская делегация. Впереди сержант Аркаев.
– Товарищ майор, разрешите обратиться? – вскинул руку под козырек напяленной не по погоде «афганки».
– Обращайся, – тихо удивляюсь я. Вообще-то, взаимоотношения на перевале более демократичные, без излишней субординации. Но тут, видно, случай особый…
– Товарищ командир, вас, всех товарищей офицеров и… – сержант замялся, не зная как назвать Лиду, – и нашу гостью, – наконец-то нашёлся он, – приглашаем на концерт художественной самодеятельности.
«Какая самодеятельность? – ломаю голову. – Ни о чём подобном речи не велось. Кому её организовывать? Замполит – в отпуске. Прапорщик Зенин – комсорг батальона – в госпитале, с гепатитом…»
Прошли мы в солдатскую столовую – самое большое крытое сооружение в гарнизоне. А там – весь личный состав батальона, кто не на постах и не в наряде, конечно. На скамейках, на земляном полу (кому места не хватило)…
Провёл нас Аркаев, усадил на специально освобожденную для почётных зрителей скамью, а сам юркнул за серые, из простыней, кулисы…
А я тем временем огляделся. И вот что заметил: у всех солдат головы, как подсолнухи к солнцу, к Лиде обращены. И что важно, все – побриты, подшиты, застёгнуты по форме. Вот заразы! Я ж от них такого единообразия полгода на строевых смотрах добиться не мог!.. А здесь, как один – образец внешнего вида и строевой подтянутости. Орлы, герои! Вот, Вить, что такое женщина…
Тут распахнулся занавес и заиграл вокально-инструментальный ансамбль. Импровизированный, неподражаемый. Гитары, балалайка, ударник из ротного барабана и алюминиевых тарелок (ещё начальник столовой задаст энтузиастам нагоняй!)… Я другого такого концерта не видел и не увижу, конечно. Были в нем и авторская песня, и самодеятельные стихи, и даже выступления акробатов. Откуда таланты взялись?
Смотрел я и думал, что это всё не ради нас, офицеров, не ради ребят-сослуживцев совершается, а каждый номер, каждое выступление, для неё – Лиды. И не потому даже, что она такая нечаянная, такая красивая, родная… Нет. В ней сегодня – символ той единственной женщины (реальной или воображаемой) заключён, который каждому из нас, как надежда на лучшее необходим…
И она сама, видимо, поняла, что для всех значит. Заулыбалась. Щёки порозовели. Прелесть да и только!..
Игнатенко умолк, снова переживая тот вечер.
Настала моя очередь разливать коньяк.
Выпили. Закурили.
Я не торопил Серёгу. Понял: не стоит. Что-то важное ещё впереди.
И верно, ткнув окурок в самодельную пепельницу, сработанную полковым умельцем из лесной коряги, он заговорил снова:
– А потом было застолье. Для узкого круга: я, Духонин, начальник штаба и Лида. Пили спирт, травили анекдоты. Потом на песни потянуло… Далеко за полночь засиделись в моих апартаментах. И не только оттого, что праздник, а мысль одна потаённая всех мужиков свербила: с кем эта женщина сегодня будет? Кому из нас троих судьба новогодний подарок преподнесёт?
Я и замы мои – все одногодки, и желанья мужские у всех, надо полагать, схожие…
Лида, девочка эта, сердиться за прерванное путешествие уже перестала, поняла, что жизнь ей сберегли… Ласково, кокетливо на нас поглядывает. Вроде как все мы симпатию вызываем… Но есть одно «но»: здесь я – хозяин… Закон гор, войны, если хочешь… Как скажу, так и будет! И для всех это ясно. И для Духонина, и для Мишки Чеснокова, и… для Лиды.
И что, казалось, маяться: сама судьба всё по своим местам расставила. В землянке моей я живу на пару с замполитом, а он – в отпуске. Топчан свободен. И хоть взглядом, хоть кивком дай знать мужикам, поймут и уйдут (командир – он и в Африке командир!).
А Лида, пусть и поартачится для порядка: мол, жених, трали-вали, но ведь не из института же благородных девиц сюда попала (таких «за речку» не берут!)… А потом я поддал, она тоже навеселе…
Мерзкие мыслишки, конечно. Но говорю как было. Всё это у меня в считаные секунды в голове промелькнуло. И тут представил, как мужикам, забывшим, как женские подмышки пахнут, будет там, за стенкой, когда я здесь с ней… Получится что, не получится, не важно. Но как я потом буду им в глаза смотреть, если сейчас воспользуюсь командирским правом?
И всё решилось само собой.
– Ладно, – говорю, – ребята, пора и честь знать. Ну-ка, Митрий, помоги мне топчан вынести. Я сегодня у вас ночую…
Откланялись мы. Улеглись втроём в землянке у замов. В тесноте, да не в обиде. Проворочались до рассвета. Так, по-моему, и не заснул никто. Но встали, как и легли, друзьями, однополчанами…
Зашёл я на правах хозяина Лиде доброго утра пожелать, с наступившим Новым годом поздравить. Вижу, и она не спала. Сидит на топчане по-турецки, глаза красные.
Увидела меня, бросилась на шею, целует, а сама быстро-быстро шепчет:
– Спасибо тебе, Серёженька! Я этого никогда не забуду…
Игнатенко отвернулся к окну, за которым уже брезжил тусклый рассвет.
Мне очень хотелось узнать, что стало с Лидой потом, встретилась ли она с женихом, какова их дальнейшая судьба? Но спрашивать не стал.
Берёзка
Компания была тесной. Мужской. Потому и разговоры крутились вокруг войны, политики, женщин. О последних, к слову, говорили не ради них самих, а по отношению к первым двум темам: войне и политике.
Засиделись, как это бывает у давно не встречавшихся друзей, далеко за полночь.
Я – холостяк. Они – женатые люди. А посему, для порядка, пошли звонить их благоверным: объяснять, где задержались в такое время.
Юра Яковлев отчитался успешно, без нервных потрясений. То ли супруга уже привыкла к его поздним возвращениям, то ли у них в семье – домострой…
Сергею Игнатенко – не повезло. Пока мы с Яковлевым переминались с ноги на ногу, прицеливаясь, в какой «комок» податься за очередной порцией «брынцаловки», Игнатенко что-то смиренно объяснял извергающей на него праведный гнев телефонной трубке.
Он стоял к нам спиной – большой, с трудом помещающийся в будке, но даже по спине чувствовалось, насколько ему неуютно. Он запинался, оправдывался, словно нашкодивший школьник.
За годы нашего знакомства я не раз бывал у него дома и знал нрав его «половины».
Людку – хрупкую, рыжеволосую женщину с большущими, на пол-лица, голубыми «брызгами», как ласково именовал их Сергей, можно было с полным основанием назвать обычной офицерской женой. В восемнадцать вышла замуж за свежеиспечённого лейтенанта-мотострелка. В двадцать – родила ему сына. Вместе с мужем сменила тринадцать гарнизонов. Профессии не имела. И задачи у неё не было, кроме как ждать, встречать и провожать мужа да воспитывать сына, которому доводилось папку видеть чаще на фотографии, чем воочию. И хотя, как большинство офицерских жен, она про странствия с Игнатенко говорила красиво: «Мы служили…», ей за эту «службу» звёзд и наград не давали, а трудностей хватило сполна… Может, потому и нервишки у неё к сорока годам расшатались, и характер заметно испортился. Редкое застолье у Игнатенко проходило гладко. То она придерётся, что муж лишнюю рюмку выпил, то начнёт выговаривать, что ей внимания недостаточно уделяет… Начнет с простого упрёка, потом закипятится, разгневается. Лицо покраснеет, а пресловутые «брызги», напротив, небесную окраску утратят, сделаются бесцветными, пронзительными…
Вспомнил я это – не удержался:
– Как ты терпишь всё это, брат? Людка тебя поедом ест, а ты ещё и оправдываешься…
Сказал и тут же пожалел: как-то не по-мужски получилось. Да и кто вообще имеет право в отношения супругов встревать?..
А Сергей возьми да улыбнись в ответ:
– Не ест меня Людка, а поливает…
– Это точно, поливает. Да ещё как… – поддакнул Яковлев.
– Эх, ничего вы, братцы, не знаете. Тут история давняя… Так и быть, расскажу… Берите пузырь. Людка индульгенцию ещё на пару часов выдала…
Мы купили водку. Вернулись в дом. Расположились на уже обжитой нами кухне. Опрокинули по стопке, и Сергей начал рассказ.
– В Афган меня откомандировали неожиданно, вместо «отказника». Редко, но встречались и такие. Сначала при беседе с кадровиками даёт согласие на спецкомандировку, а потом, перед самой заменой – в кусты.
Я служил тогда комбатом в Мукачево, в Закарпатье. Был конец мая, по местным меркам, уже лето… Вдруг звонок из штаба дивизии: «Готовьтесь, поедете на юг». Что такое «юг», тогда, в восьмидесятом, уже все прекрасно знали: значит, «за речку» и дальше Кушки. Ну, а «готовьтесь» – это так, для успокоения: через три дня должен быть уже в Ташкенте, в штабе ТуркВО. Три дня на всё. И должность сдать, и семейные дела уладить. На службе отнеслись с пониманием: сдачу батальона быстро провернул. А дома Людка, понятно, в слёзы… Как её утешить? Не знаю как…
Поехал в ближайший лесок, вырыл берёзку полутораметровую, привёз в гарнизон, к нашему ДОСу. Перед подъездом выкопал яму и туда её, белоствольную, посадил. Соседи в голос: «Поздно уже деревья сажать. Не приживётся!» А я Людке тихо, на ушко говорю: «Хочешь, чтобы я вернулся, смотри за деревом. Завянет, значит, и мне – крышка…»
Так вот и простились. Улетел я в Ташкент, оттуда – в Афган. Командовал горно-пехотным батальоном. Вы знаете, что это такое. Из рейдов практически не вылезал. Бывали, впрочем, ситуации и пострашней…
Однажды приходит ко мне советник ХАД (военной контрразведки) и говорит:
– Алексеич, необходимо провести встречу между руководителями банд нашей и соседней провинции – Ташкурган. В Айбаке и Дарайзинданском ущелье с «духами» договорённость достигнута. Если сумеем свести саманганских и ташкурганских «бабаев», будем контролировать всю ситуацию в нашей части Афганистана. Условия встречи определяют «духи». Место – Ташкурган. Соберутся все главари банд. Гарантом безопасности они хотят, чтобы выступил ты. И больше никого… Сам понимаешь, риск большой. Поэтому решать тебе – как скажешь, так и будет.
Надо заметить, что мой батальон был единственной боевой единицей, способной повлиять на ситуацию в провинции. Поэтому условие «духов» мне было понятно.
Однако чтобы пойти на участие в переговорах, я должен доложить по инстанции командиру полка рапортом, как положено, дождаться его резолюции, а потом уж рисковать… Но времени для этого не было: выезжать надо было завтра утром.
– Я поеду. Каковы гарантии для меня?
– Гарантий для тебя нет никаких. А условия такие: губернатор провинции даёт уазик с афганскими номерами. Ты – за рулём, но для страховки можешь взять с собой одного бойца, желательно таджикской национальности…
Так я и сделал. Взял с собой преданного солдата-таджика по имени Телло (что в переводе – «золото»). Понимал, что втягиваю парня в смертельную авантюру, поэтому сказал:
– Ты можешь отказаться – мы едем на опасное дело.
– Я поеду.
Рано утром к нашему КПП подогнали уазик. Я сел за руль. В «собачник» забрался Телло. У него радиостанция для связи (хотя действует она километров на восемь-десять, а мы к «духам» выдвигаемся на двенадцать, так что, случись что, всё равно нас никто не услышит).
– Телло, у нас с этого момента одна жизнь на двоих. Ты язык «духовский» знаешь, я – нет. Если услышишь, что-нибудь подозрительное, покашляй несколько раз.
– Я всё понял, командир.
Подъехали к месту, которое назначили хадовские советники. Из дома вышли три бородатых «духа» с автоматами. Мы поздоровались по-афгански:
– Хубости-чатурости. Харасти-бахарасти.
Так они говорят, прикладывая руку к сердцу. Переводится это довольно длинно: «Как твой дом, как твоя жена, как твои дети…»
Я в знак миролюбия поднял правую руку. Они уселись в машину: двое на заднее сиденье, а один рядом со мной. Поехали. У меня на душе кошки скребут: а может, эта встреча просто засада?
Доехали до нашего последнего блокпоста, а дальше уже «духовская» территория.
Чтобы вам было понятно, объясню. Ташкурган расположен на границе гор и пустыни на площади около восьмидесяти квадратных километров. Этакий огромный оазис с шахским дворцом посредине. Наших поблизости нет, за исключением пограничников, но они, как правило, в перестрелки не ввязываются. Одним словом, надеяться не на кого.
Ну, вот, заезжаем мы в Ташкурган. Виляем по улочкам. Сидящий рядом бородач показывает рукой: направо, налево. А я стараюсь запомнить маршрут, чтобы не заблудиться, если придётся вырываться с боем. Наконец бородач поднимает руку:
– Саиз! (Здесь!)
Я останавливаю машину на небольшой площади, но двигатель не глушу. Смотрю, к нам шагают человек двадцать, все бородатые и все вооружены. Наш «дух», который сидел за штурмана, вышел из машины, о чём-то с ними переговорил и делает мне знак выйти. Я вышел. Бородачи осмотрели меня с головы до ног и подняли правые руки в знак того, что принимают меня как гаранта. Оставшиеся афганцы, что ехали с нами, тоже вышли и вместе с хозяевами удалились в дом.
Я вернулся в машину и потихоньку озираюсь. Вижу моджахедов за дувалами с оружием наизготовку. Говорю Телло:
– Приготовь гранаты. Если начнётся бой, нам отсюда не уйти. Будем драться сколько сможем. Но и их побольше с собой заберём.
– Хорошо, командир.
Сколько времени прошло, не скажу. В таких ситуациях у времени особый счёт. Вдруг из-за дувала выходит к нам «бабай»:
– Уезжайте, переговоры закончатся в час. К этому времени и приедете.
Я медленно разворачиваю машину, спиной чувствуя, у скольких «духов» мы на мушке, и начинаю выезжать. Причём знаю: есть территория, контролируемая нами, есть та, которую контролируют они, но есть и просто «беспредельщики», которым один Аллах судья. Если нарвёмся на таких, нам – крышка!
Но пронесло. Выехали из кишлака, добрались до блокпоста. Пообедали. Ротный спрашивает:
– Как вас вытаскивать, если…
Что ему сказать? Ташкурган не смогла взять дивизия вместе с маневренной группой погранцов и десантурой… Куда тут с ротой соваться!
Короче, в половине первого поехали назад. Дорога уже знакомая. Но пулю-то всё равно ждёшь: откуда прилетит? У машины хоть и афганские номера, но за рулем – русский (блондина от брюнета любой бача отличит).
Подъехали. Встали. Справа, слева наблюдаем присутствие «духов» и ощущаем их неподдельный интерес к нам.
Проходит полчаса, а парламентёры не показываются. Проходит ещё двадцать минут – никого. А мы по-прежнему на мушке. У меня мысли всякие: «Может, переговоры не состоялись. Может, наших “бабаев” уже убрали. Теперь наш черёд…»
В половине третьего вышел из-за стены какой-то старик и прямиком к машине. Ситуацию отслеживаю, словно кадры в кино. Подходит он и кидает мне на колени скрученную записку. Я разворачиваю её, а там цифры: «15.00». Понимаю, что надо подождать ещё полчаса. Напряженность нарастает…
В 15.05 появляется толпа бородачей, и я вижу, что среди них нет приехавших со мной.
– Готовься, Телло…
– Я готов.
Они подходят к машине, окружают, оживлённо переговариваются. Я спрашиваю солдата:
– В их словах есть угроза?
– Пока нет, командир…
– Тогда подождём…
Наконец из-за незнакомцев вынырнули парламентёры. Опять длительное прощание с хозяевами. Потом «бабаи» садятся в машину.
– Телло, спроси: мы – в безопасности?
Тот перевёл вопрос, а потом ответ:
– Они утверждают, что в безопасности.
– Это гарантированно?
– Да.
Я вырулил на обратный курс. Доставил бородатых туда, куда они пожелали и – в свой гарнизон. А там уже ждут представители ГРУ и КГБ:
– Как прошли переговоры?
– Не знаю. Я просто живой вернулся…
Сергей сделал паузу. Потом сказал:
– Поверите или нет, но рядом со смертью был два года: изо дня в день. Навидался всякого: и в засады попадал, и из окружения прорывался. Но одно скажу, в каких бы переделках ни оказывался, не маму, не Бога, а Людку свою в такие моменты вспоминал. Ей молился: «Если ты мне сейчас не поможешь, то никто не спасёт»… И вот, прошёл всю войну без единой царапины и даже заразы никакой – болезни, в тех местах распространенной, – не подхватил.
Короче, цел и невредим остался.
Вернулся в Мукачево, как и уезжал, в самом начале лета. Подхожу к ДОСу и, первое, что увидел, берёзку мою. А она, ребята, аж под второй этаж вымахала…
Потом соседи рассказывали, как Люда деревце это выхаживала. По три раза на дню поливала, от пацанов, футбол гонявших, грудью заслоняла, словно с подружкой с берёзкой разговаривала…
С той поры и повелось – зашумит Людка, забранит меня за что-нибудь, а я сам себе говорю: это она меня, как ту берёзку, поливает. Значит, любит ещё, волнуется, жизнь мою бережёт.
Сергей умолк. Мы, не сговариваясь, подняли чарки. Выпили. Без тоста. Просто так. И мужики как-то вдруг засобирались. Мол, время позднее, пора и честь знать.
Я проводил их до перекрёстка. Поймали такси. Ребята укатили.
А я побрёл в сторону дома, где меня никто не ждал.
Кукиш
Взводу лейтенанта Алексеева была поставлена задача: организовать засаду на пути возможного отхода бандгруппы, которую основные силы батальона блокировали в кишлаке. Алексеев прибыл из Союза месяц назад и «в горы» шёл впервые.
Впереди топал рядовой Фокин, «дед», который уже отсчитывал свои «сто дней до приказа». Фокина комбат называл не иначе, как «Мальчик из Уржума» – а откуда это прозвище, Алексееву было неведомо.
На одном из поворотов едва заметной тропки узкого ущелья Фокин резко остановился. Алексеев ткнулся в его спину.
– Фокин, ядрит твою, чего тормозишь!.. – вполголоса ругнулся Алексеев.
– Мина, товарищ лейтенант! – по-волжски окая, радостно доложил Фокин.
– Где? – Алексеев невольно подался назад.
Замкомвзвода сержант Погорелый очутился рядом, как положено разведчику, неслышно. Вообще-то, сержант должен был идти замыкающим, да комбат перед выходом в рейд определил ему место за «зелёным» взводным, чтобы в случае чего подсказал и с «дедами» помог найти общий язык.
Погорелый бережно отстранил Алексеева, обменялся с Фокиным многозначительным взглядом.
«Не считают меня командиром…» – перехватил этот взгляд и покраснел от обиды Алексеев, но тем не менее про мину сказал со знанием дела:
– Противопехотная!
– Ага, деревяшка, – привычно обозвал мину в деревянном корпусе Погорелый.
Крышка мины углом торчала из-под щебня всего в паре шагов ровно посреди узкой тропы.
– Грамотно поставлена. Хорошо ещё, что давно лежит, и дождём сверху грунт смыло, а то бы ножкой топнул – и… ку-ку… – Фокин с ухмылкой покосился на свой ботинок сорок шестого размера.
– Наши ставили. У «духов» таких развалюх нет. У них – итальянки, – снова проявил осведомлённость Алексеев.
– Итальянки – у наёмников. А местные фугас и противотанковую любят, чтоб сразу бээмпэшку или танк завалить. За них афоней больше отстёгивают, – внёс поправку Погорелый, опять заставив Алексеева покраснеть.
– Что делать-то бум, товарищ лейтенант? – пытливо глянул на взводного с высоты своего двухметрового роста Фокин.
Первое и самое простое, что пришло Алексееву в голову – перешагнуть через мину, само собой, соблюдая меры предосторожности. Об этом и сказал подчинённым.
– Перешагнуть-то можно, – сдержанно усмехнулся Погорелый, – только не факт, что там, куда за миной ногу поставите, второй такой нет. Или того хуже – сама деревяшка с сюрпризом: скажем, с фугасом спарена. Нет, товарищ лейтенант, тут или сапёра вызывать надо, или самим мину сдёрнуть на подрыв. Как скажете?..
Алексеев помнил из занятий по инженерной подготовке, что противопехотная деревянная имеет самое примитивное устройство: в деревянную коробку втиснута двухсотграммовая толовая шашка, а справа от неё – в металлическом стакане взрыватель с капсюлем-детонатором. Но разминировать такую мину вручную практически невозможно. Единственное надёжное средство, и тут сержант прав – это из укрытия «кошкой» сдернуть мину с места «на подрыв». Но подорвать её в нынешней ситуации – значило выдать себя и сорвать задачу.
– Так что, товарищ лейтенант, рванём? – переспросил Погорелый. Алексеев почувствовал себя хозяином положения.
– Взрывать не будем и сапёра ждать некогда. Боевой задачи нам, товарищи бойцы, никто не отменял. Буду разминировать. Оба – в укрытие!
– Товарищ лейтена… – попытался остановить его Погорелый.
– Тебе что, сержант, два раза приказ повторять? – поставил точку Алексеев.
Он снял каску, подсумки, положил автомат, убедился, что взвод укрылся за поворотом, и опустился перед миной на колени.
«Гиблое дело я затеял…» – унимая внутреннюю дрожь, он размял пальцы. Осторожно стал разгребать щебень вокруг короба, каждый раз обмирая, когда случайно прикасался к его шероховатым стенкам. Когда мина открылась со всех сторон, с радостью обнаружил, что никаких проводов или проволочек от неё в стороны не тянется: значит, сюрприза никакого нет. Хвостовик бойка с выдернутой чекой – мина на боевом взводе.
– Сначала вставим чеку, после начнём выкручивать капсюль… – повторяя давний урок, озвучил сам для себя алгоритм предстоящих действий. – Но где мы чеку-то возьмём? – Он пошарил в кармане «афганки», нащупал коробок со спичками. Вынул одну, с сомнением оглядел её: выдержит или нет? Ничего другого под рукой всё равно не было, и он решил рискнуть: подрагивающими от напряжения пальцами вставил спичку в отверстие для чеки. Спичка встала, как влитая.
«Ух-ты! Получилось!»
Рукавом «афганки» вытёр пот со лба и осторожно выкрутил капсюль-детонатор. Поднялся на неустойчивых ногах, повернулся к солдатам с торжествующим видом, держа капсюль-детонатор в правой руке.
Погорелый первым вышел из укрытия.
– Ну, вы даёте, товарищ лейтенант! Как настоящий хирург работаете… С почином, командир… – уважительно сказал он.
– Скажи лучше, как скульптор… – довольно отозвался Алексеев и краем глаза увидел, как спичка, служившая чекой, не выдержала напряжения пружины и медленно, словно в кино, начала надламываться…
Он инстинктивно схватил хвостовик бойка другой рукой, силясь его удержать, но не сумел. Раздался негромкий хлопок. Алексеев зажмурился, а когда открыл глаза, ещё не чувствуя боли, увидел вместо пальцев кровавое месиво…
В один из звонких дней в конце октября командир роты курсантов Бакинского общевойскового командного училища имени Верховного Совета Азербайджанской ССР майор Сенько построил личный состав. Улыбчивый и коренастый, за свою неизменно красную физиономию он заслужил прозвище «Синьор Помидор». Красноту щёк майора подчёркивал околыш огромной фуражки с непомерно высокой тульей – «аэродром не принимает». Этот головной убор, сшитый по спецзаказу, не имел аналогов во всём училище и вызывал постоянные нарекания старшего начальства, являясь при этом предметом законной гордости её хозяина. Сенько курсанты любили за весёлый нрав, побаивались за строгость и уважали за справедливость.
– Ну что, бездельники, – бодрым, орлиным взором окинул он строй. – Радуйтесь: сегодня ПХД[15]. Скучать никому не придётся. Работы у нас – выше крыши, но есть одно дело – особой важности. С него и начнём…
Сенько выдержал паузу:
– Ну, товарищи курсанты, настал ваш звёздный час… Кто у нас художники?
Алексеев и Бубнов переглянулись: идти в автопарк, на полигон или в столовую не хотелось, а работа художников представлялась делом непыльным и сулила некоторые послабления со стороны начальства. И хотя художественных способностей друзья-приятели не имели, не сговариваясь, сделали шаг вперёд.
Сенько оглядел их с головы до пят:
– Художники? Лепить умеете?
– Всё умеем, товарищ майор, – в голос заверили они.
– Ладно, дуйте к старшине. Он вам задачу поставит!
Старшина Ревенко к наличию творческих способностей у данных курсантов отнёсся более недоверчиво:
– Вы точно художники али брешете?
Алексеев ответил за двоих:
– Никак нет, товарищ старшина, не брешем!
– Ну, добре, пийшлы, – он повёл их через плац к КПП.
Училище и военный городок с колоритным названием «Красный Восток» располагались в старом районе города, недалеко от Бакинского проспекта и улицы Ингла. От пятиэтажных хрущёвок – ДОСов[16] «кузницу пехотных кадров страны» отделял высокий бетонный забор. Метров в трёхстах от КПП в нём была ниша, где на постаменте стоял памятник Кирову. На трёхметровом гипсовом вожде было пальто чуть выше колен, кепка и сапоги. Левую руку Киров прижимал к груди, словно желая унять стук пламенного революционного сердца, а правой показывал в сторону центра, как раз туда, куда обычно курсанты бегали в самоволку.
К памятнику и привёл их старшина.
– Побачьте, який нэпорядок! – указал он на статую.
Вид памятника и впрямь был удручающим: по торсу вождя шли трещины, гипс на плечах выщерблен, на правой руке изваяния не хватало нескольких пальцев.
Старшина определил:
– О цэ, товарыщы курсанти, будьтэ ласкови, отреставрироват товарыща Кырова. Усэ трэщины заделать, отколоты части восстановить, размулевать. И шоб усэ було в найлучшем видэ!
Получив мешок гипса, шпатели, кисти и краску, Алексеев и Бубнов не спеша приступили к работе. Трещины на груди и спине Кирова заделали без особых осложнений. Когда встал вопрос о реставрации отдельных частей – уха, пальцев, процесс застопорился…
Ухо с трудом, но вылепить всё же смогли, а вот вытянутые пальцы на правой руке никак не получались.
И тут Бубнов предложил:
– А давай, Костя, кулак сделаем! Его-то куда проще слепить…
Алексеев усмехнулся:
– Что кулак, лучше уж сразу кукиш!
Бубнов поскрёб измазанной пятернёй затылок:
– Точно, Серёга! Вот всё училище оборжётся!
Фига получилась эффектной. Памятник выкрасили белой краской. Оглядели со всех сторон и остались довольны: Киров стоял как новенький…
Вернулись в казарму, доложили старшине о выполнении приказа.
– Добрэ получылось?
– Нормально!
– Проверять трэба?
Они переглянулись:
– Дело ваше, товарищ старшина…
Ревенко проверять не стал.
Алексеев и Бубнов после обеда рассказали однокурсникам о своей проделке. Хором посмеялись над ней. Особо любопытные сходили к памятнику на экскурсию и остались довольны увиденным. Но, как говорится: новый день – новая пища…
В воскресенье как передовиков ПХД старшина отпустил «скульпторов» в увольнение. А в понедельник с утра пораньше их вызвал в канцелярию «Синьор Помидор».
– Ну что, художники-передвижники, довыделывались? – Сенько, ещё более красный, чем обычно, впился в них немигающим взором и, не дожидаясь ответа, приказал: – В колонну по одному, за мной шагом а-арш!
У памятника он дал волю гневу, затопал ногами:
– Это что такое? Вы что себе позволяете, идиоты, мерзавцы? А если бы утром не я это рукоблудие заметил, а кто-то другой! Это же идеологическая диверсия, антисоветская пропаганда! Да ещё в канун праздника Великого Октября! – Он внезапно остановился и отчеканил: – Так вот, в присутствии товарища Сергея Мироновича Кирова объявляю обоим по пять нарядов вне очереди! Даю час, нет, полчаса, чтобы это безобразие ликвидировать и придать руке исторический вид! О выполнении доложить мне лично!
Покачивая фуражкой-«аэродромом», Сенько стремительно удалился.
Алексеев и Бубнов с минуту тупо смотрели друг на друга: «Идеологическая диверсия, антисоветская пропаганда… Точно, отчислят! Как пить дать, отчислят!» – только сейчас до них дошёл «политический» смысл их проделки.
Они тут же забрались на постамент и при помощи обломка кирпича «ампутировали» десницу вождя, грозящую отчислением. Метнулись к казарме за инструментом, принесли всё необходимое, и работа закипела. От страха даже скульпторские способности прорезались: вытянутые пальцы на злополучной руке получились как нельзя лучше…
Сенько и впрямь оказался мужиком нормальным. Поскольку никто из старших начальников кукиш не увидел, «политическое дело» Алексееву и Бубнову пришито не было. Ни комсомольского собрания с исключением из ВЛКСМ за осквернение революционной святыни, ни распекания перед строем… Они просто отходили свои пять нарядов вне очереди, и происшествие как будто забылось. Только однокурсники до самого выпуска вспоминали про кукиш, и нет-нет, пробегая мимо памятника в самоволку, исподтишка показывали Кирову фигуру из трёх пальцев.
…Выпуск шумно отмечали в кафе «Навруз» на окраине Баку. Были шашлык, люля-кебаб, зелень и сорок литров «обкомовского» коньяка, добытого, как говаривал Райкин, «черыз таваравэд, черыз задыные кырыльцо» на Кировобадском коньячном заводе отцом одного из выпускников. Пели песни, танцевали, произносили тосты за «альма-матер», за пехоту, за будущих командармов…
Внезапно кто-то закричал:
– Наших бьют!
С шумом вывалились во двор. В полутёмном переулке рядом с кафе мелькали белые рубахи лейтенантов, и тёмные рубахи «чужих». Визжали девицы. Раздавался мат.
Когда нападавшие, не выдержав атаки, с проклятьями ретировались, лейтенанты вернулись в кафе. Оглядели друг друга: у одного оторван погон, у другого – рубаха в крови, у третьего – фингал…
Бубнов разглядывал правую руку: пальцы были неестественно вывернуты.
– Я его за воротник схватил, а он, гад, рванулся… пальцы выбил, что ли… – кривился он.
Невеста одного из лейтенантов – шустрая блондинка с широко раскрытыми синими глазами, выпускница медучилища, осмотрела руку Бубнова и заявила:
– Вывих. Мигом вправим! – Она уверено взяла посиневшие пальцы в свою пухлую ладонь, сжала их и так дёрнула, что Бубнов потерял сознание.
– Ой, я, наверное, что-то не то сделала, – разрыдалась она.
…В Кабульском госпитале, куда Алексеева доставили после рейда, он получил письмо от Бубнова, написанное коряво и неразборчиво.
«Серый, – сообщал Костя, – я всё ещё не в строю. Пальцы после драки у меня срослись плохо, средний и указательный теперь вообще не гнутся… Даже фигу никому не покажешь! Доктор сказал, если не разработаю, комиссуют ко всем чертям…»
«А вот меня из армии точно спишут», – Алексеев посмотрел на свои забинтованные руки. Письмо Бубнова напомнило историю с памятником. До Алексеева внезапно дошло: «Всё – не случайно!» И та драка возле кафе, где Бубнов выбил пальцы, и его случай с запалом от ПМД. Всё – одно к одному. И даже то, что мину нашёл солдат по прозвищу «Мальчик из Уржума»… Алексеев только теперь вспомнил, что ещё в начальных классах школы читал книгу с таким названием. Главным героем в ней был вятский мальчик Серёжа Костриков. «Но ведь это же имя будущего революционера Сергея Мироновича Кирова! Вот так совпаденьице… Вот тебе и фига, товарищ Киров! Выходит, не мы тебе, Мироныч, а ты нам кукиш показал! Только нам-то с Бубновым теперь никто новые пальцы не прилепит…»
Об этом он и рассказал командиру батальона майору Игнатенко, приехавшему по каким-то делам в штаб армии и зашедшему в госпиталь навестить подчинённого.
Оглядев забинтованные руки Алексеева, Игнатенко сказал хмуро и, как показалось лейтенанту, зло:
– Сам во всём виноват. Какого рожна к мине полез? Инструкции не знаешь?
– Не хотел шума поднимать, товарищ майор. Да и в училище по инженерной подготовке у меня пятёрка была…
– Пятёрка… Тоже мне сапёр отыскался! – ругнулся Игнатенко. – Остался дурак без пальцев! И на хрена?
Алексеев опустил глаза. Комбат, конечно, прав, его жертва оказалась напрасной: тогда в горах бандгруппа на них так и не вышла – ушла из кишлака другими тропами…
– Я ведь почти обезвредил мину, – всё-таки попытался оправдаться он. – Если бы только не месть товарища Кирова…
– При чём здесь товарищ Киров? Ты мне эту мистику брось, лейтенант! Слушай сюда, что я тебе скажу: надо канцелярскую скрепку в кармане носить, а не спички! Скрепка не подведёт. С ней ты любой мине кукиш покажешь! Понял?
Вне очереди
Слышимость в новых ДОСах была такой же, как в гостевой комнате знаменитой Невьянской башни, где подполковник Нахимчук побывал, проверяя местный военкомат. По великому блату невьянский горвоенком провёл его к этой демидовской диковине, расположенной на территории режимного завода. По словам военкома, наклон у башни был больше, чем у Пизанской, в затопленных подземельях скрыта тайна чеканки демидовской серебряной монеты, а в самой башне оборудована та самая гостевая, где каждый шепоток был слышен в любом углу. И в своём ДОСе, благодаря хлипким межквартирным перегородкам, Нахимчук знал о жизни соседей практически всё: когда ложились, когда вставали, даже звяканье ложечки о чашку слышно, будто чай соседи пили у него на кухне.
Но сегодня Нахимчука спозаранку разбудил не звон посуды, а соседское радио, вдруг разразившееся бодрой песней. «Как хорошо быть генералом, как хорошо быть генералом! Лучше работы я вам, сеньоры, не назову… Стану я точно генералом, буду я точно генералом! – во весь голос радовался модный советский певец. Как-то он давал шефский концерт в окружном Доме офицеров. Низкорослый, в туфлях на высоких каблуках, с натянутой, будто приклеенной, улыбочкой. Наполеоновский комплекс – налицо! Такие лилипуты обычно и становятся генералами…
Сам Нахимчук генералом стать не хотел. Конечно, курсантом-первокурсником мечтал о счастливой карьере, но быстро усвоил военную присказку про генеральских детей, которым «за ратный труд штаны с лампасами сошьют»… И понял, что простым смертным выше полковника не подняться! Ну, а коли так, то и полковник – чем не мечта? Три больших звезды и два просвета на погонах, папаха, опять же: в зимнее время издалека видна… Но помимо внешнего вида был у носителя этого высокого звания целый ряд ощутимых материальных преимуществ. Это он позже, будучи уже офицером, уяснил. И в Военторге полковников в особом отделе обслуживали, и к праздникам почти что генеральские продовольственные наборы выдавали, и в окружной поликлинике не только полковники, но и члены полковничьих семей до скончания века состояли на учёте, в отличие от членов семей подполковников, майоров, не говоря уже о младших офицерах. И была ещё одна, незначительная вроде, но Нахимчука просто убивающая деталь: полковники имели право брать в воинских кассах билеты вне очереди, равно как Герои Советского Союза, полные кавалеры орденов Славы, генералы и адмиралы! Понятно, что генералы в очереди не стояли – у них для этого порученцы имелись. Героев Советского Союза и кавалеров других высоких наград в таких очередях Нахимчук тоже как-то не встречал. А вот разные полковники выскакивали всегда, как чёртики из табакерки, как раз когда подходила его очередь. И это обстоятельство его всегда очень нервировало. Нахимчук не раз ловил себя на том, что, ожидая очереди, глядел на отражение своего погона в стекле кассы. Покачнется он – и звёздочки на нём удваиваются, посмотрит под определённым углом и – один просвет становится двумя…
Словом, мечта получить звание полковника со всеми вытекающими отсюда льготами грела Нахимчука долгие годы. Но только одно дело – мечта, и совсем другое – реальность. Служба поначалу складывалась у него неплохо: взвод, рота, начальник штаба батальона – и всё застопорилось на академии. Экзамены в академию он сдал, но не прошёл по конкурсу. Можно было бы выдвинуться иным способом: скажем, послужив в Афганистане. Но туда он не попал по причине перенесённого в детстве гепатита. Так и завис на батальоне. С трудом получил майора. Потом и вовсе отошёл от карьерной магистрали – оказался в организационно-мобилизационном управлении штаба округа, в отделе, курирующем военкоматы. Правда, огорчался этому обстоятельству Нахимчук недолго. Сослуживцы быстро растолковали все преимущества новой службы. Ни тебе прямых подчинённых, с их вечными проблемами и чрезвычайными происшествиями, ни ранних подъёмов и тревог. Спокойная, размеренная работа в тёплом, уютном кабинете, выходящем окнами на центральный проспект областного центра. И квартиру получил Нахимчук в центре, в доме по улице Мамина-Сибиряка, совсем недалеко от штаба округа. Эта привилегия доставалась тоже в первую очередь офицерам его управления, отвечающего за мобилизационную готовность.
Если же едешь в командировку, встречают тебя в районных и городских военкоматах не хуже, чем генерала. В Каслях угостят знаменитым местным пирогом из двух десятков сортов рыбы, которая водится в окружающих городок озёрах, с лучком и тонким, пропечённым тестом. Под такой пирог никакая водка с ног не свалит, хоть целый литр в себя залей! Опять же, сувениров целый портфель привезёшь – на весь мир известное чугунное литьё… В Златоусте свои прелести – ножи и топоры с гравюрой по амосовской стали… В Тобольске – резьба по кости и северная рыба муксун и стерлядка. В Тагиле – дивные подносы с мастерской росписью. В общем, если дураком не будешь, то и сам не пропадёшь и старшему начальнику подарок привезёшь, что тоже немаловажно для спокойной службы и возможного повышения… И всё бы хорошо было у Нахимчука, только вот желанное повышение никак не случалось. Кое-как, с задержкой стал он подполковником и затормозился на этом аж на целое десятилетие. Уже было смирился Нахимчук с тем, что придётся на пенсию выходить в сорок пять и подполковником. Но тут для таких, как он, служак нашлась лазейка. Кто-то там на самом верху додумался, что негоже простых офицеров, тех, что без академии и не при должности, лишать надежды папаху надеть. И вот в самом начале горбачёвской перестройки появился приказ министра обороны СССР, разрешающий представлять к званию полковника подполковников проходивших в этом звании не менее двух положенных сроков (то есть как раз десять лет) и, конечно, положительно характеризующихся по службе…
Тут уж Нахимчук стал землю носом рыть, только бы в число этих представленных угодить. И подарок начальнику отдела на день рождения дорогой преподнёс, и на службе стал задерживаться позже других, чтобы рвение своё показать, и даже бегать стал по утрам, дабы жирок, коим от долгого сидения на стуле изрядно заплыл, растрясти и не опарафиниться на очередной итоговой проверке при сдаче норм военно-спортивного комплекса. Немаловажным фактором в осуществлении задуманного стала и дружба с одним из старших офицеров управления кадров округа – завзятым рыбаком. Сам Нахимчук рыбалку на дух не переваривал, называл её не иначе, как той же пьянкой, только в болотных сапогах. Но тут купил удочку, книгу по спортивному рыболовству, записался в военно-охотничье общество и напросился поехать вместе с кадровиком на озеро. Стойко перенёс он там и комаров, и подзуживание нового приятеля, когда не смог поймать ни одного карасика, но зато посидели вместе у костерка, выпили, конечно, поговорили… Так раз, другой. Нахимчук старался, не отказывался и червей накопать, и костёр разложить, и за поллитрой в ближнее сельпо сбегать… А когда месяца через три отношения стали совсем доверительными, во время очередной попойки у костра выложил кадровику свою заветную мечту…
– Это, Вася, сделать нам легко, – важно сказал кадровик, – как два пальца об асфальт…
И слегка заплетающимся языком тут же изложил план действий, самым неожиданным из которых оказалось законспектировать все последние доклады Горбачёва, связанные с перестройкой и гласностью.
– А это зачем? – искренне удивился Нахимчук. – Ну, мобилизационные документы, приказы, положения – это понятно, а доклады-то зачем? Я же не политработник…
– Эх, Вася! В том-то и дело, что не политработник! На этом и погоришь!
– Как это «погорю»? – не на шутку испугался Нахимчук.
– А вот так… – кадровик приблизил к нему покрасневшее от выпитого лицо. – Ты же знаешь, что всех представленных к званию полковника пропускают через Военный совет округа. Так вот там тебя и рубанут!
– Кто рубанёт!
– Ясно кто – «Факел перестройки».
«Факелом перестройки» прозвали рыжего генерал-майора, недавно прибывшего из Куйбышева на должность начальника политуправления округа.
– Этот «Факел» на последнем Совете трёх претендентов зарубил за то, что генсека процитировать не смогли. Уяснил? – спросил кадровик.
Нахимчук кивнул. И дело закрутилось.
– …Буду я точно генералом, стану я точно генералом… – надрывалось соседское радио, возвращая Нахимчука к событиям вчерашнего дня, когда на экстренном собрании офицеров начальник управления зачитал приказ о присвоении ему звания полковника, вручил заветные погоны и папаху. Какое это было мгновение!
Конечно, через своего друга – кадровика он уже заранее знал о пресловутом приказе, и даже новый китель с полковничьими погонами в окружном ателье заказал, и к парадной шинели погоны сам лично пришил, исколов иголкой все пальцы… Да что там погоны! Он и отпуск себе подгадал к этому дню, и путёвку в военный санаторий – опять же, по блату – раздобыл. И в какой санаторий! В Архангельское! Туда офицеров ниже полковника просто не пускают. А летом там – одни москвичи.
«Ничего, – думал Нахимчук, – нам и февраль сойдёт. Зато какие перспективы этот отдых может предоставить… Скажем, окажется соседом по обеденному столу какой-нибудь большой человек из Минобороны… И я ему понравлюсь. Уж я постараюсь это сделать! И тогда…»
Нахимчук нашарил ногами тапки, поднялся, с хрустом потянулся и, с удовольствием глянув на своё отражение в трюмо, шёпотом, чтобы не разбудить мирно спящую жену, поздоровался: «Здравия желаю, товарищ полковник!» На него взирал сразу из трёх зеркал толстый волосатый мужик в майке и семейных трусах до колен. Он долго и старательно разглядывал своё широкое лицо, точно видел впервые. Крупный нос с ложбинкой посредине, большие, навыкате серые глаза, залысины на лбу… Жёсткая линия рта. Словом – настоящий полковник. А полковник, он и в Африке – полковник. Сам не замечая того, Нахимчук всё бормотал прицепившуюся фразочку: «Буду я точно генералом, буду я точно…» Он подобрал живот, одобрительно улыбнулся своему отражению и пошлёпал в туалет, на ходу смакуя, что предстоит сделать в первый день отпуска. Сегодня он без очереди купит билет на самолёт. Нахимчук специально не покупал его заранее, будучи подполковником, чтобы нынче насладиться открывшейся возможностью…
Он не спеша побрился. Так же со значением выпил чай, который подала проснувшаяся наконец жена, такая же толстая и неуклюжая, как сам Нахимчук. Но и она, надоевшая за четверть века совместного быта, в это утро не вызывала в нём обычного раздражения своим растрёпанным, заспанным видом. И обыденный «Индийский чай» Рязанской чаеразвесочной фабрики показался ему необыкновенно вкусным.
Новый китель сидел на нём как влитой.
– Ой, Вася, какой ты… – счастливо всплеснула руками жена и почему-то прослезилась.
– Полно, полно, Зина! Чего сырость развела? Помоги лучше шинель надеть, – Нахимчук оттопырил назад короткие руки, отчего стал похож на фронтовой бомбардировщик Миг-15. Такие самолёты были на вооружении в тот год, когда он поступал в авиационное училище. Поступал, да не поступил: подвёл вестибулярный аппарат. Но в военных училищах страны тогда был недобор, и абитуриентам, кто не прошёл в лётное по физическим данным, предложили на выбор другие училища. Нахимчук выбрал общевойсковое командное… И не прогадал! Вот, стал полковником…
Он вышел на крыльцо, остановился, вглядываясь в серый небосвод, с которого сыпался мелкий, колючий снежок. Ветер, дующий со стороны Уралмаша, доносил запахи заводских труб и окрестных кочегарок и всё норовил залезть холодной пятернёй за отворот шинели. Но и это обстоятельство ничуть не расстроило Нахимчука. Напротив, и небо ему казалось не таким низким, и ветер вовсе не пронизывающим. Он с минуту потоптался на крыльце, раздумывая, какой дорогой направиться к кассам предварительной продажи билетов, что располагались на улице Свердлова. Пройти можно было двумя путями: срезав расстояние, через Харитоновский парк, и более длинным путём – через Вознесенскую горку.
Нахимчук пошёл там, где многолюдней. Так хотелось ему покрасоваться в новой серой папахе, делающей его выше и стройнее.
Как назло, в этот утренний час прохожих было немного. Да и те, что попадались навстречу, не обращали на Нахимчука никакого внимания, кутались в шарфы, закрывали носы воротниками однотипных пальто, спешили по своим делам. Впрочем, и это обстоятельство не поколебало его доброго настроения.
Нахимчук, тяжело и широко ставя ноги, поскрипывая снежной крупкой, дал кругаля и вышел на набережную Исети. Его взору открылись серые невыразительные дома на противоположном берегу. И только высотное здание обкома партии настырно лезло в глаза. «Белым клыком» окрестили свердловчане детище первого секретаря обкома Ельцина, недавно переведённого в Москву… А по эту сторону реки – старые полуразрушенные бараки да пустырь на месте дома Ипатьева, за ночь уничтоженного молодым и энергичным свердловским вождём. Говорят, Ельцин лично руководил этими работами. Он ведь – строитель по образованию. Наверное, за исполнительность и партийную непреклонность и пошёл на повышение.
«А что, может, и у меня ещё всё сложится удачно… Возьмут да переведут в Москву, в мобилизационное управление Министерства обороны… Для полковника-то я ещё совсем нестарый… К тому же с опытом работы и старанием… А там, в Москве, и до генерала – рукой подать!» – счастливо размечтался Нахимчук.
Он пришёл в кассы, предчувствуя долгожданный триумф, как подойдёт к окошечку и, раздвигая толпу, возьмёт свой билет вне очереди.
К разочарованию Нахимчука очереди-то возле воинских касс в это утро не было. Стояли всего три человека: лейтенант с эмблемами танкиста, какой-то старичок-отставник и женщина средних лет, очевидно, жена или мать военнослужащего. В общем-то, можно было бы встать за ними.
Но Нахимчук с осознанием своей правоты бесцеремонно подошёл к окошечку, отстраняя лейтенанта, подал кассиру проездные документы:
– На утренний самолёт до Москвы, будьте любезны… – как бы устало сказал он.
Пока кассир звонила в аэропорт, Нахимчук снисходительно оглядел стоящих. Лейтенант совсем зелёный – шинель ещё не износилась. А старичок, видать, воевал… Составить мнение о женщине Нахимчук не успел – кассирша доложила с почтением в голосе:
– Повезло вам, товарищ полковник, последний билет на рейс достался… Оформляем?
Нахимчук кивнул.
– Девушка, скажите, больше билетов совсем нет? – спросил лейтенант.
– Я же русским языком сказала, это последний, – отрезала кассир.
– Товарищ полковник, вы не уступили бы мне билет? – обратился лейтенант к Нахимчуку. – Я по телеграмме, у меня мама при смерти…
Нахимчук, хотя едва доходил лейтенанту до плеча, посмотрел на него сверху вниз:
– По служебной надобности, лейтенант!
Лейтенант ничего не сказал.
Оформление билета Нахимчука прошло в гробовой тишине. Отходя от кассы, он обернулся, желая подбодрить лейтенанта, мол, улетишь следующим рейсом.
Старичок, тем временем расстегнул полушубок. Намётанным глазом Нахимчук сразу приметил на пиджаке планки трёх орденов Славы и вышел на улицу.
«Надо было всё же подсказать лейтенанту, чтобы обратился к военному коменданту в Кольцово. Тот в экстренных случаях подсаживает военнослужащих на ближайший борт… – запоздало спохватился он. – Ещё и этот старик, полный кавалер… Тоже мог ведь без очереди… Да что уж теперь…»
– Ничего, мне положено, – пробормотал он себе под нос и пошёл домой собирать чемодан. Но только к вечеру, когда в гости нагрянули родственники жены, чтобы поздравить Нахимчука с получением долгожданного звания, неприятный осадок от похода за билетами понемногу развеялся.
На следующее утро об этом инциденте Нахимчук уже не вспоминал.
…А ещё через день газета «Известия», которую полковник уже много лет выписывал по разнарядке, опубликовала сообщение, что самолёт рейсом Кольцово – Домодедово разбился при заходе на посадку в московском аэропорту. В списке погибших пассажиров значилась и фамилия Нахимчука.
Театрал
Капитан Упоров не любил театр. Сначала ему, правда, казалось, что он театр не «не любит, а любит». Так написал один знаменитый писатель. Но писатель так написал про своё. А Упорову так казалось совсем про другое.
Когда он первый раз был женат, женат на Тамаре, казалось ему, что театр он любит. Он даже выстаивал очередь, чтобы купить билеты на премьеру в местную музыкальную комедию. И со службы отпрашивался пораньше, чтобы успеть к началу спектакля. И в едином порыве с супругой, и со всем залом, Упоров кричал «Браво!» и до боли в ладонях аплодировал чете местных звёзд – артистов Жердевых, лихо выплясывающих канкан. И после развода с Тамарой он какое-то время ещё посещал театр. Но всё реже и реже…
По-настоящему же Упоров понял, что театр он не любит, опять же, как написал знаменитый писатель, когда «уехал и жил у моря». Ну, «жил у моря» – это громко сказано. Упоров с немалым трудом раздобыл турпутёвку по маршруту: Терскол – Сухуми. Почему-то именно так устроены военные туристические маршруты: десять дней ты живёшь в горах, три дня топаешь в Сванетию, а потом – всего неделя у моря. Как будто нельзя офицеру сразу к морю приехать и спокойно три недельки пожариться на песке, поплескаться в солёной водице, завести какой-нибудь курортный романчик…
Но Главное туристическое управление Минобороны посчитало: военнослужащий и на отдыхе остаётся военнослужащим. И положения устава для него никто не отменял. Значит, он должен и в отпуске преодолевать тяготы и невзгоды: сперва до одури полазать по горам, совершить переход через заснеженный перевал Донгуз-орун, сорок километров пройди с тяжеленным рюкзаком до Южного приюта, и только тогда, на пазике отправиться к ласковому морю.
«Зачем все эти трудности? – недоумевал Упоров. – Может быть, таким манером большие начальники решили подтянуть горную выучку офицерского состава? Как-никак пять лет война в Афгане идёт…»
Да и на кой ляд пропагандисту авиационного полка эта подготовка сдалась? Упоров ехал на юг расслабиться и забыться после скандального развода с загулявшей женой. Ехал с тайной надеждой отдохнуть от всей сопровождающей подобные мероприятия нервотрёпки, раны сердца залечить. Короче говоря, познакомиться с какой-нибудь отдыхающей красоткой, не очень целомудренной и сговорчивой.
В Терсколе осуществить мечту о курортном романе ему не удалось. Все дамы в его туристической группе оказались с мужьями, а две одиноких туристки по возрасту Упорову в матери годились и никаких эротических фантазий не вызывали. Оставалось одно – вместе с соседом по комнате Володей заливать одиночество местным вином, пусть и не лучшего качества, но поставлявшимся окрестными жителями на турбазу в достаточном количестве.
Володя, огромный и мрачного вида мужик, чем-то похожий на снежного человека, оказался собутыльником «приятным во всех отношениях», как написал бы об этом другой знаменитый писатель. То есть сам пил много и даже безудержно, но товарищу свою норму не навязывал, в душу с расспросами не лез, да и о себе почти ничего рассказывал. Упоров смог выяснить только, что он – подполковник, авиационный инженер, разведён и тоже приехал развеяться. И хотя слово «развеяться» Володя понимал по-своему, они подружились. Во время перехода по горам шли рядом. И в Сухуми поселились снова в одном номере.
Сухуми ни в какое сравнение с Терсколом не шёл. Море, пальмы, пляж. Тут-то голова у Упорова и пошла кругом: куда ни повернись, сами «лезут в глаза, тычутся», как сказал бы знаменитый писатель, красотки разных мастей: блондинки, шатенки, брюнетки, загорелые и молочной белизны, полненькие и худосочные, ладные и не очень… А одна шоколадная девица в бикини удивила тем, что на задней аппетитной части её фигуры чертята наколоты. Фланирует она по песку туда-сюда свои шары, притягивающие взор, перекатывает, а рогатые в топку лопатами уголь подбрасывают… Тут и самый идейно стойкий пропагандист все заповеди морального кодекса строителя коммунизма забудет! Но сколько очами голодными Упоров пляжных красавиц ни поедал, знакомство ни с одной из них не складывалось. Все девицы, которые ему нравились, держались так высокомерно, что и подойти к ним страшно, а к тем, которые не по вкусу, зачем подходить?
Вот и приходилось ему забываться и расслабляться больше по Володиному принципу. С утра они парой, «как шерочка с машерочкой», как мог бы написать, но, кажется, не написал знаменитый писатель, уходили с турбазы, расположенной в дальней, предгорной, части города, медленно двигались в сторону моря, то и дело останавливаясь у бочек, которые в средней полосе обычно предназначаются для кваса, а здесь приспособлены под абхазское вино. Выпивали по кружечке и шлёпали к следующей бочке. Ещё кружечка и снова вперёд. Так, за час-полтора, добирались до пляжа, раскидывали полотенца и занимали наблюдательную позицию. Упоров бежал окунуться, а Володя, полежав минут десять, удалялся к ближайшей бочке, где и проводил большую часть времени, отводимого для морских процедур. Так и коротали день за днём.
Однажды на пляже, оглядывая окрестности, Упоров приметил одинокого молодого мужчину, по годам, может быть, ровесника ему, может быть, чуть младше. Незнакомец невольно притягивал к себе взгляд. Сложен, как Аполлон Бельведерский – загорелый, белокурый красавец с голубыми глазами. Он принимал солнечные процедуры, выбирая эффектные, можно сказать, театральные позы, явно демонстрируя свой атлетический торс и броскую внешность. Это позёрство не понравилось Упорову. Он отвернулся и стал глядеть на воду, где плескались местные и приезжие наяды. И вскоре позабыл про Аполлона.
– Извините, – раздался за спиной приятный баритон. Упоров обернулся. Перед ним стоял тот самый Аполлон и с видимым дружелюбием разглядывал его.
– Извините, – вкрадчиво повторил он, – я вижу, вы тоже один и тоже скучаете.
Володя как раз отошёл к винной бочке и возвращаться пока не собирался.
– Да не то чтобы скучаю… Загораю…
– А вы любите театр? – неожиданно спросил незнакомец.
– Люблю. А что? – оторопел Упоров.
Собеседник широко улыбнулся:
– Ой, простите великодушно. Забыл представиться. Меня зовут Эдуард. Я – помощник режиссёра Львовского театра Советской Армии. Мы тут на гастролях. А вы, как я понял, тоже к армии имеете какое-то отношение…
– Как вы догадались? – растерялся Упоров.
Эдуард рассмеялся, обнажив ровные, ослепительно белые зубы, как сказал бы, если бы хватило фантазии, знаменитый писатель, «такие же белые, как снег на перевале»:
– Ну, это совсем нетрудно. Причёска, манеры… Потом, этот офицерский загар – кисти рук и шея. Такой загар бывает только у зэков и у офицеров. На заключённого вы совсем не похожи. Значит – офицер. Я ведь угадал?
Упоров кивнул.
– Но вы не сказали, как вас зовут…
– Василий, – представился Упоров.
– Какое замечательное у вас имя – Василий.
– Главное – редкое, – пробурчал Упоров, но обаяние Эдуарда обезоруживало.
Эдуард всё с тою же вкрадчивостью в голосе сказал:
– Собственно, я хотел пригласить вас, Василий, на спектакль нашего театра.
– Когда?
– Сегодня вечером. У нас идёт водевиль «Сватовство гусара». Вещица лёгкая, развлекающая.
– Водевиль – это хорошо… На водевиль, пожалуй, приду. Только не один, с товарищем.
Эдуард обрадовался:
– Конечно, приходите с вашим другом. Я буду ждать вас у служебного входа в театр в половине седьмого.
– А с актрисами познакомите? – неожиданно для себя самого выложил Упоров давнюю мечту завязать близкое знакомство с какой-нибудь служительницей Мельпомены.
Эдуард, окинув его понимающим взглядом, заверил:
– Конечно, конечно. После спектакля посидим, выпьем вина. Пригласим наших девушек. Они у нас просто загляденье. Так придёте?
– Придём.
Эдуард крепко пожал Упорову руку и, сославшись на репетицию, собрал свои пожитки и покинул пляж.
Упоров почесал затылок и пришёл к выводу, что неожиданное приглашение, сулящее, возможно, любовные приключения, в общем-то, приемлемо и внесёт хоть какое-то разнообразие в похожие один на другой дни пребывания у моря. Оставалось только уговорить Володю.
Тот долго сопротивлялся:
– Чё я не видал в этом театре?
– С актрисами познакомимся… С настоящими…
– Да на кой они мне… – отнекивался Володя. – К тому же ты знаешь, на турбазе режим. Не успеем со спектакля вернуться, корпус закроют, будем на улице куковать!
Упоров заверил:
– Не бойся, успеем, – и подмигнул: – А буфет, знаешь, в театре какой? И коньяк, и бутерброды с икрой! К тому же этот Эдик обещал «поляну» после спектакля накрыть…
Володя согласился.
Эдуард встретил их у служебного входа, проводил в директорскую ложу и, попросив задержаться после спектакля, удалился.
Водевиль оказался и вправду лёгким и непринуждённым. Молодые актрисы порхали по сцене, как бабочки. Все они были милы, ярко загримированы, в нарядных платьях прошлого века. Упоров старался угадать, кого именно приведёт Эдуард. В перерыве посетили буфет, приняли на грудь по сто граммов коньяку. И второе действие пролетело ещё стремительней.
После спектакля Эдуард влетел в ложу и с порога, рассеивая все сомнения Володи в серьёзности его обещания «накрыть поляну», вдохновенно пригласил:
– А теперь ко мне, друзья! Гостиница буквально в двух шагах от театра…
– А как же актрисы? – напомнил Упоров.
Эдуард улыбнулся:
– Актрисы придут позднее. Им же надо снять грим и переодеться.
В номере у Эдуарда был щедро накрыт стол. Две бутылки самого дорогого армянского коньяка, шпроты, бутерброды с ветчиной и копчёной колбасой, ваза с краснобокими яблоками и чёрным виноградом. Володя заметно повеселел, да и у самого Упорова глаза от таких дефицитных яств заблестели.
Эдуард жестом хлебосольного хозяина пригласил к столу. Выпили по одной, по второй, по третьей. И Эдуард вдруг заговорил по-немецки:
– Es blasen die blauen Husaren…
У Володи и Упорова вытянулись лица.
Эдуард, раскрасневшийся от выпитого, пояснил:
– Это Гейне. «Трубят голубые гусары, Верхом из ворот выходя…» – и обратился к Упорову: – Вы любите Гейне, Василий?
– Актрисы-то когда придут? – вопросом на вопрос отозвался Упоров.
– Скоро уже…
Они выпили снова. Открыли вторую бутылку. Эдуард ещё порывался что-то читать из Гейне. Да так напыщенно и театрально, что Володя вышел в коридор покурить.
– Где же актрисы? – поглядев на часы, стрелки которых показывали, что до закрытия корпуса им не успеть, тревожно спросил Упоров.
Эдуард странно посмотрел на него и мягким, вкрадчивым голосом произнёс:
– Какой у вас красивый профиль, Василий. Просто как у римского кесаря…
Упоров недоумённо вытаращился на него, как сказал бы знаменитый писатель, «по-бычьи ворохая глазами»:
– В чём загвоздка, Эдуард? Актрисы не придут?!
Эдуард протянул руку через стол и положил её на руку Упорова:
– А зачем нам актрисы, Вася?
– Как «зачем»? – вскинулся Упоров. – Ты же обещал!
Эдуард заговорил быстро и вкрадчиво, глядя прямо в глаза Упорову:
– Зачем нам актрисы, Вася… Оставайся со мной.
– А Володю куда? – не понял Упоров.
– Володя пойдёт на турбазу.
– А я как же?
– А ты останешься… Останешься и испытаешь такое, что тебе и не снилось. Никакие актрисы этого дать не смогут. А я дам. На всю жизнь запомнишь…
Упоров, конечно, знал по рассказам людей бывалых, что существуют такие мужчины, которые любят мужчин. Но сам никогда с ними не сталкивался. Он мгновенно вспотел. Резко выдернул руку из-под горячей руки Эдуарда. Вскочил и сделал шаг назад, роняя стул, на котором сидел. Вслед за ним вскочил и Эдуард.
В этот момент в номер вошёл Володя.
Упоров возопил:
– Вова, он же «голубой»!
– Чё! Кто «голубой»? – не понял Володя.
– Да этот вот! – Упоров ткнул пальцем в Эдуарда.
Володя рявкнул, как медведь:
– Щас мы его на свастику рвать будем! – и двинулся всей своей могучей тушей.
Эдуард проявил неожиданную ловкость. Опрокинув Володин стул, он метнулся на балкон, закрыл за собой дверь и втолкнул в ручку швабру, очевидно, припасённую для подобного развития событий.
Упоров, обгоняя Володю, рванул на себя дверь – она была закупорена наглухо. Он ударил по раме так, что затрепетали стекла. И тут Эдуард, свесившись с балкона вниз, заверещал:
– Милиция! Помогите, убивают, грабят!
Володя схватил стул, замахнулся, чтобы ударить по стеклу. Упоров, к которому вернулось здравомыслие, остановил:
– Уходим! Сейчас такой кипеж поднимется, не отмоемся потом…
Они быстро вышли из номера, захватив с собой в качестве трофея недопитый коньяк. Бегом спустились в вестибюль, мимо полусонного швейцара выскользнули на улицу и припустили в сторону турбазы.
– Жалко, что мы ему рожу не начистили! – на ходу комментировал ситуацию Упоров.
– Да ему не рожу, а седалище начистить надо! – потряс огромным кулаком Володя.
Они на ходу допили коньяк:
– Эх, театрал, ядрить тя в корень… – нудил Володя, – придётся ночевать на лавке. По корпусу-то дежурит Харибда…
Харибдой отдыхающие прозвали немолодую, вечно раздражённую и озлобленную на весь белый свет тётку, взявшую на турбазе на себя роль «полиции нравов»: никого после одиннадцати она в корпус не пускала, даже по приказу дежурного. В каждом опоздавшем мужчине видела злостного нарушителя семейных ценностей, в каждой задержавшейся женщине непременно – гулёну и вертихвостку.
– Отправляйтесь туда, откуда пришли! Нарушать режим тута никому не дозволено! Это вам не проходной двор, а военное учреждение! – голосом прокурора Вышинского вещала она опоздавшим из-за закрытых дверей. Спорить с ней и что-то доказывать было бесполезно.
Прогноз Володи сбылся на все сто. Эту ночь он и Упоров коротали на скамейке перед корпусом. Благо августовские ночи в Сухуми тёплые.
Слушая неумолчный стрёкот цикад, вдыхая терпкий аромат цветов, Володя сердито бубнил, глыбами вываливая слова:
– Завтра всё равно этого Эдика подловим и нюх ему натрём! Как токо посмел, сволочонок, такое советскому офицеру предложить?
– Как мы его сразу не раскусили? Всё про голубых гусаров читал… – соглашался Упоров. – Тоже мне, нашёлся поклонник Гейне… Кто его только в театр Советской Армии устроил? Надо в ГлавПУр написать!
– Не, давай без ГлавПУра. Поймаем гада и нос в губу вколотим, чтобы никого не соблазнял…
– Скажешь тоже, будто он меня соблазнил! – обиделся Упоров.
– Да ты чё? Я не о тебе… Ты у нас – мужик! А этот ещё пожалеет, что с нами связался…
Наутро двери корпуса открыли, и они завалились спать. Проспали до обеда. А когда пришли к театру, оказалось, что львовские артисты уже уехали. И «голубой гусар» вместе с ними…
С той поры и понял Упоров, что театр он не любит.
Однако лет через десять после этого случая он, неожиданно для себя самого, женился на актрисе. Знаменитый писатель сочинил бы, что актриса эта из того самого Львовского театра Советской Армии и играла в том самом водевиле, который посмотрел Упоров по приглашению поклонника Гейне.
Но уже не было ни Советской Армии, ни её Львовского театра. Да и сама Украина стала «незалежной», то есть независимой. И Инга – так звали новую жену Упорова – служила в небольшом драмтеатре в сибирском провинциальном городке.
Незадолго до свадьбы в доверительном разговоре Упоров рассказал ей историю своего знакомства с помощником режиссёра. Инга тут же призналась, что таких «неформалов» и у них в театре предостаточно. Упоров расхохотался, но вопрос поставил ребром: или семья, или этот вертеп. Именно так он с некоторых пор и называл театры.
Инга оказалась девушкой рассудительной и ответила ему так, что и знаменитый писатель безо всякого сомнения назвал бы её изящной и мерцающей…
Снегопад
Снег шёл несколько суток. Неправдоподобно большими влажными хлопьями он облепил Каменноостровский дворец, раскидистые вязы и дорожки парка, горбатый мост через чёрную незамерзающую Малую Невку. В этом снегу даже сбившиеся в стаю и тихо плывущие по течению дикие утки походили на плавучий белый остров.
Дворец был заложен Екатериной Великой для сына Павла, ещё в бытность его цесаревичем. Как известно, отношения Павла с матерью были не самыми безоблачными, и он не прожил во дворце ни дня. А вот внук великой императрицы, император Александр, сделал этот дворец своей любимой резиденцией. Именно здесь заседал «негласный кабинет» в начальные годы его правления, здесь император встречался с князем Михаилом Илларионовичем Кутузовым в день назначения того командующим русской армией в восемьсот двенадцатом году. Чуть позже во дворце неоднократно бывал Пушкин, а в пятидесятых годах девятнадцатого века жил композитор Рубинштейн…
После революции дворцовый комплекс несколько раз переходил от ведомства к ведомству, пока в нём наконец не обосновался Ленинградский санаторий Военно-воздушных сил.
Некипелов смотрел из окна дворца на белое крошево. Настроение было подстать погоде – меланхолическое. Снегопад и слякоть нарушили его планы совершить пешую прогулку на Чёрную речку к месту дуэли Пушкина. В центр же города не хотелось. Там можно, конечно, было бы забраться в какую-нибудь пивнушку и пить подогретое пиво из стеклянных кружек с отколотыми краями. Прежде горячего пива Некипелов никогда не пивал, а потому быстро оценил ленинградское ноу-хау и даже пристрастился к такому пивку. Но сегодня не хотелось ни пива, ни ресторанов, ни глядеть на «пляску с топаньем и свистом под говор пьяных мужичков…»
Оставалось одно: приняв утренние процедуры, слоняться по дворцу из угла в угол, то и дело натыкаясь взглядом на таблички, развешанные по стенам: «Памятник архитектуры. Охраняется государством. Руками не трогать…»
Сказать откровенно, более неудачное место для устройства лечебного учреждения было трудно придумать. Поскольку дворец всё время числился памятником союзного значения, перепланировка его помещений была строго запрещена. Даже гвоздя в стену не вобьёшь без соответствующего разрешения надзорных органов. Поэтому физиокабинет и душевые комнаты располагались в одном из дворцовых флигелей, в другом – находилась столовая. Грязеводолечебница была оборудована в помещении бывшего музыкального салона, а кабинет массажа – в императорском кабинете. Аванзал с фрескам, исполненными знаменитыми Бренной и Лабенским по гравюрам Пиранези, превратили в помещение для танцев, которые два раза в месяц устраивал для отдыхающих замполит санатория. В Зеркальном зале поместилась Ленинская комната. Двухместные палаты на втором этаже, они же бывшие помещения прислуги, достались полковникам, генералам и членам их семей. Старших офицеров, прибывших без жён, расположили по четверо в двух парадных гостиных и в бывших личных покоях великокняжеской четы. Под палаты для младших офицеров выделили Малиновую гостиную и Картинный зал, расположенные на первом этаже. Каждая палата по двадцать койкомест.
Некипелов обитал в Картинном зале. Зал был высокий, полукруглый, со стрельчатыми окнами почти до самого пола. О его прежнем названии свидетельствовали только табличка да старинные гвозди, вбитые под потолком для подвешивания картин.
Соседом Некипелова по палате оказался ровесник, старший лейтенант Виктор Литвяк, чернявый, кривоногий и низкорослый, но заводной и с чувством юмора вертолётчик из Троицка.
– Ты думаешь, меня сюда лечиться направили? – в первую же минуту спросил он Некипелова и загоготал: – Я, Саня, здесь в ссылке, как Пушкин в Михайловском.
Некипелов искренне удивился:
– Тебя, что ли, сюда за вольнодумство сослали?
Литвяк снова загоготал:
– В какой-то степени и за вольнодумство. А вообще-то, Александр Сергеич поплатился за свою любвеобильность. Он же, будучи в Крыму, клинья к жене царского наместника, графа Воронцова, подбивал. Вот граф и расстарался, чтобы молодого соперника удалить…
– Ну, а ты к какой графине клинья подбивал? – иронично спросил Некипелов.
Литвяк самодовольно хмыкнул:
– Много их всяких было… А тут как-то враз рогатые мужья на меня пожаловались и в политотдел, и комполка. Вот командование и приняло мудрое решение – отправить меня в санаторий на месяц, пока страсти в гарнизоне не улягутся…
– Да ты прямо гигант…
– Гигант не гигант, а бабы довольны… – со значением сказал Литвяк и полюбопытствовал: – А ты как здесь очутился среди зимы?
– Смешно рассказывать, – отмахнулся Некипелов.
В санаторий он попал, действительно, по нелепой случайности. У него, много лет серьёзно занимавшегося спортом, никогда не жаловавшегося на здоровье, вдруг забарахлило сердце. Осенью его перевели в Свердловск на должность замполита роты охраны штаба ВВС округа. Пришлось проставляться по старому месту службы и представляться по новому. А тут ещё сына надо в детский сад устраивать. Чтобы не стоять в многолетней очереди, новые коллеги подвели его к знакомой директрисе детского сада. Она окинула Некипелова оценивающим взглядом:
– Ребёнка вашего приму, но с вас потребуется трудовой вклад в обустройство нашего детского учреждения: сделайте кирпичную кладку в одном из подсобных помещений. Оштукатурьте, покрасьте. Справитесь?
– Сделаем, – заверил Некипелов.
В ближайший выходной, взяв на помощь солдатика из своей роты, он принялся за работу. Работали ударно, как комсомольцы у Николая Островского на Боярке. За день сделали то, на что бригаде каменщиков и маляров потребовалось бы дня три.
Вечером, с устатку, намахнул стопку и свалился со стула, потеряв сознание. Штабной врач поставил диагноз – нейроциркуляторная дистония по кардиальному типу и настоял, чтобы в очередной отпуск, который вопреки присказке «солнце светит и палит, в отпуск едет замполит» пришёлся на февраль, Некипелов поехал в санаторий.
…Снег за окном всё шёл и шёл не переставая, совсем как в модной песне: «А снег кружил и падал, а снег кружил и падал…» Эту песню многократно, до отупения, горланили в фирменном ресторане «Кавказский», что расположен на Невском, неподалёку от Гостиного двора. В этот ресторан Некипелова несколько раз зазывал Литвяк, всё пытающийся найти себе пассию.
Подражая выходцам с кавказских гор, он гнусавил:
– Панымаэшь, дарагой, я биз девочка адын ден магу. Дыругой ден магу. А болше не магу… Очын девочка хачу!
Но ленинградки оказались такие недоступные, что у известного сердцееда ничего не получалось. А Некипелов даже и не пробовал. Не хотелось, да и жену он любил.
Но Литвяк не унывал. Он повторял попытки «закадрить» кого-нибудь ежедневно. Вот и сегодня, невзирая на снегопад, вышел на охоту, предупредив, что к ужину вернётся.
К ужину он не вернулся. Не пришёл и к отбою, когда двери санатория наглухо закрылись.
«Значит, нашёл то, что искал», – успокоил себя Некипелов, укладываясь в кровать у окна. Сам он весь остаток дня провёл с романом Дюма «Королева Марго» и теперь хотел поскорее заснуть, пока не заработала местная «артиллерия» – два сорокапятилетних капитана-храпуна у противоположной стены. Засыпая, ещё успел тихо порадоваться, что опередил соседский храп.
Его разбудил громкий, отрывистый стук в окно. Он не сразу открыл глаза, трудно соображая, что происходит. Стук повторился. Некипелов наконец проснулся. Первым делом глянул на часы со светящимися стрелками. Была половина третьего. За окном, в снежной круговерти, маячил человек. Некипелов подошёл к окну и узнал Литвяка. Тот стоял по пояс в сугробе и жестами просил отворить окно.
«Как я тебе отворю? Всё на зиму заклеено… Шатаешься тут по ночам!» – разозлился Некипелов, но с трудом дотянулся до верхней задвижки и, обрывая полосы утеплителя, распахнул окно.
В палату ворвался снежный вихрь и холод, заставившие Некипелова отпрянуть в сторону. В окно, вместо Литвяка, неуклюже влезла незнакомая женщина.
Она зябко повела плечами, встряхнулась, как собака, вышедшая из воды, осыпав Некипелова и его кровать снегом. От женщины пахло сыростью, вином и сигаретами. Она косо взглянула на скукожившегося Некипелова и так мерзко хихикнула, что ему захотелось тут же вытолкнуть её обратно. Следом в окно влез Литвяк. Он так же бесцеремонно отряхнул снег на некипеловскую кровать.
Некипелов зло прошипел:
– Ты с ума сошёл, Витька! Куда её приволок?
– А куда нам идти, Саня?.. – возмутился Литвяк. – Люсинда, понимаешь, живёт в коммуналке, с матерью и сестрой.
– Дэ-а, с матерью и с с-сестрой, – поддакнула Люсинда, стягивая с себя искусственную шубу а-ля леопард и развешивая её сушить на спинку некипеловской кровати.
– Тихо, ты! Людей разбудишь! – Некипелов возмущённо перебросил шубу на кровать Литвяка.
Литвяк успокоил его:
– Не боись, Санькя! Мы – тихонечко… Счас лягем, вздремнём чуток. А утречком, как рассветёт, я её фюить… – он сделал рукой жест в направлении окна.
– Как знаешь! – сказал Некипелов и забрался под одеяло. Но поспать больше не получилось.
Сначала у него за спиной раздался громкий шелест сбрасываемых одежд и дважды коротко скрипнула кровать. Потом Литвяк и Люсинда на какое-то время притихли, очевидно, согреваясь. Затем кровать заскрипела снова, на этот раз с определённым ритмом. К скрипу кровати добавились вздохи и стоны…
– Тише ты, тише, не ори! – урезонивал Литвяк, но Люсинда была безудержна.
Соседи заворочались, перестали храпеть, но какое-то время молчали.
– Когда прекратится это безобразие? – наконец возопил из дальнего угла старший из капитанов.
– Совсем стыд потеряли! – поддакнул ему сосед.
Литвяк и Люсинда на время притихли. И только палата успокоилась, снова заскрипела кровать, застонала Люсинда, завозмущались капитаны.
И так до самого подъёма.
Едва за окнами забрезжило, Литвяк стал выпроваживать Люсинду. Она упиралась:
– А п-проводить даму!
– Нет уж, голубушка, сама, сама… – Литвяк с трудом вытолкнул её в окно и закрыл его на нижнюю задвижку.
Люсинда ещё какое-то время поскреблась в стекло. Но тут зажёгся свет, офицеры сгрудились у окна, разглядывая её. Она засмущалась и побрела по сугробам прочь.
Мнения обитателей палаты о ночном происшествии разделились. Старшие по возрасту возмущались и обещали пожаловаться санаторному начальству, младшие, за исключением Некипелова, одобрительно похлопывали Литвяка по плечу и завистливо спрашивали:
– Ну, как?
Литвяк снисходительно улыбался, но от комментариев воздерживался.
Последствия не заставили себя ждать.
Через пару дней герой-любовник как-то сник, перестал улыбаться и хорохориться.
– Что с тобой, Витёк? – поинтересовался Некипелов. – Неужели опять бабу охота? Так Люсинду позови… Небось адресок-то оставила?
Литвяк зло выругался:
– Да пошла она…
– Вот те раз! С чего вдруг такие перемены?
– Наградила. Насморком…
– Каким насморком? – не сразу понял Некипелов.
– Тем самым, – Литвяк выразительно опустил глаза и перешёл на свистящий шёпот: – Теперь амбец!
Некипелов попытался утешить:
– Да ладно ты, какой амбец. Лечится этот твой «насморк». Иди к венерологу.
– Вот-вот. Иди. А ты знаешь, что о каждом таком случае по месту службы сообщают…
– Тебе-то что? Ты же холостяк.
Литвяк погрустнел ещё больше.
– У меня кандидатский стаж через месяц заканчивается. Придёт в часть «телега», припомнят ещё прошлые «заслуги» и всё – прощай КПСС! А что это такое, сам знаешь…
Некипелов кивнул:
– Да, Витя, положеньице не позавидуешь…
Литвяк взмолился:
– Саня, как друга тебя прошу, выручай! Ты же политработник, придумай что-нибудь!
– А что я могу? Я же не врач! – Некипелов развёл руками.
Однако бросать приятеля в беде было нельзя. Некипелов остаток дня думал, думал и придумал, как можно попытаться спасти Литвяка.
– «Насморк» – это болезнь, – сказал он ему. – А болезнь лечат лекарствами. Лекарства продают где? В аптеках. Значит, надо пройтись по аптекам и купить его.
– Ага, кто тебе даст антибиотики без рецепта? – мрачно усомнился Литвяк.
Некипелов жестом фокусника вытащил из кармана двадцатипятирублёвую купюру:
– А кто тебе сказал, что у нас его нет? Такие «рецепты» ещё ни один Минздрав не отменял…
Литвяк восхитился:
– Здорово, Саня! Как ты до этого додумался? Если выгорит, с меня – поляна…
– Ну, не без этого…
Им повезло не сразу. В двух десятках аптек аптекарши и слушать ничего не хотели, мол, без рецепта лечащего врача – ни-ни. А то от самолечения ещё последствия будут опасные для организма, можно навсегда бездетным остаться… И только в какой-то захудалой аптеке на окраине города одна старенькая провизорша, ленинградка-блокадница, как она сама представилась, отнеслась к проблеме с пониманием. Деньги взяла и лекарства выдала, снабдив схемой, по которой надо его употреблять. Схему чисто по привычке политработника старательно переписал в свой блокнот Некипелов.
– Когда пропьёте курс, обязательно сделайте провокацию, – наставляла Литвяка блокадница.
– Как это «провокацию»? – вытаращился Литвяк. – Снова с ба… с женщиной, что ли?
– Да нет же, молодой человек. Просто выпейте вместе с вашим другом, да покрепче и посмотрите на реакцию, – с пониманием улыбнулась она. – Если всё нормально, значит, лечение прошло успешно.
Лечение продолжалось неделю. А на следующую субботу, когда явные признаки болезни были устранены, устроили провокацию – завалились в ближайшую пивную, где и накушались до соплей. То есть под завязку.
Из подвальчика возвращались в санаторий пешком, всё под тем же непрекращающимся снегопадом. Шли, горланя популярное: «Такого снегопада, такого снегопада давно не помнят здешние места…»
На душе было весело и вольготно.
На Каменном острове, сами не зная как, очутились возле какого-то длинного глухого забора, выкрашенного в тёмно-зелёный цвет. Пошли вдоль него, продолжая петь во весь голос. Внезапно перед ними выросла фигура милиционера в полушубке и каракулевой шапке:
– Вы кто такие? Чего здесь шляетесь? Чего орёте? В вытрезвитель захотели? – строго воззрился он на них.
– Нет, в вытрезвитель не хотим! Мы из санатория ВВС, офицеры… Отдыхаем. А разве запрещено здесь гулять?
Милиционер неожиданно сменил гнев на милость:
– Вот что, лётчики, это дача товарища Романова. Если не хотите больших неприятностей, кончайте шуметь и отправляйтесь быстрее в свой санаторий. Ясно?
Некипелов и Литвяк переглянулись. Романов – первый секретарь Ленинградского обкома и член Политбюро ЦК КПСС… Быть задержанным у его дачи в пьяном виде – это было посерьёзней какого-то «насморка». Тут не только из партии, но и из армии попрут.
Вежливо попрощавшись с грозным милиционером, они тут же ретировались, благодаря судьбу, что отделались так легко.
Наутро снегопад прекратился. Через день Литвяк уехал в свой гарнизон, а после Некипелов отбыл к своему месту службы, и ленинградское происшествие позабылось.
Через два года в политотдел авиации округа, куда перевели к этому времени Некипелова, приехал лектор из Москвы. Он рассказывал о подвигах наших авиаторов в Демократической Республике Афганистан и назвал среди прочих отличившихся капитана Виктора Литвяка.
– Командир эскадрильи капитан Литвяк, – говорил он, – рискуя жизнью экипажа, посадил вертолёт на скалу в таком высокогорье, где по всем законам аэродинамики вертолёты вообще летать не могут. Да ещё в обильный снегопад… Это просто невероятно! Под огнём душманов взял на борт разведгруппу десантно-штурмовой бригады с важным пленным, командиром крупного бандформирования. Его захват способствовал налаживанию мирного переговорного процесса в провинции Саманган…
– Вы не знаете, что стало с самим Литвяком, товарищ полковник? – после выступления подошёл к лектору Некипелов.
– Насколько мне известно, капитана за совершённый подвиг представили к званию Героя Советского Союза… А вы знакомы с героем, старший лейтенант?
– Да, просто как-то отдыхали вместе… – буркнул Некипелов.
И как-то однажды вернулся Некипелов из служебной командировки и застал жену с любовником. Любовнику начистил морду, а с женой состоялась «бурная сцена», закончившаяся примирением и постелью… После обнаружилось, что болен. Вот тут-то и осознал Некипелов в полной мере, какой ужас испытал в своё время заболевший Литвяк. На всю жизнь остался Некипелов благодарен сердобольной блокаднице за подсказанный рецептик…
Тайный сотрудник
Громов с детства мечтал стать разведчиком. Все книжки в городской библиотеке про чекистов и про шпионов он прочитал запоем, а фильмы «Подвиг разведчика», «Сильные духом» и «Щит и меч» смотрел в кинотеатре едва ли не каждый день, пока шёл показ.
Но поскольку в его южном городке узнать, где и как готовят разведчиков, было невозможно, поступил Громов в обычное военное училище связи. Там у него проявилась склонность к общественной работе. Поэтому после назначения в полк лейтенанту Громову предложили стать секретарём комитета ВЛКСМ.
Комсомольская работа расширила круг его знакомых: работники местного областного комитета комсомола, учителя соседних школ, сотрудники клубов и библиотек, где проводились комсомольские мероприятия. Особенно подружился Громов с Олегом Закутько – заведующим отделом оборонно-массовой работы обкома. Закутько оказался парнем прямодушным, обаятельным, открытым. Такие люди всегда нравились Громову.
В числе приятелей оказался и начальник особого отдела полка капитан Листовой. Был Листовой из «пиджаков», то есть призван в армию после гражданского вуза. По профессии он был учителем ботаники, по хобби – книгочеем и знатоком литературы и тем сразу пришёлся по душе Громову, пробовавшему писать короткие рассказы. Ну, и конечно, Громову льстило, что он дружил с человеком из секретных органов, куда сам когда-то мечтал попасть…
Громов, в свою очередь, познакомил Листового и Закутько. Посидели, выпили, понравились друг другу. С той поры ни одного выходного не проходило, чтоб приятели не собирались то в бане за кружечкой пива, то на берегу речки с удочками…
Всё было в ажуре до одного случая, изменившего их отношения. Как-то Листовой пропустил общий сабантуй, потом поинтересовался, как всё прошло. Громов рассказал, сделав упор на то, что и напились и напелись…
– Что пели-то? – спросил Листовой.
– Да, разное. Военные, комсомольские. А потом Закутько на ридной мове запел – заслушаешься… Голос у него, хоть в Большой театр бери!
Рассказал об этом Громов и забыл. А через день Листовой зашёл к нему в комитет комсомола и бухнул с порога, что с Громовым хочет встретиться один важный человек.
– Кто такой? – поинтересовался Громов.
– Поедем, там узнаешь.
На «шестёрке» Листового они выехали за ворота гарнизона и покатили в центр города. За всю дорогу не проронив ни слова, Листовой притормозил у подъезда областного управления КГБ.
С трепетом вошёл Громов в «святая-святых», не понимая, кому он мог понадобиться и по какой причине.
Старший сержант с буквами «ГБ» на синих погонах проверил пропуск у Листового и внимательно просмотрел все страницы удостоверения Громова, потом взял под козырёк.
Громов и Листовой поднялись на третий этаж в приёмную начальника управления. Секретарша, очевидно, была хорошо знакома с Листовым. Она ласково улыбнулась ему и окинула Громова пристальным взглядом кондукторши в автобусах или женщины-разведёнки.
– Проходите, вас ждут, – произнесла она с пониманием своей важной миссии.
В длинном сумрачном кабинете, стены которого были закрыты такими же, как в обкоме комсомола, полированными панелями цвета морёного дуба, за объёмным столом с бюстом Железного Феликса, сидел человек с полковничьими погонами на плечах. Он не спеша поднялся навстречу.
– Здравствуйте, Иван Сергеевич. Называйте меня Владимиром Николаевичем, – он пожал руку Громову. Рукопожатие было крепким и сам полковник, хотя едва доходил Громову до плеча, внушал уважение и невольный трепет. Наверное, всё дело было в глазах, колючих, как буравчики. Крючковатый нос, высокий лоб с залысинами – словом, вылитый «ястреб холодной войны». Так на карикатурах изображали хищных американских империалистов.
По-свойски, но – не запанибрата – полковник поздоровался с Листовым, пригласил за стол, стоящий в торец его начальственному, и сам уселся не в своё кресло, а на стул напротив. Выдержав томительную для Громова паузу, спросил:
– Вас, должно быть, удивляет моё приглашение?
Громов слишком поспешно кивнул, невольно выдав своё волнение. И это не ускользнуло от проницательного взгляда полковника и, похоже, понравилось ему.
– Я наслышан о вас, – сказал он веско. – Знаю вас как честного офицера, молодого коммуниста, человека, преданного нашим идеалам.
«Что же ему от меня надо? – терялся в догадках Громов, с трудом выдерживая взгляд полковника. – Чего он тянет?»
Но полковник и не думал тянуть. Сразу взял быка за рога:
– Ко мне поступила информация, что сотрудник областного комитета комсомола Закутько Олег Петрович, с которым вы состоите в дружеских отношениях, является носителем националистических взглядов и убеждений. Вы можете это подтвердить?
Громов оторопел. Ничего подобного он услышать не ожидал. Во рту у него сразу пересохло.
– Нет, не могу, – не сразу выдавил он из себя.
Полковник укоризненно покачал головой:
– Как же не можете. А не вы ли говорили, что Закутько любит петь украинские песни и на ридной мове гарно размовляет? – он выразительно посмотрел на Громова.
Только тут до Громова дошёл истинный смысл происходящего. Он вспыхнул, но полковнику ответил как можно сдержаннее:
– Товарищ полков… простите, Владимир Николаевич, мне кажется, мои слова были неверно истолкованы. Я действительно как-то похвалил певческие способности Олега Петровича и не более того. Да, Закутько говорит по-украински. Но ведь он сам – украинец, кажется, из-под Ровно… А песни он поёт разные – и русские, и украинские… Но все они написаны известными советскими композиторами и поэтами… Что же касается политической характеристики товарища Закутько, то могу утверждать с полной ответственностью, он – наш, советский человек!
– Да вы не волнуйтесь, Иван Сергеевич, – взгляд полковника сделался чуть-чуть добрее. – У нас служба такая: поступила информация. Её надо проверить. И перепроверить, если потребуется… Спасибо, что не отказались приехать.
Громов про себя усмехнулся: «Попробовал бы я отказаться…», но вслух произнёс то, что полковник хотел от него услышать:
– Полагаю своим долгом коммуниста помогать органам безопасности.
Полковник поднялся со стула:
– Хочу вас предупредить: о нашем разговоре, пожалуйста, никому не рассказывайте. Тем паче самому Закутько. Ясно?
– Так точно, – по-армейски ответил Громов.
– Надеюсь, что наше сотрудничество на этом не закончится, будет длительным и плодотворным, – полковник на прощание ещё раз мёртвой хваткой стиснул ладонь Громова.
Только в машине Громов наконец дал волю своему гневу:
– Зачем ты передал наш дружеский разговор? Это же настоящее предательство!
Листовой и не думал оправдываться:
– Ты ничего не понимаешь, а ещё мечтал стать разведчиком! В нашей службе нет ничего личного! Всякая информация важна. К тому же скажу тебе по секрету: Закутько у «конторы» на особом контроле.
– Как это «на особом»? Он что – враг?
Листовой понизил голос и сообщил доверительно:
– Да нет. Просто написал заявление с просьбой отправить его учиться в Высшую школу КГБ. И потому должен быть проверен по высшему разряду. А ты сам-то не передумал стать чекистом?
Громов пробормотал что-то невнятное. Но с этого дня грезить о карьере разведчика перестал. Да и дружба с Листовым и Закутько оборвалась.
Ещё раз судьба свела Громова с тайным ведомством много лет спустя, уже в пореформенной России. К этому времени он стал полковником, военным журналистом и открыл тему первых русских поселенцев на Аляске. Областная библиотека решила провести широкую презентацию книги его очерков.
Один знакомый депутат посоветовал Громову пригласить консула США по культуре, который, дескать, родом оттуда, с Аляски, к тому же – историк по образованию и может быть полезен для дальнейшего продвижения книги. Громов возражать не стал.
Через несколько дней Громову позвонили. Мужской голос на ломаном русском сообщил, что консул, господин Хаган, ждёт его завтра в своём консульском отделе для знакомства и переговоров.
Громов сказал, что придёт. И тут-то в нём проснулась вышколенная годами советско-американского противостояния бдительность: как он, действующий офицер, пойдёт на территорию чужого государства, не получив разрешения командования и специальных органов?
К счастью, соседом Громова по лестничной площадке был подполковник Сойкин, служивший в особом отделе округа и время от времени захаживающий пропустить чарку-другую и поболтать на отвлечённые темы.
Сойкин отнёсся к сообщению с неподдельным интересом. Пообещал немедленно сообщить коллегам из областного управления ФСБ. И уже через пару часов на связь с Громовым вышел капитан, назвавшийся Игорем, и назначил рандеву в сквере у драмтеатра в половине седьмого вечера.
Игорь оказался приятным молодым человеком неброской наружности. «Наверное, таким и должен быть настоящий разведчик, чтобы его было труднее запомнить», – промелькнуло в голове у Громова.
– Вам, Иван Сергеевич, горячий привет от полковника Закутько, вашего давнего знакомого, ещё по городу N, – безошибочно назвал Игорь первое место службы Громова.
– От Олега Петровича? – не поверил своим ушам Громов.
– От него самого. Олег Петрович недавно назначен к нам заместителем начальника управления. Он с большой теплотой вспомнил вас и годы комсомольской юности…
«Значит, донос Листового не помешал Закутько поступить в школу КГБ…» – тихо обрадовался Громов.
– Олег Петрович поручил мне проинструктировать вас о поведении там, куда вы завтра пойдёте, – перешёл к делу Игорь. – Скажу прямо, как офицер офицеру: вы поступили очень осмотрительно, предупредив нас об этой встрече. Господин Хаган – профессиональный разведчик, сотрудник ЦРУ с многолетним стажем… – заметив, что Громов внутренне напрягся, успокоил: – Смело идите на встречу, но помните: вас будут пытаться завербовать. Первый признак вербовки, если Хаган станет долго рассказывать о себе. Это профессиональный приём, который должен расположить собеседника, вызвать доверие и встречную откровенность…
Далее последовал подробный инструктаж, что и как говорить Громову, как себя держать с иностранцем.
– После встречи, Иван Сергеевич, пожалуйста, проинформируйте меня, как всё прошло. Олег Петрович очень надеется на вас… – чуть заметно улыбнулся Игорь, прощаясь.
Встреча с американцем была разыграна, как по нотам. Хаган вёл себя в точности, как предсказывал Игорь. Он много рассказывал о своём аляскинском детстве, об учёбе в университете, об археологических экспедициях в глубь материка, о загадочных тотемах индейцев-тлинкитов и своей неизменной любви к великой русской литературе… Громов, следуя инструкции, больше молчал, внимательно слушал и запоминал. На вопросы американца отвечал односложно. И тот вскоре потерял к нему всякий интерес. Но на презентацию прийти согласился и попросил три билета для себя и своих сотрудников.
Громов передал билеты американцу и попрощался.
Игорь, выслушав отчёт Громова, в свою очередь, взял шесть билетов на предстоящее мероприятие:
– Вы же понимаете, за такими «археологами» нужен глаз да глаз… Неровен час, не то и не там накопают… – с многозначительной улыбкой пояснил он.
– А Олег Петрович на презентации будет? – спросил Громов.
– Знаете, Иван Сергеевич, начальникам такого уровня публичные мероприятия посещать у нас не рекомендуется… Но я передам товарищу полковнику ваше желание повидаться.
Представление книги было многолюдным и торжественным. Взволнованный Громов подробно рассказал о своей работе, раздал несколько десятков автографов. Хаган выступил с короткой речью об истории своей родины, а на фуршете провозгласил тост за российско-американское сотрудничество и дружбу. Все дружно кричали «ура» и чокнулись бокалами с шампанским. Всю презентацию по пятам за Хаганом и его коллегами парами ходили «топтуны» (так, кажется, называются сотрудники и сотрудницы наружного наблюдения). Громов без труда заприметил незнакомцев в строгих костюмах среди своих друзей и коллег. Ему даже показалось, что слежку за собой обнаружили и американцы. Но они упорно делали вид, что ничего не замечают, щедро раздавали свои визитки, щёлкали фотоаппаратами и демонстрировали широкие голливудские улыбки. Словом, праздник удался на славу и долго был ещё предметом разговоров в Союзе журналистов.
А вот повидаться Громову с Закутько так и не получилось.
Игорь сказал, что полковник неожиданно отправлен в длительную командировку. Но и эти скупые слова он сказал так, что Громов содрогнулся и проникся важностью услышанного.
– Олег Петрович обмолвился, что вы когда-то мечтали стать разведчиком… – вдруг сказал Игорь.
– Была такая детская мечта… – смутился Громов.
– Так ведь ничего ещё не поздно, – серые глаза Игоря излучали доброжелательность и дружелюбие. – Вы очень способный человек, Иван Сергеевич, и к тому же – патриот России. Это сегодня такая редкость. Исходя из этого, мне поручено предложить вам долговременное сотрудничество… Скажем, не согласились бы вы информировать нас обо всём происходящем в местной журналистской среде, что пишут, о чём говорят? Конечно, на взаимовыгодных условиях.
– Вы предлагаете мне стать осведомителем, капитан? – Громов на миг опешил, но потом гордо вскинул голову: – Извините, но я – русский офицер. У нас доносительство не принято…
– Ну, зачем вы так, Иван Сергеевич? – лицо Игоря стало строгим и неприступным. – Я предлагаю вам помогать органам в разоблачении врагов отечества…
– Это можно было и не предлагать. Если такой враг среди моих коллег появится, сам его к вам за шкирку приведу. А штатным информатором, извините, не буду…
Игорь снова растянул узкие губы в улыбке:
– Вот и хорошо. Рад, что мы поняли друг друга.
Уходя, он бросил загадочно:
– Что же касается доносительства, так у нас добровольных помощников, поверьте, и без вас, уважаемый Иван Сергеевич, предостаточно… Вы же, человек твёрдых убеждений и чести, помогли бы отсеять зёрна от плевел…
Громов поёжился: «Значит, среди журналистов кто-то “стучит”… Но кто? Вроде все такие порядочные люди…»
С тех пор он другими глазами смотрел на коллег, подозревая в доносительстве каждого и стыдясь своих собственных подозрений.
Как-то в Доме журналистов, проходя мимо курилки, он увидел доцента университета и светоча местной журналистики Раказина, курящего в окружении трёх юных дев. Раказин между глубокими затяжками вещал с апломбом небожителя:
– Да мне все эти спецслужбы: КГБ, ФСБ, ЦРУ – глубоко индифферентны. Я ничего не боюсь! Я в жизни и не такое видал. Два года в дисбате кайлом мёрзлое дерьмо отковыривал. Саданёшь по нему – брызги на солнце радугой переливаются. А мороз пятьдесят градусов…
Громов знал, что Раказин любит прихвастнуть, пустить пыль в глаза, особенно молоденьким девицам. Впрочем, он и с коллегами обычно в карман за словом не лез, много о себе разных историй рассказывал. Но про дисбат Громов слышал впервые.
Он невольно замедлил шаг, стараясь оставаться незамеченным, и напряг слух. Но на него и так никто не обращал внимание. Девицы, как зачарованные, таращились на Раказина, буквально поедая его влюблёнными глазами. Одна из них, белобрысая и плоскогрудая, не выпуская сигареты из полураскрытого рта, раскачивалась в кресле, словно кобра перед флейтой заклинателя:
– А как вы в дисбат попали, Ювеналий Эдуардович?
Раказин как будто ждал этого вопроса. Он набычился, придавая лицу ещё более брутальное выражение, и зло процедил:
– Да всё из-за стукачей! Одного гадёныша на апперкот поймал, а меня сразу в казарменные хулиганы записали и – за полярный круг…
Девицы заахали и вытаращились ещё сильнее:
– А как же вы потом, в университет, в аспирантуру?
– Если человеку дан настоящий талант, он и стену лбом прошибёт…
Дальше слушать россказни Раказина Громов не стал, пошёл прочь. Но фразу про дисбат запомнил. И когда к очередному юбилею Раказин опубликовал свои мемуары, прочитал их с пристальным вниманием.
В мемуарах Раказин в соответствии с требованиями эпохи обрушивался на советскую тиранию, в цветах и красках описывал, как невыносимо тяжко ему, Раказину, жилось при прошлой власти, как не пускали его, молодого таланта, на страницы толстых журналов злые и бездарные фронтовики, как непроста и извилиста была его жизненная при них дорога. Особенно упирал Раказин на два года, которые ему пришлось провести в страшном дисциплинарном батальоне, где заставляли изо дня в день есть невкусную баланду, а после ломом отбивать наледь в отхожих местах.
«Надо же, не врал, значит, тогда девицам…» – удивился Громов. Но гораздо больше его удивило другое. После «отсидки» Раказин сразу же поступил на журфак. По окончании вуза он, единственный из всего курса, был направлен в загранкомандировку в Пакистан, где несколько лет преподавал журналистику в Пешаварском университете. Там же женился на француженке. Развёлся. Вернулся на кафедру в родной университет, успешно защитился и по сей день процветает, возглавляет, учит, раздаёт оценки…
Громов досконально знал советскую систему: «Ну, не могло быть так, чтобы всё это сошлось в одной судьбе: дисбат и поступление в универ, загранкомандировка в капиталистическую страну и разрешение сначала жениться на француженке, а после развестись с нею, защита кандидатской и тёплое место доцента… Всё это взаимоисключающие события: в вуз никогда не принимали с «волчьим билетом». Имея за плечами даже погашенную судимость или только намёк на неё, нельзя было и мечтать о загранкомандировке. А уж связь с иностранкой не прощалась никому… А если и могло всё это случиться с человеком, то только в одном-единственном случае: какая-то очень могущественная сила вёла его через все эти передряги, чьи-то очень важные поручения он исполнял… Скорее всего, Раказин и есть тот тайный сотрудник, о котором проговорился Игорь! Наверное, ещё в дисбате армейские особисты завербовали… После – коллегам на «гражданке» передали по эстафете… А те и помогли сделать карьеру. Наверняка до сих пор его услугами пользуются…»
И хотя никаких иных подтверждений принадлежности доцента к секретной службе у него не было, он старался держаться от Раказина подальше. Ибо сам Громов, пусть и не мечтал уже давно быть разведчиком, но так и не научился держать язык за зубами.
О пользе классики
Полковник Щуплов и его племянник Игорёк сидели на кухне за столом со следами вчерашнего праздника и тоскливо поглядывали на ходики, стрелки которых как будто застыли на восьми утра. Винный отдел в гастрономе открывался только через три часа.
– Ах ты, ёшь-даёшь, то и ета-филарета! – бормотал полковник Щуплов и с ходиков мутным взглядом переходил на шкафы, пытаясь угадать, где его строгая супружница Зинаида заныкала недопитую пол-литру.
– Ты читал «Братьев Карамазовых»? – неожиданно пробуровил он племянника вопросом.
Игорёк только неделю выпустился из того же военного автомобильного училища, что тридцать лет назад окончил полковник Щуплов.
– Ну, читал, кажется… А что? – замялся Игорёк с ответом.
– Ах, ты ёшь-даёшь! Ежли тебя, лейтенант, старший по званию спрашивает, изволь отвечать по уставу! – брякнул по столу кулаком полковник Щуплов: – А то и ета-филарета, не погляжу, что – родня, сдам в комендатуру!
Игорёк постарался придать своей помятой физиономии преданное выражение, выпучил глаза и, накрыв голову левой ладонью, вскинул к виску правую:
– Виноват, товарищ полковник!
Щуплов кивнул:
– Так-то оно лучше! Не забывай, что перед тобой целый полковник! Так читал или нет про Карамазовых? – сердито переспросил он и, не дождавшись ответа, отрезал: – Дурак ты, племяш! Дурак и не учишься!
– Чё сразу – дурак? – обиделся Игорёк. – И так тошнит, да ещё вы обзываетесь… – вяло огрызнулся он, но на всякий случай спросил: – А чему учиться-то, дядь Жень?
Дядя Женя, полковник Щуплов, несмотря на форму «номер раз» в виде отвислого старого трико и застиранной майки, выглядел грозно. «Ведь и впрямь учудит полковник, сдаст меня в комендатуру…» – подумал Игорёк и в который раз пожалел, что вчера не успел припрятать хотя бы сто граммов на опохмел, которые сейчас очень даже приподняли бы настроение. – Чему учиться-то? – ещё раз переспросил он.
– Всему… – глубокомысленно изрёк полковник Щуплов и прошёлся взглядом по Игорьку, внезапно подобрев. – А ты – ничо, то и ета-филарета! Богатырь! Наша кровь! – и вскинулся: – Вот, что… Слушай сюда, племяш! – Резко притянув голову Игорька к себе, он громким свистящим шёпотом, от которого у племянника дрогнули перепонки, просипел ему прямо в ухо:
– Классику читать надо!
Игорёк с трудом вырвался из дядиной цепкой хватки и передёрнул плечами:
– Ну, это нам ещё в школе твердили. Только на кой ляд мне, военному инженеру, вся эта классика? Всё равно что козе баян!
– Дурак ты, племяш! – полковник Щуплов покачал крупной головой с шишковатым, с залысинами лбом, с кривым лиловым шрамом над правой бровью и нравоучительно сказал: – Учись, пока я жив! Крепко заруби себе на носу: настоящая классика, ах, ты ёшь-даёшь, жизнь может спасти!
– Как это, жизнь? – на этот раз вполне искренне удивился Игорёк.
– А вот так, – полковник Щуплов снова поглядел на ходики и приказал: – Прикрой дверь, чтобы Зинку мою не разбудить… То, что расскажу тебе, не для бабьих ушей!
– Так вот, – как-то вдруг приосанился и даже слегка прояснел взглядом полковник Щуплов, когда Игорёк плотно прикрыл дверь и снова уселся напротив него. – Так вот! Ехал я, ёшь-даёшь, в свой первый офицерский отпуск из ГСВГ[17]. Было мне тогда, племяш, ну, как тебе – двадцать с небольшим. Холостяк. Командир взвода. Карманы от денег топорщатся, дури в башке хоть отбавляй. В Бресте, где западные рельсы кончаются и начинаются отечественные, полагалась пересадка. Приехал я в Брест, значит, утром, а поезд в Москву только поздно вечером. Чё делать? Ну, сдал я свой чемодан «гросс Германия» в камеру хранения, ну, по городу туда-сюда прошёлся, ну, в крепость Брестскую заглянул… А времени ещё вагон да тележка остаётся… Подался, то и ета-филарета, в место отстоя, что у всех едущих и на запад, и на восток, одно – привокзальный кабак. Подался и завис там до вечера. Заказал себе выпить и закусить. Сижу, скучаю… Днём посетителей, кроме таких же, как я вояк, никого не было, а часам к пяти стали появляться разные дамочки расфуфыренные и разодетые в модные тогда крепдешины. Одна, лет тридцати пяти, прямо ко мне подрулила, мол, разрешите, товарищ офицер, составить вам приятную компанию… – полковник Щуплов довольно ухмыльнулся, многозначительно подмигнул Игорьку и, понизив голос, продолжал: – Но к чё! Я, дело понятное, не возражал. Дамочка эта, звать Нонна, оказалась особой компанейской. И даже очень. Мы с нею, ёшь-даёшь, слово за слово, два графинчика водовки выкушали. За мой счёт, разумеется. Дурь в башке ещё больше закипела. Я деньгами своими шуршу, у неё глазки-пуговки всё ласковей поблескивают. В общем, то и ета-филарета, говорит Нонка мне, что неплохо бы нам до неё прокатиться. Такси, дескать, на привокзальной площади ждёт, туда-сюда, любовь-морковь. После водовки выкушанной, ну, ты меня, племяш, понимашь, Нонка эта, с первого взгляда, бабёнка обыкновенная, мне даже нравиться стала. Быстренько кумекаю: до поезда моего ещё четыре часа – успеем… Говорю Нонке: «Ах ты, ёшь-даёшь, поехали!» Взял в буфете с собой пузырь «Московской» и айда с ней под ручку на привокзальную площадь. Только вышли из кабака, старенькая «Победа» с шашечками подкатывает. За рулём таксист в годах, чернявый с проседью. То ли кавказец, то ли цыган. Нонка прыг на заднее сиденье, ну и я к ней… Таксист по газам. А Нонка меня к себе притянула… Пока помаду с её губ облизывал, гляжу, а мы уже за город выкатили. Скажу тебе честно, племяш, пьяный не пьяный я был, а как-то слегонца заволновался. «Куда это мы едем?» – спрашиваю. «Не волнуйся, милый, скоро уже…» – говорит Нонка и опять целоваться лезет. Тискаю её, а тревога всё нарастает. «Победа» вдруг с шоссе сворачивает в лес. Едем по раздолбанной дороге. Через какое-то время останавливаемся на поляне перед длинным бараком. «Приехали!» – Нонка первой выныривает из такси. Я сую деньги водиле, и тот уезжает. Огляделся я. Солнца из-за деревьев уже не видно. Вот-вот смеркаться начнёт. В бараке ни одно окошко не горит. А Нонка дверь распахнула, стоит на пороге и манит меня за собой. Ну я и пошёл, как кролик за удавом…
Полковник Щуплов умолк, поднялся со стула и прошлёпал босыми ногами к раковине. Налил в кружку воды из крана, большими глотками осушил её и воззрился на Игорька, выдерживая паузу.
– И что дальше было, дядь Жень? – спросил Игорёк.
Довольный вниманием племяша, полковник Щуплов растянул рот в улыбке, блеснув при этом золотой фиксой:
– Не спеши, а то успеешь. Помнишь, ах ты, ёшь-даёшь, где нужна спешка?
– При поносе и ловле блох, – проявил осведомлённость Игорёк.
– Так точно, – согласился полковник Щуплов. – Только ты поперёд батьки, как говорится, не лезь! Усёк?
– Усёк! – послушно кивнул Игорёк, так как спорить с дядей ему не хотелось, да и рассказ был интересен.
Полковник Щуплов прошлёпал обратно к столу, плюхнулся на стул и продолжил:
– Так вот захожу я вслед за Нонкой в барак. Темно, как у негра, сам понимашь где… Держусь за стенку, идём по длинному коридору. Нонка впереди каблуками стучит. А я всё подвоха жду: откуда по башке долбанут… А чё делать-то? Назвался поганкой, полезай в кузовок… Вдруг скрипнула дверь. Мы зашли в комнату. Щёлкнул выключатель, и тут мне совсем поплохело: бардак, малина, чёрт знает что! Грязный, немытый пол, стол с какими-то объедками, у завешанного старой скатертью окна, солдатская кровать, накрытая суконным одеялом… А Нонка уже без платья, в комбинашке одной, сидит на этой кровати и чулки с себя стягивает, зовёт: «Ну, лети ко мне, голубь мой сизокрылый! Вот она я – вся твоя!»
Щуплов крякнул и перегнулся через стол к Игорьку:
– Я – не чистоплюй, но скажу тебе как мужик мужику, племяш, вряд ли что с Нонкой вообще получилось бы у меня в этой антисанитарии, кабы не одно обстоятельство. Рядом с кроватью тумбочка стояла, тоже казарменная. А на ней – книга. Я гляжу: Достоевский. «Братья Карамазовы». Баба-то, Нонка, оказывается, культурная, ишь какие книжки умные читает… Поставил я рядом с книжкой пузырь, и что-то у меня оттеплело в груди. Тепло это вниз поползло. В общем, дальше ты знаешь, взрослый уже… После всего Нонку спрашиваю: «Это ты Достоевского читаешь?» А она, как заржёт: «Ой, уже дочитываю…» Книжку-то открыла. А в ней уже половины страниц нет. Нонка очередную вырывает… и – хвать ей, себе гигиену навела… У меня челюсть так и отпала. А Нонка, как ни в чём не бывало, следующую страницу – рраз! – и мне суёт, тоже, мол, гигиену наведи, ёшь-даёшь!
Игорь едва со стула не свалился
– Вот это культура! Ха-ха-ха! – загоготал он.
– Тише ты, то и ета-филарета, Зинка проснётся! – прицыкнул полковник Щуплов, встал, тяжело прошёлся по кухне взад-вперёд и остановился у окна, ожидая, пока племянник успокоится, потом сказал с некоторой даже обидой в голосе: – Тебе бы всё хи-хи да ха-ха, племяш! А мне тогда вовсе не до веселья стало! Значит, Нонка, стерва, мне страничку протягивает. И в этот самый момент слышу: машина подъехала. По движку, ёшь-даёшь, а слух у меня на моторы, сам знаешь, какой – та самая «Победа», что нас сюда привезла. У неё ещё клапан во втором цилиндре постукивал. Я в чём мать родила к окошку подскакиваю. Гляжу в щёлку: такси остановилось на краю поляны, а из него три чмыря вышли. Хоть почти стемнело, разглядел я, что рожи у них у всех уголовные, ничего хорошего мне не сулящие. И водила этот, что нас привёз, четвёртым уже, тоже из машины вышел. Сгрудились они у капота, о чём-то совещаются, в сторону барака поглядывают. Я резко к Нонке обернулся: «Книжки, значит, читаешь! А это, надо полагать, братья Карамазовы нарисовались?» Она испуганно вытаращилась на меня. Я приказал: «Никшни, Нонка! Тихо лежи, пикнешь, порву!» – и зыркнул на неё страшными глазами: «Веришь?»
– Верю… – промямлил Игорек.
– Да не тебе я это. Ей, Нонке, говорю… Она натянула на себя одеяло до подбородка, ну, вылитая, блин, выпускница института благородных девиц… Тут я быстренько, как по тревоге, на себя галифе, рубаху с кителем натянул, обул сапоги, напялил фуражку. Погасил свет в комнате и снова к окошку метнулся, скатерку с него сдёрнул. Эти, то и ета-филарета, уже к бараку потянулись, трое к крыльцу, а один прямо к окну, где я стоял. Тут уже, племяш, весь хмель из меня разом выдуло. Понял: «Щас убивать меня будут!» Внутри и не страх, и не задор, а пустота какая-то образовалась, такое, ёшь-даёшь, у меня всегда перед дракой бывает… Мышцы напружинились, голова стала работать холодно, расчётливо, и план моментально созрел… Взял я с тумбочки ту самую не початую «Московскую», что с собой привёз, встал подле окна, держу бутылку за горлышко, жду. Думаю: «Не на того вы, урки, нарвались: советский офицер вам без боя не сдастся!» Решил, что того, кто к моему окну идёт, лупану бутылкой по башке и дам дёру… Если повезёт, конечно, выберусь…
Полковник Щуплов замолчал, напрягся, словно снова оказался в том самом бараке, с бутылкой в руке. Игорёк терпеливо ждал, пока он продолжит рассказ.
– Да, племяш, когда перед боем что-то загадываешь, думаешь, так оно и будет, а в натуре, ёшь-даёшь, всё совсем не так получается… Забухали сапоги в коридоре барака, и тут Нонка как заверещит: «Держите его, он в окно сигануть собрался!» Медлить было нельзя. Я окно ногой выбил и на того мужика под окном вывалился… Сбил его с ног и сам не удержался. Фуражка с головы слетела. Вскочил я и в лес. Сзади бухнуло, раз другой. И будто птичка рядом чирикнула. Я, не оборачиваясь, в чащу. Лечу, дороги не разбираю. Пока на сук не напоролся… – Щуплов выразительно провёл согнутым пальцем по своему шраму. – Кровища так и брызнула. Я остановился и только тут увидел, что в правой руке у меня пол-литра зажата. Как её не выронил во время побега, сам не понимаю… Всковырнул зубами сургуч, смочил водкой носовой платок, зажал рану и дальше рванул. Через час-другой вышел на окраину Бреста. Пока добрался до вокзала, поезд мой ту-ту… Делать нечего… Крадучись, чтобы без фуражки и в расхристанном виде не попасть на глаза офицерскому патрулю, пробрался в камеру хранения. Благо в чемодане был цивильный костюм… Переоделся, зашёл в медпункт. Там мне швы наложили. Потом взял билет на следующий поезд и укатил поскорей из «гостеприимного» Бреста, ёшь-даёшь!
Игорёк восхищённо покачал головой:
– Ну ты – просто герой, дядь Жень… – и лукаво спросил: – А классику-то зачем читать надо?
Полковник Щуплов долго не отвечал, думая о чём-то своём. Наконец произнёс внушительно, с расстановкой:
– Тогда, то и ета-филарета, я и понял, что все люди на земле делятся на три категории: кто читал «Братьев Карамазовых», кто ещё может их прочесть и кто никогда не прочитает!
– Нет, дядь Жень, я так считаю, что книжки пишут только для дураков, а умные, они сами… – стал выказывать собственное мнение Игорёк.
Полковник Щуплов, посмотрел на часы:
– Ах, ты ёшь-даёшь! Уже без пятнадцати одиннадцать. Слушай приказ, лейтенант! Живо ноги в руки и дуй в гастроном за бутылкой! И не выдумывай там ничего. Возьми классику!
– Есть, товарищ полковник, взять классику! – вытянулся перед дядей Игорёк.
Новая фамилия
Курсанта выпускного курса военно-политического авиационного училища Антона Дуракова вызвал в канцелярию командир роты лейтенант Грачёв. Ничего необычного в таком вызове не было. Ротный, сам недавний выпускник Московского ВВОКУ[18] имени Верховного Совета РСФСР, с подчинёнными, которых был старше всего на год, играл в демократию. Ко всем курсантам он обращался только на «вы», с каждым здоровался за руку, как с равным, любил долго беседовать с каждым курсантом, так сказать, по душам, чем выгодно отличался от своего предшественника – майора Скляренко, дравшего будущих политработников, как липку, с первого и до последнего курса. Впрочем, такое поведение Грачёву предписывалось и служебными инструкциями. Накануне аттестационной комиссии командир роты был обязан провести с каждым выпускником индивидуальную беседу для выяснения его просьб и пожеланий, иными словами, для уточнения, куда по выпуску хотел бы попасть служить будущий лейтенант: в обычную авиацию, в ВВС ПВО, в авиацию ВМФ или в лётные части пограничных войск… У отличников Грачёв обязательно спрашивал ещё и о желании служить в самых престижных местах: в заграничных группах Советских войск, то есть в ГДР, Венгрии, Чехословакии, Польше и Монголии, а также в столичных военных округах – Московском и Ленинградском.
Курсант Дураков отличником никогда не был, однако и самым отстающим среди сокурсников тоже не числился. Согласно мудрости, завещанной его бабушкой, тамбовской крестьянкой Пелагеей Ильиничной, он вперёд не лез, но и в хвосте не плёлся – был твёрдым хорошистом, несмотря на схваченные ещё на первом курсе две тройки по аэродинамике и материаловедению. Лестных карьерных предложений от лейтенанта Грачёва потому курсант Дураков не ждал, и, следуя опять же бабушкиной присказке – на службу не напрашиваться, от службы не отказываться, – сам для себя давно решил, что поедет служить туда, куда пошлют.
Об этом он и заявил ротному. Длинноносый, черноволосый и шустрый лейтенант Грачёв всем своим видом соответствовал своей фамилии. Он ласково посмотрел на курсанта Дуракова чёрными, круглыми глазами, вскочил из-за стола, мелкими, птичьими шажками подскочил к нему, быстро и крепко стиснул руку и усадил за стол, торцом прижатый к его, командирскому. Сам уселся рядом, но заговорил совсем не о будущем назначении.
– Вы никогда не думали, Антон Валерьевич, сменить фамилию? – ошарашил он курсанта Дуракова обращением по имени и отчеству и самим вопросом.
– Как это сменить? – не понял курсант Дураков.
Лейтенант Грачёв несколько смутился, но продолжал в отеческом тоне:
– Обыкновенно. Сменить, да и только. Как бы это вам сказать помягче: довольно необычная у вас… хм-км… фамилия.
Курсант Дураков слегка обиделся:
– Ничего необычного нет. Дед мой был Дураковым. В Гражданскую воевал. Отец мой, тоже Дураков, всю Великую Отечественную прошёл, сейчас знатный слесарь на авиамоторном заводе. Ну и я…
Лейтенант Грачёв согласно закивал головой:
– Всё верно. Фамилия-то хорошая. Вот, даже в Свердловском СКА знаменитый хоккеист Дураков есть, между прочим, неоднократный чемпион мира по хоккею с мячом… Только вот…
– Что «только»? – курсант Дураков начал тихо злиться. – Вы прямо говорите, товарищ лейтенант, что вас в моей фамилии не устраивает?
Лейтенант Грачёв заговорил ещё ласковей:
– Вы поймите меня правильно, Антон Валерьевич, я лично ничего… то есть никаких претензий к вашей замечательной фамилии не имею. И хоккеист известный, и ваши предки… Всё это так и есть, и славу фамилии составляет… И, не будь вы политработником, я, пожалуй, никогда бы разговор о смене фамилии с вами не завёл…
– А при чём тут политработник? – искренне удивился курсант Дураков.
Лейтенант Грачёв заговорил горячо, торопливо, комкая слова:
– Так вы сами подумайте, вот приходите вы в роту. Представляют вас солдатам, мол, любите и жалуйте, новый заместитель командира роты по политчасти – лейтенант Дураков. Первое, что солдаты сделают, это я вам точно говорю, кличку вам обидную дадут…
– Вы уверены, что дадут? – немного растерялся курсант Дураков.
– Вне всякого сомнения! Солдаты, они такие! – заверил лейтенант Грачёв.
– Ну, как придумают кличку, так и забудут! Потом-то всё равно по делам, а не по фамилии судить станут… А я – человек необидчивый, потерплю! – нашёлся курсант Дураков.
Лейтенант Грачёв даже руками всплеснул:
– Кабы только вас дело касалось, я бы и речь об этом не завёл! Но ведь вы – представитель нашей, ленинской, партии в Вооруженных силах… Подумайте, это ведь на неё пятно сразу упадёт… Ведь вашу фамилию со всеми членами партии увяжут!
Упоминание о партии, членом которой курсант Дураков стал ещё на третьем курсе, заставило его задуматься.
– Товарищ лейтенант, а как же я фамилию сменю? – спросил он после долгого молчания.
Лейтенант Грачёв, терпеливо ждавший этого вопроса, оживился:
– Это, Антон Валерьевич, сделать проще простого. Вы ведь собираетесь жениться, так?
– Так точно, собираюсь.
– Вот и смените фамилию при регистрации брака.
– Как это «сменить»? – снова не понял курсант Дураков.
Лейтенант Грачёв объяснил:
– Как все меняют при заключении брака… Вот моя жена была в девичестве Воронова, а после свадьбы стала Грачёва…
Курсант Дураков знал жену ротного – она работала в курсантском буфете. Он мрачно усмехнулся: «По папе – Воронова, по мужу – Грачёва, а в быту кличут – Утка. Уж больно походочкой своей перевалистой она эту водоплавающую напоминает…» Вслух он этого ротному, конечно, не сказал, промямлил только:
– Хорошо. Я подумаю, товарищ лейтенант. Разрешите идти?
– Идите и серьёзно обо всём поразмыслите, товарищ курсант, – лейтенант Грачёв на прощанье ещё раз крепко стиснул ему руку своей узкой, но жилистой дланью.
Весь день курсант Дураков не находил себе места. Всё не шёл у него из головы разговор с ротным. Он непрестанно думал о нём и во время обеда, когда машинально хлебал надоевший за годы учёбы суп из рыбных консервов и сухого картофеля, и во время самоподготовки, сидя над конспектом речи Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева на XXV съезде партии… Этим конспектом курсант Дураков очень гордился. Работая над ним, он проявил все свои таланты: разделы доклада для пущей наглядности выделил цветными фломастерами, после каждого раздела привёл примеры из современной общественной жизни, в том числе из своей, курсантской.
Только вот сейчас, вглядываясь в страницы тетради с разукрашенным конспектом, он никак не мог решить, как же ему самому поступить. Не было такой подсказки ни в речи Генсека, ни в трудах классиков марксизма-ленинизма… Снова и снова припоминал он слова лейтенанта Грачёва об ответственности коммуниста перед родной партией. Несомненно, в словах ротного был свой резон, но курсанту Дуракову претила даже мысль о том, что он, мужчина, возьмёт фамилию будущей жены. Хотя как молодой коммунист и будущий проводник партийных идей в солдатские массы он, наверное, не должен был бы нисколько сомневаться, если речь идёт о престиже партии…
Так промаялся курсант Дураков до самого вечера, когда, не утерпев, поделился своими сомнениями с лучшим другом, курсантом Платоном Редчичем.
Редчич, известный в роте балагур и подкольщик, на этот раз выслушал его совершенно серьёзно и сказал с глубоким убеждением:
– А ведь наш литер прав, Антон: фамилию тебе лучше сменить! Засмеют тебя солдатики в части… А оно тебе надо?
– Нет, конечно, не надо. Но только, если сменю свою фамилию на фамилию жены, меня же родители мои не поймут, да и однокурсники на смех поднимут…
– Ну, со своими родичами как-нибудь договоришься, – успокоил Редчич, – а про наших сокурсников и голову не ломай. Во-первых, скоро выпуск. Ну, погалдят немного и забудут. Во-вторых, может, и галдеть не станут. Помнишь, в шестой роте, что перед нами выпускалась, был курсант Гадюкин? Так он перед выпуском тоже женился и взял фамилию жены. Стал Козловым. И как-то никто не смеялся… Все всё правильно поняли. Ты о своей службе подумай! Вспомни мультик про капитана Врунгеля: как вы лодку назовёте, так она и поплывёт! А так не только солдаты смеяться станут, а и кадровики… Скажем, попадёт им на стол представление на тебя, задумаются… Мой тебе совет: поговори с Антониной… Вы же ведь заявление в ЗАГС подавать надумали…
Невеста курсанта Дуракова, выпускница техникума советской торговли, была девушкой с характером. Грудастая, крепко сбитая, с почти квадратной фигурой, румяным, круглым лицом и вздёрнутым носом, она, полгода назад, первой подошла к курсанту Дуракову на танцах в городском саду, первой поцеловала его, когда он пошёл провожать её до общежития, сама же доступно объяснила, как они славно будут жить вместе, какая она будет хорошая хозяйка и жена, сколько у них будет детей… Словом, уже задолго до свадьбы было понятно, кто у них в доме будет командовать. Немудрено, что, отправляясь в следующую субботу в увольнение для встречи с суженой, курсант Дураков немного побаивался заводить с ней разговор о смене фамилии. Когда же решился, Антонина, к его удивлению, неожиданно согласилась и даже обрадовалась:
– Ой, как славно, Антоша, и мне хлопот поменьше, паспорт и диплом менять не надо будет…
«Ага, а мне-то каково! Ещё и партбилет новый выписывать придётся…» – грустно подумал курсант Дураков, но отступать уже было некуда.
Антонина между тем продолжала излагать ему преимущества от перехода на её фамилию, о которых он даже и не подозревал.
– А мои-то родители тебя на руках носить будут. Особливо папаня. Он же всё маманю пилил, что она ему девку родила, а не сына, мол, фамилию нашу я не продолжу… А теперь… Теперь ты всё у него можешь просить, чего душа твоя пожелает. Хоть мотоцикл «Урал», хоть «Запорожец»… Да и просить не надо! Ты теперь и потребовать вправе! Да что там требовать: папаня сам тебе всё это на нашей свадьбе подарит!
Курсант Дураков не был человеком корыстолюбивым, но тут взгляд его замаслился:
– А откуда папаня-то мотоцикл или даже машину возьмёт? Их же только по очереди купить можно! – смущённо поинтересовался он.
Антонина, просияв, пояснила:
– Я разве тебе не говорила, что папанин брат двоюродный, дядя Венедикт, райпотребсоюзом у нас в районе заведует. Он мне и в техникум рекомендацию давал, чтобы вне конкурса взяли…
– Не, не говорила, – пробормотал курсант Дураков. Он уже представил себя за рулём новенького «Запорожца» и осторожно спросил: – Тонь, а Тонь, нельзя ли, чтоб не «Запорожец» батя твой презентовал, а хотя бы «Москвич-412»?
Антонина не ожидала от будущего супруга такой прыти, она как-то по-новому, с интересом, взглянула на него:
– «Москвич», Антошенька, трудней достать. Я уже и сама интересовалась… На «Москвичи» отдельная очередь имеется… А «Запорожцы» ветеранам войны положены… Так вот дядюшка на какого-нибудь старичка его оформит, а ты получишь… Только смотри, не болтай лишнего! Впрочем, может быть, папаня с дядей и на «Москвичок» нам расстараются ради продолженья фамилии…
Они ещё долго гуляли по весеннему парку, мечтая о будущем, намечая, куда поедут в первый офицерский отпуск на подаренной машине.
Вернувшись в училище, курсант Дураков доложил о прибытии дежурному по роте и отправился в канцелярию к лейтенанту Грачёву.
Ротный сидел за столом и разбирал какие-то бумаги. Видно, что ему было не до курсанта Дуракова. Но тот был так обрадован счастливым разрешением проблемы с фамилией, так переполнен эмоциями по поводу своего будущего семейного, а значит, и служебного благополучия, что не заметил этого.
– Разрешите доложить, товарищ лейтенант? – бодро возопил он.
Лейтенант Грачёв недовольно буркнул, не отрывая взгляда от бумаг:
– Ну, что у вас, товарищ курсант? Докладывайте!
– Я подумал над вашим предложением, товарищ лейтенант… – глаза курсанта Дуракова просто лучились.
– Над каким предложением? – непонимающе воззрился на него лейтенант Грачёв.
Курсант Дураков немного опешил:
– Вы, наверное, забыли, товарищ лейтенант… Вы же сами дня три назад говорили, чтобы я подумал о смене фамилии…
– Ах, да, да, припоминаю. Ну и что вы решили, товарищ курсант?
– По вашей рекомендации я решил сменить фамилию. Возьму при заключении брака фамилию жены.
Лейтенант Грачёв отложил бумаги в сторону и одобрил:
– Молодец! И какая будет у вас новая фамилия, товарищ Дураков?
Курсант Дураков принял строевую стойку и даже прищёлкнул каблуками, представляясь:
– Троцкий, товарищ лейтенант!
Лейтенант Грачёв недоверчиво переспросил:
– Как вы сказали?
– Троц-кий! – стараясь говорить как можно чётче, повторил курсант Дураков.
Лейтенант Грачёв надолго замолчал, пристально вглядываясь в лицо курсанта Дуракова: не издевается ли он над ним. Но лицо курсанта было простодушным, взгляд ясным и преданным.
Лейтенант Грачёв встал из-за стола и просеменил к подчинённому.
– Вот что, товарищ курсант Дураков, оставайтесь-ка вы лучше на своей прежней фамилии… – только и смог выдавить он из себя.
Партбилет
У майора Ступина, абитуриента Военно-политической академии имени В.И. Ленина, за два дня до мандатной комиссии пропал новый партбилет.
Старый, пробитый душманской пулей и залитый его кровью, три месяца назад забрали в Музей боевой славы Туркестанского военного округа. Майор Ступин был тяжело ранен, прикрывая отход разведроты, попавшей в засаду в провинции Кунар.
Вручить новый партийный документ майору приехал в госпиталь сам член Военного совета округа, тучный и страдающий одышкой генерал-полковник. Он в присутствии медперсонала и выздоравливающих офицеров громогласно провозгласил майора Ступина героем, вложил ему в левую, не забинтованную, руку красную книжицу с профилем вождя мирового пролетариата и сообщил, что на недавнем заседании Военного совета округа было решено направить майора Ступина для поступления в академию.
Пока майор Ступин залечивал раны, сдача выездных экзаменов, организованных для военнослужащих, проходивших службу в ДРА, уже завершилась. И майору Ступину пришлось поехать в конце июля в Москву. В Кубинке располагались летние лагеря академии. Там он на общих основаниях с другими абитуриентами должен был сдать четыре вступительных экзамена: по партполитработе, общевойсковой тактике, английскому языку и физической подготовке. Правда, было одно обстоятельство, облегчающее эту непростую для давно не бравшего в руки учебника офицера задачу – кавалеры государственных наград при положительной сдаче экзаменов зачислялись в академию вне конкурса. Иными словами, майору Ступину достаточно было получить хотя бы тройки и с его орденами Красного Знамени, Красной Звезды, с медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги», полученными за два захода в Афган, дорога в академию была бы открыта.
На «иконостас» майора Ступина приходила смотреть вся «абитура» – таких высоких наград ни у кого из поступавших не было, хотя человек двадцать «афганцев» среди его новых сотоварищей нашлось. Но у большинства из них имелось по одному ордену или по одной медали. Немудрено, что майор Ступин сразу сделался объектом повышенного внимания. Абитуриенты с завистью и с восхищением говорили о нём как об уже практически поступившем, а педагоги, в основе своей люди не воевавшие, смотрели на героя с подчёркнутым уважением и довольно лояльно относились к его далеко не блестящим ответам на экзаменах. Словом, свои трояки майор Ступин получил по всем предметам, кроме тактики, которую легко сдал на отлично, поразив преподавателя, принимавшего экзамен, практическими знаниями и навыками ведения боя в горно-пустынных условиях, умением разобраться в устройстве БМП-3 и стрелково-огневых характеристиках американской винтовки М-16.
После сдачи экзаменов майору Ступину осталось только дождаться мандатной комиссии, чтобы быть зачисленным в альма-матер политических работников армии и флота. Разумеется, находился майор Ступин в приподнятом настроении. Ещё бы! Всё складывалось как нельзя лучше. Несмотря на ранение, успел встать на ноги до приёмных экзаменов. И здесь не подкачал – сдал все предметы, включая ненавистный язык «потенциального противника». Поступление в академию открывало самые широкие перспективы для карьерного роста, можно было помечтать и о должности заместителя командира полка по политчасти. И товарищи по поступлению попались отличные, и начальники оказались понимающие… Даже по-московски напыщенный и лощёный полковник Аракелян, начальник набираемого курса, отнёсся к нему с особым пиететом: в виде исключения отпустил на почту дать телеграмму жене об успешной сдаче экзаменов. Мол, пусть собирает чемоданы, готовится к переезду в Москву. А ещё полковник Аракелян пообещал походатайствовать, чтобы будущему слушателю предоставили место в общежитии на Пироговке, где обычно размещались только старшекурсники. Более того, он уведомил майора Ступина, что имеет на него особые виды, полагая после зачисления назначить старшиной курса, то есть своим ближайшим помощником на все предстоящие годы учёбы. Поэтому, дескать, и идёт на нарушение приказа, строго запрещающего абитуриентам покидать место лагерного сбора вплоть до заседания мандатной комиссии…
Майор Ступин поблагодарил полковника, заверил, что будет стараться оправдать его доверие. Получив увольнительную, он отослал домой радостную весть, сходил в парикмахерскую и постригся. Вернувшись в лагерь, нагладил парадный мундир, прицепил на него все ордена и медали.
А на следующее утро у него пропал партийный билет. Майор Ступин только на пару-тройку минут отлучился из своей палатки к умывальнику, а когда вернулся уже не нашёл партбилета в кармане рубашки, оставленной на топчане. Поначалу он даже не испугался: подумал, что партбилет в кителе на общей вешалке у входа в палатку. В карманах кителя партбилета тоже не оказалось. Вот тут-то и пробил майора Ступина холодный пот. Он заметался по пустой палатке (остальные её обитатели в это время отсутствовали: кто принимал утренний туалет, кто занимался гимнастикой на спортплощадке), заглянул под свой топчан, потом под все остальные, перевернул свою постель. Пропажа так и не нашлась! У него ещё оставалась надежда, что кто-то из соседей по палатке подшутил над ним. Но соседи все – офицеры в звании майоров, все – бывшие «афганцы», в голос заверили, что никогда не пошутили бы таким образом. Более того, они активно подключились к поискам, вместе с майором Ступиным перетряхнули все тумбочки в палатке, выложили на топчаны всё содержимое своих чемоданов. Но партбилет майора Ступина как в воду канул…
– Как же ты оставил документы без присмотра? – вопрошали соседи.
Один из них, майор Караваев, пропагандист политотдела отдельного авиационного полка, сказал:
– Мне про воровство партбилетов при поступлении рассказывали. И я свои бумаги у тётки оставил. Она в соседнем военном городке живёт. Принесёт мне их в день мандатки…
– А я свой партбилет всегда при себе ношу, в потаённом кармане, мне его жена к трусам пришила… – поделился майор Иванцов, приехавший поступать из Прикарпатского военного округа.
– Ну, ты даёшь, партбилет в трусах! – возмутился кто-то.
– Конечно, не очень удобно. Зато в сохранности…
– Как вообще можно своровать партбилет у своего же брата-политработника? И зачем? – угрюмо спросил майор Ступин, оглядывая товарищей.
– Чего не понятно? Ты же – для всех конкурент, вне конкурса идёшь…
– Что, и для вас тоже конкурент?
Соседи промолчали.
Майор Ступин с посеревшим, перекошенным лицом отправился к начальнику курса, чтобы доложить о происшествии.
Полковник Аракелян, ещё вчера называвший его почти дружески Федей, услышав о пропаже, стал сугубо официален.
– Вы знаете, товарищ майор, что это означает? – поджав и без того узкие губы, строго спросил он.
Майор Ступин кивнул. Будучи замполитом батальона и членом парткома мотострелкового полка, партийный устав он знал хорошо. За утрату партбилета по вине коммуниста полагалось исключение из партии или, в лучшем случае (хотя какой тут может быть лучший случай?), строгач с занесением в учётную карточку.
– Нет, товарищ майор и коммунист Ступин, вы до конца не понимаете, что произошло! – возвысил голос полковник Аракелян. – Вас просто не допустят до мандатной комиссии! Ибо на стол комиссии поступающий кладёт своё удостоверение личности офицера и свой партийный билет… Вам ясно это?
– Ясно, товарищ полковник.
– Нет, товарищ майор и коммунист Ступин, вам ещё не всё ясно, – иезуитским голосом продолжал полковник Аракелян. – Вас не просто не вызовут на мандатную комиссию. Вас немедленно откомандируют в вашу часть. Но перед этим, за утерю главного документа партийное собрание вступительных сборов исключит вас из рядов нашей партии и никакие ордена вас от этого не спасут! Теперь вам понятно?
– Так точно.
– Идите, товарищ майор. Ждите. О времени собрания вас известят.
Собрание состоялось через пару часов. Всех абитуриентов собрали в летнем кинотеатре под открытым небом, на солнцепёке. Избранный председательствующим собрания майор Караваев утвердил повестку дня: персональное дело коммуниста Ступина.
Первым выступил полковник Аракелян. Он долго и выразительно, как будто произносил кавказский тост, говорил о долге коммуниста, об обязанности каждого члена партии беречь партийный билет как зеницу ока и в труде, и бою, а в конце своей пламенной речи сказал:
– Утрата партбилета – это всё равно что потеря полкового знамени. Вы, товарищи коммунисты, все – опытные офицеры и знаете, что бывает, когда знамя утрачивается. В таких случаях полк расформировывается, какие бы заслуги у него прежде ни были. Вот и я предлагаю: за утерю партийного билета исключить коммуниста Ступина из рядов нашей ленинской партии.
После Аракеляна выступили ещё несколько незнакомых майору Ступину офицеров. Они, как по бумажке, повторили то, что сказал начальник курса, и поддержали его предложение об исключении Ступина из партии.
Неожиданно слово взял майор Иванцов. Заикаясь от волнения, он напомнил о боевых подвигах Ступина, сказал и о том, что Ступин, конечно, проявил некоторую халатность, оставив документы в пустой палатке, но злого умысла он не имел и даже подумать не мог, что кто-то из политработников и коммунистов способен на такую подлость…
– Вы за Ступина не говорите, – взвизгнул полковник Аракелян. – Пусть он сам за себя отвечает! Вот от таких соглашателей у нас в партии и случаются всякие ситуации…
Какие именно ситуации случаются в партии из-за соглашателей, полковник Аракелян разъяснять не стал. Он так поглядел на Иванцова, что все поняли: Иванцову это выступление не простится, и если Иванцов поступит, ему Аракелян ещё не раз это припомнит…
Майор Иванцов неожиданно проявил характер.
– Никакой я не соглашатель, – возразил он. – У меня есть другое предложение. Коммуниста Ступина из партии не исключать, а за утерю партбилета объявить ему строгий выговор с занесением в учётную карточку.
Слово было предоставлено майору Ступину, но он только махнул рукой и сел на своё место.
Стали голосовать. К удивлению майора Ступина да, наверное, и полковника Аракеляна, большинство проголосовало за предложение Иванцова.
На следующее утро майор Ступин убыл в свою часть. Его никто не провожал. А ещё через день партийный билет майора Ступина обнаружил дежурный по лагерю в отхожем месте, среди использованных обрывков академической газеты. Билет оказался целым и невредимым и был тут же доставлен к полковнику Аракеляну.
Начальник курса, брезгливо поморщившись, взял красную книжицу двумя пальцами, засунул в сейф и закрыл его на ключ. Перехватив взгляд дежурного, пояснил:
– Мандатная комиссия уже закончила свою работу…
– Неужели ничего нельзя сделать? – робко поинтересовался дежурный. – Билет-то нашёлся…
Полковник Аракелян сказал, как отрезал:
– Выписка из решения собрания уже отправлена к майору в часть. Дело закрыто. – Он окинул взглядом свой висящий на плечиках мундир с шитыми, как у генералов, погонами. Задержался взглядом на орденской планке, на которой, кроме юбилейных медалей и медалей за выслугу лет, других наград не было, и констатировал: – Чего огород городить? Ну, не судьба этому Ступину стать академиком. Он и так – герой. Чего ещё надо?
Благодетель
Лейтенант Лёня Бугров любил поэзию и однажды написал стихотворение, а начальник отдела культуры и быта окружной газеты капитан Слава Блинов опубликовал.
Утром Лёня, как говорится, проснулся знаменитым. На пороге штаба батальона охраны, где он служил секретарём комсомольской организации, его встретил дежурный офицер и в лоб спросил:
– Сам сочинил?
– Что сочинил? – не сразу догадался Лёня.
– А вот что! – дежурный сунул ему под нос свежий номер «Красного бойца» с обведённый авторучкой стихотворением, над которым жирным петитом была набрана фамилия Бугрова.
– Сам… А кто ещё? – смутился Лёня.
– Ты, Лёнька, – гений! – дежурный окинул его изумлённо-восхищённым взглядом и крепко пожал руку.
Расспросы о стихотворении преследовали Леню до самого обеда. В столовой непосредственный начальник Лёни замполит батальона майор Петухов пригласил его за свой стол и тоже спросил о стихотворении, и тоже удивился, что Лёня сочинил его сам.
– А не мог бы ты, лейтенант, что-то сочинить про грядущий юбилей Владимира Ильича Ленина? – вдруг спросил майор Петухов.
– Не знаю. Надо попробовать… – без особого энтузиазма отозвался Лёня.
– Вот и попробуй! – подбодрил майор Петухов.
Лёня Бугров помялся и произнёс с сомнением в голосе:
– Я-то попробую, да вот не знаю, опубликуют ли…
– А ты, лейтенант, дураком не будь, начальника отдела газеты капитана Блинова в кабак своди, – посоветовал майор Петухов.
– А разве надо в кабак? – опешил Лёня, мысленно прикинув, что за стихотворение он получил гонорар в размере полтора рубля, а поход на двоих в ресторан, по самым скромным меркам, обернётся в червонец.
– А ты как думал? Тебя что – за красивые глаза публиковать станут? – усмехнулся майор Петухов.
Прикинув, что советами начальника пренебрегать нельзя, ибо советы старших по званию равны приказу, Лёня Бугров выпросил у жены Тамары, которой с первых дней супружеской жизни отдавал всю зарплату до копейки, необходимые для мероприятия деньги и повёл капитана Славу Блинова в «БУШ», он же – ресторан «Большой Урал».
Слава Блинов был в ресторане завсегдатаем. Это Лёня почувствовал сразу, как только они переступили порог заведения. Швейцар со скандинавскими бакенбардами и в потёртой ливрее раскланялся Блинову, как давнему знакомому. Метрдотель провёл и усадил их за лучший столик. Официантка в кружевном передничке быстро подпорхнула к ним, невзирая на других посетителей и, одарив Блинова лучезарной улыбкой, спросила:
– Вам как всегда, товарищ капитан?
Блинов благосклонно кивнул ей:
– Как всегда, Наденька.
Через несколько минут на столике уже стояли запотевший графин с водкой, салат с помидорами, селёдочка с луком, грузди в сметане, мясная и рыбная нарезки.
Лёня с тревогой взирал на всё это изобилие: хватит ли у него денег, чтоб расплатиться? Слава Блинов перехватил его взгляд и благосклонно успокоил:
– Не переживай, Леонид, если не хватит, помогу… Талантам надо помогать… – он, не дожидаясь официантки, сам ловко разлил водку в рюмки и провозгласил: – Ну, за нового поэта!
Они выпили. Заиграл оркестр. Грузная, похожая на грузинку или армянку певица запела песню про журавлей, которые улетели на юг, оставив на севере одного, с перебитым крылом, журавля.
– Это Бокарев написал. Автор знаменитых «Сталеваров», – с видом знатока пояснил Слава Блинов. – Знаешь, сколько он денег гребёт за эту песню? Просто – лопатой.
– Неужели за одну песню – лопатой? – округлились и заблестели глаза у Лёни.
– А ты думал! Её же во всех кабаках Советского Союза каждый вечер поют, и не по разу.
«И я такую, пожалуй, вполне сочинить могу…» – подумал Лёня. Он хотел расспросить столь опытного и всезнающего капитана Славу Блинова о поэзии, о других местных писателях и, конечно, поговорить о своих будущих публикациях. Напоследок приберёг самый сокровенный вопрос, как можно вступить в Союз писателей.
Но толстая певица во второй раз запела жалобную песню про журавлей, и Слава Блинов пригласил на танец зрелую блондинку, одиноко сидевшую за соседним столиком и давно уже бросавшую в их сторону томные и протяжные взгляды.
Пока они, тесно прижавшись друг к другу и перешёптываясь, топтались на танцевальной площадке, Лёня успел закусить и снова наполнить рюмки. К столику Слава Блинов вернулся вместе с блондинкой, которая назвалась Ларисой и бесцеремонно плюхнулась на пустующий стул. Никакого разговора о поэзии и о Союзе писателей не получилось. Весь остаток вечера Слава Блинов увивался вокруг новой знакомой, смачно рассказывал сальные анекдоты и сам же первым громко хохотал над ними.
– У нас ответсек, Сан Саныч, габаритный мужчина, центнера на полтора потянет, – скалил зубы он. – Так знаете, Лариса, он никогда не обедает…
– Неужели худеет? – хихикнула Лариса.
– Нет, деньги копит на кабак! Это у него целая церемония… Мы все на обед идём, а он медленно открывает сейф, кладёт в него рубль, что жена ему на обед выделяет, и сейф – на ключ! А потом с постной рожей конца служебного дня дожидается… Как только восемнадцать часов пропикает, он, как раненый мамонт, расталкивая сослуживцев, несётся к трамвайной остановке и – домой. Там, по его же словам, за один присест сжирает ведро винегрета! А жена его жалеет, мол, оголодал на тяжкой службе! Ха-ха-ха!
– Хи-хи-хи! – жеманно подхохатывала Лариса.
– А с рублями-то что? – спросил Лёня.
Слава Блинов разъяснил:
– В конце месяца Сан Саныч так же церемонно свои сэкономленные «рваные» пересчитывает, а вечером – прямым ходом сюда. Четвертака как раз хватает, чтобы самому посидеть от души, да и девушку красивую угостить… – при этом он недвусмысленно воззрился на Ларису, потупившую жирно подведённые синим карандашом глаза.
– А жена с винегретом? – наивно улыбнулся Лёня.
Слава Блинов и Лариса заливисто рассмеялись.
Снова и снова звучала песня про журавлей, перебиваемая лезгинкой, которую с завидным постоянством заказывали гости «с солнечного Кавказа», сидящие в дальнем конце зала. Слава Блинов и Лариса не пропускали ни одного танца. Лёня ждал их за столиком, проклиная майора Петухова за глупый совет, а себя за сговорчивость.
В конце вечера, рассчитавшись по счёту (денег, по счастью, хватило), он дерзнул всё-таки спросить капитана Славу Блинова:
– Вячеслав Александрович, а когда мы могли бы о стихах поговорить?
Слава Блинов, поглаживая ручку разомлевшей Ларисе, обнадёжил:
– Поговорим ещё. Давай приходи ко мне в гости в это воскресенье. Там и поговорим.
– А как приходить? Одному или с супругой? – застенчиво косясь на Ларису, поинтересовался Лёня.
– Да что там? Приходи с женой… – милостиво разрешил Слава Блинов.
В воскресенье чета Бугровых обедала у четы Блиновых.
Супруга Славы Блинова, внешне чем-то неуловимым похожая на Ларису из ресторана, которую в тот вечер Слава Блинов увёз куда-то на такси, для встречи гостей проявила все свои кулинарные способности. И салаты, и солянка, и курица, запечённая с картофелем, удались на славу. Да и сам Слава Блинов в роли хозяина был просто неотразим. Он читал наизусть стихи местных поэтов, рассказывал разные забавные истории из жизни литературной элиты и о поэтическом даровании Лёни сказал несколько лестных слов, пообещав ему дальнейшее покровительство.
Захваченный его речами и тостами, Лёня не замечал ничего вокруг себя. Когда же поздним вечером они вернулись домой, Тамара вдруг накинулась на него:
– Ну и нахал этот твой Блинов! Ты что, не видел, как он на меня пялился? А ещё под столом всё норовил мне на ногу наступить! Все колготки в затяжках… Чешские, между прочим!
– Да не выдумывай! – осадил жену Лёня и урезонил: – Тебе всюду кавалеры мерещатся… Вячеслав Александрович просто вёл себя как гостеприимный и душевный человек…
– Ага, будет тебе душевность, когда рога на голове вырастут! – зло прошипела Тамара.
– Сучка не захочет, кобель не вскочит… – привёл свой, казалось бы, убедительный довод Лёня, после которого они вконец разругались и спали в разных комнатах.
А через пару дней, вернувшись с работы, Тамара не без скрытого ликования заявила:
– Ну, что я говорила: кобель этот твой Блинов!
– С чего это ты взяла? – неуверенно спросил Лёня, припомнив поведение капитана Славы Блинова в «Большом Урале».
– А вот с чего! Он встретил меня сегодня у школы и предложил… предложил стать его любовницей.
У Лёни даже дыхание в зобу спёрло.
– А ты? – впился он глазами в жену.
Тамара, гордо уперев руки в бока, отчеканила:
– А я сказала, что мой муж ему морду набьёт!
Лёня вскинулся:
– А я и набью!
– А вот и набей! – поддержала жена.
Лёня пошёл к Славе Блинову бить морду.
По дороге он представлял, как с порога врежет капитану по скуле, как пошлёт его куда подальше, а лучше – вызовет на дуэль… Нет, не вызовет, а просто пойдёт в наряд, дежурным по батальону, получит табельный пистолет и влепит одну за другой все девять пуль прямо в сердце начальника отдела культуры и быта… «Тоже мне нашёлся благодетель…» – подогревал себя Лёня.
Но разговор с капитаном Славой Блиновым получился совсем иным – без рукоприкладства и ругани.
– Я для тебя же старался, – спокойно объяснил Слава Блинов. – Мужику, а особенно поэту, надо знать, с кем он живёт! А то ведь как у Пушкина может получиться…
– Ну да, – поскрёб затылок Лёня. – Я уж хотел вас на дуэль вызывать…
– Вот! Я жене твой предложил. А там, даст или не даст – её дело… Зато ты всю правду о жене сразу узнал… А на дуэли я и убить бы тебя мог… Ясно?
Домой Лёня брёл понурый и опустошённый. Что теперь скажет он Тамаре? Морду Славе Блинову не набил и, выходит, честь жены не защитил. Она ни за что не простит проявленную мягкотелость.
Так думал Леня. И ещё он почему-то чувствовал, что теперь Слава Блинов не будет его публиковать.
– Может, ну их, стихи, бросить к такой-то матери? – говорил он себе и тут же возражал: – Или всё же не бросить, а писать? Написать, например, то же стихотворение к юбилею вождя и нагло принести в газету. И пусть попробует не опубликовать! Но тогда жена не простит за проявленную мягкотелость! А может, ну их, стихи? А пойти в наряд, взять «макарова» да пристрелить подлеца Блинова? Но ведь тогда посадят… И капитаном не стать, не говоря уже об академии… Ну и хрен с ней, с академией, а подлеца Блинова застрелить!
И опять в голове вертелось одно и то же: написать стихи к юбилею вождя и принести в газету, но тогда не простит жена… бросить стихи и застрелить Блинова, но тогда сесть в тюрьму, не быть капитаном, в академию не поступить…
– Нет, застрелю!.. – наконец сказал он и шёл с этой мыслью до самого дома.
Экипаж машины боевой
Полковник в отставке и заместитель начальника автослужбы российского парламента Александр Иванович Чистов осторожно отодвинул штору и выглянул из окна своего кабинета на одиннадцатом этаже Белого дома. Так, Белым домом, москвичи окрестили здание Верховного Совета новой России.
Быть осторожным не мешало: со стороны гостиницы «Мир» по окнам мятежного парламента уже несколько дней постреливали снайперы. А пару часов назад к ним добавились крупнокалиберные пулемёты вэвэшных БТРов, сначала расстрелявшие палаточный городок на площади перед Белым домом, а теперь, периодически крошившие стены самого Белого дома.
Но всё-таки Александра Ивановича интересовали не эти бронетранспортёры и даже не стрельба их пулемётов. Он смотрел на четыре танка, на четыре «семьдесят двойки», то есть танка Т-72, которые неуклюже ползли по Калининскому мосту. Он, Александр Иванович, бывший строевой танкист (а танкистов, как и разведчиков, бывших не бывает), а в дальнейшем – начальник танкоремонтного завода – по бортовым номерам сразу узнал броневые машины родной Гвардейской Кантемировской дивизии. И, увидев их, он обозлился на механиков-водителей:
– Корячатся, как коровы на льду! Они что, первый раз в танк сели? Тоже мне, экипаж машины боевой! Должно быть, со всей дивизии в добровольно-приказном порядке собирали! – сердито забубнил он себе под нос и живо представил, как это было.
В воскресенье, а ещё верней, в ночь с субботы на воскресенье (как же тут обойтись без таинственности!), – зло усмехнулся Александр Иванович, – пришёл танкистам Гвардейской Кантемировской дивизии секретный приказ загрузить в танки бронебойные и термитные снаряды и заправиться топливом. Запасные баки сказано было не брать – Москва-то под боком! Но о цели пока не сказали. Цель – это стратегия высшего порядка… И, наверно, вчера, после расстрела сторонников Верховного Совета возле телецентра Останкино, в Кремль на вертолёте прилетел Первый, он же Верховный главнокомандующий, он же Гарант Конституции. Прилетел и тут же призвал к себе министра обороны, Героя Советского Союза и бывшего десантника (хотя и десантники так же, как разведчики и танкисты, бывшими не бывают).
– Надо раздавить эту гадину! – словами из недавнего письма либеральных деятелей культуры, адресованного ему, Первому, сказал Первый. Его Александр Иванович много раз видел здесь на заседаниях Верховного Совета и догадался, что именно так и должен был сказать Первый именно в такой ситуации.
– Какую гадину? – конечно, переспросил его министр обороны.
Александр Иванович замечал за министром способность в необходимый момент включить этакого туповатого солдафона. И в другой раз бывшему десантнику, может быть, и сошло бы с рук прикинуться дурнем, ведь не зря же говорят, что каждый прыжок с парашютом – это малое сотрясение головного мозга, а у него этих прыжков больше полутысячи, не считая лёгкой контузии, полученной в Афгане. Но в этот раз, наверное, не сошло.
– Приказываю расстрелять эту гадину, засевшую в Белом доме! – закричал Первый.
А Александру Ивановичу представилось, что руки у Первого в этот момент подрагивали, совсем как у членов ГКЧП, дававших пресс-конференцию два с лишним года назад, за два дня до блестящего триумфа Первого. Но тогда был девяносто первый – самый звёздный час Первого, и сам Первый, сам Гарант, тогда ещё не Гарант, был иным.
А ещё подумалось Александру Ивановичу, что министр обороны, хотя и имел за плечами более полтысячи прыжков с парашютом и контузию, заметил подрагивание рук Первого и удержался от вопроса: «Вы о каком Белом доме говорите, господин Верховный главнокомандующий, верней, о чьём – о нашем или об американском?» Такого вопроса Первый бы ему никогда не простил, и поэтому министр обороны только уточнил:
– Из чего расстрелять?
Первый тут должен был непременно вскипеть:
– Да из чего хочешь, из того и расстреливай, хоть из танков, хоть ракетами, хоть собственными соплями закидай…
Но министр обороны мог ведь проявить неслыханную даже для Героя и десантника дерзость – глядя прямо в глаза Гаранту Конституции, потребовать:
– Мне нужен ваш письменный приказ. Тогда – расстреляю.
Что дальше творилось, понятно, не ходи к гадалке.
Первый, он же Верховный главнокомандующий, он же упомянутый Гарант, должно быть, заорал:
– Да я тебя, да я… – и при этом непременно выбежал в комнату отдыха, где принял на грудь положенные в боевой обстановке сто граммов. Об этой склонности Первого ленивый разве что не говорит…
А дальше события могли развиваться так.
К министру и Герою должен был подскочить начальник личной охраны Первого и бывший из тех, которые бывшими не бывают.
– Зря ты так, герой! – вкрадчиво, как и положено выходцу из упомянутых органов, должен был увещевать он. – Сделай, как говорят!
– Давай письменный приказ, сделаю, – настаивал, наверное, министр.
– Будет тебе письменный приказ, – заверил его начальник охраны. – Ты начинай, а приказ я тебе привезу… Лично. Обещаю…
Тут министр и Герой, хотя и недоверчиво, покачал бугристой головой, прикрытой фуражкой-аэродромом, но всё же поехал к кантемировцам.
А там предстояло самое трудное. Там предстояло убедить танкистов стрелять по зданию Верховного Совета. И министр понимал, что приказом, даже самым строгим и с самого верха, этого не сделать. Парламент-то всенародно избранный… И на дворе не советские времена, а девяносто третий, и времена, как уже упоминалось, иные, и люди уже – не те. И это министр, хотя и много раз прыгал с парашютом и был контужен, само собой разумеется, должен был понимать. В таких условиях надо было не приказывать, а уговаривать. А уговаривать министр не привык. Поэтому он поручил это сделать командиру гвардейской дивизии, полковнику, мечтающему стать генералом, и дал ему полный карт-бланш, мол, обещай тем, кто согласится, всё, что душе угодно – деньги, чины, ордена, ордера…
Комдив собрал офицеров дивизии и стал уговаривать.
Александр Иванович хорошо знал своих бывших сослуживцев. Он мысленно перебрал все возможные варианты и понял, что уговорить комдив мог немногих, всего человек семь-восемь, а из «чистых танкистов» – не более четырёх. Их-то, невзирая на звания и должности, и посадили, должно быть, на места командиров танков. А на места наводчиков-операторов и механиков-водителей (наскоро объяснив, на какие кнопки и рычаги нажимать) посадили людей случайных… И, конечно, ни о какой слаженности экипажа и хотя бы одних совместных стрельбах речи не велось…
Поглядев на танки, выстроившиеся на мосту и медленно разворачивающие свои орудия в сторону Белого дома, Александр Иванович машинально зафиксировал время на своих поношенных «Командирских» – 10.05, четвёртое октября.
Он представил, что могло сподвигнуть тех, кто дал согласие сесть в боевые машины: безденежье, безквартирье, бесправие…
А ещё он представил себя сейчас на месте командира головного танка и то представил, как дрогнувшим голосом отдаёт он приказ:
– Бронебойный!
– Есть бронебойный! – отзывается выполняющий роль наводчика-оператора какой-нибудь подполковник, командир разведбата или ремонтного батальона. Вероятнее всё-таки, разведбата. У него была своя нужда, заставившая оказаться в это время и в этом месте: нужна была срочная и дорогостоящая операция старушке-матери. А денег взять негде.
– Есть… – должен был сказать он, а вот с поиском кнопки выбора боеприпаса непременно замешкаться, ибо последний раз был в танке год назад на итоговой проверке, да и то на месте механика-водителя…
«Это, наверное, очень бы разозлило меня», – подумал Александр Иванович и повторил бы с раздражением:
– Бронебойный, мать твою!
Наконец нужная кнопка найдена и нажата. Тут должна заработать автоматика. Ствол встал на линию заряжания. Открылся клин затвора пушки. И конвейер с лязгом подал в ствол снаряд, а следом – блеснувшую латунью гильзу из зарядного лотка. Досыльник тут же дослал её в канал ствола. Звякнул, закрываясь, клин затвора.
Подполковник при этом радостно отрапортует:
– К стрельбе готов!
– А вентилятор включил? – Александр Иванович знал, что это командир разведбата обязательно сделать забудет.
– Сейчас включу!
Александр Иванович даже чертыхнулся:
– С вами навоюешь… – и, мысленно услышав шум включенного вентилятора, дал мысленно же целеуказание:
– Наводи на седьмой этаж, третье окошко слева… Там у них, кажется, штаб…
– Есть, седьмой этаж, третье окошко слева.
– Выстрел!
И как будто зазвенело у него в ушах. И почувствовал Александр Иванович, как танк толкнуло орудийной отдачей, как запершило в горле от едкого запаха пороховых газов. И, быть может, не только от него…
Всё это сразу же представил Александр Иванович, когда из своего окна на одиннадцатом этаже разглядывал танки на Калининском мосту… Было что-то сюрреалистическое не только в его представлении о происходящем сейчас внутри танков, но и в самой этой картине: танки в центре столицы, стволы наведены на здание Верховного Совета – высшего органа власти в парламентской республике.
Пришла в голову сцена из сказки – Калинов мост… И чудище трёхглавое, непобедимое… А здесь у чудища – четыре ствола. Полыхнут огнём – мало не покажется! Это он, бывший танкист, знает лучше, чем кто-либо другой.
Одна из боевых машин, словно следуя воображению Александра Ивановича, в этот момент дёрнулась, как будто присела, из ствола вырвался клуб дыма. И через секунду громыхнул выстрел.
Где-то внизу стены сотряс удар. Он был такой силы, что зазвенела хрустальная люстра в кабинете Александра Ивановича, а с потолка посыпалась штукатурка.
– Куда лупят, засранцы? – выругался Александр Иванович и снова вернулся взглядом на танки: – Кто же командует головным? Может быть, майор, комбат-три, мой воспитанник?
Почему-то Александру Ивановичу представилось, что командует танком именно он. Когда-то Александр Иванович принял будущего комбата к себе в батальон сразу после военного училища на должность командира взвода, учил по-отечески щуплого лейтенанта, старался помочь советами, а потом, когда тот встал на ноги, выдвинул на должность ротного… То есть дал необходимый толчок началу карьеры. Только вот с квартирой так и не сумел помочь. Да и как помог бы, если сам семь лет в офицерском общежитии с семьёй мыкался? Первую-то приличную квартиру Александр Иванович получил даже не в должности начальника танкоремонтного завода, а когда уже уволился из армии и устроился работать в хозяйственное управление Верховного Совета, где и работал до нынешних событий, когда бывшие верные соратники – Первый и его Зам, вместе с председателем Верховного Совета что-то не поделили промеж собой. Здесь и остался, когда Белый дом стали окружать войска. Остался не потому, что разделял взгляды крикливых депутатов и их переменчивых лидеров. Не был он никогда с ними рядом. Не мог он, Александр Иванович, смириться с гибелью державы, которой честно прослужил тридцать три года. Но как человек, привыкший служить честно, иначе он тоже поступить не мог. Совесть не позволила – стыдно показалось бросать тонущий корабль.
Вспомнился ему вчерашний разговор с его нынешним начальником, тоже офицером-отставником.
– А ты, Сан Иваныч, чего домой-то не идёшь? Неужто повоевать захотелось? – прямо спросил начальник.
– Да неудобно как-то уходить в такой обстановке. Все водители наши остались, поварихи в столовой продолжают работать, даже уборщица Анна Филипповна – и та здесь… Как же я уйду? Я же – офицер! – ответил Александр Иванович.
– Ну, тогда иди в отдел охраны. Получай автомат и патроны… Я, гляди, уже вооружился, ТТ выдали… – Начальник похлопал ладонью по старинной кобуре у себя на боку.
– Нет, Максим Максимович, оружие я в руки не возьму, – отказался Александр Иванович. – Это ж по своим стрелять придётся…
– Экий ты непротивленец выискался! А когда по тебе стрелять начнут, тоже отвечать не будешь? – сузил глаза начальник, мгновенно став суровым. – Брось ты, Сан Иваныч, это чистоплюйство! Я вот тоже в августе девяносто первого чистоплюем был – отказался танки своего полка на улицу выводить по приказу Макашова. И причину для отказа нашёл: армия не может со своим народом воевать… Отказался, а теперь жалею… Лучше бы тогда вывел, сегодня меньше крови бы пролилось! Так что не дури, Сан Иваныч, иди-ка ты за автоматом.
Но Александр Иванович не пошёл. У него в памяти в тот момент всплыла пражская улица шестьдесят восьмого года и студенты, ложащиеся под колёса танков его взвода… А потом прилетевшие откуда-то сбоку бутылки с зажигательной смесью. Факелы танков, обожжённые тела погибших солдат. И он сам, лейтенантик с пистолетом в руке, перед прихлынувшей враждебной толпой…
«С народом нельзя воевать, даже если это народ чужой, даже если провокаторы стреляют тебе в спину…»
Танки на Калининском мосту пока больше не стреляли. Смолкли и пулемёты бронетранспортёров. В возникшем затишье из жёлтой агитмашины, стоящей на площади перед Белым домом, донёсся картавый, усиленный динамиками и оттого ещё более неприятный голос агитатора:
– Находящимся в Белом доме предлагаем выходить с поднятыми руками и белыми флагами. Всем, кто решил сдаться, будет гарантирована жизнь…
Александр Иванович бросил взгляд вниз, в сторону парадного подъезда. Из Белого дома никто не вышел.
Он снова перевёл глаза на танки и заметил, что ствол головной машины стал медленно подниматься.
Должно быть, командир поглядел в триплекс и назвал наводчику-оператору новую цель, мол, смотри-ка, на одиннадцатом, пятое окошко справа, штора задёргалась, а ну-ка вдарь туда подкалиберным!.. Именно так он сам и поступил бы, окажись сейчас в «семьдесят двойке».
Снаряд пробил перегородки трёх кабинетов, сделав из них рекреацию.
Александр Иванович чудом успел выскочить из своего кабинета за мгновение до взрыва. Уже в коридоре он был настигнут взрывной волной. Она ударила в спину, отбросила его в сторону лестницы, где он долго лежал, приходя в себя.
Когда очнулся, в голове было пусто и гудело в ушах, словно вата набилась… Сквозь эту вату отрывочными словами доносился картавый призыв:
– Находящимся… в Белом… предлагаем… выходить… поднятыми руками… рантируем… жизнь…
Из правого уха у Александра Ивановича сочилась кровь. Он размазал её тыльной стороной ладони по щеке:
«Контузило. Надо же, за всю службу не единой царапины, а в отставке достало…»
Александр Иванович с трудом поднялся, держась за простенок, всё ещё пышущий жаром и, хрустя разбитыми стёклами, запинаясь о вывороченные кирпичи и большие куски штукатурки, добрёл до тёмной лестницы и стал медленно спускаться вниз.
Из подвала Белого дома по канализационному коллектору можно было попытаться выйти за пределы оцепления. Он пошёл.
И одна только мысль ворочалась в его контуженой голове: «Вот дожил-то, товарищ полковник, по дерьму идти придётся… – А ей перечила другая мысль: – Но уж лучше дерьмо ногами месить, чем сдаваться этим!»
Представить себя идущим с поднятыми руками и белым флагом Александр Иванович не мог.
Честь мундира
Начальник штаба окружного полка связи майор Анатолий Борисович Тихонов в конце дня собрал офицеров для зачитки приказов. И первый же приказ – приказ начальника гарнизона генерал-лейтенанта Челубеева, известного под прозвищем «Шпицрутен», ошарашил не только всех собравшихся, но и самого Анатолия Борисовича, в спешке не успевшего ознакомиться с приказом до собрания.
Генерал-лейтенант Челубеев, этот Шпицрутен, приказом рекомендовал (вы только вдумайтесь – приказом и рекомендовал!) офицерам прибывать к месту службы и убывать с места службы к месту жительства в гражданской одежде.
Много всяких приказов, касающихся формы одежды, за время службы видел Анатолий Борисович. Молодым лейтенантом застал он время, когда офицерам было положено в парадном мундире отбывать даже в отпуск. Потом вышел приказ, напротив, запрещающий офицерам в военной форме посещать увеселительные заведения типа кафе, ресторан, а также концерт и театральное представление.
Совсем недавно новый министр обороны СССР, генерал армии, в первый же день своего пребывания в должности выдал: «Всем офицерам армии и флота без исключения надеть строевую форму одежды», то есть надеть кители, галифе, портупеи и сапоги… Если учесть, что первый день пребывания его на посту министра совпал с аномальной жарой на всей территории страны, то можно представить, что именно подумали о нём подчинённые, особенно те, кто отродясь сапог не нашивал: авиаторы, моряки, преподаватели военных училищ, сотрудники военных институтов… Тут накрепко и прицепилась к министру кличка «Сапог», которую даже последующая информация о генерале как о бывшем фронтовике, человеке, в общем-то, неглупом и на удивление знающем наизусть массу стихов, отменить уже не смогла…
Но одно дело – «Сапог» и совсем другое дело – «Шпицрутен». Челубеев за словом в карман, пардон, под портупею, не полезет – отбреет, не оглянется. Звонит он на коммутатор:
– Говорит генерал Челубеев. Девушка, дайте мне командира полка!
Той бы не ерепениться, а сразу связать вышестоящего с нижестоящим. Так нет, решила характер проявить.
– Я, товарищ генерал, не даю, а соединяю! – прокудахтала она.
Челубеев смолчал, с комполка переговорил. Та курица, то есть телефонистка, спрашивает:
– Вы кончили, товарищ генерал?
– Кончил! Уже ширинку застёгиваю! – гавкнул Челубеев.
Или приезжает Челубеев в проектный институт стройуправления округа и с ходу устраивает разнос:
– У вас здесь не военное учреждение, а тульский леспромхоз!
Начальник института, естественно, глаза выпучил, принял давно забытую строевую стойку:
– Не понял вас, товарищ генерал!
Челубеев, походя, роняет:
– А что тут непонятного? Что ни начальник, то – дуб, что ни зам, то – пень, что ни секретарша, то – ягодка!
И таких перлов у начальника гарнизона не перечесть. Но нынешний приказ – всем перлам перл. Анатолий Борисович даже перечитал его вслух:
– Ввиду участившихся случаев нападения гражданских лиц на офицерский состав, унижения достоинства офицеров и прапорщиков, глумления над их формой одежды настоятельно рекомендовать поименованным категориям военнослужащих прибывать к месту службы и убывать к месту жительства в гражданской одежде!
Прочитав это, Анатолий Борисович окинул офицеров полка значительным взглядом и, хотя сам ничего не понял, спросил:
– До всех дошло, товарищи офицеры?
– Так точно, – вразнобой отозвалось несколько голосов.
Вразнобой – у связистов допустимо. Отношения у них между собой более демократичные, чем в других родах войск – как никак, а военная элита, инженеры, светлые головы.
Но на то и кот, чтобы мыши не дремали. Анатолий Борисович уже десять лет как начальник штаба и знает, что воли личному составу давать нельзя, особенно светлым головам и так называемой элите.
– Не понял… – набычился он. – Разве так, товарищи офицеры, на вопрос старшего начальника отвечают. Сейчас устроим зачёт по знанию Устава внутренней службы!
– Не надо зачёта, товарищ подполковник… – скорчил жалобную физиономию капитан, начальник строевого отдела.
Анатолий Борисович с высоты своего наполеоновского роста вперил в подчинённого пронзительно-уничижающий взор светло-серых с жёлтыми вкраплениями глаз и снова задал вопрос всем присутствующим:
– Понятен приказ начальника гарнизона, товарищи офицеры?
– Так точно, товарищ подполковник, – в голос выдохнули офицеры полка.
– Тогда свободны, – отпустил подчинённых Анатолий Борисович, но сам себя свободным не почувствовал. Рекомендация начальника гарнизона всё взбаламутила в его душе.
Военную форму одежды Анатолий Борисович, можно сказать, обожал и почитал. Можно даже сказать, что именно форма была тем самым манком, который определил когда-то его судьбу, то есть поступление в военное училище и дальнейшую офицерскую карьеру. Все эти шевроны, петлички, погоны, ремни и ремешки, блеск сапог, кокарды, звёздочки, эмблемы, отлично подогнанные китель и шинель – для него всегда были не просто атрибутами внешнего вида, но и высокой символикой принадлежности к чему-то большому, могучему, овеянному славой прошлых побед. И, что тут скрывать, военная форма придавала значимость самому Анатолию Борисовичу, делала его самого словно бы выше ростом, сильнее, превращала отдельно взятого индивидуума в неотрывную часть большого, могучего, овеянного славой и уважением, организованного и регламентированного до мелочей организма.
Да, Анатолий Борисович любил и почитал свою военную форму. С нею, с формой, было связано столько эмоциональных воспоминаний, которые даже трудно выразить словами. Например, как передать запах шинели после дождя или первого снега или как выразить ощущение прикосновения ладони к её колючему ворсу. В этот ворс так любила утыкаться носом Алла, его жена, ещё в ту пору, когда была не жена ему, а простая девчонка с соседней улицы, и он курсантом приезжал в отпуск и бродил с ней по заснеженному городу. Она и сейчас нет-нет да уткнётся в его офицерскую шинель, вспоминая те счастливые времена, даже несмотря на то, что офицерская шинель скроена из другого сукна – она мягче на ощупь, и с нею связаны иные волнующие моменты…
Вот первый. Примерка офицерского наряда за два месяца до выпуска. Ты – ещё курсант, а тебе уже шьются мундир и шинель, и ротный командир отпускает тебя в гарнизонное ателье. Там, как воплощение своих юношеских мечтаний, видишь ты в зеркале молодого лейтенанта, у которого твоё лицо и фигура, но он как будто уже не ты, а некто другой, наделённый правом командовать, принимать решение не только за себя, но и за других… И старый, суетливый портной, оглядывая тебя со всех сторон, восторженно прищёлкивает языком и говорит, грассируя:
– Пр-рекрасно, пр-рекрасно, молодой человек! Все софочки нашего гар-рнизона таки теперь будут ващи, таки да, вам везёт… Зай гезунд! Очень приятно! Ах, мне бы двадцать, мне бы ващи погоны…
И не только этот портной. Любовь к человеку в военной форме в те послевоенные годы была словно разлита в воздухе. И в магазине пропустят без очереди, если спешишь, и на любом празднике ты самый желанный гость, не говоря уже об учениях, когда на улицы сёл и городков, по которым проходит колонна военной техники или строй мотострелков, высыпают все от мала до велика, угощают яблоками, пирожками, машут платками и кепками. А пацанва лихо марширует сзади, словно примеряя на себя военную судьбу…
Всё это мгновенно пронеслось в голове Анатолия Борисовича, пока из лекционного зала он поднимался в свой кабинет.
– Тоже мне рекомендация, – позволил он мысленно не согласиться с генералом Челубеевым. – Лучше бы разрешили табельное оружие с собой носить и дать право применять для защиты чести и личного достоинства. Ведь было же такое после войны… Попробовал бы кто-то тогда офицера оскорбить!
Но время было не послевоенное. Время было перестройки и гласности. И в это время кто только и что только про армию не пишет! И то, что все генералы – казнокрады. И что все офицеры – дураки, бездельники, сволочи и эксплуататоры солдатского труда, укрыватели неуставных взаимоотношений. И что государство слишком много денег тратит на содержание огромной армии. И что тогда, когда в магазинах шаром покати, в военторгах – полный коммунизм, разве что птичьего молока нет! Какое уж тут табельное оружие! Как раз тут только вот это шпионское переодевание!
Сам Анатолий Борисович в «шпионов» играть не собирался. Не боялся он никогда форму носить и решил, что и сейчас не убоится. А случись что, за себя постоять сумеет – всё-таки кэмээс, кандидат в мастера спорта по боевому самбо. За себя решил, но и приказ начальника гарнизона понял – не все себя защитить способны. Сам Челубеев недавно ему, Анатолию Борисовичу, рассказал о трёх случаях в течение недели, когда избили офицеров.
– Даже на военные патрули нападают. На днях у солдат отняли штык-ножи, а начальник патруля едва не лишился пистолета. Его спас только подоспевший наряд милиции! – сказал Челубеев.
Вспомнив этот рассказ, вздохнул едва не по-бабьи Анатолий Борисович и решил, что обязан пример подчинённым подать. Коль рекомендовано убывать со службы не по форме, надо так и сделать. Благо в кабинете оказались куртка и цивильный костюм, оставшийся ещё с новогоднего праздника в части, когда их в самый разгар застолья подняли по тревоге. Пришлось срочно переодеваться в полевую форму и убывать к месту развёртывания ЗКП[19]… Отвезти потом единственный костюм домой всё руки не доходили. Вот и пригодился.
Злясь и на себя самого, такого исполнительного, и на Челубеева с его настоятельной рекомендацией, а более всего на ситуацию с армией, приведшую к необходимости этой рекомендации следовать, Анатолий Борисович переоделся и, дав последние указания дежурному по полку, вышел за ворота.
Трамвай, как всегда в час пик, был переполнен. Анатолий Борисович едва сумел втиснуться на заднюю площадку, наступив при этом на ногу какому-то толстому мужику, и получил в ответ локтём в бок. Анатолий Борисович поморщился, но от ответного удара удержался. Трамвай с трудом закрыл за ним двери и тронулся с места. Несколько минут пассажиры молчали, счастливые тем, что внутри и что уже едут, а после, когда утряслось и стало чуть посвободнее дышать, загалдели:
– Мужчина, вы что толкаетесь! Как слон в посудной лавке…
– Да ты сама – корова, мне все ботинки оттоптала!
– Это я корова?
– На газель не похожа…
Слушать такие перебранки Анатолию Борисовичу доводилось каждый день, утром и вечером, когда он не мог на службу и домой на дежурном уазике уехать. Да и чего другого от трамвайной публики услышишь в уральской глубинке, где в трамвае обычный рабочий люд едет, ну, там продавщицы ещё, редкие интеллигенты да несколько вояк…
Как раз один из таких военных, не успевших выполнить рекомендации начальника гарнизона, вызвал в трамвае очередной скандал.
– Эй вы, военный, что вы так ко мне прилипли, я вам не жена! – услышал Анатолий Борисович истеричный женский возглас в голове трамвая. – Да вы мне своими коленками продукты все подавите! Не видите, сетка у меня!
– Да не давлю я на ваши продукты! – глухо огрызнулся невидимый Анатолию Борисовичу военный. – На меня на самого наседают. Не нравится, поезжайте на такси!
– Тоже мне советник выискался! Сам на такси едь! Сказал тоже, такси… У нас таких денег нет! Это вам за то, что воздух пинаете, сотни рублей платют!
– Какие там сотни! Тыщи!
– Сколько же вас развелось на нашу шею, дармоеды! – мгновенно вскипел разноголосо трамвай, а кто-то вообще пригрозил: – Ты сейчас, офицер, вылетишь на следующей остановке, чтобы женщинам не хамил!
– Точно! Вылетишь, – поддержал трамвай.
За офицера заступилась какая-то старушка:
– Люди, что вы делаете! Он же – наш защитник!
– Знаем мы этих защитников: им бы только водку жрать да над сыновьями нашими глумиться! Дедовщину развели! – не унимался трамвай.
Взвизгнула тётка, похожая на рыночную торговку:
– Они, офицера, и развели эту дедовщину, чтобы самим не работать!
– А ты откуда знаешь? Да у тебя-то самой сын служил? – спросил кто-то.
– Я чо, дура, што ли! Военкому на лапу дала и отмазала! – огрызнулась тётка.
Офицера из трамвая всё-таки не выставили. До своей остановки, которая оказалась перед остановкой Анатолия Борисовича, он всё-таки доехал.
Анатолий Борисович увидел его, когда трамвай продолжил движение. Он долго топтался на месте, одёргивая плащ-пальто, поправляя пояс и фуражку, а потом как-то скукоженно пошёл.
Так же скукоженно почувствовал себя и Анатолий Борисович. Вышло, что генерал Челубеев оказался прав, рекомендуя ездить в городском транспорте в штатском платье. А сам Анатолий Борисович не вступился за своего брата офицера, за армию, не заставил крикунов замолчать, проявить уважение, если не к человеку, так к форме. Ибо форма – принадлежность армии, а армия – принадлежность страны. Страну же, в которой ты живёшь и которой служит армия, надо уважать, хочешь ты этого или не хочешь. Иначе останешься и без страны, и без армии и станешь кормить и обслуживать солдат армии чужой… Это не нами придумано и по-другому не бывает.
В унылом настроении подошёл Анатолий Борисович к своему дому на улице Блюхера. Дом в народе именовался «пилой», а ещё «зигзагом удачи». Он состоял из трёх секций, под углом примыкающих друг к другу. В дальней секции на четвёртом этаже и проживал Анатолий Борисович с семьёй. В небольшой по квадратуре «трёшке» обитали они с супругой Аллой, их дочь Александра, зять Володя, капитан, служивший в штабе тыла округа, и Владик, трёхлетний единственный и обожаемый внук. Жили тесно, но дружно. Ибо Анатолий Борисович привык служебные невзгоды оставлять за порогом квартиры и домочадцев своих к этому приучил.
Но сегодня, вопреки традиции, совладать с плохим настроением у Анатолия Борисовича не получилось. Он не стал звонить и открыл дверь своим ключом. Сделал это так тихо, что жена и дочь, чьи возбуждённые голоса раздавались с кухни, не заметили его. И Владик привычно не выбежал деду навстречу со своим вечным вопросом: «Деда, а что ты мне плинёс?»
Сняв форменные башмаки, Анатолий Борисович повесил куртку и прислушался. Из большой комнаты раздавались непонятные звуки: как будто кто-то там шарашился и пыхтел.
Анатолий Борисович тихонько подошел к двери и заглянул.
Посредине комнаты в ворохе отцовской полевой формы барахтался внук. Полностью утонув в ней, он пытался обуть десантные ботинки с высокими голенищами и сложной шнуровкой. Рукава куртки мешали. Штаны свалились. Один ботинок оказался носком вперёд, а второй развернулся в обратную сторону. Внук попытался подтянуть штаны и одновременно попытался шагнуть. Но вместо этого он растянулся по полу.
Первым порывом Анатолия Борисовича было тотчас ринуться ему на помощь. Но он удерёжался. Внук попытался встать на ноги. Ему это почти удалось, но он снова упал. И снова начал вставать.
– Нинивилилити… – послышалось Анатолию Борисовичу.
Он напряг слух и вдруг услышал.
– Невилиятно тижилё, а слюжить надо… Невилиятно тижилё, а слюжить надо! – говорил себе внук.
Слёзы сами собой навернулись на глаза Анатолия Борисовича. Он снова подавил попытку помочь внуку, сглотнул комок в горле и так же тихо, стараясь не шуметь, прошёл на кухню.
– Ой, Толя, а мы и не слышали, когда ты вошёл! – сказала жена.
Дочь поцеловала его в щёку и обескуражила новостью:
– Пап, знаешь, а Володька рапорт написал!
– Какой рапорт? – всё ещё продолжая думать о внуке, вскинулся Анатолий Борисович.
– Он увольняться собрался из армии. Совсем!
– Зачем увольняться? – не понял Анатолий Борисович.
– Вот и я говорю ей, Толя! – поддержала его жена.
– Да что вы понимаете? Что в вашей армии сейчас делать? Ну, вот что? – дочь в каком-то превосходстве стала загибать красивые свои пальцы. – Жильё давать перестали. Перспектив никаких… А на гражданке бизнесом можно заняться. У Володьки, знаете, сколько связей? Он и магазин свой продовольственный открыть сможет, и цех по пошивке джинсов… Сейчас индивидуальное предпринимательство очень поощряется!
«А Родину-то кто защищать будет!» – едва не вскричал Анатолий Борисович, но вместо этого вдруг сказал малопонятную этим двум дорогим ему женщинам фразу:
– Невероятно тяжело, а служить надо!
Примечания
1
Командир отделения (курсант. жаргон).
(обратно)2
Военно-врачебная комиссия.
(обратно)3
Военно-политическая академия имени В.И. Ленина.
(обратно)4
Полушерстяное обмундирование.
(обратно)5
Товарищи (англ.).
(обратно)6
Военное авиационно-техническое училище.
(обратно)7
Если ты такой умный, покажи мне твои деньги (англ.).
(обратно)8
Потаскуха (чеченск.).
(обратно)9
Бакшиш – подарок (дари).
(обратно)10
Центр боевого управления.
(обратно)11
Телло – золото (тадж.).
(обратно)12
Шурави – советский (дари).
(обратно)13
Солдат, прослуживший один год (жаргон).
(обратно)14
Старинная винтовка английского образца.
(обратно)15
ПХД – парко-хозяйственный день.
(обратно)16
ДОС – дом офицерского состава.
(обратно)17
ГСВГ – группа советских войск в Германии.
(обратно)18
Высшее военное общевойсковое командное училище.
(обратно)19
Запасной командный пункт.
(обратно)



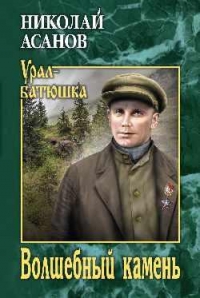
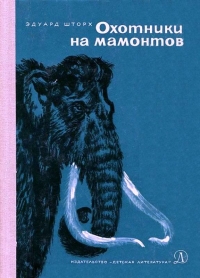
Комментарии к книге «Экипаж машины боевой (сборник)», Александр Борисович Кердан
Всего 0 комментариев