Беспокойство
ПОВЕСТИ
ПОКУШЕНИЕ
Глава первая
Вид у Венке и на этот раз был суровым. С засученными по локоть рукавами, в расстегнутой сорочке, из-под манишки которой виднелась волосатая грудь, он нервно вертел плеткой и покрикивал:
— Бистро, бистро! Мери, не ленись! — Инструктор физической подготовки всех мальчишек зовет одним именем — Мери. — Пошел, «конь»!
О, этот проклятый «конь»! Вечно он наводил страх на Сергея Шумилова: разбежится, и в этот миг «конь» в его глазах будто вырастает до невероятных размеров…
Все же сегодня преодолел. Мальчишки зааплодировали:
— Брафо! Шумилоф!..
Каждый на своем языке прокричал. Венке, видимо, такая вольность приютников не понравилась. Конечно не понравилась: по правилам «Лесного приюта» на занятиях изъясняются только на английском языке. Венке сейчас пустит в ход свою плетку. Мальчишки притихли, привычно выстроились в один ряд, ожидая наказания. Кованые сапоги Венке по асфальту как клацание затвора: клац, клац, клац. Сигарета в зубах, плетка под мышкой, — значит, пронесло: бить не будет.
— Мери! Вы уже джентльмены! Стыдно нарушать правила. Бистро на конюшню!
Это работа, работа до седьмого пота. Стучат о землю буфера: бух, бух, бух. Головы вниз, спины согнутые — но люди, а какие-то птицы клюют странными носами.
— Шумилоф! Мери, ко мне!
Венке сидел в кормушке, задрав кверху ноги, тянул сигарету.
— Водки хочешь?
Случается и такое: Венке может преподносить воспитанникам сюрпризы.
— Залезай! Мери, бистро!
Из фляги налил в колпачок граммов пятьдесят.
— Пей, пей! На будущее пригодится.
Водка теперь в ходу в приюте, как и спорт.
— Для тебя, Шумилоф, скоро отгремит колокольчик. Стенбек против твоей фамилии уже поставил букву «Р». Соображаешь?
Венке вывалился из кормушки, привинтил колпачок к фляге. Круглая рыжая голова его чуть склонилась.
— Почему ты молчал о брате? Значит, не все рассказал мне о своем прошлом?.. Иди и подумай, что ты еще можешь сообщить.
— Нет у меня брата, есть сестра Анюта.
— Знаю, знаю. Иди… Нет, постой. — Венке приблизился, дохнул запахом водки. — После занятий пойдешь к Стенбеку. И не противоречь! — Он повернулся к ребятам, взмахнул плеткой: — Мери, кончай бистро. На молитву — стройсь! Ну, бистро, бистро!
Сначала умывальная комната, потом пойдут в школьную церквушку и будут молиться за здоровье президента.
Церквушка как шкатулка — тесненькая, стены и потолок окрашены в один цвет — темно-серый, пол из светлых каменных плит, на них лежат согбенные и неподвижные тени молящихся. Проповедь одна и та же — «Боже, храни президента, он дарует нам жизнь». Ритуал длится не более пятнадцати минут.
Венке тут же. Он успел переодеться — сменил полувоенную сорочку и ковбойские брюки на черный костюм, но сапоги те же, с подковками, и, когда Венке переступает, в тиши слышится: клац, клац. Капеллан, сухонький и почти облысевший, вскидывает на него беглый, вкрадчивый взгляд.
Капеллан тянет: «Мир — это скопище насилия и зла… Но есть великая надежда». Надежда, конечно же, это США и их президент. Слушать не интересно, повторяется это каждый день. И мысли у Сергея начинают бунтовать. Бунтуя, они постепенно уносят его в далекое и вечно живущее в нем. Венке уже не Венке. «Сухая груша» капеллан тоже по капеллан…
Синий вечер зашторил окно. Анюта готовит уроки. Хочется дернуть ее за косичку: скучно ему, Сереже, смотреть, как сестренка покусывает губы, то, высунув кончик языка, сидит неподвижно — важно думает. Мама, добрая мама всегда на страже: «Сереженька, не смей! Тише». По взгляду догадывается он о предупреждении матери.
Анюта наконец с шумом кладет учебник в портфель.
— Ура! Анюта, пошли играть…
…С невероятным грохотом открывается дверь. Вошел папа. Что это с ним? Почему он с таким шумом появился? На нем каска, противогаз, гранатная сумка. Стоит прижавшись к двери. Мама в цветастом сарафане зябко повела плечами:
— Коля, что случилось?
— Ничего, просто очередная тревога в отряде.
Мама и папа прошли в кухню. Он, Сережа, за ними. Анюта задержала. Но он услышал: «Это не учения, это война! Береги детей».
И тут грохот, да такой, что посыпались стекла. А папа уже у двери. Потом рванулся к Анюте. Обнял — и к нему, Сереже:
— Слушайся маму!..
Ночь темная, как в погребе, без света. Мама держит за руку, Анюта идет впереди. И вдруг вспышки — громадные столбы огня. Крякает, аж земля качается.
— Анюта!
— Я здесь, мама.
— Дай твою руку, — кинулась мама к Анюте. Тугая горячая волна воздуха сбила с ног и маму и его, Сережу…
Открыл глаза — ни мамы, ни Анюты. Возле стоит в сером пиджаке дяденька. Что-то пролопотал солдатам и наклонился, ощупал руки, ноги, раздвинул веки.
— Корош.
Поднял и в машину посадил…
Венке, не дожидаясь окончания проповеди, зацокал к выходу, спугнул воспоминания. Капеллан протянул:
— А-а-минь.
К Стенбеку идти не хотелось: шеф приюта вновь будет испытывать его память. «Шумилов, садитесь. Рассказывайте, господин Шумилов, что сегодня заметили необычного в жизни моих подчиненных?» Надоело это все — и физические упражнения, и уроки английского языка, и сам Стенбек с его подчеркнутой вежливостью, с его постоянным обещанием: «Розыск ваших родителей проходит успешно. Немного осталось ждать, скоро мы вас отправим». Действительно, находились счастливчики. Теперь же отправляют чаще, похоже на то, что «Лесной приют» скоро совсем закроют… В приюте всего двенадцать мальчишек, доставленных сюда из разных мест.
Счастливчиков выстраивают на виду у всех. Стенбек тянет напутственную речь. Говорит он с длинными паузами, словно тщательно обдумывая каждое слово. «В этом мире, тревожном и тяжело раненном невиданной доселе войной, мы торжественно обязались спасти человечество от голода, нищеты и разрухи… Дети мои… мы вас спасли от смерти!.. Расскажите же своим родным и близким, как хорошо жилось вам здесь… Мы не требуем компенсации за ваше обучение и воспитание… Одна просьба к вам: не забывайте доброту и щедрость… нашего президента. Чаще вспоминайте его имя в своих семьях, на работе, в учреждениях и на отдыхе. Молитесь за процветание великой страны, под стягом которой вы жили, набирались сил и знаний».
Да, это верно — минуло уже двенадцать лет, как Сергей мытарится по приютам, а в «Лесной» он попал прошлой осенью. «Двенадцать! Теперь и в семье не сразу узнают». Перед тем как отправиться на беседу к Стенбеку, Сергей осмотрелся перед зеркалом. «Ну конечно же, не узнают — вон как вымахал!» — подмигнул своему отражению — высокого роста парню с голубыми глазами и прической на пробор. Прическу определил ему сам Стенбек: «Это чисто по-русски, господин Шумилов. Мы очень уважаем Россию. О, это великий народ!»
Трудно понять этого Стенбека! В беседах с ним, с Сергеем, Стенбек восхищается русскими будто бы искренне, подчеркивает решающую роль Советского Союза в разгроме нацистской Германии. А вот с другими ребятами, слышал, нелестно отзывается о Советском Союзе, говорит, вроде бы русских спасли американцы. Но это лишь слухи, пока же Стенбек относится к нему вполне терпимо, только чаще других вызывает на беседы.
От общежития до офиса метров двести. Дорожка асфальтирована, тянется по лесу — меж старых сосен и елей. Городок расположен в лесу, он занимает обширную территорию и обнесен высокими бетонными плитами, а внутри приплюснутое здание котельной, тоже обнесенное глухой оградой и вечно дымящее…
Контора двухэтажная, с двумя огромными верандами, смотрящими на деревья стеклянными глазищами. Сергей взбежал по каменной лесенке и, открыв двери, привычно направился в кабинет шефа. Его окликнул Венке.
— Одну минуточку, Мери! Вот сюда, — показал он на дверь, ведущую на веранду.
Веранда оказалась обширной. Полы устланы коврами, два стола, легкие кресла, а на глухом простенке портрет президента в тяжелой, покрытой золотом рамке. Сергей охватил все это одним взглядом и потом, как всегда, поприветствовал шефа наклоном головы. Стенбек поднялся аккуратненький, с наметившейся полнотой и с виду похожий на конторщика, достигшего в служебной карьере всего заветного. Теперь ему больше ничего не надо — он доволен жизнью и своим положением в обществе.
— Господин Шумилов… — Стенбек сделал паузу, взгляд его уперся в портрет президента. — Сегодня с вами буду говорить только по-русски, хотя правила моего учреждения запрещают мне это делать. Садитесь… Так вот, господин Шумилов, сегодня не буду долго задерживать вас… Один лишь вопрос. — Стенбек порылся в бумагах, взял какую-то фотокарточку. — У вас есть брат?
— Нет. Есть сестра Анюта. Я уже говорил о ней.
— Значит, забыли… Вот, посмотрите… — Стенбек протянул фотографию.
— Это моя!
— О, отлично! — Шеф оживился: в глазах его, доселе полусонных, блеснули искорки. Выйдя из-за стола, он похлопал Венке по плечу: — О’кей!
Закурив сигарету, Стенбек прошел к окну.
— Вспомните, вспомните. — У Стенбека короткая шея, со спины он похож на штангиста — покатые плечи, руки толстые врастопыр: вот-вот, кажется, поднимет штангу.
Венке щелкнул зажигалкой, таинственно подмигнул Шумилову:
— Не возражайте.
— Благодарите, Шумилов, инструктора Венке. Это он нашел вашего брата… Викто́ра Шумилова. Вы скоро с ним встретитесь. Да, да, он тоже, бедняжка, как и вы, оказался в нацистской Германии… Тоже хлебнул горя… Какая радость будет для ваших родителей, когда мы отправим вас в Россию!
— Я что-то не помню, господин шеф, — начал было Сергей, но Стенбек остановил его:
— Во время бомбежки ты был контужен… Память восстанавливается постепенно.
Стенбек опять повернулся к окну. Сколько до этого было разговоров о родителях и с Венке, и с самим шефом, подробно расспрашивали не только об отце и матери, но и о родственниках и знакомых. Более того, даже о том, что он, Сергей, в детстве любил поесть, какие фильмы смотрел, с кем дружил и с кем ссорился. И обо всем он рассказывал… Стишок вспомнил, написанный папиным помощником по заставе лейтенантом Сидоренко:
Слушай папу, слушай маму И Анюту тоже… Двойки, тройки получать Не к лицу Сереже.Венке тогда это очень понравилось: он пощекотал его ручкой плетки и, хохоча, воскликнул: «Мери, у тебя чертовская память! А ну, припомни еще что-нибудь… вот такое же».
— Бомбежка, говорите? — произнес Сергей, глядя уже на Венке, который, опершись плечом о кафельный камин, спокойно сосал толстую сигару.
Стенбек, видимо, что-то заметил в лесу, резко задернул шторку, крикнул:
— Венке! Какого черта Виктор шатается по территории!
Повернулся к столу и, будто бы только что заметил Сергея, сказал:
— Вот зачем я вызвал вас: сегодня же перейдете из общежития в отдельную комнату, будете жить вместе с братом. И еще… Нашлись ваши родители. Скоро отправим… На родину, в Россию!
«Вот почему Венке говорил, что против моей фамилии Стенбек поставил букву «Р»! — радостно подумал Сергей, сбегая по лестнице.
Что-то было в этом старшем лейтенанте не от мира сего… А что именно, Стенбек никак не мог понять. Венке делает вид, что он торопится поставить точку. «Это подопытный экземпляр — и только. Самый подходящий экземпляр. Бугай, как говорят русские». Венке — человек настроения, от него всего можно ожидать. А может быть, оберет Венке прав: для того чтобы испытать действие ДОСа на человеке, совершенно лишне знать биографию этого человека, а тем более его взгляды на жизнь, знать его мнение о перспективах войны. Будто бы так…
Но Стенбек тянул, почему-то не решался подписать акт эксперимента.
— У вас есть дети?
— Двое…
— Жена?
— Да, есть.
— Вы были начальником пограничной заставы?
— Это вам известно.
— Ваш пограничный отряд оборонял поселок Аджи-Мушкай?
— Да. Часть наших бойцов и командиров еще сражается в катакомбах.
— Безумие!.. Пал Ростов, войска фюрера на подступах к Сталинграду! Мы скоро будем в Москве!
— Слышал, вроде так…
— Если мы вас отпустим, вы скажете своим подземникам, чтобы они немедленно капитулировали, ибо сопротивление бесполезно…
— Нет, не скажу…
— Почему?
— Не поверят, сочтут меня изменником, трусом.
— Тогда мы вас расстреляем…
— Понятно… Но изменником Родины я никогда не стану.
— В победу Советского Союза вы верите?
— Не только верю — убежден, что гитлеровская Германия будет разгромлена.
Венке взорвался. Он не встал, а подпрыгнул со стула, аж фуражка отлетела к двери, и сам он, поскользнувшись, грохнулся у ног пленного, больно ушиб себе локоть.
— Охрана! — позвал Венке часовых.
Стенбек воспротивился.
— Ни в коем случае! — загородил собой дверь: акт эксперимента лежал на столе, о нем никто не должен знать, таков приказ высшего начальства да и желание его, Стенбека.
— Венке, нас обоих расстреляют, если…
Венке догадался, о чем хотел сказать Стенбек. Он поднял фуражку, раскурил сигарету. Все же один из охранников ворвался в подвал. Он выхватил у Венке сигарету и начал ею прижигать шею пленного, потом тыкал в щеки и нос. Сигарета погасла, и эсэсовец набросился на Стенбека с упреками:
— Химик! Ученая крыса! Ты еще его спроси, с кем он шашни водил, сколько любовниц имел! Ставь точку!
— Уходите вон, немедленно! — закричал Стенбек на охранника и тотчас же заметил: взгляд Шумилова прикован к акту, и казалось, что для этого обессиленного побоями старшего лейтенанта ничего в мире нет, кроме строчек акта. Стенбек прыгнул к столу, шибанул плечом Шумилова, тот засеменил назад, но не упал, а, сбычив на Стенбека взгляд, улыбнулся жесткой, острой улыбкой.
«Охранник просто мясник, безмозглая скотина, одетая в форму немецкого солдата. Такой при любом положении останется безнаказанным. Да и кто с такого спросит, он же убивает дозволенным оружием! Не запрещенным! Черт меня дернул составить это вещество! Черт меня дернул связаться со спецслужбой! И вот результат — приказ: газом уничтожить подземный гарнизон красных! Вначале испытать, потом произвести атаку…»
В акте всего несколько строчек… Это даже не акт, скорее, боевое донесение.
«Совершенно секретно. Сегодня… в… часов мною, Стенбеком (Эхманом), проведен эксперимент действия ДОСа. Расчеты подтвердились на … процентов».
ДОС — газ и не газ. Это особая дымовая смесь, формулу которой он, Стенбек, держит в памяти. При отравлении ею люди умирают не сразу: им как бы предоставляется возможность минуту-другую «подумать» перед выбором. По истечении этого небольшого времени все же умирают. И не так-то легко определить причину смерти. К тому же, кто остается в живых, при душевном потрясении и возбуждении лишается зрения…
Шумилов — подходящий экземпляр, организм его высшей выносливости. Он попал в плен контуженным. Венке сделал все, чтобы врачи быстрее привели его в нормальное состояние. Но Венке олух, при своей горячности и неуравновешенности может совершить непоправимое — или побоями совершенно обессилит пленного, или (еще хуже) при транспортировке прошляпит.
А спецслужба торопит: быть в постоянной готовности совершить газовую атаку по укрывшимся в катакомбах советским бойцам. Начальству легче: оно отдает устный приказы. Он же, Стенбек, обязан оставить документ за своей подписью…
— В вашем поведении замечается что-то не от мира сего, — наконец сорвалось у Стенбека.
Шумилов попросил закурить. Венке хохотнул, глядя на Стенбека.
— Ну хватит, — сказал Стенбек. — Хватит…
Для эксперимента была оборудована подвальная комнатушка размером не более десяти квадратных метров. В закрытом дворе уже стоял компрессор, от которого был проведен шланг, укрытый землей и всяким хламом. И дворик тесненький, как сама комнатушка. Первым вышел из машины Венке, затем охрана и пленный. Последним, когда уже втолкнули в подвал пленного, из шоферской кабины спрыгнул на землю Стенбек.
— Я останусь, — сказал Стенбек. Венке сразу понял: «химик» не надеется на охрану. Но он не стал возражать, лишь шикнул на автоматчиков, занявших свои места — двое у входа, двое у приплюснутого окошка, возле которого возвышался штабелек кирпичей, стоял лоток с раствором для замуровки оконного проема.
— Наивысшая готовность! Лично буду проверять через каждые два часа, — предупредил Венке охрану.
Комната освещалась лампочкой. Пленный лежал на топчане. Стенбек прошел за стол, сбросил с себя френч, устало опустился на табуретку и огляделся вокруг: нет, ничего не напоминает о месте эксперимента, обычное подвальное помещение. Это несколько успокоило Стенбека. От нечего делать он начал перезаряжать пистолет — обойма входила и вынималась легко, с небольшим клацанием. Занятие это вскоре надоело Стенбеку, и мысли его вновь вернулись к пленному.
— Вам холодно? — спросил Стенбек и про себя отметил: «Дрожит от страха. Нет, и этот от мира сего».
— Неудобно лежать, гвозди не загнули. Спешили, что ли?
Ответ пленного показался Стенбеку странным, несколько смешным. Он вспомнил анекдот о приговоренном к повешению: «Повесить меня нельзя — я боюсь щекотки». Венке, рассказывая этот анекдот, хохотал, Стенбеку тогда было не до смеха. Сейчас улыбнулся, но тут же, вспомнив о том, что через несколько часов он подпишет акт, зябко повел плечами. И всему причина этот пленный… «Почему он думает, что Германия потерпит крах?»
— Сядьте! — крикнул он пленному.
— Пожалуйста.
«Ах, черт побрал бы — пожалуйста!.. Нет, все-таки этот не от мира сего. Покорный, никакого протеста».
Пленный подрагивал, особенно дрожали плечи, как-то неестественно ритмично.
— Да перестаньте дрожать! — Стенбек с шумом вогнал обойму в приемник пистолета и вдруг заметил, что пленный посматривает в потолок, как раз в то место, где выходит шланг для газопуска.
— Ну теперь-то ты понимаешь, что ожидает тебя? — Стенбек думал, что сейчас-то пленный потеряет самообладание, по крайней мере что-то произойдет в его поведении. Нет, Шумилов тем же спокойным голосом ответил:
— Конечно! Еще при допросе…
— Прочитали акт?..
— Да… Только зря вы так прячетесь, заметаете следы. Мертвецы не возвращаются будто бы… А?.. Или все же возвращаются? Гадина!
— Лично у вас, Шумилов, нет никаких шансов на это.
— Тогда в чем дело?.. Баллон во дворе, только стоит нажать на вентиль… Вы по образованию химик? — спросил Шумилов.
«Ну, это уж чересчур! Химик! Может, сообщить свой точный адрес?» Стенбек походил вокруг стола и выскочил во двор. Солдаты охраны стояли на своих местах. Один из них, самый низкорослый, округленными глазами смотрел на компрессор с баллоном. Конечно, и этот солдат, и другие, видимо, догадываются, для чего приволокли сюда компрессор с пузатым баллоном на прицепе. Стенбека потянуло спросить, разведать.
— Соображаешь, что это за машина?
Низкорослый тряхнул головой, будто пробуждаясь от цепкой мысли:
— Не знаю, герр капитан. Не мое дело…
«А ведь врет, карлик, — подумал Стенбек и, заложив руки за спину, прошелся по двору. — Конечно врет… И про меня, возможно, все знает — и адрес, и институтскую лабораторию, чем я занимаюсь в спецслужбе».
Он опять подошел к низкорослому.
— Откуда родом?
— Из Восточной Пруссии…
— А-а… В Берлине бывал?
— Нет.
Спросил и других. Все они оказались жителями окраин. Стенбек немного повеселел. Но на всякий случай, уходя, бросил:
— Я ведь тоже из Пруссии. В Раушине ресторан имею. Кончится война — приезжайте ко мне, господа, — соврал он, думая о конспирации.
Шумилов со связанными руками сидел все в той же позе. Зеленая его фуражка лежала у стола. Стенбек поднял ее и грубо надел на голову пленного.
— Страшно умирать? — спросил он, пройдя на свое место.
— Страшно не мне, а вам, капитан…
— Молчать!.. Ты — труп! Здесь твоя могила! — ткнул он рукой в дощатый, давно не мытый пол и тут же затянулся сигаретой. Дым кольцами, все гуще и гуще. Уже не видно пленного. А мысли, как сумасшедшие, несут его прямо в подземелье — не остановишь. И дым не дым. Это же струи газа, огромные, кудрявые, вдали превращаются в облако с голубыми прожилками. «Их там тысячи. Умертвим всех сразу до единого. Свидетелей не будет, Стенбек». Голос Мюллера как шепот ветра. И рука его, большая, как коряга, тянется из дыма…
— Позвольте… А-а…
И захлебнулся под громадной ладонью, охватившей и рот, и скулы, аж шея хрустнула.
— Честно говорил: гвозди беспокоят. О них и веревки ваши перетер, — сказал Шумилов, когда уже переоделся в форму Стенбека. Форма по длине была коротка, а в ширину как раз. Стенбек в ответ только пучил глаза, сказать ничего не мог: рот был плотно забит каким-то тряпьем…
Побег Шумилова не остановил приказа на газовые атаки. Потом, когда катакомбы оказались в руках немецких войск, он, Стенбек, решил осмотреть подземелье. Вместе с Венке осматривали… Трупы, трупы… В самых различных позах — распластанные, согбенные, с покусанными губами. Венке тогда сказал: «Теперь, Стенбек, ты можешь быть спокойным — никто тебя не накажет за побег пленного, напротив, высокую награду получишь. А после войны директором института станешь». Рыжий как в воду смотрел: доктор Мюллер обещал директорское место. А теперь… вон как все обернулось! Новые хозяева… Только бы свидетелей устранить.
Мысли о прошлом прервал Венке, с шумом вошедший в кабинет. Стенбек ждал его.
— Ну как, согласен?
— Мое дело — спортивная и физическая подготовка. Мери, быстро! Мери, прыгай через «коня»! Мери, на старт!.. Но тут такое дело, что я готов рискнуть. Я их переправлю, Стени. В свое время не таких переправлял. Мери, быстро!
И захохотал как очумелый, играя плеткой: вжик, вжик — над ухом Стенбека.
Глава вторая
Чуда, на которое рассчитывал Стенбек, не произошло… Венке тоже ожидал сильного эффекта. «О, Стени, эта встреча потрясет русского Мери!» Он распахнул дверь и, пропустив вперед нагруженного личными вещами Сергея, застыл в ожидании. Виктор бросился к Сергею.
— Братишка! Сережа! — протянул руки, чтобы обнять, но Сергей отступил назад.
— Ты кто есть?
— Твой брат… Виктор Шумилов.
— А-а… Что-то не помню…
Венке разочарованно покачал головой и бросился показывать Сергею его кровать, тумбочку.
— Мери, целоваться потом будете! — прикрикнул он уже из умывальной комнаты, куда забежал, сам не зная зачем. «Не получилось, Стени. Русский Мери — дикарь», — подумал Венке.
Сергей осмотрел тумбочку, начал выкладывать из чемодана учебники, для чего-то листая каждый. За спиной стоял Виктор. «Может, двоюродный, папиного брата сын? Уж очень похож на меня», — промелькнула мысль у Сергея.
— Мери, сегодня по случаю вашей встречи освобождаю вас от занятий… Скоро для вас отгремит приютский колокольчик. Ну-ну, не дичиться, как это по-русски говорится, вы одной крови. Россия! — потряс плеткой и, отстегнув флягу, прищурил один глаз: — Пусто… Виктор, пойдем, бутылочку ради встречи выдам. Серж, Россия! Пошли, Виктор…
Коттедж — веранда, одна комната метров двадцать, умывальная с кабиной для душа. В комнате, как и в общежитии, две железные кровати с армейской постелью, две тумбочки, окрашенные в голубой цвет, портрет человека с птичьим носом на стене, три легких с парусиновым сиденьем полукресла…
Осмотрев помещение, Сергей в ожидании Виктора подошел к окну… Знакомый лес, прямые бетонированные дорожки и здание котельной вдали, закованное глухой железной оградой.
Так и раньше было: перед отправкой на родину мальчишек поселяли в отдельные, более благоустроенные помещения.
Россия… Для Сергея это — одноэтажное здание в восемь окон, четыре смотрят на реку и четыре во двор заставы. Баня, маленький домик, наполненный по субботам звоном шаек и веселыми голосами бойцов-пограничников. Еще была школа, в долине среди садов белела. Ну и, конечно, папа, мама и Анюта. Папа ярко помнится: широколицый великан с курчавой головой и смеющимися глазами. Когда брал на руки, у него поскрипывали ремни, а гладко выбритые щеки пахли солнцем. Мама вечно шила на машинке и себе, и Анюте, но чаще всего штопала красноармейские брюки и гимнастерки. Лицо у мамы нежное-нежное, а брови будто тушью нарисованные. «Сережа, не трогай Анюту». А косички у Анюты — два хвостика — сами просятся, чтобы подергать их. Конечно, не больно, слегка, чтобы потом поиграть с сестрой. От Анюты только косички и остались в памяти… И еще вспомнились мечты… Стоит он, Сережа, во дворе заставы, и думается ему… Россия, наверное, там за косогором, на котором пенились вишневые сады, а летом пламенели от созревших плодов. А может быть, Россия, о которой так интересно рассказывал папа, была еще дальше садов, за самой ветряной мельницей, издали похожей на тетеньку, одетую в темный и длинный балахон. Руками махала и звала эта мельница, звала посмотреть…
Не успел… Война, вернее, та грохающая взрывами ночь, которая отняла у него маму, папу и Анюту, лишила его возможности посмотреть, что же за мельницей и там, за горизонтом, вечно покрытым дымкой. По рассказам и книгам знал, но хотелось собственными глазами увидеть…
Размечтался и не услышал, как вошел в комнату Виктор.
— Сережа…
«И верно, здорово похож на меня».
Виктор поставил бутылку, сбегал в умывальную (там шкафчик с посудой), принес стаканы. Из тумбочки достал колбасу и плитку шоколада. Все время что-го говорит, а Сергей думает о своем: «Папин брат жил в Керчи, наверное, это его сын. Венке знает, что у папы был брат… Дядя Вася. Сам я рассказывал Венке и про письма дядины говорил».
— Серега, за наш скорый отъезд…
— Не пью…
— Как? — Виктор испытующе посмотрел на Сергея. — Братишка, я ведь тоже по таким приютам мытарился, знаю порядки. Не ври мне. Наш приют такой же, как все: «Боже, храни президента и… покарай коммунизм»… Сушим, братишка! — Выпил до дна и постучал пустым стаканом о край стола. — Я же твой двоюродный брат!
— Двоюродный?
— Из Керчи… Дядин Васин… Эти скоты все путают. «Мери, Мери, бистро, Мери, плетка драть буду!» — Виктор стукнул себя в грудь. — Я — Мери! Врезать бы ему между глаз…
— Кому?
— Венке. Фашист он, и только. Пей, иначе я один осушу и потом буду драться.
Он еще выпил полстакана. Шумно подвинул к Сергею полукресло и, сев в него тяжело и небрежно, крикнул свистящим голосом:
— Повидал я таких благодетелей! — И тише, словно бы о сокровенном: — При немцах я в Турцию бежал, понял? На фашистском военном корабле. Ошибся. Оказалось, что тот корабль шел не в Турцию, а в Бургас… Бродяжничал, воровал. Поймали уж в Германии и в лагерь бросили. А вскоре пришли американские войска… Длинная история, братишка… Ты будешь сушить или нет? — показал он на стакан, наполненный для Сергея. — Или совсем не пробовал?
— Здесь дают, даже насильно заставляют пить.
— Тогда суши, Серега, не помрешь!
Налил себе и подал Сергею.
— За наших отцов и матерей! За скорое возвращение в Советский Союз.
Сергей выпил. Взгляд у него немного затуманился, но на душе полегчало и к разговору потянуло.
— У нас тут больше спортивные занятия да уроки английского языка. Еще верховой езде обучают. И трамбуем стойло на конюшне, буферами от железнодорожных вагонов: тюк, тюк — до седьмого пота…
— Знакомое дело, — подхватил Виктор. — Я сам лихо езжу на лошадях… Ал-ле, ал-ле, оп-па!.. Но вроде бы все это позади. Аж не верится, что отправят… Мне двадцатый пошел… И дома не узнают. А тебе сколько, Серега?
— Восемнадцать.
— Как вымахал, все двадцать пять дашь. В отца пошел, в дядю Колю… Дядя Коля приезжал к нам в Керчь с Анюткой, клопиком таким с косичками… Мне тогда было десять лет.
— Верно! — обрадовался Сергей: до сих пор он никак не мог свыкнуться с мыслью, что перед ним родственник или знающий его семью.
Неожиданно открылась дверь — в комнату вошел Стенбек. Во рту у него дымилась сигарета. Сергей хотел было спрятать бутылку, но шеф приюта поднял руку:
— Не надо… Бог все видит… Аминь!
Не подошел, а как бы подкрался к столу. Облокотившись, с минуту молча тянул сигарету, поглядывая то на Сергея, то на Виктора.
— Братья… Великолепно!
И начал расспрашивать у Сергея о матери, отце, родственниках.
— Не помните, чем болела Анюта?
— Ветрянкой, — вспомнил Сергей.
— Так, так, — оживился Стенбек. — В каком возрасте?
— Еще до школы. Я знаю это по рассказам мамы…
— В детстве ты какой фильм смотрел?
— «Чапаев».
— Так-так. — Он вдруг поднялся, покрутил в руках пустую бутылку и, глядя на Виктора, покачал тяжелой, уже седеющей головой. — Вот так и побеседуйте. Бог все видит. Аминь!
— Вопрос можно? — вдруг спросил Виктор, до сих пор молчавший в своем полукресле.
— Разрешаю.
— Скажите, пожалуйста, который час?
— Вам пора спать! — повысил голос Стенбек. Виктор наклонился к нему и снизу подмигнул шефу:
— Осушить бы еще одну бутылочку, а, господин Стенбек?
— Вы есть испорченный человек!
— Комар муху ударил в ухо… Как в воду смотрел! — Виктор покачнулся и, чтобы не упасть, обнял Стенбека. — Радость ты моя, и вся надежда моя, и отец тоже.
И, отпустив шефа, повалился на стол. На удивление Сергея, Стенбек и на этот раз спокойно протянул:
— Очень жалею, что ты поздно… попал в мой приют. Аминь!
Остановился у двери.
— Я распоряжусь… Господин Венке поговорит с вами, Виктор.
— Ты можешь все испортить! — возмутился Сергей, когда Стенбек оказался на улице.
— Братишка, ты это видел? — помахал Виктор часами на золотой цепочке. — Я их всех обворую. Всех до единого начальника. Они нас отпустят раньше срока. Со мной ты не пропадешь. Пусть приходит Венке, я ему такой же спектакль устрою.
Он пнул ногой упавшую со стола бутылку и, качаясь, начал раздеваться.
— Комар муху ударил в ухо…
Лег в постель, но тут же вскочил и начал рассматривать простыни, одеяло:
— Барахло-то новое! Серега, ша! Деньги будут.
Он еще сидел в трусах и майке. Сергей смотрел на него со своей кровати: широкая грудь, разработаны мускулы, а лицо, шея, слегка вьющиеся волосы точь-в-точь, как у него, у самого Сергея. И глаза такие же, а голос не такой, чуть приглушен. «Пьет, наверное, много».
— Однажды я, братишка, самому черту карманы почистил. Солидный трофей взял: триста долларов и золотой портсигар. А чертом в нашем приюте звали попа «Миряне-христяне», гнусавил по-русски. Бывший белогвардейский прапорщик. Доносчик, каких свет не видел! Вызвал он меня к себе в конторку-келью. «Богохульщик ты, Виктор, и пьешь водку. России вред приносишь». Рядышком сидели мы. Гнусавит и гнусавит. Вот, думаю, балабошка, дай-ка я тебя пощупаю, батюшка. И пощупал. Оказался золотым попом! Потом он на молитве начал заикаться. Заикнется, посмотрит в мою сторону и глазами — морг-морг: де-мол, ну и подлец ты, Виктор, и грабитель…
Рассказывая, он вдруг уснул. А Сергей еще долго лежал с открытыми глазами, все думал о неожиданной встрече, о вопросах Стенбека. «Который уж раз и Стенбек, и Венке спрашивают об Анюте, папе и маме, всем интересуются. Значит, скоро отгремит приютский колокольчик…»
Невысокого роста, но удивительно крепко сбитый, Шредер показался Венке отлитым из металла: все на нем сидело в обтяжку — и джинсы, и ковбойская сорочка, и даже клетчатая кепка, казалось, припаяна к тронутой сединой голове. Но кепку он снял легко, одним движением руки, и бросил ее так, что она пружинисто взлетела к потолку и, повиснув на мгновение, опустилась на переносную вешалку, угодив точно на шпиль. Действительно, артист цирка! С такой же резкостью в движениях Шредер содрал с себя сорочку, с шумом открыл чемодан, надел полосатую пижаму, которая где-то треснула, но Шредер не обратил на это внимания, спросил:
— Шеф у себя? — На лице его играли желваки. — Какого черта молчишь?
— Мери, сходи под душ…
— Что за дурацкая привычка каждого называть Мери! — Шредер все же встал и пошел в ванную комнату. Но вскоре он вернулся в одних трусах. Да, это был человек атлетического телосложения. Венке еще раз позавидовал своему коллеге:
— Зря ты покинул арену цирка.
— Возможно, придется вернуться. — Он придвинулся к Венке и, играя мускулами, выпалил: — Твоя работа ни к черту не годится. Я начинаю подозревать! Проводников ты набираешь! Они нас жестоко предают.
— Шредер, прими холодный душ. Скоро придет шеф, а ты кипишь как самовар. Шеф не любит психопатов… Под душ, под душ, Мери. — Венке подтолкнул Шредера, и тот, не сопротивляясь, побрел в ванную.
Пока Шредер плескался под душем, громко отдуваясь и прищелкивая языком, Венке ходил по комнате. Вторая попытка Шредера перейти границу, чтобы связаться с вдруг умолкшим Архипом, находящимся в СССР, сорвалась. До этого Венке ездил в командировку, подбирал Шредеру надежных людей, чтобы они провели Шредера через границу. Сорвалось! «Вполне логичны подозрения. О, Мери, гарантирую стопроцентный успех!»
Пришел Стенбек. Молча сел на диван, покрутил в руках сигару и вонзил свой колючий взгляд в лицо Венке:
— Проводник или Шредер, кто из них оказался… предателем?
— Ни тот и ни другой, Стени. Просто так получилось. Надо границу переходить на другом участке.
— Где? Покажите! — Стенбек открыл сейф, с шумом развернул на столе карту.
— Вот здесь, — показал Венке на изгиб реки.
— Понятно, участок полковника Шумилова. Ваше мнение совпадает с моим. — Стенбек скрутил в трубочку карту и положил в сейф. — Неделю назад одна русская газета опубликовала статью о зверствах нацистов под Керчью… Там были применены газы…
— Впервые слышу от тебя, Стени! — сострил Венке.
— О газах?
— Да…
— Ну что ж, и я тоже впервые, — усмехнулся Стенбек. — Начальство торопит с посылкой связного. И настаивает, чтобы именно Шредера послали. Цирковой артист, акробат. Вообще-то кандидатура хорошая. А ты как думаешь?
— Я специалист по организации перехода границы. И как вам известно: «Мери, быстро, Мери, еще быстрей!» По физической и спортивной подготовке подопечных вам, Стени.
— Перестань паясничать… Шредера надо встретить хорошо. Он близкий человек Хьюма. — Стенбек показал на шкаф. — Там все приготовлено, давайте накроем стол.
Переодетый в светлый костюм и посвежевший после ванны и душа, Шредер теперь еще больше напоминал артиста цирка. Гладко причесанные волосы и обвораживающая улыбка, которая раньше не так бросалась в глаза, манера держаться просто и независимо — все это подкупало и располагало к доверию и сближению. Преобразился и Стенбек: он стал таким, каким знал его Венке.
— В молодости я занимался боксом. — Стенбек чокнулся с Венке громко, а со Шредером тихонько, лишь коснулся рюмки. — Увлекательное занятие, а главное… воля, воля вырабатывается, — продолжал он, ставя пустую рюмку и закусывая.
Шредер понял: сейчас начнется обстоятельный допрос о причинах срыва перехода границы. Но он ошибся: Стенбек лишь подытожил одной фразой:
— Мне все известно — сорвалось!
Поднял рюмку и, вперив взгляд в потолок, заговорил, словно с кафедры студентам:
— Наивные люди думают: войны кончаются тотчас же, как только смолкают пушки. Чепуха! Чепуха! Выстрелы, конечно, смолкают, но наступает период жестокого сражения без фронтов…
Шредер, не дожидаясь окончания речи Стенбека, выпил и, вновь наполнив рюмку, крикнул:
— Чепуха! Абсолютная чепуха!
Венке осадил его:
— Помолчи, Мери!
Стенбек осторожно, будто в руке его находился адский заряд, поставил рюмку, тихим вкрадчивым голосом спросил:
— Вы это обо мне?
— Нет, шеф, о себе…
— Прошу, продолжайте. Мы вас внимательно выслушаем. — Стенбек отошел к окошку, пожал плечами. — Чепуха… Выпейте, Шредер, подумайте, и мы послушаем.
— Я уже думал, шеф. Выпить — выпью… Отчего же не выпить. Моя профессия — цирк!
— Что? — Стенбек заулыбался. — Уж не хотите ли вы вернуться на арену? — Он захлопал в ладоши. — Браво, Шредер! Какой трюк! Поразительный номер!
— Чепуха, шеф!
— Досказывайте…
— Пусть удалится инструктор Венке.
— Я? Что вы, Мери? Я вас голенького знаю… Я ведь был писарем в лагере Майданеке и в списках встречал фамилию капитана Шредера…
— Господа! Только не о Майданеке, И вообще, приказываю замолчать! Стыдно, господа. Вы не дети. Что подумает о нас Хьюм, если узнает о подобных стычках… Выпейте и пожмите друг другу руки… Прошу вас помириться.
Венке первым поднял рюмку.
— Шредер, доверие, доверие…
Ели молча. Когда обед подошел к концу, Стенбек все же спросил:
— В самом деле тянет на арену?
— А почему бы и нет!
— Ну хватит шутить. Выкладывайте, что вас волнует… Срыв операции? Не расстраивайтесь сильно. Конечно, серьезная неудача. Но поправима. Мы сейчас отправимся в коттедж, и вы поймете все…
— Шеф, послушайте же наконец! — Шредер вскочил, обежал вокруг стола. — Труппа цирка Н., как вам известно, отправляется на гастроли в СССР. Надо сделать все, чтобы я попал в эту труппу, и… связь с резидентом будет налажена.
У Венке выпала из рук вилка. Он подхватил ее на лету и, поглядывая то на Стенбека, то на Шредера, выдохнул:
— Это идея! Мое дело, конечно, спорт, но это идея!
— Н-н-да, стоит подумать, — сказал Стенбек. — Я понимаю, понимаю, как это заманчиво. Даже великолепно, Шредер! Ну а в коттедж мы все же пройдем, господа.
Первым из самолета вышел Шредер. Сергей, сидевший возле окошка, заметил, как Шредер подозвал к себе толстяка, одетого в легкий клетчатый плащ. Что-то сказал ему, и толстяк быстро заспешил к зданию аэропорта. Виктор тоже рванулся к окошку.
— Мамочка, да мы же в России! Братишка, смотри, смотри…
Венке с силой оторвал его от окна:
— Мери, ведите себя прилично. До России еще один перелет. Пошли, пошли, господа…
Толстяк оказался водителем такси. Шредер назвал ему гостиницу и, когда тот включил скорость, посмотрел на Сергея и Виктора. «О, это невероятно! — подумал он. — Как они похожи друг на друга!.. Хорошо, что я успел к этой операции. Хьюм, я благодарю тебя…» У самого подъезда, когда шофер сбавил скорость, чтобы развернуться для остановки, Виктор неожиданно сказал:
— Господин Венке, в вашем кармане был кошелек. Не беспокойтесь, я верну его вам.
Таксист заерзал на сиденье и, прежде чем принять деньги от Шредера, проверил свои карманы.
Ужинали в комнате все вместе. Едва только официант убрал посуду, Шредер сказал:
— Господа, перед сном помолитесь за президента. Нам пора, Венке.
Они вышли. Дверной замок выговорил два глухих щелчка.
— Что? — воскликнул Виктор. — Ты слышишь, братишка, они нас закрыли?! Это мне не нравится.
И, о чем-то подумав, подошел к двери.
— Мой отец работал в мастерской по ремонту замков. Они не знают о моей наследственности. Хочешь посмотреть город?
И не успел Сергей собраться с мыслями, как Виктор что-то достал из кармана, кряхтя и позвякивая чем-то, открыл дверь.
— Прошу на выход…
— Здорово! — удивился Сергей.
— Тебе повезло, Серега. Со мной ты не пропадешь.
— Как в сказке… Послушай, Виктор, ты когда-нибудь думал о нашем приюте, что это за организация?
— Я вообще не умею думать.. Это не мое дело…
— Мне, например, совершенно непонятно, почему не отправляют на родину обычным путем?
— Каким?
— Ну… через советское посольство… Оно должно быть в каждой стране.
— Ага! Ты прав, Серега, наши воспитатели что-то темнят. Знаешь что? Давай сорвемся?
— Как это сорвемся?
— Убежим. Самостоятельно проберемся в Россию.
— Поймают… И документов никаких нет…
— Да черт с ними, с этими документами! Мы нелегально, тайком…
— Действительно, может, везут-то нас вовсе не в Советский Союз…
Виктор засмеялся:
— Это же через океан. А под нами все время суша была.
— Верно… Но как узнать, где мы сейчас находимся?
— Один момент.
Виктор вышел в коридор. Сергей раздвинул портьеру. В темноте неподвижно гнездились райки электрических огней, улицы совершенно не угадывались. «Это и на город не похоже, — подумал он. — Окраина, что ли? А может быть, вовсе не город. Виктор, кажется, парень неплохой… Я напрасно остерегаюсь…»
Дверь тихонько открылась, вошел Виктор.
— Курить будешь? — спросил он, садясь в кресло и кладя ноги на стол. — Спер у портье. Разговорчивый мужик. Принял меня за американского туриста. Я ему кое-как по-английски, и он мне кое-как по-английски. Но, что надо, узнал. — Он вскочил и задернул портьеру. — Подарил мне туристическую карту. Серега, ты как хочешь, а я срываюсь. Мы неподалеку от русской границы. Бежим, братишка, немедленно, сейчас! Согласен?
— Хорошо, согласен, — решился Сергей. — Подумаем немного, какой-то план выработать надо…
— Я же сказал: думать не умею, работать могу. Я их вокруг пальцев обведу, этих венке и шредеров. Аминь, господин Стенбек!
* * *
Был приказ, строгий, безоговорочный, как заряженное оружие, — тайны лагеря не регистрировать, докладывать только устно. А Венке нет-нет да и подсовывал бумагу: «Докладываю: сегодня умерщвлено в камере 300 человек, расстреляно за попытку к бегству двадцать пять (25) поляков». Стоит как манекен: на лице ни одной живой черточки. И губы будто механические: ап, ап, ап — выговорили: «Ни одной ошибки, подсчитано точно». Стени с зубным скрежетом: «Болван!» Шевельнулись глаза. Но как! Словно в мертвых орбитах. «Сожги, мерзавец! Никаких документов! Только устно, устно. Устно принимать сведения и устно докладывать!» Там, в Майданеке, в одном документе Венке и встретил фамилию капитана Шредера. И потом, под конец войны, Стени признался, что он о Шредере ничего не знал, но Хьюм имеет точные данные, что Шредер имел отношение к Майданеку и он, Шредер, человек надежный.
— Мери, помнишь нашу первую встречу в приюте? — спросил Венке. — На твоем лице я тогда заметил испуг…
— Хьюм нашел меня в цирке. «Ал-ле! На манеже Дон Мария Рахилио!»
— И ты взаправду бросал гири?
— Бросал.
— Во имя чего?.. Скрывался?
— Искал. Ждал… А, черт побрал бы эту войну. Она слизала у меня десять тысяч гектаров земли.
— Ну и дождался? Хьюм нашел тебя?
— Конечно. Такие, как я и ты, имеют длинные-предлинные хвосты. По ним и находят.
— В школе учился?
— Это допрос?
— Знакомство. Мери, знакомство…
Венке вдруг запел:
Летели две птички, Ростом невелички. Летели, летели, Сели, посидели, Снялись, полетели…— Выпей, Венке, перед дальней дорогой. Кто знает, чем все это кончится! Пей! — Шредер прищурил один глаз: — В Майданеке я слышал про тебя. Но никогда не думал, что встречусь. — Он быстро налил в рюмку и энергично опрокинул в широкий рот, слегка клацнув стеклом о крепкие зубы. — Понял? Не думал, что такой дурак, как ты, может выжить.
— Нет, ты ошибаешься… Я не дурак, — возразил Венке.
— Дурак потому, что твои бумаги, которые ты вел в Майданеке, попали к русским. Знаешь ли ты об этом? Твоя аккуратность, педантичность обернулись против тебя же самого.
— Понимаю… Но что поделаешь, иначе я не мог: я немец, приучен к точности. Шредер, не надо вспоминать прошлое.
— Увы! Прошлое продолжается. И как ни странно, мы продолжаем жить прошлым. Стенбек — ученый! Химик! Почему он не пошел на кафедру? Приют возглавил?.. Мы-то знаем с тобой… Он подписывал приказы на газопуски. Он или нет?
— Он… Стени — Эхман, — вздохнул Венке и, вскочив, хлопнул дверью.
Шредер окинул взглядом номер: две кровати, стол, на котором стояли две бутылки коньяка и ваза с фруктами, пустое кресло, с которого только что поднялся Венке, и большое зеркало. Шредер подошел к нему, подмигнул своему отражению.
— Понял? — произнес он. Наполнил рюмку и начал маленькими глотками потягивать коньяк, ожидая возвращения Венке.
Венке вернулся минут через десять. Протопал к столу, взял яблоко и, подражая Шредеру, начал тянуть коньяк.
— Ну! — Шредер нащупал в кармане маленький пистолет с усиленным боем.
— Все в порядке… На пятом километре беглецы заметят машину… без водителя. Начнется погоня согласно плану операции. Для нас приготовлена служебная машина.
— Ты был у них?
— Портье позвонит сюда, когда они выйдут из гостиницы.
— Ты не заходил к ним?
— Мери, не валяй дурака. И перестань задавать глупые вопросы.
Шредер отпустил нагретый пистолет, вытащил из кармана руку и, барабаня по столу пальцами, пропел:
— «Летели две птички, ростом невелички…» Ха-ха-ха, — захохотал он вдруг странно, как показалось Венке. — Я ведь знаю, ты сын мусорщика.
— Слышал такое от фон Вихрова, тоже помещика. Но из этого вовсе не значит, что мне можно не доверять. Торопись, можем опоздать: Виктор водит машину блестяще. И еще скажу тебе: вот за этой стеной, — Венке слегка дотронулся до простенка, — сию минуту сидит в кресле Стенбек. Ты понимаешь, чем могут кончиться твои сомнения?
— Стенбек! — с удивлением прошептал Шредер. — О, я это предвидел! Он всегда держит таких, как мы, на аркане… Выходи первым, я за тобой через десять минут.
Глава третья
В темноте два бугорка. Это же машины! И верно. Виктор прошептал: «Наша первая». Дверцу открыл бесшумно: «Залезай». И, громыхнув связкой ключей, сказал на ухо: «Полный порядок!»
На шоссе включил свет. Серая лента асфальта рванулась под машину стремительным потоком. Сильно прижало к спинке сиденья.
В темноту, в темноту без конца. На повороте с той же скоростью, только зад машины швырнуло вправо да взахлеб вскрикнул Виктор:
— Развернись, плечо!
И опять гон, гон стремительный. Через час, а может, и больше выскочили на проселку. Машину затрясло как в лихорадке. Виктор выключил свет, сбросил скорость. Темнота стала гуще.
— Эх ты, ночка темная, ты союзница моя, — присвистнул Виктор залихватски и остановил машину.
— Что ты скажешь, Серега, могу я воровать автомобили? — И, не дожидаясь ответа, открыл дверцу. Что-то бурча себе под нос, порылся в багажнике и опять присвистнул: — Серега, бог послал нам кусочек солнца! — Он залез в машину, пошуршал чем-то и включил фонарь.
Круглое пятно света легло на исчерченную линиями карту. Виктор ткнул пальцем в сгрудившиеся черные кирпичики:
— Во! Отсюда мы бежали. Это шоссе, поворот, а это проселочная дорога. Соображаешь?
— Что?
— Сто пятьдесят километров отмахали. Ты в картах разбираешься? Читать можешь? Покажи мне, где проходит граница…
Карта обыкновенная, не туристическая. Венке не только физической подготовкой руководил… Перед сном вызывал к себе в конторку. Ходит, цокает от стола к двери, от двери к столу. «Шумилов, прочитал, что на этом куске изображено?» — «Дорога». — «Какая?» Плетка уже поднята… «Шоссе с асфальтовым покрытием… Ширина двадцать пять метров… У дубовой рощи подъем пятнадцать градусов…» И пока все не прочитает, держал в конторке до рассвета…
Читать топографическую карту Сергей мог. Граница, вот она, проходит по реке… По эту и по ту сторону горы, на изгибе реки — лес, горная сосна, лоскуты кустарника. Они на этой стороне…
И невольно перед глазами возникло взгорье, на нем мельница. Машет, зовет его, маленького Сережу. Анюта смеялась над ним: «И никто тебя не зовет! Ты выдумщик. Ветряк как ветряк». А у самой в глазах ожидание: ну, выдумывай, выдумывай — очень интересно!
— Вот она, граница…
Это он про свое воспоминание. А Виктор свое:
— Ты покажи, покажи.
Сергей накрыл ладонью кусок карты — и речку, и лес, и коричневые пятна гор.
— А-а, разве так показывают! — Виктор спрятал карту за пазуху, выключил фонарь. Тишина. Только на панели светятся часы. Тикают. В немоте удары их кажутся необычно громкими.
— До границы осталось двадцать пять километров. Проедем немного, километров пятнадцать, и бросим машину. Плавать можешь?
— Могу.
— Тогда считай — мы в России… Первым делом я попрошу селедки. Страшно люблю. В Керчи ее навалом. А что ты в детстве любил поесть?
— Мороженое, эскимо.
— Ха-ха.
— Не смейся. Мама сама его готовила.
— Шикарно питались. Поехали. «Эх ты, ночка темная, ты союзница моя», — вполголоса запел Виктор.
* * *
Зеркало, вздрогнув, бесшумно ушло в стену, подобно двери, открывающейся внутрь комнаты. В образовавшемся проеме во весь рост стоял Стенбек.
— Хьюм обеспечил безопасность нашей работы. Завтра местные газеты опубликуют корреспонденцию такого содержания: «Вчера на одном участке нашей границы пограничная стража обнаружила двух неизвестных юношей. Солдаты пытались задержать неизвестных. Но они отказались подчиниться пограничникам и продолжали бежать к линии границы. Пограничная стража вынуждена была применить оружие. Один юноша был тяжело ранен, другому удалось переплыть реку. Раненый успел сообщить, что его напарника зовут Сергеем Николаевичем Шумиловым, о себе же он не успел ничего сказать: тяжелая рана оборвала его жизнь. Ведется дальнейшее расследование».
— Шеф, у меня укрепляются подозрения, — начал было Шредер. «О черт возьми, другого я ничего не мог придумать!» — упрекнул себя Шредер.
— Глупости, Венке — мой родственник.
— Шеф, сегодня или никогда…
— Будь осторожен, аминь!
То ли зеркало приняло прежнее положение, то ли он поменялся местом со Стенбеком, даже сразу как-то не сообразил, что он смотрит на свое отражение… «Будь осторожен» — как это понять?» И отражение в зеркале пошевелило губами. Он понял: шеф отступил в соседнюю комнату. Чемоданчик маленький, килограмма два веса. Шредер подхватил его левой рукой, правой помахал отражению в зеркале:
— До встречи!
Открыл дверь и чуть не попятился назад: Венке и Стенбек стояли возле коридорного окошка и мирно потягивали сигареты. Шредер не из тех, кто теряется. Он широко улыбнулся, бросил взгляд на чемоданчик:
— Дорожный завтрак, — и, не задерживаясь, направился к выходу. Вслед ему затворным выговором: клац, клац, клац — это Венке в своих сапожищах, он никогда не меняет их.
В машине, когда выехали на дорогу, Шредер спросил в упор:
— Ты все время стоял у двери? Ты слышал, что мне говорил Стенбек?.. Отвечай же!
— Я не мог иначе…
— Он так велел тебе?
— Да.
— Значит, Стенбек нам не верит?
— Мое дело точно выполнять приказы…
«Вывернулся! Значит, подсматривал, значит, не в последнюю минуту столкнулся в коридоре со Стенбеком! Значит…»
— Шредер, шеф нервничает, его надо понять.
«О, черт бы побрал этого инструктора физической подготовки, в такие минуты он спокойно говорит! В голосе Венке ни нотки беспокойства».
— Шредер, я могу сказать, что Стени… предлагают вновь заняться ДОСом. Он ведь специалист по ДОСу.
— А что такое ДОС? И кто предлагает?
— Нюхательный табак, — захохотал Венке, но тут же, прервав смех, выдохнул грудным голосом: — О, это страшно! Разве ты забыл Майданек? Аджимушкайские катакомбы? А-а, ты не был в катакомбах…
Шредер нащупал чемоданчик возле ног: в нем хранилось оружие, именуемое дорожным завтраком. Однако не раскрыл его, лишь произнес отрывисто:
— Какого же черта связался с нами!
Он остановил машину, спрыгнул на землю. И, все не решаясь раскрыть чемоданчик, долго топтался на одном месте. Потом по грудь втиснулся в машину:
— Еще не все свидетели умерли. Кто-то и тебя, канцеляриста, приметил… Будь благоразумен… Платят нам много. Что тебе еще нужно?
— Виктора переправлю — и баста, рассчитаюсь.
— Это по-честному. Вылезай, сейчас переоденемся в форму местных пограничников. Отсюда пойдем пешком.
На небе показался прищур рассвета — оранжевый мазок у самого горизонта. Шредер наконец раскрыл чемоданчик, один пистолет передал Венке, предупредил:
— Для нас обеспечена полная безопасность, торопиться не следует. Я буду стрелять холостыми по Виктору, ты бей наверняка.
— Не промахнусь, Мери…
— Знаю. Встретимся после операции… — Шредер назвал небольшое селение, расположенное в пятидесяти километрах от границы, назвал улицу и дом. — Главное, чтобы русские пограничники все это видели, тогда они поверят Виктору. И газеты подтвердят. Хорошо Стенбек придумал.
— Это работа Хьюма. Он, как спрут, всех держит в своих щупальцах…
— Тогда по коням. — Шредер открыл чемоданчик с оружием: — Прошу.
Венке схватил пистолет, который показался ему легким, но Шредер поторопил:
— Спрячь за пазуху. — И похлопал Венке по плечу: — Мери, я тебе верю. Мы еще вернемся в Германию. Пошли…
— Отваливай! Отваливай… вправо!
И выстрелы: бах, бах… И опять:
— Отваливай!.. Бах, бах…
Кому, собственно, кричал Шредер, Сергей не знал, но то, что это был голос Шредера, он не мог ошибиться. Отвернул вправо, позвал:
— Виктор, Витя!
А тот как будто бы впервые встретил:
— Ты кто таков? Уходи отсюда! — и камнем запустил: вжик над головой.
— Предатель!
А сам в прибрежные кусты, каким-то странным скоком, по-видимому ранен. Сергей услышал всплеск воды.
«Конечно, это Виктор упал в реку… Но почему, почему он так на меня: «Ты кто таков?»
Над головой нависали ветви инжира. Набегал ветер, падали спелые плоды, гулко ударяясь о твердую землю. Судя по косым лучам, пробивающимся сквозь верхушки деревьев, солнце висело где-то над горизонтом. По-видимому, уже прицеливалось на свое ночное ложе. Сергей прикинул: пожалуй, километров двадцать — тридцать отмахал. Пробирался лесом, глубокими промоинами, карабкался по скалистым кручам. В ушах звенело: «Отваливай, отваливай», как бич подстегивало: боялся погони, но его никто не преследовал, будто попал он в совершенно безлюдное место. Лишь на мгновение останавливался, чтобы оглянуться: не преследует ли его Шредер или Венке. Только один раз ему почудилось клацание кованых сапог. Он шмыгнул за выступ ребристого камня, схватил увесистый кругляш и застыл в готовности огреть им преследователя, хотя еще не был убежден в том, что, собственно, произошло, опасаться ли ему Венке и Шредера.
Темнота наступила мгновенно, словно кто-то опустил на местность огромный колпак, и сразу все потонуло во мраке. Вскоре притупилась и настороженность к опасности. Появилось чувство голода. Сергей набросился на инжир. Вкусные, сочно-медовые фрукты лежали вокруг, и он находил их в темноте без труда. И ел, ел, ел, пока сон не расслабил его.
Уснул с мыслью о доме: ветряк помахал ему огромными лапами, потом мама, улыбаясь, поднесла ему эскимо. И Анюта тут же показалась с красным бантом в косичке. «Ага! Ты все ему да ему». «На, я не жадный», — пошевелил он ослабевшими губами.
Двое суток провел он в траве, под тенью инжирного дерева. Лишь на несколько минут покидал свое убежище, чтобы спуститься на дно промоины, по которой струился маленький ручеек ледяной воды. Засыпая, он видел перед собой все ту же картину: ветряк, маму с эскимо, Анюту. Хотелось, чтобы приснился отец, но такого не было. И вдруг, когда уже взошло солнце, отец приснился. Стоит рядом, инжирину держит в руках. «Папа!»
— Мери, плетка драть буду…
Сергей приоткрыл один глаз: порыжевшие, с царапинами сапоги, под каблуками истертые подковки.
— От меня не удерешь, Шумилоф.
Присел рядом, щелкнул зажигалкой, хихикнул хрипловато, как заядлый курильщик.
— Ладно, дотягивай свой сон. Мне тоже надо отдохнуть. — Венке лег и, уже засыпая, проговорил: — Не вздумай бежать, Мери.
Сергей приподнялся. Венке спал. Серое усталое лицо без особых характерностей, просто человеческое лицо, поросшее рыжей щетиной. Сильные руки лежали вразброс. Под округлым подбородком пульсировала сонная артерия. И все же это был Венке, тот самый инструктор физической подготовки, который частенько пускал в дело ненавистную воспитанникам приюта плеть. Сейчас ее не было при нем. И Сергею показалось, что без тяжелой и ненавистной плети Венке не так уж страшен, не так уж силен. Увесистый кругляш сам попросился в руки. Он схватил камень, не глядя, нащупал на нем выпуклость, приготовился нанести удар. «Куда лучше?» — Он не знал, ибо впервые шел на такое. «Конечно в висок…» Тем более удобно нанести удар: голова Венке чуть отвернута, и правый висок, испачканный грязью, словно бы специально был подставлен для удара. Но тут Сергей вдруг заметил пониже локтя пятно крови, потом определил и повязку под рукавом по концу бинта, видневшегося из-под манжета. «Ранен? Кто же его?..»
Плод инжира сорвался с ветки, угодил прямо в висок Венке. Высота была небольшая, с метр наверное, и Венке лишь пошевелил головой, как бы отмахиваясь от назойливой мухи. Кровавое пятно приковало взгляд Сергея. Он смотрел и смотрел на него до тех пор, пока Венке не раскрыл глаза. Заметив в руке Сергея камень, Венке вынул из кармана носовой платок, начал счищать грязь с виска.
— Камнем по этому месту?.. А почему не ударил?
— У вас на руке кровь…
— А-а… Испугался крови? Не созрел ты для боя, Мери. На твоем месте я бы не упустил такой подходящий момент. Дай-ка сюда. — Он взял кругляш, взвесил его на своей широкой ладони. — Этой штуковиной легко можно прикончить, Шумилоф… Возьми, в этом мире безоружным делать нечего: такова жизнь — или я тебя, или ты меня.
— Это на войне так, а сейчас мир! — возразил Сергей и сам удивился, откуда ему пришла такая фраза.
— Ми-ир-р, — протяжно сказал Венке. Он опустил голову на колени, с минуту молчал. Потом, не меняя позы, продолжил: — Мир! Не было его и нет. Поднимайся, пошли.
— Куда?
— Что? Не догадываешься?.. Кто машину угнал? Кто хотел бежать в Советский Союз? О, Мери, за такие проделки тюрьма положена…
— Вы же сами нас везли в Советский Союз… Нам только хотелось побыстрее..
— Да-а… В твоем возрасте я был умнее… Впрочем, может быть, и не так это, — прошептал он, вновь опуская голову на колени..
«Тюрьма положена», — застучала мысль в голове Сергея. Теперь он видел широкий затылок Венке. «Ага, значит, война, не кончилась, все эти проповеди в приюте — обман. Так вот, ты сам меня толкаешь…» Пальцы крепко сжали камень, одно мгновение и…
— Ты знаешь, что такое газовая камера? — Венке поднял голову. — Не знаешь? Я видел это собственными глазами. И могу еще раз посмотреть этот спектакль, если Стенбеку удастся его поставить… Не догадываешься?.. Ха! Кому я говорю. Пойдем, я обязан доставить тебя Шредеру. По дороге решу, как лучше это сделать. Это я правду говорю, Мери. Пошли…
Конечно, Венке не мог ошибиться, он сразу определил, что Виктор прыгнул в кусты неестественным образом, подобно подстреленному зайцу.
— Посмотри, что с ним! — приказал Шредер. До прибрежных кустов оставалось не более сорока метров, и тут удар в левую руку. Боль почувствовалась потом, спустя три-четыре минуты, когда Виктор оторвался от берега, загребая лишь одной рукой. Не было смысла следить за Виктором дальше: этот натренированный парень свое возьмет.
Подошел Шредер:
— Ты ранен, Венке. Странно.
Он вскрыл индивидуальный пакет, наложил бинт. Потом они лежали в кустах возле дороги, ожидая Стенбека. И только тут Шредер спросил:
— Ты, надеюсь, не промахнулся?
— Я стрелял, целясь точно. — Венке боялся признаться, что выстрелы почему-то не поразили русского Мери.
— Но не промахнулся?
— Думаю, что нет..
Подкатил Стенбек. Едва выйдя из машины, он спросил:
— Номер два ликвидирован? — Это он про Шумилова. — Докладывайте, Шредер!
— Я сопровождал Виктора. Он на советском берегу.
— Где номер два? Номер два!..
И, заметив на руке Венке пятно крови, как-то притих, глядя себе под ноги, но потом распорядился:
— Венке, ты в силах найти труп? Я тебе доверяю, твоим глазам. Закопай. Место встречи тебе известно. Жду.
Они уехали. Стенбек, сидя за рулем, перед тем как тронуться с места, кивнул своим бульдожьим подбородком:
— Венке, будем немножко гулять потом… Жду.
Рана была пустячной. Глядя на нее, Венке задумался, невольно нахлынуло далекое…
— Стени, ты придешь к нам? У Эльзочки день рождения.
Стени собирает колбы, пробирки.
— Стен, ну как?
— Знаешь, я повышение получил…
— Уходишь из института?
— Да.
— Куда?
— Секрет…
Но по всему видно, что Стени хочется похвастаться.
— Ну скажи?
Стен берет Венке под руку, подводит к окну:
— Видишь, серое здание на холме?
Самого здания почти не видно, оно окружено соснами. Говорят, что там размещается психиатрическая лечебница.
— Ты же химик, Стен!
— А буду ассистировать самому доктору Мюллеру. Он гордость немецкой науки.
— Не слышал про такого.
— Еще услышишь… А Эльзе сколько исполнилось?
— Шестнадцать.
— О, какая взрослая! Приду.
У Стена очень энергичное лицо. Он сразу понравился ей. Серый костюм сидит на нем, как на заправском атлете, светлые волосы, голубые глаза. «Ох, дурашка, еще втрескается. У Стени положение, а ты кто? Дочь мусорщика, сестра наладчика штативов и всяких металлических лабораторных приборов. Да и в возрасте колоссальная разница. Эльзочка, к тому же он, этот парень, лис. Самый обыкновенный лис: порою его можно принять за священника, а иногда в нем просыпается обыкновенный полицейский. Если бы я не должен был ему тысячу марок, никогда не позвал бы его домой… Ты, Эльзочка, об этом не знаешь».
Эльзочка шепталась со Стеном, который держал ее за руку и все старался ближе придвинуться к ней.
— Стени… Стени… Ты похож на Бека.
— Какого Бека?
— Так красивее было бы — Стенбек.
— Ну это уже что-то восточное, — возразил Стени и все-таки вплотную приблизился наконец.
— И вовсе не восточное, — подчеркнула Эльзочка, убирая его руку со своего плеча.
…Эльзочка возвратилась домой под утро. Венке разбудил голос матери:
— Ты ему не нужна! Не нужна! Майн гот, как все это случилось!
— А что «все»? — отвечала Эльзочка. — Стени — умный мужчина. Ласковый и добрый…
— Вот как все это началось. — Венке тряхнул головой, пробуждаясь от воспоминаний.
— Я что-нибудь сказал? — спросил он у Сергея и, поняв, что все же сказал, скривил почерневшие губы. Лоб его был усеян выступившими капельками пота.
— Послушай, Шумилоф… Мери, найти бы нам укромное местечко… Да, вот туда, что ли, — показал он вниз, где заросли были гуще и зеленее, чем на взгорье, по которому Венке вел Сергея.
Только к вечеру Стенбек со Шредером оказались на пункте сбора. Это было маленькое горное селение не более десяти глинобитных домиков, серыми гнездышками лепившихся вдоль обрыва. Внизу простиралось плато с многочисленными кошарами и загонами для скота. Кошары и загоны были пусты, а сам поселок казался заброшенным, безлюдным.
— Хозяин пастбища и его работники уехали на дальние участки, — пояснил Шредер Стенбеку и, показав на домик, стоявший на самой окраине поселка, добавил: — Это наша гостиница. Она построена специально для купцов.
Внутри домик оказался довольно роскошным. Небольшая прихожая, в которой их встретил лысый старик, три просторные комнаты с окнами под самым потолком были устланы коврами, обставлены низкой мебелью — диванчиками с пузатыми подушками, столиками, вокруг которых тоже лежали такие же пузатые и пестрые подушки.
Старик, по-видимому знавший Шредера, низко поклонился ему:
— Господин Торгмин, как всегда, в столице. Прикажете приготовить душ или сразу подать ужин?
— Ужин, — ответил за Шредера Стенбек.
— Покоряюсь, одна минута.
— Из разных стран сюда приезжают скотопромышленники, — сказал Шредер, когда был подан ужин. — И богатый скупщик Ромель, — показал он на себя, — как вам известно, с прошлой зимы стал совладельцем этих альпийских пастбищ. Как видите, шеф, я не только артист цирка, но и капиталист…
— Хьюм может сделать тебя кем угодно, — отпарировал Стенбек, ложась на диван. — Венке ведь родной брат Эльзочки.
— Какой Эльзочки? — подхватил Шредер, собираясь уйти в свою комнату.
— Спокойной ночи, Шредер. Аминь…
Сон никак не приходил. Зато лезло в голову прошлое…
— Камуфляж должен быть абсолютно полным. Доктор Стенбек, мы вас назначим начальником приюта. Приют — это только камуфляж. Он расположен в очень подходящем месте. Уроки английского языка, молитвы, физическая подготовка, верховая езда. Время от времени мы будем вам сообщать фамилии ваших подопечных, которых следует отправить на их родину.
Хьюм всего сразу не сказал. Он лично доставил Стенбека в «Лесной приют». Лагерь был довольно сносно оборудован. Недели через две, после того как в «Лесном приюте» появился Венке, Хьюм вызвал к себе Стенбека:
— Стени, я хочу тебе показать нечто приятное для тебя как специалиста.
Он взял его под руку и повел вниз по спиральной лестнице. Минут двадцать они шли подземным ходом, освещенным электрическим светом. И вдруг перед ними открылся довольно больших размеров зал. Хьюму не надо было пояснять, что это такое. Стенбек сам сообразил, ибо он увидел знакомое для него оборудование. Он только спросил:
— А доктор Мюллер? Он тоже здесь?
— Старик совсем плох. Хотите повидаться?
— Да.
— Пойдемте в его кабинет…
Мюллер полулежал на кровати, обросший и умирающий, но еще со светлой памятью.
— Стени… я так и знал, ты вернешься к своему делу… Хьюм, оставьте нас вдвоем.
— О’кей! — с какой-то игривостью и легкостью согласился Хьюм.
— Стени… Во имя чего я трудился? Бедная империя… В подземелье загнали ее… Неужто опять мы проиграем?
— Они теперь с нами, профессор…
— Нет, нет… Сейчас мы при них вроде ассистентов…
— Но ассистент может занять место профессора.
— О-о, Стени, Стени… Эта мысль и держит меня здесь… Ты по-прежнему умен… Но они дьявольски хитры!
— Я только одного опасаюсь, профессор… Многих таких, как мы с вами, посадили в тюрьму… Я боюсь свидетелей, профессор, не своих нынешних хозяев, а свидетелей… Раньше я об этом не думал, теперь думаю.
— Не надо быть таким слабым, Стени… Но от свидетелей надо избавляться… Мы не только ученые, но солдаты, как говорил фюрер. Надо уметь избавляться от свидетелей… Об этом я думал… У Хьюма есть хорошая идея. Ведь я догадываюсь, о каких свидетелях ты говоришь. Тебя катакомбы пугают? И в частности, тот самый… как его, Шумилов. Да, это опасный свидетель. Он тебя знает в лицо и твою фамилию, конечно, не забыл. Положись на Хьюма… Он все уладит. Теперь я могу спокойно… умереть… Стени, хорошо, что ты в эту минуту рядом… Во имя империи, Стени…
И опять встреча с Хьюмом.
— Хэлло! Стени!
Да, это был Хьюм. Он появлялся на территории приюта неожиданно, как будто из-под земли вырастал. Стенбек стоял напротив куценькой шеренги мальчиков. Говорил им напутственные слова перед отправкой их на родину — двое репатриировались в Чехословакию, один в Польшу и, кажется, один на Украину.
— Великая страна проявила о вас божескую заботу…
Хьюм подошел к Стенбеку и почти насильно увел его в двухэтажный коттедж. Он, как всегда, был весел, этот Хьюм.
— Ну, Стени, — едва поднявшись в кабинет, загремел он басом, — подыскали для тебя отличного помощника. Шредер, артист цирка. Но это еще не все, Стени! — Хьюм переломился перед Стенбеком, заложив руки за спину. — Старший лейтенант Шумилов, тот самый, который одурачил тебя в Керчи, взят нами на учет. Ха-ха, Стени, радуйся, мы все сделаем, чтобы ты был свободен от таких свидетелей. У нас есть парень, которого мы пошлем в Керчь… Мюллер просит, чтобы ты его заменил. «Лесной приют» мы надежно прикроем. А котельная будет работать. Стени, по рукам?..
План Хьюма, включая и операцию по переброске в СССР Виктора, захватил, увлек Стенбека. За завтраком Шредер вдруг спросил:
— Шеф, кто такая Эльзочка? Она вас беспокоит или радует?
Стенбек наполнил чашечку крепким кофе, подумал: «Шеф!.. Нет, Шредер, теперь я займусь своим делом… Пожалуй, ты меня больше не увидишь. И никакой я не Стенбек. Я — Эхман. Мюллер, я ведь прав: ассистент может стать профессором. Только бы не промахнуться: работать при Хьюме, но на Германию, на великую Германию…»
— Эльзочка? — произнес Стенбек. — Она меня не радует и не беспокоит. Это прошлое. Совсем прошлое… Когда-то мы все были молодыми и увлекались… девушками…
— Она жива?
— Это не имеет никакого значения.
На лице Шредера мелькнула усмешка. Стенбеку это не понравилось, ему даже показалось, что Шредер что-то знает об Эльзочке, возможно, Венке проболтался… И чтобы уйти от начатого разговора, Стенбек сказал:
— Когда цирковая труппа отправляется в Россию?
— Не раньше середины лета. Мне надо войти в форму, чтобы завоевать признание публики, уважение поклонников циркового искусства. Уважение — это блестящий пропуск в Россию.
— Хорошо. Об этом мы еще поговорим… Но стоит ли теперь, когда Виктор в России, ехать вам на связь с резидентом? Виктор получил отличные инструкции. Он вне всякого подозрения.
— Он молод… Опыта нет. И как еще сложатся отношения в семье Шумилова…
И опять при этом на лице у Шредера мелькнула улыбка.
— Вы радуетесь чему-то, Шредер?
— О шеф, шеф, если Виктор оправдает наши надежды, какое это большое дело! Вот чему я радуюсь, шеф…
Вечером Стенбек отправился на машине в аэропорт. Перед тем как сесть за руль, он проверил свои документы — паспорт на имя скотопромышленника и заранее купленные билеты. Тяжелой рукой он хлопнул по плечу Шредера:
— С Венке будь осторожен, не промахнись второй раз…
В машине Стенбек подумал о сокровенном: «О, если бы они перестреляли друг друга!»…
— Ты еще не убежал?
— Нет.
— Почему? — Венке протер заспанные глаза, здоровой рукой вытащил из кармана часы. — Бог мой, пять часов спал и ты не удрал!
— Вы же ранены, как я вас брошу. Водички принести?
— Принеси…
Он подал пустую флягу, посмотрел вслед Сергею с неосознанной злостью: «Какой учтивый, сердобольный!.. Ничему вас, русских, война не научила. Врага жалеет! Что за народ эти советские! Ха! «Водички принести… Вы же ранены…» А я вот к Шредеру тебя доставлю… — Венке разбинтовал руку, посыпал рану порошком пенициллина. — Кто стрелял? Стени? Вполне возможно. Следы заметает». Но тут он вспомнил о сестре Эльзочке. У нее ребенок от Стени, мальчик Отто…
Стени простил долг, более того, на службе он, Венке, тогда надбавку получил к зарплате. И немалую. Семья перестала испытывать нужду. Только Эльзочке, красавице куколке, от этого не было легче: Стени с появлением ребенка совсем перестал встречаться с ней.
«Стени, разве тебе ее не жалко? Это же твой ребенок… Отто очень похож на тебя. Ты ее не любишь? Видите ли, он принадлежит науке. Видите ли, он не имеет права растрачивать силы на семью… Так. Значит, не женишься? Совсем, совсем?.. Видите ли, это от него не зависит». Хотелось бросить в лицо: «Подлец!» Куда там! Венке постепенно становился как бы частицей самого Стени. Он околдовывал Венке блестящим будущим Германии. «Когда завоюем жизненное пространство (о черт возьми!.. Я же верил в райское пространство, верил!), тогда, мой друг Венке, ты все поймешь… И Эльзочка и Отто тоже поймут и простят меня… А сейчас мы только солдаты. Солдаты фюрера». И, как будто бы открывая какую-то тайну, шептал: «Доктор Мюллер поручил мне переговорить с тобой: не возьмешься ли ты, Венке, укрепить мускулы у наших служащих? Построить спортгородок и с утра по часу будешь заниматься».
— Вобрать живот! Ногу выше, выше! — произнес Венке и увидел перед собой Сергея с флягой в руке.
— А-а, принес… Ну давай…
Родничок был неподалеку. Из зарослей, в которых находились Венке и Сергей, виднелись камни, обросшие мхом. Из-под них-то и струилась вода, глухо клокоча. «А что, — подумал Сергей, глядя на камни, — может, действительно убежать?..» «Отваливай, отваливай…» — «А стреляли-то, выходит, по Венке». Мысль эта одновременно теплилась и надеждой: «Венке, видно, сам мытарится, он плохого не сделает».
— Мы встречались с твоим отцом, — сорвалось наконец с уст Венке. — Старший лейтенант Шумилов, начальник пограничной заставы…
К родничку по узкой тропке, нагруженный бурдюками с опавшими боками, спускался подросток, за ним следовал бородатый мужчина, опираясь на посох.
— Господин инструктор, смотрите!
— Ты слышишь, что я говорю?
— Да смотрите же!
Заметил и Венке. Он отвернул ветку и молча застыл в наблюдении.
Наполнив водой бурдюки, подросток, согнувшись под тяжестью, попробовал преодолеть крутой подъем. Ноги его подкосились, и он упал, скатился вместе с бурдюками вниз. Бородатый замахнулся посохом. Он начал бить мальчишку, что-то крича. Тот снова навьючился, но, качаясь и сделав несколько шагов, опять покатился вниз. Потом выскочил на взгорье, стал на колени, поднял руки к небу. Бородатый подошел к нему, выждав, пока тот опустил руки, с размаху ударил посохом по спине мальчика раз, другой, третий…
— Ага!.. Ага!.. Ага!..
Крик мальчишки вывел из оцепенения Сергея. Он, не слыша Венке, который приказывал ему остановиться, в одно мгновение оказался у родника. Бородатый, пнув ногой мальчишку, подбоченясь, что-то крикнул Сергею, обнажая белые зубы: похоже, что он хвастался чем-то. И эта поза бородатого, и скорбное выражение мальчишеского лица, и тяжелые бурдюки, бараньими тушами лежавшие у ног Сергея, еще больше подогрели решимость защитить бедняжку.
— Уходи отсюда! — крикнул Сергей.
Мужчина, сухой и длинный, перестал улыбаться. Но опять пнул ногой паренька.
— Ах, так! — Сергей весь напружинился, подпрыгнул и ударил головой в живот сухопарого. Бородатый ойкнул от боли, грохнулся на спину. В приливе злости Сергей схватил посох и разбил его о камни, обломки расшвырял в стороны. Бородатый еще корчился на земле, с трудом произнося: «Ал-лах, ал-лах», как мальчишка вдруг, подтянув изорванные на коленях штаны, припустился в гору.
Сергей вернулся в кусты, лег в густой тени, закрыл глаза: страшная усталость совсем расслабила его, не хотелось отвечать Венке, который ругал за глупую выходку.
— Почему глупость? — спросил Сергей, когда тот притих. Усталость прошла, и Сергей, думая о бедном мальчишке, в душе порадовался тому, что помог ему.
— Бородатый ушел. Пора и нам… Мерит плетка буду драть! — вдруг крикнул Венке, как там, в приюте, на спортплощадке. — Ты поступил нехорошо.
— Почему? Я защитил бедного мальчишку…
— Бедного… Бедных нет, есть слабые и сильные. Пошли.
— Куда?
— Здесь оставаться нельзя. — Венке еще не решил, куда идти. Однако все же он старался попасть в условленный пункт сбора — в горный поселок, в гостиницу, нехотя сличая местность с картой, он все же искал эту дорогу, и, найдя знакомые ориентиры, придерживался их в пути.
— Прочь от этого места.
— Куда?
За перевалом они увидели размашистое плато, окрашенное лучами закатного солнца. В этом высокогорном и бледно-розовом море, дрожа и качаясь, плавали огромные серые пятна.
Конечно, это отары!
Сергей заметил какое-то строение, издали похожее на гнездышко, прилепившееся к крутому откосу возвышенности. Заметил его и Венке.
— Жилище! — воскликнул он. — В нем мы проведем ночь.
Теперь не было никакого сомнения: они вышли в район условленного места сбора. Венке решил дождаться темноты, а потом пробраться в избушку чабанов, служащую пастухам убежищем в зимнее время. О ней упоминал Шредер, когда давал указание, как лучше выйти в район сбора.
Лежа в траве, нагретой солнцем, Венке как бы невзначай повторил:
— Бедных нет! Есть слабые и сильные. — И, помолчав, добавил: — Сильные побеждают слабых… Как ты того старика… Мери, ты мне нравишься. Но никак не могу понять, почему ты до сих пор не убежал от меня?.. Или на крайний случай мог бы легко разбить мне голову камнем? Ведь ты хотел этого.
— Хотел, — признался Сергей.
— Отчего же ты струсил?
— Я не струсил. Лежачих не бьют…
Венке приподнялся и с удивлением посмотрел на Сергея.
— Да, не бьют, — повторил Сергей. — Это не по правилам…
Венке всего передернуло: этот парень, который скоро станет трупом, говорит о каких-то правилах поведения в борьбе. Правила! Правила одни — сильный побеждает слабого. Он, Венке, видел это в Майданеке. Как-то Стени привел его в предкамерную комнату, похожую на предбанник, только с отдельным входом. В глухой стене, на высоте среднего роста человека, оконце-глазок. Возле него элегантно одетый, уже пожилой мужчина, вроде бы медик.
— Вентиль влево!
— Понял! — ответил худощавый с прыщами на лице оберст, стоявший возле трубы с вентилем.
— Еще немного.
— Понял…
Стени попросил медика уступить место Венке.
Прижался лицом к стеклу: спрессованная масса голых людей. Оседает, оседает…
— Они слабые. Их надо уничтожить, — сказал Стени.
Венке не досмотрел. Стени прилип к глазку и вслух комментировал элегантно одетому медику результаты пуска газов…
«Эльзочку он все же любил. Признал ее законной женой, оформил брак:
— О-о, друг мой Венке, я так опасаюсь за Отто, он слабенький, требуется особый уход, а Эльзочка еще молода…»
— Священник с револьвером, — вслух подумал Венке о Стени.
— Кто? — отозвался Сергей.
— А-а, это ты… Еще не ушел…
— Куда?
— От смерти своей… Послушай, Мери, вот тебе деньги, местные. Ты можешь на них прожить тут несколько месяцев. О, черт побрал бы ваши правила — лежачего не бьют! Бьют, да еще как! Бери, бери… Что ты так смотришь на меня? Бери, все бери!
Он, очистив свои карманы, начал суматошно бегать вокруг лежбища. Молча, как заводной игрушечный человечек. Казалось, вот-вот он споткнется и упадет. Нет, не упал, остановился, некоторое время смотрел на Сергея страшными глазами. Закричал:
— Если ты не смог, то я это сделаю. Сию минуту! Сейчас!
Его как ветром подхватило: Сергей не успел даже прийти в себя, как Венке скрылся вдали, словно провалился сквозь землю…
Позади зашуршало в сухой траве.
— Вернулся? — вслух подумал Сергей и выглянул из укрытия: знакомый мальчишка в упор смотрел на него.
Глава четвертая
— Вы были начальником пограничной заставы?
— Был, на юго-западной границе.
— Вы тот Шумилов Николай Михайлович, которого фашисты хотели отравить газом?..
— Тот самый…
— Потом вырвались из рук фашистских палачей, бежали?
— И такое было…
— Сражались на Северном Кавказе и затем, после войны, служили комендантом пограничного участка?
— Служил.
— Уволились в запас по состоянию здоровья?
— Да. Я вдруг начал слепнуть… Теперь врачи восстановили зрение… полностью.
— Это ваш домик, собственный?
— Собственный. Здешние пограничники помогли построить… Я ведь два года был совершенно слеп…
— У вас была дочь Анюта?
— Уехала с мужем на Дальний Восток… Живут во Владивостоке.
— И сын Сережа?
— Кто вы такой?
— Я Синявкин…
— К. Синявкин?
— Да, Константин Федотович Синявкин…
Шумилов осмотрел незнакомца с ног до головы. С виду лет тридцать, рыжий, сухощавый, взгляд спокойный, лучистый. Вспомнились ответы К. Синявкина: «Письмо Ваше получено. Приняты меры к розыску. К. Синявкин». Так на протяжении одиннадцати лет: «Письмо Ваше получено. Приняты меры к розыску. К. Синявкин». «Нет, это не тот сухарь, К. Синявкин должен быть значительно старше», — подумал Николай Михайлович и со свойственной ему прямотой сказал:
— Тебя кто послал ко мне? И почему ты врешь? Ты же не К. Синявкин!
— Могу паспорт предъявить, самый настоящий Константин Федотович Синявкин…
— Из Комитета?
— Точно!
— К. Синявкин?
— К. Синявкин!
— «Ваше письмо получено. Приняты меры к розыску»?
— Да, а что я мог другое написать? И при этом ответ готовый, только подписывай: К. Синявкин. Правда, вначале я длинные ответы писал и полностью ставил: Константин Федотович Синявкин. Начальнику моему это не понравилось. «Какой ты, — говорит он, — Федотович, коль тебе от роду семнадцать лет…» Родители мои погибли на фронте, ну я и пристроился в Комитет за одно питание, потом оклад положили. Служба интересная… Нет-нет да и разыщешь. Сколько благодарностей! Людей ведь находим, Николай Михайлович. Советских людей! Вот вам и К. Синявкин. Ну теперь-то верите?
— Нет, вы не тот… И шутить так не советую, молодой человек, — обиделся Николай Михайлович, хотя ожидал приезда из Москвы представителя Комитета: несколько дней назад его вызывали в управление милиции и сообщили там радостную весть — установлено местопребывание его сына Сергея и что вскоре возможна их встреча.
— Константин Федотович не шутит. Константин Федотович понимает, что делает.
— Понимает ли?
— Понимает.
— Ну а дальше что?
— А у вас, Николай Михайлович, сердечко не пошаливает?
— Эх ты, Рыжик! — усмехнулся Шумилов: парень начинал нравиться ему. — Кто тебя послал?
— Никто. Я сам К. Синявкин. Понимаете, Синявкин из Комитета.
— Погоди, погоди… Может, ты к чему-то меня готовишь? Ты верно К. Синявкин? — Шумилов вскочил. Старенькая скамеечка, на которой он сидел, с грохотом отлетела в сторону. — Говори, Сергей нашелся? — Он цепко схватил Синявкина за манишку. — Говори, Константин Федотыч! — Но тут же погасил вспышку, поставил на место скамейку: — Садись, гостем будешь…
— Я постою…
— Садись… Я не из тех, кто теряет самообладание. Давай, давай, рассказывай: жив или?..
— Жив, Николай Михайлович, жив… Только вы успокойтесь… И за грудки не надо…
Синявкин поднял оторванную пуговицу, повертел ее в руке и решился:
— Вот копия перевода заметки из одной иностранной газеты. Прочитайте.
Шумилов пробежал взглядом:
«Вчера на одном участке нашей границы с СССР стража обнаружила двух неизвестных юношей. Им было приказано остановиться. Но они не подчинились пограничной страже… Раненый перед своей кончиной успел сообщить, что его напарника зовут Сергеем Николаевичем Шумиловым…»
— Синявкин, Костя, это мой, наш Сережа. Сережа, — повторил он шепотом и опустился на землю у ног Синявкина. — Костя, ты не беспокойся, я мужчина, просто так посижу… Чертенок, весь в отца, бежал. Это он, он!..
Во взгляде Шумилова дворик вдруг раздвинулся, и перед ним будто наяву возникла застава: серое кирпичное здание — четыре окна в сторону реки, четыре к ветряной мельнице, издали похожей на матрешку с машущими руками. Сережа родился на заставе, за тем крайним окном, которое наполовину зашторено голубой занавеской. Из этого окна он впервые осознанно увидел ветряк: «Папа, я хочу построить мельницу». И он строил ее. Пружину от старых ходиков приспособил. Ключиком заводил, она, гремя, некоторое время быстро-быстро крутила крыльями. Играл с Анютой в дозоры и секреты. «Папа, я умею по-правдашнему отдавать приказ на охрану и оборону государственной границы СССР». Анюта у него была единственным подчиненным ему пограничником.
Вот и все, что осталось в памяти о Сереже. Нет, еще фотография… Она висит на простенке в позолоченной рамке над кроватью жены. Снят с портфельчиком в руках этаким счастливчиком: «Ну, Анюта, теперь и я буду читать книжки». Он шел в первый класс. А через год эта бомбежка, внезапная и беспощадная…
— Костя, что ж ты еще скажешь мне?..
— Стихи почитаю…
— Читай…
— «Слушай папу, слушай маму И Анюту тоже… Двойки, тройки получать Не к лицу Сереже».— Это лейтенант Сидоренко написал, мой зам по боевой подготовке. Все гирями упражнялся, до армии в цирке выступал. Потом его отозвали с заставы. Откуда ты знаешь эти стихи? Сидоренко, как мне известно, погиб еще в сорок втором…
— Работаете где, Николай Михайлович?
— В городском тире. Да что ты о работе, скажи, откуда знаешь эти стихи? Не мучь, Костя, выкладывай сразу все. — Шумилов, еще сидя, взглянул на Синявкина. — Ну говори, говори…
— От сына вашего…
— Ты его видел? Где он? — Шумилов вскочил и побежал к калитке.
— Постойте, Николай Михайлович… Не все сразу…
— Он там, за калиткой?
— Да. Но пока не надо… Я знаю, ваша жена, Любовь Ивановна, больна, у нее плохое сердце… Давайте подумаем, как нам поступить… Вы понимаете меня?
«Ах, К. Синявкин, К. Синявкин… Ты и это предусмотрел. А ведь я тебя материл за сухие ответы. Ой и ругал! А ты вот каким хорошим парнем оказался… Константин Федотович». Шумилов прислонился спиной к калитке и никак не мог оторвать взгляда от Синявкина, все смотрел и смотрел на него, продолжая в душе восторгаться этим парнем. Он стоял долго, неподвижно, словно окаменел.
Синявкин сказал:
— Я увезу Сергея в гостиницу, а вы подготовьте Любовь Ивановну к встрече с сыном. Синявкин знает, что делать. Согласны?
— Пусть будет по-твоему. Я поверил тебе, Костя…
А сердце требовало свое. Оно билось гулко, как там, в поселке Аджи-Мушкай, когда он снимал со Стенбека китель и брюки, чтобы переодеться и бежать. На лице его выступил пот. «Он тут, рядом, в двух шагах… Сережа…» Чтобы не вскрикнуть, он сильнее сжал челюсти, а руки, дрожа и подергиваясь, все тянулись и тянулись к дверной скобе, и не было никаких сил их удержать…
— Сережа! — крикнул он и рванул дощатую калитку. — Сережа! — Узнал! Их было двое молодых ребят, стоявших возле легкового автомобиля: один чуть сутуловатый, другой с развернутыми плечами. Синявкин выскочил вслед и, обогнав Шумилова, почему-то собой загородил крепыша. Сергей оттолкнул Синявкина (перестраховщик этот Костя) и рванулся навстречу:
— Папа!
Узнал. Узнал. Прошло уже полмесяца, как Сергей находился дома, а радость оттого, что узнал, с прежней силой волновала Шумилова.
— Он меня сразу опознал, — гордился Николай Михайлович перед каждым знакомым.
— А как Любаша? — как-то спросил его сосед, отец Фроси-Самурайки.
С Любовью Ивановной при встрече с сыном произошло совершенно неожиданное. По совету Синявкина (до чего довела его московская канцелярия!) Шумилов позвал во двор жену: пусть определит, кто из них Сергей. Она медленно сошла с крыльца. Поправила на голове волосы. А он, Шумилов (тоже по совету Константина Федотовича), сказал:
— Хозяйка, не узнаешь этих ребят?
Хозяйка! Он никогда так не называл Любовь Ивановну. Она даже оглянулась по сторонам: к кому это обращается Николай Михайлович…
— Откуда такие молодцы? Что-то незнакомые.
Все же подала руку и тому и другому:
— Любовь Ивановна Шумилова…
— Мама!
Она вздрогнула, опять повела взглядом вокруг: голос совсем незнакомый, но крепыш, чем-то похожий на ее маленького Сережу, протянул к ней руки.
— Господи, Коля… Как это понять?
А крепыш подходил, подходил все ближе и ближе, как-то неуверенно, будто в чем-то сомневаясь. Наконец он обнял Любовь Ивановну, но ее руки, чуть приподнятые, никак не могли сомкнуться, и она так и опустилась на скамейку, плача и причитая:
— Господи, господи…
— Это я, ваш сын, Сергей…
И тут она, как бы пробудясь и словно ослепнув, начала ощупывать его голову, лицо, плечи, грудь…
— Неужели, неужели… Коля, да что же ты молчишь? Люди, это верно?… Товарищи…
Она закрыла глаза, покачнулась. Ее внесли в дом, положили на диван.
— Врача! — крикнул Шумилов. Но она, открыв глаза, запротестовала:
— Не надо, не надо… Где он?
Он стоял тут же и неотрывно смотрел на фотографию в позолоченной рамке.
— Это я, я, — сказал он. — Первый раз в первый класс.
Любовь Ивановна приподнялась. Голова ее чуть дрожала. Но все же она нашла в себе силы привлечь его к себе.
— Прости, прости, это ты, ты, сынок, Сережа…
Дворик был небольшим — шесть соток, но чего только в нем не было! Семь яблонь, пять вишен, черешня, виноград, помидоры, капуста и цветы. Перед уходом на работу Шумилов каждый раз осматривал насаждения, собирал плоды. Не изменил он своему правилу и теперь, с появлением Сергея… «Узнал, узнал», — снова восторгался он, срывая самое лучшее яблоко.
— Утро доброе, дядя Коля.
Это соседа, ночного сторожа, дочка, десятиклассница, прозванная мальчишками за свое обличье Самурайкой. Через забор видна одна голова. И верно, у Фроси на матовом лице «самурайские» глаза.
— Куда в такую рань?..
— На Сережу посмотреть, дядя Коль…
— Что, уже познакомились?
— Хи-хи-хи… интересный парень… А правда, что вас, дядь Коль, немцы во время войны газом травили?
— Правда.
— Ой, как страшно! Звери они, фашисты!
— Хуже. Яблоко хочешь?
— Не!.. Сережа скоро выйдет? Он обещал проводить меня в школу. Последний экзамен, дядь Коль… Свистнуть, что ли, ему? Обещал ведь…
— Не надо, пусть отсыпается. В приюте ему нелегко было…
— Рассказывал про заграницу… Я все же свистну, он велел.
— Ну свистни…
Шумилов и сам бы разбудил сына, чтобы вместе походить по саду. Любаша не велит, охраняет как ребенка. «Эх, мать, этот малютка уже с Самурайкой познакомился. Вырос, дело понятное, молодое. А Самурайка, она вроде бы не плохая дивчина, известная акробатка».
Самурайка свистнула почище парня: четыре пальца в рот и… листья затрепетали.
— Разбойница.
— Не, дядь Коль, я смирная. — Она ловко вскочила на ограду, пританцовывая, пробежала несколько метров туда и сюда. — Меня в цирк берут, акробаткой…
— Слышал. Осторожно, шею свернешь!..
Сын показался на крыльце вместе с Любовью Ивановной. Жена совала ему в карманы свертки: конечно, это пирог, бутерброды, всякая еда. «Это и это, и вот еще, обязательно все съешь» — так каждый день.
— Самурайка! — крикнул Сергей и прыгнул через перила ловко и легко. «Выговор у него не совсем правильный, — вспомнил Николай Михайлович. — Проклятая заграница, двенадцать лет муштры, изъяснялись только на английском языке, тут и родной забудешь».
Фрося скрылась. Сергей подбежал к калитке и тут скорее почувствовал, чем заметил, под яблоней Шумилова, оглянулся:
— Папа, разрешите? — Слово «разрешите» он выговорил с нажимом, будто ранее спотыкался на нем, плохо произносил. — Я провожу ее. Мы договорились…
— Ступай.
Он не понял Шумилова. «Ступай…» Что такое «ступай»? Заколебался на мгновение.
— Иди, иди…
— А-а… going! Это по-английски, папа. — И вдруг помрачнел: — Вот так и было в приюте. Там скажешь по-русски — плетью по спине или на конюшню трамбовать до седьмого пота… Я пошел, папа…
— Иди…
Калитка хлоп, дзинь защелка железная. В кошелке десятка два яблок — самые лучшие. Ему собирал. И Любаша ни свет ни заря поднялась, в кухне возилась… «Вжик… вжик… — плетью по спине. Бьют детей!» Шумилов сжался, словно ожидая удара. И кулаки сжались сами собой. Так и вошел в дом со сжатыми кулаками.
Кроме фотографии еще сохранился пакетик с волосами. Первый раз стригли Сережу. Он сидел смирно, только глазенками посматривал то на Анюту, то на нее, Любашу, настороженно и с удивлением. «И ничуть не бобо», — пролепетал горделиво. «Не больно?» — спросила Анюта. «Не-е!» Часть волос Любаша положила в пакетик и хранила вместе с фотокарточкой в шкатулке, которую успела захватить при бомбежке.
Она показала пакетик Николаю Михайловичу.
— Помнишь, первый раз стригли? Он боялся: «Бобо, бобо…» А потом: «Не-е… ничуть не бобо…» Мягонькие, мягонькие, как пушок… Сейчас другие, жесткие. И пахнут совсем не так..
— Да у него уже усы пробиваются, Любаша! Видела?..
— Это верно, вырос, возмужал. Надо бы об учебе подумать, Коля.
— Подумаем, не все сразу. А пока пусть отдыхает. Хорошо, что так обошлось. Пуля попала в мягкие ткани, чуть повыше — и в локоть бы… Вот тебе и кончилась война, а они стреляют, стреляют, эти бешеные.
А Любаша свое:
— Устроил бы ты его в вечернюю школу. Или на курсы…
— Зря я ушел в запас…
— Не по своей же воле, нашел о чем вспоминать…
— Как не вспоминать, когда они стреляют в моего сына! Ты, Любаша, не шути с таким фактом! И напарника его, парнишку, убили…
О гибели парнишки, о котором Сережа знал немногое (то, что напарника звали Дзеником и его якобы привезли в приют из Польши), о Дзенике, тоже вспоминали почти каждый день. Любаша, слушая страшные истории, бледнела, ей делалось дурно, и она просила: «Хватит, хватит об этом» — и прижималась к сыну, как бы боясь, что он может вновь попасть в тот «Лесной приют», где так жестоко обращаются с детьми и подростками.
— Перестань, перестань, Коля, не надо об этом.
— Хорошо, хорошо, — заторопился Шумилов успокоить жену и, чтобы немного развеселить ее, сказал: — Фрося-Самурайка-то уже подружилась с Сергеем. И он с радостью к ней. Поняла? Как бы свадьбой не запахло. А что, дивчина она неплохая, на заборе кувыркается, страшно смотреть!
Любаша поставила на место шкатулку, остановила взор на фотокарточке. Он тотчас же вообразился ей тем Сережей, что бегал по двору заставы. «Анюта, враг нарушил границу, ты часовой, как будешь действовать?» Все это он слышал от взрослых и старался копировать их. Очень уж обижался, если Анюта что-то путала в ответе, поступала не так, как нужно. «Мама, Анюта меня не слушается». Руки вздернулись, прилипли к ушам. «Зачем я так, — похолодев, подумала она. — Он дома, он дома… Ну что ж, что голос у него не такой, вырос, вырос, изменился».
— Пошел проводить в школу Самурайку, — отозвался Николай Михайлович, собираясь на работу.
— Да, да… Он мне говорил… Пусть, пусть, это к лучшему…
— Она заставила его перепрыгнуть через забор, — засмеялся Шумилов. — Черт в шароварах, — захохотал он. — Свистит по-разбойничьи. — И чмокнул жену в щеку, довольный тем, что оставляет ее в хорошем настроении.
«Ах, Фрося, Фрося, и ничего в тебе нет самурайского… Самая настоящая европейская девушка… Нет, нет, американская! И прическа, и одежда. И какой чудак дал тебе такое прозвище… Разве лишь глаза, их разрез. Но, черт возьми, до чего ты красива!»
— Ты действительно пойдешь после школы в цирк? — спросил он, идя рядом и искоса поглядывая на Фросю.
— Конечно. Я уже пять лет занимаюсь в студии акробатики. Люблю все головокружительное, быстрое и веселое. Сама об этом я не знаю, но другие говорят обо мне так. Я просто живу, как мне нравится, вернее, как умею. Цирк, по-видимому, моя сущность, не стремление, а сущность. Ну, как тебе сказать, вот рождаются же люди поэтами, музыкантами, живописцами. И свистеть меня никто не учил, просто взяла и свистнула…
Он засмеялся: в это мгновение Фрося ему напомнила бродяжку с улицы, существо донельзя простое, готовое обнажить свою сущность, и притом совершенно естественным образом, без всяких хитростей и мысленных напряжений.
Она вдруг назвала его Сержем.
— Серж, у тебя есть какие-нибудь наклонности, то, что дано природой?
Он подумал: «Серж… Это совсем родное». До поступления в спецшколу в семье он имел собственное имя — Серж… Серж Романов-Рахмани. В школе он стал Виктором. Он проявил необыкновенные способности в изучении русского языка, много читал русских авторов, вначале читал без разбору, что попадалось под руку…
— Фрося, ты всегда зови меня так…
— Серж… ха-ха. И какие же у тебя, Серж, наклонности?
— А никаких… Заграница меня научила воровать, блатные песни петь и… искусно работать отмычкой.
— Скажи, пожалуйста, глядя на тебя, этого не подумаешь. С виду ты… интеллектуал.
— Кто?
— Умный молодой человек. Симпатяга, — наконец сказала Фрося то, что таила в душе, и немного стушевалась. Он это заметил и про себя подумал: «Неужто русские так быстро влюбляются?» Вслух сказал:
— Симпатяга, это как понять?
— А ну тебя, Серж… Побежали, вон наш автобус.
Экзамены во Фросином классе начинались в одиннадцать часов, в центр города они приехали в десять. Возле школы договорились, что он, Серж, походит по городу, потом в два часа будет ждать ее возле цирка.
Серж сразу направился в сквер, расположенный неподалеку от цирка. Сел на скамейку. Закурил. Мимо прошел пожилой мужчина, одетый в костюм из легкой ткани. Ему показалось, что незнакомец украдкой взглянул на него и, пройдя мимо, на ходу развернул газету, словно подавал условный знак следовать за ним. Но удивило не это — другое: походка мужчины показалась знакомой. Где-то уже он видел человека с такой манерой ходить, держаться прямо, будто к спине припаяна несгибаемая пластинка — так ходят горделивые, знающие себе цену люди.
Архип! Но это же по рассказам и фотографиям… Резидента звали Архипом. Он знает его лишь по фотографии, рассказам Хьюма. Именно о такой манере ходить напоминал ему Хьюм и даже наглядно демонстрировал, как Архип ходит. И о «привычке» читать на ходу много раз напоминал.
«Везение бывает, но это на крайний случай, Виктор. Главное — цирк. Второй ряд, второе место справа от входа. Легко запоминается. Терпение, терпение, и он придет. В руках будет газета «Комсомольская правда» за первое января… Две двойки и первое января. Номер газеты ты достанешь там, в России».
Ему повезло. Газета отыскалась у Самурайки: она сохранила ее потому, что в этом номере была опубликована заметка о талантливой школьнице-акробатке Фросе Пахомовой. Теперь эта газета у него — ловкость рук и никакого мошенства!
Мужчина сидел на скамейке у выхода. «А если подойти, поинтересоваться, что нового в сегодняшнем номере? Это же совсем естественно. Вне всякого подозрения!» «Никогда не спеши», — предупреждал Хьюм.
Мужчина поднялся. Серж чуть не вскрикнул: «Боже мой! Такая походка была у моего отца… И мать говорила: «Вот ходи так, никогда не сгорбишься». Отец держался прямо не по своей воле. Серж узнал об этом в день смерти отца: оказывается, он носил стальную пластинку, удерживающую разбитый позвоночник. Хьюм рассказал о пластинке. Он прилетел на похороны на собственном самолете. И сразу потребовал у матери найти железную шкатулку, якобы хранившуюся у отца с очень важными записями. Действительно, шкатулку нашли в кабинете, в тайнике. Хьюм выдал матери денежный чек на огромную сумму. Потом позвал его, Сержа, к себе. «Господин Романов-Рахмани был мужественным и очень ценным человеком. Это я тебе говорю, малыш, чистую правду. Как и то, что господин Романов-Рахмани просил меня позаботиться о твоей судьбе после его смерти. Ты физически хорошо сложен, не дурен лицом. И, как мне известно, изучаешь русский язык. Я буду твоим опекуном. Ты готов продолжать дорогу своего мужественного отца?» Дороги он этой тогда еще не знал и, пожалуй, мать не знала…
— Серж!
Это же Фрося! Он взглянул на часы: верно, уже два часа. И упрекнул себя за то, что не может контролировать время. Там, в школе, за ним такого никогда не замечалось…
Фрося перепрыгнула через скамью и, радостная, подбежала к нему.
— Все, Серж, все! Прощай десятый «Б», да здравствует цирк, работа!.. Ну поздравь, поздравь меня…
Да, оттуда все казалось проще.
— Серж, — сказала Фрося, видя, что он занят своими мыслями и никак не откликается на ее радость. Он спохватился, подал руку:
— Поздравляю, поздравляю! Это замечательно!
И вдруг потускнел, присаживаясь.
— Что с тобой, Серж?
— Да так, просто…
— Не-ет, что-то случилось?
— Они там стреляли в меня.
— Как? По-настоящему? Из настоящего оружия? — Она села рядом и, взглянув в его лицо, открытое, с мягкими чертами, подумала: «Какой он интересный, и в такого стреляли».
— По-настоящему, Фрося… Вот посмотри. — Он поднял рукав, показал взглядом на синеватый след пули. Ей стало жаль его, и она ближе подвинулась, потрогала ранку:
— Больно?
— Нет.
— Совсем-совсем не больно?
— Теперь совсем…
— Любовь Ивановна и Николай Михайлович знают об этом?
— А как же… Меня лечили в госпитале… Потом нашли родителей. Приехал Константин Федотович Синявкин… Ты его знаешь?
— Кого?
— Синявкина.
— Да откуда же я его знаю?! В тот день, когда тебя привезли, я находилась в студии. Услышала об этом вечером от дедушки… А потом….
— Что потом?
— Тебя увидела, на третий день. Ты шел к автобусной остановке… С Николаем Михайловичем… Важный такой! — улыбнулась Фрося.
— Это мы в милицию ездили, заявление на паспорт подавали. Скоро получу паспорт…
Фросе вдруг захотелось чем-то развеселить его, как-то приглушить его мысли о прошлом. Она предложила;
— А знаешь что? У меня есть восемь рублей, хочешь, кутнем?
— Ты пьешь?
Она расхохоталась.
— Пойдем, пойдем. Тут рядом молодежное кафе. Да здравствует работа в цирке!
— Нет, в самом деле, ты пьешь?
— Пентюх, пентюх, — вновь рассмеялась она, беря его под руку.
— А что такое пентюх?
— Это такое двуногое красивое животное…
— А-а, понял, понял. — Он засмеялся, прижал ее руку под своим локтем. — Понял, Фрося!..
В кафе, просторном, светлом зале с кружевными занавесками на окнах, почти никого не было, лишь за двумя столиками сидели нарядные молодые девушки, ели мороженое и громко смеялись. Они были так заняты своими разговорами, что не заметили, как вошли Фрося и Серж. Но когда Фрося заказала сто граммов коньяка, две порции мороженого и два стакана лимонного напитка, одна из хохотушек повернулась к их столу и помахала им рукой. Фрося ответила тем же, потом сказала:
— Это девчонки из нашего класса, кутят в честь последнего экзамена в школе. Хочешь, познакомлю?
— А это обязательно?
Фросе и самой не хотелось этого делать, она предложила только из-за интереса, как он отреагирует.
— Нет, это не обязательно, вдвоем даже лучше. — Она взяла маленький графинчик, посмотрела на свет. — Ты будешь пить коньяк, а я воду. — И налила ему полрюмки.
— Нет, так не пойдет, наливай и себе.
— Я не пью… Честное слово.
— И вино?
— Только шампанское.
— Заказывай, у меня деньги есть. Родители не выпускают из дому без денег и бутербродов. «Возьми, возьми, может быть, что-нибудь купишь». Вот, смотри, сколько я их уже накопил, — показал он кошелек.
Она заказала бокал шампанского и, когда выпила, все улыбалась, глядя на него, как он тянул маленькими глотками коньяк. «Надо же, в такого парня стреляли. У него красивые-прекрасивые глаза… А девчонки будут завидовать мне… Это же Серж, девочки! Двенадцать лет жил за границей».
— Я хочу подойти к ним, не возражаешь? На одну минутку.
— Пожалуйста.
Подойдя, она так и сказала:
— Это же Серж, девочки!
Они уже слышали о нем.
— Интересный, — сказала одна.
— Хитрая ты, Фрося. Прячешь от нас, — подхватила другая.
— Познакомь нас с ним, — предложила третья.
— Только не сейчас. — Она обняла каждую и, счастливая и радостная, направилась к своему столику. На полпути повернулась, снова подошла к девчонкам.
— А правда он красивый?
— Самурайка, не дразни нас. Ты всегда делаешь не то, что надо. Девчонки, давайте подойдем к нему и уведем с собой в городской парк.
— А во! Не хотите?! — Фрося показала им кукиш и, хохоча, подбежала к Сержу. — Пойдем отсюда, тебя могут украсть.
Они расплатились, под хохот девушек покинули кафе.
— А за границей целуются? — спросила Фрося, когда они оказались у калитки ее дома. Он не ответил. Ее лицо было освещено заходящим солнцем. «О, до чего же романтично все это! А что дальше будет? Что? Хьюм, здесь совсем все по-другому. Хьюм, я не знал о своих слабостях!» Он испугался этой мысли, попытался взять себя в руки, но никак не мог. Она ждала, что-то шепча пересохшими губами: по-видимому, она сердилась, ибо морщился ее лоб и хмурились брови, лежащие жирными мазками над блестящими от солнечного света глазами.
— Я пошла!
Грохнула калитка. Он вздрогнул, но Фроси уже не было.
— Любаша!
Аша-а-а… Эхо по низинам между деревьями петляет, глохнет и вновь возникает.
— Любаша!
— Чудесное эхо! — Любаше не хотелось отзываться: ведь эхо — отзвук его голоса. — Еще позови, Коля, я послушаю.
Она прижалась к стволу высокого дерева, вокруг которого сгрудились разлапистые карлики: одни были выше ее роста, другие ниже. Над головой тревожно кричала маленькая пичужка. Птичка то подлетала к ней, то улетала в чащобу и там надсадно звала детенышей или своего друга.
— Коля! Ми-ха-лыч! — наконец отозвалась Любаша. Ей было хорошо: Михалычу двадцать три года, она называет его так потому, что он при этом чудно опускает взор и, чуть скосив рот, шепчет: «Михалыч?.. Так ведь пожилых людей кличут. Разве я выгляжу пожилым?» У нее замирало сердце при взгляде на него: так уж он был мил ей и приятен, этот лейтенант-пограничник, недавно ставший ей мужем. Она очень любила его.
— Михалыч!
Он вынырнул из зеленой пены, обнял до приятной боли, сказал:
— Разве от человека границы можно спрятаться? Завязывай глаза, и я выведу тебя из лесу, приведу на заставу.
— Смотри, Коля, — показала она на птичку, недоверчиво поглядывающую на них с ветки.
— Что такое?
— Да вот она, смотри сюда. Грудка беленькая, а крылышки с подпалинкой.
Он повернулся. Птичка вспорхнула, вновь тревожно заметалась между деревьями.
— Рядом ее гнездо. Сейчас найду.
И он нашел. Среди малюсеньких серых комочков с желтыми клювиками лежало яйцо, забрызганное зеленоватыми конопушками.
— Оно дышит, — прошептала Любаша.
— Птенец вылупляется.
Любаша прижалась к Николаю, думая: «Вот так и у нас будет, Михалыч». Он, словно поняв ее мысли и состояние, качнул головой:
— А как же-шь…
Скорлупка лопнула, и сквозь отверстие сначала показался серый клювик, потом головка. Глазенки, подернутые водянистой пленкой, удивленно помигали и вдруг замерли: казалось, что птенец раздумывает — выходить ему из своего уютного домика или нет, как встретит его незнакомый ему мир. Новорожденный все же разрушил скорлупу. Он оказался значительно крупнее своих братьев, крохотных живых комочков. Хоть вид его и был безобразен, но Любаша промолвила:
— Бедненький, — и еще плотнее прижалась к мужу.
Птичка приумолкла или улетела прочь. «Бедненький», широко раскрыв клюв, покружил головкой, подполз к братьям. И тут случилось невероятное: орудуя своими почти голыми крылышками, он начал по одному теснить своих братцев к краю гнезда и сбрасывать вниз. Любаша замерла, вскрикнула было, но муж приложил палец к губам:
— Тс-с, смотри, что дальше будет.
Очистив гнездо, «бедненький» опять открыл клюв, красноватый и широкий, издал писк.
Прилетела мама. Всунув свою маленькую головку в его раскрытый рот, она покормила его чем-то. Тот, проглотив пищу, еще шире распахнул клюв. Птичка полетела за кормом.
— Кукушонок! Чужого принимает за своего птенца, — сказал Николай, и его брови почему-то насупились. Любаше стало не по себе. Птенец пищал, крутил головой. Она смотрела на него, и теперь уже не было тех томительно-радостных чувств, которыми она была охвачена, когда смотрела на рождение птенца. Стало вдруг душно. Любаша покачнулась. «Что же он стоит, я сейчас упаду…»
— Коля!.. Помоги…
И леса не было, и Николая Михайловича не было. Страшно билось сердце. На лице, под руками — липкий пот.
— Господи, и приснится же такое!
Любовь Ивановна встала с постели. Взглянула на часы, удивилась, что муж ушел на работу и не разбудил ее — раньше он так не поступал. «Чего уж тут, теперь я не одна», — подумала она о сыне. Дверь в комнату, в которой спал Сережа, была закрыта. Она тихонько приоткрыла дверь: он уже был одет и держал в руках газету.
— Ты кричала… мама?
Она подошла молча к нему, хотела было прижать к груди, но не посмела, лишь развела руками и опустила их.
— Мне послышалось, будто кто-то кричит: помогите!
— Это, наверное, все заграница бродит в твоих мыслях, — сказала она и, покраснев, подумала: «Что ж я таюсь перед ним, неправду говорю. Ой, нехорошо, нехорошо».
Он свернул газету, положил ее в карман.
— Анюта скоро приедет?.. Мне хочется за косички ее подергать… «Слушай боевой приказ на охрану и оборону государственной границы СССР!»
Ей стало немного легче.
— А ведь не забыл. И стихи помнишь?
— Помню.
И продекламировал:
Слушай маму, слушай папу И Анюту тоже… Двойки, тройки получать Не к лицу Сереже.— Разве я плохо учился?
— Нет, конечно. Это тебе Сидоренко написал как бы напутствие.
— Понимаю.
Он вновь напомнил об Анюте.
— Оказывается, муж у нее в дальнем плавании, а Наташеньку в больницу положили. Вчера телеграмму получили, прочитай, у отца на столе.
— Ах, как жаль, — сказал он, прочтя телеграмму. — Наташа-то моя племянница… Оказывается, я уже дядя. Вот так Анюта!
— Боюсь я за Наташеньку… Может, ты поговоришь с отцом, чтобы он отпустил меня. Двенадцать часов — и я во Владивостоке. Понимаешь, он не отпускает меня, отец-то. А тебя послушается.
— А сердечко? — Слово «сердечко» он выговорил с нажимом, с подчеркнутой четкостью. — Сердечко выдержит?
— Ничего со мной не случится, я уже летала. Там, в воздухе, мне даже легче, чем на земле.
— Хорошо. Папа собирается повезти меня в катакомбы, в пути я и поговорю. Согласится.
Он любил завтракать в кухне, и Любовь Ивановна знала почему: из окна кухни видна калитка соседского двора. Как только Фрося покажется, он заспешит к ней. Самурайка вскружила ему голову, но это еще ничего, дивчина она видная, слюбятся по-настоящему — будет хорошо, но Фрося заразила его своим цирком, и теперь он мечтает стать наездником: «Алле-е! Оп-па-а, оп-па-а!»
— Ну какой из тебя наездник, — сказала Любовь Ивановна таким тоном, чтобы он не обиделся. — Шел бы ты в вечернюю школу, окончил бы десятилетку — и в институт.
— Вчера был в военкомате. Спросили: «Паспорт получил?» Получил, говорю. «Готовься, говорят. На следующий год в армию возьмем». Если в цирк попаду, броня мне обеспечена.
— Армия только на пользу…
— Не-ет. — Рот его раскрылся, и она вздрогнула: кукушонок не выходил у нее из головы. «Боже, до чего же дурной сон!»
— Не-ет, мама… Я же говорил, в приюте нас здорово дрессировали по верховой езде. За малейшую ошибку: «Мери, плетка драть буду!» И еще как пороли…
— Не надо, не надо об этом… Я не против цирка, если по душе — иди.
С улицы послышался резкий свист.
Любовь Ивановна улыбнулась:
— Иди, зовет.
Он поднялся. Стоя у стола, о чем-то задумался. Брови, чуть приподнятый нос, мягкие линии губ так напоминали семилетнего Сережу, что она невольно затрепетала в душе.
— Иди, иди, сердитка ты эдакий.
Он бросился к ней и, поцеловав в щеку, произнес:
— Мама, все будет в ажуре. Гуд бай!
— К обеду вернешься?
В ответ он помахал двадцатипятирублевкой и закрыл за собой дверь.
Деньги дал ему Николай Михайлович. «Отец, отец, как бы мы его не испортили деньгами», — призадумалась Любовь Ивановна. Кукушонок опять представился с открытым зевом, а маленькая головка птички в клюве кукушонка, хвостик подергивается от счастья кормления детеныша. «А свои-то лежат, выброшенные из гнезда. Разбились… Кормит чужого, не зная о том».
— Фу-ты, привязался этот сон!
Глава пятая
— Ари! Дзин, дзи-ин…
Мальчишка улыбается. Конечно, он улыбается потому, что Сергей за эти два месяца сумел постичь много слов, фраз и предложений, и теперь они понимают друг друга.
Ари — это пчела, так зовут мальчишку. Теперь не то, что было там, в зимней избушке чабанов, когда они изъяснялись больше жестами, хотя Ари знал десятка два русских слов.
— Алмэк! — Сергею нравится, что Ари так называет его: алмэк — это брат.
— Хорошо, хорошо, алмэк Ари…
— Хорьёшо, хорьёшо, алмэк Серга…
Теперь вроде бы и хорошо… У Ари на окраине небольшого города, среди жалких лачужек, свой дом — хатенка, по оконце вошедшая в землю и покрытая старыми кусками толя. Собственно, эта развалюшка принадлежит не ему, а старшему брату Али Махамеду, который работает в столичном городе дворником. Уезжая три года назад в столицу, Али определил его подпаском в горные пастбища. Чабан, у которого работал Ари, оказался на редкость жестоким и хитрым. Он быстро выдвинулся: хозяин пастбищ сделал его своим помощником по водным источникам. А тот в свою очередь прибрал к рукам Ари, назначил его водоносом.
— Хорьёшо!.. Сенден рэзи олсун…[1]
В зарослях, когда убежал Венке, Ари долго не решался приблизиться к Сергею. Его лицо выражало доверчивость и боязнь.
— Аллах!.. Аллах! — шептал он, скаля белозубый рот.
— Иди сюда. Не бойся. Я твоему господину еще покажу, как издеваться над людьми. Иди, иди.
— Америкел?
Сергей понял: мальчишка принимает его за американца.
— Нет! — тряхнул он головой.
— Элдетмак…[2]
Не зная этого слова, Сергей опять сказал:
— Нет!
— Элмен? Немес?
И все же мальчишка подполз.
— Аллах! Аллах! — глядел Ари на Сергея как на бога. Когда стемнело, он взял его за руку и, что-то умоляюще шепча, повел к избушке. Утром Ари отыскал в избушке кусок брынзы и лепешку, завернутые в тряпицу. Целый день он, что-то лопоча, взволнованно и горячо жестикулируя, пытался объяснить Сергею. Наконец Сергей догадался: в горах кого-то ищут и оставаться им здесь опасно, необходимо отсюда уйти. Но куда? Ари, показывая на себя и на Сергея, шептал: «Эркедэч… эркедэч… товарьич… алмэк Ари» — и тыкал в грудь Сергею. Товарищ!.. И Сергей доверился: «Наверное, не подведет». Хотел сказать, что он, Сергей, — русский, но не посмел, лишь качнул головой: «Согласен, веди».
А вести-то пришлось двое суток — так труден был путь в город, шли только ночью, днем, скрываясь от людей, отлеживались в придорожных кустарниках.
Ари только что вернулся с базара, принес еды. У него сильно набрякли уши, сизые пятна на них: видно, досталось ему на базаре.
— Алмэк Ари, ты больше не будешь воровать. У меня есть деньги, вот, смотри. — Сергей вытащил из-за пазухи сверток, в котором он хранил деньги, оставленные ему Венке. — Видишь сколько!
— Денга! Америкел? — отшатнулся Ари.
— Нет!
— Элмен?
— Нет, не немец… Я вор, жулик!
Ари захохотал, грозя пальцем:
— Русийя! Ты, Серга, не хитри. Ты русийя. О-о, много дэнэг!
Но Ари не был жаден. Он оказался на редкость добрым и неприхотливым мальчишкой: сам бегал по магазинам, лучшую еду предлагал Сергею и очень обижался, когда тот делил ее пополам.
— Ти, Ага, моя господин. — Он хитровато прищурился, словно бы давал понять этим, что он, в сущности, знает, откуда и кто таков Сергей.
— Алмэк Ари, я не Ага…
Однажды Ари прибежал из города возбужденным. Поглядывая в маленькое оконце, он застрочил как из пулемета. Сергей ничего не понял, постарался успокоить его. Кое-как Ари сообщил: в городе идет демонстрация, опрокидывают американские автобусы, и что это интересно, и что все здешние мальчишки высыпали на улицы, и что им тоже надо быть там. Он схватил Сергея за руку и потащил в город.
Вскоре они оказались на самой людной улице. Ари читал надписи на транспарантах и кое-как переводил их содержание Сергею. Вдруг толпа остановилась, попятилась назад. С подковообразной площади на людей шли полицейские машины. Лающие выкрики радиоустановки. Толпа, вздрогнув, подвинулась вперед. Навстречу ей из машин ударили мощные струи воды. Передних сбило с ног. Пожилая женщина пыталась подняться, но, как только она вставала на колени, полицейский направлял на нее струю, и женщина вновь опрокидывалась, разбрасывая руки. Один мужчина попытался пробиться к ней, но и он был сбит с ног.
— Брат! — закричал Ари, до боли сжимая Сергею руку. — Полиция заодно с америкел! — Ари схватил камень и швырнул в полицейского, но не попал.
— Пчелка, разве так швыряют?!
Бьющаяся в струях воды женщина и орущий во все горло полицейский — все это озлобило Сергея, и он вырвал из рук Ари поднятый камень. Прицелился, швырнул. Полицейский схватился за лицо. Сергей бросился к женщине, поднял, помог ей выбраться из опасного места. От радости Ари аж взвизгнул. Но тут же, заметив, что Сергея фотографирует какой-то субъект, предупредил:
— Бистро! В толпу!
Едва они оказались на тротуаре, возле превращенного в щепы киоска «Кока-кола», на плечо Сергея легла тяжелая рука. Он повернулся: перед ним стоял Венке. Хотя на нем была тюбетейка и серая в клетку сорочка, Сергей узнал его сразу. Они измерили друг друга взглядом. И в этот миг рядом оказался человек с фотоаппаратом. Конечно же, он успел щелкнуть. Это понял и Венке, и Ари, и сам Сергей.
— Пойдем, — сказал Венке.
— Пойдем, — прошептал Сергей.
Ари последовал за ними.
Вышли на пустынную улицу. Не останавливаясь, Венке спросил:
— Разве ты еще не воспользовался моими деньгами?
— Каким образом?
— Купи билет на самолет и куда угодно улетай. Я тебя разыскиваю, Мери. Шредер в этом городе. На кой черт тебе эта демонстрация!.. О, Мери, я и сам не знаю, как мне поступить с тобой! Слышишь, не знаю! Я хмельной от всяких мыслей! Не могу протрезветь… Шредер требует найти тебя живым или мертвым. Но найти!..
Он замолчал, и шаги его заглохли. Сергей поднял голову: вместо Венке он увидел перед собой Ари, смотрящего на него с удивлением.
— Он немес? — наконец прошептал Ари, боясь сдвинуться с места.
— Немец, кажется.
— Ушел он, туда, — показал Ари за угол глинобитного дома.
«Я хмельной от всяких мыслей!» Они приходили к Венке хаотично, подобно морским волнам, накатывались друг на друга. И не было им конца. Мир, который потерпел жестокое поражение, еще кружит его, Венке, в своем неутихающем водовороте. Будто бы того мира нет! Но тогда что же такое Стенбек, Шредер, наконец, таинственный Хьюм, появляющийся в «Лесном приюте» в качестве инспектора центра? Не спешит ли он, Венке, с итоговой чертой? Может, ему только кажется, что Германия никогда больше не совершит великий трюк-возрождение, который она так успешно проделала после разгрома в первой мировой войне? Все это Венке изучал в школе, многое своими глазами видел: разгромленная страна неожиданно быстро начала набираться сил. Крепнуть! Разговаривать с другими государствами тоном диктата. И ее слушали. Уступали ей. Уступка за уступкой…
Эти и подобные им мысли привели Венке к Шредеру. Шредер не проявил к нему особого интереса: он вел себя так, как будто инцидента у границы не было и как будто операция по переброске в Россию Виктора завершилась удачно. Два дня они кутили в гостинице магната альпийских лугов. Потом перебрались в этот город. У Шредера было много денег, в кармане лежали документы на имя совладельца лугов господина Торгмина. Шредер был вне всякого подозрения, его знали некоторые богачи города, и он устраивал торговые сделки. Венке же чувствовал себя прескверно, будто бы окружающие знают о нем все и не трогают его до поры до времени.
Один раз Шредер, куда-то собираясь пойти, спросил:
— Ты его надежно похоронил?
Это он про Шумилова.
Венке тогда без колебаний ответил:
— Да, не воскреснет.
И заметил, что Шредер, вздрогнув, опустил голову, чуть побледнело его лицо.
И вот сегодня неожиданная встреча! Венке полагал, что русский Мери окажется более сообразительным, воспользуется его картой, деньгами. Тем более что граница рядом. Этого не случилось. Тем хуже для Мери. Венке выследил мальчишек, теперь он знает местопребывание Сергея и может исправить свои заблуждения. Венке чувствовал себя в подвешенном состоянии. Мысли о том, что и на этот раз с Германией может произойти тот же трюк и что другие государства начнут слушаться ее, подобно невидимым веревкам держали его как бы на весу — твердого решения он не находил…
В таком состоянии он и вошел в небольшой и полупустой ресторанчик. Возле окошка за круглым столиком сидели трое — двое мужчин и женщина. Венке сразу определил — это немцы, и его неудержимо потянуло к соотечественникам.
— Разрешите? — показал он на свободный стул, говоря по-немецки.
— Пожалуйста, — ответила женщина, не посмотрев на него.
— Стопку виски и фруктов, — сказал Венке подбежавшему официанту. — И бутылку кока-колы!
Вскоре из разговоров Венке понял, что сидящие с ним за столом — туристы из Германской Демократической Республики. Парни — одного звали Адемом, другого, помоложе, Отто — спорили о предстоящем футбольном матче между командами ГДР и армейцами СССР. Вначале он только слушал, не придавая никакого значения разговору. Но вдруг откуда-то накатилась очередная волна мучивших его мыслей. «Две Германии… Это невероятно! Германская Демократическая Республика. Она имеет своих спортсменов. Футбольную команду. И будет товарищеский матч с армейцами СССР. Товарищеский!»
Венке закрыл глаза, рука его дрожала, выбивая ножкой рюмки дробь.
— Вы все спортсмены? — отпив глоток виски, спросил он.
— Нет, — сказал Отто, и они переглянулись, видимо, оттого, что он заговорил на немецком языке.
— Я, — подхватил Адем, — техник по электронно-счетным машинам, Отто — студент, Эльза — агроном.
— Вы из ГДР?
— Да, из ГДР, — с заметной гордостью ответила Эльза.
— Как же вам разрешили поехать в капиталистическую страну?
Отто прыснул со смеху, потом Адем. И Эльза расхохоталась. Они поднялись и, поглядывая на него с удивлением и насмешкой, расплатились. У выхода они вновь расхохотались. Захотелось догнать их. Он бросил на стол деньги, выскочил на улицу. Но они уже сели в автобус. Венке слышал их смех… Немного подумав, он все же позвал:
— Отто! Эльза!..
Открылось оконце, показалось лицо Отто.
— Ауфвидерзеен!
И автобус тронулся, покатил прочь, набирая скорость.
О, нет, это не та Германия, не та! Опять эти мысли… накатываются и накатываются. Он сделал усилие избавиться от них. Начал рассматривать следы прошедшей демонстрации — перевернутые автобусы, разбитые киоски «Кока-кола», валявшиеся на мостовой транспаранты, булыжники. Улица была оцеплена полицейскими. Ему пришлось свернуть в узенький переулок и сделать крюк, чтобы вновь попасть на улицу, ведущую к гостинице. Зажглись фонари, и он увидел свою тень на тротуаре, собственную коротышку. «Нет, Стени, это не та Германия, не та. И видимо, прежний фокус не повторится. И зря мы тут копошимся, Стени… Отто, Адем, Эльза — совершенно другие немцы. Они нас не понимают. Слышишь, Стени, не понимают. Смотрят, как на поднявшихся из могил… Мы трупы, Стени, и мы не сможем возродить Германию в прежнем ее виде, какой она была при фюрере…»
Венке вдруг почувствовал страшную усталость. Войдя в номер, он сразу повалился на кровать, даже не посмотрел, на месте ли Шредер. С полчаса лежал он в состоянии совершенной отрешенности: не хотел ни о чем думать.
В смежной комнате, вход в которую был задернут легкой портьерой, скрипнули половицы, заскрежетали кольца портьеры. Лениво шевельнулось в мозгу: «Это Шредер. Чего ему еще надо от меня?» И снова пустота, отсутствие всяких ощущений, желаний. Голос Шредера прозвучал как выстрел:
— Венке! Что там, в городе, творится? Ты видел?
— Американцам морды били, — отозвался он грубо, не поднимая головы. — С умением и приличностью лупили…
Шредер понял: Венке чем-то расстроен, конечно, не демонстрацией, о которой он уже знает. Он прошел в глубь своей комнаты, переждал там, когда Венке сам заговорит:
— Шредер, я только что видел земляков.
— Это еще что за принцы? — охотно отозвался Шредер, сидя в кресле.
— Туристы из Германии.
— Они узнали тебя? — В голосе Шредера не прозвучало тревоги, и Венке почему-то удивился этому.
— Они не могли меня узнать, слишком молоды. Они из ГДР! — Он наконец поднялся. — Ты понимаешь, что нет той Германии, которую мы придумали здесь, на чужбине, в утешение себе. И Стенбек, и я, и ты.
— О-о! Великолепно! Высказывайся, я слушаю.
— Я все сказал…
— Нет, не все!
Венке всегда опасался необузданной подозрительности Шредера, в приливе ее он может черт знает что натворить. Заискивающим тоном вымолвил:
— Ты же немец, разве тебя не волнует судьба родины, ее будущее, ее величие?! — Венке про себя даже удивился тому, что он, оказывается, может так красиво говорить, мечтать и думать. — Помнишь, как-то Стенбек сказал: «Ассистент может стать профессором». Разве ты об этом не мечтаешь?
— Я думаю только о своем деле, о работе, — на редкость спокойно ответил Шредер. — Между прочим, Венке, могу тебе сообщить радостную весть. Виктор проживает в семье Николая Михайловича Шумилова. Для нас приготовлен довольно солидный гонорар. Ты получишь свою долю, я свою…
— А потом?
— Видимо, последуют новые задания…
— И так всю жизнь? Мытарства на чужбине… И ожидание расплаты…
Шредер вдруг надвинулся на него:
— Я всегда подозревал! Ты кому служишь?
В дверь постучали.
— Да, — сказал Шредер.
Коридорный принес им вечернюю газету. Когда коридорный вышел, прикрыв за собой дверь, Шредер оттаял. Венке заметил это по его лицу: исчезли желваки, краснота и бугры опали. Шредер взял газету и, сев в кресло, углубился в нее. Венке не сводил с него глаз, мучительно думал, как же ему поступить, чтобы вырваться из этой страшной кутерьмы. Вдруг он заметил, что Шредер улыбнулся, улыбнулся не деланной улыбкой, а как бы всем своим существом — так улыбаются больные тяжелым недугом люди, когда авторитетный врач говорит: «Все, кризис прошел, милейший, вы будете долго-долго жить».
— Венке, ты сейчас пойдешь к нему и приведешь его сюда. Немедленно, сию минуту. Ты знаешь, где он находится. Знаешь! Назови мне адрес. Сейчас же.
— Кого?
— Посмотри. — Шредер, не выпуская из рук газеты, показал на снимок. Нет, этого Венке не ожидал: на фотографии он был изображен рядом с русским Мери. И заголовок: «Кто подстрекает наших граждан на беспорядки».
Ари варил похлебку в таганке и все поглядывал на Сергея. Ох, этот Ари, он, по-видимому, не поверил в версию, придуманную Сергеем. «Жулик, вор… И как это мне пришло в голову такое?» — досадовал на себя Сергей. Теперь, после демонстрации и особенно после встречи с Венке, он полагал, что мальчишка немедленно проявит к нему настороженность и может заявить о нем властям. Но опасения оказались напрасными. Ари даже и не поинтересовался, откуда этот человек, Венке, знает Сергея. И вдруг, когда они принялись за похлебку, Ари, улыбаясь, сказал:
— Русийя?.. Москва?
Сергей чуть не уронил ложку. Ари засмеялся:
— Русийя, Русийя. — Он радовался, а Сергей не знал, что ответить. — Ти сапсем не жульик, ти сапсем хорьёший. Полицейски камнем попаль. Ха-ха-ха… Хорьёший. — Ари подвинулся ближе к Сергею. — Льенин, а? Рассказывай, рассказывай о Русийя. — И, видя, что Сергей молчит, насупился, в глазах у него потемнело. — Бежаль из Русийя! Сапсем плохой. Ти не бежаль? Скажи не…
— Нет…
— Рассказывай Русийя. — Глаза его вновь обрели прежнюю прелесть. Он ожидал.
…И опять эта мельница на бугре пластается на синем небосклоне машущей матрешкой. Зовет Сережу к себе. Один раз он все же осмелился. Тихой ранью сполз с кровати, схватил штанишки и рубашонку и был таков… Ветряк как ветряк, только очень высокий, казалось, в небо упирается. Было очень тихо, безветренно. Скрещенные лапы, обмотанные брезентом, неподвижны. Поманило к себе небольшое окошко, прилепившееся под самой крышей. Он вошел внутрь: лестница вела наверх, побежал по ней быстро — боялся, чтобы кто-нибудь не заметил и не остановил. Через квадратный проем шмыгнул на чердак. Осмотрелся вокруг: ах, вот оно какое окошко! Внизу маленькое, а тут во весь его рост.
Вдали, километрах в пяти, увидел большущий город, улицы, железную дорогу — две тонюсенькие ниточки, еще что-то удивительное, но непонятное для него. Дымили трубы заводов, и доносился гул. Может быть, он и не слышал этого гула, но вообразил его, представил по рассказам отца и прочитанным книжкам.
«Строится город Минск. Расстраивается и становится все более шумным». Это мама говорила, она не раз бывала в столице Белоруссии. Это же Минск! Минск! Ага, Анюта, я видел Минск! Хотя это был не Минск, но он кричал от радости и не услышал, как поднялся на чердак папа. Схватил его, прижал к груди и, хохоча и целуя, говорил: «Разбойник, разбойник, я же за тобой следом шел, думал, куда тебя фантазия понесет?»
Россия! Конечно, о ней знает весь мир. Но, алмэк Ари, я плохо знаю ее… Клац-клац… «Мери, плетка драть буду». Вот об этом могу рассказать. И о церквушке, и о капеллане, по-нашему, попе, и о Стенбеке с его вечным словом «аминь», и о его умении внезапно превращаться в грубого, неотесанного жандарма.
— Говорьи, русийя… Льенин. Совьэтин…
Ари разочарованно махнул рукой, поскреб в таганке и прилег на низкий топчан, покрытый истертой овечьей шкурой. Он был одет в замусоленную, рваную одежду.
— Ари, ты можешь сейчас сходить в магазин?
Ари ответил, что это ему ничего не стоит, но с условием: алмэк Серга потом расскажет ему о Ленине.
— Вот деньги, купи себе новую одежду: сорочку, брюки, тюбетейку и сандали. Бери.
Ари отрицательно покачал головой.
— Бери. Ведь я твой алмэк.
— Ти алмэк, моя брат?
— Да. Аллах видит.
Ари хитровато ухмыльнулся:
— Аллах?
— Бог, говорю, видит.
Ари рассмеялся, но деньги взял. Сергей еще не успел помыть посуду и убрать в помещении, как возвратился Ари. Он тут же переоделся во все новое. Пофасонил, восторженно произнося:
— Красятья! Порьядок!.. Вот твой доля, — подал он оставшиеся от покупок деньги.
— Зачем, у меня есть. Это твои.
Ари поколебался:
— Слушай, мой брат бедная, если ты позвольйт, отошлю ему.
— Посылай.
Он завернул деньги в тряпицу, спрятал за пазухой.
— Теперь Льенин рассказывай, Русийя рассказывай.
Они сели на топчан рядышком. От Ари исходило тепло, лицо его светилось, и был он весь внимание — так хотелось ему послушать рассказ о человеке, о котором он немного слышал от своего старшего брата.
— Моя старшая брат книжки может читать, — похвалился он и поторопил Сергея: — Ну, скажьи, скажьи… Льенина видел?
— Нет, Ари.
— Ти Льенина не видел?
— Он умер… давно, давно.
— Как умьер! Ти ошибаешься. — Он вскочил и прижался к двери. — Ни, ни! — В глазах его появился страх и смятение, а тонкие губы чуть подрагивали. — Нет, нет! Он жив. Моя старшая брат говорил: жив!
— Ари, успокойся, Ленин действительно живет в сердцах и делах людей… Я тебе сначала о себе расскажу, всю правду расскажу. Во время войны меня родители потеряли. Я попал к немцам, потом к американцам, в приют…
Ари слушал сначала стоя у двери, потом тихонько вернулся на свое место. Влажные глаза его стали сухими. А Сергей говорил и говорил…
— Ти Русийя хочешь? Я тебе помогу! — воскликнул Ари, когда Сергей закончил свой рассказ.
— Ари, это мне необходимо, иначе они опять меня отправят в приют. Чувствую, что-то они затеяли нехорошее…
— Америкел… у-у, шакал! Я тебе помогу.
— Как? Что ты можешь сделать?
Ари призадумался, потом вскочил и, глядя Сергею в лицо, присвистнул:
— Фтью! Моя сосед Мади служит на застава… Ти знаешь, наш оскер мало-мало спит. А Ари ходит вдоль границы. Там много, много ягод. Торговаль ягодами. Базар носиль. Попадало мне от хозяина и от моя сосед Мади, но я ходиль. Все тропы знаю. Мади их так не знает, как Ари знает…
— А если поймают?
— Поймают. Что есть поймают? Ни-и. Зорька, оскер, мало-мало спит. Не поймают.
Ари зажег керосиновую лампу. Посмотрел на свою обнову:
— Русийя. Вай-вай, Русийя! Хорьёшо.
Ари засыпал мгновенно: ляжет в постель, произнесет два-три слова, и хоть из пушки пали — не разбудишь. Сергею на этот раз не спалось: да разве он мог уснуть, когда Ари предлагает ему такой замечательный план побега! «Моя сосед Мади служит на заставе». Так ли это? Не повторится ли прежняя история — у Виктора тоже получалось просто. На словах! А вышло совсем не то…
Сергей поднялся с постели, тихонько приоткрыл дверь: диск луны припаялся к темно-синему небу. Такой же, каким не раз видел его Сергей на заставе, на крылечке, поджидая отца. И мама тут же готовит на примусе ужин. Тихо кругом, как сейчас…
Рокот машины насторожил Сергея. По пустырю проходила дорога, и он заметил движущееся темное пятно — ближе и ближе, точно, легковой автомобиль! Остановился. Открылась дверца, из машины вышел мужчина. Сергей прикрыл дверь и присел под тень.
Это был Шредер. Сергей сразу узнал его, как только он оказался вблизи. А страха никакого — одно любопытство: Ари он не знает, а его, Сергея, не заметит, в крайнем случае можно бесшумно шмыгнуть за угол, а там овраги — скрыться можно.
Шредер обошел вокруг избушки, постоял минуты три у двери и опустился на камень, чуть не задев Сергея полой плаща. Открыл портсигар, закурил, все глядя на диск луны. И вдруг сказал:
— Сиди и не шевелись. Я знаю, кто такой Ари. Он хороший мальчик. Но обо мне ты ему ни слова. Деньги у тебя есть?
— Есть.
— Вот тебе карта. Постарайся уговорить Ари, чтобы он провел тебя к границе. — Он опустил горячую руку на голову Сергея. — Запомни: Виктора послали в СССР Хьюм и Стенбек. Крепко запомни эти слова.
И ушел: как во сне, был и нет… И рокот машины заглох. А луна осталась, серебрит пустырь и дорогу. «Кто ты, Шредер?»
Всю ночь не спал, всю ночь одни и те же вопросы: «Кто ты, Шредер?»
Ари сразу заметил: Серга о чем-то думает, Сергу что-то беспокоит, и, приняв это на свой счет, обидчиво бросил:
— Ти моя брат. Ари тебе плохо не сделает.
Шредер прав, Шумилова надо немедленно изолировать, иначе всех могут арестовать. Проклятый фотограф, щелкнул все же! И вот, пожалуйста: «Кто подстрекает наших граждан на беспорядки». Теперь, спеша на окраину города, Венке думал о Шредере как о человеке, которому не безразлична судьба его, Венке. «Просто у меня расшатались нервы и всякая глупость лезет в голову. Жалость к этому мальчишке проникла в сердце. Это, наверное, оттого, что я много думал об Эльзочке». И все же мысль о том, что пора ему взять отставку у Стени, заняться другим делом, более спокойным, не покидала Венке. Тем более теперь, когда он получит приличный гонорар. Можно еще устроить свою жизнь. «Не вечно же будут искать преступников, в конце концов за давностью простят. Да и не такой уж я преступник, всего лишь исполнитель воли Стени, и при газопусках в Аджи-Мушкае, и там, в Майданеке, и в «Лесном приюте»…»
Получалось так, что он напрасно мучился своей раздвоенностью и чувством подвешенного состояния, всякими подозрениями по отношению к Стени и Шредеру. «Но все же, кто стрелял в меня? — вновь и вновь возникал вопрос. — Шредер говорит: «Может быть, это русский. В последние дни перед отправкой он достал оружие». Это же русский — он всегда опасен! В таком случае, Шредер, почему Сергей не прикончил меня в горах? Ведь он этого хотел, но не сделал. «Вы же ранены, как я могу вас оставить одного». Он даже не убежал, ухаживал за мной, водой поил. Мери, черт бы тебя побрал! Неужели все русские такие? Их трудно понять. Но что-то есть в них такое, перед чем начинаешь теряться и думать совсем не так, как хотелось бы».
И вновь мысли о перспективе устройства своей жизни, после того как он уволится со службы. Денег у него будет много, и он поедет… Конечно же, в Швейцарию. Отпустит бороду, возьмет другую фамилию, не немецкую — арабскую, что-то вроде Архам-Садат! И будет ждать, ждать, кто кого одолеет — Стени или Хьюм или возьмет верх Россия. Стени — это неделимая Германия, это голос репродукторов о победах и завоеваниях. Тогда и ему перепадет, в конце концов, все же родственники.
Он будет ждать, имея приличный дом у самого озера. В своих рассуждениях он так далеко зашел, так увлекся ими, что не заметил и не почувствовал, как пристроились к нему по бокам двое мужчин: они шли нога в ногу с ним уже полквартала. На повороте, освещенном фонарем, он увидел на тротуаре три тени. Остановился. Одна тень резко изогнулась, и перед его лицом почти вплотную вырос высокий человек, преграждая ему путь. Венке не надо было догадываться, что́ это значит и что́ это за человек. Профессионально он сразу понял: сейчас его заберут.
— Это ваша фотография? — показал высокий газету.
Венке кивнул.
— Ведите нас к нему. — Высокий ткнул пальцем в снимок Сергея. — Немедленно ведите и не вздумайте шуметь! Именем закона!
Венке, помедлив, отрицательно покачал головой:
— Это невозможно! Я его не знаю, просто случайно оказался рядом с ним.
— Вы арестованы. Оружие есть?
Венке отдал пистолет и попросил разрешения закурить.
Глава шестая
Директор цирка, веселый кругляш, с чисто выбритым лицом, лохматыми бровями, ел из кулька персики, спрашивая Сержа:
— Что ты можешь делать? Кататься на лошадях! Ха-ха-ха! — Он засмеялся так заразительно, что стоявшие вокруг люди тоже начали улыбаться. Цирк имел небольшой манеж. — Ну пойдем, пойдем, я тебя пощупаю.
Сержу дали огнистой масти коня, поджарого кабардинца.
— Валяй по кругу! Пощупаю. Ха-ха-ха…
Серж легко вскочил в седло. Фрося помахала ему голубой косынкой. Он решил выжать все. Ему кричали: «Хватит!» Но Серж, словно оглашенный, гнал и гнал, показывая высокий класс головокружительных трюков вольтижировки. Под конец он встал на круп и, разбросав руки, перемахнул через небольшое препятствие.
Директор уже не хохотал, он поскребывал кончиками пальцев свою бритую голову и спрашивал у Фроси:
— Где ты его нашла? Настоящий артист-наездник!..
Это случилось месяц назад, в день отъезда Любови Ивановны во Владивосток. Анюта прислала вторую телеграмму, в которой просила, чтобы приехала мать — с Наташей совсем плохо, а муж еще не вернулся из дальнего плавания. И конечно, в тот же день Николай Михайлович отправил ее самолетом. Серж тоже провожал и просил Любовь Ивановну, чтобы она без Анюты не возвращалась.
«Настоящего артиста» директор не осмелился сразу пристроить в труппу. Он с кем-то советовался, позвонил в Москву, а потом предложил вежливо:
— Может, сначала за лошадками поухаживаешь? Нет, не конюхом, помощником тренера. Это полезно. Годик, а потом в труппу: ал-ле, оп-па-а, оп-па!
Он согласился. Фрося возмущалась:
— Да как же так, Серж?! Ты готовый наездник… Хочешь, я письмо напишу в управление цирков?
— Готовый, готовый… Но мне это совсем ни к чему. Среди лошадок спокойнее, и к тому же при деле.
В цирке шло представление. Многих артистов он уже знал. Фрося выступала в паре с Николасом Никишиным, двадцатичетырехлетним парнем отличного телосложения, прекрасным акробатом. Николас вовсе не Николас, это Фрося его так называет, а настоящее его имя Никифор. Они выполняли сложные акробатические номера. Серж, как всегда, сидел во втором ряду, на втором месте, и газета была при нем. Фросю и Никишина вызвали на бис.
«О, она действительно хороша! — любуясь Фросей, рассуждал он. — Хороша и непосредственна, с прекрасными артистическими данными. Такая в нашей стране могла бы стать звездой. — Серж вдруг поймал себя на мысли, что она ему не безразлична и что он смотрит на нее с душевным волнением. — Жениться на ней, это было бы романтично… К тому же, Хьюм, можно и таким путем вживаться в обстановку. Важно ведь вжиться, чтобы не было никакого подозрения: ты как бы частица этой жизни, и никто не может подумать о тебе плохо…»
Кто-то рядом громко зааплодировал, оборвал его мысли о возможности вжиться. Фрося и Никишин раскланялись, под восторженный шум публики скрылись в проходе. Он должен был идти к Фросе — так они договорились: Самурайке взбрело в голову после выступления отправиться в городской тир. «Она вообще-то чистая фантазерка или, скорее всего, педантка; видите ли, по ее личному плану сегодня стрельба в тире. И зачем это ей нужно, девушке с такими высокими данными акробатики? Все здесь по-другому, по-другому, иначе…»
Он скосил взгляд на мужчину: боже мой, тот же самый, которого он видел в сквере, с походкой, похожей на отцовскую! Он тогда назвал его условным именем — Прямой. У Прямого в руке была газета «Комсомольская правда». «Хьюм, неужели так быстро?» — с трепетом подумал Серж. Перед отправкой Хьюм беседовал с ним с глазу на глаз. Оказалось, что резидент вовсе не молчал, передавал сведения на позывных, которые каким-то образом стали известны русским. И поэтому центр не мог отвечать и давать какие-либо указания своему агенту. Серж был обязан сообщить новые кодовые установки и потом вживаться «до состояния обыкновенного, юридически законного гражданина». Странное дело, что Хьюм не напомнил о задании Стенбека. Однако Серж воспринял это как испытание его, Сержа, на умение молчать о том, о чем его не спрашивают…
Он посмотрел на занавес: из-за портьеры выглядывала Фрося. Она подавала знаки, чтобы он быстрее шел к ней. Серж качнул головой и торопливо вынул из кармана свою газету. Она была сложена так, чтобы видно было название. Прямой пошевелился, словно стараясь поудобнее сесть, но не обратил внимания на газету Сержа.
— Сегодняшняя? — решился спросить Серж. Прямой лишь взглянул на него. Но, погодя немного, спросил:
— Газета, что ли?
— Да.
— Пожалуйста, сегодняшняя.
Серж метнул взгляд на дату выхода газеты: «Не то, не то». Потом пробежал глазами по ее полосам, передал Прямому, говоря:
— Спасибо, — и заторопился к Фросе.
Стреляла она весьма посредственно. Из десяти зарядов только шесть пуль попали в цель. Фрося попросила еще пять штук. Инструктор, лысеющий грузин с орденскими планками на груди в четыре ряда, поскрипывая протезом, прошкондылял к полке. И оттуда, скося белозубый рот, бросил:
— Барышня, посвободнее держи, пуля метче ляжет.
Передавая заряды, инструктор задержал Фросину руку в своей:
— Ай-ай, какой глаза! Пах-пах-пах…
Фрося отдернула руку, замахнулась малокалиберной на инструктора, тот, округлив глаза, выкрикнул:
— Самурайка! Какой японес! — И к Сержу: — Она на все способна. И по голове может трахнуть.
— И рука не дрогнет, — сказала Фрося и начала целиться.
Когда она отстрелялась, на этот раз лучше, в тир вошел Николай Михайлович.
— А ну-ка, попробуй, — предложил он Сержу и сам, зарядив винтовку, отошел в сторону и стал наблюдать за Сержем. Инструктор что-то шепнул ему на ухо, но он не ответил, все смотрел на Сержа. Тот, о чем-то подумав, приложил приклад к левому плечу, делая вид, что он не знает правил стрельбы.
— Ты его пошли во Всемирный Совет Мира, — сострил инструктор, — ему там место.
— Погоди, Вано, — проговорил Николай Михайлович. Он показал Сержу, как надо держать винтовку и производить выстрел. Серж прицелился, потом повернул голову в сторону Николая Михайловича, подмигнул, улыбаясь. Выстрелил. Пуля попала в десятку.
— Еще! — крикнула Фрося.
— Еще, — качнул головой Николай Михайлович. Инструктор дал ему сразу пять зарядов.
— Это, наверное, случайно, — сказал Серж и начал стрелять.. Когда положил винтовку, инструктор скоком засеменил к мишени. Оттуда, рассматривая пробоины, закричал:
— Слюшай, Николай Михайлович! Пах-пах! Все в десятку. Ему место в Генштабе, в управлении боевой подготовки. Сукин сын, какой снайпер!
«Хорошо я сделал или плохо?» — встревожился Серж, чувствуя теплую ладонь Николая Михайловича на своем плече.
— Молодец! — сказал Шумилов. — Я рад за тебя. Это приятно.
Фрося предложила идти домой пешком.
— Это же три километра. Да и поздно, одиннадцатый час.
— Ты боишься?
— Смешно, я ничего не боюсь.
— Тогда пойдем.
На площади, ярко освещенной электрическим светом, он заметил идущего впереди человека, знакомого своей осанкой. Стал вспоминать, где он его видел. Фрося, восторгаясь его стрельбой в тире, мешала сосредоточиться. Однако Серж вспомнил: это Синявкин, и то, что он вспомнил, пробудило в нем чувство удовлетворенности самим собой — умение запоминать людей по их даже незначительным внешним признакам всегда отмечали в школе и Хьюм, и другие.
Синявкин замедлил ход, и они поравнялись.
— Добрый вечер, Константин Федотович.
— А-а, Шумилов… Ну как живется? Акклиматизировался уже? — И, взглянув на Фросю, улыбнулся: — Вижу, у вас все хорошо.
— Вы к нам? — спросил Серж.
— Что вы! Я теперь не работаю в Комитете… Приехал на отдых, подышать ионами.
— Из Москвы?
— Да.
— Может, к нам зайдете? Сейчас мы с отцом вдвоем, мать улетела во Владивосток к Анюте. Так что место для вас в доме найдется. Да и отец будет рад…
— Спасибо, у меня есть где переночевать. Утром из санатория придет автобус — и да здравствует «Ласточкино гнездо»! Да здравствует море!.. На работу еще не устроился?
Серж закурил, предложил Синявкину.
— Думаю, куда пойти, — сказал он и заговорщически подмигнул Фросе. Та поняла его, промолвила:
— Чего ему спешить, пусть набирается сил.
— И то верно, — сказал Синявкин и опять посмотрел на Фросю. Предложил: — Ребята, зайдемте в кафе. У меня отпускные хрустят, — пошевелил он пальцами, словно в руках у него были денежные купюры.
— Я согласна, — сказала Фрося.
— Нет, нет! Поздно, — запротестовал Серж. Ему вдруг показалось: Синявкин неспроста приглашает в кафе, а имеет какую-то определенную цель. Он потускнел, задумался. Синявкин заметил это и рассмеялся.
— Отелло? — кивнул он Фросе, все еще смеясь.
Фрося обиделась за Сержа. «Что этому конопатому надо!» И, сощурив глаза, жестко выговорила:
— Вы кто такой?
Серж спохватился:
— Это же товарищ Синявкин! Тот, который помог папе найти меня.
Теперь Синявкин задумался, но лишь на мгновение. Но Сержу было достаточно и того, чтобы вновь насторожиться. Он нашел в себе силы, повеселел и даже вдруг рассмеялся.
— Мы сегодня были в тире, и там один кацо, инструктор по стрельбе, чуть не схлопотал себе от Фроси. — Он не договорил, торопливо закурил очередную сигарету.
— За что же? — спросил Синявкин.
— Приглашал в кафе. — Фросины глаза опять сузились, превратились в узенькие щелки.
— Ребята, я вас понимаю: для вас третий — лишний. Я удаляюсь. Привет Николаю Михайловичу. На обратном пути, возможно, загляну к вам. Будьте счастливы!
…Они шли долиной, ведущей в горы. По краям дороги шпалерами возвышались тополя. Обгоняли такси, набитые курортниками, спешащими к морю, на пляжи. Серж вел Фросю под руку. Она молчала.
— Ты что молчишь?
— Ты действительно ревнуешь?
«Конечно, ревновал бы при других обстоятельствах. Такая, как ты, Самурайка, может влюбить в себя любого мужчину… О, Хьюм, что ты скажешь на это?.. Ты, наверное, решительно возразишь: «Серж, такое непозволительно человеку нашей профессии». Да, я понимаю, играть можно. Но кто сказал, что такие, как я, дерево! Железо! Будто бы им в школах вырывают с корнями чувства, заложенные самой природой. Этого, Хьюм, никто не может сказать без оговорки и лжи. Ты уж извини, Хьюм… Но я буду молиться, чтобы этого не произошло, чтобы это превратилось в игру. Верность моя отцовскому делу да поможет мне не заблудиться в этой стране…»
От Фроси исходило тепло. Она остановилась как раз под фонарем. Маломощная лампочка еле светила, однако достаточно, чтобы он хорошо видел лицо Фроси. Свет почему-то был синим, прозрачно-синим и делал Фросю похожей на марсианку, на что-то неземное. Восточные красавицы, о которых Серж знал по описаниям романистов, древним книгам, сейчас не шли ни в какое сравнение с этой девушкой, ожидающей от него ответа.
— Скажи, ревнуешь?
— Что-то в этом роде.
— И к Синявкину?
— Да.
— Он же рыжий и в конопушках.
— Не имеет значения.
— Правда?
— Ну конечно.
— А я тебе, Серж, вот что скажу… Ты глупенький.
— Как?
— А вот так. — Она приподнялась на носках и, обвив рукой его шею, впилась в его губы. Долго не отпускала, и он чувствовал, как дрожали ее руки и часто-часто билось сердце.
Потом стояла с закрытыми глазами и еле слышно шептала:
— Вот так, вот так…
В эту ночь он долго не мог уснуть, мерещились то Хьюм, с его небольшой пролысиной и стеклянными глазами, то Стенбек, с металлическим шепотком: «…при первом же случае, при первом», то Фрося на арене цирка. Уснул под утро. Когда открыл глаза, увидел Николая Михайловича, стоявшего у раскрытой двери спальни.
— Выспался?
— Да.
Николай Михайлович подошел к кровати, присел на краешек стула.
— Сегодня мы поедем с тобой в катакомбы, я взял отпуск.
В доме была большая библиотека, пожалуй, слишком большая для одной семьи. Кажется, несколько тысяч томов. Отец собирал ее годами. Он присылал книги часто, и Серж помнит, великолепно помнит, как при получении очередных томов управляющий делами отца (он только тогда не знал, какими именно делами) мистер Роджерс, весьма образованный 28-летний парень, подзывал его к себе и, чуть картавя, восторженно говорил: «О, это уникальные книги!»
Но сам отец не пользовался библиотекой, да и дома он не жил, находился в длительной служебной командировке. Библиотека была полностью в распоряжении Сержа, и он плавал в ней, как крохотный кораблик в просторах океана. Роджерс отлично владел русским языком, и поэтому Серж мог читать русских авторов в оригинале. Мама, родившаяся в Петрограде, но очень слабо знавшая родной язык, была однажды приятно удивлена, когда он прочитал отрывок из «Медного всадника» Пушкина на русском языке. При этом мистер Роджерс незамедлительно воскликнул: «Мадам Романова-Рахмани, это же гениально!»
…Дорога в Керчь вела по холмам, поросшим густой зеленью. Занятый своими мыслями, Серж не заметил; как открылась степная часть Крыма.
— Это Ак-Монайский перешеек, — сказал Николай Михайлович. — Отсюда все началось…
Что началось и как началось, Серж уже знал: о тяжелых боях в Крыму в мае 1942 года он много раз слышал и от самого Николая Михайловича, и от Фроси, которая, пожалуй, больше знала о Николае Михайловиче, чем тот сам о себе. После Ак-Моная был Аджи-Мушкай, многомесячное сражение под землей. И про это знал Серж, только никак не мог вообразить, понять, что же, в сущности, руководило людьми, добровольно предпочитавшими, мучительную смерть плену. Он ожидал, что Николай Михайлович начнет сейчас рассказывать именно об этом, коль вспомнил об Аджи-Мушкае.
— В конце концов мы найдем Стенбека. Если, конечно, он жив. Стенбек отдал приказ на газовую атаку…
Для Сержа это было совершенно неожиданно, прозвучало как удар грома.
— Я его в лицо знаю, — продолжал Николай Михайлович. — Типичный убийца!
— Ты его видел? — сорвалось с уст Сержа.
— Такой громила, внешне похож на боксера. То говорит тихо, то вдруг как железом по железу загремит.
Николай Михайлович умолк: видимо, трудно было вспоминать пережитое, лицо его посерело, а глаза как бы остекленели, сделались неподвижными. Пожилая женщина, которую они посадили по дороге и которая, по всей вероятности, была наслышана об Аджи-Мушкае, сказала:
— Надо переловить их всех, преступников фашистских-то. Слышала, слышала я, сынок, про аджимушкайские катакомбы-то, — посмотрела она на Сержа. — Самому лютому врагу не пожелала бы такого… Наши солдатики под землей, а они, германские фашисты, сверху. И никак не могли одолеть наших. И тогда, зверюги, пустили газы. Теперь в этих катакомбах каждый камень гневом дышит. Сама видела, сынок. Не дай тебе господь такого испытать!
О библиотеке уже не думалось. Но когда они подъезжали к поселку с белыми одноэтажными домиками, воспоминания о матери все же пробились сквозь мысли о Стенбеке, он увидел ее разговаривающей с Роджерсом в библиотеке. Они его не заметили, прижавшегося у окна за шкафом. «Роди, — послышался голос матери (так она звала Роджерса, — не слишком ли Серж увлекается русской литературой? Она вся пропитана большевизмом. Это опасно для Сержа с его пылким сердцем и увлекающейся натурой». «О, нет, мадам, Пушкин, Лермонтов, Фет, граф Толстой — дворянские писатели». — «Что вы, Роди, граф Толстой был в России первым бунтарем и социалистом. А Пушкин, а Лермонтов? Это же декабристы! Помните:
Во глубине сибирских руд Храните гордое терпенье, Не пропадет ваш скорбный труд…Дальше не помню. Но все это против царя, священного монарха». — «Не волнуйтесь, мадам, Серж — подлинное дитя нашего великого государства». — «О, Роди, — послышался звук поцелуя, — как трудно мне!.. Женщина без мужчины… Роди, Роди, голубчик…» Скрипнула дверь, и все затихло, аж в ушах зазвенело…
Вокруг поселка пузырилась земля, словно бы когда-то, один раз закипев на страшном огне, окаменела в таком виде навечно. Там и сям виднелись небольшие группы людей. У входа в подземелье, похожего издалека на раскрытую пасть какого-то чудовища, сгрудилась целая толпа пестро одетых мужчин и женщин, подростков и детей. Молодой человек, по-видимому экскурсовод, рассказывал о сражении под землей. Заметив подошедшего Николая Михайловича, он прервал рассказ, поздоровался с ним за руку, сказал:
— Может, выступите? Народ очень интересуется.
— Сегодня нет. Я с сыном приехал, хочу показать ему подземелье. Вот прихватил два фонаря…
— Опасно, там еще рвутся мины.
— Не беспокойтесь, я не подорвусь, сам эти мины ставил.
— Ну смотрите. Вот вам схема катакомб…
— У меня есть…
— Идите.
— Я с ним, пропустите! — услышал Серж за спиной. Голос показался ему знакомым. Он хотел было оглянуться, но Николай Михайлович взял его под руку…
Лучик от фонаря прорезал темноту, выхватывал из сплошного мрака поржавевшие каски, пулеметные ленты, гильзы. Иногда лучик застывал на некоторое время, и по тому, как он трепетал, Серж догадывался, что у Николая Михайловича дрожит рука…
Они подошли к надгробию. Вверху зияла дыра, через нее проникал дневной свет. Бетонное надгробие размером не менее двадцати метров на десять показалось Сержу невероятно тяжелым и большим.
— Сколько же тут погребено?
— Не считали… Нельзя было сосчитать.
— Почему?
— От них остались вороха костей. Сражались до последнего патрона, до последнего дыхания. Даже после газовых атак оставшиеся в живых отвергли предложение врага сдаться в плен и продолжали наносить фашистам удары.
Серж стоял так, что его тень макушкой касалась надписи. Он прочитал:
«Вечная слава погибшим в боях за честь и независимость нашей Родины! Смерть немецким оккупантам!»
И вдруг он подумал: «Под землей, на такой глубине эта надпись не подвержена разрушению. Пройдут столетия, а она будет призывать: «Смерть немецким оккупантам!» Столетия. «Нет, Хьюм, здесь все по-другому». Ему сделалось зябко, и он поежился. Это заметил Николай Михайлович.
— Теперь я покажу ту дыру, через которую я вырвался отсюда.
Они прошли метров четыреста — пятьсот. Мрак начал редеть.
— Вот она, — сказал Николай Михайлович и присел на большой камень. К дыре тянулась конусообразная насыпь, образовавшаяся от обвала.
— Я посмотрю, — сказал Серж и начал взбираться наверх.
Подняться по конусу оказалось не так-то просто: он то и дело сползал вниз. Но наконец все же достиг нижней кромки дыры. На уровне его лица нависла огромная каменная глыба. Серж осмотрел ее и понял, что, если как следует нажать на глыбу, она рухнет, упадет прямо на голову Николаю Михайловичу. Он взглядом измерил падение глыбы и убедился: «Точно, прямо на голову». Серж еще раз прицелился, теперь уже с мыслью о ситуации простого случая, когда гибель человека может даже и не рассматриваться. «Вот так и получилось… Уперся ногой — и глыба рухнула, я вслед за ней, отделался синяками и царапинами…» Мысль о ситуации простого случая захватила его с неотразимой силой…
Николай Михайлович сидел как раз на черте тени и света. Отверстие гитлеровцы проломили взрывом ночью. Почти никто из бойцов не обратил внимания на раздавшийся гул, он прозвучал так же, как на поле боя взрывается один из сотен снарядов — в порядке вещей. Только он, Николай Михайлович, сказал тогда полковнику Ягунову, командиру подземного гарнизона, что немцы, видимо, что-то собираются предпринять. Бритоголовый полковник, внешне похожий на интеллигента-аккуратиста, сверкнул стекляшками пенсне, сказал: «Вы думаете, что враг совершит газовое нападение?» Полковник приказал ему взять несколько человек и стать на охрану обвала. Они бежали в темноте, лучины, заменявшие фонари (керосин к тому времени был полностью израсходован), то и дело гасли, и бойцы с трудом достигли обвала. У Шумилова в запасе были две лучины, сухие щепы от промасленных досок. Он запалил обе сразу: облако дыма висело под потолком, отдельные его клочья уже тянулись в отсеки катакомб. Бородатый красноармеец, оказавшийся на несколько метров впереди, вдруг схватился за горло и, извиваясь в конвульсиях, попятился назад, упал в двух или трех метрах от Шумилова. Николай Михайлович почувствовал резь в глазах, но успел заметить, как изо рта бородатого показалась красная пена. «Назад, газы!»
Потом хоронили погибших, без гробов, в дальнем отсеке. Прикрыли общим брезентом, засыпали, потом еще слой посиневших трупов и опять общий брезент…
Он добровольно изъявил желание пробиться на Большую землю и доложить командованию фронтом: группа войск полковника Ягунова удерживает район аджимушкайских катакомб, немцы совершили газовую атаку. В течение десяти дней он пытался вырваться через эту дыру. Все же в конце концов добился своего. Потом в течение трех месяцев продирался сквозь вражеские заслоны. Керченский пролив переплыл на бревне в темную дождливую ночь: за спиной грохотал бой — в такую погоду солдаты подземелья дрались с особой лихостью.
Они сражались более девяти месяцев, до последнего вздоха…
Николай Михайлович посмотрел на Сержа: на фоне голубого лоскутка он пластался наверху черной птицей. «Смотри, смотри… и запоминай… «Орленок, орленок, взлети выше солнца — собою затми белый свет…»
— Здравствуйте, Николай Михайлович!
Возле стоял Синявкин, держа в руках погасший фонарик.
— К. Синявкин? — обрадовался Шумилов.
— К. Синявкин…
— Константин Федотович, ты, брат, рисковал. Тут еще много всяких сюрпризов… Мог бы и напороться…
— Смелого пуля боится, смелого штык не берет. Я тут не первый раз. — И показал на Сержа: — Сын?
— Ага. С боевой дорогой отца знакомится… А знаете, он у меня циркач! Говорят, что способный наездник. Но пока что только лошадок чистит да прогуливает их, — засмеялся Николай Михайлович. — А как у вас дела идут?
— Я ушел из Комитета. Тяжелая работа, одно расстройство. Плачут люди при встречах после долгой разлуки. Насмотрелся, сердце стало пошаливать.
— Где же вы теперь?
— В «Ласточкином гнезде». Отдыхаю. Работа найдется. — Он заметил неподалеку полуистлевшую командирскую полевую сумку, поднял и начал рассматривать ее.
«Ситуация простого случая… О, Стенбек, тебе повезло! Хьюм, я начинаю, ты слышишь, я начинаю… Да поможет мне бог! Ты прав, Хьюм, у меня не должно быть души. Только мозг и тело. Мозг — это электронно-вычислительная машина. Запрограммированная машина! Теперь уже ничего не изменишь. Остается только нажать кнопку — и пожалуйста…» Серж протянул руку к глыбе и тут заметил рядом с Николаем Михайловичем Синявкина. Он узнал его сразу по огнисто-рыжей шевелюре и отдернул руку от нависшей глыбы, весь похолодев. На лбу выступил липкий пот. «Хьюм, вот вам и электронно-вычислительная машина!» — пронеслось в голове, и он впервые подумал, как же трудно убить человека, совершенно безоружного и не ожидающего удара…
Глава седьмая
Над трубой котельной лениво колыхался желтый с синими прожилками дым. У Шредера всегда этот дым вызывал необъяснимую тревогу и отвращение, будто бы там, в этом приземистом здании, рождались интриги и прочие неприятные вещи в жизни «Лесного приюта». Он вышел из машины, небрежно подал пропуск. Привратник, средних лет служака, с бычьими навыкат глазами (бог знает, что за птица на самом деле!) долго рассматривал его документ. Пока тот колдовал над пропуском, Шредер все поглядывал на желтоватый снопик дыма.
— Пропустить не могу, — сказал привратник. — Извините.
— Почему?
— Не та бумага. Извините, но вам придется поехать в город. — Привратник назвал адрес. — Прошу, мистер Шредер, — показал он на машину. — Здесь стоять не разрешается. Прошу, иначе меня уволят с работы…
Подкатил черный лимузин. Из него вышел высокий, с одутловатыми щеками мужчина. Хьюм! Их взгляды скрестились.
— Пропустите этого господина, — сказал Хьюм и, сгибаясь, сел в машину, потом открыл дверцу, качнул головой. — Я вас жду в своем кабинете в одиннадцать часов.
На территории приюта поразила тишина. Правда, и раньше здесь не очень-то было шумно, скорее, немота властвовала тут. Но все же нет-нет да со стороны конюшни послышатся глухие удары трамбовки, нет-нет и фыркнет лошадь. Когда выходил из церквушки, иногда видел стайку приютников (их вообще здесь было немного, этих невольных «демонстрантов», в сущности лишь обозначающих вывеску хьюмовского заведения «Лесной приют»), среди них находился весельчак, шепотком одаривал мальчишек шуткой, и стайка взрывалась хохотом, коротким, но звонким…
Шредер намеревался сразу принять ванну — он поступал так всегда после выполнения трудного задания, но сейчас его почему-то потянуло в конюшню. Она оказалась закрытой на замок. Шредер посмотрел в щель: ни одной лошади, рядком стоят только желтые коротышки-баллоны.
И двери церквушки оказались на замке. За углом встретился капеллан без своей обычной сутаны. В руках у него был дорожный чемодан.
— Что произошло? Закрыли, что ли, приют?
— Не знаю. Я улетаю в Нью-Йорк, дали полный расчет.
«Врешь, все ты знаешь, святой отец». Шредеру было известно, что капеллан имеет чин майора контрразведки. Сопроводив его вопросительным взглядом, Шредер вдруг обратил внимание на то, что ворота котельной были открыты, и он заметил в глубине дворика Стенбека, одетого в белый халат и державшего в руках большой стеклянный сосуд.
«Так, так, Стенбек, пожалуй, открылся. Теперь понятно, что это за гнездышко», — подумал Шредер о котельной и заспешил к воротам. Но они, вздрогнув, бесшумно захлопнулись.
— Мистер Шредер, Хьюм ждет вас на втором этаже,-в бывшем кабинете Стенбека, — предупредил его у входа рослый сержант, жующий резинку. — Прямо по лестнице, первая дверь направо, сэр.
Хьюм помог Шредеру снять плащ. Шляпу Шредер бросил по старой привычке, отойдя от вешалки. Хьюм проследил за ее полетом.
— Very good! — сказал он, показывая на стол. — Прошу, сэр.
Хьюм сам налил Шредеру коньяку в хрустальную рюмку с серебряным ободком, пододвинул тарелку с холодной телятиной и ломтиками лимона.
— За нашего Сержа! — На его лице с подагрическими мешками промелькнул бледный лучик улыбки. Улыбка не ахти какая, но для Хьюма, человека весьма замкнутого и мрачного, она, эта улыбка, была признаком большого душевного удовлетворения. «Значит, здесь еще не знают, что случилось с Венке», — сделал вывод Шредер, и на душе у него сделалось легко и покойно.
— Мы решили закрыть приют. Но вы, господин Шредер, не останетесь безработным. — Он открыл сейф, подписал чек. — Пятьдесят тысяч долларов. Выпейте еще. Болезнь не позволяет мне идти вровень с вами. Приходится воздерживаться. Пейте, вы заслужили. — Он посмотрел на вешалку, на шпиле которой покоилась шляпа Шредера, и опять прошел к сейфу, не поворачиваясь, спросил: — А что Венке, когда он вернется?
— Как и условились с господином Стенбеком, через две недели.
— Стенбек, Стенбек, — шепча, Хьюм сел в кресло. — Пришлось отправить на лечение. Этот мужественный человек, оказывается, страдал тяжелой болезнью. У него, по всей вероятности, рак. Едва ли он вернется… Выпейте еще… — Он тяжело поднялся с кресла, с минуту молча смотрел на Шредера холодным, но довольно спокойным взором. — Ах, Шредер, Шредер, не пойти ли вам вновь в цирк?
— Я предлагал Стенбеку. У меня есть свои чувства к России…
— О, чувства! Это не надо. — Он походил по кабинету жердь жердью — высокий и прямой. — Это не надо. Важно уметь вовремя нажать кнопку запрограммированного счетно-решающего устройства, — постучал он по своему тыквообразному лбу. И видимо, довольный собственным изречением, все же налил себе коньяку.
— Вот здесь документы, — наконец показал Хьюм то, что взял из сейфа. — За них я и выпью, несмотря на болезнь…
Теперь он сидел почти вплотную к Шредеру. От него пахло не то нафталином, не то залежалой кожей.
— Мои эксперты и лично я изучили ваше предложение поехать с труппой местного цирка в Россию. — Он умолк, продолжая смотреть на карту, задрапированную черной занавеской. Потом, не меняя позы, начал стучать согнутым указательным пальцем по столу. Стучал он негромко, но очень долго. И в тишине трудно было выдержать этот стук, словно он это делал специально для испытания нервов.
— Серж молодой, ему нужны советы. Возьмите эти документы и веселите публику, Шредер… своим цирковым искусством. Подробные инструкции получите сегодня в городской конторе в комнате номер два. Мы подготовили для вас хорошего ассистента. Он уже имеет на руках контракт.
— Разрешите вопрос?
— Вопросы там, в конторе. Вы поедете туда на моей машине сейчас же, прошу. — Хьюм показал рукой на дверь.
— Я доволен, сэр. Могу заверить…
Хьюм прервал его:
— О, чувства, это не надо, не надо. Эмоций не надо. Желаю успеха, господин Шредер.
Ни в машине, ни около нее шофера не оказалось. Шредер хотел обратиться к сержанту, все еще жующему резинку, но решил подождать. Над трубой по-прежнему кудрявился дымок. Котельная была построена раньше, чем начали сюда поступать ребята. «Значит, химик Эхман ушел в глубокое подполье», — заключил Шредер и заметил водителя машины, стоявшего у ограды приюта, возле четырех сосен. Присмотрелся, заметил и холмик с каменным надгробием и крестик. Сержант позвал водителя. Когда выехали за ворота, оказались на шоссе, Шредер спросил:
— Кто там похоронен?
Шофер с длинными волосами, очень похожий лицом на Иисуса Христа, пожал плечами, потом повернулся к Шредеру и, не вынимая изо рта сигареты, сказал:
— Какой-то Генрих Мюллер. Не знаете?
— Нет.
Шредер знал Генриха Мюллера. Мысль о нем не покидала и тогда, когда он получил инструкцию, и теперь, на гастролях в европейских странах. Теперь он совершенно не сомневался по поводу Стенбека-Эхмана, не сомневался и в том, для чего был создан «Лесной приют».
Из Варшавы труппа выехала в Чехословакию. В Праге, перед тем как отправиться в Советский Союз, он получил телеграмму: «Мадлен положили в больницу. Срочно возвращайся. Отец». Ассистент, упаковывая реквизит, спросил:
— В чем дело, сэр?
— Все в порядке, Джим, — ответил Шредер. — Гастроли продолжаются.
— Я собаке бросаю камень. — Хьюм сделал медленный жест, показывая, как он бросает. — Обыкновенный камень. Она кидается за ним, думая, что это кусок мяса, пища.
С глазу на глаз со Стенбеком Хьюм старался быть более разговорчивым, иногда излагал свой метод работы, проверенный опытом. Стенбек воспринимал слова Хьюма спокойно и даже с некоторым безразличием: в такие минуты он думал о своем и все мысли его кружились вокруг засевшей в голове собственной фразы: «Ассистент может стать профессором». В своей истории Германская империя не раз оказывалась в роли ассистента… Она как бы стояла в стороне от мировых операций, лишь подавала соответствующий инструмент в руки владык-профессоров… Подавала, постепенно отталкивая… Подавала таким образом, чтобы профессора чаще и чаще ошибались. «В конце концов, мы занимали главные позиции. Мюллер прав, надо терпеть, но никогда не забывать о великой империи».
— Ну и что же эта собака? — спросил Стенбек.
Хьюм помедлил с ответом, еще глядя на то место, куда он бросил воображаемый кусок мяса.
— Глупость людей сродни инстинкту животного, человека легко одурачить. Я не думаю, что ваш фюрер держал в руках знамя подлинного немецкого духа.
Это было слишком для Стенбека. Но он умел мгновенно и беспощадно погашать в себе душевные взрывы. Да и Хьюм немного смягчил.
— Я говорю о зоркости и терпении. Кажется, Германии Гитлера не хватило этих качеств. Она не смогла завоевать себе настоящих союзников. Покойный Мюллер сам мне не раз об этом говорил. — Хьюм положил ноги на стол так, что толстые подошвы его ботинок чуть не касались рук Стенбека. Это тоже было слишком, но Стенбек стерпел.
— Мы сделали все, чтобы вас закамуфлировать. — Хьюм все же убрал ноги наконец. — Создали все условия для плодотворной работы. — Хьюм снял с вешалки плащ и направился к двери, но тут же вернулся. — Я улетаю, — сказал он. — У меня к вам один вопрос. Вы очень любили Эльзу?
— Эльзу? Почему вы о ней спрашиваете?
— По нашим данным, она уехала в ГДР…
— А сын, Отто?… Тоже?
— Да.
— Это невероятно!
— Значит, любите…
— Нет, теперь, пожалуй, нет…
— А знаете что? Женитесь на американке.
Это тоже был его метод: женить, чтобы закрепить, прочнее привязать подчиненного к его стране. О, этот Хьюм, отвергающий эмоции, чувства, стучащий себя по лбу, как по заранее запрограммированной электронно-вычислительной машине, не прочь был, когда ему выгодно, того или другого посадить и на якорь семейных отношений.
— Вы получите отпуск, погуляете по Нью-Йорку…
Он ждал ответа. Замигала лампочка отдела информации. Хьюм взял трубку. Его лицо перекосилось, словно от внезапного приступа зубной боли.
— Принесите!..
Он долго смотрел на четвертую полосу газеты, и Стенбек видел, как лоб у Хьюма все гуще покрывался капельками пота, а глаза округлялись. Казалось, вот-вот они выскочат из орбит.
— Посмотрите! — бросил он Стенбеку газету. — Венке и этот покойник… Они вместе сняты!
Стенбек успел лишь увидеть фотографию Сергея, как Хьюм выхватил из рук газету:
— Вас это не касается. — Швырнул плащ на пол и совершенно неожиданно расхохотался, хлопая в ладоши: — Великолепно, великолепно!
У Стенбека по спине забегали мурашки: Хьюм мог перевоплощаться, Стенбек знал об этом из короткого разговора с Мюллером. И сейчас Хьюм, хлопая в ладоши и хохоча, играет перед ним.
— Аминь, — сказал Стенбек.
— Что? — спросил Хьюм.
— Желаю вам счастливого пути.
— О да, вы свободны, Стенбек. Я, вероятно, задержусь денька на три.
Венке втолкнули в одиночную камеру без предварительного допроса. Втолкнули грубо. Довольно симпатичный с виду полицейский, улыбаясь и прихорашиваясь, вдруг подмигнул ему черным, смолянистым глазом и ударил в спину кулачищем. Когда Венке поднялся с пола, симпатяга полицейский опять подмигнул ему, стоя с широко расставленными ногами и уперев кулаки в бока. Он захлопнул дверь с такой силой, что посыпалась штукатурка с потолка и у Венке под ногами качнулся пол.
— Вот это работяга! — прошептал Венке. В первые минуты он совершенно не думал о случившемся, подражая в мурлыкании полицейскому, рассматривал камеру: серые, давно не беленные стены, топчан, грубо сколоченный из крепкого дерева, параша в углу, густо напудренная известью, небольшое окошко вверху, рябившее железными квадратиками. Прутья толстые, даже чрезмерно толстые для такого маленького окошка.
Венке лег на топчан и сразу уснул. Проспал он всю ночь без сновидений крепким, глухим сном. Проснулся и тотчас же увидел солнечный лучик, проникший в камеру сквозь решетку. Луч, как бы дрожа, переливался бледной синевой. И оттого, что луч был слегка подкрашен синевой и в глазах Венке чуть подрагивал, шевелился, он напоминал ему море, которое Венке видел в Ялте. Он и Стени прогуливались по берегу. Стени был в ударе, говорил о будущем. Рисовал такие светлые, радужные картины, что невольно и сам Венке постепенно настраивался на лад Стенбека. Война, по мнению Стени, должна была завершиться через несколько месяцев полным разгромом русских. И конечно же, он, Стенбек, откроет свое собственное предприятие (к тому времени Стени уже не устраивал институт, он поговаривал о химическом комбинате с многочисленными отделениями в зависимых от Германии странах). И конечно же, он, Стенбек, одарит Венке высокой должностью. Море, которого почему-то не замечал Стенбек, сияющий в лучах солнца снежный колпак Ай-Петри, хохот пьяных солдат на пляже — все это великолепно гармонировало с будущим, с тем, о чем рассказывал Стени…
Венке еще находился во власти воспоминаний, как лучик погас и на его месте отпечаталась тень решетки.
— Что такое! — воскликнул он и, поняв, где находится, повернулся лицом к противоположной стене.
До того как попасть в «Лесной приют», Венке пришлось изрядно помыкаться. Он побывал в группе войск генерал-полковника Шернера в отделе секретной службы. О приказе о безоговорочной и полной капитуляции всех вооруженных сил Германии Венке услышал от знакомого радиста. Венке не поверил, посчитал это сообщение провокацией и потащил парня в штаб. Радиста тут же расстреляли как труса и паникера. На следующий день слухи о капитуляции подтвердились, и Венке с горечью подумал о расстрелянном радисте: парню едва исполнилось восемнадцать лет. Когда Венке его вел в штаб, тот просил отпустить, обещал больше никогда не болтать о подобных глупостях. «О, разве это глупости, мой мальчик! — потом, напившись, ругал себя Венке. — Это полная катастрофа». Войска Шернера, то ожесточенно атакуя противника, то обороняясь с упорством обреченных, откатывались на запад, навстречу американским войскам. Отдел секретной службы перемещался в пузатом пассажирском оппеле. Как-то они остановились в небольшой чехословацкой деревушке Шумавского района. Венке едва вышел из автобуса, как к нему подбежал сухощавый обер-лейтенант, одетый в форму войск СС. Он дохнул ему в ухо: «Покажите мне капитана Венке». «Я и есть Венке». «Вами интересуется полковник… — Он помедлил перед тем, как назвать фамилию. — Стенбек. Пойдемте».
Да, это был Стени в окружении штатских и военных людей! Он обрадовался, что вновь встретил Венке. Во двор заезжали машины, на них грузили небольшие контейнеры, различные упаковки. Распоряжался всей этой кутерьмой пожилой штатский, очень подвижный, с рокочущим голосом. Иногда он подбегал к Стени, советовался с ним, какой контейнер или упаковку в первую очередь погрузить. Потом Стени и Венке зашли в дом. В комнате, довольно светлой и просторной, хорошо меблированной, Стени устало опустился в кресло и долго молча смотрел в лицо стоявшего Венке. «Ну, конец, что ли? — произнес Стени. — Не думаешь ли ты о том, что генерал Шернер настолько дурак, чтобы позволить русским войскам взять нас в плен? Он отверг приказ о капитуляции, не подчинился новому правительству Германии. Шернер вошел в контакт со своими западными друзьями. Ты понимаешь, что это значит?.. Пушки умолкнут, а война будет продолжаться. Тайная, жестокая, полная интриг и нервного напряжения. И такие люди, как мы с тобой, займут в этой войне не последнее место… Я тебя внес в список группы Мюллера. Ты не возражаешь?» И, не дожидаясь ответа, он схватил Венке за руку и повел его по длинному коридору.
В комнате, в которую они вошли, в кресле дремал старик. Лицо его показалось Венке знакомым. Это был доктор Мюллер. Возле него стоял небольшой дорожный чемоданчик, а у ног лежала крохотная собачонка и тоже дремала. Собачонка вдруг подняла голову, потянула носом и ощерилась, зарычала. Мюллер приоткрыл один глаз, прицелился им в Венке. Его старческие дряблые губы скривились:
— Это кто?
— Венке, господин доктор.
— Стени, а все же мы должны быть осторожными.
— Я ручаюсь за него.
— Гут, гут. Тебе я верю. Эльзочкин брат, что ли?
— Да. Но не в этом дело. Венке, как вам известно, прекрасно осведомлен…
— Понимаю, понимаю, Стени. Пусть он едет с нами. Мы найдем ему работу. У меня есть связи… Они весьма авторитетны.
Мюллер поднялся, поманил к себе Венке:
— Слушай… — Вдруг он весь преобразился, и голос его стал твердым. — Германская империя не гибнет. Найдется другой фюрер, и мы совершим такой маневр, что весь мир задрожит перед нашей мощью!.. А пока немножечко мы послужим другим. Но с верой в империю!
Собака вновь зарычала. Мюллер метнул на нее гневный взор, но она взъерошилась еще больше и звонко затявкала.
— Перестань же, милая, — уже своим, расслабленным голосом сказал Мюллер. «Милая» не утихла, и Мюллер вынужден был опуститься в кресло, что-то шепча себе под нос…
Венке показалось, что сейчас, лежа на голом топчане в одиночной камере, он как бы снова оказался в комнате Мюллера с его тявкающей собачонкой. «Взяли потому, что я осведомлен? Взяли потому, что я в их глазах могу выболтать лишнее? Потому, что вновь и вновь будут швырять меня по свету, как бездомную собаку! Кусать, убивать и отравлять! А там, на родине, полный раскол! ГДР! Совершенно новые граждане. На кой черт им империя фюрера. Они свободно путешествуют по странам. Учатся в институтах, управляют электронно-вычислительными машинами и смеются над нами, наемниками и хамелеонами. Слышишь, Стени, смеются!»
Обессиленный внутренней вспышкой, Венке перевернулся на другой бок. Некоторое время он лежал, ни о чем не думая. След решетки вновь обозначился на стене, на этот раз с большей четкостью.
— Империя за решеткой, — прошептал Венке и захохотал безумным хохотом, весь содрогаясь.
Вечером его вызвали на допрос. Следователь, с бритой головой и черными тараканьими усами, потягивая зеленый чай, спрашивал:
— Фамилия?
Венке молчал.
— Имя?
Венке молчал.
— Какой страна сюда приехал? Русский? Немес? Покажи язык!
— Э-э, — высунул Венке кончик языка.
— Скажи: мама.
— Мама.
Следователь подмигнул знакомому Венке симпатичному полицейскому, и тот без особого напряжения крутнул голову Венке до хруста в шее. Венке ойкнул от боли.
— Фамилия? — Следователь наполнил пиалу чаем. — Я спрашиваю: фамилия?
Венке молчал.
— Имя?
Венке молчал.
— Шпион? Разведчик?
Венке молчал.
— Ти хочешь, чтоб твоя голова открутили?
— Я смерти не боюсь…
— Ай-ай-ай. Какой добрый, своя голова не жалеет… Кто этот мальчишка и где он живет? Назови его имя, фамилию?
— Не знаю. Он случайно оказался возле меня.
— Может, ты турист и документы свои потерял? — прищурился следователь, играя улыбкой.
— Нет. Я не турист. Но документы я действительно потерял. Я приезжал на горные пастбища закупать скот у господина Торгмина.
— Торгмина? — обратился следователь к полицейскому, скрестившему на груди огромные ручищи.
— Есть такой. Богатый человек. Ай, какой богатый! — ответил полицейский. — Дочка нашего шефа замужем за сыном господина Торгмина.
— Ай-ай! — спохватился следователь. — Почему молчал? Почему сразу не сказал о господине Торгмине? Извините, мы обязаны досконально проверить все то, что вы сказали. Мы выясним. Отведите в камеру и накормите его пловом. Хорошо кормите. А ну скажи: мама.
— Мама.
— Ай-ай! Какой хитрец… Арзи, ведите. Плов не надо, шашлык на шампуре подайте. Торгмин! Сейчас все выясним.
Арзи, открыв двери камеры и пропустив вперед Венке, опять, как и в прошлый раз, шибанул в спину кулачищем и расхохотался:
— У нас такой порядок. Сами понимаете, полиция есть полиция… А шашлык вы получите.
Действительно, дня через два он стал получать шашлык каждый день. А сегодня дважды — утром и на обед. «Может, Шредер или сам Хьюм… пустили в ход свои связи», — мелькнула догадка у Венке. Но эта мысль не подняла настроение. Напротив, нахлынули грустные раздумья. Некоторое время он отгонял их, постарался думать о том, что удастся выкрутиться и на этот раз. Куда там!..
Венке вновь и вновь мыслями возвращался к Стени. И получалось так, что во всех его мытарствах был повинен только Стени. В штабе Шернера он чувствовал себя на грани выхода из всей этой крутоверти. Созревал план бросить все к черту и бежать, затеряться в огромном людском котле, бурлящем от накала событий. Переждать, пока стихнут набатные голоса об отмщении и возмездии. В то время у Венке даже нашелся единомышленник… Фон Вихров, шофер спецмашины, носивший усы а ля кайзер. Почему-то в отделе фон Вихрова побаивались и сторонились. Однажды, когда штаб поспешно перемещался на новое место, Венке сопровождал спецмашину. Он сидел в кабине рядом с фон Вихровым. Дождь хлестал как из ведра. Машина забуксовала, потом ее повело в кювет. Фон Вихров неожиданно заорал на Венке: «Эй, ты, сын мусорщика, руби хворост и бросай под машину!» Венке выскочил из кабины. Притащил вязанку хвороста. И когда машина выбралась из кювета и они оказались в хвосте колонны, Венке спохватился: «Ты чего на меня так кричишь?» «Как? — отозвался фон Вихров, важно поправляя взмокшие усы. — Сын мусорщика так и останется сыном мусорщика… У меня поместье, земля. Оправится Германия, и я как был помещиком, так и останусь помещиком». И тут как живого увидел Венке отца, инвалида первой империалистической войны. Стоит в серой кепчонке, на груди фартук. Приспосабливается ловчее погрузить мусор в тележку. Ловчится потому, что одна нога на протезе и очень ему неудобно поднимать груз. Похолодел Венке и в упор фон Вихрову: «Заткнись! Мы все сейчас равны. Солдаты!» Фон Вихров расхохотался и снова покрутил усы: «Равны умирать… А жить мы будем по-разному, как прежде. Не кипятись, Венке».
После этого случая Венке недели две избегал встречи с фон Вихровым. Но тот следил за ним и, улучив момент, оказался с ним наедине в лесу. Венке тащил железный коробок, набитый документами, которые по решению начальника необходимо было сжечь и пепел зарыть в землю. Венке вырыл яму и, отмечая по описи документы, бросал бумаги в огонь. Они бойко вспыхивали, кудрявились, превращаясь в самые различные и неожиданные фигурки — то в кораблики, то в крепости, то в силуэты людей. Пламя, сожравшее весьма секретный документ, который остался неисполненным, изогнуло из пепла гроб, увенчанный человеческой фигуркой, похожей по очертаниям на самого Венке. Он закрыл глаза ладонями. В это время к нему подошел фон Вихров.
— Как вы смели подойти! Кто вам разрешил? — вспылил Венке.
— Теперь у каждого свое право, — осклабился Вихров.
— Что это значит?
— Горим, Венке, горим… Надо спасаться. Ждать пожарных неоткуда. Вот что, Венке, я предлагаю союз…
— Какой?
— У меня в Судетах есть верные друзья. Бежим? Я бы один убежал, но надо идти лесом… Еще напорешься на какого-нибудь зверя или опасного бродягу. Теперь их предостаточно всюду. Сейчас важно уцелеть, приспособиться к обстановке.
— А потом?
— Потом? Я думаю, остынут страсти, паника… Все станет на свои места. Однажды мы уже горели. И вдруг потрясли весь мир… Вот мой союз.
— Все станет на свои места… Я буду мусорщиком, а вы помещиком?
— Зачем так! У меня большое имение. Вы можете рассчитывать на меня, место вам найдется.
Фон Вихров говорил правду, и Венке показалось, что все же лучше вот так выжить, чем попасть в руки русских или американских солдат, лучше приспособиться и выжить, чем быть повешенным. Предложение усача фон Вихрова захватило Венке, и, наверное, побег состоялся бы, но тут вскоре разыскал его Стенбек, и он вновь оказался в цепких его руках, а затем в руках мистера Хьюма.
Фон Вихрова он больше не видел.
Вспомнив о нем сейчас, лежа на топчане, он пришел к выводу, что между Вихровым и Стенбеком, в сущности, разницы нет: и тот и другой прежде всего смотрят на него как на сына мусорщика, способного оградить их от всякой опасности. «И Шредер такой же. Говорит, большой гонорар получим. А потом? Что потом? Потом: «Эй, ты, сын мусорщика, руби хворост и бросай под машину!»?
Снова вспомнил отца, поскрипывающего протезом. Ходил по комнате и все бросал взор то на него, то на Эльзочку. Мать сидела за швейной машинкой, гремела без конца. Отец закричал: «Что же ты ему кланяешься? Он мерзавец. — Это он о Стени-Эхмане. — Повысил зарплату. Он тебя купил! Купил, а ты радуешься… Нет, сынок, уходи ты из этого института, пока не поздно. О вашей конторе ходят плохие слухи. Страшные…»
Пришел Арзи, поиграл в руках связкой ключей, кивнул на недоеденный шашлык.
— Не нравится? — спросил он по-английски с плохим выговором. — Здоровы ли вы? — расхохотался, подбрасывая на ладони ключи. С трудом поведал Венке, что Торгмин подтвердил его версию о посещении им альпийских пастбищ.
— Скажи: мама. Ха-ха-ха. — Оборвав смех, он, скрипя зубами, сказал, что Торгмин — шакал и что он держит в своих руках всю область. Полицейский вдруг схватил шампур, легко, словно шнур, накрутил его на свой указательный палец.
— Шакал! — крикнул он Венке. — Скажи: мама.
— Мама, — прошептал Венке.
— Такое слово только честный человек может произносить.
«Вот в чем дело, — подумал Венке. — Мама… Она тоже просила порвать со Стенбеком».
— Шакал! — опять рассвирепел Арзи. — Я тебе не верю. Ты друг Торгмина. Я его не люблю. Он шакал, и ты шакал. — Он бросил шампур в лицо Венке.
— Я буду жаловаться, — сорвалось с уст Венке, и он притих, подумав: «Чепуха, мне ли жаловаться!»
— Полиция? Жаловаться? Ты глупый шакал! — Он отодрал от топчана доску с той же легкостью, с которой накрутил на палец шампур. — Ты глупый шакал! Я власть в камере, самый высший начальник! — замахнулся обломком доски. — Убить могу и отпустить могу.
Он приложил доску к топчану, вынул из кармана гвозди. Поглядывая на Венке, обернул носовым платком шляпку гвоздя и с размаху всадил его в доску.
— Полиция! Понял? — И вышел из камеры, словно глыба выкатилась, гремя и сотрясая пол.
— «Да, господа, сражение продолжается», — промолвил Венке и спохватился: — Это же слова Стени. О-о, проклятье этому сражению. Стени там, в тиши «Лесного приюта». И Шредер там. А тут глыба на тебя накатывается и вот-вот раздавит. И следа не останется. Слышите, Стени, фон Вихров! — закричал он, бросаясь к двери. Обмяк и, опускаясь на пол, повел взглядом вверх. — А-а, решетка. Да, да, решетка. Решеточка! — бросился он на топчан и начал карабкаться по стене, чтобы взглянуть в синие соты. Не дотянулся, грохнулся на стол.
— Ха-ха-ха… Разве сын мусорщика не может подняться так высоко?! Ха-ха-ха… Мама, Эльзочка… Отец, я целую твой протез, твою старенькую скрипучую тележку, нагруженную мусором. Ибо мусор — это я. Я — мусор. А-а, шашлык. Значит, я что-то стою. — Он вытер рукой окровавленный рот и начал кусок за куском снимать с шампура жареное мясо, пахнувшее луком. — Это Эльзочке, это маме, а это тебе, отец. Самый большой кусок, как солдату, потерявшему ногу на войне и получившему от магистрата за верную службу новенькую тележку для перевозки мусора… Мне тоже обещают чековую книжку. А фон Вихров предлагал местечко в своем имении. Ха-ха-ха… Вот так, все кусочки поделены. Остался шампур, остренький, вроде штыка. Это для меня, отец. — Он поднял взгляд, прикрикнул: — Мери, Шумилоф, ты еще не убежал? Ах, это Хьюм! Сэр, ты видел Майданек? Не видел? Врешь, ой врешь, сэр… А шампур действительно похож на штык. — Венке покрепче зажал в руке шампур и, воображая, что он держит винтовку, бросился в угол.
— Ох и наловчились же маскироваться эти хьюмы, стенбеки, фон вихровы. Но от сына мусорщика не скроетесь. А ну вылезай, — пнул он ногой топчан. — Вылезайте!.. Шампур, шампур… О-о, Арзи, ты очень порядочный полицейский…
Венке с размаху упал на топчан, думая, лишь бы не дрогнула рука, лишь бы шампур не согнулся…
Шампур был граненым, не согнулся. Его острый кончик, пронзив грудь, вышел из-под лопатки наружу. Но Арзи сразу этого не заметил. Арзи тронул Венке за ногу.
— Послушай, тебе повезло, ты свободен. Торгмин вмешался…
Следователь предвкушал радость Венке, поглаживая свои тараканьи усы, и лепетал:
— Получите билет на самолет. О, всемогущий аллах, всевидящий аллах, я вел следствие очень вежливо, как и положено в свободной стране. О, Торгмин!
— Он мертв, — сказал полицейский и показал на торчащий из-под лопатки кончик шампура, затем на лужицу крови на полу.
Обратный путь к границе был значительно легче; у них были деньги и добрый Ари предложил Сергею взять такси. Угрюмый бородатый шофер оказался на редкость неразговорчивым, за весь путь он произнес несколько фраз: «Деньги сразу» (в начале пути), «Господа, может, добавите» (в конце пути). Ари подбросил ему на чай, и потом, когда сошли с дороги, он объяснил свою щедрость.
— Таксисты заодно с полицией. В таком случае не надо обижать полицию, Серга.
Ари с минуту молча смотрел на горы: там альпийские пастбища. Сергей опознал место, где он скрывался с Венке, впервые встретился с Ари, и, если бы не тот бородатый, который избивал Ари, еще неизвестно, что бы стало с ним потом. Да и сейчас он еще не знает, насколько Ари серьезно относится к своему задуманному плану — Сергей сомневался в возможности удачного перехода границы. Ари догадался, о чем думает его алмэк Серга.
— Ти верь Ари, Ари любит Русийя. Наш Али был Русийя давно, давно с группой рабочих, еще когда работал на заводе. Али наш читает книжки, он профсоюз! Ти верь мне. Пошли.
В лесу Ари ориентировался, как в родном городе. Прищелкивая языком и что-то шепча, он безошибочно вел Сергея в нужном направлении. Лес то густел, то редел, то прерывался размашистыми полянами, рябившими многочисленными делянками ягод. Ари на ходу срывал сочные плоды, совал их за пазуху.
Они вышли к просеке, и Ари предложил сделать небольшую остановку, позавтракать. Ягоды были вкусными и очень шли под лаваш, который прихватил с собой Ари.
— Сенден рэзи олсун, алмэк Ари, — поблагодарил Сергей. Ари захлопал в ладоши:
— Хорьёшо, хорьёшо! Эркедэч! Товарьич!
— Товарищ.
— Товарьич, — повторил Ари и вдруг прошептал: — Мади!
Солдат шел по просеке, чуть пошатываясь, и волочил винтовку за ремень.
— Мади… софсьем бедный Мади, — продолжал Ари и начал собирать ягоды и класть их за пазуху. — Мади, моя сосед. — И, о чем-то подумав, горячо выдохнул: — Денга есть?
— Есть, — ответил Сергей и передал оставшуюся пачку денег. Ари разделил ее пополам.
— Это ему хватит. Сиди тут. Мади мечтает о денга.
Он шмыгнул из зарослей, пошел навстречу Мади, оставив Сергея в недоумении и тревоге. Мади остановился, раза два дернул за ремень, стремясь взять в руки винтовку, но она за что-то, по-видимому, зацепилась, не поддавалась его усилиям. Мади махнул рукой и жестом подозвал к себе Ари.
— А-а, Пзела, опять попался ты мне. Ходи, ходи ближе… О, ягоды! Высыпай! — Он снял выгоревшую на солнце старенькую пилотку и подставил ее Ари. — Высыпай, Пзела, и садись поговорим.
Мади выбрал самую крупную ягоду и, разжевывая ее, спросил:
— Махамед не вернулся? Махамед за твои проделки обещал мне одна денга. Как вернется, напомни ему. Ой и подлец же ты, Пзела! Пять штрафов ты мне должен. Пять!.. Тебя еще не прогнал хозяин? Прогонит. Или покалечит когда-нибудь. Шакал он, твой хозяин.
— Шакал, — согласился Ари. — Ешь, ешь, господин Мади. Куда денешься, кормиться надо.
— Ха! Господин! Какой я господин, Пзела. — Он приумолк, глядя слезившимися глазами через поляну на крутую волну леса, взбежавшую на взгорье. — Вот там однажды я чуть-чуть не стал господином. Поймал гашишника, в Россию пробирался. Пять килограммов гашиша! Говорит: бери любую половину и отпусти… Два килограмма гашиша — ай, ай, денга! Да подоспел унтер с нарядом. — Мади тяжело вздохнул, вытер глаза. — Да простит аллах бедного Мади. На ту гору я часто хожу… И жду, жду, а гашишники не идут и не идут. Боятся русских пограничников. У них не пройдешь: русские ночью видят так же, как и днем. Об этом гашишники знают во всем мире… У тебя есть денга?
— Есть, есть, господин Мади.
— Ты меня не дразни, Пзела! Могу обидеться и свести на заставу к начальнику. — Он поднялся. — Бери свои ягоды и иди отсюда! Хватит мне тебя задарма выручать.
Ари показал деньги.
— Пзела! — Мади округлил глаза. — Денга! Откуда?
— Скопил, продавал ягоды.
— Врешь. Дай-ка сюда, — клацнул затвором Мади.
Но Ари и не думал сопротивляться. Он покорно отдал деньги. Мади начал их считать, оглядываясь по сторонам. Потом потащил Ари в кусты. Здесь он досчитал деньги и проговорил:
— Так много!.. Ты еще какой фокус придумал? Махамед знает?
— Знает.
— Говори правду, Пзелка.
— Хозяин грозится убить меня, Мади…
— Почему убить?
— Вот за эти деньги.
— Ты их украл?
— Да.
— Ай, молодец! Твой хозяин — шакал. Он подкупил нашего начальника. И теперь мы по праздникам таскаем ему воду. Аллах видит и ничего не может сделать… Денга много, куда же ты теперь, мой славный Ари? — Он держал деньги трясущимися руками и все припадал и припадал к ним губами, иссушенными до морщин.
— Мади, бери их…
— Все?
— Все.
— А ты как же?
— Мади, пропусти меня туда, — показал Ари на лесной перекат.
— Русийя?
— Да…
Мади выскочил из кустов, огляделся кругом и, возвратись, подобрал винтовку.
— Какой ты смелый… Ари, это опасно. За это дают тюрьму. И меня посадят…
— Никто же не узнает, Мади. А тут все равно хозяин меня убьет…
— Убьет, Пзела, — согласился Мади. — И аллах его простит…
— Простит, Мади.
— Ой, Пзела, что ты со мной делаешь!..
Он положил деньги в карман, опустился на колени:
— Аллах! Ты все видишь. Аллах, прости своего сына Мади, бедного солдата. — Винтовка свалилась с его плеча, цокнула затвором о камень. От испуга Мади выругался и прервал молитву. — На гору пойдешь. Там лес густой-густой. Спустишься к реке тропинкой, тут их, этих грибов, пропасть, сколько тебе угодно! — Сделал скорбную мину, потом хитровато подмигнул: — Русийя… Ха-ха-ха. Не закручивай мне мозги. На грибах хочешь заработать! Иди собирай, Ари. И сегодня, и завтра собирай. Неделю собирай. Да поможет тебе аллах. Я тебя не видел, не вижу, иди. Ари, иди. — Он вновь опустился на колени, и, когда кончил молитву, Ари уже не было на месте. Мади нащупал в кармане деньги и весело замурлыкал солдатскую песенку:
У солдата есть винтовка, И затвор блестит. Значит, он живет неплохо, Значит, он живет неплохо, Коль затвор блестит…И расхохотался над выдумкой Ари.
— Какой-такой Русийя! Ну чего только Пзела не придумает для своей проказы! Грибов ему захотелось, а не Русийя… Хитрец, Мади не проведешь.
Он не спеша поднялся на гору. Прикинул в уме, каким маршрутом ему лучше идти к реке, чтобы не спугнуть Ари, дать возможность Пзеле отвести душу на, грибном поле. Он, Мади, не такой уж нахал, чтобы присвоить себе украденные деньги. Однако половину возьмет, он имеет на это право: сколько раз, рискуя попасть на гауптвахту, быть избитым унтер-офицером, он выручал Пзелу в его похождениях. «Ну конечно, я имею право, — убеждал он себя. — Ты мне, я тебе, Ари. Так уж у нас заведено. А украл ты слишком много».
На закате солнца согласно приказу на охрану границы Мади должен встретить своего напарника, и ночью они вдвоем будут нести службу. Пункт встречи у реки, метров двести правее грибного массива. «За это время Ари успеет нагрузиться».
— Ах, Пзела, Пзела, большой выдумщик! Русийя! Ха-ха-ха…
У солдата есть винтовка, И затвор блестит…Пока Ари отсутствовал, Сергей сверил карту с местностью. Он нашел на карте и шоссе, по которому они мчались на такси, и проселочную дорогу, ведущую к пограничной реке, и сосновый бор, укрывающий возвышенность.
Они спустились с горы. Ари теперь шел с ним рядом, плечо к плечу, и все поглядывал в лицо Сергею и молчал.
— Алмэк, брат Серга, — наконец промолвил Ари. — Моя не обманывает. Не думай обо мне плохо. Ты верь Ари. Русийя… Льенин.
Он совсем прижался к плечу. Глаза его были влажными.
— Сколько тут грибов! — прошептал Сергей. — Смотри!
— Слюшай, — насторожился Ари, беря Сергея за руку. — Слюшай… это река!..
Да, это шепот реки. Совсем-совсем близко. И река не так уж широка, всего метров шестьдесят. Сергей почувствовал в ногах слабость, сильно стучало сердце. Они присели.
— Слюшай, там Русийя, — начал было Ари, но, заметив, что Сергей его не слушает, умолк. Сквозь прогалину виднелась вода. Сергей все ниже и ниже приседал и наконец жадным взором охватил тонюсенькую полоску земли противоположного берега. «Мама! Если бы ты знала… Я рядом, рядом. Папа, ах, как хорошо было бы, если бы ты оказался на этом участке границы!» Воображение обострилось, и Сергей увидел отца. Он подходил к берегу таким же, каким запомнился: противогазная сумка, пистолет, три кубика на зеленых петлицах, лицо освещено улыбкой. Протянул руки: «Сережа, Сережа» — и обнял…
— Серга, пора…
— Ари… Это правда, что ты не обманываешь меня?.. Нет, нет, я верю, Ари, я верю тебе.
Ари вытирал слезы.
— Моя тебя никогда больше не увидит. Сапсем не увидит. — Он схватил его руку и прижал к груди. — Алмэк… Русийя…
— Возьми деньги. Они мне не нужны. — Сергей насильно затолкал пачку в его карман. — Прощай…
— Плыви прямо, не бойся, Серга. Я свой аскер знаю, пока шалтай-болтай, ты уплывешь.
— А Мади?
— И Мади такая же солдат. Он бедный, бедный, сапсем бедный. Не бойся, плыви…
Сергей вошел в воду. Противоположный берег открылся ему широко-широко. Заметил смотровую вышку, на мгновение показавшуюся ветряком с машущими руками-крыльями.
— Прощай, Ари, алмэк Ари, — прошептал Сергей и нырнул под воду.
Ари взбежал на взгорье, мигом оказался на сосне, присмотрелся: на темной ряби заметил светлую голову Сергея, будто бы с белой кожицей арбуз плыл по реке, все удаляясь и удаляясь.
— Русийя… алмэк Серга…
Он опустился на землю и долго стоял, не зная, куда ему идти и что делать. Его маленькое, но горячее сердце опустело. И он разрыдался. Плача, услышал:
— Пзела, ходи ко мне, ходи.
Ари даже не пошевелился. Мади сам подошел к нему:
— Э-э, да ты плачешь. И грибов не собрал. Вай, вай, ва-ай. Перестань, Пзела, ты мне таким не нравишься. — Он достал из кармана деньги, поплевывая на пальцы, отсчитал несколько бумажек, — Мади не шакал, бери свою долю и ходи быстрее отсюда. Скоро мой напарник появится. Слышишь, Пзела, попадет и тебе, и мне.
Ари поднял голову, его темные глазенки вновь обрели прежний вид. Мади покачал головой:
— Ой, Пзела, от тебя все можно ожидать. Ты самый-самый выдумщик.
Ари потрогал затвор.
— Стреляет?
— Еще как. Послушай песню:
У солдата есть винтовка, И затвор блестит. Значит, он живет неплохо, Значит, он живет неплохо, Коль затвор блестит…— …Коль затвор блестит, — повторил Ари. — Мади, к хозяину я не пойду…
— Правильно! Денга у тебя есть, валяй куда хочешь. Шоссе рядом, заплатишь шоферу, он тебя доставит хоть в столицу.
— К Махамеду?
— Валяй к брату. Надоел ты мне, Пзела. Уходи с моих глаз!
Ари подумал: «Теперь он переплыл… Русийя… Серга».
И он припустил изо всех сил к шоссе, затем на окраину родного города, в свою вросшую в землю хижину… И настанет время, он выдаст свою тайну сначала брату Махамеду, потом Мади, уже согбенному и нуждой и годами.
Глава восьмая
Серж обдумывал странички своей будущей книги, обдумывал каждый день — вечером, перед тем как уснуть, и утром, лежа в постели. Заглавие для своей книги он еще не нашел, оно потом придет, самое подходящее и самое яркое…
Дымок от сигареты тянулся к открытой форточке. Серж, следя за ним, погружался в мысли. О, это были почти готовые странички! «От Любови Ивановны пришло письмо. Николая Михайловича не было дома, он, как всегда, в своем тире. Кстати сказать, русские, по моему глубокому убеждению, действительно не хотят войны, все их газеты заполнены призывами поднимать экономику страны. Но в то же время минувшая война для русских — ни в коем случае не далекое прошлое, все они еще не остыли и находятся в состоянии ожидания и готовности. Даже Фрося, прекрасная акробатка, можно сказать звезда циркового искусства, и та готова вцепиться в ваши волосы, если вы промолвите что-то не совсем лестное о любом периоде войны. Они таких готовы распять на кресте — дух прошлого испытания, высокое осмысление победы и сегодняшний день страны слиты неразрывно. Печально, но это — факт.
Письмо все же я прочитал до прихода Николая Михайловича. Оказывается, Любовь Ивановна задержится еще на месяц во Владивостоке. Это меня обрадовало и удивило. Обрадовало потому, что я, хотя и настаивал, чтобы Анюта поскорее приезжала, в душе все же опасался ее приезда — а вдруг не признает. Удивило потому, что накануне Любовь Ивановна прислала телеграмму, в которой сообщила, что выезжает поездом. Весь день я провел под впечатлением прочитанного письма. Мое смятение погасил Николай Михайлович, придя домой и прочитав письмо. «Разве ты не слышал? — сказал он. — На город наложили карантин, там обнаружили признаки какого-то опасного гриппа. Перестраховщики, конечно, запретили поголовный выезд». «Почему же она не написала в письме об этом?» — спросил я. Николай Михайлович ответил так: «Когда женишься на своей Самурайке — все поймешь… Сам знаешь, мать не станет волновать ни тебя, ни меня. Это уж точно!»
Николай Михайлович все больше убеждается в том, что наша дружба с Фросей закончится браком. О, разве я думал раньше о таком стечении обстоятельств! Мне еще до сих пор кажется, что моя роль закончится в этой стране какими-то головокружительными трюками, подобно тем, о которых так часто рассказывается в фильмах, — будут убийства, сумасшедшие погони на машинах, вертолетах и даже на подводных лодках… О, сценаристы, о, постановщики, как вы любите дурачить публику своими домыслами и вымыслами, накалять сердца несведущих людей!.. Трюки, трюки во имя денег, во имя личной славы! А вот мой отец, теперь я точно знаю, за всю свою службу ни разу не попадал в ситуацию, подобную вашим фильмам. Он многие годы проработал скромным помощником капитана торгового флота. И разбил себе позвоночник, честно выполняя свои обязанности на корабле. В Гении ему установили высокую пенсию, с почетом списали с корабля. Под видом лечения он совершенно легально выехал на родину и… не вернулся в Гению. Очень уж прозаично, буднично!.. Без особых приключений.
Однако же о Фросе. Конечно, я к ней неравнодушен. Может быть, все это пройдет со временем, только едва ли. Похоже на то, что когда-нибудь я под видом туриста окажусь с ней в квартире Хьюма. И железный человек, отрицающий человеческие чувства, будет приятно шокирован и скажет тогда: «О’кей! Серж, я преклоняюсь перед твоей мудростью».
У меня есть в этом деле добрый союзник — бог. Я слышу его по ночам: «Фрося — твоя звезда, люби ее, человек».
Сигарета погасла. С минуту Серж лежал, ни о чем не думая. Потом вновь погружался в мысли, как бы продолжая следующую страницу.
«Прошел месяц, как я готовлю вывод лошадей на арену, готовлю добросовестно, и за это меня хвалят. А вчера к зарплате получил надбавку. Но испытываю одно неудобство — не всегда имею возможность с начала и до конца представления сидеть во втором ряду на втором месте справа от выхода. Две двойки и первое января… Они меня не так уж сильно волнуют: я убежден, что не сегодня-завтра Архип появится и мы обменяемся газетами, на моей обозначены новые координаты и установки позывных. Архип уйдет, я останусь в ожидании новых заданий. Мне даже не интересно знать, кто такой Архип, его легальная профессия, какого он роду и племени, достаточно того, что он работает на Хьюма. Тревожит другое — смогу ли я вообще выполнить задание Стенбека. Николай Михайлович очень добрый, много рассказывает о войне, о преступлениях нацистов. Я изучил его историю болезни. Оказывается, при нервном потрясении этот человек может вновь потерять зрение… Таковы последствия стенбековского ДОСа. Николай Михайлович принимает энергичные меры по розыску Стенбека, у него имеется переписка с различными организациями и боевыми товарищами. Судя по ней, дело Стенбека может всплыть в печати, принять широкую огласку. Мысль о том, что Стенбека в конце концов могут извлечь из рук Хьюма и посадить на скамью преступников, вынуждает меня думать о ситуации простого случая… Шел — поскользнулся, упал — не поднялся. Со стены строящегося дома упал кирпич… на голову. Шел вдоль железной дороги, сильный встречный ветер, сзади поезд… Да мало ли подобных случаев! И все же, и все же… Добродушный Николай Михайлович… И все же смогу ли я воспользоваться ситуацией простого случая. Говорят, змея жалит человека только в том случае, если ей угрожает опасность. Но я-то не змея, Хьюм! И далеко не каждый разведчик — убийца. Стенбек — фашист, на его совести сотни жертв. Он при определенной ситуации может, не задумываясь, всадить нож в спину самому Хьюму…»
К окну прилипло улыбающееся лицо Николая Михайловича.
— Сынок! Доброе утро! Как спалось?
— О’кей!..
— Завтрак на столе…
— Ты уходишь?
— Сегодня принимаю зачеты на разряд, — подмигнул весело. — Самурайка на первый тянет. В четыре часа у нее дневное представление, так она решила пораньше отстреляться. А ты как планируешь свой день?
— Пойду на манеж, вечером конная группа дает последние гастроли.
— Последние?! Как же ты?
— Придется и мне уезжать. Ты не волнуйся, я тебе буду каждый день письма писать.
— О’кей, — помахал рукой Николай Михайлович.
…До центра Николай Михайлович доехал автобусом. Тротуары уже заполнила пестрая публика. Встречный поток был гуще, а Николай Михайлович спешил и почти грудь в грудь столкнулся с мужчиной атлетического телосложения.
— Извините, — сказал тот и пристальным взглядом измерил Шумилова. Лицо атлета показалось Николаю Михайловичу знакомым. Он остановился. Откуда-то подвернулась Фрося. Она взяла под руку Николая Михайловича и поторопила его.
— Погоди, погоди, Фрося, — шептал он, все глядя на атлета.
Мужчина удалялся, а Фрося торопила:
— Я могу опоздать, дядя Коль!
— Сидоренко! Да не может быть! Не может быть!
Фрося высвободила руку:
— А ну вас, дядя Коль, я побежала.
Николай Михайлович догнал атлета и некоторое время шел в двух-трех шагах от него, разглядывая и припоминая. Нет, он не ошибся. Не в силах сдержаться, закричал:
— Миша! Сидоренко! — и заключил атлета в объятия. Тот еле освободился и, отступив от Шумилова, сказал:
— Вы ошиблись! Я не знаю вас, гражданин…
— Не узнаешь?.. Шумилов я, Николай Михайлович. Помнишь пятнадцатую заставу? А я слышал, что ты погиб. Дай бог памяти, кто же мне это говорил… Ах ты, Миша, Миша. Ну что же ты так смотришь на меня? — И опять бросился обнимать атлета, тиская его в своих могучих руках.
— Я совсем не Миша, вы ошиблись. До свидания.
— Ошибся?! Да не может быть этого.
…Фрося стреляла первой. Ее все тут знали, и каждый старался дать совет. Инструктор шикал на публику, проворно шкондылял вдоль прилавка, маслянисто улыбаясь Фросе, приговаривал:
— Один пуля — один враг, один пуля — один враг.
Инструктор на фронте был известным снайпером. Он гремел медалями и с гордостью поглаживал пестрый ряд орденов.
— Я на фронте командовал целым взводом снайперов. Ти знаешь об этом, Фрося? Обо мне сама «Правда» пять раз писала. Пять! И об этом ти слышала. Скажи, пожалуйста, она все знает… Билетик ти мне устроишь в цирк? Ну стрелай, стрелай, Фрося.
А Николай Михайлович все думал и думал о Сидоренко, и не было перед ним ни веселого Вано Санадзе, ни ожидающих своей очереди молодых парней, ни Фроси — воображаемый Миша, его заместитель по боевой подготовке, как бы затмил весь тир.
— Дядя Коль, — подошла к нему Фрося, — вот контрамарка, приходите в цирк.
— Не может быть, не может быть…
— О чем вы, дядя Коль?
— А-а, Фрося… Спасибо, спасибо, приду.
— Дядя Коль…
— Ну что?
— Сережу не ругайте, мы сегодня задержимся…
— Он тебе нравится?
— Что вы, дядя Коль! Нравится… Больше, больше, дядя Коль… А вы меня… не любите. Самурайку не любите?
— Фрося, Фрося… Ты Очень добрая… Был бы я моложе, эдак лет на тридцать… Хо-хо-хо!
— Ну и что случилось бы? Смешной вы, дядя Коль.
— Смешной… Иди. Удостоверение тебе сам принесу…
И снова в воображении возник Сидоренко. Шумилова охватило какое-то необъяснимое волнение, бросало то в холод, то в жар. Вано, зашедший в контору, ахнул:
— Командыр, что с вами? Ти совсем-совсем бледный. Не захворал ли?
— Я только что встретил человека, которого считал погибшим.
— Что тут такого! Такая война была, все могло случиться — убитые оказывались живыми. С моим фронтовым другом так произошло. Его даже в могилу положили, хотели засыпать, а он вдруг руку поднял и кукиш показал. Так из похоронной команды все разбежались…
— Да, да, ты прав, Вано, ничего не случилось. Но я не ошибся, не ошибся. Это был Сидоренко. Но почему он не признался…
— Понымаю. Мой совет: иди в милицию, там тебя знают, и скажи: Сидоренко не признался, что он Сидоренко.
— А вдруг это не Сидоренко?
— Тогда иди домой, поспи крепко или вина выпей, и все пройдет. Это ведь у тебя, Николай Михайлович, нэрвы разбушевались. Иди, Фросино удостоверение я сам заполню. Доверяешь, командир?
— Шутник ты, Вано.
— Если бы у мэня одна нога нэмец не отбил, я бы женился на самой красивой дэвушке. Пах, пах, цветок бы взял в жены.
— Разве Маша твоя плохая? Некрасивая?
— Что ти, командир, она во! Сулико! Но ти иди, иди, одна пуля — один враг… Иди…
Веселый Вано не погасил беспокойства. На улице Николай Михайлович совсем расклеился и хотел уже сесть в такси и последовать совету инструктора. И вдруг заметил на противоположной стороне знакомого атлета, а рядом почти вплотную с ним… Нет, он не ошибся: «Это же Андрей Петрович, майор госбезопасности. Похоже, что он его ведет… Сидоренко, что это значит?» Он захлопнул дверцу такси и бросился напрямик, через брусчатку…
Николаю Михайловичу сказали:
— Подождите здесь.
«Здесь» — это приемная Андрея Петровича, в которой он не раз бывал. Знакомый секретарь начальника управления лейтенант Зубрило предложил ему сыграть в шахматы. Зубрило сам расставил фигуры.
— Николай Михайлович, ваши белые, пожалуйста… Да вы не смотрите на дверь, это надолго.
— Вы думаете, что Сидоренко… все эти годы скрывался?
— Ничего я не думаю, делайте ход.
— Он у меня был заместителем по боевой подготовке. Парень, скажу вам, на все руки мастер, одним словом — артист!
— Это как понимать?
— Самый способный офицер, — сказал Николай Михайлович и, сделав ход, вновь посмотрел на дверь. — Говорите, надолго? Вам шах…
Дзинькнул настольный звонок, и Зубрило поспешил в кабинет Андрея Петровича. Он долго не появлялся. Николай Михайлович начал расхаживать по приемной — десять шагов от входной двери к окну и десять обратно. Наконец все это — и считать шаги, и анализировать очередные шахматные ходы, и ждать — ему надоело, в он хотел было постучать в дверь, как за спиной послышался шепот. Он оглянулся: в полураскрытой двери кабинета начальника управления стоял молодой человек, очень похожий на его Сергея. При первом взгляде Николай Михайлович чуть не произнес: «А ты как сюда попал?», но сдержался и потом в мгновение определил: парень ниже ростом и волосы светлее. Они смотрели друг на друга молча. «Неужели Виктор, брата Василия сын? — пронеслось в голове Николая Михайловича. — Не может быть, Виктор в Ростовском университете»… Но все же спросил:
— Извините, вас не Виктором зовут?
Парень молчал, глаза его вдруг повлажнели, и он прикрыл за собой дверь. А лейтенант Зубрило, как будто и не выходил, произнес из-за спины:
— Ход мой или ваш?
— Какой ход?.. Ах, да, извините…
Они сделали еще по одному ходу, при этом Николай Михайлович спутал ферзя с королем.
— Не везет мне сегодня, — с грустью признался он и наотрез отказался играть. — Что это у вас там, в кабинете начальника, за парень? Понимаете, я чуть не принял его за своего Сергея… Только ростом пониже…
Опять стрекотнул настольный звонок.
— Теперь пошли, — сказал Зубрило, — нас вызывают.
Конечно, Николай Михайлович не ошибся, узнав Сидоренко. Они обнимались, похлопывая друг друга но плечам.
А Андрей Петрович восклицал:
— Какой глазастый! Ну и глазастый! На улице заметил, опознал!
И были воспоминания, короткие и пылкие, и все о пятнадцатой заставе.
Андрей Петрович что-то шепнул на ухо лейтенанту Зубрило, и тот вышел из кабинета. Потом обратился к Сидоренко:
— А вот сына своего он не опознал.
Николай Михайлович лишь подумал в ответ: «Потерпим. Синявкин велит терпеть… Ах, К. Синявкин!» Он вспомнил стихи Сидоренко и продекламировал их в ответ на замечание Андрея Петровича.
— Что ж ты про Любашу ничего не говоришь? — спросил Сидоренко.
— Любашу? Какая досада, она сейчас во Владивостоке, у Анюты. Она должна вот-вот прилететь. Я думаю, что ты, Миша, не исчезнешь сию минуту и зайдешь ко мне. Как жаль, что Любаша задержалась…
— Она прилетела, — сказал Андрей Петрович. — По моим данным, она прилетела.
— Когда? — Николай Михайлович рассмеялся. Обращаясь к Сидоренко, сказал: — Слышал! Такой серьезный человек, а первоапрельскими байками занимается…
— Нет, Николай, он правду говорит, — промолвил Сидоренко.
— Любовь Ивановна в городе, вернее, в кабинете начальника управления…
— Я не понимаю вас, товарищи… Или с Любашей что случилось?.. Тогда говорите прямо. Андрей Петрович, что же ты молчишь? Вчера телеграмму получил из Владивостока…
— Николай, не волнуйся. У Любаши все хорошо. Ты уж извини нас, но обстоятельства сложились так, что Любаше было предложено задержаться в Москве… А телеграммы шли из Владивостока… В Москве они и встретились…
— Ничего не понимаю! — воскликнул Николай Михайлович и чуть не раскрылся: «Можно и парик снять?» Однако же воздержался.
Вернулся лейтенант Зубрило:
— Андрей Петрович, у них все в порядке. Начальник управления и Любовь Ивановна просили заходить.
— Пойдемте, — сказал Андрей Петрович.
Николай Михайлович уже в двери в упор спросил Сидоренко:
— Миша, как все это понять? Или ты в курсе моей роли?
Тот ответил шепотом:
— Радуйся, Сережу твоего привезли, — и подтолкнул в спину, чтобы быстрее проходил.
Любашу он успел рассмотреть хорошо: она подходила к нему улыбающаяся. Когда же метнул взор на начальника и парня, стоящего у стола, почувствовал сильную резь в глазах, и потом все померкло… Любаша обняла его, а начальник управления, спокойный великан — косая сажень в плечах, — выплыл из-за стола желтым пятном.
Шумилов протер глаза, зрение улучшилось.
— Так вот какие дела, Николай Михайлович, — сказал начальник и показал на парня: — Узнаете? Это настоящий ваш сын, а тот кукушонок. И не простой кукушонок, а нашпигованный взрывчаткой…
— Сынок, подойди, — позвала Любовь Ивановна.
Сергей шагнул к Николаю Михайловичу и вдруг остановился: не было противогаза, не было кубиков в петлицах и не было кобуры, перед ним стоял пожилой человек с протянутыми вперед руками. Только голос папин, и в мыслях рисовалась машущая мельница, застава, Анюта с косичками и опять папин голос: «Разбойник, разбойник, я же за тобой следом шел, думал, куда тебя фантазия понесет».
— Сережка! — наконец крикнул Николай Михайлович.
— Папа!
И опять эта пелена, желтая…
— Ах, ты, Сережка, Сережка.
— Фрося, твой выход.
Конечно же, это Серж! Фрося прихорашивалась перед зеркалом: она еще не видела его, по по голосу сразу узнала — Серж всегда так поступал: остается пять минут до выхода, и он тут как тут.
— Серж, помоги мне застегнуть пояс.
Она почувствовала его горячую руку, теплая волна прокатилась по шее.
— Смелей, смелей, среднюю пуговицу. Да быстрее. Молодец!
Фрося повернулась к Сержу и расхохоталась оттого, что он покраснел от смущения, и, видимо, оттого, что ей с ним весело.
— Пожелай мне успеха.
— Желаю самого громкого, аплодисментов и выходов на бис.
— А что еще скажешь?
— Я очень тебя…
— Нет, нет, это я знаю, не надо. Ты разве забыл, что сегодня исполнилось ровно пять месяцев, как мы познакомились. Ах ты, несчастная заграница…
— Нет, нет, я не забыл! И мы пойдем сегодня на всенощную гулять, бродить. И при синем свете луны ты будешь казаться мне русалкой.
— Казаться? — Она вновь рассмеялась. — Только казаться?..
Красная лампочка просигналила ее выход. За дверью ожидали партнеры. Он поспешил сказать:
— Я, как всегда, нахожусь во втором ряду, второе место от выхода.
— И потом мы пойдем…
— Обязательно, на всенощную…
…Серж вернулся на свое место. Ожидая выхода Фроси, он как-то не сразу обратил внимание на то, что рядом с ним сидит уже новый сосед: первое отделение на третьем месте сидела пожилая женщина, которая то и дело высказывала недовольство и все собиралась уйти. Фросина группа почему-то задерживалась. Объявили выход: «Александр Верхневолжский и его питомцы». Такое случается. «Возможно, кто-то из Фросиной группы оказался неготовым и попросил отсрочку или так вдруг решила администрация», — подумал Серж и повернулся в сторону соседа…
— Синявкин? Константин Федотович!..
— Шумилов… Слышал, слышал, оказывается, в цирке работаете… Прекрасно, прекрасно. Рад за вас, артист!
— А вы что же, не уехали?
— И не собираюсь. В городе устроился, на винном заводе дегустатором.
— Шутите! Для этого надо иметь специальное образование.
— А я нюхом определяю. Обоняние у меня высшего класса. Конечно шучу, техником по эксплуатации механизмов зачислили… Давай смотреть Верхневолжского и его питомцев… Хороши собачки! Ишь, черти, что вытворяют!
Он замолчал, как бы поглощенный блестящей работой собачек. «По всему видно, и сегодня не придет», — с досадой подумал об Архипе Серж. И все же на всякий случай, как бы уже по привычке, извлек из кармана газету. Пошевелился и Синявкин. Сержа обдало жаром: Синявкин протянул ему газету за 1 января… Серж еще не успел подумать, как ему поступить, а Синявкин прошептал:
— Архипа ждете? Не волнуйтесь, я Архип. Давайте вашу газету… Видали, как он выдрессировал собачек. Это невероятно! Вот дают так дают! Черти, все понимают, только сказать не могут.
Объявили выход Фросиной группы. Серж вздохнул с облегчением: «Слышишь, Хьюм, состоялось». И стал аплодировать акробатам изо всех сил. А Синявкин на ухо:
— Вместе выйдем, ангелочек.
За кулисами резь в глазах усилилась. «Нет, надо было бы сразу уйти домой. Любаша, это невероятное злодейство!» Николай Михайлович взялся за лоб — жар невозможный. Щель, сквозь которую смотрел Андрей Петрович на арену и сидящую публику, еле-еле видна.
— Рядом с ним должен быть Синявкин Константин Федотович. Посмотрите, Николай Михайлович, там он?
«Липкие руки, лихорадит всего», — подумал Шумилов и шире отвернул занавес. В глазах посветлело, и он с трудом опознал Сержа, но никак не мог рассмотреть Синявкина.
— Нельзя ли свет увеличить? Андрей Петрович, я ничего не вижу… — Шумилов повернулся к майору. — И вас не вижу…
Кто-то взял его под руку, повел на улицу по лесенкам и коридорам. Он хотел спросить, кто это его ведет, но не стал спрашивать. Думая о Серже, он вдруг вспомнил рассказ жены о приснившемся кукушонке.
— Верно, кукушонок, да еще с начинкой…
Его успокоили. Еще кто-то подошел.
— Степан, вызовите машину. Будем брать здесь. — Это голос Андрея Петровича.
— Машина за углом. И для Николая Михайловича вызвана санитарная.
— Пока не отправляйте меня. Я хочу… — Шумилов хотел сказать «посмотреть», но лишь заскрипел зубами.
…Серж, конечно, заметил Николая Михайловича и не мог пройти мимо. Людей, стоявших возле Шумилова, он принял за обычных знакомых Николая Михайловича. Подошел вместе с Синявкиным, сразу обратил внимание на отсутствующий взгляд у Николая Михайловича. Но не это его потрясло, превратило лицо Сержа в гипсовую маску… Перед ним стоял Шредер. А рядом со Шредером… Прямой. Тот самый, который в сквере напомнил ему отцовскую походку. Прямой стоял с заложенными за спину руками. И Прямой, как понял Серж, догадался, что произошло: он метнул на Синявкина недобрый взгляд. А Серж подумал: «Так вот он какой Архип… Сидели в сквере на одной скамейке. Хьюм, какой узел они развязали». Он подумал об этом почему-то не со страхом, а с досадой на то, что быстро все это случилось.
В цирке еще шло представление, на улице было безлюдно и тихо. Головокружительной погони не состоялось, душераздирающего скрежета машин публика не слышала… «Хьюм, у них здесь все по-другому…»
Мысли Сержа прервала Фрося. Она стояла на противоположной стороне улицы и, еще не зная, что произошло, звала:
— Дядь Коль, отпустите его… Сержа!
Серж вновь посмотрел на Николая Михайловича, на его неподвижные глаза, на руки, чуть вытянутые вперед, словно бы ищущие, нет ли впереди опасного препятствия. «А Стенбек, похоже, выиграл. Стенбек, этот человек теперь не опознает тебя».
Фрося еще стояла на месте, и Серж заметил, как она платком вытирала слезы и как тряслись у нее плечи.
— Ведите же меня в тюрьму! — крикнул Серж и опустил голову так низко, что видел только кусочек земли у своих ног. У носка под подошвой ботинка трепыхался край желтого листа. Серж подумал, что он как этот листок, упавший на асфальт, — жалкий, ненужный, уже потерявший всякие живые соки. И только!
Он не заметил, как подкатила легковая машина, и почти не слышал, как вдруг оживились голоса. Но голос Шредера он все же расслышал. Шевельнулась надежда на лучший исход: «Может, ошибся и Шредер остался Шредером?»
Нет, он не ошибся: из машины вышел…
— Тот самый, Виктором его звали, — сказал Сергей.
Кто-то щелкнул фотоаппаратом. Николай Михайлович вздрогнул, но не от вспышки магния, а от мысли, что он не может видеть сына.
Подбежала Фрося. Она наконец догадалась, что произошло. Лицо ее было сухим, и она, глядя то на Сержа, то на Сергея, промолвила:
— Люди, а как же я? Как же я?
Ей никто не ответил.
— За что вы его? Как же я? — Фрося заметила, что Николай Михайлович как-то странно смотрит на нее. — Дядя Коль! — Она бросилась к нему и поняла: ослеп. Фрося повернулась к Сержу, что-то хотела сказать, но но смогла — спазматический комок перехватил ей горло…
Сержа и Архипа увели. Люди выходили из цирка, делились впечатлением, громко разговаривали и смеялись, как и должно происходить в человеческой жизни. Никто не обратил внимания на «Победу», возле которой стояли Николай Михайлович, его сын Сергей, Михаил Сидоренко и Фрося, еще с ужасом думающая о Серже.
— Как же так? — прошептала Фрося и прильнула к Николаю Михайловичу. — Кто же он такой?..
И когда она узнает обо всем, что и как случилось, она придет к Николаю Михайловичу и скажет ему, еще больному, но живущему надеждой на полное выздоровление, скажет:
— Дядя Коль, спасибо им, самое сердечное спасибо товарищам Мишам, и бог знает, под каким именем эти Миши Сидоренко сражаются с хьюмами, стенбеками и сержами, всем им спасибо!
Спасибо и земной поклон!
СЫН КОМЕНДАНТА
1
Сашко проснулась от густого баса, доносившегося из передней комнаты. Мужской голос показался ей знакомым. «Ой, неужели это дядя Вася?» — с замиранием сердца подумала она. Дядя Вася служит на границе комендантом участка. Он редко бывает в Москве. Но когда приезжает, Сашко от него ни на шаг: расскажи да расскажи про границу…
Сашко встала с постели, быстро оделась и — в переднюю.
Верно, дядя Вася! Он уже снял тужурку и в пижаме помогает маме накрывать стол.
— Дядя Вася! — кинулась к нему Сашко и сразу оказалась у него в руках.
— Докладывай, рыжик, с какими отметками окончила второй класс?!
— Учится она хорошо, — сказала мама, — отличница. Но баловница! С мальчишками все водится.
За завтраком вспомнили тетю Маняшу. Сашко уже не раз слышала эту страшную историю: Маняша, жена дяди Васи, погибла три года назад на границе, диверсанты на нее напали и ножом в спину… Это очень страшно! Но Сашко готова еще раз послушать. Однако дядя Вася вдруг отодвигает на середину стола тарелку с котлетами и идет к окну. У него широкая спина, собой он загородил почти все окно.
— Надолго приехал? — спрашивает мама.
— Завтра улетаю…
— Кофе выпей.
Дядя Вася вновь садится за стол, а мама тихонько:
— А нельзя в другое место перевестись? Или взял бы да и рапорт на стол начальству: хватит, мол, двадцать пять лет отслужил!
— Ой, мама, что ты говоришь?! Разве дядя Вася пойдет на это! Он же прикипел к границе. О нем в газетах писали.
И верно, не пойдет.
— Нет, Лида, ты же знаешь: прикипел я к пограничной службе. — И совсем весело: — У нас там такая красотища! Тайга, реки, озера! А сколько там грибов, ягод, всякой дичи и зверья! А воздух, воздух какой: вдохнешь полной грудью и отлично чувствуешь себя! Сашко, хочешь поехать со мной на границу? В тайге лето проведешь…
Это же на край земли! Сашко об этом и не мечтала, на самую границу ехать! Конечно, дядя Вася шутит.
— О чем ты говоришь, Василий Иванович! Ее только помани пальцем, куда угодно пойдет.
— И поеду! Я ничего не боюсь. И с Алешкой познакомлюсь. Я его еще не видела. Он же мне брат двоюродный. Дядя Вася, я поеду. Поеду…
Так все это и началось, неожиданно и просто.
На аэродром ехали на такси. И мама все время расспрашивала про Алешу. Дядя Вася, улыбаясь, в ответ басил:
— Алешка у меня домашний парень, без разрешения ни шагу со двора комендатуры. Домашний, Лида, домашний.
Маме это очень понравилось, и она сказала:
— Слышишь, Сашенька, какой хороший Алешка! Ты слушай его, бери с него пример. — И к дяде Васе: — Господи, и чего ты придумал, Василий!.. Теперь мне придется переживать.
К самолету маму не пустили, она осталась за перегородкой и все говорила:
— Василий Иванович… Сашенька… Жду письма.
Когда пилоты запустили двигатели, дядя Вася привязал Сашко ремнями. Отлетали вечером, и Сашко в иллюминатор увидела густую строчку огней, с непостижимой быстротой бегущую под крыло самолета. Когда же эта строчка оборвалась, стало вдруг тихо и никакого движения не ощущалось, будто бы повисли в воздухе.
Вскоре Сашко уснула.
Когда открыла глаза, в круглое окошко светило яркое солнце. Пассажиры стояли в проходе.
— Вот мы и прилетели, — сказал дядя Вася и начал снимать багаж с верхней полки.
— Так быстро? Это же на край света!
Дядя Вася взял ее за руку и повел к выходу. Сошли по трапу, сели в автобус и… вот здание аэровокзала… почти такое же, как в Москве, из стекла и бетона.
На привокзальной площади стояло много машин, как в Москве.
— Где же тайга? — спросила Сашко.
— Тайга там, — махнул дядя Вася рукой на темные горы, возвышавшиеся вдали. Над горами плыли тучи, тяжелые и страшные, как показалось Сашко.
Подошел офицер-пограничник со служебной собакой на поводке. «Это что-то похоже на границу», — подумала Сашко.
Офицер оказался знакомым дяди Васи, и она из разговора узнала его фамилию: лейтенант Туров. Узнала и то, что Туров находится в отпуске и что собирается приехать в дядину Васину комендатуру посмотреть пса Дика. Дик в предельных годах, и надо решить, списывать его со службы или еще поработать с ним.
Дядя Вася заметил:
— И охота тебе, Иван Петрович, отпуск на это тратить?
Туров, совсем еще молоденький лейтенант, с очень спокойным лицом серьезно сказал:
— Я экспериментирую, товарищ подполковник, научный опыт ставлю.
А Сашко опять о своем: «Какая же это граница! И мама тоже опыты ставит в своей клинике. И Алешка, наверное, такой же мальчишка, как в нашем классе. Только вот слишком домашний, тихоня наверное».
Не спеши, Сашко, так думать об Алешке, сыне коменданта. И граница для тебя раскроется, и ты увидишь ее подлинную жизнь.
2
— Если идти прямо и прямо, куда попадешь?
Смешная Сашко… Сколько можно спрашивать… Там заграница. Самая настоящая заграница, и люди там не по-нашему живут.
— А вот в прошлом году к нам из-за границы приходил бедный крестьянин. По фамилии Кайши. И мы его лечили. «Наша ваша — большой друг».
Сашко не верит.
— Он же чужой!
Эх, ты, подсолнух! Алешку учишь. Он знает, как отличить своего от чужого.
— Ты следы читать можешь?
— Я книги читаю…
— Это каждый может. А вот следы? — настаивает Алешка, хотя убежден: Сашко не знает о следах.
— Выдумщик! — качнула рыжей головой Сашко.
Кругом лес, кудрявый, темный. Есть и непроходимый. Не каждого пограничника туда посылают. Алешка не раз просил отца: «Слышь, Добрыня… — иначе отца он не зовет. Добрыня — и только, — возьми, хоть одним глазом посмотрю». На что Добрыня: «Ой, бесенок, когда-нибудь возьму ремень». Алешка в ответ: «Приветик, Добрыня!» И был таков.
У Сашко лицо в конопушках, глаза — темные пуговицы. Волосы огнистые. Алешка никак не может понять, почему так — глаза черные, а волосы, как лепестки у подсолнуха, желтые. И все же она нравится Алешке: может, тем, что с первого дня безропотно подчиняется: только позови — пойдет куда угодно.
Они сидят на крыльце комендантского дома. Ожидают лейтенанта Турова. Он все же приехал сюда, целыми днями возится с Диком.
Алешке жалко Дика. Он помнит его еще щенком… Теперь пес начинает срываться в работе — не всегда берет след. Алешка просит отца не списывать Дика. Туров тоже советует — еще рано, Дик — умная собака.
Сашко опять свое:
— А собаки разве стареют?
Эх, Сашко, за лето ты еще по то увидишь, еще не то услышишь. Туров лишь подумал об этом, сказал другое:
— Ну, пошли тренировать Дика.
Ребята только этого и ждали.
— Бери поводок, — предложил Туров Сашко.
Дик осклабился. Узнал, значит, Сашко. Вчера она гладила его по спине и тайком от инструктора Бабаева дала кусочек колбасы. Правда, пес колбасу не взял, но посмотрел на нее умными добрыми глазами.
3
С верховья реки надвигались сумерки. Но закат еще пламенел, и отсветы его падали на кудлатые деревья, обнаженные корневища, бесшумно колыхались на отмелях. Еле угадывался противоположный берег — тонюсенький сероватый мазок. На его изгибе комариком, вставшим на дыбки, виднелся человек. Добрыня следит за ним уже более часа, следит потому, что он видел его на этом месте и вчера, и на прошлой неделе замечал здесь на изгибе.
— Вас… ич… ич…
Река широкая, и голос человека, обессиленный расстоянием, едва долетал. Но Добрыня понимал: «Василий Иванович» — кричали ему, Добрыне.
Позади, на тропинке, скрытой густой, выше человеческого роста травой, пританцовывал озябший Алешка.
— Аля-ля, аля-ля, вышла кошка за кота… За кота-котовича, за Иван Петровича…
В машине Алешка прижался к широкому и теплому отцовскому плечу, дохнул в ухо:
— Следы закрыл?
Добрыня отрицательно качнул головой.
— Значит, Иван Петрович правду сказывал…
— А что он говорил?
— А так…
— Все же?
— Не скажу.
— Ну не говори. Я сам узнаю, — сказал Добрыня.
Следы были обнаружены в полдень. Уже часа два идет поиск. Задействованы служебные собаки, наглухо перекрыты наиболее вероятные для перехода направления, бесперебойно работает сигнализационная система, но нарушитель как сквозь землю провалился. И следы потеряны. Такое не случалось на участке Добрыни.
— Да ведь следы те не Кайши оставил!
Добрыня прищурил веко: «Подслушал, чертенок!» Сгреб в охапку сына — ив дом…
Алешка спал. Добрыня ходил по комнате, погруженный в мысли о границе. «Василий Иванович»… Вторую неделю кличет… Память воскресила картину: из воды вышел человек, прямо на штык. Поднял руки. Реденькая бороденка, впалые щеки, жилистый и высокий. «Ай, больница, скорее». Оказался простым крестьянином, около месяца лечили. Потом вернули. Добрыня сам передавал Кайши пограничным властям. На подходе к пункту передач парень очень просил оставить его в СССР. Он говорил о каких-то ужасных муках и страшной бедности. И в каждую фразу вставлял: «Ой, Василий Иванович, у себя дома я умру». А он, Добрыня, шел молча, с видом безучастного к просьбе. Когда вернулся домой, Алешка налетел на него с упреками: «Добрыня, разве так поступают… Там же уморят его голодом…»
Добрыня подошел к крану, окатил голову холодной водой. Не успел взять полотенце, как в передней зазвонил телефон. Мокрыми руками схватил трубку. Говорил начальник отряда полковник Тимошин.
— Ваши выводы?
— Думаю, Кайши прошел.
— Думать можно что угодно. Я спрашиваю о выводах, о решениях.
— Поиск продолжаю, усиливаю наряды… Сам выезжаю в район поиска.
— Разрешаю.
4
Полковник Тимошин — новый человек на этом участке границы, только вчера принял отряд. Добрыня попытался мысленно представить внешность Тимошина. Рослый, с тяжелой походкой — это запомнилось. Кажется, лысоват… Но при чем тут внешность… Он просто всыплет по первое число, если не обнаружу нарушителя…
Остынут следы, ветерок унесет запах. Еще хуже — пойдет дождь.
Окинул взором небо — чистое. А там, за горами?.. Черт те что! О, эти горы, кто их только придумал! Схватят облако, держат до поры до времени и вдруг отпустят…
Добрыня вышел за ворота, и сразу по грудь разнотравье, аж зарябило в глазах — не поляна, а ковер, сотканный из живых цветов. Дохнуло крепким настоем перегретых трав. Но цветы — это не для него. Добрыня поднялся на носки, заметил: рядом с Алешкой — Сашко. Хитрят ребята, думают, что от Добрыни можно укрыться. Где-то и Туров здесь.
Добрыня зашел с солнечной стороны: отсюда ему хорошо видно и Сашко, и Алешку, а они против солнца не шибко глазасты.
— На старт!.. Пошли! — Это голос Турова.
Алешка и Сашко поплыли — одни головенки видны над высокой травой. Добрыня сразу смекнул: «Вон ты какой, Туров. Учишься читать следы. Это важно для проводников служебных собак. Важно! А размер, размер обуви!» — чуть не вскрикнул Добрыня.
Турову трава по пояс. Он шел по ней медленно, разглядывая следы. Следы пересекались, кружили. Это Алешка оставил вензеля. Сообразительный.
— Сашко, это твой, а это Алешкин, — отгадывал Туров. И окончание следов отличил. Потом метнул взор направо. Добрыня даже дыхание затаил: «Неужели и мой распознает?» Туров долго присматривался, опустился на колени, в лупу смотрел, измерял рулеткой.
— Сорок пятый размер, — сказал Туров.
— Молодчина лейтенант, — прошептал Добрыня.
— Чей это? — нетерпеливо спросила Сашко.
Алешка почесал за ухом: Туров не видел Добрыню, и Алешке не хотелось, чтоб лейтенант знал, что отец проходил мимо. А сам Добрыня с нетерпением ждет: «Ну-ну, следопыт, так чей же?»
— След коменданта. Только что прошел.
Сашко захлопала в ладоши. Алешка шикнул на нее и приставил палец к губам.
…Большая теплая ладонь легла на Алешкину голову. От отца пахло травой. «А лицо у него смуглое, васильками пахнет», — вспомнил Алешка, как пела раньше мать, ожидая отца. Он потерся щекой об отцовскую руку, поднял на него глазенки.
— Эх, ты, ржаной сноп, — протянул Добрыня. — Бери Сашко и марш завтракать!
— Аля-ля, аля-ля, — держа сапоги в руках, запорхал Алешка над гребнями травы. Сашко еле поспевала за ним. Ее огнистая головка то исчезала, то вновь всплывала на поверхности.
— …За кота-котовича, за Иван Петровича…
Добрыня спешил на участок, где потерян след. Он надеялся обнаружить там что-нибудь новое. Взглянул на часы. Густые его брови вздернулись.
— Товарищ подполковник, так вы считаете, следы оставил Кайши? — поинтересовался Туров.
«Ага! Значит, Кайши. Но где доказательство, товарищ лейтенант?»
— В том-то и дело, Иван Петрович, что у нас нет никаких доказательств, — сказал Добрыня. — Пока нет. — И зашагал к появившейся в конце поляны машине, в которой сидел Бабаев с собакой.
5
Горы все же подшутили: отпустили облака в самый неподходящий час. Миновав синюю шапку снегов, тучи легко, как бы почуяв свободу и радость полета, поплыли над отрогами и бездонными расщелинами.
Тучи не знают границ… Сверкнули молнии, прогрохотал гром. Вокруг стало сумрачно, запахло прохладой и сыростью. Хлынул дождь.
Поджав хвост, собака ткнулась мордой в землю раз, другой… и легла, поглядывая то на Добрыню, то на Бабаева. В глазах ее, темных и грустных, отразилась беспомощность и что-то вроде мольбы — не понукайте напрасно, запах следов смыло.
На плешинке, образованной суглинком, Добрыня заметил след, небольшие вмятины, доступные только его наметанному глазу.
Добрыня снял с себя плащ, укрыл от дождя плешинку размером в полсажени. Неподалеку сигналил прибор срочной связи. Вызывать мог Тимошин. Сквозь шум дождя слышалось слабое тиканье часов. Доставать их не хотелось, Добрыня и так уже знал — сроки закрытия следов на исходе. Он с укоризной посмотрел на небо: крупные капли дождя окатили лицо, ручейки потекли за воротник, захолодили на волосатой груди.
— Вызывают, товарищ подполковник, — сказал Бабаев.
Подползла собака, лизнула руку и натянула поводок в сторону столба. «Эх ты, тоже беспокоишься, а вот след взять не можешь…»
— Значит, все? — услышал Добрыня голос Тимошина. — Такой ливень…
— Дайте еще полденечка, — попросил Добрыня и сам же себе возразил: — Что можно сделать за это время? Сфотографировать!
— Я надеюсь, Василий Иванович, — послышалось в трубке.
Добрыня опустился на землю. Под плащом полумрак, подсветить бы, да фонарь не прихватил. Добрыня достал лупу, приподнял в одном месте плащ, стало светлее. Сквозь увеличительное стекло рисовались вмятины: тут каблуки… Это от носков.
Собственно, следов, как таковых, не было, и то, что замечалось, мог читать только Добрыня, интуитивно домысливая в своем воображении картину действий того, кто оставил следы.
«Э-э, вот оно что… Тут он спустился сверху и пошел в глубь территории. Откуда спустился?»
Добрыня вылез из-под плаща. Собака кинулась к нему, повела к дереву. Пес обнюхал почерневшую от дождя кору дуба, зарычал, глядя вверх.
— Ты прав, Дик. Он оттуда прыгнул. — Добрыня описал рукой полет человека. — Вот так и опустился на суглинок… Нет, нет, ошибаюсь я. Сначала на эту копну, здесь переобулся, носками назад. Понял, товарищ Бабаев?
Добрыня сфотографировал следы. Потом еще минут десять рассматривал через лупу.
— Тут, кажется, Кайши не пахнет, другой кто-то.
От этого не легче Добрыне. Он закурил, прикидывая в уме дальнейшие действия нарушителя.
6
Кайши кружил по тайге. Чащоба, болота и ручьи не пугали. Он изучил их назубок и мог точно определить, где можно пройти и какое место опасно — провалишься, засосет с головой в холодное брюхо болота. Пугало небо — на нем ни облачка, чисто, как хрусталь. И Кайши просил у неба дождя… Дожди смывают следы…
И счастье улыбнулось — прошел ливень. Теперь Кайши пробирался по лесу, зная, что собаки не возьмут его след. А уж от людей он умел прятаться: в сумке маскировочная сеть, да не одна, а несколько — под любой цвет растительности. Он был высокого роста, с крепкими ногами и цепкими, железной хватки, руками. И стрелял Кайши без промаха.
Нет, людей он не боялся. Ничего, что не удалось сразу выйти к реке: всюду расставлены посты, но это не вечно. Он старался подойти поближе к комендатуре. Утром затаился на возвышенности в густом кустарнике. Подступы хорошо просматривались.
— Пережду. — Тонкие губы Кайши чуть скривились то ли в усмешке, то ли от чувства пренебрежения к опасности.
Над ухом ветер прошептал: «Винтовка и голод цементируют дух человека». Так поучал командир отряда. Инструктор Розбин-Лобин добавлял при этом: «Тысяча лет — не вечность».
— Тысяча! — Кайши оглянулся, увидел плотную стену леса, туман, клубящийся в низине. Его ищут в непроходимых чащобах, поодаль от заставы, от дорог и исхоженных мест.
— Ищут ветра в поле, а я у самого порога комендатуры. Не догадаются!
К полудню туман рассеялся, солнце иссушило влагу, и Кайши совсем успокоился: примятая им трава выпрямилась, исчезли всякие следы. И никому не придет в голову, что он рядышком с Василием Ивановичем.
7
Алешка терся щекой о плечо отца и заметил на гимнастерке белое пятно соли. Это от пота, конечно. Потянул носом, уловил запах болотной травы. Побегал Добрыня, помытарился! Алешка прижался к теплой отцовской спине, ожидая, когда отец закончит телефонный разговор.
— Возможно, по утрам он опять голосит у того берега: «Василь Иванович-ч-ич», — чудно отдалось в ухе Алешки, и он нетерпеливо бросил:
— Да не Кайши это! Другой…
Добрыня бросил трубку, поднялся, сгреб Алешку на руки:
— Ты чего болтаешь? Другой, другой… Где Сашко?
— У дяди Турова… Мы следы можем читать. Интересно!
— Садись обедать.
Алешка, поколебавшись, принялся за еду. Добрыня смотрел в окошко на холмик. Обелиск горел в лучах закатного солнца. Нахлынули воспоминания… «Вот так же и Маняша увлекалась этими следами. Следы увели в тайгу. Понесло ее одну. А там крикнуть не успела — ножом в спину… Нарушителя-то поймали, а ее вот потеряли…»
Он повернулся к столу: осиротело стояла миска. Алешка, свернувшись калачиком, уже заснул на диване, из-под его загорелой ручонки торчал нос, очень похожий на Маняшин… Она тоже могла вот так сразу уснуть на диване: что-то делает-делает, рассказывает неумолчно и вдруг пауза, длинная… «Ну, говори, говори…» Глядь, а она спит уже, прикрыв лицо рукой.
Алешка у Добрыни «поскребыш». Двое сыновей уже сами отцы, старший Александр — военный моряк, командир корабля. Все кличет к себе, в Мурманск: «Хватит тебе, батя, мокнуть в росных зорях, приезжай, квартира — три комнаты».
Приезжай!.. Граница, она как любимая женщина, не так легко оторваться. Приезжай… И Маняша поговаривала: «Может, пора, отец?» А сама все в окошко: лес, тропы, туман и горы… «Сама-то как, Маняша?» Поведет глазами: «Эх, Добрыня, Добрыня, не пойму, как могла я пойти за такого чалдона? Ка-а-ак дам развод!» И прижималась к широкой груди мужа… А он гладил ее волосы, замечал — прибавляется седины с годами. И целовал ее милые, мягкие, пахнувшие домашним губы.
Тихонько отворилась дверь. Вошел Тимошин. Добрыня еще был весь во власти воображения, улавливал Маняшино счастливое дыхание, ощущал руки, лежавшие на плечах. Тимошин снял фуражку, кашлянул.
— Спит? — кивнул он в Алешкину сторону.
— Да.
— Умаялся?
— Похоже…
— Небось тоже за Кайши охотился? Отправил бы его в пионерлагерь. Ведь там присмотр и прочее…
— Нет, не тот он парень…
— Домашний?
— Ага. Очень домашний…
В щель приоткрытой двери просунулась головка Сашко, глазами стрельнула по комнате. Тихонько зовет Алешку.
— Вставай, Иван Петрович ждет!
Алешка, как не спал, — скок с дивана и, не обращая внимания на Тимошина, крикнул:
— Добрыня, приветик! — и был таков.
— Понятно, — промолвил Тимошин. — Вижу, домашний. А эта рыжая птичка чья?
— Племянница, на лето привоз таежным воздухом подышать. Алешке с ней очень весело.
«Рыжая птичка». Как-то по-домашнему прозвучали эти слова в устах полковника. Добрыне хотелось, чтобы в таком тоне Тимошин продолжал и дальше.
— Птичка… — Брови Тимошина сомкнулись у переносья. — А мы с тобой, Добрыня, старые воробьи, — резко бросил он, — а на мякине нас проводят.
Это, конечно, о нарушителе. Сейчас начнет упрекать: второй день поиска, а результата нет. И он прав! Никакой ясности пока, даже и легенды не составишь: кто нарушил границу, с какой целью? Дешифровка снимков обнаруженных следов еще не готова. Да и получатся ли? Отснял-то, по существу, не следы, а одно воображение. И этот зов с той стороны: «Вас… ич… и-ич». Похоже, что ушел. Да и Кайши ли это был?
— Товарищ полковник, разрешите? Сейчас вернусь.
Добрыня бросился в фотокомнату.
— Готово?
И, не дождавшись ответа, понял: надежды почти никакой! И все же припал взглядом к снимку. «Воображение» как будто пропечаталось. Что-то есть. Но сличить со снимком подлинных следов Кайши мог только он, сам Добрыня. На это потребуется время. А пока ничего он не может сказать Тимошину.
Тимошин вытер платком лицо, собрался уходить.
— Звонили из Москвы. Требовали хотя бы легенду сообщить. Слышишь, Добрыня? Поспи часика два. На свежую голову и легенда родится.
8
Будто бы и Тимошин был рядом. И Дик лежал у куста. Пес виделся четко, как наяву: уши приподняты, нос подергивался, вот-вот фыркнет. «Тихо, тихо, милок!» И все же взвизгнул, натянул поводок. А Тимошин до боли сжал плечо, как новичку — не волнуйся, дескать.
Добрыня проснулся — ни Тимошина, ни Дика, потолок, люстра, зажженная лучом солнца. Пошевелил плечом — никакой боли. Хотя и сон, а самолюбие кольнуло.
Умылся под краном. Кто-то открыл дверь. Не поворачиваясь, Добрыня спросил:
— Алешка, зачем Сашко прислал?.. Вот я вам всыплю горячих… Что молчишь?
Оглянулся: Дик сидел у порога, в глазах не то вопрос, не то печаль.
— Тебя кто сюда прислал, отставник?.. А-а, понятно. Ну ищи… ищи…
Собака легла, потянула носом.
— Не стесняйся, ищи.
Любил Добрыня собак, поэтому и разрешил оставить Дика в комендатуре. Да и не хотел обижать Турова: пусть возится, может, на пользу пойдет наука. И ребятишки теперь как бы при деле, все время вокруг лейтенанта.
Дик юркнул в спальню и вышел оттуда с Маняшиным ботинком в зубах, намереваясь проскочить мимо Добрыни.
— Ну уж, милок, дай-ка ботинок! Ко мне!
Дик неуверенно остановился, соображая, чью команду выполнять — тех, кто послал сюда, или вот этого человека, сидящего на диване в нижней сорочке с полотенцем в руках. Команда повелительная, нельзя ослушаться. Не выпуская из зубов ботинок, ткнулся лбом в колени.
— Туров послал, что ли?
Добрыня смотрел в окно, пальцами перебирая теплую шерсть собаки. Мысли его текли неровно, то вихрились вокруг намечавшейся легенды, то уводили к Алешке, лейтенанту Турову, Сашко. А ботинок, который никак не выпускал из пасти Дик, неумолимо рождал воспоминания. Маняша умирала в полном сознании. Но он-то знал о приближающейся смерти и все, что говорила Маняша в последнюю минуту, считал бредом. «Их было двое, Вася, слышишь, был… высокий, длинный, худой. Худой смеялся и все повторял: «Мы за пазухой у начальника заставы, нас поймать невозможно». И он, Добрыня, чтобы успокоить жену, шевелил помертвевшими губами: «Да, да, Маняша, понял, понял». А в сущности, в сущности… что скрывается за этими словами «за пазухой…»?
Дик наконец нетерпеливо дернулся, завилял хвостом, поглядывая на дверь.
— Ну что, ждут тебя? Иди, иди, не советчик мне.
Спать уже не хотелось, но все же он вновь лег на диван: может быть, и округлится версия. И мысленно зашагал по участку. Исходил все тропинки, побывал на суглинке. Даже залез на дерево, но прыгать с него не стал, забрался на копну — и так и эдак ловчился и, прыгая, на лету повернулся лицом в сторону границы. Долго рассматривал отпечатки ног. Земля пахла солнцем. Это показалось ему странным… Оказывается, солнце имеет запах. И придет же такое в голову. А впрочем, что ж тут странного? Все пахнет солнцем. Он измерил рулеткой след…
— Не к границе, а в глубь территории он пошел! — вырвалось у Добрыни. — В глубь территории, — с убеждением повторил он. Контуры легенды очертились ярче. — В глубь… Теперь надо менять план поиска. Тимошину доложить, так, мол, и так… — И сам же ответил за Тимошина: — Утверждаю, Василий Иванович.
9
Это случилось там, в школьном отряде. Кайши вспомнил это с предельной ясностью…
Желтые глаза Розбин-Лобина сощурены, зубы обнажены — не поймешь, когда он смеется…
— Кайши! — крикнул Розбин-Лобин.
Удар инструктора пришелся в плечо. Кайши не упал, но вокруг своей оси обернулся раза два. «Начальник, я готов!» Другого ответа не дают. Сначала казались дикостью и побои, и проклятия русским, и то, наконец, что он, Кайши, — охранник тысячелетнего счастья, которое непременно придет, восторжествует через голод, лишения и смерть, потом чувство дикости исчезло, как и не было, и Кайши постепенно начал мыслить и действовать, как и его командир отряда… и этот Розбин-Лобин.
Инструктора пригласили в школу откуда-то. «Не нашего он роду-племени. Лютует пуще командира», — робко подумал Кайши и чуть приподнялся. Прицелился взглядом в оконце: деревья, а за ними дощатый забор, над которым нависал кусочек неба. По его окраске догадался — утро, но не раннее, а уже рабочее. В это время в отряде обычно начинались занятия. Командир ходил от взвода к взводу. Время от времени подзывал к себе того или иного бойца. «Кайши! — окликнул он как-то его. — Здравствуй, Кайши!» «Здравствуй, командир». — «Завтра пойдешь… Но на этот раз не к русскому доктору. Больница больше не надо… Изучишь систему охраны границы. На участке своего друга Василия Ивановича».
Недели три ловчился перейти границу и наконец удалось…
Со стороны комендатуры послышались голоса. Кайши прислушался: Алешка звал к себе Сашко. Потом Туров: «Дик, ищи, ищи. Пошел!»
Голоса стихли, и на Кайши снова нахлынули картины из жизни школьного отряда… Никто и никогда не называл командира полубогом, но так о нем думал каждый боец. «Кайши, застрели Харзу, у него мысли пошли в другую сторону». Харза всего три месяца в школе. От прежнего крепкого парня остались кожа да кости. Измотали в отряде. Высказывал недовольство. Кайши привел Харзу к оврагу. Тут же, неподалеку от казармы, приказал раздеться. Харза — стриженая сухая голова, на лбу нашлепка морщин, тяжелые брови нависли на глаза, бока гармошкой — одни ребра… «Эх ты, Харза, жаль пули». И прикладом по голове, очень ловко… Закопал кое-как. Уходя, прихватил обмундирование — нательное белье, хлопчатобумажный костюм и истоптанные ботинки. Ночью человек, занявший койку Харзы, вдруг свесил голые ноги на пол, дохнул в лицо: «Убить тебя мало!» И к животу кончик ножа…
«Убери нож…» Сосед не убрал. Еще больше опалил горячим дыханием. «Мразь!» Так держал почти до утра: Кайши лежал, а над ним висел нож, привязанный к потолку, покачивался то к носу, то к животу…
И еще одна встреча с Харзой запомнилась. Только раньше, еще в Москве. Поклон низкий, до колен… шея желтая, волосы на голове ежиком.
— Откуда?
— Тихо, Кайши!..
Харза повел его на скамейку. Сели. Поблизости ни души. За спиной здание университета — громадная скала.
— Кайши, я должен сказать тебе…
За рекой спортивные сооружения. Опрокинутой чашей виднеется центральная арена. В ней по зеленому полю быстро передвигаются стайки голубых и белых катышков.
— Кайши! Ты обязан вернуться в отряд… Вот возьми, выучишь наизусть.
Три книжечки, внешне похожие на молитвенник. Тут же одну из них раскрыл. Стихи. И веет от них духом древних философских мудростей.
— Ай ты лис! — Кайши размахнулся и под самое дыхание двинул костлявым кулаком. Сузились у Харзы глаза, губы сомкнулись — ни жив ни мертв.
Отошел. Поднял отлетевшие в сторону очки, переломился в поклоне и снизу горячим взглядом пронизал:
— Решай, иначе…
Не договорил. Решительно направился к дороге.
И Кайши побрел в общежитие. В комнате никого не было. В окно смотрела русская луна широким улыбающимся ликом.
На столе стояла бутылка водки, под ней записка: «Решай — петля или отряд?»
Сплюснутый диск луны пересекал капроновый шнур, закрепленный на крючке багета. И петля готова.
Он выпил стакан водки. Дверь с шумом распахнулась. Вошел Харза.
— Решил?
— Ха-ха-ха, — загоготал Кайши и на глазах у Харзы сорвал шнур. Налил два стакана водки. Чокнулся.
«Все это было, покойничек, было… Приказ командира для меня превыше всего!»
10
Легенда не очень-то понравилась Тимошину. Он не произнес: «Утверждаю, Василий Иванович».
Сказал лишь: «Приеду, на месте решим» — и больше ни слова.
Прилетел на вертолете. И, будто бы ничего не зная о поиске, спросил:
— Ну что у вас тут? — Сдвинул фуражку на глаза: чем-то недоволен. — Значит, в легенде вы утвердились на Кайши? А доказательства какие? Следы нарушителя потеряны. Да если бы и были обнаружены, как их можно сличить со следами Кайши?
— Пожалуйста. — Добрыня положил перед полковником два снимка.
…Добрыня завез тогда Кайши домой. А перед тем как ехать на контрольно-пропускной пункт, он взял его под руку и прошелся с ним по двору. И показалось тогда Добрыне, что крестьянин чуть вздрогнул, когда они ступили на взрыхленное место. А возвратясь с церемонии передачи, Добрыня по привычке заснял «автограф» Кайши.
Теперь и Тимошин находил сходство в отпечатках.
— Вот ты какой, Добрыня! Что же раньше-то не сказал?
Раньше! Конечно, мог сказать. Да дело-то уж очень ответственное и деликатное. Вдруг ошибся бы. Кайши за помощью приходил: «Наша, ваша — большая дружба». Вроде бы с открытой душой. Вот в чем дело, Тимошин.
Они сели в машину и отправились на участок, где, по предположению Добрыни, должны произойти основные действия по задержанию нарушителя границы. Система обнаружения в этом месте засекла движущийся предмет, но был ли это человек?..
«Почему именно здесь», — про себя рассуждал Тимошин, осматривая местность. Шли по тропинке, петлявшей в густых зарослях. Дозорка — тропинка шириной в один след — все кружила и кружила и вдруг пропала под ногами. Впереди простиралось поле, поросшее густой нехоженой травой. Тимошин наклонился, взором пошарил вокруг в надежде отыскать продолжение тропинки. «Смекнет или нет?» — подумал Добрыня. И сопровождавшие солдаты-автоматчики заговорщически переглядываются друг с другом. Тимошин заметил: поднял ветку, а под ней — темный зев лаза…
Спустились по лесенке и узкой траншеей вышли к самому берегу небольшой речушки, тихой, почти неподвижной. За рекой сразу лес — дерево к дереву — не продерешься.
— Но почему именно здесь? — осторожно произнес Тимошин. Он начинал понимать Добрыню: такие просто ничего не делают, у них все продумано и рассчитано.
— Кайши попытается попасть в тот лес, чтобы отсидеться там. Потом пересечет речку и направится к границе. В этой траве, как под водой, не заметишь. Но след останется. Нехоженое поле. Только когда это случится, никто из нас не знает. Удобное время нарушитель выбирает сам…
В заводи, поросшей камышами, хранилась лодка. Солдаты подогнали ее к берегу.
Плыли около часа. Открылась поляна с небольшим домиком. Тимошин заметил над крышей антенну и без труда определил — радиостанция.
Солдаты начали готовить радиостанцию. Тимошин и Добрыня присели отдохнуть на скамейке, сбитой из тонких жердей. Окрестность была охвачена мертвой глухотой — ни шороха деревьев, ни дуновения ветерка.
— Алешка мой все спрашивает, — с улыбкой начал Добрыня, — наступит ли такое время, когда через нашу границу не будут лазить шпионы? Лазить! Вот как ему представляется служба… Да я, откровенно говоря, и сам мечтаю о таком времени, чтобы без выстрелов, чтобы с открытым лицом шли, как добрый сосед к доброму соседу, — здравствуйте. Садитесь за стол. Хорошо бы, а?!
Добрыня вдруг приумолк, скосил взгляд на Тимошина: «Какое там к черту «здравствуйте». Вот поверил Кайши, а он мне под дыхало… Видно, и мне, как Дику, на списание пора! Вот поймаю Кайши — и рапорт на стол. Рыбалкой займусь. И сердце перестанет покалывать».
Добрыня не мог сидеть на месте, неудержимо потянуло к берегу, на то место, откуда он не раз слышал протяжный клич Кайши. Он пришел туда в сопровождении двух солдат. Едва солнце скрылось за лесом, как с той стороны донеслось:
— Ва-а-ич-ич…
Добрыня вздрогнул, по телу побежали мурашки. «Неужто… ушел?» С силой отогнал, вытеснил из головы страшную мысль. Прислушался: в ушах бухала кровь, удары сердца нельзя было остановить. Холодными руками он зажал уши, приказал себе: «Успокойся, слышишь, успокойся!» Удары будто бы смягчились. Убрал руки и тотчас же:
— Ич-ич-ич… Ва-а-силь-иль-иль…
— Ага! Сначала «…ич-ич», а потом «…иль-иль», значит, все-таки не Кайши, орет двойник.
Добрыня опустился на землю рядом с солдатом, зажал потеплевшими ладонями лицо и… захохотал от души, раскатисто и громко.
Потом, прервав смех, потянулся к солдату, дохнул в самое ухо:
— «…ич-ич», а потом «…иль-иль». Понял, Сидорин? Это же орет двойник Кайши!
11
— Отчего, Сашко, у тебя волосы как лепестки подсолнуха?
— Мама говорит: я красивая, самая красивая. Я и в лесу, и в траве заметная. Я не потеряюсь.
— Это верно, на километр видна. С такой в наряд не пойдешь…
— А почему?
— Ты демаска… демаскируешься. Поняла?
— А что такое демаскалуешься?
— Научись выговаривать, а потом уж соображай!
— Фу-ты, какой важный! Генерал! Не играю больше с тобой.
Но разве от Алешки уйдешь! Сашко так любит игры, которые придумывает Алешка.
— Ты меня не обижай. — Голос у нее дрожит, и губы поджала.
Алешка сходит с крыльца. Куда ему без Сашко, кем он будет командовать, кому отдавать распоряжения?! А план на сегодняшний день Алешка разработал потрясающий! Вчера, когда Сашко спала, домой звонил отец и строго-настрого наказывал: из городка не отлучаться. Если захочется погулять, чтобы дальше лохматой сопки ни шагу. Алешка долго не мог уснуть: смотрел в потолок, мечтал и видел… Видел лохматую сопку, а на ней, поросшей диким терном, в самой, самой густоте прячется тот, кого весь отряд разыскивает… Он, Алешка, этого нарушителя границы изловит. Как крикнет: «Руки вверх!» И тут подоспеет дядя Туров. И они втроем — он, Сашко и Иван Петрович — приведут бандита в комендатуру…
— Сашко, хочешь получить медаль «За отвагу», самую-самую настоящую? — вдруг спросил Алешка.
— А кто мне ее даст?
— Правительство.
— Я же маленькая, Алеша.
— В войну такие, как ты, в разведку ходили. Сам читал, как одному пацану орден Красной Звезды дали. А знаешь, сколько тому мальчишке было? — Алешке нужно убедить Сашко, он убавил возраст фронтовому герою до Сашиных лет. — Девять годиков и два месяца.
Сашко это захватило, она спросила:
— Медаль настоящая? Правдашняя?
Вот еще! Как будто бы награды бывают не настоящие! А может, она боится?
— Ты не трусиха?
— Я только ночью боюсь, когда темно-темно. И щекотки боюсь…
— Щекотать тебя никто не будет.
— Я же демаскалуюсь, Алеша.
Но это не беда. Алешка мигом сбегал в дом, принес старый материнский зеленый платок.
— Повязывайся.
Сам накинул его на голову Сашко, отошел в сторону и озорно улыбнулся:
— Матрешка!
— Теперь я не демаскалуюсь, Алеша?
— Нет! Пошли…
Туров, проводив взглядом ребят, направился к Дику, дремавшему под навесом. Пес поднял голову, раскрыл пасть, будто улыбнулся. Так встречает всегда и лапу подает, но без команды… Нехорошо без команды. Это никуда не годится… «Понял ты или нет?» Пес сел, вильнув хвостом, виновато склонил голову.
— Да, никуда не годится. Делай все по команде — закон нашей жизни, а твоей, Дик, особенно. Ты же ветеран! Пошли, старик…
Поле для тренировки — за дорогой. Вчера почти весь день готовил задание. Два раза менял обувь, петлял, пересекал ручейки, в отдаленных местах укрывал след слоем земли. Для собаки это высшая математика!
Дик поглядывал в лицо Турову, повизгивал, терся боком о его ноги, просил работы.
— Ищи! — произнес строго, приказным тоном.
Дик метнулся в чащобу, только ветки захрустели. Прибежал мокрый, грязный. В зубах — сапог. Не бросился по-ребячьи к Турову, а солидно, по-стариковски, положил находку рядом и ожидающе навострил уши в сторону лохматой сопки.
— Ты чего туда смотришь? Там Алешка и Сашко? Угадал, да? Молодец! Пошли!
Пес рванулся в сторону сопки. Туров остановил собаку.
— Опять без команды?.. Такой опытный и… не понимаешь. След! Ищи!
Пес обежал куст и с поджатым хвостом возвратился.
— Ищи, Дик!
Опять возвратился. Сидит, а в глазах какая-то просьба.
— Ты что, боишься? Прицепил поводок.
— Дик, ищи!
Повел носом по земле, уверенно взял след и с силой рванулся вперед.
Не сбавляя скорости, притащил Турова к окончанию следа. От быстрой ходьбы Туров взмок. Но все это пустяк! Туров радовался успеху Дика, может, придет вторая молодость. Он наклонился к псу, чмокнул его в холодный нос.
Дик зарычал на Турова, как на чужого: глаза его налились кровью.
— Это как же понимать? Дик, старичок, что случилось? Не мог же ты без повода озлобиться…
Пес вдруг обмяк, сел, глядя в лицо Турова. В потухших глазах его уже не было озлобленности, теперь они подернулись мутной водянистой пленкой, как у человека, перед тем как заплакать.
12
Кайши рассуждал: «У врага за пазухой не опасно. Но сколько можно сидеть на этой сопке вот так? День, два? Неделю… В конце концов могут случайно обнаружить».
Первый день ушел на устройство «амбразур»: «простриг» руками два оконца — одно в сторону городка, другое — в сторону лесной гряды, темной и сплошной. Кайши ползал от оконца к оконцу: темный лесной вал манил своей безопасностью — попасть туда, в эту непроходимую чащобу, можно через поле, поросшее нехоженой травой. В конце концов он туда и пойдет, когда кончатся банки с пищевыми концентратами. Воды хватает: в колдобинах после дождя она сохраняется долго.
Теперь, кажется, уже скоро… Не вечно же будут держать усиленные наряды. Не вечно. Потом он пересечет луговинку, нырнет в темный лесной омут и подкараулит момент для прыжка к реке. Не вечно же все щели будут закрыты. Тревоги проходят, и люди, как птицы, успокаиваются. И вот именно тогда…
Он хохотнул от удовольствия и тут же поперхнулся, так и остался сидеть с открытым ртом…
К сопке приближались Алешка и Сашко. Взгляд его упал на капроновый шнур, сложенный восьмеркой. Вообразил: сильным махом набрасывает петлю. «Здравствуйте, дети!.. Хорошо, хорошо, сейчас больно не будет». Ослабит петлю. «Теперь рассказывайте, кто ваши папа и мама».
И тут же опять вспомнил о Харзе. «Кайши, неужели ты меня убьешь?» Задал глупый вопрос, стоял перед занесенным для удара прикладом. «Я не знал, что все это так обернется. Зачем друг друга убивать?» Смешной Харза. Разве я тебя убил? Командир приказал. А ему инструктор, по видимому… Розбин-Лобин. Он, Харза, главнейший в отряде. Он подогревает командира…
И о Сашко и Алешке подумал: «Закричат, близко от городка… Увести подальше, меньше риска. Меньше!»
Лужица размером с сито. Вокруг какие-то следы.
— Птица ходила. Цапля! — определила Сашко. И с достоинством сощурила глазенки. — Ну что, не угадала? — Ей приятно и оттого, что не ошиблась, и оттого, что под деревом прохладно, тянет ветерком.
Алешка посерьезней, ему надо исследовать, уточнить. Всякие цапли бывают… В кармане увеличительное стекло, складной метр. Он опускается на колени, сквозь лупу долго рассматривает отпечатки.
— А вот и не цапля!
— Тогда дикий гусь! — Сашко и на это согласна, лишь бы следы были от птицы.
— Похожи на человеческую руку…
— Выдумщик!
— Лазил он тут… Видишь — вмятины, это колени.
Сашко хихикнула. Алешка всегда выдумывает страшные истории, но на этот раз ей не страшно. Сочиняй, сочиняй, Алеша…
Следы вели на курган. На самой маковке — плешинка. Алешка оглянулся: свежесломанные ветки. Мало ли кто в лесу может сломать! Кабан, сам Михайло Топтыгин, играя со своими медвежатами. Поселок рядом, с пасеки медом тянет. Вот и забрел косолапый.
— Ну? — поторопил Алешка с ответом.
— А что я должна сказать?
— Чья эта работа?
Сашко засмеялась. Уж больно смешно Алешка морщит лоб, когда собирается разыгрывать кого-нибудь.
— Знаю. От жары тут прятались коровы.
Но Алешка уже заметил: ветки сломаны с вершины, с макушек, кто-то ощипал их и разбросал в разные стороны.
— Пошли!
Спустились с кургана. Алешка впереди, Сашко вплотную за ним, дышит горячим в затылок и повторяет свое: «Коровы прячутся от жары, я сама видела».
С километр прошли по траве, как вдруг Алешка остановился, ткнул на разрез в траве:
— Это ты видела?
Алешка присел, поискал взглядом отпечатки. Ему повезло: в густоте открылся песчаный глазок, а на нем рисунок подошвы с каблуком.
— Тихо! Сашко, тихо, не подходи…
Измерил сантиметром — 42-й размер!
— Кайши! — шепнул так, как будто тигра-людоеда заметил. — Кайши…
Сашко нисколечко не страшно: Кайши так Кайши — Алешка может все придумать. Она присела, стала рассматривать плешинку. А Алешка вдруг начал припоминать…
На крыльце отец и полковник Тимошин. О чем они там разговаривают, может, о Дике? Прислушался. «Размер обуви у Кайши сорок второй». Это папин голос. «Это уже печка, от которой можно плясать», — подхватил Тимошин.
— Человек прошел, — наконец сообразила и Сашко. — Я ведь тоже разбираюсь.
Верно, Сашко, соображаешь! Но ты еще не знаешь, чей это след! Ах, Сашко, Сашко… Очень хотелось Алешке посмотреть ей в глаза, сказать что-то хорошее: хотя она и городская, но границу уже может читать. Сейчас он так и скажет…
…Не успел! Что-то тяжелое и костлявое прижало его к земле. Тонкий шнур обвил руки и ноги. Потом Алешка увидел человека. Глаза, как у лесной кошки. И пистолет в руке черным дулом смотрит Алешке в лицо.
— Будем немного играть, но без шума, ребятки… Молчать!
13
Странное поведение Дика на тренировке осмыслилось гораздо позже. Пес, по-видимому почуяв беду, рвался к ребятам. (Ну как после этого не поверить в самые, казалось бы, невероятные случаи, связанные с рассказами о собаках, об их предчувствиях!) Дик, будто бы поняв состояние Турова, сильнее натягивал поводок. С вечернего края неба надвигалось большое облако: дымчатые мазки на нем предвещали ливень с грозой. Хотя бы выплеснуло это облако воду в стороне, за рекой…
Лохматая сопка осталась позади. Пес все тянул и тянул… Шел уверенно, и это несколько успокаивало Турова: далеко ребята не могли уйти, лишь бы дождя не было.
О нарушителе границы почему-то не думалось. В ушах стоял бас Добрыни: «Еще этого не хватало! Возьмите Дика, другой свободной собаки в комендатуре нет, все задействованы, и поищите ребят вокруг».
— Ты же знаешь, лейтенант, Алешка мой с фантазией парень. Учти это, Иван Петрович. Ну, пожалуйста, благодарствую.
Благодарствую… Конечно, сам бы он ринулся за Алешкой, да нарушитель связал его по рукам, и отпроситься у Тимошина не посмел.
— Туров, взял бы ты с собой солдата, одному нельзя, сам знаешь. — Это посоветовал дежурный по комендатуре. Подумал: «Обойдусь, тут же рядом, а если что, вернусь». Пистолет все же взял.
Обнаруженный след увлек: Туров не в силах был остановиться.
Он догадался, что ребята пошли «ловить нарушителя границы». Дети подражают взрослым. Хорошо это или плохо? Да, конечно хорошо.
Неприкосновенность границ… Красивая штука эта неприкосновенность!.. Под славным городом, под Киевом, на тех степях Цецарских стояла застава богатырская.
Вон еще с каких времен идет неприкосновенность границ! Этим живем, дышим… И Алешка хочет так поступать. Но поторопился малость… Твой срок еще придет… А может, к тому времени и не будет застав? Едва ли, что-то не похоже. Будут зариться и пробовать, пока совсем не сломают себе зубы. На заставе был Илья Муромец, был Добрыня Никитич, млад есаул — Алешка… Алешка все же… Только не поповский сын, а комендантский сын, а с ним его боевая спутница Сашко… Маленькая Сашко…
Опять заныло сердце, так заныло, что хоть криком кричи! То Алешка, то Сашко с предельной четкостью, как наяву, в памяти рисовались. Плыла огнистая головка по траве, и голос чудился: «Я боюсь только ночью, когда темно-темно. И щекотки боюсь». Алешка — выгоревшие на солнце волосы, глаза пройдохи, и рот чуть скривлен — что-то опять придумал.
14
Ночь — без остановки. Речку пересек сразу же, как только оборвалось травянистое поле. И еще два часа пробирался. С трудом. Лес — стеной. Кайши прикинул — километров десять осталось позади. Может, и больше, ведь шел без отдыха. Теперь можно и поговорить с ним. Насильно посадил Алешку к дереву — спиной к стволу.
— Здравствуйте, детки-конфетки! — обнажил редкие зубы Кайши.
Ребята сидели перед ним — ни живы ни мертвы, мокрые, иссеченные ветками лица. Откуда-то проник луч солнца, упал на Алешку. Но первой отозвалась Сашко.
— Мне холодно, Алеша. — Она пошевелилась, приподняла голову. Смотрит глазенками-пуговками, видимо не совсем понимая, что произошло. Лицо в конопушках, ранка на щеке, след крови запятой упал под ухо.
Алешка не подавал признаков жизни: он сообразил — схватил их недобрый человек, возможно, тот самый нарушитель, которого ищут пограничники. И ему, Алешке, наплевать на боль и холод; он не откроет глаз до тех пор, пока бандит не сочтет его мертвым. А потом перегрызет веревку, внезапно обезоружит противника. Молчи, Сашко, молчи. Не проси пощады.
Кайши подсел к Алешке, холодными костлявыми пальцами раздвинул веки:
— Не притворяйся!.. Здравствуй, Алешка! Да не валяй ты дурака, открой глаза! Вот так, узнаешь?
Алешка вспомнил: в больницу ходил, бедного крестьянина ягодами угощал. «Там у вас голод… И бесплатно не лечат. Я живых капиталистов не видел. И кулаков тоже не видел, они, наверное, злые? Расскажите, пожалуйста». На белой подушке улыбающееся лицо, глаза желтые, щелочкой. И рука желтая торчит из-под одеяла… «Васа хоросо, хоросо. Наса совсем плохой. Хоросо васа жизнь. Ягода лесная совсем другой, слаще… Га-га-га». Зубы белые-белые, а язык серый.
Алешка попытался схитрить, заулыбался.
— Наша и ваша — большая дружба. Здравствуй, Кайши! Заблудились, что ли? Могу дорогу показать в комендатуру.
— Га-га… Здравствуй, Алешка.
Сашко замигала ресницами.
— Я же говорю: дядя играет. Ну развяжите меня, больно рукам. Слышите, мне больно. Я буду плакать.
— Сейчас, сейчас.
Кайши вскочил, покружил возле Сашко и опять к Алешке:
— Ты это место знаешь? Где лучше пройти к границе?
— Ты Кайши? — спросил Алешка.
— Слышишь? Спрашиваю…
— Сто километров прямо, а потом кругом столько же. — Алешка отвернулся: чего я с ним буду разговаривать. И ты, Сашко, молчи. Он ищет путь для перехода границы. Это точно. В проводники думает нас взять. Похолодел от этой мысли и притих.
— А ты знаешь? — наклонился Кайши к Сашко. — Отвечай, далеко граница?
— Это секрет, дядя. Тайна. В такую игру мы не играем. Развяжите мне руки…
— А скажешь?
— А вы настоящий шпион? Или… понарошному?
— Ты, девочка, сошла с ума. Мне надо к Василию Ивановичу, к Добрыне. Поняла?
— Поняла…
— Молчи, Сашко!
Кайши подпрыгнул от Алешкиного выкрика. «Сын коменданта… Хоросо. Хоросо. В таком случае с тобой разговор один».
Он выхватил пистолет и нацелил его в Алешку.
— Вот так, скажешь?
Темный зрачок дула приближался медленно и застыл у самого переносья. Алешка смотрел на этот зрачок застывшим взглядом, спиной прижимаясь к шершавому стволу сосны: хотелось отодвинуться, но сосна не поддавалась, лишь почувствовал: вершина дерева качается, поскрипывает. Во рту стало сухо, и он с силой проглотил слюну.
Алешке было одиннадцать лет, и жил он поступками книжных героев да дыханием границы, ожиданием приключений. Сию минуту же все это — быль… Вот он, враг, перед ним, тот самый нарушитель границы, с которым Алешка в мыслях встречался не раз, выдумывая всякие необыкновенные истории. Только обелиск на могиле матери иногда как бы отрезвлял Алешку, чуть ослаблял фантазию и заставлял задумываться о жизни реальной и сложной, порой жестокой. Но только на миг, всего лишь на один миг.
Темный зрачок пистолета холодил переносье. Не выстрелит. Услышат в комендатуре. Разве он об этом не знает… Прибегут и свяжут. Их, наверное, уже ищут… Только бы Сашко не подвела. Она девочка… Уже плачет… Сашко, не плачь!
Но это лишь мысленно, а сказать ей Алешка ничего не может — язык вдруг стал деревянным. И лицо вспотело. Отчего бы это? Ведь так зябко, зубы постукивают.
— Не надо убивать! — закричала Сашко.
— Дурочка! Не разговаривай с ним!
Наконец-то язык отошел. Алешка уперся ногами в землю, скользя по стволу спиной, встал. Эх, если бы руки не были связаны! Придумал бы что-нибудь. А теперь что можно сделать… Закричать на весь лес…
— А-а-га-га-га!
И захлебнулся, как там, в траве, от противной шершавой ладони Кайши. «Га-га-га» — прокатилось по лесу. И Сашко приподнялась и тоже:
— А-а, га-га-га! Не трогайте нас! Отпустите!
Кайши схватил Сашко. Повернул лицом к Алешке. Крутит головой по сторонам. У Сашко бьется сердце — хук-тук-тук. И вся она дрожит.
— Уговор такой: вы меня проводите к границе, и я вас отпускаю. Только тихо, ни звука!
— Я демаскалуюсь. Видите, какие у меня волосы, они далеко-далеко заметны. Нас поймают.
Кайши подумал, действительно, у нее голова — подсолнух на зеленом фоне… Да, да, на километр заметна.
— Где твой платок? Ты его сбросила?
Не она, Алешка зубами стащил его при первой остановке, когда перешли речку и нарушитель менял обувь — ботинки на сапоги, и, наверное, другого размера. Об этом смекнул Алешка. Платок он снял, чтобы пограничникам легче было найти их. Сашко только сейчас догадалась. И она, конечно, не скажет, куда делся платок.
— Ты его сбросила?
— Я всегда хожу с открытой головой. Поэтому у меня волосы красные. Солнышко их красит.
— Когда ты его сбросила? Вспомни!
Да разве вспомнит, разве скажет! Кайши понял: не скажет. Только время можно потерять. Проклятый платок! Он наведет на след. Подальше от этого места…
15
Следы вели к реке. Они печатались на траве четко, и Турову не представляло особого труда определить, что тут прошел взрослый человек, не Алешка и не Сашко. Как быть: продолжать идти по следам или искать ребят? Собака натягивает поводок, просится вперед. И кому принадлежат эти следы? Прошел один, — значит, кто-то посторонний: в наряд не посылают по одному.
Теперь можно и выстрелить, услышат в комендатуре. Он нажал на спуск раз, второй… Горячим шибануло над головой: бах-ха-ха. Он еще раз выстрелил. Поторопил Дика:
— Вперед, вперед!
Через минуту, другую — стоп: крутой берег реки. Собака рванула в сторону, и он побежал за ней. Метров через сто закружил Дик, заметался то к реке, то от реки.
— Дик, след! Ищи!
След пропал. Мокрая от росы трава выпрямилась на солнце.
— Дик, след! Сле-е-ед! — закричал Туров, встревоженный беспомощностью собаки. Это как будто повлияло на Дика, он потянул к реке.
Значит, след там, за рекой. Но кто рискнет в такую чащобу идти, из нее знающему место и то трудно выбраться — непроходимый сплошняк. Пересекая в низовьях речку, лес тянулся к самой границе кудлатым овалом. Туров поколебался некоторое время и прыгнул с обрыва, поплыл к противоположному берегу. Вслед за ним рванулся и Дик.
Вот и берег. Десять саженей лужок, и сразу темная лохматая гора леса, молчаливая и таинственная. Дик шумно потянул носом и махнул с места громадным прыжком. Потом остановился, припал животом к земле. Туров приготовил пистолет, ползком приблизился к собаке.
— Что случилось?
Дик ждал команду, тело его чуть подрагивало. Туров охватил взглядом местность, ничего не заметил.
— Ищи!
Это был платок, мокрый, измятый. Туров рассматривал его как диковинку, хотя сразу опознал. Алешка и раньше давал его Сашко, чтобы та «не огнилась» в играх. Она охотно покрывала им свою голову и спрашивала: «Теперь я не похожа на подсолнух и не демаскалуюсь?»
«Эх ты, Алешка, Алешка, выдумщик великий. Хороший ты парень, да немножечко чересчур берешь».
— А-а, го-го…
Прислушался. В ответ глухое, шепотливое эхо.
— О-о, го-го…
Молчание, придавленная глухота.
В чащобу почти не проникает свет. Деревья переплелись, сквозь них нелегко пробраться. Возле высокой сосны, куда привел Дик, опять обнаружил отпечатки ног и Алешки, и Сашко, а рядом с ними след тех же ног в обуви сорок второго размера.
— Дик, что за чудо — не прилетели же ребята сюда по воздуху?
Даже посмотрел наверх: из-за ветвей небо не видно. Но все же как могло случиться — шел один человек и вдруг три следа?
— О-о, го-го-го-о-о-о! — вновь закричал Туров.
В ответ немота — придавленная, глухая. Далеко, значит, ушли, голос до них не долетит. Надо спешить. Он поторопил Дика и заметил: бока у собаки опали, и не та уже прыть, поводок не натягивается. Устал Дик — годы не те, и покормить нечем. Да и сам Туров не лучше — темно в глазах, земля качается под ногами.
Туров, держись! Туров, не сдавайся!
Впереди виднелось взгорье. С ходу подъем не одолели. Собственно, первым сдал Туров — ноги ослабли, подломились, и он чуть не сполз вниз. Дик придержал, ухватившись зубами за ремень. Когда укрепился подле коряги, переждал с минуту, лбом ткнулся в собачью морду. Спасибо, дружище!
Дик ощерился, чисто по-собачьи, как всегда, когда разговаривал с ним Туров, — во всю пасть… И тут же навострил уши, поднял голову. Туров шепотом, в самое ухо: Алешка! Слово, знакомое Дику. Вскочил и разом одолел кручу. Теперь Турову легче вскарабкаться. Пес уперся лапами и ждал, пока Туров не оказался рядом.
— Алешка! Ищи!
Дик поводил мордой и потянул вниз, к реке. Кособоко бежит, след держит. Туров, поспевай!
16
За рекой Кайши бухнулся на землю — ноша не так уж легка. Алешка и Сашко слетели с его плеч. Сашко вскрикнула от боли…
Решение пришло там, под сосной, созрело в один миг. «Хоросо, хоросо, командир! Кайши обязательно вернется. Га-га, Василий Иванович, рука не поднимается стрелять в сына». Алешку он будет вести впереди, а если потребуется, поднимет на грудь. Девочку приторочит к спине. Пойдет в открытую. Никто не выстрелит. А уж он, Кайши, к себе не подпустит — ни человека, ни собаку, сразит первой пулей.
Сашко плакала. Алешке хотелось чем-то помочь ей. Но так, чтобы Сашко не подумала, что ему, Алешке, тоже нелегко, что и он сам страшится этого бандита и готов расплакаться. Нет, нет, Алешка не таков! Он скривил рожицу, подмигнул:
— Аля-а, аля-ля, вышла кошка за кота…
— Мне нисколечко не страшно, Алеша. Я просто есть хочу. — Она смотрит на лежащего вниз лицом бандюгу. Алешка понимает: Сашко, наверное, просто храбрится, но и то хорошо.
Кайши перевернулся на спину, разбросал длинные руки, склонил голову и смотрит на ребят, прикидывая, как будет переходить границу. На виду у пограничников. Закричит ли Алешка? Надо, чтобы закричал: «Товарищи! Я сын Василия Ивановича. Не стреляйте!»
— Ты будешь кричать по моему приказу.
Алешка делает вид, что ничего не слышит, подмаргивает Сашко:
— Вот так, и не хнычь!
— А я уже не плачу.
— Ты молодец, Сашко!
Кайши прыжком к Алешке. Сашко зажмурилась, услышала удар. Не видела, как Алешка выплюнул зуб. Открыла глаза: у Алешки из угла рта тянется красная ленточка. Это же кровь!
— Алешка!..
А он усмехнулся и глазенками в лицо Кайши:
— Аля-ля, аля-ля. А ты фашист!
«Мошка. Козявка». Замахнулся, но не ударил. Скривил тонкие губы и бряк на землю как подрубленный. «Мошка — одного удара хватит». Вытащил тюбик спирта — и в рот. «Фашист»…
Нет, ничем не вытеснишь это слово, засело в голове… И опять тут Харза представился: стоит у обрыва. «Зря все это затеяли. Сегодня ты меня, а завтра кто-то тебя по башке прикладом. Отпусти, век не забуду». А командир из-за угла казармы наблюдает. Не один, конечно, с Розбин-Лобиным. Проверка на преданность.
Свой своего — бац! И нет этому конца.
Кайши поднялся весь черный, будто обгорелый. Схватил Сашко — и за спину, как переметную суму. Алешку поставил впереди себя и ткнул в спину пистолетом — пошел!
17
Тимошин примчался утром. И прямо с порога:
— Пригрел змею! Пограничного волка овца вокруг копыта обвела.
Достал из портфеля фотокарточку. Добрыня узнал сразу. Вот оно как может случиться! Наша — ваша… Подлеца учили почти бесплатно, лекции читали лучшие профессора. А ты, гад, чем платишь?!
— Кайши прошел специальную школу, — продолжал Тимошин.
Добрыня — дитя границы. Врагов он видел всяких… О, за двадцать пять лет — что уж говорить — с кем только не встречался лицом к лицу! А вот такого, чтобы «ваша — наша», не встречал. Все в нем вдруг похолодело, и он с дрожью в голосе выкрикнул:
— Не сам же он, а кто-то его повернул против нас!
Тимошин карточку в портфель — и тоже:
— Да, перевернул. Лицом вниз, а затылком к свету.
Сердце отошло, дрожь утихла. С минуту Добрыня сидел молча, еще одетый в маскхалат. В поиск брошены дополнительные группы. Следов на участке предостаточно. Не каждый поймет, отличит. Требуется опытный глаз… Тимошин упрекает:
— Фигаро здесь, Фигаро там. Плохи твои дела, Добрыня, коль не надеешься на подчиненных. Но Алешка, Алешка…
— Товарищ полковник, разрешите самому?
Тимошин налил чай, помешал ложечкой.
— Понимаю, — отхлебнул. — Кто поиском управлять будет?
— Следов много, не каждый в них разберется.
— Понимаю.
Тимошин еще отхлебнул глоток. К аппарату подошел.
— Соедините со штабом.
Чай допил. И, словно бы не он упирался, а Добрыня, сказал:
— Что же вы не идете? — Вслед добавил: — Не рискуй… сильно-то.
…Зеленое море без края и конца тянется, тянется. Мелькнет голубой глазок озера, да речушка извилистой ниткой прорежет сплошняк… И снова тянется, тянется. И будто бы кипит, пенится. Такой с самолета видится тайга. А на земле совсем иная картина — сопки, овраги, горы, реки, протоки… Лес шторит небо, кедровник, пихты и дубы. Редко встретишь поляну, да и та поросла травой в сажень ростом. В этой чаще звери — кабан, медведь, белка, колонок, рысь, а то и тигр. Вот и не рискуй…
Поначалу еще остерегался, невольно вздрагивая от треска кем-то сломанной ветки, от неожиданно сверкнувших в темноте глаз секача или тигра. А потом, потом… Какой там риск!
На участке много таинств и неожиданностей. Даже для него, Добрыни, хотя он сам этого и не считает. Все же предпочел ехать на лошадях — таким-то образом в тайге надежнее.
«Ну что ж, вперед, Добрыня, вперед!» Это он сам себе. Лошадь упиралась, хрипела. Бабаев, объезжая стороной, уперся в стремя, приподнялся. Комендант виден по грудь.
— Товарищ подполковник! — Бабаев показал рукой, как лучше ехать, и вдруг пропал из виду.
— Бабаев!
Что-то захлюпало, захрипело. Добрыня соскочил с седла. Лошадь за повод. Ну, пошла, пошла… Ах, какая неожиданность — конь Бабаева провалился в трясину! Шляпа!
— Не шевелись, засосет! Слышишь, спокойно.
Бабаев смекнул, а лошадь бьется, пытается выскочить и все больше погружается.
— Буян, спокойно, спокойно.
Кинул Бабаеву уздечку. Напрягся и вытащил солдата.
— Надо смотреть!
Но не строго: подобные случаи были. Как ружье один раз в жизни стреляет без заряда, так и тайга: остерегайся не остерегайся — один раз угодишь в ее капканы.
— Спокойно, спокойно, Буян.
Лошадь не человек, страх не одолеет. Вся дергается, скалит храп и голосисто ржет. И приказать ей нельзя. Ржание далеко слышно, по всей округе. Это совсем никуда не годится. Добрыня вынул из кобуры пистолет. Намочил платок из фляги и обмотал им дуло пистолета, чтобы выстрела не было слышно.
Бабаев — в слезы, загородил собой коня.
— Товарищ подполковник!
— А что прикажешь делать?..
— Не надо. Мы ее вытащим.
Кинулся к валежнику. Набросали бревен.
— Буян, становись на опору. — Тянул за повод. — Ну же, ну…
Лошадь рванулась. Повод лопнул. Какая досада!
Буян глубже осел, по самую шею. Смотрит на людей помутившимся взглядом. И уже не храпит, только подергиваются губы. Отвернулся Добрыня, чтобы не видеть, как умирает лошадь и как плачет Бабаев.
Бабаев вел коня Добрыни. Впереди шел подполковник. Его широкая спина чуть сгорбилась. Но шел он размашисто и все глядел по сторонам. Алешкин след он опознает сразу. Алешкин… Неужто он забрел сюда, в такую даль? Не верилось, а глаза искали именно Алешкин след. «Бродяга, я с тобой поговорю. Скорее бы полный мир, без шпионов и диверсантов. Без драки скрытой и открытой. Ха-ха… — засмеялся в душе Добрыня над своей наивностью. — Чего захотел! Полной гармонии мыслей и взглядов. С кем? Они до издыхания будут отстаивать свое. Они, это же те, которые перевернули таких, как Кайши, вниз лицом, чтобы не видели настоящей правды».
— Бабаев, ты когда-нибудь был за границей?
Бабаев, испачканный болотной грязью, обнажил белозубый рот:
— Кроме границы, нигде не был. А вы, товарищ подполковник?
— Ну пойдем, пойдем…
Добрыня бывал. Тоненькая девчушка с напомаженным лицом и пышными буклями, корреспондентка газеты, прокуренным голосом спрашивала: «Мистер Добрыня, почему бы вам не открыть границу?! Чтобы без пропусков вы к нам, а мы к вам?» «Пропуска — не тяжесть, они не обременят! И не мы их придумали, госпожа корреспондентка».
Вечером на приеме в честь советской делегации она опять заговорила первой: «Мистер Добрыня, вы можете пригласить меня к себе? Я хочу написать книгу о советских пограничниках». «Пожалуйста, создадим вам все условия». — «О, мистер Добрыня, а ваш Дзержинский меня не арестует?»
Сколько их там, перевернутых вниз лицом?
Добрыня отогнал эти мысли.
— Давай, Бабаев, обследуем эту полянку. Я пойду сюда, а ты левее. Далеко не углубляйся, там наряды. И вообще, не упускай меня из виду.
Поляна, как язык, кончиком упирается в берег реки. Едва разошлись, как в лесу громыхнул выстрел. Потом протяжное:
— Го-го-го-о-о-о…
18
Эхо выстрела походило по лесу и замерло в отдалении. Кайши сличал карту с местностью, прикидывал в уме оставшееся до пограничной реки расстояние, как в небе появились три сигнальные ракеты. Алешка и Сашко заметили их одновременно.
— Наши!
Кайши погрозил Алешке пистолетом:
— Молчать!
Ракеты — пустяк. Кайши знал: когда-нибудь зажмут, окружат. Важно другое — до реки не более километра, еще рывок — и он будет у цели… Стрелять не посмеют: девочка за спиной, Алешка впереди на привязи. В решающую минуту он возьмет Алешку на руки.
Кайши с облегчением вздохнул. Даже представил свою встречу там, в отряде, с командиром и Розбин-Лобиным.
…Ведут в столовую, кормят. Подает сам командир. Наливает стакан водки. Едва успел опрокинуть — густой шелест и на столе стопка денег. «Это твое, Кайши. Ну рассказывай». Тут же и инструктор, всегда в штатском, аккуратненький, прическа с пробором, колючий взгляд. Диковатая фамилия — Розбин-Лобин. Командир перед ним вперегиб. Конечно, не при всех, а в узком кругу, как сейчас, когда их трое.
Расспросы, расспросы… И вдруг Розбин-Лобин недоверчиво: «Почему отказала рация? Ты обязан был подтвердить свое нахождение там!» У командира сжимаются кулаки. «Хорошо, хорошо. Но где доказательства, что рация вышла из строя?» А рацию он выбросил, утопил в реке. Не поверят…
Деньги шмыг со стола в портфель.
«Разве я за деньги?! По убеждению! За великое дело!» — «Ха-ха-ха…» — «Хи-хи-хи… — Розбин-Лобин не смеется, а пищит. — Ты за кого нас принимаешь?»
Он, Кайши, за стакан. Буль-буль-буль… И в упор: «Мне не верить? Кайши не верить?!»
Могут и так встретить. Отряд — это жизнь в угаре, будто под гашишем!
Размяк на мгновение. К Алешке подполз, уперся раскосым взглядом.
— Свидетелем будешь! — сорвалось непроизвольно, но он тут же ухватился за эту мысль. «Розбин-Лобин может не поверить, что рация действительно вышла из строя. Так уже бывало. На всякий случай доказательство надо иметь. Одного из них в свидетели… Переплыву».
Крутой спуск. Потом подъем… Река!
Быстро пошел во весь рост, чтобы видно было всем.
19
— Го-го-го-о-о…
— Туров, товарищ подполковник, слышите? — сказал Бабаев.
Из лесу выскочил Кайши.
— Что за диковинка?
— Погоди, погоди, Бабаев.
Бинокль приложил к глазам: человек высокого роста, а на спине у него… «Погоди, погоди, Бабаев». Это он про себя, вслух же:
— Сашко! А Алешка взят на руки.
И пошел навстречу, еще не понимая, что бы это все значило.
Грянул выстрел. Пуля дзинькнула рядом. Добрыня отскочил в сторону и рывком одолел метров десять. Опять выстрел…
— Папа!
Кайши Алешке на ухо, злобно, с присвистом:
— Громче!
Сашко увидела бегущих пограничников:
— Дяденьки, это правдашний… Скорей!
Кайши резко обернулся. Шли четверо цепочкой, а справа еще больше. Были еще далеко, но винтовочный выстрел мог достать. Кайши сказал об этом Алешке, пояснил:
— Тебя первого убьют, кричи, чтобы не стреляли. Ну!..
Алешка перекосился от удара в бок.
— Аля-ля, аля-ля…
Другого Алешка ничего не придумал.
А Сашко во весь голос:
— Это правдашний, дядя Вася!..
По лицу Добрыни пробежала судорога. Он всего ожидал: и выхода Кайши на эту поляну (вся система поиска была организована так, что нарушитель мог выйти из лесу только сюда), и что Кайши сразу пустит в ход оружие. Но только не этого, не такого коварства! Нужно было принять какое-то особое решение. Но какое? Стрелять опасно, кому-то отдать приказ на сближение — рискованно: погибнет. Просился Бабаев:
— Разрешите же! Товарищ подполковник…
— Назад! Приказываю!
Кайши подал голос:
— Василий Иванович, будь благоразумен. Сын тебя просит об этом… Я погибну только вместе с твоим сыном. Слышишь, Василий Иванович, прикажи, чтобы не стреляли, пока я не достигну середины реки.
Алешка боднул головой в подбородок Кайши.
— Папа, стреляй… Добрыня…
И захлебнулся от потной ладони Кайши.
— Я по ногам, разрешите… — Бабаев прицелился, посадил на мушку коленный сустав Кайши, а рядом Алешкина нога…
— Не стрелять! Приказываю не стрелять! — выкрикнул Добрыня громко, чтобы слышали все: и те, кто идут со стороны леса, и те, кто спешат вдоль реки…
«Маняша, я сам. Ах, Алешка, Алешка». Добрыня припал к траве. Огромные руки его напружинились, и он сдвинулся с места, пополз. Видел лишь шагающие ноги Кайши да свой пистолет, который чуть подрагивал. Никогда не было, чтобы у Добрыни в руках дрожало оружие. «Эх, Маняша, похоже, что подносился. И сердце колотится. Ишь распрыгалось… Не имеешь права!»
У Турова онемели руки сдерживать Дика. Пес, как очумел, тянул и тянул. На губах пена, глаза красные. Ах ты, собака, погоди, погоди.
Да, это подполковник. Это он… Туров даже дыхание затаил: почему подполковник, а не кто-нибудь другой?
Алешка наконец освободился от потной ладони на миг и успел крикнуть:
— Папа, стреляй!
Но выстрелил Кайши. Добрыня выпрямился и тут же осел, вдруг обмякший. Туров спустил Дика:
— Фас.
Снарядом пролетел пес, лишь вихри на траве остались.
«Ну, командир, это последнее!» Кайши вскинул пистолет. Нажал на спуск. Дик вздыбился, на лету вонзил зубы в кисть Кайши. Тогда Кайши взял пистолет левой рукой. Дик мог бы разжать пасть, юркнуть за спину, увернуться от смерти. Он не сделал этого. Дик ждал команду. Только глаза его зыркнули раскаленными угольками в лицо чужого…
Всего одну минуту лежал Добрыня в забытьи. Пришел в сознание, поднялся на колено, охватил взором поляну. К нарушителю полз Бабаев. Туров шел напрямик, косолапо, загребая траву сапогами.
— Туров, вернись… Туров! — Пересохшие губы только шевелились.
Кайши целился Турову в лицо. Бабаев настиг лейтенанта. И был готов совершить прыжок, чтобы сбить с ног нарушителя. Выстрел Кайши опередил его.
— Товарищ лейтенант!
Бабаев все же изловчился, подмял Кайши под себя. На помощь подоспели другие пограничники.
Алешка, падая, ушибся. Веревки на нем лопнули. Поднимаясь, он увидел Сашко на руках у Тимошина. Бабаев разжимал мертвую пасть Дика, чтобы освободить руку бандита.
— Иван Петрович, — позвал Алешка Турова и заметил отца, стоявшего неподалеку. Хотел было по-прежнему: «Добрыня, приветик!» Но куда там!
— Что с папой? Он ранен? — хотя видел: Добрыню перевязывают и голова отца все больше и больше покрывалась белым…
А дядя Туров лежал. Потом его подняли и понесли к подошедшей санитарной машине.
20
Дверь обыкновенная. Нет, с решеткой… Закроется в последний раз… сейчас. Может быть, через полчаса. Собственно, какая разница: сию минуту или через два часа, три, четыре!
Харза не верил тогда… Его без суда. «Кайши, вот тебе два лишних патрона, сведи Харзу на «прогулку». Прозрел, что ли, этот Харза? Я его там, а меня тут. А Розбин-Лобин живет. «Ай, не хорошо, командир! Стреляем друг друга…»
Кайши сжался в комочек, подбородком в колени. Теперь нет смысла кого-то остерегаться, думай и говори что хочешь. Нет командира, нет инструктора Розбин-Лобина. Кайши один. Кайши самый храбрый, самый прилежный и понятливый…
«Розбин!» «Лобин» потом прилепили. Харза, что ли, первым назвал так: Розбин-Лобин… Харза не вынес жестокостей… Сорвал с себя нарукавную нашлепку — в кружочке на светлом фоне две перекрещенные кости. Командиру в лицо во весь голос: «Не Харза я! Понадавали всяких кличек…» Кайши и не знал, что Харза не Харза… Потом уже узнал, после убийства.
«Это сын белого эмигранта». Командир потрогал седеющие усы. Лоб у него тыквой. Шрам на левой щеке, похоже, от сабли. Выправка старого вояки. «Мы переживаем чрезвычайно подходящее время. Национализм… Шовинизм в полном расцвете…» И пошел, и пошел, про царей да императоров. Командира остановил Розбин, мигнул холодными глазами и… затрясся! «Это потом, потом… деньги я плачу…»
Школа, как тайник, в горах укрылась. Маленькое зданьице, двор со спортивным городком… «Кайши, пошел!» Под проволоку ползком, на животе, потом снаряды. «Лучше всех». Пот в глазах, по щекам. Солоно на губах. В коленях дрожь.
«На кого мы работаем?» — горячее дыхание Харзы в затылок. Кулаки сжались, Нет, не ударил. Но мог бы донести командиру. Почему-то не решился. Вечером Харза опять про то же. Сосед, по обличью европеец, по спискам Шарбенус, загадочно покрутил головой: «Ну и ну, надо сообщить командиру». На этот раз промолчать не смог.
«Кайши самый преданный». Поэтому и поручил командир…
Действительно, кто же содержал школу? Вопрос показался Кайши никчемным теперь.
…Синий свет луны, энергичные профессора (они всегда серьезно говорили) — все это отошло, как будто и не было. Отряд, книжечки, командир, инструктор… Нет, сначала инструктор, потом командир. Жизнь под наркотиками. Жизнь в угаре. Двор, обнесенный оградой. Ряды колючей проволоки… Как паутина! В ней снуют четырехлапые человечки…
И это тысячелетнее счастье? «Командир, инструктор, что же вы молчите?! Я ранил… Я мог бы убить, если бы не Туров, не его пес… Не солдат Бабаев. Слышите?»
О, если бы Кайши располагал временем, он о многом поразмыслил бы. Да, кончилось его время. Он понял это слишком поздно, только сию минуту, с особой ясностью понял.
— Гашиш. Понимаете? Я отравил себя… Я не Кайши, это кличка, — сказал он вошедшему в камеру конвоиру.
21
Дремотно кругом. Сашко, наверное, при этом сказала бы: «Уснуть можно, разве это граница!» Теперь-то едва ли так подумает. Уехала Сашко в Москву. На вокзале, уже стоя возле вагона, сказала Алешке: «Приезжай к нам, в школу пойдем, и ты ребятам расскажешь про Кайши». Она показалась Алешке совсем другой, не той, которую он встретил в первый день ее приезда. И с ним, Алешкой, что-то произошло: придумывать игры нет никакого желания. Раскроет книжку — читать неохота, будто бы он все это знает, все видел. А Кайши так и стоит перед глазами. В школе просят: «Алеша, расскажи». Проронит два-три слова и глаза потупит. Нет, не рассказывается! Поднимет голову, вздохнет: «Это не игра, ребята».
Из штабного домика выходят отец и Туров. Иван Петрович еще носит повязку, но рука уже действует. В грудь и руку попал бандит. Доктора вылечили.
Граница, Сашко, не сонное царство, как поначалу тебе показалось. Граница — это фронт, только без войны, говорят. Войну Алешка по книгам знает, и он немного не согласен с теми, кто говорит, что «без войны». Ведь стреляют иногда!
Добрыня, лейтенант Туров поднимаются на крыльцо. У них свой разговор, Алешка улавливает лишь отдельные слова, и то невольно: ушел бы, да что-то удерживает. Вспомнил: полковник Тимошин обещал отцу путевку в Крым, на Черное море. Спросить бы — поедет отец или нет. Будто бы не собирается.
Все же спросить хочется.
— Добрыня… па-ап…
И потупил взор. А Добрыня смотрит на обелиск. Нет, Маняша, никуда я отсюда не уеду. Туров угадал Алешкины мысли:
— Василий Иванович, поезжайте! Сентябрь — лучший месяц для отдыха в Крыму, — и подмигнул Алешке: мол, не грусти, уговорим.
— А вы без меня как тут справитесь?
— Па-ап…
Добрыня Алешке в упор:
— Хочешь учиться в суворовском?
Алешка с минуту раздумывает: «Чего это вдруг Добрыня такое говорит?» Ехать насовсем с границы он не согласен, ни за какие коврижки, хоть и хочется щегольнуть брюками с лампасами и фуражкой с алым околышком: он втайне мечтал об этом.
— А потом куда?
— На границу…
А дядя Туров весело:
— На тех степях Цецарских Стояла застава богатырская. На заставе атаманом был Добрыня Василич. А податаманьем был Алешка, значит, Сын нашего коменданта.— Это меня устраивает, — улыбнулся Алешка, улыбнулся впервые после схватки с Кайши. — Приветик, Добрыня!
И был таков!
Мелькнула яркая рубашонка в кустах, закачались ветки молодняка…
Добрыня от радости еле выговорил:
— Ожил… Ну что ты скажешь, Туров?
— Почти атаман. Не страшен нам, Василий Иванович, никакой гашиш…
— Это верно. Однако куда он помчался?
— Я привез новую служебную собаку. Алешка уже разнюхал, побежал посмотреть.
Добрыня задумчиво:
— Мечта моя — увидеть Алешку в форме пограничника.
И тайгу окинул широким взглядом, будто искал в суровой кипени лесных дебрей сына своего — взрослого, конечно, похожего на самого себя.
И тут полковник Тимошин подкатил на машине. Пристроился к Добрыне и Турову, тоже начал взглядом прощупывать молодой подлесок, как всегда по привычке это делают пограничники: у них такая работа, такая служба.
— Что там случилось? — наконец спросил Тимошин.
Добрыня доложил, что на участке комендатуры идет обыкновенная служба, происшествий не произошло. Тогда Тимошин сказал:
— Это хорошо. Так лучше, без выстрелов-то, — и на Добрыню посмотрел теплым, веселым взглядом. — Я к вам приехал с добрыми вестями. Только перед тем, как сказать о них, хочу поговорить с Алешей и той девочкой… Сашко, кажется, ее зовут? Позовите их ко мне.
— Сашко уехала, а Алешку сейчас поищем, — сказал Добрыня и распорядился найти.
В подлеске Алешки не оказалось. Туров заглянул в вольеру, думая, что сын коменданта возле нового молодого Дика. Нет, и там Алешки не было.
Нашли его на чердаке комендантского дома: у него там был свой штаб. Алешка сидел возле круглого окошка, за небольшим столиком и писал тете Лиде, Сашиной маме, письмо:
«Дорогая тетя Лида! Я пишу тебе не потому, что мне ужасно скучно без Сашко, а потому, чтобы вы не ругали ее за все, что у нас тут случилось. Во всем виноват я. Сашко думала, что мы играем, а я по-правдашнему мечтал поймать нарушителя границы — а вдруг попадется! Только я не знал, как трудно и опасно встречаться с настоящим шпионом. Но вы, тетя Лида, не волнуйтесь, ведь все прошло. Папа меня не очень ругал. Правда, в больнице он мне сказал: «Есаул, ты хоть теперь понял, что граница — это не игра?» Он сказал это дрожащим голосом, и я испугался потому, что так папа говорит, когда ему трудно. Он и о маме вспоминает с дрожью в голосе.
Пишу это письмо на чердаке. В круглое окно вижу тайгу. Тут столько рек, озер, грибов и ягод! И все это укрыто густым-прегустым лесом. Тетя Лида, как здесь хорошо! Пожалуйста, не ругайте Сашко, она нисколечко не испугалась. Тетя Лида, ведь такие, как наша Сашко, в войну ходили в разведку и им давали ордена. Я про это читал в книгах. Хорошие же пацаны были. Мне они очень нравятся. Честно говорю, тетя Лида, нравятся.
Сашко большой пограничный привет!
Ваш племянник Алеша ДобрыняН-ский район границы, 25 сентября».
Алешка вошел в штаб комендатуры солидно. Остановился посередине комнаты, в один миг обежал взглядом вокруг: Тимошин сидит на стуле папы, а отец у окна, руки по швам, дядя Туров и еще трое незнакомых офицеров рядком стоят, и Бабаев тут же. Алешка с достоинством спросил:
— Кто вызывал? Я пришел…
Все заулыбались, глядя на Алешку, на его выгоревшие волосы, спадавшие на глаза. Улыбнулся и Алешка, обнажая щербинку в зубах. Тут Тимошин не выдержал и как-то жалостно промолвил:
— Это что ж, Кайши зубы выбил?
— Он, — сказал Алешка и поплотнее сомкнул губы.
Тимошин поднялся и, шагнув к Алешке, схватил его на руки:
— Сынок… Ничего, ничего, Алешенька… Ты хороший хлопец, настоящий сын границы… Медалью тебя наградил Президиум Верховного Совета СССР за отличие в охране и обороне советской границы. — Он поставил Алешку опять на пол и сказал: — Прошу слушать Указ… о награждении…
Рядовой Бабаев, лейтенант Туров, подполковник Добрыня и еще восемь человек. Алешкину фамилию Тимошин прочитал последней и уже собирался лично поздравить каждого награжденного, как Алешка спросил:
— А Сашко?
Все переглянулись. Алешка повторил:
— А Сашко? — На глазах у Алешки накатывались слезы. И тут полковник Тимошин достал из своего портфеля красивую папку и, развернув ее, сказал:
— Школьницу Сашу Добрыня командование пограничного округа награждает грамотой и набором учебников по всем предметам… программы вплоть до десятого класса.
— Спасибо, — прошептал Алешка.
Он выскочил на улицу, бегом на чердак. Распахнул окно и в тайгу изо всех сил:
— Сашко-о-о! Тетя Лида-а-а! Вы еще про это не знаете…
Спал Алешка в эту ночь сном непробудным. Утром размечтался, вообразил себя идущим по Москве рядом с Сашко в форме суворовца. И за Сашко спросил:
— Алеша, эта медаль настоящая?
— Конечно! От имени Президиума Верховного Совета СССР вручил полковник Тимошин…
Василий Иванович Добрыня услышал его слова из кухни: он собирался ехать на дальний участок и писал записку Алешке, что́ покушать на завтрак. Он заглянул в спальню сына, тихонько, вкрадчиво. Но Алешка заметил и весело с кровати:
— Приветик, Добрыня!
И, подражая лейтенанту Турову, продекламировал:
— На тех степях Цецарских Стояла застава богатырская. На заставе атаманом был Добрыня Василия. А податаманьем был Алешка, значит, Сын нашего коменданта.РАССКАЗЫ
СОЛДАТ ШУМАВЫ
1
— Пижма, ты уходишь?
— Ухожу, Марушка…
— Опять один? — Марушка потупила взор, словно хотела предупредить: видишь, скоро, скоро…
Он так и понял: «Боится Марушка за его, Пижмину, жизнь, боится сироту родить». На мгновение заколебался: «Она права, денька два побуду дома». На тумбочке лежала записка: «Пивичка пробовал «У двух кошек». Привет пражанам. Пижме две пули приготовил». Записку нашли на границе прибитой гвоздем к стволу сосны, отдали ему, Пижме: «Посмотри, Яноткино иль нет». Он определил: точно, его, но тут же про себя решил: «Самого Янотки у старой сосны не было, кто-то другой оставил записку». Осмотрел местность, следов не обнаружил: хитрит, бандюга, искать Янотку надо в другом месте, и быстрее, коли появились у него сообщники…
Марушка заметила колебания Пижмы, ей стало как-то не по себе: у мужа такое важное задание, а она своим страхом мешает ему, солдату Шумавы, оградить людей от наскоков Янотки. Среди молодых лесорубов, пришедших недавно в шумавские леса, то и дело вспыхивает паника — Янотка стреляет сразу из двух пистолетов: одинаково и с правой и с левой руки. А Пижма не боится этого бандита, и все верят, что именно так, и она верит, но ей все же спокойнее, когда муж дома, особенно сейчас… Она застегнула халат, заставила себя улыбнуться. Пижма подошел к ней, взял за руки. От него, как всегда, пахло лесом и еще чем-то знакомым, шумавским, не то горами, не то студеными ручьями, бегущими невесть откуда и куда…
— Иди, Пижма, мне не скоро, — прошептала Марушка и присела на диван, глядя в лицо мужу. Ему нравились ее глаза, очень спокойные и светлые, как полуденное небо Южной Чехии…
— Иди, — повторила Марушка, поднявшись, поправила на его плече перевернутую портупею от автомата-пистолета. — Горюшко мое, — подтолкнула она его в спину и отвернулась, чтобы не видеть, как он уходит. Оглянулась, когда скрипнула дверь, рванулась вперед, но поздно: он уже закрыл дверь. Марушка слышала его шаги, медленные и тихие: деревянная лестница, десять ступенек — скрип, скрип… И тишина…
2
Снег пахнет как свежевыстиранное белье, и Пижма удивился, что сугробы, те самые сугробы, которые он месит ногами каждый день и каждую ночь, пахнут бельем. Он растер на горячей ладони комочек снега, вдохнул запах еще раз. «Как под навесом, где Марушка морозит белье после стирки», — подумал Пижма. Кругом царствовала темень, черные стволы деревьев сливались воедино, и только белел нехоженый снег на просеке. И Пижма знал, что, если Янотка появится на просеке, он, Пижма, все равно заметит врага.
Янотку он никогда не видел — ни вблизи, ни издали. В управлении пограничных войск ему показали несколько фотокарточек, на одной из которых должен быть изображен Янотка. Пограничники задержали трех контрабандистов. Привели к полковнику Жишке, которого в министерстве внутренних дел называют стреляным волком…
— Один из них он, — сказал Жишка. Ему поверили. Старый волк ошибся, ибо два дня спустя и была найдена Яноткина записка.
Пижма убежден: ни на одном снимке, что ему показали, Янотки нет, но о своем убеждении он никому не сказал, щадит Жишку, которого глубоко уважает: старик в корпусе генерала Свободы служил, имеет много орденов.
Ветер спугнул тишину, окрестность наполнилась шепотом ветвей. Теперь снег ничем не пах, от него веяло холодом: мерзли щеки, немели пальцы рук, казалось, не выдержать единоборства с морозом, хотелось встать, разогреться. Но подняться нельзя: только лежа можно заметить, если кто-то появится на просеке.
Просека тянется вдоль границы. Она довольно широка, чтобы ее пересечь, потребуется секунд пять, ровно столько, сколько нужно ему, Пижме, чтобы произвести прицельный выстрел.
Ветер с разбегу бросил в глаза пригоршню снежной пыли. Пижма даже не моргнул: он смотрел на просеку, чувствуя, как в уголках глаз тают снежинки, и оттого, что они тают, он понимал, что тепло еще не покинуло его и что он пролежит в неподвижности до утра, а с рассветом, как и раньше, пойдет в лес и будет долго кружить, осматривая местность: не попадется ли след Янотки. Он знает: след Янотки отличается от следов всех живущих на Шумаве. Хотя Жишка и не верит, что Янотка имеет «свой почерк ходьбы», но Пижму нельзя разубедить: он видел собственными глазами — правый носок обуви лишь слегка вдавливается в снег. Такие следы были обнаружены в лощине, что вплотную подходит к границе. Мало ли отчего так печатается след! Просто враг хитрит. О, нет, товарищ Жишка, у этого человека правая нога с дефектом. Пижма непоколебим в своей догадке. И он найдет эти следы, а по ним и Янотку. Лишь бы обнаружить их и поспеть. Главное — поспеть, чтобы бандюга вновь не успел уйти за границу, как прошлый раз — только строчку следов оставил…
3
Густая темень зашторила окно. Марушке не хотелось включать свет. Она сидела на диване и неотрывно смотрела в темно-синий квадрат окна. Вплотную к дому подступал лес. Он шумел тревожно, с надрывными вздохами. Холодный серпик луны никак не мог зацепиться за верхушку высокой сосны: пьяное от крепкого ветра дерево крутило лохматой головой и серпик то и дело соскальзывал с его веток, вспархивал и вновь опускался, но не падал на землю, казалось, болтается, будто привязанный невидимой веревкой к чему-то там, в темном бездонье. Угадывалась дорога, ведущая к трактиру. Марушка заметила, как вспыхнули окна в бревенчатом домике. Она открыла форточку, прислушалась: до трактира — рукой подать, вместе с ветром, ледяным и колючим, в дом проникли слова знакомой песни… Марушка любила эту песню. Ее подарили шумавянам русские солдаты в сорок пятом году, когда она, Марушка, была еще девочкой и Пижме шел десятый год и он еще не был Пижмой, а его просто звали Соловейкой. Он первым выучил русскую песню, затем они пели ее вместе, несколько лет вместе, и уже потом врозь жить не могли.
— Пиж-ма-а-а! — позвала Марушка, просунув голову в форточку. Ветер растрепал волосы, и она в сердцах захлопнула форточку: разве он так скоро вернется!
В передней скрипнула дверь: кто-то вошел. Она сразу поняла, что это не Пижма: муж, прежде чем войти в переднюю, в коридоре снимает ботинки и потом в носках переступает порог. Марушка включила свет. В дверях стоял высокий мужчина, одетый в форму лесоруба, и тупо смотрел на нее из-под густых, мохнатых бровей.
— Не узнаете?
— Узнаю, — тихо ответила Марушка.
— Память у вас хорошая, пани…
— Марушка, — подсказала она и, стыдясь своего большого живота, набросила на себя шаль.
— Да, да, Марушка, — улыбнулся мужчина и, отыскав взглядом стул, присел на краешек, словно давал понять, что зашел он всего лишь на минутку и сейчас же уйдет. И Марушка так его поняла, но все же предложила выпить чашку кофе.
— А я думал, не узнаешь, — улыбнулся гость. Он был атлетического сложения, русые волосы слегка курчавились, очень шли к его продубленному шумавскими ветрами лицу. С какой-то изысканной аккуратностью он взял чашечку, и Марушка заметила на его среднем пальце обручальное кольцо. «Женился», — с облегчением подумала она. Мужчина отпил глоток кофе, закурил сигарету, сказал:
— Значит, не забыла…
— Янек… да я все знаю про тебя…
— Все? — Глаза Янека чуть-чуть потускнели, и он отпил еще глоток. — Неужто все?
— Конечно. И как ты жил в Праге, и как добровольно приехал на Шумаву. Статьи твои читала в газетах… инженер лесного хозяйства Янек Кальман.
— Да, да… Я ведь и раньше жил на Шумаве…
— И это знаю…
— Откуда? Я никогда тебе об этом не говорил!
— Пижма рассказывал…
— Да, да. Ему по службе положено все знать. Он что, на заставе или в Прагу уехал?
— Янотку ищет, — сказала Марушка с оттенком гордости в голосе.
— Поймает! — утвердительно махнул рукой Янек и, о чем-то подумав, усмехнулся: — Вот как получается в жизни: любил тебя я, а вышла ты за Пижму, за ротмистра…
Марушка вскинула голову:
— Пижма хороший… Я его очень, очень люблю…
— Да, да, а инженер Янек Кальман плохой. — Он отодвинул чашечку на середину стола. — Инженер Кальман! — повторил гость. — Помнишь, как я бросил учебу? Что-то тогда не понял…
— И пропал на два года, — подхватила Марушка.
Он ее не слушал, продолжал:
— Да, да, что-то тогда не понял… в новой общественной жизни… Потом осознал… увидел: коммунисты — самые верные друзья чехословацкого народа, и снова взялся за учебу… Но… тебя упустил. — Инженер умолк, склонив красивую голову на грудь. Марушка чуть не рассмеялась, такой здоровый, такой сильный и может быть ребенком, но Янек вдруг расправил плечи, и в глазах его, больших и глубоких, блеснул холодный свет:
— Поумнел я теперь, Марушка… Правда, работа у меня подвижная — мотаюсь по всем участкам, приходится часто выезжать в Прагу. — Он начал рассказывать об экономических возможностях Шумавы, о планах перестройки старых лесных заводов и кончил тем, что ему не хватает рабочих рук: лесорубы с неохотой едут в Шумаву, боятся Яноткиных пуль… — Говорят, он неуловим, стреляет — что ни пуля, то жертва… Боюсь я за Пижму — горяч, безрассуден!
Взгляд Кальмана скользнул по фигуре Марушки, она почувствовала, как по телу пробежали мурашки.
…Марушка не слышала, как под Кальманом проскрипели ступеньки, ее мысли были заняты Пижмой. Потом она погасила свет, попыталась найти серпик луны, но не нашла: небо и лес слились в единую плотную темень… А ветер гудел, как и прежде, — тяжело, с надрывом. Вдруг Марушка увидела перед собой милое, серьезное лицо Пижмы: «Здесь проходит граница социалистического лагеря. Ты уж меня извини — жить будет нелегко».
Марушка вздрогнула, лицо Пижмы исчезло, а песня слышалась:
…лагеря большого Граница проходит…Это пели лесорубы, выходя из трактира и направляясь к своим домикам, расположенным здесь же рядом, на берегу горной речушки. Выделялся сильный голос Кальмана:
…лагеря большого Граница проходит…Потом все стихло, погрузилось в привычную тишину. Марушка легла в постель, сомкнула ресницы, и, хотя не думала о Кальмане, ей тотчас же вспомнилось, как однажды перед футбольным матчем Янек поспорил с однокурсником Францем, заядлым болельщиком команды «Шумава». Янек предложил пари: если «Шумава» одержит победу, то он, Кальман, босым провезет Франца на тачке по каменистой тропке, проходящей вдоль пограничного хребта. «Пять километров!» — воскликнул Франц. Он знал, что по этой тропе нельзя пройти и километра и вовсе не потому, что она усыпана острыми камешками. Подножие хребта теперь особая зона. Чтобы туда попасть, надо иметь специальный пропуск. «Хоть сто! — упорствовал Кальман. — Не мне же босым тачку везти, а тебе, Франц…» «Ах, так! — горячился Франц. — Я сделаю все для того, чтобы ты вез меня все пять километров… Марушка, будешь свидетелем».
«Шумава» выиграла встречу, а Франц достал пропуска на три человека…
Янек вез Франца, а Марушка шла вслед и хохотала безудержно… Потом… потом, через три километра пути, заметила, что ступни Янека кровоточат… Она уже не смеялась, умоляла ребят остановиться. Но Кальман, обливаясь потом, вез и вез, поскрипывая зубами… «Сумасшедшие! — наконец заплакала Марушка. — Янек, пожалей свои ноги. Франц, прости ему, он спорить больше не будет». Кальман сполна отдал свой проигрыш. В больнице, куда попал сразу по возвращении в город, ему удалили большой палец правой стопы…
Потом Янек ходил в героях, а у нее, Марушки, возникло к нему какое-то странное чувство: она стала бояться Кальмана, и, когда Пижма вспоминал о нем, Марушка старалась уйти от разговора.
Она открыла глаза, поправила одеяло, подумала: «Напрасно Пижма тревожился, я нисколечко не люблю Янека. Понял, Пижма, — не люблю…»
И быстро заснула.
4
Утром Пижма повстречал рогатого красавца: козел стоял на самой вершине скалы и смотрел навстречу солнцу — красному шару, приплывшему с востока. Минуты три ротмистр любовался гордой осанкой животного, освещенного бледно-розовыми лучами. И это большое солнце, пришедшее оттуда, где, по убеждению Пижмы, всегда день, и шумавский крепыш, смотрящий туда же, откуда приплыло светило, как-то сразу сняли с его плеч тяжесть ночного труда, и он весело подмигнул живому изваянию:
— Вот так и держись!
Рогатый качнул головой и вдруг бросил свое крепкое тело вниз, на чернеющую площадку, и, не задерживаясь там, скрылся в чащобе. Пижма догадался: красавца кто-то спугнул и этот кто-то, видимо, находится за скалой.
Прямо подняться было невозможно: крутой каменистый скат возвышенности теперь, под лучами солнца, покрылся слоем талого снега, ноги скользили как по льду. Пижма решил идти окружным путем…
С его уст до этого не раз слетали слова: «Шумава — какой простор». Но теперь он понял, почему эта фраза всегда вызывает усмешку у новичков, да и не только у первогодков, но и у прослуживших не один год на границе… Деревья росли очень густо, настолько густо, что Пижма еле продирался сквозь них, то и дело цепляясь плечами за шершавые стволы молодых сосенок и елочек. Он был поражен, что эти стволы крепки и неподатливы, будто отлитые из металла. У него горели плечи, и он догадывался, что они уже покрылись сплошными синяками, перед глазами появлялись желтые круги… Круги быстро пропадали, в голове Пижмы снова и снова начинала властвовать одна и та же мысль: «Останавливаться нельзя, вдруг впереди Янотка…»
Пижма выдавился из плотной массы стволов так внезапно, что некоторое время чувствовал себя в полете: бежать было легко, словно и не было под ним земли. Остановился лишь тогда, когда увидел перед собой темный искривленный оскал расщелины. Он знал глубину этой пропасти, знал, что по ее дну течет горный ручей, течет так быстро, что упавшее с кручи бревно течение подхватывает, как щепку, и уносит бесследно. И все же Пижма остановился вовсе не для того, чтобы прекратить бег, нет. Он сжался в комок, напружинился и… бросился через пятиметровый оскал… Что-то рыкнуло внизу, рыкнуло с дикой озлобленностью и тут же захлебнулось: под ним была земля, и Пижма даже не оглянулся, чтобы посмотреть на черную пасть своей смерти…
Снова начался лес, но теперь он был реже — лесной участок отводился под разработки, и поэтому здесь царствовали чистота и порядок — ни травинки, ни кустика.
Пижма сообразил, что его белый маскхалат виден далеко среди потемневшей бронзы стволов. Он сбросил халат. Песочного цвета куртка, такие же брюки, спущенные на голенища теплых на меховой подкладке сапог, теперь почти сливали его с фоном лесного массива.
«Сразу не заметит», — успокоился Пижма: он был почти убежден — козла спугнул Янотка. Ротмистр шел осторожно, ощупывая своими острыми глазами окружающую местность. К полудню он вышел к противоположной стороне каменной горы. Здесь вновь начался снежный покров, и Пижма облачился в белый халат, надвинул на голову башлык.
Нет! Не Янотка, Кальман… Инженер осматривал лес, топориком делал метины на стволах. Ну конечно же, для порубки. Настроение изменилось. Пижма отвернул башлык — кого теперь остерегаться. Он не подошел к Кальману, круто взял влево, чтобы проверить ловушку, которую смастерил сам в механическом цехе лесного завода. В поединке с Яноткой она была его последним козырем. О ловушке никто не знает, даже начальник отряда. Он установил ее ночью, по его мнению, в том месте, которое Янотка не может обойти, если попробует удрать за границу. Другие вероятные проходы Пижма перекрыл круглосуточными нарядами.
Лощина оказалась пустынной, как и прежде, с нехоженым настом, по которому, пробегая, вихрились снежные дымки. Тростиночка, обозначающая замаскированную ловушку, дрожала на ветру. Пижма смотрел на нее долго, а видел не тростинку — Янотку: громадный детина, одетый в меховушку, безуспешно пытается освободиться от тяжелого железного капкана. Тянет, но куда уйдешь с такой тяжелой колодой: два шага не сделаешь, от боли закричишь.
А вот лица Янотки так и не представил — ни разу не видел, каков он, этот Янотка. И рассказы лесорубов не дали четкого представления. Может быть, он вовсе не чех, а недобитый гитлеровец, мутит голову молодежи, запугивает. Пижме не хотелось, чтобы Янотка оказался чехом или словаком — пусть под этой кличкой скрывается кто-нибудь оттуда, из Западной Германии…
Лес обрывался в двадцати шагах, далее начинался пустырь, изрытый воронками и траншеями. Это уже чужая земля. И какая-то она неприветливая, даже смотреть не хочется.
Добрый Пижма, чудак ты из чудаков! Земля сама по себе везде одинаковая. Не-ет, Марушка, ты мне это не говори, с той земли пришла война, лагеря для заключенных, колючая проволока, а за ней люди — старики и дети… С запада и Янотка пришел в наши леса, страх принес… Вот Кальман… ничего не боится, один стучит топориком — тюк, тюк. Лес валит, доски гонит для Праги. Пилит и строит…
5
Марушка опять одна, ходит из комнаты в комнату, все прислушивается. Нет, не к ветру, гудящему за окном, — к шумной песне лесорубов. Приятно, когда слышится:
…лагеря большого Граница проходит…Как-никак, а на этой границе ее Пижма стоит, заставой командует, стережет сон и покой народа.
Прислушивается Марушка к тому, кто скоро-скоро новой жизнью наполнит их квартиру. Дочь или сын — все равно. Тогда, товарищ ротмистр, можешь гоняться за Яноткой днями и ночами, ей скучно не будет, заботушки хватит.
Она присела у окна — еще не вечер, но синевой уже тянет и лес темнеет. Скоро войдет пахнущий лесом Пижма, кликнет: «Марушка, ты дома?» Она, как всегда, не ответит, тихо, крадучись, сзади обхватит его голову и затем уже крикнет: «Я король Шумавы — Янотка!» А Пижма, ее здоровяк Пижма, протянет: «Ты король, а я солдат Шумавы! Именем закона!»
И поцелует ее, а уж потом, когда разденется, повесит шубу, скажет: «У Янотки свой почерк ходьбы!» Она ему в ответ: «Заливаешь, ротмистр!» Пижма вдруг надуется, раскипятится как самовар. А Марушке смешно, потому что знает: все это видимость — у Пижмы очень доброе сердце.
Скрипнула лестница. Марушка накинула на плечи платок и стала к простенку. Руки протянула…
— Кальман!
— Здравствуйте, Марушка!
И, как в прошлый раз, присел на краешек скамейки.
Что это он заладил? Марушке стало зябко, она подвинулась к печке. «Эх, Кальман, Кальман, все уже былью поросло. Да ничего и не было».
— Слышал я, что товарищ Жишка приезжает на заставу…
— Не знаю.
— Как же так, разве Пижма не говорил? Он дома? — Кальман даже и глаз не поднял, смотрел на свои ноги: он-то знал — Пижма в лесу, за Яноткой охотится.
— Хотел просить товарища Жишку: пора кончать с бандюгой. — И опять не поднял головы, лишь усмехнулся уголком рта. — План горит. Не каждый идет на рубку. Трактора простаивают.
— А вот Пижма говорит, что у Янотки нет большого пальца на правой ноге. Как у тебя, Кальман.
— Откуда он знает, что у меня нет большого пальца? — Поднялся, головой уперся почти в потолок. Ой, какие страшные у него глаза!
— Кальман, что с тобой?!
— Ты сказала? — Он подвинулся к Марушке вплотную.
— Он по следам определил… правый носок обуви не так сильно печатается на снегу. Он, наверное, придумал… все это.
— Погоди, кажется, Жишка подъехал. Сейчас вернусь.
Кальман сбежал по лестнице, потоптался на нехоженом месте. Боже мой!
Вернулся, попросил кофе.
— Нет, ошибся, не товарищ Жишка. Чья-то машина проехала.
Кальман курил: три затяжки и один глоток кофе. Марушка открыла форточку и, не отходя от окна, поискала знакомый серп луны.
…Лагеря большого Граница проходит…— Закрой форточку… Поют всякую чепуху…
Повернулась от окна:
— Кальман! Янек!
— Молчи!
Он поднял топорик еще выше.
— Янек!..
Кровь залила лицо. Упала Марушка позже, когда уже Кальман грохнул дверью и скрылся внизу с топориком за пазухой, уверенный, что она все равно упадет, умрет — удар был сильным.
6
«Пижма, ты уходишь?» — «Ухожу, Марушка». — «Опять один?» — «Один»…
Это Пижма так, чтобы не уснуть, мысленно разговаривает с Марушкой. Всю ночь посты проверял, а на зорьке решил заглянуть в ловушку, не потревожил ли кто снежный покров, стоит ли тростинка или… Ох, это «или»! Пижма не досказывал, кто мог сломать одинокую и дрожащую на холодном ветру тростинку. Собственно, зорька лишь угадывалась в усиливающемся ветре да в шорохе просыпающихся ветвей. Еще было темно, с трудом разглядывались стволы деревьев, и Пижма шел почти ощупью, наугад. Усталость давила на плечи, слипались глаза. Ночью по телефону с дальнего поста разговаривал с Жишкой. Старик торопит: «Хватит бандюге разгуливать в наших лесах». А под конец: «Ротмистр, сам-то не очень рискуй». О Марушке вспомнил, поэтому «…не очень рискуй».
И все же рассвет наступил как-то неожиданно. Пижма огляделся, заметил белеющие отметины на стволах — Кальман оставил. Дальше запретная зона — нехоженый участок. Пижма хотел было обойти, чтобы не оставлять следов, которые могут сбить с толку пограничников, шагнул в сторону и тут рядом заметил отпечатки ног. Он лег, начал рассматривать следы. Янотка прошел! Усталость как рукой сняло. Снег был глубоким, почти по пояс. Не останавливаясь, прыжками выскочил к лощине.
— Янотка!..
Человек бился в капкане, но не кричал. Пижма подходил к нему медленно, держа пистолет наготове. Сначала над ухом дзинькнула пуля, потом раздался выстрел. Пижма упал. Позади что-то шарахнулось, зашуршало в промерзшем кустарнике. Увидел рога, громадные и разлапистые. Они, покачиваясь, быстро удалялись к скале. Козел вскочил на возвышенность и там, освещенный первыми лучами, застыл, могучий, словно выточенный из самой скалы.
Еще пропели две пули. Пижма крикнул:
— Стрелять бесполезно! Сдавайся!
Пуля не пропела, но выстрел раздался. Если пуля не пропела, значит, в цель. Это Пижма знал. Он поднялся и во весь рост пошел к затихшему человеку. Руки были разбросаны, а возле головы, лохматой, с посиневшим лбом, лежал тяжелый кольт.
— Кальман!..
Да, это лежал Кальман. И как бы Пижма ни сопротивлялся, ни отгонял мысль, страшную и невероятную для него, он не мог не признать Кальмана. Это был он, убийца Марушки. Но Пижма еще не знал об этом злодеянии и поэтому все смотрел и смотрел в лицо Кальману, еще надеясь на какое-то недоразумение. Он освободил ногу от жима, снял сапог… Конечно, на правой стопе не было большого пальца. Потом подобрал выпавшие из сапога листки. На одном из них был список знакомых Пижме людей. В этом списке он нашел фамилию Жишки и свою, по счету предпоследней. Прочитал в конце подпись: «Янотка», а в скобках стояла буква «К».
— Кальман! — крикнул Пижма и наконец понял, что Янотка и Кальман одно и то же лицо.
Шумавский красавец еще серебрился на солнце, доверчиво смотрел в сторону Пижмы. Ротмистр помахал ему рукой:
— Спокойно, дружище, солдат Шумавы на посту!
…Растаял снег. Шумава зашторила небо листвой. В чащобе полутьма. Будто бы спит лес. Но вот вздрогнула ветка, наклонилась, в прогалине — человек в пограничной фуражке: лицо настороженное, виски белые, словно снегом запорошенные. На какую-то долю секунды перед глазами Пижмы Марушка. Шепчет: «Ты уходишь?» Может быть, это ветер, но Пижма отвечает: «Шумава — мой дом, в нем я навечно — солдат».
КОМИССАР И ПРОНЬКА БАБКИН
1
За спиной рокотало море. От ударов волн покачивалась земля. Серое, низкое небо без конца сеяло дождь. Никто не знал, когда утихнет шторм, когда, обессилев, выдохнется небо. Десантники поглядывали на комиссара и ждали ответа. Так уж повелось — комиссар все может. И даже предугадать погоду.
В промозглой хляби густо хороводили разрывы мин и снарядов. Раскаленная докрасна подкова переднего края приближалась к каменоломням, в которых десантники уже вторую неделю, отбивая атаки врага, ожидали поддержку с Большой земли.
Противник стремился сбросить десантников в море — в гремящую желтую пучину. Волны дыбились, тяжело били по скалистому берегу. Самый беспокойный из десантников Пронька Бабкин, взятый в группу из погранотряда, как хорошо знающий участок десантирования, подполз к комиссару и гаркнул во все горло:
— Товарищ комиссар, вот те крест, шторм на две недели! Подохнем с голодухи! Надо поселок брать! — Тронул рукой комиссарово плечо и скривил большой рот: Шпагина подергивала мелкая дрожь. — А-а, — вздохнул Пронька и тяжелой глыбой покатился на свое место, под штабелек камней. Повар группы Мухтар Мухтаров ожег Проньку свирепым взглядом:
— Сапсем сдурел! Ти зачем на комиссар кричал?
А Пронька Мухтару на ухо:
— Дрожит, ни жив ни мертв. Понял?
— Твоя неправда, Бабкин!
— А жрать нечего — тоже неправда? — Пронька отстранил Мухтарова от пулемета, ударил длинной очередью по живым согбенным фигуркам, вдруг показавшимся на мокром взгорье, неподалеку от домика. Немцы шарахнулись в сторону, но двое из них, покружив на месте, упали. Пронька был убежден — эти гитлеровцы больше не поднимутся. Оглянулся к Мухтарову и своим глазам не поверил: на желтой ладони азербайджанца лежала румяная лепешка…
— Бери, ты хорошо стрелял. Бери…
Пронька проглотил слюну, заколебался было.
— Бери. Всем хватит.
— Пошел к черту! — решительно отказался Пронька и припал к пулемету. — Уходи, я не голоден…
Это еще не приступ малярии — предболье болезни. Приступ начнется после обеда: Шпагин знал, в какое время начинается приступ, а он обязан сегодня, как и все эти дни болезни, держаться… И не только держаться, но и скрыть свою болезнь от солдат. Это самое трудное. Но… комиссар все может! Так уж повелось.
Сегодня тем более: получена радиограмма, что в пятнадцати километрах севернее каменоломен высажен новый десант наших войск и что необходимо соединиться в одну группу. План прорыва уже разработан. «Эх, Пронька, а вчера что ты сказывал? Не паникуй, мамаша! Фрицу конец пришел».
Они, Шпагин и Пронька, вчера ходили в разведку. Утром поднажал дождь. На пригорке, у подножия которого укрывались разведчики, показались три расплывчатые фигуры. Послышались сердитые голоса: шла перебранка. Пронька протер глаза, сказал:
— Смотрите, товарищ комиссар, бабы корову гонят.
Корова с белой шеей, черными боками уперлась в скользкую землю короткими ногами, рыжее вымя ее с толстыми распухшими сосками волочилось по мокрой траве. Худенькая девчушка, промокшая до костей, комариком носилась вокруг рогатой, подстегивая ее тонкой хворостинкой. Корова бугрила бока. Женщина, одетая в солдатскую фуфайку и большие кирзовые сапоги, с отчаянием говорила:
— Куда мы попали, из пушек перебьют. Зинка, горе мое… Может, вернемся? В этих катакомбах тоже немцы. Давай вернемся!
И тут Пронька не выдержал:
— Не паникуй, мамаша! Фрицу конец пришел.
Корова вдруг тряхнула головой и ходко пошла под гору. Женщина сняла с себя фуфайку, набросила ее на девчушку и, заметив сидевших на корточках Шпагина и Проньку, укрытых с головой плащ-накидкой, с упреком выкрикнула:
— Ишь спрятались от дождя! А там немцы людей убивают, — ткнула она костлявой рукой в сторону поселка. Хотела сказать еще что-то, но лишь покачала головой и, приподняв отяжелевшую, забрызганную грязью юбку, побежала в сторону катакомб, хлюпая сапожищами по раскисшему суглинку.
…К Шпагину подполз командир десантной группы, весь перевязанный — виднелись лишь одни глаза, — сиплым голосом приказал:
— После обеда, ровно в четыре часа, начинайте. Помните о красной ракете. — Передохнул и еще тише добавил: — Командиров взводов я проинструктировал, как и договорились… На кургане поднимут красный флаг, и вы рвите, комиссар, на соединение… Через поселок самый короткий путь.
Командир группы был намного моложе Шпагина. Умирая от ран, он храбрился, делая вид, что тоже не лыком шит и что еще повоюет. И все же, когда спустились в каменоломни, признался:
— Кажется, все. За себя я оставил старшего лейтенанта Воронова. Дай твою руку, товарищ комиссар.
Держал ее минуты две и все смотрел и смотрел в глаза Шпагину:
— Вы товарищ…
— Нет, нет! — поспешил Шпагин успокоить умирающего капитана. — У меня все отлично. И Воронов хороший командир… Будем пробиваться, как ты приказал, по твоему плану.
Но капитан уже не слышал этих слов.
2
Приступ малярии начался сразу же после того, как Шпагин похоронил капитана в дальнем отсеке, похоронил тайком, чтобы уберечь десантников от слуха о гибели командира. Обговорив с Вороновым план соединения и место впередсмотрящего в бою, Шпагин лег на холодный каменный пол, закутался в бурку. Он был доволен, что и на этот раз никто не увидит его мучений и он, больной, останется для бойцов крепким и здоровым. В ушах стоял звон. Страшный озноб прокатывался по всему телу. Его ломало и трясло безжалостно. За ребристым поворотом горел фонарь, слышались невнятные голоса.
Но вот звон в ушах прекратился. Голоса стали разборчивыми. Шпагин слышал:
— Пронька, а как там наверху? Скоро пойдем на соединение?
— Скоро, дядя Мухтар.
— Хочешь лепешка? Вкусный лепешка, на молоке. Зинка корову доила. Возьми…
— Сам ешь…
— Зачем сам! Ти не говори так. Я повар. Запах в нос дает и кушать сапсем не хочется. Возьми…
— Я сыт, дядя Мухтар…
— Ти сит? Когда сит? Там, на НП, немес угощаль?
— Угощал минами да снарядами…
— А флаг на кургане видаль?
— Да, развевается…
— Красный?
— Красный, наш флаг.
— Счастливый ти, Пронька. Красный флаг хочу смотреть. Говорят, кухня работай. А кухня — смотришь: на один человек — ложка пшенки, пять грамм жира. Мука — одна лепешка испек. Какой это кухня! Кухня не хочу работать. Немес пойду стрелять.
Шпагин поднялся, шатаясь, вышел на свет. Возле котла на ящиках сидели Пронька и Мухтар. Низкий потолок навис над ними серой глыбой. В печке потрескивали поленья, из трубы, выведенной в сторону, кудрявился дымок.
— Здравствуйте! — сказал Шпагин. — Обед готов?
Он прошел к котлу, открыл крышку. Паром охватило лицо: из-под желтоватой пузырящейся пены торчали белые мослы. Мухтар поправил колпак на голове, пощипывая жидковатую бороденку, обнажил белозубый рот:
— Суп, товарищ комиссар. Пшенный суп, на вчерашних мослах. Мяса нет, а запах будет. Пожалуйста, проба возьмите…
— А готов?
— Конэшно готов. Всегда готов, товарищ комиссар. Почему не готов? Попробуйте, самый раз готов.
Мухтар наполнил миску жижей, поискал в котле длинным черпаком подходящую косточку, поставил миску на стол, покрытый клеенкой. Два-три жировых пятнышка, похожие на чечевичные зерна, сиротливо плавали на прозрачной поверхности.
— Бульон с жирком, — сказал Мухтар, всматриваясь в бледное, исхудалое лицо Шпагина. Ему показалось, что комиссар еле держится на ногах, и жалость сосущей болью отозвалась в груди начпрода. «Лепешка отдать комиссару, — решил Мухтар. — Лепешка…»
Шпагин покачнулся. Мухтар взял его под руку, посадил на ящик:
— Бульон с лепешка кушай, товарищ комиссар. — Мухтар положил на стол твердый кружочек и, взглянув на Проньку, принялся протирать полотенцем миску.
Подошла Зинка. На ней был белый не по росту халат. Она молча села рядом с Пронькой и озабоченно, по-взрослому, поведала:
— У коровы совсем пропало молоко, а раненые просят. — Ее темные глаза вдруг заморгали, она увидела лепешку, ноздри расширились, и бледный рот слегка приоткрылся.
— Мухтар, — сказал Шпагин, — лепешек-то много у тебя?
— Всем хватит, товарищ комиссар, — покривил душой Мухтар: лепешка была одна, она переходила из рук в руки и вновь возвращалась к повару.
— Угости Зину. — Шпагин закрыл глаза, чтобы не видеть ни лепешки, ни Зины, похожей сейчас на голодного птенца с раскрытым желтым клювом. Мухтар засуетился, делая вид, что ищет что-то. Потоптался среди вещей, подошел к Зинке, сказал:
— Ти, дочка, ходи к своей мать и скажи ей, пожалуйста, путь придет на кухню. Сходи, сходи, ми важный вопрос должны решить.
— Погоди, Зина, — остановил девочку Шпагин. — Вот тебе лепешка, садись и поешь.
— Что вы, товарищ комиссар, я сыта. Кушайте сами. — Зинка вспорхнула белой птицей и скрылась в темноте.
Шпагин стоял у котла, согбенный и притихший.
— Зачем вам потребовалась Зинина мать?
— Ай, комиссар, не спрашивайте. Лепешка кушай, потом все объясню… Пронька, на сколько килограмм корова потянет?
— Пудов двадцать будет, — понимающе ответил Пронька.
— На целую неделю всему гарнизону кушай мясо, — подхватил Мухтар. И чтобы ублажить комиссара, пустил в ход все восточные вежливости, упрашивая, чтобы тот съел и лепешку, и суп.
Лепешку Шпагин возвратил Мухтару:
— Раненым отдайте. Суп похлебаю.
Он сел за стол. Руки его еще тряслись от слабости. Мухтар, жестикулируя, подсказывал, как зачерпнуть ложкой, чтобы поймать пшенинки, мелькающие в прозрачной жижице. Но Шпагин взял кость, белую, вываренную до стерильности. Потянул носом и начал обсасывать ее. Во рту повлажнело и стало легче: притупилось головокружение. Немного повеселевший, он спросил:
— Взводам пищу отправили?
— А как же, товарищ комиссар, всех накормили. Вот и Пронька сейчас понесет на НП. — Мухтар взял двухведерный бачок, начал наполнять его супом.
Из темноты выплыла женщина, Зинкина мать. Никто не знал ни ее фамилии, ни отчества, называли просто тетей Дусей. Она приблизилась тихой походкой. Вслед за ней появилась и Зинка. Пронька уступил тете Дусе место, стал рядом с Зинкой, чувствуя худенькое тельце. Мухтар подал тете Дусе миску супа.
— Что это? — помешав ложкой, спросила женщина.
— Пища, — сказал Мухтар. — Если сюда положить баранью ногу да кусок коровьего желудка, получится хаши по-бакински, самый хороший еда. Хаши мы едим утром, рано-рано, еще до восхода солнца. Ай, язык проглотишь. Кушай, кушай, это почти хаши. — Он подмигнул Шпагину, мол, начинай о корове.
Но не успел Шпагин подняться, загудело все подземелье. Теперь люди бежали сплошным потоком. В кухонный отсек заскочил ординарец командира группы Федя Силыч:
— Товарищ комиссар, Воронов приказал всем к выходу, — и побежал, снимая на ходу из-за спины автомат.
Шпагин вытер платком лицо, разом подхватил автомат, гранатную сумку и неверной походкой поспешил к выходу. Его обгоняли, хотя он бежал изо всех сил. Под ноги попался камень. Шпагин споткнулся, плашмя упал на скользкий холодный пол. Долго поднимался, встал, прошел метров двадцать и снова упал. Ноги подламывались, и он присел, чувствуя, что дальше идти не может. «Вставай, вставай! — приказывал он себе. — Ну же, поднимайся, комиссар!» В кровь кусая губы и сознавая, что лихорадка совсем вывела его из строя и что он в таком положении не боец, он сам себе вслух сказал:
— Филипп, не имеешь права, приказываю… Приказываю встать!
3
Пронька подкатил к Шпагину, оглядел залитое солнцем пространство: действительно, на кургане развевался красный флаг, как и в тот раз, когда захлебнулась первая попытка прорваться к высадившейся группе десантников. Пронька дохнул горячим:
— Реет флаг, разве не видите!
Шпагин смотрел в бинокль. Во рту его под черными усами дымилась самокрутка. Огонек уже припекал губы. Он выплюнул остаток самокрутки, передал Проньке бинокль:
— Глаза устали, посмотри-ка ты, чуть правее костра. Видишь, колодезный журавль? С этого места и поступит сигнал атаки — зеленая ракета. По кодовой таблице сначала костер, потом ракета, — пояснил Шпагин, протирая уставшие, затуманенные глаза: его чуть-чуть знобило, и он боялся, что на этот раз приступ малярии может начаться раньше, чем поступит сигнал на соединение.
— Может, сбегать узнать, в чем задержка? — не терпелось Проньке.
— Шутоломный! Куда побежишь, каждый метр простреливается, стеганут из пулемета и — поминай как звали.
После того как захлебнулась в огне первая попытка соединиться с новой группой десантников, минуло еще три дня. Съедена корова, из продуктов ничего не осталось. Но солдаты держатся — коровья шкура тоже пошла в котел: Мухтар «наколдовал», и супу хватило на всех. Немцы, отразив атаку, теперь не проявляли особой активности: по утрам и на закате они открывали пулеметный огонь, стрекотали по часу, а то и больше, как бы напоминая о своем присутствии. Весь же день стояла тишина, изредка нарушаемая гулом танков, патрулирующих вдоль подковки — линии обороны. Танки не стреляли, а, как говорил Пронька, выкобенивались: они кружили вокруг поселка, иногда почти вплотную подходили к каменоломням, танкисты, высовываясь из люков, горланили всякую гадость. По ним не стреляли: Воронов отдал приказ беречь боеприпасы для прорыва.
Танки, покружив, уходили на западную окраину поселка. В часы абсолютного безмолвия дежурившие на поверхности десантники видели на плоских крышах глинобитных домиков голых немцев: они загорали под лучами наконец-то появившегося солнца.
Журавль изогнутой ниточкой рисовался на небосклоне. Пронька напрягал зрение до рези в глазах, но сигнала не замечал. Опять напомнил Шпагину:
— Может, сбегать? — и повел биноклем правее: в окулярах замелькали домики. Около одного из них он разглядел группу гитлеровцев и, схватив винтовку, прицелился.
— Отставить! — приказал Шпагин. — Одним выстрелом все дело погубишь. Вот поступит сигнал, тогда и пали. Ты думаешь, мне легко смотреть на них…
Пронька подозрительно посмотрел на комиссара: «И для чего тебя, старика, кинули в десант? Опять губы дрожат». И так нехорошо стало на душе у Проньки, что он готов уже был высказать свои мысли напрямую, но в это время увидел, как артиллеристы выкатили орудия на позиции, подготовленные заранее, в ночное время. В черной, шевелящейся живой ленте Пронька приметил и Мухтара в поварской закопченной куртке. А рядом с начпродом лежал у штабелька Федя Силыч. Пронька поискал глазами командира группы и, не найдя капитана, шумнул Силычу:
— Ординарец! Разжаловали тебя, что ли?
Шпагин сердито «притормозил» Проньку:
— Бабкин, перестань болтать!.. Капитан находится на правом фланге. Он ждет сигнала с кургана.
Прежний командир для многих десантников еще жил где-то, то ли на правом, то ли на левом фланге, действовал. И действовал он стараниями Шпагина.
— Есть зеленая! — вдруг закричал Пронька.
Живая волна людей взбугрилась и разом перекатилась через каменный вал. Немцев, сидящих на завалинках, как ветром сдуло. Ударили пушки, заголосили пулеметы.
Пронька бежал рядом со Шпагиным, время от времени поглядывая на Федю Силыча и дядю Мухтара. Ему не терпелось догнать их, но Шпагин придерживал.
Цепи атакующих натолкнулись на глинобитные домики и быстрыми ручейками потекли по тесным искривленным улочкам поселка. Шпагин с ходу вскочил на крышу. Выхватил бинокль, чтобы обозреть ход боя. Густел на глазах частокол разрывов, особенно в лощине, по которой должны идти на соединение: похоже было, что противник разгадал замысел десантников.
— Бабкин! На правый фланг!
Пронька первым прыгнул вниз. Пробежав метров сто, он оглянулся: Шпагин выхватил из кобуры ракетницу и выстрелил в сторону каменоломен. Пронька заскрипел зубами: ведь красная ракета — это сигнал отхода!
— Труса играете, что ли? — с гневом выкрикнул Пронька и взял автомат на изготовку. Черное пятнышко дула поднялось и застыло на уровне лица Шпагина. В глазах комиссара ни тени страха, только чуть-чуть подергивался левый ус да на шее синим наполнились вены.
Пронька перешагнул через ограду, дрогнувшим голосом спросил:
— Зачем сигнал отхода дали? Зачем?
— Опустить оружие! Ну! — как на параде, отчеканил комиссар и крепким шагом пошел в сторону домика.
Лицо Проньки покрылось испариной. Он, вдруг обессилев, опустил автомат, пьяной походкой настиг Шпагина.
— Это сигнал для противника, а не для нас. Дурья голова! Военная хитрость — тоже оружие…
На соединение прорвались повзводно… В сутолоке боя Пронька оказался рядом с дядей Мухтаром и Федей Силычем. Они прикрывали огнем маневр первого взвода. И похоже было на то, что будут отходить последними — Пронька это определил по захваченному окопу. Окоп был хорошо оборудован для ведения огня. В пятидесяти метрах возвышался каменный дом, из него изредка стреляли немцы.
Пронька приладил трофейный пулемет и только тут заметил, что в окопе, похожем на букву «П», находится комиссар. У Шпагина, припавшего грудью к брустверу, дрожала голова. Он подошел к комиссару, тихонько спросил:
— Холодно?
— А-а, Бабкин. Хорошо, что ты здесь. Мы должны продержаться в этом окопе хотя бы три часа. За это время наши соединятся. Ложись за пулемет.
Пронька потер носком истоптанного сапога под коленкой, крикнул осипшим голосом:
— Слышали?
В домике что-то грохнуло, и Пронька первым увидел в проломе стены ребристый ствол крупнокалиберного пулемета, а в глубине, в полумраке, замаячила человеческая фигура. Пронька ударил по ней короткой очередью. И тотчас же в ответ горласто рыкнуло.
— А, черт, неужели промахнулся, — выругался Пронька и начал отстегивать гранату.
— Погоди! — Пронька осекся: это голос комиссара.
— Да нет, постой, Бабкин. Мне, кажется, полегчало. — Шпагин поднялся с трудом. С минуту он силился помутневшим взглядом охватить поле боя, определить, что же там делается, не соединились ли… И ему удалось увидеть в бинокль: первые группки десантников уже карабкаются на взгорье. Еще, наверное, полчаса и пробьются. Полчаса! Их надо вырвать у врага. Он отцепил гранату.
— Живьем возьму… Надо соображать, Пронька, — подмигнул Шпагин Бабкину и пополз к домику. Но вдруг остановился, задыхающимся от высокой температуры голосом приказал: — Встретимся у той лощины. Ну, живей! Приказываю!
Пронька первым повиновался. Вслед за ним покинули окоп Силыч и Мухтар. И все же Пронька отстал от них. Круто развернулся и пополз к домику. Хотел было прямо в окно прыгнуть… Горячим и тугим шибануло в грудь — Пронька отлетел в сторону. Но тотчас же кинулся за угол, ползком приблизился к двери, из щелей которой клубился дым.
— Дядя Филипп, — позвал безотчетно, лишь бы приглушить возникшее чувство не то страха, не то одиночества. Дверь отворилась, и Пронька сначала увидел трясущуюся руку, потом самого Шпагина, тоже дрожащего.
— Дядя Филипп, ты их уничтожил?
Комиссара трясло, и он никак не мог переползти порог. Пронька помог ему спуститься во двор. Подхватив Шпагина под мышки, Бабкин с трудом дотащил его до окопа. Комиссар сильно стучал зубами. Пронька вытер ему искусанные и окровавленные губы. Потом, пошарив в своих карманах, предложил лепешку.
— Вот, дядя Филипп, ешьте…
— А-а, цела… Видишь, как бьет меня малярия, мучаюсь ужасно…
— Так вы… не от страха…
Пронька сунул лохматую голову в комиссарову грудь и заплакал:
— Ой, дядя Филипп, дядя Филипп…
Шпагин шевелил его волосы трясущейся рукой и все приговаривал:
— Эх, Пронька, Пронька, несмышленыш ты еще… Вот, видишь, как она меня трясет… Ну успокойся. Давай соображать, как нам выбраться.
— А вы поешьте, силы прибавится, а потом я вас на горбу донесу куда угодно.
Пронька для этого и вернулся: хотя комиссары и все могут, но солдаты для них — опора превеликая. Пронька лишь подымал об этом, готовый на все, чтобы помочь Шпагину.
— Мне здесь каждая складочка местности знакома, слышишь, дядя Филипп?
— Знаю, Пронька, знаю…
Шпагин разломил лепешку надвое.
— Надо бы тебя наказать, приказ мой нарушил. — Комиссар улыбнулся, и Пронька опять прильнул к Шпагину лохматой головой.
— Ага, накажите… Я ведь весь такой, товарищ комиссар, вроде бы непутевый, что ли…
Вечер подоспел кстати: еще полчасика — и ночь, южная, темная ночь опустится на землю. Да что там говорить — Пронька уже прикинул, каким путем он понесет комиссара.
ПОД СИЛЬНЫМ КРЫЛОМ
Полеты закончились, и офицеры, завершив свои дела, стали расходиться по домам. К высокому, крепко сложенному майору Багрову подошел лейтенант:
— Товарищ майор, вы обещали показать мне на тренажере…
— Знаю, знаю, — скороговоркой ответил Багров, — обязательно покажу… Как только у вас будет свободное время, приходите ко мне.
В голосе майора чувствовалась какая-то особая теплота и отзывчивость. Когда мы шли с аэродрома, я напомнил об этом Багрову. На лице офицера вдруг появилось выражение грусти.
— Теплота, — тихо промолвил он. — Лейтенант — молодой летчик. Ох, как ему сейчас нужна теплота! Или, как вы сказали, отзывчивость. Требовать от подчиненных мы научились… Но дисциплина предполагает и отзывчивость командира. — Багров закурил. — Знаю я одну историю. Хотите послушать? — На его лице вновь появилось выражение грусти. Я согласился. Майор рассказывал долго. Вот что я от него услышал.
…В эскадрилье прошел слух, будто лейтенант Александр Воронов хлопочет о переводе в другую часть. Капитан Юрий Сажин, всегда летавший с ним ведущим, только пожал плечами:
— Чего это ты, Санька, надумал? — Сажин имел привычку молодых летчиков называть по имени, и небрежно так, с оттенком своего превосходства. — Ты же без меня пропадешь.
Маленький рост, покатые плечи, не в меру длинные руки — только это и замечал капитан в Александре. Хотя у Воронова, не говоря о его покладистом характере, было довольно симпатичное лицо: щеки, словно отлитые из металла, всегда отражали блеск южного загара, глаза, ясные, живые, умные…
Не случайно молодой лейтенант приглянулся Наташе, девятнадцатилетней официантке летной столовой — девушке с черными как смоль косами. Стоило ему только появиться в обеденном зале и сесть за стол, как тут же появлялась Наташа. Ее карие глаза горели. А Воронов склонялся над дымящейся тарелкой и ел молча, будто и не было рядом девушки. Покончив с обедом, он обычно спешил в небольшой садик, огражденный штакетником, садился на скамейку и закуривал свой неизменный «Беломор». Проходило какое-то время, и в распахнутом окне столовой появлялась смоляная головка Наташи.
— Саша, — окликала она замечтавшегося лейтенанта, — брось ты эту гадость, возьми-ка лучше вот это. — И девушка бросала к его ногам небольшой пакетик с леденцами. Воронов брал конфеты и, словно взвешивая их, подбрасывал на широкой ладони. Потом, завидев своего ведущего капитана Сажина, Александр шагал ему навстречу:
— Это тебе, Юрий Петрович, вечером детишек угостишь.
Сажин удивленно смотрел на лейтенанта, пожимал плечами, брал пакетик и говорил:
— Ты что это зарядил каждый день конфетами угощать моих сорванцов?
Лейтенант оправдывался:
— Да нет… Это от Наташи. Все агитирует меня не курить…
— А… Ну что ж, дело это разумное. Но попробуй не покурить, если сейчас пойдем на разбор полетов. Опять нас, наверное, будут склонять.
— Ничего, товарищ капитан, поднатужимся маленько, и мы полетим на Луну, — улыбался Воронов.
В классе Сажин сидел молча, сосредоточенно слушал руководителя полетов, а Санька беспокойно ерзал за столом, с шумом листал тетрадь, что-то записывал. Сажин изредка скашивал в сторону глаза, взглядывал на густую рыжеватую шевелюру ведомого и неприязненно думал: «Поднатужимся! На земле ты хорохоришься, а как полетим, снова что-нибудь загнешь. Фунтик, а еще о Луне мечтает. Фунтик ты — и больше никто!» Сажину понравилось это выражение, и он мысленно повторял его несколько раз.
Домой возвращались вместе. Оба жили в гарнизонной гостинице: капитан с семьей занимал две комнаты, а лейтенант — комнатку напротив. Молчавший всю дорогу Сажин вдруг остановился и, придерживая лейтенанта за плечо, ни с того ни с чего высказался:
— Все «поднатужимся, поднатужимся». Фунтик, вот ты кто… Да, фунтик!
И вот тут Воронов, может быть впервые в жизни, обиделся. Не ожидал он от Сажина такой грубости. Капитан всегда казался ему человеком тактичным. Правда, и раньше он частенько ворчал на него, но таких уничтожающих человека слов Александр никогда от него не слышал. Воронов почувствовал, как щеки его запылали. Выхватив из кармана «Беломор», он взял в рот папиросу, но тут же выплюнул ее и, не оглядываясь, сначала медленно, потом все быстрее пошел прочь.
Ошеломленный Сажин застыл как вкопанный. Увидев у себя в руках пакетик с леденцами, он невольно вспомнил наивные, но идущие от души слова лейтенанта: «Вечером детишек угостишь» — и почувствовал себя одиноко и неловко. «А, черт с ним! — тут же решил капитан, стараясь себя успокоить. — Остынет, не девица, сам виноват». Из-за деревьев на дорогу неожиданно вышла Наташа. Она подошла к Сажину и робко спросила:
— Сашу не видели?
— Какого Сашу? — не сразу поняв, о ком идет речь, переспросил капитан.
— Лейтенанта Воронова.
— Саньку? Убежал…
Они пошли рядом: Наташа — мелкими шажками, Сажин — крупными (он всегда ходил размашисто и уверенно).
Юрий вырос в семье авиационного инженера. Энергичному, способному, ему все давалось как-то легко. И уже в детстве он внушил себе, что должен везде и всегда быть первым, слышать о себе только хорошее. А тут подвернулся какой-то Санька, из-за которого то и дело приходится выслушивать неприятные слова.
— И кто только надоумил его идти в авиацию? — подумал капитан и, забыв, что идет не один, высказал свои мысли вслух.
— Кого? — не понимая, о ком говорит Сажин, спросила Наташа.
— Воронова, кого же еще, — сказал Сажин.
— Никто его не мог надоумить. Родители его погибли на фронте, он воспитывался в детском доме. Разве вы этого не знали? — спросила Наташа и с удивлением посмотрела на Сажина: — Вы же вместе летаете!
Да, Сажин, к своему стыду, не знал этого. Ему вдруг стало неловко перед девушкой. «Почему же, черт возьми, я так к нему отношусь?» — мысленно спросил он себя и заторопился домой.
В коридоре Сажина встретил старший сын — пятилетний Алик, пухленький сбитень, одетый в спортивный костюмчик.
— Папа, что принес? — с ходу бросился он к отцу и стал его тормошить за руку.
— Вот, бери, — подал Юрий пакетик с леденцами, — от дяди Сани.
— От Саньки, да?
— От Александра Сергеевича, понял? Александра Сергеевича, — повторил он, поглядывая на дверь комнаты, где жил Воронов.
Сажин прошел к себе. И за что бы он ни брался в этот вечер, Саня не выходил у него из головы. Потом решил зайти к лейтенанту.
Александр сидел за столиком и что-то выписывал в тетрадь из толстой, захватанной руками книги.
— Садитесь, товарищ капитан, — сказал он, не поворачиваясь к Сажину.
Капитан сел на стоявший в углу стул и не знал, с чего начать разговор. А лейтенант все писал и писал, быстро, уверенно, не прерываясь. Юрию надоело сидеть в безмолвии, и он уже решил встать и выйти, как Воронов, отложив ручку в сторону, повернулся к нему:
— Приходится только вечерами заниматься этим делом, — весело сказал Воронов, показывая на книги. — Поучиться надо. — И, помолчав, с серьезным выражением лица добавил: — Ничего, поднатужусь — получится. Но вот фунтиком меня называть — это уж слишком, товарищ капитан…
От этих слов Сажин почувствовал себя так, словно на него свалился огромный камень и он вот-вот задохнется под его тяжестью. Капитан медленно встал и некоторое время молча рассматривал комнату, мучительно думая, что бы ответить лейтенанту. Потом, прислонившись к стене, сказал:
— Нет, Саня, не за этим я пришел… Наташа мне рассказала, что родители у тебя погибли… Я не знал, извини.
— Так вы, значит, пожалеть пришли? — прервал его Александр. — Спасибо, Юрий Петрович, но… в этом нет нужды. Да и, собственно говоря, ничего уже не даст мне ваша жалость. Согласие на перевод в другую часть я уже получил.
— Зачем вы это сделали? Я же… — Сажин хотел еще что-то сказать, но, увидев улыбающееся лицо лейтенанта, умолк.
— Как зачем? Уезжаю в часть, где служил мой отец. Так что вы, Юрий Петрович, тут ни при чем…
— Ты это серьезно? — с некоторым облегчением произнес Сажин, и, получив утвердительный ответ, постоял немного, и вышел из комнаты.
«Александр, — подумал капитан в коридоре. — Как же так? Уходишь все-таки… А дай тебе крылья малость покрепче, эх и летал бы ты!..»
Лето показалось Сажину томительно долгим. Хотя вроде ничего особенного и не произошло: только убыл Воронов, и вместо него ведомым у него стал летать старший лейтенант Василий Гора. Этот человек был неразговорчивым, замкнутым, почти никогда не возражал. И что бы ни сказал капитан, он только пожмет плечами и промолчит. А Сажин, разговаривая с ним, частенько называл его по привычке Санькой, потом спохватывался, извинялся. Но про себя думал: «Поднатужимся… Где ты теперь, Санька?»
Теперь всякий раз, когда случалось свободное время, Сажин навещал Наташу.
— Пишет? — коротко спрашивал он.
— Нет, — отвечала девушка и с молчаливым укором смотрела на капитана.
— Вот так де-ла-а!.. — протяжно вздыхал Сажин.
В такие минуты на душе у него было особенно тоскливо. И он спешил домой. А там, как всегда, в коридоре встречал Алик.
— Пана, дядя Саня скоро вернется? — спрашивал сын.
— Вернется… Как же! Скоро вернется… — гладил он Алика по головке и печально смотрел на дверь комнаты. Но там уже жил Гора. Иногда дверь открывалась, и на пороге вырастал Василий — молчаливый, с широким, чисто выбритым лицом. Сажин подходил к нему, перебрасывался двумя-тремя фразами, и на этом разговор обрывался.
Потом из столовой уволилась Наташа. Куда она уехала, Сажин не знал. Намеревался сходить на квартиру, где жила раньше девушка, спросить о ней, но не успел: наступили напряженные дни подготовки к летно-тактическим учениям. Пришлось временно отложить розыски Наташи. Мысли о Воронове тоже отодвинулись на задний план, а позже и вовсе он перестал о нем думать, по горло загруженный всякими неотложными делами.
…Начались учения. Часть, в которой служил Сажин, действовала на главном направлении. Капитан со своим ведомым Василием Горой произвел несколько вылетов наперехват. И каждый раз он возвращался возбужденным.
— Василь, как самочувствие? — спрашивал он старшего лейтенанта после приземления и тискал его на глазах у всех летчиков эскадрильи. — Схватили мы цель быстро, а? Мигом! Вот так надо работать! — довольный успешным вылетом, подбадривал он ведомого.
Гора молча улыбался. Потом они вместе шли в столовую. Повар весельчак подбегал к ним с подносом, шутливо выкрикивал:
— Ну, кто еще желает поднатужиться? Получай космические блюда.
Сажин косился на Гору, сидевшего рядом, и невольно его взгляд скользил куда-то вниз. Но там не было Санькиной рыжеватой густой шевелюры… Сажин спешил выйти из столовой. С деревьев падали последние листья. Он смотрел на багряные лоскутки и думал о Воронове: будто он остался ему что-то должен… А листья все падали и падали, и от этого у капитана становилось тоскливо на душе…
Темнело, когда Сажин и Гора снова вылетели на перехват цели. На маршруте попадались небольшие облачка. Сажин себя чувствовал уверенно, он даже подумал: «Хорошо, что позади летит Гора, а не Воронов, все будет в порядке!»
С пункта наведения сообщили местонахождение цели. Сажин, принимая команды, вел самолет по приборам, то и дело предупреждал ведомого о своем маневре. Судя по сообщениям с земли, «противник» находился где-то рядом, но где? Ясно было одно: ловко маневрируя, он неизменно приближается к охраняемому Сажиным объекту. Капитан начал нервничать.
— Гора! — окликнул он ведомого. — Это же черт знает что! Надо поднатужиться.
По команде пункта наведения Сажин выполнил глубокий вираж и выскочил из облаков. Навстречу бросилась яркая россыпь звезд.
— Цель над вами! — послышалось в шлемофоне. Капитан увеличил скорость. Самолет рвануло вверх. Через минуту с земли сообщили:
— Цель правее тысяча метров.
Сажин знал многих летчиков соседних частей, он начал прикидывать, кто же из них может так изворачиваться, так ловко уходить из-под его атак.
«Не иначе как Донцов», — решил капитан, вспомнив о лучшем истребителе соединения, о котором много писали в газетах и с которым познакомился на совещании отличников. В этот момент быстрая тень проскользнула у него над головой, а потом послышалось то, чего Сажин никогда не ожидал:
— Двадцать шестой, возвращайтесь на аэродром, цель пропустили.
…Светало очень медленно. Сажин то просыпался, то вновь погружался в сон, хотя и ненадолго. Он слишком хорошо знал, что значит в современном бою не перехватить цель. Потом, не дожидаясь рассвета, наскоро оделся и выскочил из палатки.
Моросил мелкий дождь. Капитан, зябко поеживаясь от холода, прислонился к борту стоявшей неподалеку грузовой машины. В кабине кто-то тихо разговаривал. Из обрывков фраз он понял, что в расположении части находится командующий и что сюда прибыли все участники учений.
«Разбор, значит, будет», — подумал капитан, и ему стало еще холоднее.
Он возвратился в палатку. Сквозь небольшие оконца уже пробивался утренний свет. Сажин оглянулся. На своей койке спокойно спал старший лейтенант Гора. А рядом с ним Сажин вдруг заметил торчащую из-под одеяла голову с густой рыжей шевелюрой.
— Воронов! — крикнул он и бросился тормошить летчика. Но тот недовольно дернул плечами и снова исчез под одеялом. Снаружи остался торчать только клок волос медного цвета. Кто-то толкнул Сажина. Он повернулся: перед ним стоял капитан Донцов в накинутой на плечи шинели.
— Обознался, друг, — сказал он Сажину. — Это Орлов, старший лейтенант Орлов, летчик из нашей части. Он такого перцу дал вашим перехватчикам, что долго его будут здесь помнить… Одним словом, поднатужился, — улыбнулся офицер и тихонько вышел из палатки.
«Какой Орлов? — недоумевал Сажин. — Не может быть, чтобы так обознался». И он, опустившись на корточки рядом с кроватью, осторожно приоткрыл одеяло: сомнения исключались — это был Санька. Юрий взял соломинку и провел по загорелой щеке летчика. Тот сразу открыл глаза, долго смотрел на Сажина.
— Приветствую вас, Юрий Петрович, — наконец отозвался старший лейтенант.
— Здоров, Саня! — чуть дрогнувшим голосом произнес Сажин. — Ты чего, фамилию сменил?
— Сменил, — улыбнулся летчик.
— Значит, теперь Орлов?
— Угадали.
— Как же это случилось?
— Погодите, оденусь, расскажу…
Они вышли из палатки. Ветер разогнал тучи, и видно было, как из-за горного хребта выкатывалось большое яркое солнце. Под ногами лежали мокрые листья, в лучах они искрились росинками.
— Рассказывай, — не терпелось Сажину.
— Женился я на Наташе Орловой.
— Ах вот оно что!.. Да, да, ее фамилия Орлова, — вспомнил Сажин. — Ну, слушаю, слушаю, рассказывай.
— А что же еще рассказывать? Орлов теперь я.
— И все?
— Пожалуй, все…
— А не ты ли вчера мучил меня на перехвате?
— Наверное, я, товарищ капитан. Теперь я летаю с Донцовым. Человек он по-настоящему хороший, требовательный, отзывчивый, щедрый. Очень охотно делится своими знаниями.
Сажин чувствовал, как горят щеки, будто у самого лица полыхало пламя. На глаза попался сорванный ветром листок. Кружась, он падал ему под ноги. Капитан подхватил его на лету, подержал в руках и осторожно положил на сухое место.
— Значит, тогда сочинил, что отец служил в той части?
Орлов отвел глаза в сторону.
— Обиделся на меня, — продолжал Юрий, выпрямляясь во весь рост.
Орлов стоял перед ним, как прежде, спокойный, но теперь Сажин видел в нем уже другого летчика: такие люди вырастают только под сильным крылом. И у Сажина было не слабое крыло, но чего-то ему не хватало.
«Чего? — думал он. — Может быть, товарищеской теплоты, щедрости на поддержку, повседневной командирской отзывчивости?» Да, это было так.
Багров закончил свой рассказ, когда мы подходили к домам летного состава. Почему-то мне показалось, что капитан Сажин — это он, сам Багров, но не этот Багров, который шел рядом, а тот, когда он был еще капитаном. И я не удержался и высказал свою догадку.
Майор остановился и сказал:
— Ну что же, рассказывать, так до конца. Сажин-то — это действительно я. Дело прошлое — ошибался… Воинскую дисциплину понимал как голое требование командира. Но в жизни это далеко не так. Далеко! — повторил он и, посмотрев на часы, заторопился к лейтенанту, который поджидал его у входа в учебный класс.
КРУГОВОЙ ПОИСК
1
Инженер-лейтенант Василий Шумов, начальник радиолокационного поста, сидел на стуле и задумчиво рассматривал сконструированный им макет радиолокационной станции. Минуло уже три месяца (и кажется, столько же времени прошло, как он, Шумов, принял радиолокационный пост), а серый глаз экрана все еще не озарялся зеленым огоньком. Монтировал его лейтенант по ночам, в свободное от дежурств и службы время.
Он очень уставал, но начатое дело не бросал. Память цепко держала слова начальника училища, сказанные молодым офицерам на выпускном вечере: «Вы получили хорошие и разносторонние знания. Но этого мало, чтобы успешно воспитывать подчиненных. Для этого требуется еще высокая личная дисциплинированность во всем: и в собственном поведении, и в поддержке добрых начинаний подчиненных, и в преодолении всех трудностей». Шумову таким и хотелось быть. Но что-то не получалось… Озабоченный, он подошел к окну. Пост располагался в горах, как солдаты говорили, под самым небом. Внизу клубились облака. Иссиня-черные, с молочным отливом, они медленно ползли по крутым скатам, напоминая штормовой океан. Василий распахнул окно. Ветер сшиб с головы фуражку, с ожесточением начал трепать волосы.
— Самойленко! — крикнул лейтенант, до пояса высовываясь наружу.
— Тут я, товарищ командир! — выскочив из-за угла, громко отозвался высокого роста солдат, одетый в телогрейку.
— Как, на юге просвет не обозначился?
— Просвет? — спокойно переспросил Самойленко, подходя к Шумову. — Вроде намечается… Облака поредели. Только ни к чему это нам, товарищ инженер-лейтенант…
Василий поднял с пола фуражку и, отряхнув ее, присел на подоконник, широким взглядом окинул свое хозяйство. Над побуревшим от ветра холмом, покачиваясь, вращались широкие крылья локатора. На сером фоне в стороне зеленым кирпичиком выделялся сарай: оттуда доносился приглушенный шум дизеля. Возле цистерны с запасом питьевой воды, сидя на корточках, мыл посуду дежурный повар, оператор Али Мухтаров. Перехватив взгляд Шумова, Самойленко сказал:
— Али свое дело знает, у него второй класс.
— Второй! — двусмысленно произнес Шумов, надевая фуражку. — Этого маловато, товарищ Самойленко… Был бы первый, вы с Мухтаровым не приняли бы местный предмет за цель. А ведь по третьему году оба служите… Разве это порядок? — Лейтенанту очень не нравилась инертность Самойленко, его какое-то непонятное безразличие к службе, и он много думал, как расшевелить этого крепкого, здорового солдата.
Самойленко сделал недовольную гримасу: «Была ошибка с этим «местником», чего же старое вспоминать?» И про себя решил: «Должно быть, инспектора ожидает, вот и забеспокоился!»
Когда-то рядовой Андрей Самойленко служил на пункте обнаружения. Едва он получил второй класс, как ему предложили готовиться к сдаче экзаменов на оператора первого класса. «А я и со вторым аккуратненько дотяну до срока увольнения», — ответил он командиру отделения. Но тот не оставил в покое солдата, втянул на отдаленный пост. Самойленко написал докладную с просьбой послать его на отдаленную точку, полагая, что там будет не так хлопотно, как на пункте обнаружения.
Шумов размял в руках папиросу, но не закурил: он лишь шире распахнул окно.
— Взгляните-ка на эту штучку, — показал он в глубь комнаты. Андрей нахлобучил на лоб шапку и от удивления широко раскрыл глаза.
— Интересно! Когда же вы успели такое соорудить? Действует?
— В том-то и дело, что не действует, — сказал лейтенант. — Но я добьюсь своего. Всякое дело должно быть закончено. Служба, понимаете, служба этого требует.
У Шумова из-под фуражки выбился клок рыжих волос, глаза горели как угли. Солдат видел его таким впервые. Однако спокойно сказал:
— Значит, хорошей погоды ждете?..
— Инженера, обещал приехать помочь.
— Да, — покачал головой Самойленко, — прилетит дней на пять, а потом целый месяц будем жить как на пожаре… Знаю этих поверяющих. Когда я служил на пункте обнаружения, каждый день, бывало, раскрутку нам устраивали. Будто мы дети, не знаем, что и как делать…
Лейтенант приблизился к Самойленко. Андрей был ростом выше Шумова. Он слушал его равнодушно, словно разговор шел о вещах, далеких от службы. Это еще больше удивило Шумова. Хотелось запротестовать: «Самойленко, да вы понимаете, что говорите?!» Но он сдержался, резко захлопнул окно и, ни слова не говоря, быстрыми шагами направился к радиолокационной установке. Андрей, глядя ему вслед, тихо произнес:
— Пошла писать губерния.
Он посмотрел вниз: облака поднимались кверху, между ними уже замечались полыньи, через которые виднелись бурые участки земли, рощицы карликовых деревьев, освещенные солнцем.
2
Монотонно гудели вентиляторы. Их дремотный рокот не нарушал ровного течения мыслей Самойленко. Ночью откуда-то опять нагрянули тучи, обложив пост со всех сторон. Теперь площадка, на которой расположилась станция, была похожа на айсберг, глубоко осевший в темную пучину сплошных облаков.
— Али, хорошо, что мы попали на такую тишайшую точку, — обратился Андрей к Мухтарову, сосредоточенно наблюдавшему за бледными вспышками на экране.
— Тишайшая? — усмехнулся Али, обнажая белые зубы. — Придумал же… Ты знаешь, что такое шайтан-ветер?
— Нет, — признался Самойленко.
— Ну тогда еще узнаешь! Как налетит, подует, отца и мать вспомнишь.
— Пусть налетает, подумаешь! Бояться надо другого…
Мухтаров повернулся к Самойленко. Его черные глаза расширились, брови поползли на лоб.
— Случайно, не противника ожидают? Ты что-нибудь слышал?
Самойленко отмахнулся:
— Ловим учебные, поймаем, стало быть, и врага. — Он усилил мощность свечения и продолжал: — Я вчера не узнал нашего инженер-лейтенанта. Почему-то вдруг вспомнил нашу ошибку и говорит: «Разве это порядок?» Отчего бы это, а? Не знаешь? И говорит, инспектора ожидает…
— Ну и что? — спросил Мухтаров, расстегивая ворот гимнастерки (в кабине становилось душно).
— Макет станции сконструировал, — продолжал в том же тоне Самойленко. — Потом вспомнил, что я по третьему году служу. А ты спрашиваешь: «Ну и что?» Плохо соображаешь, Али.
Последняя фраза задела Мухтарова. Он заерзал на кресле и, не прекращая наблюдения за фосфорическими вспышками на экране, бросил:
— Ленивый ты, Андрей, вот поэтому и беспокоится командир.
— Ничего. Скоро на гражданку пойду, в цех, коленчатые буду точить. Эх и развернусь я там, будь здоров!
— Завтра, завтра, не сегодня — так ленивцы говорят! Так и у тебя… — с укором отрезал Мухтаров.
Самойленко, пожав плечами, молча отошел.
В полдень, уже под конец смены, послышался шум вертолета. Обеспокоенный Самойленко, искоса взглянув на Мухтарова, метнулся к окошку. Вертолет приземлился у самого домика. На землю сошел пилот. Затем кто-то подал ему несколько больших свертков и два мешка, по-видимому с крупой. Самойленко уже хотел было облегченно вздохнуть, дескать, пронесло, не приехал инспектор, как вдруг увидел: по ступенькам сошел низенького роста, с завидной выправкой человек, перетянутый в талии ремнем.
— Он! — крикнул Мухтарову Андрей, по тут же, присмотревшись, добавил: — Ошибка, Али. Какой-то солдатик прилетел. Махонький… Шумову докладывает. Ишь как ловко козыряет, будто генерал.
Андрей отошел от окошка и сел на свое место. Шли последние минуты дежурства. Вот-вот должна прийти смена. Экраны светились ровным зеленоватым огоньком, без всплесков.
— Вот что, Андрей. Командир прав: пора нам с тобой пересаживаться со второго класса на первый, — сказал Мухтаров, мельком взглянув на Самойленко.
У Андрея чуть вздрогнули брови. Он кашлянул в кулак, улыбнулся:
— И для чего ты мне это говоришь? Сидел, сидел и вдруг забеспокоился. Ну, я понимаю, волноваться надо, когда поверяющий приезжает. Не так ли?
Мухтаров лишь искоса бросил на друга недовольный взгляд и ничего не ответил.
Однако Андрей продолжал самоуверенно:
— Или, может быть, думаешь, что тот солдатик, который сейчас прилетел, переодетый генерал? Этого новичка, Али, еще придется на буксир брать. У нас как-никак второй класс! Это тоже что-то значит!
— Вот и плохо, Андрей, что только второй.
— Чудак ты, честное слово! Зачем же больше-то? Крепкий середняк тоже чего-то стоит. К нему не придерешься, он всегда на своем месте. Что касается моей персоны, то с меня и этого вполне достаточно…
— Достаточно, говоришь? Нет, Андрей, ты какой-то не такой, как я прежде думал. Нет, нет. Не нравишься ты мне.
— А я не девушка, чтобы нравиться! — не без ехидства усмехнулся Самойленко.
Мухтаров только поморщился и промолчал. Разговор он начал неспроста. Тогда, после допущенной ошибки, с ним долго разговаривал Шумов. Он подробно расспрашивал, как появился предмет на экране и долго ли держалось его изображение, замечал ли он, Мухтаров, раньше эту точку и что он думает о ней. На последний вопрос Али ответил с нескрываемым удивлением: «Чего же теперь думать о ней, товарищ командир?» Шумов загадочно произнес: «Да-а, плохо, если вы так говорите, плохо, товарищ Мухтаров».
Беседа эта произвела на солдата сильное впечатление, и вот уже сколько времени прошло с тех пор, а Али все никак не мог забыть о ней. Сейчас Мухтаров хотел вызвать Самойленко на откровенный разговор по поводу внезапно появившейся точки, но Андрей, по всему видно, даже не пожелал вспоминать об этом случае.
Пришла смена. Самойленко первым вышел из помещения. Облаков уже не было, их разогнал ветер. Кругом, насколько хватает глаз, маячили горы, местами бурые, ребристые. Вертолета тоже не было: он улетел в обратный рейс.
Вскоре из помещения вышел и Али. Потягиваясь, Андрей лениво разминал онемевшую от долгого сидения спину. Потом подмигнул Мухтарову:
— Понял?
— Что?
— Прошел еще один день службы. Порядок! — Он набросил на плечи шинель и зашагал вниз, к казарме — дощатому, окрашенному в зеленый цвет домику.
3
После обеда полагался часовой отдых. Андрей хотел было разобрать постель, как в помещение вошел Шумов. Инженер-лейтенант присел на стул, устало провел рукой по лицу. Самойленко сразу заметил, что он чем-то расстроен: вместо румянца на щеках бледность, всегда живые, искрящиеся глаза теперь потускнели. Андрея не удивила эта перемена в командире: дежуря на станции, он видел, как поздно ночью зажегся свет в комнатушке Шумова и горел до самого утра. «С макетом возится, — подумал тогда Андрей. — И чего человек беспокоится, ведь служба-то идет нормально…»
— Самойленко, вы знаете, что такое круговой поиск? — вдруг спросил Шумов, поднимаясь со стула.
Андрей хорошо знал этот вид поиска целей и без особого труда ответил на вопрос командира. Выслушав оператора, инженер-лейтенант грустно улыбнулся:
— Да, все это верно, но не об этом я спрашиваю. — Он прошелся вдоль кроватей и, остановившись против Самойленко, заговорил горячо. Усталости как не бывало: на лице вновь появился румянец. Шумов говорил, что думает совершенно о другом круговом поиске.
— У каждого коллектива есть свои нерешенные проблемы. И чтобы решить их, необходим круговой поиск, требуется, чтобы каждый человек активно участвовал в этом поиске. А мне хочется, чтобы жизнь бурлила, чтобы изо дня в день мы поднимались по ступенькам, совершенствовали службу и знания. Вы думаете об этом? Нет! А вот ефрейтор Зайчиков всего пять дней у нас на точке, а уже внес довольно толковое предложение…
— Витька Зайчиков, — с оттенком иронии повторил Андрей, — что он, инспектор? Да его самого еще придется на буксире тащить. Тоже мне рационализатор нашелся!.. От горшка два вершка и еще воображает из себя… — засмеялся Самойленко.
— Зря смеетесь, Самойленко. И прежде чем делать поспешные выводы, советую вам заглянуть в технический класс, он сейчас там. Пойдите, пойдите, это вам будет на пользу, — сказал Шумов, направляясь в свою комнату.
Зайчиков сидел за столом и что-то чертил на большом куске ватмана. Самойленко подошел к нему, из-за спины посмотрел на лист бумаги: солдат вычерчивал знакомую деталь аппаратуры. Рука работала уверенно, линии ложились четко, чертеж получался таким же, каким его не раз видел Самойленко в учебниках. Андрей сделал кривую гримасу, потом лицо его как-то само собой обрело на мгновение серьезный вид. Нарочито стараясь улыбнуться, он подмигнул стоявшему неподалеку Мухтарову:
— Америку открывает!
— Америку? — шепотом переспросил Али.
— Да, изобретает керосиновую лампу, — насмешливо бросил Андрей и снова высокомерно взглянул на чертеж. А Зайчиков, разогнув спину, положил карандаш и спокойно, будто не о нем сейчас шла речь, обратился к операторам:
— А знаете, как это здорово помогает! Чертишь, чертишь и таким образом запоминаешь устройство детали. Неплохая тренировка, прямо скажу.
— А к чему вся эта канитель? Кому она нужна? — Самойленко сел на табурет, повертел в руках чертеж и, отложив его в сторону, продолжал: — Я эту деталь как свои пять пальцев знаю. И Мухтаров тоже не хуже разбирается.
— А кто «местник» принял за цель? — едва слышно спросил Зайчиков.
Это прозвучало настолько неожиданно для Самойленко, что он невольно посмотрел на Али. «Уж не ты ли разболтал», — мелькнуло у Андрея.
— Вот вам и пять пальцев, — скатывая чертеж в трубочку, как бы между прочим заключил Зайчиков.
— А ты кто, инспектор? — шагнул к столу Андрей. — Погоди, Зайчонок, остынешь, послужишь здесь, у черта на куличках, и пыл у тебя пройдет… Ты шайтан-ветер знаешь? — повысил голос Андрей. Ему почему-то показалось, что Зайчиков рисуется.
— Шайтан-ветер? Не знаю, — просто ответил ефрейтор.
— Али, расскажи ему, — обратился Самойленко н Мухтарову.
— Ветер, правда, сильный, очень сильный, как буря, с песком… — начал Али и тут же осекся, отводя в сторону взгляд.
— Говори, говори! — заторопил его Андрей.
— Ладно тебе, «говори»! — махнул на Самойленко Мухтаров. Замолчал, подошел к окну и, словно рассуждая с самим собой, проговорил довольно громко: — Человек дело нам советует, а мы страх на него нагоняем. Нехорошо так, Андрей.
— Правильно! — наигранно воскликнул Самойленко. — Детей нельзя пугать. — Он посмотрел на Зайчикова, потом на Мухтарова, сунул руки в карманы и, посвистывая, вышел из класса.
— Видал какой! — сказал Али. — Подтянуть его надо.
— У вас стенгазета выходит? — словно ничего не произошло, поинтересовался Зайчиков, как только закрылась за Андреем дверь.
— Нет.
— Самодеятельность работает?
Мухтаров пожал плечами:
— Нас же здесь раз-два и обчелся…
— И кружков никаких нет?
Али не ответил. Он молча смотрел на Зайчикова. Ничего не было приметного в этом ефрейторе: серые глаза, редкие брови, чуть покатые плечи, только выправка действительно была какая-то особенная — стоит он, будто никогда не сгибался. А в словах, хоть и тихо он говорит, чувствуется сила, они прямо хватают за сердце, и нельзя не ответить на его вопросы.
— Комсомолец?
— Да.
— А я член партии. Приняли перед отправкой к вам. А про шайтан-ветер ты мне расскажи, пожалуйста, Али.
4
Они шли с дежурства рядом. Али то и дело посматривал на Самойленко. Андрей это заметил.
— Чего это ты, а?
— Что?
— Да смотришь на меня, будто впервые видишь.
— Так просто… — уклончиво ответил Мухтаров.
— Ну смотри, смотри… А может быть, ты надумал с Зайчиковым ходить на дежурство? Так ты скажи прямо. Ничего, остынет зайчишка…
— Нет, Андрей, такой не остынет…
— Ну и пусть, что он мне кум, сват или брат?
Они вошли в казарму. Али задержался в раздевалке. Самойленко подошел к кровати. Вдруг он увидел на противоположной стене, рядом с расписанием занятий, стенгазету.
— Али, сюда! — крикнул Андрей Мухтарову. — Посмотри, что это такое?
— Стенгазета, — ответил Али, настораживаясь.
— Черт бы взял этого Зайчикова! — Самойленко круто повернулся и, ни слова не говоря, бросился в комнату инженер-лейтенанта.
…Шумов готовился к очередным занятиям. Перед ним на подставке возвышался учебный макет радиолокационной станции.
— Слушаю вас, товарищ Самойленко.
— Что ему надо? — запальчиво начал Андрей. — Он что, инспектор?
— О ком вы говорите? — произнес Шумов и слегка улыбнулся. Он вращал антенну. — А ну-ка садитесь вот на это место, — добавил лейтенант, — и нажмите эту кнопку.
Макет начал действовать. В нем было все просто, понятно, и не требовалось особых навыков, чтобы управлять им. Вся работа станции была на виду.
— Здорово! — невольно вырвалось у Самойленко.
— Да, вещь необходимая для тренировок, — ответил Шумов и, продолжая наблюдать за работой станции, спросил: — Так о ком вы говорите?
— О Зайчикове, о ком же! Кто ему разрешил боевой листок выпускать и всякую всячину помещать обо мне?
— Я разрешил, товарищ Самойленко, — сказал Шумов. — Разве это плохо? — Лейтенант повернул рычажок, и свет на экране погас. — Ну рассказывайте, рассказывайте, я слушаю вас.
— Что ж рассказывать?.. — замялся Самойленко. — Разрешите идти? Мне все ясно.
— Пожалуйста, если у вас нет вопросов.
Андрей захлопнул дверь. Когда он вошел к себе в комнату, Мухтаров еще стоял у стенгазеты.
— Ну что, командир? — хитровато глядя на Андрея, спросил Мухтаров.
— Али, скажи по-честному — твоя работа? — Андрей кивнул на стенгазету.
— Но это же правда, Андрюша. — Мухтаров пригладил пятерней свои смоляные волосы и положил руку на плечо товарища. — Круговой поиск хорошего порядка, как говорит наш командир. Понял, что это значит?
Вошел Зайчиков. Он порылся в шкафу, взял какую-то книжку и сказал:
— Есть предложение: давайте вот эту одноактную пьесу поставим. Инженер-лейтенант советует. Надо поддержать командира.
— Театр задумал организовать?! — вспыхнул Самойленко.
— Почему же театр? Ясно, что он не под силу нам. А для души мы можем кое-что разучить. И будет интересно, вот посмотрите! — настаивал Зайчиков.
— Гля… пришел, увидел, победил? — неестественно засмеялся Самойленко. — С кем же вы это будете организовывать самодеятельность, хотелось бы знать? Людей-то у нас меньше, чем на руках пальцев…
— Ничего, можно!
— Чепуха! — оборвал Андрей Зайчикова. — Это тебе не город, а отдельная точка. Вообще ты соображаешь, куда попал? А театр — вот он!.. — И Андрей ткнул рукой в стенгазету.
Мухтаров шагнул к Самойленко:
— Зря, Андрей, обижаешься, ведь сам, наверное, чувствуешь, что не прав… Ты Программу партии изучал? Изучал. Моральный кодекс знаешь? Должен знать. А что в нем говорится? А там сказано, что каждый советский человек должен добросовестно трудиться на благо общества, проявлять высокое сознание общественного долга. Какой же ты комсомолец, если не хочешь со всеми вместе вперед идти?! Нет, сейчас немыслимо стоять на одном месте. Страна коммунизм строит, а ты тихой жизни ищешь. Солдатское ли это дело… Подумай, Андрей.
Самойленко не ожидал таких слов от Мухтарова. Не зная, что ответить, он вдруг махнул рукой и выбежал из помещения, столкнувшись в дверях с Шумовым. В руках инженер-лейтенанта была газета. Он развернул ее и спокойно сказал:
— Вот пишут здесь, что на горе установили радиотелепередаточную башню высотой сто метров. А гора эта находится в зоне действия нашей станции. Понимаете, что это значит?
Андрей не сразу ответил. Он не понимал, о чем говорит инженер-лейтенант. В его ушах еще звучали слова Мухтарова, и ему было безразлично, кто и где установил башню.
— Отражение именно этой башни, — продолжал инженер-лейтенант, — вы и приняли с Мухтаровым за цель. Вот причина вашей ошибки. Понял?
— Возможно… — краснея, ответил нехотя Самойленко.
— Теперь слушайте, что мне рассказал ефрейтор Зайчиков.
— Зайчиков? Опять Зайчиков…
— Да, Зайчиков… И слушайте, товарищ Самойленко, внимательно. Было это давно, года два назад, тогда Зайчиков только осваивал специальность оператора. Как-то на экране он заметил светящийся предмет, похожий на звездочку. О том, что она представляла собой определенную местность, ефрейтор не знал. Возможно, это была вышка или прожекторная башня. Спустя некоторое время Зайчиков к ней привык… А позднее ему пришла мысль: использовать «местник» для включения масштабной отметки. Он уже хорошо знал расстояние до отражающегося на экране предмета. Включив локатор, он тут же начинал искать звездочку. Если она светилась четко, значит, все в порядке, аппаратура работала хорошо, чувствительность приемника достаточная, стало быть, можно уверенно приступать к поиску цели. Это была его звездочка, она никогда не подводила оператора в работе. Мне кажется, что теперь и мы можем поступать так. Вот подумайте сами над этим предложением, а потом поговорим.
Андрей остался один. Что же это творится на белом свете?! Он был уверен, что Зайчикова придется брать на буксир, собирался уже это сделать, а получается наоборот. «Ну и дела! — вздохнул Самойленко. — Вот тебе и тихая точка!..»
После обеда Андрей заступил на пост. Он сразу увидел отражение башни. Она светилась тускло, расплывчато. Чертыхаясь, он сказал Мухтарову:
— Чепуха, выдумка, какой же это ориентир? Самые настоящие помехи…
Шумов распорядился усилить мощность генератора. «Местник» засветился ярко и четко.
— Как теперь? — спросил лейтенант.
— Хорошо-о!
— То-то, надо соображать. Видите, Самойленко, «местник», оказывается, не только помеха, но и хороший помощник.
Дежурство на этот раз прошло почему-то очень быстро. Когда возвращались в казарму, Андрей вдруг остановил Мухтарова и спросил:
— Али, ты понял, в чем дело?
— Еще бы!.. Звездочка не только ориентир, по ее свечению можно определить и напряжение генератора.
— Точно.
В ту ночь Андрей Самойленко уснул не сразу, долго ворочался, шумно вздыхал. Потом тихо окликнул лежащего на соседней койке Мухтарова:
— Ты спишь?
— Нет, Андрей.
— Почему?
— Не знаю…
Помолчали. Потом вновь отозвался Самойленко:
— Знаешь, Али, в школе на вечерах я читал со сцены рассказы Чехова. Получалось неплохо. Может, скажешь об этом Зайчикову, а?
Он поднял голову и увидел, что в комнате лейтенанта горит свет.
— Лейтенант не спит, — произнес Андрей.
— Хлопочет, чтобы служба шла без сучка, без задоринки. В Зайчикове опору нашел. Молодой, но упорный лейтенант наш, — тихо сказал Мухтаров.
5
Самойленко стоял у входа в казарму. Подходило время его дежурства. Он должен был сменить на станции Зайчикова. Андрей посмотрел на часы и почему-то задумчиво улыбнулся. Он держал в руках томик произведений Чехова: сегодня состоится репетиция кружка художественной самодеятельности.
Из комнатушки, в которой помещалась библиотека, слышался звучный голос Мухтарова. Али пел на своем родном языке. И хотя Андрей не понимал слов, мелодия нравилась ему, волновала. Самойленко окинул взглядом молчаливые горы. С юга надвигалась большая лохматая туча. Распустив до земли черные гривы, она увеличивалась на глазах. Дохнуло свежестью, и тотчас же засвистел в ушах ветер. В окно высунулся Мухтаров. Он с шумом втянул в себя воздух, затем сказал:
— Да, это настоящий шайтан-ветер. Ураган!
Вскоре хлынул дождь, вокруг все завихрилось, больно стегнул по лицу песок. Боковая стена дощатого сарая, в котором помещался дизель, вдруг наклонилась. Приподнялась и часть крыши. Мухтаров и Самойленко уже хотели было бежать к сараю, как с высотки к ним примчался Зайчиков. Придерживая с трудом фуражку, он прокричал:
— Инженер-лейтенант приказал срочно укрепить сарай, а то все разрушится.
— За мной! — вновь громко крикнул Зайчиков и бросился к штабелю бревен. Там лежали и щиты. Но ветер сбил его с ног. Андрей подхватил ефрейтора под мышки, поднял на ноги.
— Сначала бревна тащите, потом щит! — крикнул Зайчиков и пополз к штабелю. Уже вся постройка накренилась и, казалось, вот-вот рухнет. Ефрейтор с трудом поднял мокрое бревно, сделал несколько шагов, но поскользнулся и упал, ударившись плечом о камень. Перед глазами поплыли желтые круги…
Когда пришел в себя, урагана уже не было. Рядом стоял Мухтаров, мокрый, забрызганный грязью. Ревела сирена.
— Что с сараем?
— Устоял, Витя, все в порядке! — ответил Али. — Слышишь, тревогу объявили…
Зайчиков попытался подняться, но не смог. Самойленко взял его на руки и хотел было отнести в казарму, но ефрейтор остановил его:
— На станции, наверное, что-то случилось. Там инженер-лейтенант… Беги к нему, Андрей. Если что, по звездочке ориентируйся… Не теряй времени, беги!..
— А Зайчиков где? — с тревогой в голосе спросил Шумов, когда операторы прибыли в помещение станции. Инженер-лейтенант держал в руках телефонную трубку. — Зайчиков, спрашиваю, где? — повторил он.
— Ушибся, не может встать на ноги, — глядя на экран, ответил Андрей.
— Займи быстро место у экрана! — приказал Шумов.
Самойленко сел на скамейку. Чуть-чуть дрожали руки, на зубах хрустел песок.
— Круговой поиск! — послышалось в звукоговорящей системе.
— Есть, круговой поиск! — повторил Андрей и впился взглядом в экран. Возникла бледная отметка «местника».
— Усилить напряжение! — попросил он дизелиста и сам удивился своему строгому, четкому голосу. Звездочка засветилась ярко, так, как она отражалась, когда поиск вел Зайчиков. Плавно побежала по кругу развертка, высвечивая мелкие точки…
— Спокойно, спокойно, товарищ Самойленко, — сказал Шумов. Но Андрей не слышал лейтенанта: он весь отдался работе.
— Есть цель! — громко доложил Андрей и, отсчитав с помощью звездочки по масштабным отметкам километры, сообщил данные инженер-лейтенанту; Шумов тотчас же передал их на командный пункт. Прошло еще очень немного времени, и цель вдруг исчезла. Самойленко заторопился, пытаясь найти ее. Но тут раздался щелчок, и в динамике прозвучала команда:
— Цель уничтожена, отбой…
6
На взлетно-посадочной площадке готовился к вылету вертолет. Лежа на койке в полном обмундировании, Зайчиков в окно видел пилотов, хлопотавших у машины. Очень не хотелось ему улетать. Неделю он терпел боль в плече, упорствовал перед инженер-лейтенантом, когда тот предлагал отправиться в госпиталь. Потом прибыл врач и потребовал немедленной эвакуации. И вот сейчас, через каких-нибудь десять — пятнадцать минут, он покинет отдельную радиолокационную точку. Рядом с ним сидел Андрей. Он молча перелистывал книгу, но думал о Зайчикове: «Надо же было этой буре подняться!»
Али настраивал приемник. Мешали разряды. Мухтаров нервничал. Самойленко подошел к нему и помог поймать Москву. Послышался голос диктора:
— «…за достигнутые успехи в боевой и политической подготовке…» — Перечислялись незнакомые фамилии ракетчиков, операторов… Приемник затих, Мухтаров чуть повернул вправо рукоятку настройки, и разряды утихли.
— «…Рядового Самойленко Андрея Платоновича…» — прозвучало так неожиданно, что Андрей не сразу сообразил, что его наградили медалью «За отвагу». Когда понял, уронил книгу и закричал:
— Ребята, что же это такое?! Меня, медалью? За что?.. Это же все сделали наш лейтенант и Витя Зайчиков… Витя, — обратился он к ефрейтору. — Ты слышал? Как же это так? Я напишу в Москву…
В дверях показался Шумов. Самойленко бросился к нему:
— Товарищ инженер-лейтенант, вы слышали? Человека обошли.
— Слышал, успокойтесь. Помогите Зайчикову встать, вертолет готов к отлету…
Машина оторвалась от земли. Она уходила все выше и выше, Андрей провожал ее печальным взглядом. У него было такое чувство, словно улетал его родной брат. На высотке плавно покачивалась антенна, будто желала Зайчикову счастливого пути, быстрейшего выздоровления.
— Человек-то какой, а?! — произнес Андрей.
Все промолчали.
— Человек-то какой?! — громче повторил Самойленко. Но опять никто не отозвался. Андрею почему-то стало зябко. А Шумов все смотрел и смотрел туда, где, чуть дрожа, букашкой повис над горами вертолет. Когда же машина совсем растворилась в синеве, инженер-лейтенант повернулся к Андрею. Он долго смотрел в лицо оператору, и было в его взгляде такое, отчего Самойленко почувствовал теплоту в душе.
— Вот так, товарищ Самойленко… Теперь можно сдавать на первый класс. Пойдемте, я еще раз проверю ваши знания на макете, — сказал наконец инженер-лейтенант и первым направился к казарме.
УРОК ЖИЗНИ
1
Было раннее утро. На берегу реки стоял капитан Максимов. Он пришел выбрать место для предстоящего занятия по плаванию. Река медленно очищалась от тумана. Серые облака тянулись кверху, обволакивая верхушки верб. Из-за спины офицера доносился то топот ног, то дробные, будто вспышки аплодисментов, хлопки рук. И по тому, как утихал этот шум, Максимов догадывался, что физическая зарядка в роте подходит к концу. «Пора бы Орлову уже прибыть с докладом», — подумал капитан и взглянул на часы.
Орлов, солдат первого года службы, находился в свободной смене внутреннего наряда. Уходя к реке, капитан приказал ему сообщить, как только кончится физзарядка. Он мог бы и не требовать этого, но хотелось проверить исполнительность солдата. Максимов принял роту недавно, до этого работал секретарем комсомольского бюро части. И теперь старался использовать каждую возможность для знакомства с людьми, которых ему доверили учить и воспитывать.
Солдат, однако, опаздывал. Максимов поднял голову и увидел неподалеку командира восьмой роты майора Басова, стоявшего с солдатом у крутого обрыва.
— Ты чего здесь торчишь? Иди сюда, новость сообщу! — уперев руки в бока, позвал Басов капитана. Они были давние друзья. Шесть лет назад вместе окончили военное училище. Вместе прибыли в полк. Но служба у них сложилась по-разному: Максимова избрали секретарем комсомольского бюро части; Басов же, став командиром роты, спустя некоторое время начал подшучивать над своим другом: «Алексей, иди ко мне командиром взвода, если что подзабыл, поднаторю». Внешне это казалось шуткой. Однако добрая доля правды была в этой фразе. Получив звание майора, Басов и в самом деле возомнил себя всезнающим командиром роты. Но потом, когда узнал, что Максимов принимает роту, да еще девятую, о которой в полку говорили: «На то она и девятая, чтобы первой не быть», он был удивлен. «Алешка, комсорг мой праведный, ты с ума сошел! Зарежет тебя девятая», — заявил Басов Максимову в первый же день вступления в новую должность.
И вот теперь, стоя у обрыва с солдатом, Басов снова позвал к себе капитана. Тот подошел, а майор, словно забыв, зачем позвал друга, по-медвежьи повернулся к солдату:
— Раздевайся, Рыжов, не тяни волынку.
— Глубоко тут, товарищ майор, — передернул плечами солдат. — Могу утонуть, я ведь из сухопутных мест, степняк…
Басов молча сбросил с себя обмундирование и, ни слова не говоря, прыгнул в воду. Вынырнув, он крикнул:
— Прыгай, тебе говорят! Не утонешь, командир рядом!
— Вот напасть-то, — съежился солдат, глядя на Максимова.
Алексей знал Рыжова. В бытность секретарем комсомольского бюро ему не раз приходилось разговаривать с солдатом. Робкий. «С ним, вероятно, надо поступать как-то по-другому», — подумал Максимов и, быстро раздевшись, взял Рыжова за руку:
— Вместе пошли, не робей. Вот так.
Басов сделал большие глаза, что-то хотел возразить капитану, но сдержался. Он только отчаянно помотал головой.
— Портить людей и я могу… — произнес Басов, когда вместе с Максимовым стали выходить на берег. И, повернувшись к Рыжову, повысил голос: — Плавать вы будете, а сейчас марш к себе в отделение! Степняк!
Солдат оделся и вскоре ушел.
— Эх, Лешка, ты что думаешь: рота — это детский сад? — продолжал сокрушаться Басов, оставшись вдвоем с Максимовым. — Нет, брат, если ты с каждым, как с малым дитяткой, будешь цацкаться, командиром тебе не быть. Командир — это… — Басов выразительно посмотрел капитану в глаза и, не найдя подходящего для сравнения слова, умолк.
От реки они шли вместе, не спеша. Роща, палатки, лес уже были залиты солнцем.
— Может быть, ты и прав, — тихо отозвался Максимов и, подумав о чем-то, стал рассказывать, как бы поступил с Рыжовым.
— Учи рыбу плавать! — прервал его Басов и, заметив идущего навстречу солдата, замедлил шаг. — Твое чадо Орлов куда-то спешит.
— Ко мне. Опаздывает с докладом, — произнес Максимов.
— Вот сейчас посмотрим, с какой стороны ты к нему подойдешь, — уже свернув с тропки, бросил он капитану.
Басов удалялся напрямик, через саженцы, раздвигая деревца своими широкими плечами.
2
Басов нравился Алексею. Но чем именно, он и сам не знал. Может быть, вот этой уверенностью, с которой так легко и прямо решал любое дело. «Прыгай, тебе говорят!» — и баста. Вот так бы и ему, Алексею, поступить с Орловым: рубануть без оглядки — ведь на десять минут опоздал с докладом. «И накажу, — решил капитан, искоса поглядывая на подошедшего солдата. — Что же тут еще рассуждать?!»
Орлов стоял перед ним, вытянувшись в струнку, под гимнастеркой угадывалось крепкое тело, весь он был подтянутый, упругий. Лицо суховатое, чуть вытянутое, с мягким, доверчивым взглядом серых глаз. Максимов еще мало знал этого солдата, слышал лишь от командира взвода, что рядовой Игорь Орлов хорошо «крутит на перекладине солнце», и только.
Капитан вдруг резко повернулся к Орлову, спросил:
— Сколько сейчас времени?
— На десять минут задержался, товарищ командир роты. Умывальник приводил в порядок, сальник заменил. Пять дней течет… Лужа там образовалась непроходимая…
«Ну рубани! Опоздал же! — назойливо вертелась мысль в голове Максимова. — Что ж стоишь? Накажи!»
— Разберусь… — произнес наконец капитан и медленно зашагал к своей палатке. Орлов пошел за ним. А когда командир роты молча скрылся в палатке, солдат спохватился:
— Мне-то как быть?
— Входите, — послышался голос капитана.
Орлов вошел.
— Читайте вот это место. — Максимов подал Орлову раскрытую книгу. — Вот эти два верхних абзаца.
— Вслух читать?
— Можете читать про себя. Я уже читал, — произнес Максимов и вдруг вспомнил, что Басов так и забыл про новость, которую намеревался рассказать. «Вероятно, генерал решил провести учения», — подумал капитан и весь отдался этой мысли: он только принял роту, и ему не хотелось, чтобы учения состоялись в ближайшие дни… Надо было свыкнуться с личным составом, узнать подробнее о недостатках и достоинствах каждого, а тогда пусть…
Тем временем Орлов читал:
«Вася, что же это такое? Разве не мог хотя бы на минуту раньше? Ты же знал: один я, один я остался тут. Патроны кончились, камнями начал швырять, где там! Подползли на бросок гранаты… И вот как изувечили, гады. И пулемет изуродовали. Ты ведь солдат, Вася, как же мог опоздать?
Василий смотрел на искалеченные ноги Ивана Рыжова сначала тупо, как в тумане, потом с ясным, четким сознанием. И чем больше эта ясность овладевала им, тем глубже он понимал: никогда и ничем не сможет оправдать свою вину перед этим человеком. Он виноват!»
Орлова заинтересовала книга. Ему захотелось читать дальше, узнать, что станет с Иваном, Василием, но командир велел ему только вот это место прочитать и, видимо, ждет, что теперь скажет он по поводу прочитанных строк.
Ведь не без цели же дал он книгу?
Капитан сидел с закрытыми глазами. Потом решительно поднялся, взял полевую сумку и, вытащив топографическую карту, разложил ее на столе.
— Иван, видать, был хорошим бойцом, — робко отозвался Орлов.
— Какой Иван?
— Я о книге, товарищ капитан.
— Иван! — повторил Максимов. — Да, хорошим. Именно хорошим! — Он повесил сумку на место и вышел из палаты. Солдат поспешил за ним.
— Вы свободны, — сказал ему Максимов, направляясь к умывальнику. Орлов долго смотрел вслед капитану.
«Ну и ну, хотя бы отругал, что ли», — вздохнул он, чувствуя на душе тяжесть.
Проверив умывальник, Максимов успокоенно прошептал:
— Молодец, толково отремонтировал. А вот другие этого не сделали. — С минуту капитан рассматривал сальник и уже стал думать о солдате по-другому, хотя случившееся все еще продолжало его волновать.
— Алексей! — вдруг возник перед ним Басов. Он уже успел побриться, сменить полинявшую гимнастерку на новую и теперь выглядел помолодевшим, еще более подтянутым. — Я же обещал сообщить тебе новость, — подходя к умывальнику, сказал майор. — Не догадываешься о чем?
— Да вроде догадываюсь… Учение наметил генерал?
— Точно, угадал. Командирский нюх у тебя еще остался. Но слушай, Алешка, местность там песчаная, не грунт, а вода, сквозь пальцы течет, честное слово!
— Думаешь, не справлюсь?
— Ничего я не думаю, — скороговоркой ответил Басов. И, помолчав немного, добавил: — Признайся, ведь многое уже забыл, находясь на комсомольской работе?
— Да как тебе сказать… Может быть, и забыл кое-что, но стараюсь, так сказать, идти со всеми в ногу.
После занятий в жизни лагеря наступило некоторое затишье. Басов сидел на скамейке в квадратике, отведенном для курения. Над головой перешептывались листья березы, кругом было тихо, спокойно. Басов не переносил такие минуты, они были ему в тягость. Швырнув окурок в бочку с водой, он стал разглядывать каждый предмет.
— Черт знает что! — вдруг произнес он, заметив на песчаной дорожке кем-то брошенный лист бумаги. — Кто же это сорит мне тут? — Он перепрыгнул через штакетник и поднял смятый почтовый конверт. — «Рыжову Ивану Ивановичу», — чуть скривив левую бровь, прочел он не без удивления. — Такой робкий, воды боится, а уже Иван Иванович.
Прежде ему ни разу не приходилось разговаривать с Рыжовым о том, кто у него есть из родных и что ему пишут. Все как-то не находил подходящего случая, да и считал, ни к чему ему всем этим заниматься. Как правило, такие дела он передоверял секретарю комсомольской организации.
На какое-то мгновение им овладело сомнение. Стало неловко перед самим собой. Но это состояние длилось недолго. До слуха донесся голос Максимова. Басов тут же выпрямился и заметил группу солдат, склонившихся над огромным ящиком. Возле Максимова стоял Орлов и что-то ему объяснял.
«Колдует Алешка», — подумал Басов и, когда Максимов остался один, направился к нему. Подойдя к ящику, он стал разглядывать окопчики, вырытые в песке и укрепленные оплеткой из тонких лозинок.
— Сам придумал или инженер полка подсказал?
— Коллективно. Вместе с командирами взводов, — ответил Алексей. — Правда, хорошо получается, Сергей? Теперь солдаты каждый день будут тренироваться. А Орлов, знаешь, оказался таким смекалистым — любую вводную задачу решает. Я с ним лично занимаюсь. Думаю, на учениях он будет не последним. Вот посмотришь!
Басов присел на край ящика и заметил проходящего возле палатки Рыжова.
— А знаешь, Алешка, Рыжов-то мой — Иван Иванович! Не шути, брат, с ним… Письмо его нашел, — видимо, почтальон обронил…
— Какое письмо?
— Обыкновенное. Вероятно, от матери пришло.
— А ты не знал, что его зовут Иваном Ивановичем, что у солдата есть родители?
Нет, майор, может быть, и знал все это, но только из списков ротной канцелярии. Когда-то читал, а запомнил лишь то, что Рыжов — солдат, который обязан с полуслова понимать его, Басова, старшего командира в роте. Но вот имени и отчества солдата он действительно не знал. И майор почувствовал себя как-то неловко. Однако признать свою неправоту он и теперь не смог.
— У командира и без того хватает работы… — процедил Басов сквозь зубы и встал. — Через два дня учения… А с этим ящиком ты хорошо придумал…
3
Ночь была сухая, душная. И от этого, наверное, звезды казались искрами, неподвижно повисшими в темном небе. Идти по песчаной местности было невероятно трудно: земля словно уползала из-под ног. Но Максимов не мог сидеть на месте. Его все время одолевало какое-то беспокойство: а вдруг в окопах что-нибудь случилось, обвалилась земля и придавила Орлова. «А почему Орлова?» — тут же спрашивал себя Алексей и торопился на левый фланг, на стык с восьмой ротой, хотя знал, что ничего особенного не может произойти. Ведь он чуть ли не с каждым солдатом поговорил в отдельности, объяснил, как надо себя вести, что делать. Да и командиры взводов и отделений немало потрудились. И все же капитану не сиделось. «Старая привычка, — объяснил он свое состояние. — Комсомольская работа, она без людей — ноль без палочки».
Возле окопчика, расположенного на стыке с восьмой ротой, Алексей остановился. Из темноты доносились голоса, среди которых Максимов различал голос Орлова.
«А я беспокоился, тут все в порядке!..» — с удовлетворением отметил он. Подойдя к солдатам, Максимов вскоре незаметно включился в разговор. Деловые вопросы, веселые реплики людей радовали капитана: хорошо, когда в единый поток сливаются мысли командира и подчиненных!
На востоке появилась светлая полоска зари, капитан расстался с солдатами и поспешил на свой наблюдательный пункт.
— Сосед! — заметив Максимова, грудным голосом окликнул Басов.
Максимов остановился.
— Что, волнуешься, комсорг? — спросил с ноткой иронии Сергей.
— Есть немного, — признался Максимов.
— Слышал, какого посредничка нам бог послал?
Максимов отрицательно покачал головой.
— С двойной фамилией, подполковника Волкова-Краснощекова! Вот кого!.. Из штаба дивизии. Знакомая тебе личность?
— Знаю, очень точный человек.
— Вот об этом я и хотел тебе сказать. Уж очень точный этот Волков-Краснощеков! В прошлом году на проверке он твоего предшественника, майора Зубакова, как былинку, утопил, понимаешь? Срезал на вопросах! Ты учти это, Алешка! — предупредил Басов и повернулся к связисту. — Сазонов, ну-ка потревожь командиров взводов, как у них там дела, пусть проверят готовность отделений, — произнес он приказным тоном. И, обращаясь снова к Максимову, сказал: — Ох, не люблю тишины! И светает, черт побери, медленно. Ты что, там был? — Сергей взглядом указал на передний край.
— Был.
— Ну и что? Беседу провел?
— Провел.
— Похвально, Алеша, — уже вслед Максимову произнес Басов.
На востоке все шире разливалась розовая заводь зари, и на душе от этого становилось как-то веселее.
А вот и сигнал к атаке. Как ни готовился к нему Максимов, зеленая ракета появилась в небе внезапно. Началось!
Максимов взял у телефониста трубку, откашлялся (почему-то сразу пересохло в горле) и сначала неуверенным, а потом окрепшим голосом предупредил командиров взводов:
— К танкам держитесь ближе, вплотную. Понятно?
Ему хотелось отдать еще какое-то распоряжение, но он только приподнялся на носках и нетерпеливым взглядом окинул пустынную всхолмленную местность.
Прошло несколько минут, и Алексей, вскинув к глазам бинокль, увидел, как по песчаному отлогу катятся к высоте изломанные цепи атакующих солдат, вспыхивают и тут же гаснут разрывы снарядов «противника». На правом фланге особенно выделялся один человек. «Басов!» — определил Максимов и решил выдвинуться вперед. Он тут же связался по радио с командирами взводов, потом попросил комбата усилить артиллерийский огонь по второй траншее «противника» и поспешил к намеченному месту.
Вот-вот должен был начаться штурм высоты. Однако обстановка внезапно изменилась, «Противник» поставил огневую завесу. Ярко-желтая стена разрывов, колыхаясь и вздрагивая, протянулась на несколько десятков метров, окаймляя подступы к опорному пункту. Алексею казалось, что он даже издалека слышит тяжелое дыхание солдат, прижатых огнем к земле.
В поле зрения попался Орлов. Он, видимо, как и все, ждал от командира роты какого-то распоряжения. Да и самому Максимову не терпелось устранить эту гнетущую мертвую паузу.
— Эй, девятая, какого черта бездействуешь? — крикнул Басов, находившийся метрах в пятидесяти от Алексея.
Максимову сразу стало легче. Решил, что вместе они быстрее примут правильное решение.
— Сергей, слушай! — крикнул ему Максимов. Но тот вместо ответа молча провел ребром ладони по горлу.
— Не пойму! Что случилось?
— Этот Волков-Краснощеков вывел меня из строя… Я убит! — раздраженно крикнул Басов.
У Максимова возникла мысль самому броситься вперед и личным примером увлечь роту в атаку. Но, подумав, он решил, что в условиях современного боя такое примитивное решение может привести лишь к большим и неоправданным потерям в живой силе. Ведь еще в прошлую войну подобные действия командиров не всегда одобрялись. А сейчас, когда войска оснащены мощными средствами массового поражения, когда количество автоматического оружия в роте возросло в несколько раз, всякое лихачество достойно только осуждения. Не за эту ли показную храбрость поплатился сегодня Басов? Ничего не скажешь: скверную услугу оказал он своему подразделению, выйдя из строя в самый ответственный момент боевых действий.
Правильно оценив обстановку, капитан принял другое решение. Радист быстро связал его с артиллеристами, и через несколько минут Максимову сообщили:
— Артиллерия «противника» уничтожена!
Капитан тут же поднялся и, одним взглядом окинув свою роту, подал сигнал:
— В атаку!
— Ура-а!
— А-а-а… — отозвалось по всему фронту.
Максимов снова увидел Орлова. Тот бежал стремительно, напористо, увлекая других бойцов. Он словно на крыльях летел. У капитана вдруг возникло желание оказаться рядом с этим солдатом, взглянуть ему в лицо и сказать: «Вот так и держись на службе!»
4
Солдаты брились, утюжили обмундирование: через час они должны выехать к шефам, в колхозный клуб, на смотр художественной самодеятельности. Басов еще с утра проинструктировал старших, поговорил с секретарем комсомольской организации. Ему хотелось еще что-то сделать, но он тут же передумал: «Не на стрельбище ведь отправляются, притом и секретарь с ними едет!» Из головы не выходила мысль, от которой Сергей потерял всякий покой: почему девятая рота на учениях оказалась впереди восьмой и получила более высокую оценку. Правда, еще там, в поле, Басов слышал из уст генерала: «А девятая на этот раз подходяще у нас выглядит!» Но тогда майор не придал этому особого значения. Теперь же он никак не мог освободиться от назойливого вопроса: почему?
У здания клуба толпились солдаты. Они ждали машины, на которых должны были ехать в колхоз. Среди воинов Басов вдруг заметил Максимова. Алексей что-то оживленно рассказывал солдатам, и, видимо, веселое, поскольку оттуда то и дело доносились взрывы смеха. «Делать ему нечего, вот байки и сочиняет», — неприязненно подумал Басов и отвернулся, чтобы не смотреть в сторону Максимова.
Подошли машины. Они мигом заполнились солдатами и вскоре отъехали. Как только последняя машина скрылась за воротами, майор направился в учебный класс. Здесь, обложившись бумагами и книгами, он углубился в работу: читал, писал, изучал. Потом решил: «Через два дня проведу инструкторско-методические занятия с сержантами…»
Басов и в последующие дни много времени отдавал учебе. А когда поднимался из-за стола, вновь ловил себя на мысли: «Почему же девятая на этот раз выглядит подходяще?» Нервы у Сергея стали явно сдавать. Занимаясь в классе, он то и дело отрывался от книг, подходил к окну и смотрел на знакомые сопки, за которыми простиралась безбрежная ширь океана. Но и это не успокаивало. «Вот уже шесть лет, — думал Басов, — я служу у берегов этого Тихого, а по существу, вечно беспокойного океана». И вслух повторил:
— Да, беспокойного!
Потом мысли как-то сами собой перескочили опять на Максимова. «Интересный человек. С виду тихий, а вот на учениях обскакал. А я все время с ним — Алешка да комсомольский секретарь!» — упрекнул себя Сергей.
Выйдя из помещения, Басов заметил сидящего на скамейке Рыжова.
— Почему вы здесь? — подойдя к солдату, спросил он.
— Отдыхаю, товарищ майор. Только что сменился, дневальным стоял.
— Дневальным? Та-ак… А что это у вас за книга?
— Рассказы о фронтовиках, рядовой Орлов из девятой подарил. Он мой земляк, товарищ майор.
— Из одного села?
— Да, из одного.
— Ну-ка дайте, посмотрю. — Басов полистал книгу и тут же вернул ее солдату. — Ну-ну, читайте, это хорошо.
— Тут, товарищ майор, о моем отце написано. Товарищ Максимов разыскал эту книжонку.
— Об отце? Дайте-ка еще раз посмотрю. — Первые строчки очерка Басов прочел без особого интереса. Но вот:
«Василий смотрел на искалеченные ноги Ивана Рыжова сначала тупо, как в тумане, потом с ясным, четким сознанием. И чем больше эта ясность овладевала им, тем глубже он понимал: никогда и ничем не сможет оправдать свою вину перед этим человеком. Он виноват!»
Майор оторвался от книги и задумался: «Максимов и тут уже успел». Басов попытался поговорить с солдатом, но вскоре почувствовал, что беседа не клеится. Ушел, долго бродил по территории городка и, когда в воротах показались машины с возвращающимися от шефов солдатами, облегченно вздохнул.
Из кузова головной машины выпрыгнул Максимов. Видно было, что он сильно устал, но глаза светились, как прежде, живым блеском.
— Алешка, что же ты не сказал, что едешь к шефам? — упрекнул Басов своего друга.
— Учи рыбу плавать! — засмеялся Максимов.
— А-а, какая там к черту рыба! — хмуро сказал Басов и отвел Алексея в сторону. — Ты вот читал книжку про того, что остался без ног?.. Ну, которую ты дал Орлову…
— Читал.
— А знаешь, что Рыжов его сын?..
— Знаю, — спокойно, как само собой разумеющееся, ответил капитан.
— Эх, Алешка, Алешка, сосед ты мой праведный, что же ты молчал? — со вздохом произнес майор. — Понимаешь, что-то у меня сегодня муторно на душе, будто проглотил какую-то пилюлю. Это я, Басов, проглотил! — И, о чем-то подумав, добавил: — А ведь кое-чему ты меня все же научил, так сказать, урок жизни преподал. Ну, будь здоров! Да, да! Запомню я все это, пожалуй, навсегда!..
ЧТОБЫ — ВСЯ НАША ЖИЗНЬ…
1
Река клокочет, пенится, мелкие брызги образуют живой, шевелящийся занавес. Если хорошенько присмотреться, сквозь него можно увидеть быстро мчащийся поток водяной массы — плотной, как слиток свинца.
— Сила, а? Попробуй удержать! — восторгается Буянов. Он сидит рядом со мной на камне, зажав коленями автомат. Пилотка его сбита на затылок, хохолок волос подергивается на ветру, а из-под бровей светятся темные глаза.
— Конечно, если потребуется, укротят, — задумчиво продолжает Буянов. — Только для этого нужны крепкие руки и смелое сердце, как у той птицы, — взглядом показывает он на орла, парящего над висячим выступом скалы.
Высокие угрюмые горы кажутся мне спящими великанами: чуть колышутся их ребристые спины, местами обросшие густым кустарником и узловатыми деревьями. Откуда-то сверху внезапно набегает упругий поток и гнет к земле давно не чесанные головы приземистых уродцев. Но вскоре ветер выбивается из сил, и деревья снова погружаются в дремоту.
— Ты кем на гражданке работал? — спрашивает Буянов.
— Никем я не работал! — кричу в лицо Буянову. — Понял? Никем…
— Значит, бездельничал, — усмехнувшись, определяет он.
Буянова интересует все, а меня это злит. Почему — сам не знаю. Я молчу и неотрывно смотрю на шумный поток воды. Перед мысленным взором встает перепаханное глубокими воронками поле. Над ним плывет черный смрадный дым. Он разъедает глаза, и по щекам у меня текут слезы. Я крепко держусь за руку матери. За плечами у нее огромный рюкзак с вещами. Она идет рядом как тень, а впереди колышется цепочка людей, тоже уходящих из горящей деревни. Вдруг люди разбегаются в разные стороны: что-то со свистом проносится над головой и тяжело ударяется о землю, взметнув в небо огромный сноп огня. Испуганная мать мечется по сторонам, потом подхватывает меня под мышки, прижимает к груди и падает…
Буянов окликает меня. Мы встаем и идем искать мель. Нужно перебраться на левый берег реки. Но как? Вода бурлит, пенится, словно злится оттого, что ей некуда девать свою силу. Войди по колено — сразу собьет с ног, закрутит, как щепку в водовороте. А Буянов идет себе и идет, хоть бы словом обмолвился. Будто точно знает, что где-то есть переправа.
Пока о Буянове мне не известно ничего: откуда он родом, где прежде работал, кем. Сдается мне только, что не испытал он того, что я в своей жизни.
…После той роковой бомбежки, когда я потерял мать, подобрал меня бородатый мужчина. Посадил в повозку, сунул мне в руки румяное яблоко и, грустно улыбнувшись, сказал:
— Конец им пришел!
Я сидел на охапке соломы, пахнувшей спелым овсом, и ничего не понимал. Над степью еще висела черная с голубоватыми прожилками кисея дыма, а в деревне догорали хаты. Подхваченные ветром искры золотистыми роями летели к лесу. И не было на поле той колыхающейся людской цепочки, которую я не забуду никогда.
— Нехристям, говорю, конец пришел, — продолжал бородач, смахивая широкой ладонью угольную пыль с лошади.
Ехали мы долго, и за всю дорогу мужчина ни разу не повернулся ко мне. Я смотрел на его спину, а видел лицо матери с темными глазами и родинкой на щеке.
— Ты чей будешь-то? — уже во дворе спросил мужчина.
Я молчал.
— Значит, не знаешь своей фамилии… Что ж, так даже лучше будет.
Положив на мое плечо руку, шершавую, как кора старой вербы, сказал:
— Грач твоя фамилия, понял? Грач Дмитрий Васильевич.
Я силился вспомнить свою фамилию, но не мог: в голове все смешалось, а свирепый взгляд мужчины сковал мне язык.
— Огоньком меня звали дома, — буркнул я наконец. Это было все, что осталось в моей памяти.
У Грача прожил три года. Грачом я и убежал от него, когда со стороны леса стали доноситься орудийные выстрелы. Говорили, что там восток, что оттуда идет Советская Армия… Под фамилией Грач потом я попал в детский дом…
— Как на привязи тащишься, — оборвал мои мысли Буянов. — Разве так ходят разведчики? Тут каждый предмет надо взглядом ощупывать и запоминать…
Буянов долго и со знанием дела отчитывал меня. Это его право — он старший, третий год служит. Но я все еще нахожусь во власти воспоминаний и никак не могу понять смысл его нравоучений.
— Видишь сваи на той стороне?
Не сразу мне удается обнаружить сваи. Они торчат между камней, как жерла орудий, с наклоном от реки. Ну что ж, пусть себе торчат, видимо, здесь намеревались построить мост, а потом передумали. Для чего нам эти сваи и почему я должен их замечать?
— Переправляться будем здесь, более подходящего места не найти, — спокойно продолжает Буянов, снимая со спины сложенную восьмеркой веревку.
Река по-прежнему лютует. Бег ее так стремителен, что, если пристально смотреть на воду, кружится голова. Замечаю под ногами толстое полено. Беру и швыряю в воду: оно мелькнуло и исчезло вдали, за поворотом, будто его взрывом отбросило.
— Силища, а? — замечает Буянов, поблескивая глазами.
Он сбивает пилотку на затылок, хмурит густые брови, распуская капроновую веревку.
— Как по-твоему, метров сорок будет?
— Будет, — отвечаю, прикинув на глаз расстояние до противоположного берега.
— И я так думаю. Сейчас заарканим сваю, а другой конец привяжем к дереву и — перемахнем.
Буянов привязывает к веревке камень, чуть отходит от берега, размахивается. С приглушенным свистом веревочный диск прорезает воздух и точно опускается на сваю. Убедившись в прочности обмотки, Буянов подмигивает мне:
— Находчивость, ловкость не божий дар, а прямой результат солдатского труда.
Я молчу.
— Первым будешь переправляться, — распоряжается Буянов. Он смотрит на меня испытующе. А позади нас шум, шум… Слышал я, что горные реки могут быстро взбухать, даже в ясную, солнечную погоду: где-то далеко, в верховьях, выпадает обильный, проливной дождь, по каменистым лощинам и расщелинам огромная масса воды устремляется в русло реки и совершенно неожиданно захлестывает, заполняет низовье. Невольно смотрю в небо: облака мчатся на север.
Мой взгляд перехватывает Буянов, но ничего не говорит, только сощуривает глаза: видимо, догадывается, о чем я думаю.
— Смотри и запоминай, — коротко говорит Буянов и подходит к берегу. Под тяжестью его тела канат провисает, и спина Буянова почти касается бешено мчащегося водяного потока.
— Вот так! — кричит Буянов. Проскользив метров пятнадцать, он возвращается на берег.
— Ну как, одолеешь? Только честно, прямо скажи… Сорвешься, как то полено закрутит, «мама» не успеешь крикнуть.
«Пугает, — мелькает в голове. — Ничего, мы тоже не из робких». В лицо дохнуло жаром. Отчего это? Расстегиваю ворот гимнастерки, почему-то перестаю слышать шум реки.
— Только не смотри на воду, не смотри, понял?
Повисаю на веревке.
— Ладно уж…
И больше ничего не могу сказать. Автомат у меня на груди. Быстро мчатся облака, легкие, невесомые и далекие-далекие. Поднатуживаюсь: рывок, второй, третий — пошел. Вода холодит спину, а лицо по-прежнему горит. Очень уж длинны эти сорок метров.
— Держись, крепче держись! — кричит Буянов, но голос его кажется мне шепотом.
Поток прижимает к берегу, упираюсь в скользкие камни, не решаясь выпустить веревку из рук. Подо мной земля. Промокший насквозь, сажусь возле сваи и бездумно смотрю, как перебирается Буянов.
— Ну здравствуй, дружок! Молодец! — хлопает он меня по плечу.
А река шумит и шумит, и нет ей удержу, нет покоя.
— Полдела свалили с плеч. — Буянов надевает компас на руку. — Я буду продвигаться вперед, ты следуй за мной, смотри по сторонам, не забывай и про тыл. Пошли.
Но я не шевелюсь. Какой-то бесенок запрыгал у меня в груди. Чего Буянов все время твердит и твердит: смотри да смотри, не забывай про тыл. Остынь, Буянов!
— Погоди, куда нам спешить. Садись, — говорю я.
— Времени мало. Мы обязаны прийти на место ровно в девятнадцать.
— Ничего, не сгорит твое место, если и в двадцать придем. Полежим еще с полчасика…
Буянов передернул чуть приподнятыми плечами и впился взглядом мне в лицо.
— Я приказываю: встать!
И, повернувшись, размашисто зашагал вдоль берега.
В душе вспыхнула злость, а потом вдруг отозвалось: «Разве он сильнее? Иди, ведь ты же солдат».
И я встал.
2
В казарме тишина. Слышно, как у входа вышагивает дневальный. Топ-топ, топ-топ… Поворот — опять: топ-топ, словно маятник настенных часов.
Гудит и ноет все тело.
Топ-топ, топ-топ… «Присел бы, что ли, он, — досадую я, — будто по голове ходит». Смыкаю ресницы и словно наяву вижу перед собой командира учебной роты. «Отлично получилось у вас, — говорит он. — С Буяновым вы, товарищ Грач, нигде не пропадете. Садитесь на машину и — в город!» Майор видится мне точно таким, каким встретили мы его в горах, в условленном месте: чуть-чуть набок посаженная фуражка, на перекинутом через плечо коричневом ремешке висит собранная в тугую скатку новенькая плащ-накидка.
— Хорошо, — шевелит он губами.
Ничего себе, думаю, «хорошо» — руки и колени в ссадинах, и во всем теле до сих пор такая тяжесть, словно на мне пахали… Конечно, в пути я и виду не подал, что устал. Зачем уступать Буянову… Что он, сильнее меня?
Топ-топ, топ-топ… Снова открываю глаза и смотрю на дневального. Это Жора Ратников. Он высок ростом и немного сутуловат. Его круглая, коротко остриженная голова несколько наклонена вперед, а длинные с крупными кистями руки положены за спину. Ратников почему-то кажется мне знаком препинания — не то огромной запятой, не то вопросительным знаком.
«Надо уснуть… Уснуть, уснуть во что бы то ни стало, — твержу себе. Начинаю считать: — Раз, два, три, четыре, пять, шесть… Говорят, это помогает…»
Топ-топ, топ-топ…
Поднимаюсь, ощупью нахожу сапоги, достаю из кармана брюк спички, табак. Молча подхожу к столику дневального и, сев на табурет, закуриваю. У Ратникова округляются глаза, он смешно всплескивает руками:
— Да ты с ума сошел! Погаси папиросу и сейчас же спать, — шепотом приказывает он, наклонившись ко мне. — Ишь чего придумал: курить в казарме. Да мне за это так влетит!
Дневальный выхватывает у меня папиросу и бросает в урну.
Внезапно открывается дверь, и перед нами вырастает дежурный по роте сержант Шилин. Ратников вытягивается в струнку, потом поправляет на себе ремень и невпопад произносит:
— Товарищ сержант, это рядовой Грач…
Шилин подходит медленно. У него левое плечо ниже правого, голову держит несколько набок. Приблизившись к столику, строго спрашивает:
— Кто курил? Рядовой Ратников, отвечайте!
Я искоса бросаю взгляд на Жору: черные брови на растерянном лице напряженно сошлись у переносья. Как досадно ему сейчас!
— Я курил, товарищ сержант, — опередил я Ратникова.
— Здесь, у стола дневального?
Рука Шилина упирается вытянутым указательным пальцем в зеленое сукно, которым накрыт стол.
— Вы нарушили воинский порядок! Вы… Ладно, поговорим завтра. А сейчас марш в кровать.
Молча ухожу и ложусь в постель. Закрываю глаза и думаю: «Нарушил порядок! Неужели так будет все три года? Можно ли служить без этих нарушений? Буянову это удается. Видимо, у него особый характер или талант к военной службе».
Наконец-то сон начинает одолевать, глаза слипаются, но теперь мне почему-то хочется их открыть. Ратников уже не ходит. Облокотившись о стол, он сидит и о чем-то думает. Губы его шевелятся, словно он повторяет про себя что-то заученное.
Утром после завтрака меня вызвал командир роты. Товарищи не спрашивают зачем. Они уже знают про ночной случай.
— Погоди, как это произошло? — останавливает меня встревоженный Буянов.
— Не знаю… Случилось — и все… — бросаю на ходу и спишу к двери с табличкой «Командир роты майор М. В. Копытов». Буянов удивленно смотрит мне вслед. Перед дверью невольно останавливаюсь и замираю. Из канцелярии доносятся шаги: они то нарастают, то стихают.
— Дима, там генерал, из округа, — шепчет подбежавший Буянов, и я затылком чувствую его горячее дыхание. — Иди, не заставляй ждать, у него дел побольше, чем у нас с тобой.
Стучу в дверь.
— Войдите! — раздается незнакомый голос.
Решительно вхожу и докладываю о прибытии.
До этого я видел генерала всего один раз, да и то издали. Он среднего роста. Волосы аккуратно зачесаны, виски тронуты сединой. Лицо крупное, суровое, а взгляд теплый, располагающий. На правой щеке, у самого уха, небольшой шрам — след старой раны.
Смотрю на генерала и никак не могу оторвать от него глаз. Бывает же так! Стараюсь отвернуться — не получается. Словно какая-то сила притягивает к этому человеку. Начинаю часто моргать, чтобы хоть как-нибудь взять себя в руки. Генерал, видимо, замечает это и ласково, по-отечески, спрашивает:
— Значит, ваша фамилия Грач. А как вас зовут?
— Дмитрием, — отвечаю и думаю: издалека подходит.
Майор Копытов стоит у стола и время от времени посматривает на меня. Он, как всегда, опрятен и подтянут. Не зря Буянов старается ему подражать во всем.
— Командир роты докладывал мне, что вчера вы отлично выполнили трудное задание.
При чем тут, думаю, задание. Вчера я курил в казарме, об этом и спрашивайте. Генерал садится на стул, скрещивает руки, некоторое время выжидает и снова спрашивает:
— Что ж молчите, товарищ Грач? Рассказывайте, как было.
— О чем рассказывать, товарищ генерал, — решаюсь наконец на откровенный разговор. — Устал с непривычки, долго не мог уснуть… Ну и вышел к дневальному покурить. Ратников тут не виноват, он приказывал мне бросить папиросу…
Генерал строго взглянул на Копытова. Лицо его сразу преобразилось, глянцевитая полоска на щеке задергалась, но теплота в глазах не пропала, а только чуть-чуть ослабла.
— В казарме курили? — снова повернулся ко мне генерал. — Разве вы не знали, что этого делать нельзя? — Поднявшись, он начинает ходить по канцелярии молча, будто находится здесь один.
— Конечно знал, — отвечаю, — но…
— Грач, значит, ваша фамилия! — остановился генерал, окидывает меня пытливым взглядом с ног до головы. Шрам на щеке уже не дергается.
— А все же расскажите, как вы переправлялись через реку. — Он вновь шагает по комнате.
— Не помню, товарищ генерал…
— Как же это так? — Взглянув на Копытова, он смеется, потирая руку об руку.
— Так, не помню, и все. Буянов приказал — я и пополз по канату. Видел только облака, а потом свалился…
— В воду?
— Нет, на камни, был уже на берегу.
— И все?
— Все…
— Что ж, Михаил Васильевич, позовите тогда Буянова. Вы, товарищ Грач, на занятиях действовали отлично, но вот курить в казарме… За это в армии наказывают. Нарушение порядка. Впрочем, можете быть свободны. Погодите минутку. Скажите, где вы родились?
— На Украине.
— Где именно?
— Не знаю.
— Вот как! Вы что же, совсем не помните своих родителей?
Моя голова клонится на грудь. Снова перед глазами живая людская цепь, взрывы. «Зачем он меня об этом спрашивает, ведь все знают, что сирота». Чувствую, как тело охватывает мелкая дрожь. А генерал все ждет моего ответа. Я поднимаю голову: генерал стоит суровый, тяжело задумавшийся. Но он тотчас же поворачивается к Копытову и снова велит отпустить меня и позвать Буянова.
3
За курение в неположенном месте я получаю наряд вне очереди. Целый день чищу картошку, мою посуду в солдатской столовой. К вечеру едва не валюсь с ног от усталости. Наконец приходит смена, и я выхожу из столовой.
До казармы в роту можно пройти через скверик, сделав крюк. Хочется отдохнуть, подышать свежим воздухом, и я неторопливо бреду по аллее. Впереди замечаю девушку. Она, видимо, тоже не торопится. Вот уже отчетливо вижу ее загорелую шею; уши маленькие, аккуратненькие, а мочки вроде просвечивают на закатном солнце. Дышит на ветру легкая прядь волос. Девушка оглядывается. Теперь я узнаю ее. Несколько раз уже встречал, она, должно быть, живет в военном городке. Киваю ей, как старой знакомой. Она приветливо улыбается. Молча идем рядом. Потом девушка садится на скамейку.
— Люблю это место. — Она глубоко вздыхает. — А что вы стоите? Садитесь.
— Не могу, надо в роту идти…
Но она как будто не слышит меня, продолжает:
— Я здесь на каникулах, к отцу приехала.
Заинтересованный, я присаживаюсь рядом.
Она рассказывает про пищевой институт, экзамены, про какого-то Павла Ивановича, который каждую лекцию начинает словами: «Владыка сего мира! Это кто? Его величество — труд!» Оказалось, что девушка увлекается живописью, но отец не признает ее увлечения.
— А вы художник? — неожиданно спрашивает она. — Я однажды слышала, как вас так звали солдаты. И у майора спрашивала. Он подтвердил, что вы неплохой художник. — Ее глаза широко открыты, в центре зрачки — живые, мигающие.
Я почти не слушаю ее. «Художник, художник… — Меня обжигает это слово. — Надо, наверное, идти».
— Как вас зовут? — спрашиваю девушку.
— Алла.
Возвращаюсь в казарму с большим опозданием. У входа встречает майор Копытов:
— Где были?
Что я могу ответить? Еще чувствую запах духов, и весь я там, в сквере, рядом с Аллой.
— Гулял, — коротко отвечаю Копытову.
— Кто отпустил?
— Никто, сам пошел…
— Будете строго наказаны, товарищ Грач.
К гауптвахте надо идти через весь гарнизон. Сопровождает меня Буянов.
— Тебя когда-нибудь били, Грач? — спрашивает он.
— Нет.
— Меня тоже не били. А вот отца моего однажды очень крепко побили, без ног возвратился домой. Я еще маленький был. Спрашиваю его: «Где ноги-то потерял?» Он сгреб меня в охапку, прижал к груди и говорит: «Фашист отшиб». «Чего же ты ему поддался?» — спрашиваю. А у отца слезы на глазах: «Не знаю. Из винтовки стрелял хорошо, да раздробило ее в бою. Пулеметчики, которые рядом вели огонь, погибли. Подполз я к пулемету и так поверну его и этак — не стреляет, хоть умри. А фашист прет и прет. Вдруг граната рядом разорвалась, по ногам ударила. Вскоре наши отбросили фашистов, подобрали меня. А потом в госпитале врачи малость подкоротили мне ноги. Вот и стали они теперь коротышками…»
И знаешь, — продолжал Буянов, — отец себя винил за то, что так получилось. Оказывается, до этого командир не раз говорил ему: солдат должен знать все виды оружия, из пулемета тоже надо уметь стрелять. Но батька мой не послушал доброго совета, думал: «Владею винтовкой — и ладно…» Вот и поплатился за свою нерадивость. Понял, Грач?
— Если бы ты знал, какая она красивая, — тихо проговорил я, не глядя на Буянова.
— Красивая! А служба, дисциплина? Разве об этом можно забывать?
…В камере гауптвахты тишина невероятная. Где-то за печкой надрывается сверчок. До чего ж противно свистит! Я только что возвратился с работы. Мыл полы в караульном помещении. Часть готовится праздновать свою очередную годовщину, и поэтому всюду наводится особый порядок.
Через маленькое окошко мне виден почти весь городок. Вот идет генерал в сопровождении дежурного. Наверное, обходит гарнизон… Неужели и сюда заглянет?
Сверчок по-прежнему сверлит тишину. Потом слышу движение за спиной. Так и есть — генерал все-таки зашел на гауптвахту. Дверь открывается, и я вытягиваюсь по стойке «смирно». Генерал останавливает взгляд на мне. Кажется, узнал. Нахмурившись, спрашивает:
— А вы как сюда попали?
Молчу.
Генерал кивает сопровождающему его дежурному:
— Можете быть свободны.
Дежурный уходит.
Мы стоим друг против друга.
— Ну-с, рассказывайте…
Я рассказываю. Ничего не скрываю. Генерал слушает внимательно. Когда я умолкаю, он спрашивает:
— А сами как оцениваете свой проступок?
Честно признаюсь:
— Не знаю, товарищ генерал!
Он некоторое время молча вышагивает от стены к стене. Я недоумеваю: как может генерал интересоваться делами рядового солдата, вникать во все мелочи?
— Командир роты майор Копытов докладывал мне, что вы будто чем-то недовольны, ожесточены. Скажите откровенно — чем?
Сквозь решетку пробивается луч заходящего солнца: золотистый снопик падает прямо на стол. В камере светлеет. Я рассказываю все как есть. Ничего не скрываю.
— Воспитывался в детском доме. Потом начал работать. Почему-то получалось так, что люди, с которыми приходилось встречаться, чаще всего смотрели на меня как на неисправимого. Стоило ошибиться, как они тут же говорили: «Что вы от него хотите, безотцовщина». Я привык к этому, хотя всегда, как только слышал такие слова, мне становилось не по себе… А здесь я даже не сказал никому, что у меня нет родителей. Вам первому говорю: мать погибла под бомбежкой, отца не помню, знаю, что был военным.
Генерал опять стал ходить от стены к стене.
— Грач… гм… — тихо говорит он, словно разговаривает с самим собой. — На Западной Украине такие фамилии часто встречаются… Это ваша фамилия или в детдоме вам дали?
— По паспорту Грач.
Когда генерал ушел, я снова стал смотреть в окно, но его больше не увидел. Наверное, он пошел дальше осматривать гарнизон. А мне почему-то вдруг захотелось еще раз увидеть генерала…
Примерно через полчаса меня вызывает начальник гауптвахты:
— Вам повезло. В честь праздника амнистию получили. Идите и больше не появляйтесь здесь. Место это позорное.
4
Сегодня воскресенье. Многие, получив увольнение, ушли в город. Моя очередь наступит теперь не скоро. Когда же я снова встречусь с Аллой?!
В ленинскую комнату входит командир роты.
— Скучаете? Пойдемте погуляем, — предлагает майор.
На улице хорошо. Только что прошел небольшой дождь. Воздух свежий, дышать легко. Копытов идет, заложив руки за спину. Пока молчит. Интересно, о чем он думает. Наверное, собирается опять беседовать о моем проступке. Уже целую неделю в роте толкуют обо мне: Грач такой, Грач сякой. Да и как не говорить? Проступок-то действительно неприятный.
— Вы в шахматы играете? — вдруг спрашивает майор.
— Слабо.
— Может, зайдем ко мне, сыграем?
Недоуменно смотрю на него, но Копытов уже берет меня под руку и говорит решительно:
— Пошли.
Входим в дом. Майор заглядывает на кухню:
— Марина, гостя принимай!
— Это кто же? — спрашивает она, бросив на меня беглый взгляд.
— Гроссмейстер, — отвечает майор. — Знакомься: Дмитрий Грач. — И тут же распоряжается: — Ты нам чаю приготовь, пожалуйста.
— Садитесь, — предлагает он мне. — Вот вам альбом, полистайте, пока я за шахматами схожу.
Я раскрываю альбом. Майор возвращается с шахматами, садится рядом, и мы вместе начинаем просматривать фотокарточки.
— Память о фронте, — с нескрываемой гордостью поясняет Копытов. — Сорок четвертый год. Тогда я был ординарцем у заместителя командира дивизии.
На снимке рядом с полковником стоит солдат и с мальчишеской напускной серьезностью смотрит в объектив, положив руку на огромную кобуру.
— Знай наших! — улыбается майор, показывая на солдата. — Это я. Вояка что надо! Полковник Огнев так меня и называл. Разве не узнаете? Это же наш командующий округом генерал Огнев. Ну, давайте расставлять фигуры.
Мы начинаем партию. Игрок я неважный, но майор играет еще слабее. Выигрываю слона, затем ладью. Однако доиграть партию нам так и не удалось. В городке объявили тревогу.
Строй ритмично колышется: влево-вправо, влево-вправо… Иду замыкающим. В первом ряду на правом фланге Жора Ратников, над его плечом торчит ствол автомата. Где-то там и Буянов. Я успел рассказать ему, что был на квартире у командира роты. Буянов тут же заметил:
— Ты должен стараться. Понял? Старательным всегда легче…
Да, надо стараться, я ведь дал слово генералу. Фамилия генерала мне кажется почему-то знакомой. Но где же я мог ее слышать? Огнев…
И вдруг по ассоциации я невольно вспоминаю свою детскую кличку Огонек. По телу пробегает дрожь. Я чувствую, как загорелось лицо, застучало в висках.
Строй останавливается. Копытов вызывает к себе командиров взводов, солдатам разрешает перекур. Как-то сами собой образуются группы солдат, и в каждой из них возникают свои разговоры. А Буянов всегда возле меня. Он уже рассказывает:
— Это я слышал от одного фронтовика. Под Ростовом было. Наши наступали. Вдруг распоряжение закрепиться. Все быстро окопались. А один молодой неопытный солдат — Василием его звали — отрыл себе окоп точь-в-точь, как цветной горшок: внизу узко, вверху широко. Фашисты в это время открыли сильный артиллерийский и минометный огонь. Осколки снарядов и мин, как пчелы, зажужжали вокруг. Когда кончился обстрел и Вася выглянул из окопа, лицо у него было белее мела. Да, жутковато приходится на поле боя тем, кто плохо подготовлен.
Слушаю Буянова, а в мозгу пульсирует одно и то же слово: «Огонек», «Огонек»…
Снова идем вперед. Команда «К бою!». Наступаем короткими перебежками. Вот я сделал очередной бросок и лежу в небольшом углублении. Жесткие стебли травы немилосердно колют тело. Но шевелиться нельзя: надо выдержать «мертвую паузу». Стараюсь даже не дышать. Местность впереди открытая. На плоской, как блин, равнине — один-единственный небольшой бугорок, увенчанный невысоким кустом шиповника. Покачиваясь на ветру, кустик приветливо машет ветвями, словно зовет к себе. Решаю, что именно там отрою себе окопчик, и делаю стремительный рывок. Трещат сухие автоматные выстрелы. Слышится голос командира отделения сержанта Шилина:
— Стой, окопаться!
Тороплюсь расчехлить лопату. Куст укрывает меня от палящего солнца, и я без передышки долблю землю. Хочется раньше всех отрыть окоп. И мне это, кажется, удается. Ложусь в углубление, но ноги мои остаются открытыми.
— Окопались, товарищ Грач? — спрашивает внезапно выросший около меня Копытов.
— Окопался.
Майор ложится рядом, берет комок земли, разминает его в руках и отбрасывает в сторону.
— Перебежки вы делали хорошо, — задумчиво говорит он, — а вот место для окопа выбрали неудачно. Ведь куст — прекрасный ориентир. Противник без всякого труда может вести по вас прицельный огонь. Учтите эту ошибку. Да и ячейку надо удлинить, чтобы ноги не торчали…
Не успел командир роты уйти, как появился Шилин.
— Ведь показывал же вам, что и как делать! — нервничает сержант.
— Ничего, окрепнет, — успокаивает Шилина майор и спешит куда-то.
— Сейчас я снова покажу вам все действия от перебежки до отрывки ячейки. Но уж потом как следует спрошу, не обижайтесь, — волнуясь, говорит Шилин. Видно, ему больше, чем мне, стыдно перед майором за мои ошибки.
— Смотрите.
Шилин бежит к лощине, падает на землю. Потом легко подскакивает и стрелой мчится на пригорок. Расчехлив лопату, он четкими, уверенными движениями быстро отрывает великолепную ячейку, точь-в-точь такую, какая нарисована в книжке по инженерной подготовке.
— Повторите! — приказывает сержант, а сам, чтобы лучше наблюдать за моими действиями, отходит в сторону.
Земля бросается мне под ноги. Бегу быстро. Еще быстрее работаю лопатой.
— Плохо, не годится, — укоризненно говорит Шилин. — Попробуйте еще раз.
Повторяю все сначала.
— Вот теперь хорошо, — одобряет он. — Эх, ты, художник!.. Ведь можешь стать отличником.
5
Над горами черной букашкой висит вертолет. Он становится все меньше и меньше и наконец растворяется в небесной синеве…
Мы сидим на скалистой террасе. Шилин рассматривает карту. Ветер треплет ее, и мне кажется: командир отделения держит в руках трепещущую птицу, готовую вырваться и улететь. Буянов проверяет нашу горную амуницию.
У меня такие же вещи, как и у каждого разведчика, — груз внушительный. Но странное дело: сейчас я почти не ощущаю его. Может быть, оттого, что перед вылетом на задание Буянов почти каждый день дополнительно тренировал меня в свободное время. Потирая хохолок темных волос, он приговаривал: «Старайся, друг, старательным легче живется».
Сержант Шилин, сложив карту, объявил, как будем продвигаться.
Первыми уходят Шилин с двумя солдатами.
Где-то на самой вершине горы Высокой расположена площадка. Там у «противника» промежуточная база для заправки самолетов. Мы должны пробраться туда, «взорвать» склад с горючим и возвратиться на террасу. Здесь нас будет ждать вертолет, на котором прилетит командир роты.
Подъем становится все круче. Слышу, как тяжело дышит идущий следом за мной Жора Ратников. Он делает неосторожный шаг, и из-под ног у него сыплются камни. Буянов делает ему строгое предупреждение.
— Вот как надо ставить ногу, — показывает он Ратникову.
Жора признает только замечания командира. Он снимает с головы пилотку, вытирает с лица пот и недовольно ворчит:
— Знаю я, как ходить. Но ты ведь сам, Буянов, видишь, что идем не по Дерибасовской. Кстати, ты когда-нибудь был в Одессе?
— Пошли! — коротко бросает Буянов, не отвечая на вопрос Жоры.
Дорогу нам преграждает обрыв. Подходим к самому его краю.
— Здесь где-то, — говорит Буянов.
— Да вот же они! — вскрикивает Жора и, довольный тем, что ему первому удалось увидеть товарищей, замечает Буянову: — А ты, старшой, упрекал: «Неправильно ставишь ногу!» Мне еще папаша когда-то говорил: «Глаза у тебя, Жора, далеко видят…»
— А под носом ничего не замечают! — Буянов быстро хватает его за плечо и отталкивает от обрыва.
— Что случилось? — недоумевает Жора Ратников.
— Видишь, — показывает Буянов на трещину в грунте, где только что стоял Жора. — Еще одна секунда — и ты бы… полетел в тартарары.
Буянов с силой топает ногой, и вниз с шумом падает глыба земли…
— Ну и ну!.. — крутит головой Жора.
Обходным путем спускаемся вниз. Шилин спрашивает у Буянова, как мы вели себя на маршруте.
— Все шли нормально, — коротко отвечает Буянов.
— А он? — показывает на меня сержант.
— Подходяще. — Это любимое слово Буянова. — Подходяще, — повторяет он и вместе с сержантом начинает сверять карту с местностью.
Жора, положив ноги на камень, лежит на спине и мурлычет какую-то песенку. Потом, опершись на локоть, замечает:
— Заберемся мы под облака, а там никакого «противника» нет. Вот обидно будет!..
— Сам знаешь, Жора, противник условный, — отзываюсь я.
— Условный! — смотрит на меня Ратников. — А вот горы самые настоящие, и мы самым безусловным образом поливаем их своим потом.
— Что, на выдох идешь? — Мне делается почему-то весело.
— Кто? Я? — поднимается Жора. — Анекдот! Я же из Одессы, парень морской закалки. — И он тихонько поет: «Шаланды, полные кефали, в Одессу Жора приводил…»
— Не Жора, а Костя, — замечаю я.
— Э-э, что ты, Грач, понимаешь, — отмахивается он.
…На очередном отрезке маршрута продвигаемся цепочкой. Подъем настолько крутой, что кажется, будто земля дыбом становится. Впереди меня идет Жора. Иногда он оборачивается, и я вижу его лицо, все в капельках пота, но по-мальчишески задорное. И все же я слежу за Жорой. Вот круглый камень выскользнул у него из-под ног, и Жора как подкошенный упал на меня, больно ударив в грудь автоматом, дыхание перехватило.
— Ушиб? — спрашивает Шилин.
Я не вижу сержанта, слышу только его голос: расплывшиеся перед глазами желто-красные круги мешают рассмотреть командира отделения.
— Ничего, пройдет, — наконец произношу с трудом.
Отдыхаем в кустарнике. Шилин разрешает открыть консервы, поесть. Сам он сразу принимается раскладывать карту. Буянов сидит между мной и Жорой Ратниковым. Вид у него спокойный и бодрый — не скажешь, что он находится уже пять часов в пути. Съев консервы, Жора открывает флягу с водой. Но прежде чем сделать несколько глотков, шутливо укоряет меня:
— Надо быть более внимательным, разве ты не знал, что я упаду на тебя. Сними гимнастерку, заштопаю дыру.
Он берет иголку и, наклонившись, молча зашивает. Закончив штопать, толкает в бок присмиревшего Буянова:
— А тебе приходилось дома выполнять такую работу?
— Не только штопать, но и стирать, — охотно отвечает Буянов. — Бывало, в страдную пору, когда отец с матерью все время в поле, я двух младших братишек обстирывал. Соседские девчонки надо мной смеялись, прачкой дразнили.
— Девчонки — вредное племя! — восклицает Жора. — Когда мне было десять лет, я не умел плавать, ходил на море с надувной камерой. Как-то барахтаюсь у берега, подплывает ко мне этакая быстрая щучка и хватается за камеру. Я ее отпугнул. Но она все-таки успела проколоть камеру. Ну я и начал пузыри пускать. Чуть не утонул… Тонькой ее звали, ту щучку… А вот сейчас письма мне шлет. Антонина! Хорошая девчонка! А в общем-то они вредные. Вот и Дима из-за одной на гауптвахту угодил…
— Приготовиться! — обрывает наш разговор командир. Шилин складывает карту и подробно объясняет, как мы должны двигаться к площадке, занятой «противником».
…Путь длинен и тяжел. Перед маршем Копытов сказал мне, что генерал Огнев интересовался, как я себя веду, держу ли свое слово. Что ж, после этого признаться, что мне трудно? Ни за что!
Ночь проводим в небольшом каменистом углублении, посменно дежурим, ведем наблюдение за «противником». Мы с Жорой только что сменили Буянова. Скоро будет рассветать. Камни остыли, холод пробирает до костей, а подняться нельзя, надо лежать неподвижно. Ледяная земля, ледяной автомат. Тишина до звона в ушах. Слышен стук собственного сердца. И вдруг тело начинает цепенеть. Голова невольно опускается к земле.
— Слышишь? — шепотом окликает Жора.
— Что?
— Голоса…
Напрягаю слух. Словно сквозь сои, улавливаю отдельные слова. Потом снова наступает тишина. И опять сковывает оцепенение.
— Дима, — шепчет Жора. — А правда хорошо, что нас вот так посылают? Закалка! Она для разведчика первое дело.
— Чего вы тут шепчетесь? — подползает к нам Шилин. — Прекратить!
Шилин неподвижно сидит минут двадцать. До слуха долетают какие-то шорохи, обрывки фраз.
— Ясно, — делает вывод сержант.
Меня он посылает в распоряжение Буянова, а сам остается на месте.
— Осмотри портянки и подгони хорошенько снаряжение, — советует мне Буянов. Потом мы ползем меж камней, все ближе и ближе к складу «противника». Буянов велит мне замереть на месте и быть начеку. Сам уже по-пластунски ползет дальше. Он должен поджечь склад.
Где-то поблизости находятся солдаты соседней роты, изображающие противника. Если они обнаружат нас, вылазка будет считаться проигранной.
Все четче вырисовываются горы. Они выплывают из темноты, молчаливые и суровые. Я осматриваюсь и ищу место получше, чтобы вовремя заметить сигнал Буянова и продублировать его Шилину. Над головой висит каменистый выступ. Если забраться на него, оттуда будет удобнее наблюдать за Буяновым. Подтягиваюсь на руках. Уже виден стог. Надо подняться еще выше. Неосторожное движение — и я падаю с выступа.
— Грач! — слышу голос Буянова. Приподнимаюсь и вижу голову Буянова, торчащую над выступом. — Быстрее вылезай! Склад поджег, горит, проклятый, здорово!
Один за другим гремят выстрелы. Стиснув зубы, бросаюсь по крутому скату наверх. Буянов подхватывает меня за руки. На этот раз он не ворчит. Все больше и больше я начинаю уважать этого человека. Да и он вроде бы потеплел ко мне. А может быть, он таким и был?
— Ты чего губы искусал? — сощурив глаза, спрашивает Буянов.
Я молчу, любуясь жарким костром.
— Может быть, ты и язык откусил? — не унимается Буянов.
— Губы? Ах, вот ты о чем, — отзываюсь я. — Давеча о консервную банку поранил.
Признаться, что упал с выступа, не могу. Стерпится боль.
Мы спускаемся вниз.
— А хромаешь тоже от мясной тушенки? — снова спрашивает Буянов.
— Это тебе показалось!
— Конечно показалось, — соглашается Буянов. Но после второй остановки решительно требует: — Дай-ка мне автомат, тебе полегче будет.
— Не отдам!
— Чудак ты, Дима! Я ведь сам все вижу! Ну ладно. Сейчас встретим своих…
И верно: навстречу нам идет Шилин. У сержанта на груди бинокль.
— Почему задержались? — спрашивает он. — Вертолет уже сел. Сюда прибыл сам генерал Огнев.
Буянов медлит с ответом. Видимо, ему не хочется признаться, что виноват в этом я. Что ж, сам доложу. Но трудно даже пошевелиться: так отяжелело все тело.
— Ушибся он, — говорит Буянов.
Шилин приказывает взять у меня автомат. Я протестую.
— Не кипятись, рядовой Грач, — успокаивает он. — С кем не бывает. Ведь солдатская стежка не из легких. Понял?
Как в тумане поднимаюсь в вертолет и почти падаю на сиденье. Кто-то подносит мне флягу ко рту. Несколько глотков — и мне становится легче.
Мы в воздухе. Надо мной склоняется генерал. Пытаюсь подняться.
— Сидите, сидите…
Сержант подробно рассказывает генералу, как прошли занятия. Говорит он тихо, потом я совсем перестаю слышать его слова. Усталость окончательно взяла верх.
Просыпаюсь от сильного толчка. С трудом открываю глаза. Вертолет уже приземлился.
И вот мы на аэродроме. Стоим у автомашин, чтобы ехать в расположение своей части. Сейчас начнется посадка. Буянов спрашивает меня:
— Ну как?
— Ничего.
— А вообще парень ты огневой.
— Меня в детстве Огоньком звали…
Стоявший неподалеку генерал резко оборачивается и пристально смотрит на меня. Должно быть, он слышал наш разговор.
Генералу подают «Победу». Он открывает дверцу, но почему-то не садится. Снова оборачивается и смотрит на меня.
— Огонек! — вдруг окликает он.
У меня подкосились ноги. Перед глазами вырастает живая цепочка людей, взрывы бомб, неподвижное тело матери…
— Дима! — Генерал протягивает вперед руки и медленно подходит ко мне. — Дима! — глухо повторяет он.
Я растерянно смотрю на него. А его руки уже лежат на моих плечах.
— Отец!
…Всю дорогу он рассказывает, как искал меня, как десятки людей, в том числе и майор Копытов, помогали ему отыскать иссеченную временем и поросшую быльем тропинку к потерянному сыну. И нашли все же…
Прошел уже год, как отец служит в другом месте. Каждую неделю получаю от него письма. Первое начиналось так:
«Дорогой Дима! Мы оба солдаты, должны делать все, чтобы никогда не повторился сорок первый год. Я знаю, тебе нелегко лазить по горам, проводить бессонные ночи в засадах, преодолевать крутые подъемы в стужу и под палящим солнцем. Но солдату это очень нужно, необходимо».
…Вокруг гарнизона все те же горы. Только люди в роте выросли. Буянову присвоили звание сержанта. Жора бросил курить. Шилин уволился в запас, уехал в Сибирь строить металлургический комбинат.
Мы с Жорой Ратниковым часто ходим на учебные задания. Когда бывает трудно, я рассказываю товарищам о войне — о живой человеческой цепочке, которую запомнил на всю жизнь, о гибели матери, о сожженной фашистами деревне. Жора при этом становится мрачным и торопит меня:
— Пошли, чего ждать!…
Мы идем. На пути — горные реки, скалистые вершины. Но разве они могут остановить солдата!
Мы идем.
— Огонек! — окликает меня Жора.
«Огонек!..» — повторяет в ущелье эхо.
Мы идем. Там — на озаренной солнцем вершине — ждет нас очередное задание.
И мы его выполним, чтобы Шилин спокойно трудился на стройке, чтобы девушка Алла, которая часто шлет мне письма, успешно окончила учебу… И вообще мы идем во имя многочисленных «чтобы»… Перечислить их невозможно: чтобы — вся наша жизнь…
ОБЕЛИСК В РОЩЕ
За воротами ефрейтор Громов остановился. Прямо перед ним серой лентой уходила вдаль асфальтированная дорога, обсаженная деревьями по обочинам, правее шоссе лежало размашистое поле, а за ним возвышался лесок. Лесок как лесок — стройные сосны да ели, таких рощиц на родине, близ Подмосковья, много, но этот Громов теперь не забудет никогда…
Случилось это несколько недель назад. Шли тактические занятия. Надо было перебежать поляну: на противоположной стороне ее уже сосредоточилась вся рота, а он, Громов, замешкался — под ноги попался кусок колючей проволоки. Пока освобождался от цепких когтей неожиданного препятствия, местность оказалась под обстрелом «противника», и ее уже нельзя было пересечь напрямик. Командир взвода кричал ему:
— Правее бери! Правее!
Громов, пригнувшись, бросился в сторону, перепрыгнул через небольшой ровик, заросший травой, пополз, плотно прижимаясь к земле. Как он ни старался без передышки обогнуть поляну, все же остановился на одну минутку, чтобы смахнуть с лица пот. Когда Громов это сделал, увидел прямо перед собой одиночную могилу, увенчанную обелиском. Сергей торопливо прочитал написанные у самого основания памятника слова: «Филипп Карпович Громов». Прочитал просто так, но тут же, через секунду, вздрогнул:
— Громов!.. Громов Филипп Карпович…
От наступившей вмиг слабости Сергей уткнулся лицом в жесткую траву. Но тотчас же приподнялся, зашептал вдруг пересохшими губами:
— Отец, отец…
— Громов! Да где вы там, Громов?! — надрывался лейтенант. А он лежал и ничего не слышал: чудилось, что это зовет вовсе не командир взвода, а его сердце выстукивает фамилию отца… Когда наконец понял, что его ждут, поднялся во весь рост, зашагал напрямик, держа пилотку в руках. Он шел, чуть покачиваясь, не обращая внимания на вспышки взрывпакетов, глухо хлопающих вокруг. Кто-то тронул его за плечо. Громов остановился, увидел перед собой командира взвода. Лейтенант смотрел на него с удивлением, ожидая объяснений. Потом вдруг взял ефрейтора под руку, участливо спросил:
— Что случилось?
— Мы его столько лет ждали… Сообщили ведь, что без вести пропал… Думали, вот-вот отзовется, — надевая пилотку, проговорил Громов.
— Кого ждали? — не понял лейтенант, он все еще держал солдата под руку.
— Отца… Оказывается, погиб. Здесь похоронен, — взглядом показал в сторону обелиска Громов.
И вот вчера все это подтвердилось документами. Громова вызвал к себе командир части. Он долго с ним беседовал, обещал сообщить матери и ему посоветовал сделать то же. Он, конечно, напишет, но ему хочется побольше узнать об отце: как погиб, при каких обстоятельствах…
Скрипнула калитка. Громов обернулся — за спиной стоял лейтенант, подтянутый, в выходном обмундировании. Доброе курносое лицо командира взвода было чуть смущенным.
— Может, вдвоем сходим?
— Да нет, спасибо, товарищ лейтенант, тут же рядом. — Громов показал на рощу. — Полтора километра…
— Ну-ну, хорошо, — согласился лейтенант и, напутственно помахав рукой, прикрыл за собой калитку.
Громов шел не спеша, с теплотой вспоминая о товарищах по роте. Все эти дни они относились к нему с заметным сочувствием, особенно командир взвода. Но никто не напоминал об отце, хотя Громов видел, что многие солдаты ждут, когда он расскажет обо всем сам. А что он мог им сказать? Он знал об отце столько же, сколько и они узнали от командира полка: погиб близ маленькой немецкой деревушки, похоронен в роще. По словам местных жителей, как сообщил полковник, русского офицера похоронили ночью, но кто это сделал — никому до сих пор не известно.
Ветер дул в лицо. Качались верхушки деревьев, распевая свою лесную непонятную песню. Они были немыми свидетелями последнего для отца боя. Громов попытался нарисовать себе картину сражения. В воображении Громов видел разрывы снарядов, идущих в атаку солдат, озлобленные лица фашистов. А вот отца он никак не мог представить, может быть, потому, что в действительности он его очень смутно помнил: отец ушел на фронт, когда Сергею исполнилось четыре года, и он знал его больше по рассказам матери…
Прежде чем подойти к могиле, Громов зачем-то отыскал знакомую проволоку, долго смотрел на колючий поржавевший виток. Затем, разломав его на мелкие кусочки, втоптал их в землю. Он помыл руки в лужице, вытер платком и с душевным облегчением побрел к обелиску.
Как и в прошлый раз, обелиск был ярко освещен солнцем. На звезде и гранях искрились светлые лучики, отчего казалось, что внутри этой металлической пирамидки горит огонь. На могиле лежали цветы — свежие, с капельками воды на лепестках, видно, кто-то принес их совсем недавно. Громов огляделся по сторонам, надеясь увидеть того, кто пришел сюда раньше его. Но вокруг было пустынно, только сосны нарушали тишину своим дремотным шепотом. Опустившись на колени, Громов долго вглядывался в надпись. Буквы то приближались, то вдруг уплывали от него далеко-далеко. Громов вспомнил мать. Она встала перед ним как живая. Он видел ее седые волосы, натруженные работой руки, перебирающие бахрому шали. Мать так всегда делала, когда, придя с работы, вспоминала об отце. Громову даже почудились ее слова: «Он ведь не погиб, может быть, и найдется». Да, мать еще надеялась, надеялась все эти долгие годы…
— Эх, мама, мама! — вдруг вырвалось из груди, и Громов, зажав ладонью рот, чуть пригнулся, боясь как бы не услышали его возглас. Неожиданно он увидел чьи-то ноги, обутые в поношенные рыжие ботинки на толстой подошве.
— Камерад!.. Товарищ!.. — позвал на ломаном русском языке тот, кто стоял неподалеку от могилы. Громов поднялся.
Отряхиваясь и расправляя складки под ремнем, он вопросительно смотрел на незнакомца.
— Это не матка… Здесь лежьить офицер, мужчина, — пояснил тот, переминаясь с ноги на ногу. У немца было иссеченное морщинами лицо, под стекляшками очков таились спокойные чуть с прищуром глаза. Старенький синий берет надвинут низко на лоб. Он стоял перед Громовым, вытянув длинные нескладные руки по швам. Видимо, это была давнишняя привычка так вот стоять по-солдатски.
Незнакомец ожидал, что ефрейтор что-нибудь ответит, но Громов молчал, хотя ему мучительно хотелось спросить: «А вы-то откуда знаете, кто здесь лежит?»
Мужчина подошел к ефрейтору вплотную. Теперь Громов слышал его тяжелое, прерывистое дыхание — ему словно не хватало воздуха.
— Русский офицер, — то ли спрашивая, то ли еще раз поясняя, повторил незнакомец.
— Русский… Мой отец, — тихо отозвался Громов.
— Отец, фатер! — удивленно произнес мужчина и поспешно снял с головы берет. Потом показал рукой на стоящую в стороне скамейку, пригласил сесть.
Они опустились по краям скамьи. Солнце ушло за верхушки деревьев. Но звезда и грани обелиска продолжали светиться. Глядя на могилу, Громов снова попытался представить идущих в атаку: он почему-то был убежден, что отец погиб именно в момент атаки. Он закрыл глаза — впереди, в темноте, выросли огненные султаны, заплясали по бескрайнему полю…
— Меня зовут Курт, слышишь, камрад?..
Громов открыл глаза, слегка повернул голову.
— Курт, говоришь?
— Курт…
— Воевал? — спросил Громов.
— Воевал, — тихо подтвердил мужчина.
Громову стало вдруг душно. Расстегнув ворот гимнастерки, он сказал уже громче:
— В каких местах?
— Здесь, Берлин, вокруг, — не сразу ответил Курт. Он с трудом достал из кармана пачку сигарет и протянул Громову.
Громов резко встал. Сердце билось с замиранием, лицо обжигало невидимое пламя. Стараясь успокоиться, унять нервную дрожь, Громов отошел к обелиску. Постояв так с минуту, он снова вернулся к скамейке. Только сейчас он заметил, что у мужчины не сгибается левая рука: тот, закуривая, управлялся одной правой.
— Воевал, — прошептал Громов и, не попрощавшись с незнакомцем, быстро направился к дороге.
— Камерад, — услышал он за спиной голос Курта, хотел оглянуться, но только вздернул плечами и безотчетно перешел на бег.
Наступившая неделя была трудной для Громова. Дни казались длинными и тяжелыми, хотя, в сущности, они мало чем отличались от прежних: взвод занимался в классе, выезжал в поле, и он, Громов, как всегда, выполнял свои обязанности помощника командира стрелкового отделения. Хотя нет, дважды он подменял командира, отлучавшегося по служебным делам. В эти дни солдаты изучали устройство стрелкового пулемета. Громов хорошо знал оружие, мог с завязанными глазами разобрать и собрать его. Но когда стал объяснять и показывать неполную разборку пулемета, вдруг почувствовал, что работается медленно — руки дрожат, слушаются плохо. Заметил это и лейтенант, подошедший к концу занятия. Когда Громов освободился, лейтенант отозвал его в сторону, спросил:
— Что с тобой?
Громов, приподняв взгляд на командира, вздохнул:
— Пройдет, товарищ лейтенант.
— Не вешай головы, Сергей. Много их, наших, пропавших без вести, лежит на военных кладбищах. У меня отец тоже не вернулся с фронта, под Будапештом погиб. А теперь мы с тобой в армии. Стоим мы здесь, в Германии, для того, чтобы не было в мире новых могил.
— Да я понимаю, товарищ лейтенант, — уклонился Громов от дальнейшего разговора.
Громов старался — работал сам, учил солдат, полагая, что в труде можно заглушить боль. Но Курт нет-нет да и возникал вдруг перед ним — неловкий, какой-то виноватый. «Воевал здесь…» — произносил про себя Громов фразу, резанувшую по сердцу. И ему снова становилось душно, как там, возле скамейки.
И вот неделя кончилась. Опять провожал его за ворота командир взвода. Только на этот раз лейтенант немного прошелся рядом с ефрейтором по дороге. Когда остановился, чтобы повернуть обратно, спросил, внимательно вглядываясь в Громова:
— Один пойдешь?
— Один, — пряча глаза, ответил Сергей.
Свернув в поле, он помахал вслед офицеру букетом. Цветы принесла утром жена командира взвода Ольга Петровна. Он мало знал эту женщину и очень был удивлен, что и ей известно о могиле отца. Букет был большой. Он напоминал тот, что в прошлый раз лежал у подножия обелиска. «Может быть, за кладбищами ухаживают наши женщины?» — подумал Громов и быстрее зашагал к роще: ему хотелось, чтобы было именно так.
Еще издали заметил он человека, сидящего на знакомой скамейке. Без труда узнал в нем Курта. Остановился у ровика, раздумывая, что делать — так не хотелось вновь встречаться с немцем, видеть его испещренное морщинками лицо, тонкий нос, потертую куртку. «Что ему тут нужно», — злился Громов, стараясь укрыться за стволом дерева. Сосна была высокой, вершина ее раскачивалась где-то далеко вверху, а над ухом поскрипывала старая кора. Скрип ее неприятно действовал на Громова.
Незнакомец, видно, уходить не собирался. Громов, досадливо махнув рукой, перепрыгнул через ровик. Курт, увидев ефрейтора, поднялся, но, заметив, что солдат не обращает на него внимания, опустился на прежнее место. Громов, подойдя к могиле, снял пилотку, сразу заметил у подножия обелиска холмик цветов. Он посмотрел на свой букет, без труда понял, что цветы совершенно разные.
За спиной громко чиркнул спичкой Курт. И опять Громову сделалось как-то душновато. Он шагнул к обелиску и, не отдавая отчета в том, что он делает, наклонился, сбил в сторону холмик цветов и на место их возложил свой букет. Откуда-то налетел резкий порыв ветра. Букет, вздрогнув, перевернулся несколько раз и прижался к общей массе цветов, смешался. А Громову хотелось, чтобы его цветы выделялись. Он уже протянул руку, чтобы возложить букет на видное место, как к нему подошел Курт. Громов выпрямился, привел в порядок свои волосы.
— Камерад, — голос немца дрогнул, но взгляд его был полон участия. — Послушай, товарищ…
— Ну, что вам надо? — резко спросил Громов.
Не отвечая на вопрос солдата, Курт протянул на раскрытой ладони орден Красной Звезды. Красная эмаль ее во многих местах была повреждена, серебро потускнело.
— Я снял с отец твой… Бери.
— Ты? — вскрикнул Громов. — Зачем ты встретился мне?! — простонал Громов и, скрестив на груди руки, пальцами вцепился в предплечья. Он шагнул к скамье, сел, все еще боясь за себя. Громов глядел в землю, но видел лишь носки куртовских башмаков. Шумели сосны. Он не слышал их: страшно колотилось сердце, а в ушах еще звучало: «Я снял с отец твой, я снял с отец твой…»
— Я, — присаживаясь рядом, сокрушенно произнес Курт и, пользуясь молчанием солдата, продолжал: — Отец твой Филипс. О, гут, гут! — Он произносил слова то по-немецки, то по-русски с большими паузами. Медлительность эта раздражала Громова. «По-вашему Филипс, а по-нашему Филипп, ну и что дальше?» — хотелось крикнуть незнакомцу, по Громов сдерживался, боясь разогнуться или подняться на ноги: казалось, стоит только повернуться к этому человеку, и он снова может вспыхнуть. Да мало ли что может произойти с ним, когда все тело так напряжено, гудит каждый мускул?! Чтобы не слышать, о чем говорит Курт, он зажал ладонями уши. Но какая-то не поддающаяся ему сила заставляла улавливать отдельные слова и фразы мужчины.
— Встретились мы в лесу…
— Ты его убил? — наконец сорвалось у Громова. — Ты?
— Я был ранен в руку, а Филипс в живот… Надвигалась ночь… Филипс страдал… О, это был сильный человек!.. Умирая, он написал… Марта спряталь записку.
— Марта!
— Да, моя жена фрау Марта. И орден твой отец она спрятала. Долго искаль и нашель… Отец твой писал тут…
Теперь на его широкой ладони вместе с орденом лежала и записка, свернутая в несколько раз. Сергей вскочил на ноги.
— Значит, ты его убил? — повторил Громов. На какое-то мгновение перед ним ярко вспыхнула картина жестокого боя. Она заслонила собой все. И он не видел ни протянутой руки, ни ордена с запиской, ни самого Курта. Когда Громов пришел в себя, первое, что он заметил, это удаляющуюся фигуру немца. Тот уходил медленно, тяжело переставляя ноги. Левая рука его как-то неестественно раскачивалась, словно это был привязанный к плечу обрубок толстой жерди. Скрипнула калитка, и Курт скрылся за деревьями…
На скамейке лежали орден и записка. Сергей, о чем-то подумав, развернул клочок бумаги и сразу же узнал характерный почерк отца — сколько раз он, уже взрослым, перечитывал его письма! Прочитав записку несколько раз и схватив орден, Громов бросился к калитке:
— Ку-урт! Ку-урт!
В низине рощи отозвалось глухо:
— Ку-урт… Ку-урт…
Это вторило эхо…
Вокруг никого не было. Опершись локтем о дерево, Громов смотрел на обелиск. Теперь ему не требовалось напрягать свое воображение, чтобы представить картину гибели отца. Он думал о другом — о человеке с безжизненной, как плеть, рукой. Хотелось, чтобы Курт возвратился. Но он не появлялся… А ефрейтор все ждал и ждал…
За спиной послышался шорох.
— Товарищ, — не меняя своей позы, с облегчением заговорил Громов. — Вы уж меня извините… Война-то какая была. Они нас так разозлили, эти фашисты. Но теперь мы вместе и знаем, что делать нам, простым людям, чтобы не повторилось прошлое. Вы понимаете меня, Курт?.. Камерад Готше?..
Сергей поднял голову: перед ним стоял командир взвода.
— Ничего, ничего, говори, говори, — заметив смущение ефрейтора, сказал лейтенант.
— Что говорить… Вот прочитайте, — протянул Громов записку.
— «Товарищ! Я, Громов Филипп Карлович, разведчик 27-го стрелкового полка, умираю от тяжелой раны. Во время разведки боем я был тяжело ранен. В это время наши отошли. Я скрывался в лесу. Под вечер на меня набрел немец. Хотел его убить: в моем автомате были патроны, и я бы его убил, если бы в это мгновение не потерял сознание от острой боли. Пришел в себя в каком-то подвале. Возле меня стоял этот человек. Я опознал его сразу. Только на этот раз у него была окровавленная рука. Потом появилась женщина. Она бросилась перевязывать рану мужчине. Но он настоял, чтобы сначала была оказана помощь мне.
Курт Готше рабочий, а его жена Марта — домашняя хозяйка. Я рассказываю о них потому, что убежден — таких немцев большинство. Они — наши верные друзья. Товарищи, верю, что честные люди Германии будут жить в вечной дружбе с советским народом.
Лейтенант Громов Филипп Карпович».…В выходные дни Курт просыпается очень рано. Но Марта опережает его — она ждет мужа во дворе с корзиной цветов. Они вместе выходят за ворота. Минуту-другую стоят молча. Потом она поправляет ему берет и торопит:
— Ну иди, иди, Курт. Встретишь младшего Филипса, добрый привет от меня.
Младший Филипс — это Сергей Громов. Да, они — Курт Готше и ефрейтор Громов — теперь встречались часто у могилы лейтенанта Громова.
Примечания
1
Спасибо тебе…
(обратно)2
Обманываешь…
(обратно)





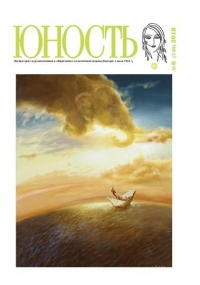
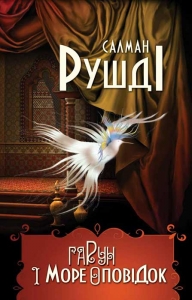
Комментарии к книге «Беспокойство», Николай Иванович Камбулов
Всего 0 комментариев