Андрей Кокотюха Червоный
Специальная премия за лучшее историко-патриотическое произведение Международного литературного конкурса романов, киносценариев, пьес, песенной лирики и произведений для детей «Коронация слова—2012».
Война после войны
Прошло уже двадцать лет после отмены советской цензуры, но только теперь появляются художественные произведения о другом, нешаблонном измерении Второй мировой и «войны после войны», последние салюты которой прозвучали только в 1960 году, когда украинские повстанцы дали свой последний бой. Это и хорошо, и плохо. С одной стороны, заинтересованный читатель смог ознакомиться с энным количеством научных и публицистических текстов о тех временах, увидел несколько документальных и художественных фильмов и в целом понимает, что это за времена. С другой стороны, события того времени ну никак не плоские, там очень мало «белого» и «черного».
Жаль, что так мало литераторов рискнули осмыслить то время, раскрыть намерения и показать характеры действующих лиц — как видных, так и абсолютно обыкновенных. Драма украинцев, зажатых между двумя тоталитарными «социализмами» — интернациональным и национальным, жизнь «на грани двух миров», стоит того, чтобы ее рассказали. В этом смысле роман Андрея Кокотюхи «Червоный» обречен на прочтение.
Червоный — это, конечно, выдуманный персонаж. Никакого Остапа, командира летучей группы УПА Данилы Червоного, не существовало. Это собирательный образ тридцатилетних, часто безымянных героев того времени. Героев — именно в литературном значении этого слова, без оценки. Кажется, только упоминанием горбинки на носу автор отсылает к немногочисленным фото главного командира УПА Романа Шухевича. Да и не факт — разве мало таких рыцарей родили в начале ХХ века волынские и галицкие мамы?..
Это была война без линии фронта. Точнее, этот фронт извилисто прошел через хутора, дворы и отдельные дома. Больше десяти лет люди этого края жили в условиях, когда день и ночь принадлежали разным «властям».
Светило солнце: это было время Советов с украинскими школами, о которых так мечталось «при ляхах», где «москальки», юные учительницы русского языка — милые девчушки, — учили детей стихам о дружбе, чести, Родине и обязательно о товарище Сталине. Это кажется нелепым, но именно их жизни стоили меньше всего. Не нужные никому. Точнее, всем были нужны их бездыханные тела — как наглядные примеры изуверства «украинско-немецких буржуазных националистов». Например, ребятам из леса — для распространения страха, хотя это была легкая и не слишком почетная добыча советской власти с ее пропагандой.
Когда наступала ночь, власть менялась. Крестьянин, почтальон или председатель колхоза, демобилизованный воин рабоче-крестьянской Красной армии, комсомолец и даже орденоносец мог оказаться мстителем или головорезом — называйте как хотите. И неизвестно, кто отдавал ему приказ отправляться в лес — друг-руководитель из УПА или майор МГБ. Бандеровцы переодевались в красных, а у красных специальные отряды выдавали себя за подразделения УПА.
Кто-то не поверит, но все описанное автором имеет документальную основу — вплоть до того, как спецслужба ловила лидера повстанцев «на женщину». Или то, что в 1950-х в советских лагерях Севера действовала разветвленная подпольная националистическая сеть. Или то, что за сбор фактов о повстанцах в 70-х попадали в «дурку».
Читателю, который возьмет в руки эту книгу, предстоит пережить три отдельные истории, которые в конце сложатся в один пазл. Воспоминания, записанные со слов «актеров второго плана» — милиционера Михаила Середы с Востока Украины, кагебиста Льва Доброхотова или бывшего красноармейца-таксиста Гурова — дают возможность прожить жизнь Данилы Червоного, быть вместе с ним так долго, как этого требует авторский замысел. А потом… А потом, после прочтения книги, поговорим. Будет о чем.
Вахтанг Кипиани, главный редактор сайта «Историческая правда»
Три тетради
Прежде чем предложить вам историю, ради которой вы взяли эту книжку в руки, считаю необходимым сказать несколько слов от себя.
Много времени мне не потребуется. Но без моего краткого вступления непросто понять, почему публикация этих трех тетрадей под одной обложкой и к тому же в виде художественного произведения для меня лично если не дело всей жизни, то точно — результат определенных усилий.
Зовут меня Клим Рогозный, полное имя — Климентий. Однако, узнав, что родители назвали меня в честь Климентия Ворошилова, который умер именно в тот день, когда я родился, я поменял паспорт. Правда, вышло шило на мыло, потому что так называемого первого красного офицера все звали Климом, но тогда, в 1996-м, когда мы меняли советские паспорта на украинские, это был единственный спонтанный протест, который я мог себе позволить. Потому что тогда меня и так все знакомые знали как Клима. Согласитесь, переименовываться, скажем, в Петра было бы, как говорит мой сын-студент, тупо. И единственное, что я смог сделать, чтобы у самого себя не ассоциироваться с советским полководцем, — переписаться с Климентия на Клима и поменять в паспорте дату рождения. Теперь там записано 4 декабря 1969 года.
Возможно, кому-то мои попытки хотя бы таким образом выдавить из себя советскую власть покажутся как минимум смешными. Однако я решил рассказать именно об этой небольшой детали, чтобы пояснить, почему в свое время озаботился тем, чтобы сложить вместе три тетради и довести дело своего дяди Григория Титаренко до конца. Потому что в этой истории моя роль очень скромная. Главное в свое время сделал именно он, мой родной дядя.
Именно он собрал и записал в трех тетрадях все, что удалось узнать о командире УПА, взводном Даниле Червоном.
Именно на это дело Титаренко положил собственное здоровье и жизнь. А я только нашел тетради и довел его до конца.
С дядей Григорием я почти не общался при его жизни. Он был даже не близким родственником: двоюродный брат матери, или, как она сама говорила, кузен. Хотя были в нашей семье времена, когда мне казалось — человека ближе, чем Титаренко, для родителей не существует. Такое впечатление сложилось потому, что о кузене очень часто вспоминали. Правда, с возрастом я понял: о нем говорили не потому, что он был так уж близок моим родителям, а наоборот — они пытались держаться от него как можно дальше. Причем делали это иногда публично, открещиваясь от кузена даже на семейных праздниках, когда за столом собиралось множество народу.
Тогда я еще был слишком мал и, признаться честно, верил в то, что советская власть — самая справедливая и лучшая в мире, потому у нее так много врагов. Одним из них, несомненно, родители считали маминого кузена. Как-то я подслушал их разговор, тогда же впервые услышал от папы: «Правильно, что его закрыли в дурдоме! Там ему и место! Это же лучше, чем куда-нибудь в лагеря, в Мордовию или на Урал». Мама соглашалась: «В лагере не выживет. И не перекуется. К тому же он теперь в больнице, значит, теоретически можно считать Гришу больным». — «Ага, лучше, если он будет больным, — поддержал отец. — Если бы его судили и посадили, представь, чем бы это вылезло нам с тобой». — «Боком бы вылезло, — бубнила мама. — Крест на карьере, сто процентов».
Мне было десять, и о карьере я знал только то, что за ней гонятся карьеристы, это плохо, ради карьеры они готовы продать как родную мать, так и родину; и вообще, карьера — это хорошо только в мире, где правят капиталисты. Поэтому не совсем понимал, о чьей карьере беспокоятся родители. Потом, став взрослее и умнее, я мысленно отмотал назад события 1980 года и теперь могу выстроить логическую цепочку.
Оказывается, маминого двоюродного брата, журналиста Григория Титаренко, признали психически больным и поместили в соответствующее лечебное учреждение. А могли посадить в тюрьму, причем по статье шестьдесят второй Уголовного кодекса Украинской ССР: антисоветская агитация и пропаганда. Хотя, скорее всего, его деятельность подпадала под статью сто восемьдесят седьмую дробь один — распространение клеветнических измышлений, порочащих советскую власть. Это позволяло отправить дядю в лагерь к уголовникам. И таким образом ни о какой политике речи и не было бы. В частности, о таких заключенных никогда не заговорило бы радио «Свобода».
Эта «неполитическая» статья была выгодна всем. Ведь отец тогда работал инструктором в горкоме партии, к повышению готовился, а мама — лектором общества «Знание», специалистом по борьбе с негативным влиянием западной культуры на нашу молодежь. Оба, ясное дело, партийные, и стоило только кузену матери загреметь за антисоветскую деятельность, продвижение по службе для обоих моих родителей автоматически осложнялось.
Это потом я узнал — отец подключил своих знакомых по максимуму, чтобы дядю Григория вместо тюремной камеры закрыли в дурке. Упростило ситуацию то, что кузен жил в Чернигове, а это как-никак глухая провинция по тогдашним советским меркам. То есть далеко не только от Киева, но и от Москвы — с местными договориться проще. Тем более такому солидному человеку, каким считался в то время в Чернигове инструктор горкома партии из Киева.
Не знаю деталей, знаю только о результате ходатайств: Титаренко надолго закрыли в ровненском психоневрологическом диспансере. Потом перевели для каких-то исследований в Киев, в Павловскую больницу, затем — назад в Чернигов, потом — в Днепропетровск. Это была печально известная психиатричка, через которую прошел не один десяток инакомыслящих. Выпускали на какое-то время, потом снова забирали, и вот так продолжалось лет шесть. Затем началась перестройка, и постепенно выпустили не только таких, как мамин кузен, но и остальных, более опасных врагов советской власти.
Собственно, я увлекся. Потому что нужно сказать наконец, за какие грехи мой дядя, Григорий Титаренко, попал в список особо опасных, которых нужно или стрелять, или сажать, или изолировать в дурках. На самом деле ничего особенного он не делал. Не создавал подпольных организаций, не был в их составе, не распространял информации, услышанной на радио «Свобода», не требовал оставить насильственную русификацию и так далее. Титаренко поплатился лишь за свое любопытство, и я назвал бы это любопытство профессиональным.
Мой дядя, как я уже упоминал, работал журналистом в черниговской областной молодежной газете. И на свою голову начал собирать материал о командире УПА Даниле Червоном. Точно не знаю, но, кажется, Титаренко действительно собирался написать на основе этих материалов книгу и опубликовать ее на Западе. По крайней мере, я слышал такое от родителей, частично это подтверждали некоторые дядины знакомые, с которыми мне удалось пообщаться.
Так это или нет, навсегда останется неизвестным. Но тетради Титаренко сохранились в том виде, в котором он их вел. И теперь стоит сказать несколько слов о том, как нашлись тетради. Ведь без них ничего в моей жизни и не началось бы.
Сам я уже почти десять лет занимаюсь документальным кино. Наша студия в основном осваивает иностранные гранты. Но это не означает, что мы выбрасываем деньги на ветер, делая что-то только для отчетности, чтобы получить новый грант под новую ерунду. Согласен, есть коллеги, которые этим занимаются. Но документалистика, которую снимаем мы, из года в год собирает профессиональные призы, в том числе — на международных фестивалях. И то, что на украинском телевидении для нее очень редко находится не просто удобное, а вообще — какое-нибудь эфирное время, означает, что о нас мало знают дома. Но это уже не моя проблема, согласитесь… Однако речь не о моей работе, а о тете Оле, жене, точнее — вдове Григория Титаренко.
Потому что это она два года назад услышала в новостях мою фамилию, когда там рассказывали об очередной нашей международной награде, не поленилась и позвонила на канал, где эти новости показывали, вышла на редакторов, затем на журналистов и таким образом получила мой телефон. Для своих шестидесяти лет тетя Оля оказалась весьма активной дамой.
До ее звонка я знал только, что мамин кузен умер в 1992 году, в страшной нищете и, разумеется, преждевременно. Шесть лет принудительного лечения и вынужденных странствий по психбольницам сделали свое дело. Кажется, мама даже ездила на похороны, возила какие-то там деньги, но точно не скажу: в то время я жил отдельно от родителей, не то чтобы порвав с ними, просто максимально ограничив общение до необходимого по правилам приличия минимума. Обществу «Знание» после августа 1991 года лекторы нужны не были, так что мама устроилась референтом в офис одной из новообразованных партий, где уже работал папа, поменяв один партбилет на другой. Потом мои родители меняли партийные офисы с той интенсивностью, с которой росло в нашей стране количество этих партий. Какой в этом смысл, я, честно говоря, не понимал, заняв принципиально антипартийную жизненную позицию. Кстати, один из первых фильмов нашей студии был посвящен бессмысленности существования политических сил, о нем заговорили; услышали о нем и родители — и даже посмотрели, после чего наши отношения как-то сами собой охладели.
Но я снова отвлекаюсь. Просто хочется, чтобы вы поняли, почему вдова дяди Григория позвонила именно мне, своему двоюродному племяннику, которого, кажется, никогда в жизни не видела. А если видела, то я был слишком мал, чтобы помнить это. Короче говоря, тетя вдруг захотела, чтобы я сделал фильм о ее покойном муже, своем дяде. Собственно, тогда я и узнал подробности его так называемого дела.
Тетя Оля все это время прятала его записи — три толстых общих тетради, две в клеточку, одну — в линию. Все они были разные. Первая — в серой клеенчатой обложке, вторая — коричневая, с матовой обложкой, третья — бордовая, на ощупь как бархатная. Все исписаны мелким, но аккуратным почерком. Я видел другие рукописи своего дяди, там он писал иначе. Тетя называла такой почерк врачебным, и действительно, обычно Григорий Титаренко писал, как врач на рецепте или в медицинской карточке — хрена с два разберешь без дешифратора. Однако в тетрадях словно усмирял свой почерк, выписывал буквы тщательно, будто пытался запихнуть в тетрадь определенного объема максимальное количество информации и старался, чтобы написанное мог разобрать кто-то еще, кроме него самого.
Все тетради пронумерованы, хотя тетя Оля пояснила: на самом деле сначала Титаренко исписал тетрадь под номером «один», серую, потом — ту, что под номером «три», бархатную, и наконец — ту, которой он присвоил второй номер, она была наполовину тоньше и даже не исписана до конца. Это означало: информацию он собирал не в том порядке, в котором планировал опубликовать. И именно из-за того, что человек, с чьих слов дядя делал записи в тетради под номером «два», оказался последним, с кем он беседовал, ему и удалось довести работу до завершения хотя бы в рукописи.
Как рассказала тетя Оля, «спалился» ее муж именно во время этой, третьей встречи. Ведь его собеседником был отставной полковник КГБ, а они своей профессиональной бдительности не теряют даже на пенсии. Сначала он принял молодого любознательного журналиста, уделил ему несколько часов своего времени, охотно поделился воспоминаниями о том, как гонялся за командиром УПА Червоным. А уже потом, когда Титаренко ушел, доложил куда следует: ходит, мол, тут один тип, задает вопросы, которых не должен задавать, собирает информацию, которую наверняка собирается исказить, ну и так далее.
Он, Григорий, это чувствовал, сказала мне тетя Оля при встрече. Потому что уже полгода занимался историей Червоного, полностью погрузившись в материал, и вместе с тем стал более чем осторожным. Особенно после того, как отыскал наконец человека, чей рассказ записал в серую тетрадь. Именно с тех пор Титаренко начал конспирироваться, а каждый, кто превращается в подпольщика, очень быстро оттачивает соответствующую интуицию. Дядя знал, что рано или поздно его вычислят, но уже не останавливался — хотел быстрее свести услышанное воедино и переправить через границу, пусть даже в сыром виде.
Так, по крайней мере, говорила мне его вдова, называя меня Климушей: «Понимаешь, он был готов к тому, что его примут. Но думал, это случится на том этапе, когда он начнет искать прямые выходы на тех, кто сможет передать рукопись по отработанным каналам. Там наверняка отслеживали все тропки, но все равно тексты покидали страну быстрее, чем КГБ ловил их авторов. Он в одном просчитался, Климуша, — недооценил того старого чекиста. Не подумал, что в свои восемьдесят заслуженный работник КГБ, орденоносный полковник Доброхотов что-то заподозрит и даст маячок своим младшим коллегам».
Дядю, как она думает, «пасли» где-то полтора месяца. Очевидно, в КГБ считали — Титаренко действительно связан с диссидентами. Поэтому ждали, когда он выйдет на прямой контакт, чтобы повязать сразу всю группу. Это выгоднее чекистам — рапортовать, что обезвредили антисоветскую, да еще и националистическую группировку, — чем задерживать одного человека. Однако Григорий на то время не имел никакого выхода на Запад, так что сначала хотел завершить свой труд, а уже потом искать нужные контакты. Поэтому каждый день после работы, а по выходным — с утра до вечера, сидел за пишущей машинкой и перепечатывал рукописные заметки.
Жена, между прочим, работала вместе с ним в редакции «Комсомольського гарту» машинисткой, но дядя сразу же запретил ей даже приближаться к машинке. «Он говорил: в случае чего на клавишах не найдут твоих отпечатков и ты всегда сможешь отмазаться : мол, ничего не знаю, писал какую-то книгу, все журналисты рано или поздно садятся за романы, никому не показывал», — объясняла тетя Оля. И в конце концов такой расчет оправдал себя: она не проходила по делу как соучастница.
Очевидно, в их отсутствие в квартире несколько раз производили обыск, допускала тетя. Потому что как иначе объяснить, что за Титаренко пришли именно тогда, когда он закончил перепечатывать. Рукопись сразу конфисковали, искали копии и заодно прочую запрещенную литературу, даже просили сдать оружие, которого Григорий даже в армии в руках не держал, поскольку служил в строительном батальоне — стройбате. Но ничего, разумеется, не нашли, даже тетрадей: их тетя Оля тайком выносила из дома и прятала по разным закуткам. Одну — у матери, в деревне, в погребе, из-за чего тетрадь немного повело от влаги. Другую — на работе, среди старых газетных подшивок, сложенных в шкафу машбюро, поскольку от этого сплошного скопления серой пыли старались держаться подальше. Тетрадь удалось спрятать там, потому что она была тоньше всех, вдвое меньше остальных. Третью — на чердаке их дома, от которого у нее был ключ. Они жили на последнем, пятом этаже, прямо возле люка, который вел через чердак на крышу, поэтому тетю назначили ответственной за ключ — вот так это называлось.
Прочитав рукопись, компетентные органы признали ее однозначно антисоветской, и встал вопрос: что делать с автором. Вот тогда в дело вмешался мой отец, и через некоторое время все, от кого это зависело, договорились: раз не нашли прямой связи Григория Титаренко с украинскими буржуазными националистами, а рукопись он не успел опубликовать, даже супруге не показывал, агитация и пропаганда здесь могут считаться сугубо формальными. Скорее, он занимался распространением заведомо ложных сведений об утверждении светской власти на Волыни в послевоенное время и о местах лишения свободы, где отбывали должное наказание предатели родины. То есть изложил все это на бумаге, а распространить не успел, потому что органы оказались настолько компетентными, что вмешались вовремя.
В таком случае лучше признать, что у Титаренко не все в порядке с головой. Действительно, кто в здравом рассудке будет упорно строчить на машинке по ночам весь этот антисоветский бред… По словам тети Оли, дядя не слишком сопротивлялся. Он выбрал не тюрьму, суд и зону, о которых знал слишком хорошо, а сумасшедший дом — тоже тюрьму, но, как ему казалось, немного другую. Понятно, что он ошибался насчет возможностей советской репрессивной психиатрии. Но и тут другого выхода ему не оставили. Разве что наложить на себя руки.
А тетю Олю оставили в покое, но она еще долго не решалась забрать тетради из тайников. К тому же за годы так называемого лечения Титаренко забыл об их существовании. Доходило до того, что он переставал узнавать сам себя. Когда его наконец выпустили, тете удалось отчасти восстановить его нормальное состояние. Правда, никем, кроме кочегара и дворника, он работать уже не мог. Никто, кроме, разумеется, моих родителей, не знал истинной причины, почему Григория поместили в психиатричку, поэтому его супругу в основном жалели. А то, что к Титаренко приходили с обыском, тоже списали на болезнь моего дяди: так, мол, его переклинило, что милицию пришлось вызывать.
Вот такая история трех тетрадей, переданных мне вдовой Григория Титаренко. Почему тетя Оля не сделала этого раньше? Этого она мне как следует не объяснила. То ли не до тетрадей было, поскольку после смерти мужа нужно было как-то жить дальше. То ли не знала, в чьи руки их нужно отдать, чтобы поступить правильно и труд не пропал. А может, просто почувствовала, как стремительно и внезапно подступает старость, вот и испугалась, что умрет вот так вдруг и преждевременно, как дядя Григорий, и не успеет довести до конца то, ради чего положил жизнь ее муж.
Так или иначе, я получил неожиданное наследство и начал читать.
На самом деле главную проблему я определил для себя сразу. А именно: сегодня, когда информации об освободительном движении на Западной Украине, в моем случае — на Волыни, сведений о деятельности ОУН-УПА и историй о партизанах и бандеровцах опубликовано очень много, и все они — разные, рассказ о командире повстанцев Даниле Червоном наверняка не произведет такого впечатления, какое мог произвести тогда, в 1979-м. Ведь для Титаренко, как я понимаю, все началось с обычного очерка, который по заданию редакции он должен был написать в своем «Комсомольському гарті» к очередному Дню советской милиции.
Именно так он, тридцатилетний черниговский журналист, который, как и все, рожденные в СССР, был октябренком, пионером и комсомольцем и, как упомянула тетя Оля, подумывал о перспективе вступления в коммунистическую партию, познакомился с Михаилом Середой, пенсионером, отставным капитаном милиции. Молодежная газета заказала очерк о том, как в послевоенные времена милиционеры героически боролись с бандеровскими последышами. Точнее, конкретно такого задания — писать о столкновениях милиции с бандеровцами — Григорий не получал. Просто сказали: героя его будущего очерка, некоего Середу, в 1947-м отрядили из Чернигова на Волынь, для укрепления тамошних правоохранителей. В то время на Западную Украину, случалось, направляли фронтовиков, людей с боевым опытом. Потому что там нужно было не просто работать по милицейскому профилю, но и по-настоящему воевать. Там, считайте, фронт, говорили им. Условия, максимально приближенные к боевым. Вот главному редактору и показалось, что ветерану милиции Михаилу Середе есть что рассказать о том периоде своей жизни. Это должен был быть героико-патриотический очерк, и он, собственно, таким и вышел. Остальное запечатлелось в памяти Титаренко.
Почему, собственно, пенсионер рассказал журналисту все то, что дядя записал в свою первую тетрадь, не знает даже тетя Оля. Не сохранилось этого и в дядиных записях. Я же тем более не могу этого объяснить. Наверное, Середу просто прорвало, хотя до этого он молчал три десятилетия. Как я уже говорил, ко Дню милиции, то есть к 10 ноября 1978 года, Григорий все же написал, а газета напечатала очерк о героической борьбе милиционеров с бандеровцами, но это был другой текст — у тети Оли сохранился пожелтевший экземпляр. Понятно, что Титаренко не мог вернуться после интервью ни с чем. Но выдумал ли он ту героическую историю, из которой сделал газетный очерк? Скорее всего (после прочитанного в первой тетради я допускаю такую возможность) они с Середой договорились: он напишет именно так.
Однако доказанный факт заключается в том, что услышанная, а затем и записанная история сразу и навсегда изменила отношение вчерашнего комсомольского активиста и потенциального члена партии к украинскому повстанческому движению на Западе тогда еще Советской Украины. И, что не менее важно, коренным образом изменила его отношение к воспетым в сотнях песен, книг и фильмов советским чекистам.
Недаром весной следующего, 1979 года мой дядя снял со сберегательной книжки триста рублей — две свои месячные зарплаты, большие деньги на то время, — и взял отпуск, поменявшись с коллегой, чтобы тот вместо него смог отдохнуть летом, собрался и поехал в Ленинград. Через десять дней он вернулся в глубокой задумчивости, заметно подавленный, но с исписанным блокнотом. Следующий отпуск Григорий провел, старательно переписывая в новую, только что купленную тетрадь услышанное от некоего Виктора Гурова. Тогда тетя Оля не знала, кто такой этот Гуров и как Титаренко разыскал его под Ленинградом. Это теперь, прочитав ту тетрадь, я могу сказать: мой дядя-журналист отыскал бывшего «врага народа», осужденного за измену родине, который сидел в одном лагере с Данилой Червоным. И не только собственными глазами видел, что там происходило, но и принимал активное участие в тех кровавых событиях.
И наконец, после, как говорила тетка, долгих колебаний, Григорий разыскал в Киеве заслуженного чекиста, отставного полковника КГБ Льва Наумовича Доброхотова. На эту фамилию в первой тетради, то есть в воспоминаниях милиционера Михаила Середы, я наткнулся только однажды. Однако что-то подсказало: именно отставной капитан, как теперь выражаются, слил Доброхотова журналисту в беседе, как говорится, не под запись. Тетрадь с воспоминаниями чекиста оказалась крайне необходимой. Более тонкая, исписанная не до конца, однако именно она дополнила общую картину, окончательно закрепив за Червоным образ, который хотел воспроизвести в своей рукописи Титаренко.
Повторюсь: Григорий уже со знакомства с Середой ходил по краю, а его крах был вопросом времени. Единственное, чего, возможно, удалось бы избежать моему дяде, — это преждевременного ареста. Рукопись могла бы пересечь границу по тайным каналам. Значит, знаток своего дела журналист Титаренко понимал: без воспоминаний старого лиса Доброхотова все остальное — отрывки, обрывки, которые не держатся вместе.
Он рискнул. Результат — эти тетради удалось подготовить к публикации только через тридцать лет.
А вот теперь добавлю несколько пояснений от себя.
Во-первых, мой дядя не записывал за своими собеседниками слово в слово. Если бы запись велась на диктофон или телекамеру, я мог бы поручиться, что Середа, Доброхотов и Гуров говорили именно так, как написал мой дядя, а не иначе. Разумеется, он фиксировал только ключевые фразы, которые могли бы потом напомнить, какую именно мысль развивал его респондент в тот или иной момент разговора. Не владел Титаренко и стенографией, во всем полагался на цепкую память, а значит, затем, когда старательно переписывал услышанное в отдельную тетрадь, наверняка отходил от подлинной трактовки событий собеседником и, без сомнения, добавлял что-то от себя. Безусловно, это ни в коей мере не искажало общего смысла, однако написанное совершенно не напоминало ни стенограмму, ни тем более — протокол допроса. Вышло так, что Григорий Титаренко, отбросив эмоции, которые наверняка возникали во время живого разговора, оставил только голый, сухой, лишенный ненужных сантиментов фактаж. По сути, в каждой тетради есть завершенная история, рассказанная, а точнее, записанная от начала до конца. Поэтому я не готов поручиться, что герои повествовали именно так, в такой же последовательности, как записал профессиональный журналист Титаренко. Поверим на слово не только тем, с кем он разговаривал, но и самому Григорию — ясно, что теперь Середы, Доброхотова и Гурова нет среди живых, так что ни подтвердить, ни опровергнуть слова, вложенные в их уста моим дядей, они не смогут.
Во-вторых, Титаренко собирался публиковать свои тетради на Западе. Именно поэтому, садясь за рукопись, он невольно придавал этим записям вид скорее не журналистского очерка, а полноценного литературного произведения. Естественно, текст в целом нуждался в редактуре. Но факт, что журналист хотел переделать услышанное в документальный роман, подтверждается хотя бы наличием в нем диалогов. То есть Титаренко решил отойти от монолога, который складывается из ответов собеседника на его вопросы, и частично переделал каждую беседу в небольшую повесть.
Я позволил себе реально вмешаться только в содержание второй тетради, то есть в рассказ Доброхотова. Разумеется, отставной чекист откровенно хвастался своими подвигами. Но о многом Лев Наумович не говорил и многих тем не затрагивал — не считал нужным. Однако отдельные фрагменты его повествования требуют современных пояснений и комментариев, поэтому я разбавил ими рассказ Доброхотова, пытаясь излагать только суть и с надеждой на то, что сегодняшние читатели прекрасно понимают, что именно недоговаривал, а то и откровенно замалчивал офицер НКВД-КГБ.
Таким образом, мне оставалось только найти и потратить время на то, чтобы отдать тетради на компьютерный набор, потом — существенно отредактировать эти тексты, придав им более современный вид и звучание. Естественно, по ходу дела я не мог не добавить что-то от себя. Но это не дополнительный фактаж — мне просто некогда было его собирать. Да и все, изложенное в тетрадях, ценно само по себе, без дополнительной нагрузки. Пусть уже потом специалисты разбираются, что здесь правда, а что — художественная литература. Когда, закончив свою часть работы, я просмотрел все от начала до конца, то понял: рукописные заметки Григория Титаренко, сделанные в 1978–1979 годах, невольно стали похожими на героико-приключенческий роман, созданный на документальной исторической основе. То есть по сути я предлагаю вам историческую остросюжетную драму.
Одобрил бы это автор записей, мой дядя Григорий Титаренко? Не знаю. Но ведь он стремился к публикации, значит, факты, изложенные в тетрадях, не искажены и не перевраны. Тетя Оля как первый читатель только плакала в некоторых, самых драматичных местах, но вообще не возражала. «Если таким образом об этом узнает как можно больше людей на Украине, я буду только рада. И дядя твой наверняка был бы счастлив» — вот что сказала она, возвращая мне прочитанную за ночь рукопись.
Собственно, это и есть третье обстоятельство. Если бы эти тетради исписал тот же уроженец Волыни или вообще — любого региона Западной Украины, я, скажу вам честно, не уверен, что взялся бы выпускать такой текст в свет. Потому что им это близко, они с этим росли и жили, они принимают партизанскую борьбу УПА с немцами и советской властью как часть борьбы за украинскую независимость. Принимают со всеми возможными оговорками, несмотря на все многочисленные «но», которых полно в истории украинского повстанческого движения. Тогда как и моему дяде, Григорию Титаренко, и тем, с кем он говорил, — Михаилу Середе, Виктору Гурову, даже чекисту Льву Доброхотову — все это близким не было. Так же, как и мне, рожденному в Киеве. Ведь двадцать лет из моих сорока двух меня воспитывали в том духе, что бандеровцы — это враги. Уже потом я убедился: да, враги — но враги немецкой оккупации и советской власти. Те, кто рассказывал моему дяде истории о встречах с командиром УПА Данилой Червоным, не могли скрыть своего отношения к нему.
Тот же чекист Лев Доброхотов признавал Червоного настоящим героем. Я представляю себе, как старый лис искренне вздыхает в беседе с Титаренко, которого уже собрался сдать в КГБ: эх, мол, жаль, что у нас таких бойцов не было… Вот почему я решил дать ход публикации: это — сторонний, а значит — независимый, как я считаю, взгляд на то, что происходило не только на Волыни, но и на всей Западной Украине, и даже во всем Советском Союзе в послевоенное время.
Ну и еще немного — о том, что может вызвать у читателя массу вопросов.
Сразу скажу: исходная рукопись написана на русском языке. Собеседникам журналиста Титаренко так было удобнее. Тетя Оля говорила, что дядя, когда уже перепечатывал текст на машинке, сразу переводил на украинский. Но машинописные страницы, как известно, конфискованы и исчезли где-то в архивах советской госбезопасности. Поэтому я решил оставить тексты тетрадей на русском. Причем — полностью, «русифицируя» даже бойцов УПА, крестьян Западной Украины, имена и реалии. Что касается советских милиционеров, чекистов, администрации и охранников концлагерей ГУЛАГа, а также — контингента, то есть уголовных преступников, так они нигде и никогда, особенно в описанное время, на украинском между собой не общались.
Я отдаю себе отчет, что при этом теряются достоверность и колорит. Но сохранять в книге оба языка одновременно, украинский и русский, не стал, чтобы ее смог понять читатель, не владеющий украинским. В конце концов, сталинский террор причинил много вреда не только тем, кто говорит по-украински. И не только тем, чей родной язык — русский. Напомнить о тех страшных временах в наше, также непростое, время, нужно как можно большему числу людей.
Если бы это делалось для телевидения или кино, тогда, конечно, я оставил бы прямую речь своих персонажей такой, какой ее фиксирует операторская камера. Однако когда перед нами письменный и печатный текст, приходится прибегать к условностям. И всего лишь писать так, как мог бы говорить тот или иной человек.
Признаться, меня устраивало то обстоятельство, что дальше герои будут говорить от себя, то есть — прямой речью. Все огрехи и неточности можно списать на то, что с моим дядей общались живые люди — даже старый чекист Лев Доброхотов остался для меня таким. Ну а название печально известного органа госбезопасности, точнее, аббревиатуру, и не переводили на украинский, а произносили на языке оригинала — НКВД, МГБ… Это звучало и звучит зловеще, безнадежно, страшно… Именно поэтому мы радуемся, когда такая безотказная машина в борьбе с нашими героями дает сбой.
Кажется, все. На этом свою миссию считаю оконченной. Необходимое в нашей ситуации вступительное слово несколько затянулось. Поэтому оставляю тебя, читатель, один на один с этой историей. Настолько же реальной, насколько и невероятной…
Ваш К. Рогозный
Тетрадь первая Михаил Середа
Украина, Волынь, осень 1947 года
1
До сих пор не готов сказать, чем для меня стала эта история.
Ну, когда после войны я оказался на Волыни и близко (как по мне — слишком уж близко) познакомился с бандеровцем Червоным: подарком судьбы или, наоборот, ее проклятием. Знаешь, еще говорят — оскалом.
Именно так, оскал судьбы — где-то я это прочитал. В какой-то газете. Ваш брат-журналист еще и не такое напишет ради красного словца. Но именно с того времени на кое-какие вещи, которые, как офицер милиции, должен был считать очевидными и правильными, я смотрел с некоторым сомнением.
А вот наш брат опер на самом деле должен сомневаться во всем — профессия такая. Меня никто этому не учил, это о таких, как я, говорят — они, мол, университетов не кончали. Просто всегда считал так: каждый милиционер — хоть простой уличный постовой, хоть большой начальник — должен решить, с преступником имеет дело или с нормальным честным человеком. Очень просто наставить на кого-нибудь наган и назвать бандитом. После войны так и было — если не ты выхватишь оружие, бандюга сделает это раньше тебя. И думать не будет. Ты же при этом еще и соображать должен: стрелять, не стрелять, если стрелять — то куда, валить его на месте или палить в ногу или плечо…
Вообще, такие были времена: у мужчин было при себе оружие просто так, для самозащиты. Ведь кто его знает — вдруг я милиционер ненастоящий! Переоделся в форму — все, приехали. Сколько тогда таких дел было, но, наверное, об этом как-нибудь в другой раз…
Так вот, по поводу оружия я не вру. После войны, особенно в первые годы, такого добра по городам и селам хватало. Далеко ходить не надо, вот хотя бы в ближайший лес. Туда, где шли бои. Там даже теперь можно найти человеческие кости. А тогда истлевшие трупы — хоть наших бойцов и командиров, хоть немецких, хоть расстрелянных мирных жителей — очень даже пугали, врать не буду. Но не слишком удивляли — факт. Вот там, на местах боев, трофеев — хоть пруд пруди: и пистолеты, и пулеметы…
Особенно везло тому, кто знает, где искать военные склады. Партизаны часто делали такие, а когда отступали — бывало, оставляли оружие и боеприпасы прямо в подземных арсеналах.
Поэтому в милицию брали прежде всего тех, у кого имелся боевой опыт. Даже если у нас, фронтовиков, не было соответствующих знаний и опыта оперативно-розыскной работы. Разумеется, открывались какие-то там курсы, Уголовный кодекс мы читали… Но зачем тебе книжка, когда ловишь грабителя на горячем, а он, не думая долго, садит из немецкого парабеллума. Никакая брошюра не научит, как действовать в подобной ситуации, пока в тебе дырок не наделали.
Я вот так в милицию и попал.
Когда война началась — как раз служил срочную. Наша часть стояла под Курском, так что на фронте, считай, с первых дней. Еще до службы я интересовался техникой, машинами всякими. Поэтому меня направили из Чернигова в Репки, на тамошнюю МТС. Из Репок и пошел в армию. Умел водить машину, так что на фронт пошел в составе автомобильного батальона — как война началась, их на местах очень быстро формировали, а каждый водитель был на вес золота. Крутил, в общем, баранку на полуторке, боеприпасы возил и не только — все, чем загрузят. Потом пересел на «виллис», возил нашего комполка, Калязина. Но это не означало, что для меня война была какой-то другой — поди попробуй проскочить под обстрелом! В сорок третьем под Курском меня серьезно ранили, ну а потом, когда вернулся в строевую часть, снова оседлал знакомый грузовик. На нем доехал до Варшавы, там снова ранили, на этот раз — серьезнее, еле выкарабкался. Домой, в Чернигов, вернулся офицером, младшим лейтенантом… и, как выяснилось, сиротой.
В городе остались родители и младшая сестренка. Как немец попер, они убежали недалеко, в деревню, думали отсидеться у родственников. Те мне потом все и рассказали. Когда немцы пришли и началась оккупация, сестру забрали на работу в Германию. Мама, увидев предписание от немецкой власти, заголосила, бросилась на тех, кто пришел за сестрой, не пускала. Тогда полицай, который притащился вместе с немецким офицером, взял да и застрелил ее.
Отец пережил маму на полгода, умер той же зимой. Говорят — от голода. Ютились все вместе в деревенском доме. Конечно, не жировали — куда там жировать, но и с голода не пухли. Село все таки, какое-никакое хозяйство. Даже если выгребут запасы для нужд немецкой армии, кое-что останется. Где трое кормится, там и четвертый проживет. Только родня, когда я вернулся и обо всем расспрашивал, объяснила: отец сам чем дальше, тем чаще от еды отказывался. Будто сам себя голодом заморил. Где сестру искать, тоже никто не знал. От нее вообще никаких известий. А Чернигов разбомбили до черной земли, живого места не оставили, одни руины. И нашего дома, что стоял почти в самом центре, тоже не осталось. Пока немцы пленные все заново строили, народ в землянках кантовался. Обком, райком, другие органы власти — все тоже в землянках или в бараках.
Когда предложили идти в милицию шофером — не очень-то и перебирал. Возил сначала начальника отдела по борьбе с бандитизмом, только недолго. Он сам предложил мне перейти в отдел, на оперативную работу. Людей не хватало — это раз. Опять же, боевой опыт — это два. Бандиты в ходе одной операции сразу трех оперативников уложили — это три. Людей катастрофически не хватало, как говорят — кадровый голод. Ну, и как сказал сам начальник: «Ты, Мишка, мужик с головой, а голова не пустая. Нечего боевому офицеру зря баранку крутить, для такого дела вон солдат или ефрейтор сгодится». И сразу, как оформили перевод, повысили в звании — теперь надел милицейскую форму с лейтенантскими погонами.
А где-то так через два года, летом сорок седьмого, каким-то макаром отыскал меня бывший командир полка. Я не очень-то удивился. Даже обрадовался, что он живой, потому что после госпиталя так ничего о нем и не слышал. В том, первом письме Дмитрий Петрович Калязин ничего особо важного не писал. Просто рассказал, как нашел меня, интересовался моими делами. Заодно рассказал: служит теперь начальником милиции в небольшом поселке Олыка, это недалеко от Луцка, Западная Украина. Я ответил: так, мол, и так, живу в родном Чернигове, родители погибли, сестра пропала без вести, тоже служу в милиции. Еще и не удержался — пошутил: не начальником, обычным оперативником, бандитов ловлю. Приписал также — кто бы мог подумать…
Через месяц ответ: собирайся, товарищ лейтенант, свои надежные люди тут нужны. Положение в регионе очень сложное, подробности — на месте, как приедешь. И писал так, будто вопрос о моем переводе уже решен. Это я тогда так подумал, даже решения не принял, на завтра отложил. Только с утра вызывает меня наш начальник к себе в кабинет и говорит тоном, не допускающим возражений: так и так, есть соответствующий приказ, согласно которому лейтенанта милиции Середу Михаила Ивановича направляют на новое место службы, и теперь он поступает в распоряжение управления милиции Луцкого районного отдела МВД.
Конечно, для меня не стало новостью, что на освобожденных территориях Западной Украины, Прибалтики и частично Белоруссии есть националистические банды, которые всячески мешают окончательному укреплению советской власти на местах. Я даже слышал по радио выступление какого-то компетентного человека из Москвы, фамилию теперь не вспомню. Он тогда заявил: эти группы оставили после отступления немцы, чтобы таким образом в бессильной злобе максимально вредить победителям, сеять панику среди местного населения, из последних сил бороться с завоеваниями Ленина-Сталина. Но тогда, слушая это, я даже представить не мог, что вскоре сам приму участие в борьбе с националистическим бандеровским подпольем.
Так в середине сентября 1947 года я оказался на Волыни. Дома, как я уже сказал, меня ничего не держало: жилье временное, в казарме, переоборудованной под общежитие для милиционеров. Заводить семью некогда было, да и, если честно, я решил пока с этим не спешить. Мне только двадцать семь стукнуло, война позади, жизнь впереди. Но пока гоняюсь за бандитами, пока эту сволочь с корнем не вырвали, никто не гарантирует мне личной безопасности. Познакомлюсь с хорошей девушкой, распишемся, ребенок родится — а ну как меня застрелят при очередной операции или того хуже: подрежут в темноте из-за угла. Не хочется оставлять после себя вдов и сирот в мирное время, хватит того, что война наделала. Поэтому сборы вышли короткими: фанерный чемодан с вещами, фронтовой «сидор» через плечо — и вперед, на Запад.
2
Хотя через Олыку проходила железная дорога, полковник Калязин встретил меня на вокзале уже в Луцке.
Обнялись, точно не начальник и подчиненный, а старые боевые товарищи — так, собственно, и было. Калязин поводил меня по разным кабинетам, за полдня оформили все бумаги, сели в его машину и добрались до Олыки, когда еще даже не смеркалось. От областного центра городок лежал недалеко — каких-то три десятка с гаком километров. Сам городок, или, как значилось в документах, поселок городского типа, показался мне уютным и каким-то даже слишком тихим. Увидел старинный замок польских князей и костел — остались с тех времен, когда тут верховодила польская шляхта. Еще церкви и синагога, которые закрыла уже советская власть: да и в самом деле — зачем они, ведь религия — опиум для народа. Тут я поддерживаю политику партии и правительства. Пусть эти здания служат нуждам власти, вот хотя бы как панское поместье, где теперь разместилась милицейская управа.
В кабинете Калязина мы наконец сели за стол. Хозяин застелил его газетой, название до сих пор помню — «Вільний шлях». Достал из сейфа и порезал на газетном листе толстыми кусками сало, хлеб, разложил холодную картошку «в мундире», положил вкрутую сваренные яйца. Потом вынул из ящика стола — старинного, кажется, дореволюционной работы — флягу, машинально взболтал, разлил самогон по стаканам.
— Продукт проверенный, — сказал. — Умеют в здешних селах водку делать, ничего не скажу. У нас в селе дальше бражки дело не идет. Не доходят руки у мужиков — просто так хлебают.
Полковник Калязин, как я знал, родился в селе Рязанской губернии. Не без гордости как-то сказал, что единственный из села выбился в люди, стал красным командиром. Когда на побывку приезжал, село несколько дней гуляло. Даже если б он не предупредил, меня ничего бы не остановило от того, чтобы выпить: на фронте имел дело с чистым спиртом, хоть медицинским, хоть авиационным, а о том, сколько всего доводилось вливать в себя кроме спирта, лучше помолчу. Правда, мне как шоферу особенно угощаться нельзя, да свои наркомовские стограмм я исправно получал и, если не было возможности выпить, сливал в флягу. Частенько для этого приходилось использовать не одну фляжку, поэтому у меня в машине всегда было вдосталь спиртного. Бывало, даже старшие офицеры через Калязина просили одолжить у меня. Хотя спирт или водку не одалживают, комсклад все же отдавал — то коньяком, то «казенкой», а то и трофейным немецким шнапсом. Потом Калязин даже называл мою машину передвижным трактиром.
Я стиснул стакан в ладони, поднял и качнул им в сторону полковника:
— Будем, командир, — так неофициально я называл его без посторонних.
— Будем крепки, лейтенант, — согласился начальник.
Чокнулись, и он выпил одним махом, даже не скривился — вот ведь привычка. Мне же сразу словно огнем обожгло горло и внутренности — таким крепким оказался самогон, хотя и шел он мягко. Не выдержал, скорчил рожу, хекнул и быстренько зажевал куском сала. Градусов пятьдесят, если не больше.
— Ну, и какая тут обстановочка? — спросил, прожевав.
В общих чертах Калязин ввел меня в курс дела еще днем. И намекнул, хоть я и без него понимал: подробнее поговорим позже. Теперь, наверное, и настало время для разговора. Да и сам Калязин не тянул — сразу перешел к делу.
— Обстановка, Михаил, максимально приближена к боевой.
— Ну, это я слышал…
— От кого?
— Так, краем уха… По радио, и газеты писали…
— Радио, газеты… Это все хорошо… Правильно это все, газеты и радио…
Калязин налил еще по одной, но пить не спешил, смотрел на меня как-то странно. Я не очень понимал его взгляд: так смотрят родители или старшие братья на неразумных мальцов, которые пошли — вот так запросто — погладить здоровенного дворового пса. Поэтому молчал, ожидая продолжения разговора. Полковник не тянул.
— Отсюда, лейтенант, нужно сводки передавать. Ежедневно. Как товарищ Левитан читал, — тут он выпрямил спину, расправил плечи и попытался изобразить знакомый всем голос главного диктора страны: — «От советского Информбюро! Сегодня, двадцать второго сентября…» Ну и такое прочее. — Калязин снова заговорил своим нормальным голосом: — Ничего тебе, Мишка, по радио не скажут. И в газетах не напишут. — Он придвинулся ближе, положив локти на стол. — Я после войны в комендатуре работал, недалеко отсюда, подо Львовом. Потом сюда перебросили, сначала тоже в комендатуру, а затем — начальником милиции. Честно говоря, на начальника сам вызвался — предшественника убили. Знаешь, как убили? — Он наклонился еще ближе, похлопал ладонью по газетному листу. — Газета о таком не напишет. Среди белого дня подкатила сюда, к милицейской управе, «эмка», вышли трое, даже не прятались. С автоматами, один в гражданском, на двоих — галифе и кители, то ли немецкие, то ли польские. Хрен разобрали те, кто видел. Вот так, прямо на глазах у людей положили на месте двух милиционеров, потом ворвались в этот кабинет, — Калязин обвел его рукой, — и расстреляли начальника милиции из трех стволов. Снова сели в машину, развернулись, поехали. Выехали за Олыку, там возле леса ее бросили. Гранатой подорвали на прощание. И это, лейтенант, только один эпизод. Могу еще рассказать, только, боюсь, ты в ближайшее время сам больше увидишь.
Теперь мой боевой командир выпил, не чокаясь. Я последовал его примеру, зажевал половинкой картофелины, потом спросил:
— Известно, кто это сделал?
— Бандеровцы, — развел руками Калязин. — Тут все беды — от бандеровцев.
— Чего они лютуют? Я что-то слышал по радио…
— Снова ты про свое радио! — раздраженно отмахнулся начальник, словно от надоедливой мухи. — Лютуют, потому что бандиты! От бессильной злобы, как любят писать всякие там мастера художественного слова. Только злоба у них, Михаил, ну никак не бессильная. Я ведь в этих краях давно…
— Именно здесь?
— На Волынь перевели месяцев восемь назад. До того времени выполнял задания во Львовской, Тернопольской, Станиславской областях. Всюду одинаково. Только, знаешь, тут опаснее.
— То есть?
— Потому что начальник милиции! Можешь не верить, лейтенант, но на военных тут меньше охотятся. Ну, это вроде как мои выводы… Кто знает, у кого здесь больше шансов. Все мы тут как на минном поле.
Я нутром чуял — Калязин хочет сказать больше, но сдерживается. От этого, а не от крепкого волынского самогона, путаются, прыгают с пятого на десятое его мысли. Чтобы хоть как-то направить разговор, я спросил:
— Чего им нужно?
— Кому? — встрепенулся Калязин, стрельнул на меня непонимающим взглядом, но в тот же миг все понял: — А, им… Не знаю. Жили при Польше, словно крепостные. В нищете, голые, босые… Понятно, почему тогда начали террор. С немцами тоже малость повоевали… Только об этом я тебе не говорил! — сразу предупредил он. — Смотри, ведь официально бандеровцы — союзники Гитлера. На самом деле они в сорок первом несли немчуре хлеб-соль как освободителям, а в сорок втором — полгода только прошло — в этих самых освободителей стреляли. Хрен их разберет, этих хохлов…
Не знаю почему, но меня от этой вот его последней фразы передернуло. Калязин это заметил и сразу добавил:
— Извини, ты тоже у нас хохол … Только ты хохол правильный. Ты за советскую власть, потому что понимаешь, что она дает людям. А они тут — против. Кто открыто, тот по лесам прячется. Кто скрывает — по улицам ходит, здоровается с тобой.
— Да неужели враги повсюду?
— Так и выходит. И чего им свербит в одном месте? В тридцать девятом, между прочим, когда наши отсюда выбили поляков, тоже цветы и караваи выносили. Нашим. Кажется, все, товарищ Сталин объявил об историческом объединении украинских земель. А здешние потом снова за оружие! Поляки, выходит, плохо. Ладно. В немцах разочаровались, поскольку оккупанты. Пускай, тут все правильно. Но что им советская власть плохого сделала?
Калязин говорил искренне, и тут я был с ним целиком согласен. Поэтому молчал. Машинально взял с газеты кусок сала, положил на хлеб и откусил от этого бутерброда. Мой жест чем-то привлек Калязина. Зацепился за мою руку взглядом, о чем-то задумался, потом резким движением смел с газетного листа, на котором лежала закуска, хлебные крошки, ткнул пальцем в какую-то заметку.
— Вот, гляди-ка, готовый пример! В газете пишут! — развернув лист так, чтобы заметка, которая попалась на глаза, оказалась перед ним, полковник вслух прочитал, то есть пробубнел, уродуя украинский: — «Заможно и культурно зажыли колгоспники. У багатьох е патефоны, радиопрыймачи, велосипеды. Майжэ вси выписують газеты. Художню литературу чытають не одыныци, а бильшисть колгоспныкив. Зрие интэрэс до кинокартын. У колгоспных клубах завжды повно людей». — Калязин перевел дух, снова поднял на меня взгляд: — Это в каждом селе, лейтенант! В каждом! Было б у них такое при Польше? Ты знаешь, я из села Рязанской губернии, у меня родители неграмотные были. Только после революции и гражданской, когда по селам пошли учителя, они читать научились. По слогам сначала, но ведь грамота, лейтенант, — это очень важно! Почему вот эти грамотные колхозники с патефонами кормят бандеровцев по ночам? Почему, когда ходишь по хатам, волками зыркают из-подо лба? Какая власть им еще такие блага дала?
Я решил промолчать. В самом деле, не о чем говорить. Даже как человек новый в этих краях, еще не знакомый с местной, как говорится, спецификой, я не имел оснований не верить словам Калязина. И действительно не понимал, почему местный люд так яростно сопротивляется не только тем, кто их гнобит, как польские шляхтичи или немецкие фашисты, но и тем, кто в самом деле освобождает народ от ярма.
Тем временем полковник снова вернулся к тому, с чего начал.
— Может, мне тут, в этой Олыке, начальником милиции не место. Да я сам написал рапорт: «Прошу в связи с гибелью назначить…» Ну и так далее. Думаешь, мне самому нравится, что теперь надо мной, как не крути, НКВД?
Я молча покачал головой. Тогда, правда, НКВД уже не было, точнее было, но называлось не так — переименовали в МГБ. А суть та же осталась, ну и переназвали совсем недавно: не только мы, военные, но и гражданские еще долго энкаведекали … Чекисты, короче говоря: как были, так и остались до сих пор.
За всю войну как-то обошлось, ни разу не имел дела с особистами. Но очень хорошо знал, что творили особые отделы. Один плюгавый лейтенантик из НКВД мог поломать жизнь боевому офицеру, старшему по званию, не говоря уже о рядовых бойцах-окопниках. Только теперь мир, а значит, все перемешалось. Это я на примере своего Чернигова знал, хотя, когда ловишь грабителей и бандитов, энкаведисты или эмгебисты, как хочешь, словом, они к оперативнорозыскной никакого отношений не имеют.
— Скажу. — Теперь мне показалось, что Калязин оправдывается. — Тот, кого тут расстреляли, предыдущий начальник, мужик был настоящий. Крепкий, бывший танкист. Под Прохоровкой в сорок третьем горел в танке, вытащил весь экипаж. Кто-то там и помер, на поле, кто-то потом, а его словно кто охранял… Для этого вот случая, выходит… Ненавижу, суки! — вырвалось у Калязина, он грохнул кулаком по столу, но так же быстро успокоился, снова налил, свое выпил сразу, приложил к носу рукав форменного кителя. — Думал, поруковожу милицией временно. Теперь вижу — надолго. Или сколько протяну. — Он криво усмехнулся. — Поэтому я тебя сюда, можно сказать, выписал. Опыт работы есть, надежные люди мне здесь нужны, а из местных особенно желающих идти в милицию нет, запугали. На кого мне опираться? На «штырьков»?
— А это еще кто? Какие «штырьки»?
— Помощники милиции. Отряды самообороны, если хочешь. На самом деле они себя называют «ястребками» — истребительные отряды или что-то такое. Только, — он снова криво усмехнулся, — это еще вопрос, кто кого тут истребляет. Пацаны там по пятнадцать-семнадцать лет. С ними МГБ легче работать, потому что они и нищету родителей при Польше немного помнят, и, что важнее, при немцах боялись. Недовоевали, рвутся в бой. А если ты «штырек» — оружие выдают. Опять же, глаза и уши МГБ по селам. Но надежды на них мало, ходят стайками. Я даже слышал, кое-где своих односельчан понемногу трясут.
— Это как?
— А вот так! Вот хоть на прошлой неделе приводят ко мне одного… лопоухого, рябого, волосы торчат в разные стороны. Зашел среди ночи в дом на краю хутора, водкой от него разит, винтовку на хозяина наставляет: давай, говорит, выноси сало, картошки мешок, а то просигнализирую уполномоченному, что Червоного кормишь.
— Кого?
— Есть тут один… Позже про него. Ну а в общих чертах ты вроде все понял. Или не все?
— Так точно, все, товарищ полковник! — ответил я по привычке.
— Ладно, подробнее положение поймешь на месте, сориентируешься. И вот наше с тобой, а по большому счету — твое первое задание.
Снова высунув ящик стола, Калязин достал оттуда бумажный прямоугольник, положил передо мной. Потом закурил «Казбек», провожая задумчивым взглядом после каждой затяжки клубы сизого дыма, которые поднимались к потолку под лампочку без абажура и обволакивали ее. Я же пододвинул к себе бумажку и понял — это листовка.
Ее напечатали на машинке. Видно — это печатная копия, даже остались следы типографской краски. С левой стороны было «СВОБОДУ НАРОДАМ!», по центру «СВОБОДУ ЧЕЛОВЕКУ!», в правом углу листа — «СМЕРТЬ ТИРАНИИ!». Немного ниже, по центру, большими буквами разместилось обращение: «ПЕРЕДАВАЙТЕ ИЗ РУК В РУКИ!» И уже потом — короткая статья:
УКРАИНЦЫ!
На протяжении 1943, 1944, 1946 и теперь, до осени 1947 года, выдержала УПА один на один в той неравной титанической борьбе против всех огромных сил совецкой армии, совецкой пропаганды и совецкого полицейско-государственного аппарата. И сегодня, когда большевицкая пропаганда снова готовит почву для празднования так называемого освобождения украинских земель, она рассчитывает на короткую историческую память. Потому что мы помним совместные визиты Молотова и Риббентропа к Сталину и Гитлеру, совместные совещания, совместные разбойничьи планы захватчиков, совместные приемы и обеды. А также общие фотографии тех разбойников в газетах, где они, улыбаясь и обнявшись под руки, чуть не целовались.
Еще больше помним, как у нашего бедного колхозника вырывали последнее зерно большевицкие комиссары в помощь Гитлеру. Как они отдавали Гитлеру всю нашу нефть и наш бензин, чтобы он мог лучше воевать и порабощать Европу. Того ихнего союза, той коалиции разбойников мы еще долго не забудем. Так что зря они пробуют всех прочих обвинять в сотрудничестве с немцами. Это же собственно они, Советы, — первые коллаборационисты и союзники Гитлера, первые разжигатели этой страшной войны.
Мы призываем Украинцев — не верьте большевицкой пропаганде! Не верьте, что союзники Гитлера могут освобождать народы. Они могут их только порабощать, как делают это с нами, Украинцами. Также не верьте тем, кто говорит, что УПА ненавидит всех, кто пришел к нам из России. Мы трактуем тех москалей, которые признают основы нашего национального права, как наших соседей и братьев. Но тех москалей, которые есть шовинисты и империалисты, трактуем как своих наибольших врагов, которые отобрали нашу свободу и хотят превратить нас в рабов.[1]
Дальше стояло: «ФАКТЫ ТЕРРОРА НА ЗЕМЛЯХ УКРАИНЫ», но на этом печатный листок обрывался. Увидев, что страница пронумерована, перевернул, посмотрел с другой стороны — чисто. Вопросительно посмотрел на Калязина.
— Что?
— Это первая… А еще есть? Вторая, третья…
— А ты, я вижу, зачитался? — Калязин, подавшись вперед, выдернул листок у меня из рук, положил назад в папку. — Вообще-то, Михаил, их, этих страниц, тут двенадцать.
— И все в таком же духе? — Я замер, подбирая слова. — Я ведь уже не пацаном был девять лет назад…
— Ты о чем?
— Ну… фотографии в газетах… Товарищ Сталин и этот…
— А вот этого, Середа, я не слышал! И слушать не хочу, понял меня? Пропаганда, брат, она все искажает. Мы с тобой, — на слове «мы» Калязин сделал ударение, — не верим. Потому что знаем, где правда и что власть наша нас не обманывает. А тут люди не знают этого. И еще, Михаил, разберись, кто ты тут, а кто — я.
— То есть?
— Украинец ты для здешних бандеровцев. Брат! — Он развел руками. — А я — москаль-оккупант. Агитация… — Калязин на секунду замолчал, потом продолжил, понизив голос: — Говорил я тут с начальником политотдела областного МГБ. Он авторитетно доказал: вся эта пропаганда разрабатывается в Мюнхене, потому что у американцев вроде что-то там с ОУН… Кто у нас американцы?
— Империалисты. — Я почувствовал себя на политинформации.
— Молоток! Мы с тобой, выходит, для империалистов теперь — общий враг. Но об этом пусть себе в кабинетах и управах думают, на то они и государственная безопасность. Наше задание как представителей органа охраны правопорядка — выяснить, кто эти бумажки в округе распространяет. Потому что откуда они приходят, уже известно наверняка. Не иначе Червоный, без него тут такое не обходится.
Услышав это имя во второй раз, я спросил уже настойчивее:
— Кто он такой, этот Червоный? Это прозвище, или, по-нашему, кликуха, или настоящая фамилия, по паспорту?
Прежде чем ответить, Калязин разлил по стаканом водку, опустошив наконец флягу.
— Паспорта его, лейтенант, я не видел, — начал он, теперь тщательнее подбирая слова. — Но одно знаю точно: он не прячется за прозвищем, или, как тут говорят, нет у него псевдо. Зовут его Данила, фамилия — Червоный. По данным как польской дефензивы,[2]так и НКВД-МГБ, раньше у него было даже несколько псевдо. Когда поляки его поймали в тридцать седьмом, называл себя Туром. До сорок четвертого проходил как Чайка и Дюжий. Теперь, как свидетельствует собранная МГБ оперативная информация, он взял себе псевдо Остап. Но мы и дальше будем его называть Червоным. Очень хорошо его фамилия ложится в оперативную разработку, я так себе думаю. Ты как, не против?
— Да чего ж, — пожал я плечами. — Так точно в его псевдах не запутаешься. Червоный — так Червоный.
Рука Калязина снова нырнула в ящик стола и показалась оттуда с тоненькой картонной папкой. Начальник освободил от остатков нашего ужина место на застеленном газетой столе и положил папку так, чтобы мне было удобно смотреть.
— Тут есть кое-что на Червоного, добытое нашими еще из архивов дефензивы. Захочешь — потом почитаешь, а я в двух словах тебе расскажу, с кем придется иметь дело.
Раскрыв папку, я сразу увидел серый конверт, приклеенный к какому-то протоколу, написанному по-польски. Прочитать написанное я не мог, но конверт открыл и достал оттуда фотокарточку, сделанную на плотной бумаге. В правом нижнем углу стояла дата: ноябрь 1937 года.
3
Со снимка на меня смотрел парень в пиджаке, надетом на светлую рубашку так, чтобы ее воротник лежал немного поверх пиджачного, — по моде десятилетней давности.
Даже по фотографии заметно, что он старательно брился и вообще следил за собой. Он не улыбался, тонкие губы плотно сжаты. В целом в нем угадывалось что-то неудержимое, бешеное, что-то такое мужественное — несмотря на сравнительно молодой возраст. Фото сделали по грудь, но даже так в осанке угадывалась сила, и не только физическая: он был худощавым, но несмотря на это — заметно крепким, сбитым; слегка прищуренные глаза, глядящие прямо на меня, подсказывали — в этот момент человек находится в состоянии сжатой пружины. И если она разожмется, лучше тому, на кого у этого человека зуб, рядом не стоять.
На фронте я встречал немало таких людей. Как правило, они служили во фронтовой разведке, ходили через линию фронта и делали вид или и в самом деле не боялись ни черта, ни грома, ни пули. Если такой тебе друг, то, как говорилось в войсках, с ним можно идти в разведку. Когда же он воюет против тебя… О последствиях не хотелось думать…
— Хочешь — почитаешь потом сам, — сказал Калязин. — Краткую справку могу дать. Родился здесь, на Волыни, причем знаешь когда? В ноябре семнадцатого года, в октябре по старому стилю. Буквально через день-два после того, как в Ленинграде… то есть в Петрограде тогда еще, большевики скинули буржуев и провозгласили нашу власть. В ОУН влился в возрасте восемнадцати лет. Сразу стал боевиком, устраивал теракты против польской власти на протяжении тридцать шестого — тридцать седьмого годов. Был объявлен в розыск как особо опасный террорист-националист. В тридцать седьмом, как видишь, его взяли, посадили в «Бригидки». Это тюрьма такая во Львове. Отсидел там с полгода, потом сбежал во время следственного эксперимента.
— Сбежал? — даже понимая, что полковник рассказывает мне про врага, я не удержался: побег из тюрьмы или плена всегда вызывал у меня уважение.
— Так точно, — кивнул Калязин. — До осени тридцать девятого был на нелегальном положении. По разным данным, скрывался в Чехии, Германии, даже некоторое время отсиживался у дальних родственников под Винницей.
— На советской территории?
— И я об этом. Но, говорю же тебе, сам я его не допрашивал, а информации о том периоде — нуль, разве что вот бумажки с донесениями агентуры. — Он кивнул на папку. — Потом, когда сюда пришли наши, Червоным заинтересовался НКВД.
— Снова терроризм?
— Подпольная подрывная деятельность. Антисоветская агитация и пропаганда. И чего им надо — польской кабале конец, Украину ихнюю, — тут полковник осекся, искоса глянул на меня, быстро поправился, — вашу Украину объединили, живите себе счастливо… Есть подозрения, что такие, как Данила Червоный, готовили грунт для вторжения немцев. Вон как фашистов тут встречали, хлебом-солью, говорил же…
Здесь я снова не выдержал — кашлянул:
— Я справки наводил, товарищ полковник. У нас, на Черниговщине, некоторые села тоже выносили немецким солдатам хлеб и соль на рушниках.
— Это, Михаил, означает одно: врагов советской власти всюду хватает! — отрезал Калягин. — Не делай общих выводов. У вас там, в твоем Чернигове, разве бандеровцы? Просто люди, и всё. У кого-то власть родню раскулачила, у кого-то — родственник врагом народа оказался; товарищ Сталин даже статью писал про перегибы на местах. Там отдельные случаи, товарищ лейтенант. Тут — общие настроения. Ладно, — он снова закурил, — закончим с Червоным. Так вот, осенью сорок первого его видели во Львове, там националисты пытались провозгласить свое государство, только Гитлер не дал. Потом, с сорок второго, Данила Червоный снова берется за оружие и с того времени из рук его не выпускает. Сведения о том периоде его деятельности получили только теперь, когда в НКВД раскололи его бывших сообщников — они еще называют себя побратимами. — Калязин откинулся на спинку стула и глубоко затянулся. — Националисты оказывали сопротивление немцам, с которыми вроде бы поссорились. Это было бы неплохо, но они точно так же вступали в вооруженные конфликты с нашими партизанскими группами, что действовали здесь в лесах и подчинялись тем же чекистам.
— Воевали на два фронта? — уточнил я.
— Можно и так сказать. А еще про поляков не забывай, с ними бандеровцы тоже в контрах. Так что фактически воевали они на три фронта. Если б я еще знал, какого черта они вот так воевали, фактически против всех… Ну а с осени сорок второго Червоный уже официально стал командиром так называемого отдела особого назначения УПА — Украинской повстанческой армии. Для простоты — те же бандеровцы. — Калязин прокашлялся. — Интересно, что летом сорок третьего для ликвидации банды Червоного отрядили специальный карательный полк СС. Командир, тогда он проходил под псевдо Дюжий, потерял почти всех людей. Сам попал в плен только потому, что его контузило, и он не успел застрелиться, как у них там заведено. Немцы отправили его в концлагерь, но по дороге Червоный сбежал.
— Опять сбежал?
Это мне, честно говоря, уже нравилось. Своим чувствам у меня было простое объяснение: когда хочешь победить врага, уважай его.
— Не сидится ему, — кивнул Калязин. — Нашел своих, и с осени сорок третьего не дает никому покоя. Гляди, никакая власть их, — желтый от табака палец полковника ткнул в листовку, — не устраивает. Специфика деятельности Червоного: у него летучая группа, по-ихнему говоря — боевка; количество зависит от обстоятельств… То есть может собрать вокруг себя до полусотни бойцов, а может обойтись десятком. На данный момент, по оперативным данным, именно боевка Остапа, то есть Данилы Червоного, контролирует территорию, прилегающую к Олыке, Киверцам, Луцку. Между прочим, еще такое обстоятельство: он не местный, тут его мало кто знает в лицо и может узнать. Тем не менее он для здешнего населения — герой. Так даже лучше: знаешь, будто есть некий человек из легенды… мать его так. — Он снова помолчал. — Ну, завтра, значит, покажу тебе все это на карте, с местностью ознакомишься в процессе. Потому что наше с тобой задание на ближайшие дни — вот эти прокламации.
Я отодвинул папку с материалами на Червоного, снова взял листовку.
— Что с ними нужно делать?
— Уже ничего. — Калязин развел руками. — Основная, я бы сказал, боевая задача бандеровцев и, в частности, Червоного: вооруженное сопротивление советской власти. Но столкновения происходят преимущественно между бандитами и частями НКВД, армейскими подразделениями, местными группами самообороны. Тут мы как милиция вряд ли сможем действовать эффективно, да и не нужно, это я тебе говорю — энкаведисты всегда наготове. Наше задание — выявлять возможные контакты местного населения с бандеровцами. Они ведь, кроме того что стреляют в наших, еще и ведут мощную агитационную работу. Запугивают тех, кто хочет вступать в колхозы, терроризируют руководство сельских и поселковых советов, фактически запрещают местным ехать работать на Донбасс, а там сейчас очень нужны рабочие руки, потому что промышленность восстанавливается. Угрожают специалистам, которых переводят на работу сюда. Особенно страдают агитаторы, но это понятно. И еще учителя.
— А учителя чем им не угодили?
— У них это называется советизацией, — произнес Калязин. — Понимаешь? Я тоже не очень. Как бы это точнее… Ну, внедрение в жизнь наших, советских ценностей, политики партии, правительства — такое все. А еще атеизм. В более широком смысле — антирелигиозное воспитание. Тут их, видишь ли, учили Богу молиться, а теперь учителя говорят: не будьте, мол, рабами Божьими. Конечно, уроки русского языка им не нравятся, вообще преподавание на русском. Где ж им других взять, если учителя — наши, из России? — он снова помолчал. — И еще один момент… Не знаю, как сказать, тебе это может в работе пригодиться…
— Что именно?
— Понимаешь… Не все учителя, некоторые… Даже не некоторые — многие… Но не все скопом… Словом, сотрудничают с органами, так это назовем. Милиция, чекисты, без разницы. Но без этого, извини, никак, все-таки учителя — интеллигенция.
— При чем тут…
— При том! Мыслящие люди, опора власти. Глаза и уши, наблюдают, слушают… Выводы делают… Так, все, хватит об этом. Пока что в общих чертах все понятно?
— Так точно, товарищ полковник.
— Ну, значит, молодца. Быстро разберешься в сути… если не убьют раньше…
Тогда я не уловил, шутил мой командир или говорил серьезно. Мы встретились после долгой разлуки, немного выпили, и все воспринималось как обычный разговор между старыми друзьями, несмотря на разницу в возрасте и разное количество звездочек на погонах. Я даже представить себе не мог, как близок он был к истине и что я вскоре попаду в ситуацию, где моя жизнь будет стоить меньше, чем на фронте, когда гонишь полуторку под пулями и минами.
— Итак, — подытожил Калязин. — Небольшую партию таких вот листовок, а конкретно — двадцать восемь штук, мы изъяли при обыске у одного местного жителя. Его потрясли в МГБ, и он сознался — получил эти листовки от жителя села Журавки, это километров восемь от Олыки. По его словам, тот подошел к нему на местном базаре, передал пакет и сказал раздать всем грамотным. О том, что дядька пришел из Журавки, узнал, опять же, по его словам, случайно. Говорит, патруль на базаре как раз проверял документы, тот мужик говорил с патрульными, а задержанный слышал. Но, во-первых, документы могли быть фальшивыми. А во-вторых, к Журавскому сельсовету приписаны еще несколько окрестных сел и хуторов, потому что там организована сельскохозяйственная артель имени товарища Кагановича. И наше с тобой задание — по возможности выяснить, кто распространяет листовки среди крестьян. Ведь на самом деле след из лесу ведет, то есть от того самого Червоного.
— Выяснить? Если у них круговая порука…
— А ты не думай об этом. Задание такое: вместе с участковым обойти дом за домом, двор за двором, везде показывать листовки, задавать стандартные вопросы. Что это даст в перспективе — пока не знаю. Но нужно дать понять бандитам и их пособникам: не они все контролируют из лесов, а мы — советская власть — на местах. Кто-нибудь обязательно выдаст себя. И тут уж агентура будет держать ухо востро: наши тоже работу с населением ведут будь здоров, майор Доброхотов Лев Наумович свое дело знает.
— Это кто такой?
— Начальник управления МГБ в Волынской области. Только навряд ли ты с ним встретишься, да и не нужно тебе, Михаил… Ну, по ходу пьесы завтра сам втянешься. Со мной поедешь, нам людей как раз для таких мероприятий не хватает. А пока идем спать.
4
Мое первое утро на новом месте службы оказалось не по-осеннему теплым.
Словно не происходило тут, в этих краях, залитых мирным сентябрьским солнцем, ничего из того, о чем вчера до поздней ночи рассказывал Калязин. Ночевал я здесь, в милицейской управе, в кабинете начальника милиции, на узком кожаном диване с высокой прямоугольной спинкой. Калязин обещал, что на протяжении суток поставит меня на квартиру, но я не слишком переживал по этому поводу: вещей — чемодан и фронтовой «сидор», никто нигде не ждет, а крышу над головой служивый человек всегда себе найдет.
Полковник уже поджидал меня возле «виллиса». За рулем сидел паренек в солдатской гимнастерке, который, увидев меня, выпрыгнул из машины, стал смирно и козырнул. Я ответил, бросив руку к фуражке, а сам ощутил неудержимое желание сесть на его место — так соскучился по рулю. Калязин курил возле машины; он пожал мне руку и спросил по-деловому, словно не было вчера никаких откровенных разговоров:
— Нормально спал?
— Даже выспался, товарищ полковник.
— Это хорошо. Не надейся, что дальше сможешь высыпаться. — Он улыбнулся краем рта, взглянул на часы: — Ну, и где этот ПОЦ, мать его за ногу?
— Какой поц? — Я не понял, кого это полковник Калязин, отнюдь не одессит,[3]так обзывает. — Почему поц?
Калязин удивленно уставился на меня, быстро все понял и рассмеялся.
— Во как! Ты смотри, а мне и в голову не приходили такие аналогии. Тут местные бюрократы придумали такое сокращенное название начальству из области — представитель областного центра, он же — ПОЦ. И я тебе скажу: этот Сичевский — действительно поц редкостный. Но без него нельзя, потому что листовка — как-никак политическая диверсия, вот и присылают человека из обкома.
Представитель областного центра Казимир Сичевский, толстый лысый коротышка в очках, который в придачу к этому еще и картавил и потел, все же явился через пятнадцать минут, по очереди ткнув каждому, кроме солдата за рулем, мягкую пухлую руку, пересел в машину Калязина, и мы наконец тронулись. Сначала начальство о чем-то вяло переговаривалось, но скоро Сичевский с Калязиным по взаимному и, наверное, давнему согласию решили — формальности улажены и дальше без особой нужды говорить им не о чем. Так молча добрались до Журавки, где уже ждали председатель сельсовета, парторг, еще несколько человек, видимо, тоже представители местного начальства, и милиционеры в форме. Еще возле входа в сельсовет, во дворе, мой взгляд зацепился за два немецких трофейных мотоцикла с колясками — настоящие БМВ. Зная, что участковым на местах теперь выдают немецкие трофеи, чтобы они могли передвигаться от села к селу, я определил для себя коллег как сельских участковых и искренне пожалел, что я не на их месте: кому-кому, а мне Калязин уж точно выцарапал бы такого железного коня.
О чем тогда говорили — уже не вспомню, но те разговоры неважны для моей истории, поскольку никоим образом на нее не повлияли. Упомянуть стоит только о том, что там я познакомился с младшим лейтенантом Василием Задурой — участковым уполномоченным из Ямок, соседнего села, которое входило в журавский совет и, соответственно, тоже находилось в сфере наших интересов.
Задура сразу мне понравился, к тому же оказалось, мы воевали почти рядом; слово за слово — договорились вечером хорошо посидеть у него дома. Правда, тут не к месту вмешался Сичевский. Чем лишний раз подтвердил, что он не только казенная персона, представитель областного центра, но и все же настоящий поц: раскричался при всех — мол, милиционеры постоянно пьяные, не контролируют ситуацию на местах, поэтому и появляются листовки преступного националистического содержания.
И тут участковый Вася Задура моментально доказал, что я в нем и его человеческих качествах не ошибся. Не ожидая, пока начальник милиции отреагирует на эту тираду, даже как-то подсознательно понимая, что Калязин не очень-то и хочет демонстрировать правильную с точки зрения обкома партии реакцию, он дослушал жирного Сичевского до конца, а потом спокойно, глядя даже не на него, а куда-то ему через плечо, за окно, произнес, хотя и довольно громко:
— Заткнул бы ты пасть, крыса тыловая.
Так и сказал. Как пощечину отвесил по пухлой щеке, звонкую и жгучую. Причем не в морду засандалил — именно пощечину, и даже не ладонью, а такой, знаете, тонкой лайковой перчаткой, как у царских офицеров, — в кино я видел. Сичевский вздрогнул, потом вскинулся, подскочил, как петух, что сдуру запрыгнул на раскаленную плиту, вытянул, как мог, короткую шею, закрутил ею, ища свидетелей недостойного поступка милиционера и поддержки. Но, видно, не очень тут любят или всех представителей областных центров, или именно этого толстяка, потому что присутствующие все разом отвернулись, вдруг переключив внимание на какие-то свои, без сомнения, срочные дела.
— Вы что себе позволяете! — тем не менее взвизгнул Сичевский и сразу же повернулся всей жирной тушей к Калязину: — Товарищ Калязин, как ведут себя ваши подчиненные?!
— Мои подчиненные, товарищ Сичевский, бандитов ловят, — холодно ответил начальник милиции. — И дело свое, между прочим, хорошо знают.
— А разве вы не слышали? Не делайте вида, что ничего не случилось, товарищ Калязин! Имейте в виду — я подам рапорт, и о вашей преступной бездеятельности и потакании антисоветским выходкам тоже!
— Вот это не пройдет! — Калязин продолжал вести себя довольно сдержанно. — У советской власти тут враг один — украинские буржуазные националисты. С которыми ведется активная борьба. Вы меня, русака, на котором пробу ставить негде, хотите записать в бандеровцы?
— Участковый уполномоченный назвал меня… Вы сами слышали, как назвал, — гнул свое Сичевский.
— А вы что, служили на фронте, товарищ представитель областного центра? — надвинулся на него Калязин, и мне показалось — Сичевский стал как-то меньше ростом, даже сдулся немного под взглядом полковника. — Можете писать докладные, бумага у нас и не такое терпела. А я напишу, что вы своими непрофессиональными действиями препятствовали борьбе советских милиционеров с украинскими буржуазными националистами. Так что, поборемся, чья бумажка сильнее?
Не дожидаясь ответа, Калязин жестом велел Задуре идти за ним и оставил кабинет председателя. И я пошел за ними — все равно мне здесь нечего было делать.
На улице полковник достал из кармана галифе пачку «Казбека», дал нам закурить, затянулся сам, а потом сказал, глядя, так же, как и участковый Задура, куда-то мимо остальных.
— Я тебя понимаю, Вася. Только сука он. Я про Сичевского. Теперь будь готов, что станешь у него рано или поздно пособником бандеровцев и личным другом чуть ли не самого Остапа… Ты же местный, правильно?
— Здешний, из соседнего района, — ответил Задура. — В Красную армию добровольцем пошел.
— Ну вот, а ты уже скоро год как участковый тут, а бандеровцы тебя не убили. Чем не повод для такого вот Сичевского написать, что в ряды Красной армии ты записался, выполняя задание руководства ОУН? Смотри, с огнем играешь!
— В первый раз, что ли? Не таких видел.
— Таких, как Сичевский, еще не видел. Ладно, мужики. Журавку есть кому отрабатывать. Дуй, Задура, на свой участок, вот даю тебе Середу в помощь. — Он с минуту подумал, словно взвешивая «за» и «против», потом сказал: — Ну его к хренам, вместе поедем. ПОЦ за нами не попрется, пусть сельсовет с ним валандается. Заодно проверю оперативную обстановку на местах. Так как, Вася, приглашаешь в Ямки?
Конечно, Задура приглашал начальство. А я даже и не сомневался, что Калязин поехал с нами, чтобы держаться подальше от жирного Сичевского. На фронте подобные ситуации сотни раз возникали: припрется из тыла какой-нибудь толстый штабист, особенно если он еще и политработник, а боевому офицеру с таким заводиться — себе дороже. Лучше или молчать и слушать, или, если устал слушать и надоело молчать, найти себе важные дела и оставить штабных с начальством.
И еще, здесь я повторюсь, меня ужасно бесили особисты. Прыщавый лейтенантик из особого отдела НКВД запросто мог испортить жизнь любому командиру, пусть даже у того боевые заслуги, ранения, благодарности и награды.
Словом, не испугался Калязин этого жирного представителя областного центра, но за себя, за свою несдержанность все же волновался. Стукнет Сичевский куда надо — все, сменят мне начальника милиции… А в таких условиях нужно еще бандеровских недобитков ловить.
Мы собирались ехать, когда произошло еще одно небольшое событие, которое вскоре перевернет всю мою тогдашнюю жизнь. Только я об этом еще не знал — просто обратил внимание на молодую женщину, совсем еще девочку, в легоньком сером пальто с опущенным воротником и таком же сереньком, под цвет пальто, берете. На ногах у нее были совсем не женского кроя кирзовые сапоги, но тут я ничего другого не ожидал: даже в городах тогда сложно было встретить осенью женщину в ботиночках или туфлях на высоком каблуке. Пока мы были заняты своими делами и разговорами, она тихонько стояла возле входа в здание сельсовета, чего-то терпеливо ждала и, словно почувствовав, что мой взгляд за нее зацепился, тоже посмотрела на меня, даже ступила несколько шагов вперед.
Теперь нас разделяли десяток метров, но даже с этого расстояния я увидел, какие большие у нее глаза. Ничего больше не существовало вокруг — только эти глазищи, круглые и глубокие; они как магнитом притягивали меня к этой девушке. И захотелось мне вдруг нырнуть в эту бездну, потому что никогда не видел ничего подобного: глаза, правильные черты лица, ямочка на подбородке, а еще коса — толстенная, русая, аккуратно заплетенная, с багрово-красной лентой, она выбивалась из-под края берета. Девушка легким движением перекинула ее через плечо, и коса упала на грудь, выпуклость которой не скрывало даже плохо скроенное, как я теперь только заметил — перешитое из женской шинели пальто. Когда же она заговорила, неотрывно глядя на меня своими глазищами, в голосе я услышал некоторую хрипловатость: или это от природы у нее так, или курит много, или простужена — всякое может быть.
— Здравствуйте, товарищ, — сказала она по-русски, и слух резануло слишком правильное, звонкое, хорошо поставленное произношение. — Мне к вам сказали подойти.
— Ко мне? — я даже ткнул себе пальцем в грудь для уверенности.
— Это же вы едете в Ямки?
— Мы, — согласился я. — Чем могу помочь?
— Так мне ведь в Ямки и нужно, очень-очень срочно! — теперь она зачастила, в голосе появились умоляющие нотки. — Там дети в школе ждут.
— В Ямках? — переспросил я, почувствовав себя почему-то круглым дураком.
— В Ямках, в Ямках! — девушка закивала. — Я здесь с самого утра, наш председатель дров на школу не выписывает, перекладывает на это начальство. — И она кивнула в сторону сельсовета. — Директор наш мне говорит: вы, мол, Елизавета Алексеевна, мерзнете — вы и выбивайте дрова! Можно подумать, только я мерзну! А дети разве нет? Дочь директора, между прочим, тоже в школу ходит, младшая… Старшая уже поехала учиться в Луцк…
— Безобразие, — кивнул я, чтобы как-то поддержать разговор. — Так вы, Елизавета Алексеевна…
— Ой, что вы — просто Лиза!
— Меня Михаилом звать. — Я невольно выпрямился, скорее из пижонства, а не потому, что хотел показать себя эдаким служакой. — Лейтенант Михаил Середа, со вчерашнего дня служу здесь, в милиции, в районной…
— Очень приятно. — И этот ответ показался мне не проявлением вежливости — девушке действительно было приятно познакомиться с новым человеком.
— Так вы, Лиза, учитель? Какой предмет?
— Русский язык… — И после короткой паузы зачем-то: — И литература.
Понятно теперь, почему она так красиво говорит — обучена.
— После университета сразу, — говорила тем временем Лиза, словно отчитываясь мне. — Московский университет, филологический. Когда университет вернулся из эвакуации, из Ашхабада, сразу на второй курс пошла.
— На второй? — на самом деле это мне ни о чем не говорило, но я разыграл удивление, чтобы продолжить разговор.
— Ага! Даже самой теперь вспомнить… не страшно, странно как-то. Папа — профессор, дома книжек куча, сама училась, прошла программу первого курса. Работала на заводе, на оборонном — и училась. — И сразу, будто что-то вспомнив, добавила: — Я москвичка, по распределению. Хотя я сама была не против, вы не думайте: мама в эвакуации умерла, папа в сорок первом пошел ополченцем, когда немцы подходили к Москве, его бомбой, прямо в окопе… — Лиза говорила об этом спокойно, видно, что уже давно пережила все утраты и научилась жить дальше. — Тут жилье обещали отдельное, но пока на квартире разместили. Люди здесь ничего, хорошие, запуганные только. На всех смотрят, как на врагов… Но детей ведь учить надо, как они не понимают…
Может, учительница Лиза еще что-нибудь рассказала бы, да подошел, поскрипывая начищенными до блеска хромовыми сапогами, Калязин.
— Сейчас поедем, Михаил.
— Вот, товарищ полковник, учитель русского языка из Ямок. Елизавета… хм… Лиза ее зовут. Просит подбросить до рабочего места. — И зачем-то добавил: — Урок у нее.
— Урок — это хорошо, — сказал Калязин. — Учительница — еще лучше. Русский язык — вообще прекрасно. Советская власть тут, лейтенант, навсегда. А русский язык — язык межнационального общения и советской власти. Товарищ Сталин говорил, не слышал?
— Слышал, — соврал я. — Обязательно слышал.
— Так садитесь, Лиза, вон в ту машину, — показал полковник на наш «виллис». — Потому что уже выезжаем, время не терпит.
Радостно кивнув, девушка движением плеч перебросила косу за спину, и только теперь я обратил внимание на старенький, потертый, но еще довольно представительного вида портфель, который Лиза сжимала худенькой рукой. Снова перехватив мой взгляд, она коротко объяснила:
— Таких теперь не делают. От папы остался, профессорский, память.
5
Тот день миновал быстро, не о чем особенно вспомнить. По дороге мы с Лизой говорили о каких-то неважных вещах, она вежливо поддерживала разговор — всего-навсего. До Ямок от Журавки — километров десять, не больше; мы высадили учительницу возле школы, она махнула рукой на прощанье, поблагодарила и пообещала — мы еще встретимся. Если бы я только знал тогда, при каких обстоятельствах состоится эта наша встреча…
Увидев, что участковый привез с собой еще несколько людей в форме, один из которых вдобавок — начальник районной милиции, поселковый председатель, плюгавенький дядька Назар Пилипчук, который постоянно вставлял, где надо и где не надо, фразу «пан-товарищ», сначала заметно перепугался, потом — прямо на наших глазах — успокоился, выгнул хилую грудь колесом, одернул на себе пиджак. Около часа Калязин проводил беседу с ним и со срочно созванным поселковым активом, а потом председатель лично прошел с нами по домам.
Вот только пользы от этого не было: местные люди в основном зыркали на нас исподлобья, отвечая короткими рубленными фразами, сводя все к «не знаю, не видел, не слышал, не читал», или наоборот — встречали, раскрыв объятия, пытались посадить «панов начальников» за стол. Только кого-кого, а меня точно не обманешь: губы улыбаются, руки мечут на стол полумиски и чарки, а глаза без всякой приветливости, настороженные, цепкие, сразу видно — показное гостеприимство, а за ним прячутся и страх, и ненависть.
Благодаря Пилипчуку мы в нескольких хатах все же позволили себе ненадолго присесть. Он еще по дороге объяснил: сам знает, где точно можно, где к представителям власти в самом деле относятся нормально и где такое отношение стоит закрепить. Спасли фронтовая закалка и некоторый оперативный опыт: к концу дня удалось и угоститься несколько раз, и наладить определенные контакты с теми, кого Пилипчук считал проверенными и надежными, и при этом не позволить себе лишнего. К тому же Василий Задура пригласил к себе, и, как предупредил, жена его уже хлопотала у печи, поэтому не зайти — обида смертельная, да и отчего бы не зайти, раз мужик хороший.
Единственное, что оставалось, — понять, вернемся ли мы назад, в Олыку, на ночь глядя. Тут сам Калязин одобрил решение: остаемся ночевать. Только у Задуры негде, потому что дом небольшой, детей двое, старушка мать. Впрочем, и этот вопрос поселковый председатель взялся решить: солдата-водителя положит спать у себя (там, во дворе, можно будет оставить и «виллис»), а нас с «паном-товарищем» полковником устроил на ночлег ко вдове, чья хата стояла почти на краю Ямок. Полковник еще полушутя спросил, не пустят ли люди слух о вдове, у которой ночуют двое москалей, на что Пилипчук, тоже полушутя, ответил: так у нее места много, у нее часто гости ночуют, молва давно уже идет, поэтому слухом больше, сплетней меньше…
У участкового посидели хорошо, на то время Калязин даже позволил себе и другим забыть, что он — товарищ полковник, эту его манеру я еще с фронта помню. Сначала поселковый председатель, без которого ужин не обошелся, пытался в наш разговор вставить свои пять копеек. Потом понял: лучше тихонько сидеть и отзываться, когда просят. Потому что не о чем говорить плюгавому плоскостопому дядьке, который в сорок первом сбежал из родного села вместе с Красной армией, а вернулся вслед за ней в сорок четвертом, все это время просидев из-за своих болячек, настоящих или выдуманных — это уж на совести врачей, — по тылам. И сидели бы мы еще, потому что давно так не ужиналось в хорошей компании, да сам Калязин, взглянув на часы, сказал: все, мол, мужики, завтра подъем ранний, еще не всю работу здесь, в Ямках, провели, нужно еще собрать поселковый актив и вставить все, что не вставлено. От этого обещания Пилипчук как-то скорчился: видно, не очень ему нравилось, когда приезжали из района и вставляли все, что нужно, туда, куда надо. Но ничего не поделаешь — такая его судьба.
Когда расходились — не удержался я, обнялся с Василием Задурой. Так уж мне понравился этот мужик, фронтовик, который не боится косых взглядов, надевает милицейскую форму, служит Советскому Союзу и, как может, охраняет односельчан от лесных бандитов. В отличие от них участковый не прятался и, как мне показалось, никого особо не боялся. Мол, я у себя дома, в своей хате, а они пусть как хотят… Договорились, что придем завтракать, Задура даже сам вызвался проводить нас к Килине, чтобы предупредить ее: гостям дорогим на утро только молока, а завтрак им уже готовится. На это Калязин ответил, что сам проконтролирует, тоже обнял участкового, правда, не так крепко, как я, — помнил о субординации даже в таком состоянии.
А уже через час, когда вдова положила нам на пол две большие перины, две подушки и выбитые одеяла и оставила отдыхать, я убедился: мой бывший командир и теперешний начальник многое помнит. Только я задремал, отдав тело подушке с периной, как меня разбудил толчок в бок. Спал я в одежде, снял только портупею и сапоги, а пистолет положил рядом, поэтому и схватил его, еще не продрав глаза. Хотел спросить, что случилось, но вдруг шершавая ладонь закрыла мне рот. В нос ударил запах табака, смешанного с потом, а прямо в ухо я услышал шепот:
— Тихо. Молчи, ни звука. Делай, как я.
Сразу узнав голос Калязина, я не понимал, что происходит. Но, привыкнув к выполнению приказов, во тьме кромешной намотал портянки, обул сапоги и приладил портупею. Похоже, полковник рядом делал то же самое.
— Тихо, — повторил он из темноты. — Осторожно ступай за мной.
Его тень скользнула к окну, я двинулся за ним, но меня остановил шепот:
— Постель!
В первое мгновение я не понял, при чем тут постель, но потом догадался: резко развернулся, быстро расправил свое одеяло так, словно под ним кто-то лежит, и снова вернулся к окну. Калязин осторожно отворил его, ужом выполз наружу, обошел дом кругом и на карачках пересек двор до копны сена под деревянным навесом, что держался на четырех крепких жердинах. Я прокрался следом, а Калязин подхватил легкую лестницу возле копны, обошел стог с тыла, приставил лестницу, ловко влез наверх, под крышу. Миг — и я уже был возле него.
— Сбрось, — услышал я новый приказ и, поняв, о чем речь, сбросил ногой лестницу на землю. Только теперь, примостившись возле Калязина и ощущая его тяжелое, смешанное с духом выпитого самогона, дыхание, спросил:
— Что случилось?
— А ты хочешь, чтобы что-то случилось? — с нотками раздражения в голосе переспросил полковник. — Все село знает, кто в этом доме ночует. Хочешь жить — никогда не спи в здешних хатах, особенно если хозяина не знаешь.
— Все так серьезно?
— А ты как думал? Расслабился совсем, вижу, — просипел из темноты Калязин. — Так вот, лейтенант: сейчас ноль двадцать. Три часа тебе на сон, потом меня сменишь на три часа. Задание понял?
— Так точно, — прошептал я в ответ.
Улегшись под навесом на копне, я закопался в душистое сено поглубже. Только сон совсем пропал, но я это проигнорировал: устроился как можно удобнее, закрыл глаза, стиснул в руке пистолет, поставив его на предохранитель, и, сам того не заметив, задремал.
Я быстро проснулся от осторожного прикосновения Калязина. Стояла ночь, только теперь ее тревожную тишину нарушал новый звук — шелест дождевых капель по деревянному навесу над нашими головами. Полковник ничего не сказал, просто протянул мне свои командирские часы, устроился поудобнее и скоро заснул, даже тихонько похрапывал. Я же, повернувшись на живот, заступил, можно сказать, в караул, не давая убаюкать себя дождику и настороженно всматриваясь в темноту.
Под утро, когда горизонт медленно серел, коварный сон сморил меня на несколько минут. Потому что, услышав какие-то новые звуки, я сразу встрепенулся и понял — задремал на посту. При других обстоятельствах трибунал, считай, заработал. Звуки слышались от хаты вдовы Килины, и теперь я четко различал мужские голоса. Толкнув локтем Калязина, я сбросил большим пальцем предохранитель, выставил пистолетное дуло перед собой и осторожно высунулся из копны. Рядом напряженно дышал полковник.
С нашей позиции хорошо было видно стену дома и окно в ту комнату, где закрылась от нас хозяйка. Как вдруг из-за угла, крадучись, вышли один за другим двое мужчин. Рассвет только-только вступал в свои права, шуршал дождь, вокруг серело, и фигуры нежданных гостей были хорошо различимы, однако рассмотреть их было пока что сложно. Единственное, что я смог увидеть четко: кители, похожие на польскую или немецкую военную форму, островерхая фуражка на голове у одного, обычный картуз — на другом, сапоги с высокими голенищами, в которые заправлены штанины, да автоматы в руках.
Тот, что шел первым, подал товарищу какой-то знак. Второй бандеровец — а в том, что это были они, у меня не было никакого сомнения — развернулся всем корпусом в сторону копны, взял автомат наперевес, и мы с Калязиным, не сговариваясь, отодвинулись назад, зарываясь в сено еще глубже. Послышался легкий, но настойчивый стук в стекло. Я навострил уши, пытаясь услышать, о чем утренние гости говорят с хозяйкой, которая, без сомнения, им открыла. Со своего места мы вряд ли услышали бы даже обрывки разговора, а за шумом дождя, создававшего дополнительную преграду, и тем более.
Готовясь к чему угодно, я крепче, до боли в пальцах, стиснул рукоять пистолета. Время текло медленно, и работало оно не на нас, поскольку едва светало, да и дождь утихал. Если их двое, прикидывал я мысленно, мы с Калязиным сможем принять бой, потому что силы равные. Только наверняка эта парочка — лишь разведка, и где-то рядом, неподалеку от крайних дворов, под лесом залегли еще с десяток бойцов. Затем мысли закрутились вихрем; оставалось только лежать, зарывшись в сено, и ждать, как поведет себя враг.
Тем временем дождь прекратился, стало совсем тихо, и в этой предрассветной тишине до нас четко долетели голоса:
— Куда эти москали могли из дома подеваться?
— Загнул ты, друг Мирон… Нужно знать сначала, когда они оттуда выбрались.
— Вдова говорит — ничего не слышала.
— Думаешь, врет?
— Зачем бы ей врать? У нее москали мужа расстреляли. Видишь, друг Лютый, они нас все же боятся — убегают, прячутся, все по-тихому.
— Может, поищем? Далеко не могли убежать, друг Мирон.
— Раз выползли из дома посреди ночи — опытные сукины дети. Слышал, вдова говорила: большую шишку к ней председатель спать привел. Вроде сам начальник милиции из Олыки.
— Не может быть.
— Почему?
— Да чтоб так повезло — не может быть.
— Где ж повезло: смылись же москали…
— Да вот именно — начальник милиции не каждый раз сам в руки придет.
— Если б знать…
— И я о чем. Вот потому и повезло, только не нам — ему. Слушай. — Пауза, которую держал тот, которого звали Лютый, длилась ужасно долго. — А что, если они вон там, в копне ночуют?
После этих слов я затаил дыхание. Не дышал и Калязин. Если они пойдут проверять, стрелять нужно первыми. Только теперь я понял всю нелепость ситуации: мы, представители власти, работники милиции, ночью бежим из теплого дома на сено, а потом вынуждены, словно мыши, прятаться от бандитов, которые вне закона. Так чья же здесь власть и кто здесь закон?
Но выводы, которые у офицера милиции появляться не должны, остановил голос того, кого называли Мироном.
— Нету их там, друг Лютый. Ей-богу нету.
— Почему это так?
— Дождь ночью шел. Вот только перестал, сам разве не видел?
— Да и пусть себе дождь, что он нам?
— А если б москали полезли к той копне, на земле бы наследили. Гляди, сыро и мокро, следы должны были остаться.
Никогда не верил я в Бога, ни тогда, ни потом. Особенно после того, с чем пришлось столкнуться вскоре и что затянуло в следующие недели в водоворот трагических и непредсказуемых событий. Может, глупость скажу — да только нет Бога после того, что довелось мне увидеть собственными глазами. Если бы был — не допустил бы… Но тогда, в копне сена, был короткий миг, когда я в Бога все же поверил, даже помолился ему, как умел. «Господи, — говорил я про себя, — спасибо Тебе за то, что послал ночью этот спасительный дождь, и именно тогда, когда мы уже спрятались от чужого глаза, смыл дождь все наши следы на земле…»
— Твоя правда, — послышалось наконец. — Видно, сильно испугались, далеко убежали. Ничего, мы на своей земле — никуда они от людского гнева не денутся. Айда, друг Мирон, совсем светло уже, Остап нервничает, наверное.
В тишине послышались их шаги по влажной земле. Звуки отдалялись, очень скоро исчезли совсем, и тогда мы с Калязиным, не сговариваясь, спустились со стога. Не спешили подниматься с земли, посидели, перевели дух, потом полковник сплюнул и просипел сквозь зубы:
— Вот ведь с-суки… А ты говоришь, Миша…
Ничего, ясное дело, я не говорил, зато окончательно понял, какие тут условия и на кого нужно рассчитывать. Вернее, на кого не нужно полагаться: местное население — эти всегда в спину ударят. Ненависть к советской власти и ее законам черная и бешеная, и долго, ой долго нужно еще работать, покуда…
— За ними? — коротко спросил у Калязина, поднимаясь.
— Куда к черту — за ними: вдова теперь нас интересует. — Полковник тоже поднялся. — Сладкая вдовушка Килина. Недаром мы с тобой, Середа, здесь остались, ой недаром. Вот и зададим ей несколько вопросов…
Но ничего мы у нее не спросили, не успели: вдруг послышался гул машины, и в следующий миг во двор вкатился наш «виллис». За рулем сидел солдат, в галифе и сапогах, однако без гимнастерки, в одной только нижней рубашке. На ходу из машины выпрыгнул Пилипчук, растрепанный, перепуганный не на шутку. Сначала он ничего не мог сказать — только руками махал, выкрикивая:
— Там… там… там… пан-товарищ…
В проеме раскрытых дверей замерла вдова, в одной рубашке, босая, на плечах платок. Бросив на нее недобрый взгляд, Калязин сделал шаг вперед, наставил на женщину оружие, гаркнул:
— Сюда! В машину!
— Вот так? — Вдова попятилась.
— Кому сказано — с нами поедешь! — Ствол угрожающе качнулся в его руке.
Все-таки вдова успела сунуть босые ноги в какие-то чуни, которые стояли в сенях, и прихватить с собой фуфайку с крючка. Она молча прошла через двор, села на заднее сидение и молчала все время, пока мы в сопровождении Пилипчука — а тот до сих пор не мог ничего толком пояснить — мчались через все село к дому Васи Задуры, потому что из обрывистых фраз поселкового председателя поняли: что-то случилось с участковым или у участкового.
Подъезжая к его двору, услышали громкий грудной надрывный женский крик — даже не крик, так воет больная побитая собака. И тут же увидели жену Василия — она в порванной рубашке, с распущенными волосами сидела на земле возле колодца-«журавля» и обнимала деревянный колодезный сруб. Возле раскрытых дверей на пороге тихо сидели дети. Еще вчера, меньше чем полсуток назад — такие веселые, а теперь — словно видели, как вдруг ожила самая страшная сказка. Возле двора топталось несколько человек, которые вышли на крик, — соседи, и Калязин, еще не совсем понимая, что же тут произошло, рявкнул, как только машина затормозила:
— Детей уберите отсюда! Вон детей!
Его послушались, а он, сжимая пистолет, пересек двор. Край жердины «журавля», к которому крепилось ведро на цепи, был опущен в колодец. Но жестяное ведро валялось поодаль. Недалеко от ведра лежал мертвый пес — еще вчера он с лаем бросался на непрошенных гостей, а Василий цыкнул на него, загнав в будку. Теперь собачья голова лежала в луже крови.
— Сюда, сюда, пан-товарищ! — частил Пилипчук, жестами показывая — нужно вытащить что-то из колодца, то, что опустили туда вместо ведра.
Перехватив взгляд Калязина, я засунул пистолет в кобуру, приблизился к колодцу, взялся за жердь и потянул ее на себя. Она оказалась неожиданно тяжелой, но я налег сильнее.
Под исступленный женский крик и возгласы любопытных, которых множество набежало за это время из окрестных дворов, из колодца показался участковый Василий Задура.
Висел вместо ведра, подвешенный на цепи. С мертвого тела на мокрую землю капала вода.
6
Плохо помню тот день. Не потому, что пьян был, хотя помянули как следует того, кто не успел стать настоящим другом. Калязин велел нам с шофером снимать мертвого участкового с колодезной жерди, Пилипчуку и сбежавшимся перепуганным «штырькам» — разгонять народ по домам, а сам по телефону из поселкового совета позвонил в районную энкаведешную управу, и через полтора часа в Ямках стоял взвод, как их тут называли, «краснопогоннинков».
Мы с Калязиным собственными глазами видели бандеровцев, слышали, как они говорили об Остапе, то есть о Даниле Червоном. Значит, подтвердилось, чьих это рук дело. Собственно, других версий и предположений после рассказа подавленной горем женщины и не было. Когда жена, теперь уже вдова убитого участкового, пришла в себя (хотя насколько тут можно прийти в себя, сами понимаете), то рассказала: пришли ночью трое. Точное время не запомнила, не смотрела на часы, не до того, но дождь только что начался, это точно помнит. Василий не открыл бы просто так, но услышал — с гостями беда. Так и сказал жене перед тем, как отворить двери. Потом все закрутилось: вломилось трое, на вид — ребята из леса. Первый ударил Задуру в лицо прикладом автомата, но участковый устоял на ногах; тогда его ударили снова. Навалились двое, били ногами, а третий наставил на женщину револьвер, в оружии жена фронтовика хочешь не хочешь разбиралась, приказал сидеть тихо, не кричать, не будить детей — иначе всем хана. Задура, видно, тоже это услышал — не кричал, пока били, только стонал и скрипел зубами. Тогда его вытащили на улицу, жену потащили за ним. Там, во дворе, стояла группа вооруженных лесовиков. Сколько их было, испуганная женщина не считала. Сказала: мысленно попрощалась с Василием, потому что те, из лесу, пощады не знают к тем, кто служит Советам, даже сама молилась, как перед смертью. Не сдержалась только, выкрикнула: «Детей пожалейте!» Тогда тот, которого она сочла за старшего, ответил: «Как вырастут и будут служить москалям — тогда не пожалеем. А теперь пусть знают, за что их отцу вынесли приговор». Даже велел кому-то поднимать детей — пусть смотрят, но один из тех, кто держал Василия, произнес: «Будет с них, друг Остап. Мы же не звери, не москали — с детьми не воюем. И мамку трогать не надо — кто детям расскажет про отца-иуду?» Потом тот, кого назвали Остапом, велел женщине быстро собирать продукты в мешок, все, какие есть: «Москалей неплохо принимала, вот и своих так же должна».
А после этого двое прикрутили Василия Задуру за шею цепью к колодезному журавлю. И повесили у жены на глазах, затем скрутили ей руки, заткнули рот кляпом… и изнасиловали. Ушли, оставив ее во дворе. Перепуганные дети долго сидели в темном доме, только под утро старший мальчик решился постучать к соседям. Те позвали Пилипчука, который жил неподалеку…
Собаку, как потом выяснилось, не застрелили. Пес лаял, увидев чужих, это разбудило Задуру. Потом, когда бандеровцы колотили его в хате, один из тех, кто ждал снаружи, рубанул собаку по голове топором. Стрелять, выходит, они не рисковали, вообще действовали тихо, чтобы никого не переполошить. Наверное, знали, что в селе ночует начальник милиции. Наверное, хотели расправиться с ним, для этого и ходили потом к вдове. Только предусмотрительность Калязина, его знание местных обычаев и дождь спасли нам жизнь.
Именно на дождь я тогда обратил внимание. Зафиксировал это обстоятельство, благодаря приобретенным за последние полтора года навыкам оперативно-розыскной работы. В связи с убийством участкового Задуры милиции никаких мероприятий проводить не требовалось, ведь и без того понятно, чьих это рук дело и кого нужно искать. Другой вопрос: где именно искать Данилу Червоного…
Вдову Килину, прямо так, как была, — в чунях на босу ногу, ночной полотняной рубашке и фуфайке — повезли в район, в распоряжение МГБ, но опытный в таких делах Калязин вздохнул: не будет от нее пользы для следствия.
Связь с Червоным? Так бандеровцы ночью, считай, в каждый второй дом заходят: там им продукты собирают, потому что местное население кормит тех, кто называет себя повстанцами. И, как пояснил полковник, людей тоже можно понять: дома тех, кто не пускает к себе бандитов, за симпатию к большевикам могут поджечь. Люди боятся за свою жизнь, а по автоматчику в каждую хату не посадишь…
Вообще, за связь с Остапом, или же Червоным, в округе можно грести людей пачками. Это лишние хлопоты, и не зря советская власть направляет по местам агитаторов для работы с местным населением.
Тогда и в самом деле пользы от задержанной вдовы НКВД не будет. К ней пришли, потому что там ночевали «москали» — мы с Калязиным. Если бы поселковый председатель положил нас в другом доме, по наши души пришли бы туда. Поэтому стоит лучше разобраться, кто именно оперативно сообщил Червоному в лес о том, что в Ямках ночует начальник районной милиции. Но и тут ничего нового для себя Калязин искать не советовал: глаза и уши у бандеровцев есть в каждом селе, в каждом городе, на каждом хуторе, и выявить эти связи МГБ и милиция пытаются уже несколько лет. Практически с тех пор, как наши выбили с Западной Украины немцев, снова установив здесь свою власть. И конца-края этому не видно. Так что выискивать связных, выявлять агентурные сети, уничтожать логова бандитов — главная задача всех подразделений МГБ. Поскольку такие показательные акции, как это убийство участкового, — основной метод врага, направленный на запугивание населения, это убийство никак не станет отправной точкой, от которой можно наверняка выйти на след Данилы Червоного.
И все-таки: дождь.
Под вечер, когда все понемногу улеглось и в доме Задуры готовились к похоронам погибшего, я попытался поговорить об этом с Калязиным. Правда, у него голова, как он сам сказал, была забита совершенно другими делами, поэтому, наверное, он толком не проследил за ходом моих мыслей.
А мыслил я, как мне казалось, довольно просто и логично. Когда ночью мы перебрались из дома на сено, полковник сам назвал мне время: ноль часов двадцать минут. Через три часа, то есть примерно в три двадцать, я должен был сменить его на карауле. Итак, при желании можно вычислить, когда начался тот спасительный для нас дождь: приблизительно в три часа ночи. Бандеровцы вломились к участковому, когда дождь начался или уже шел, но не перед самым рассветом, поскольку жена Василия, не зафиксировав времени, точно помнит: на улице было еще темно. Сереть, как я заметил, начало после четырех утра, я бы даже сказал — где-то даже в пять утра. Вот тогда те двое возле дома вдовы и появились.
Калязин либо не понимал, для чего мне вся эта математика, либо, что скорее всего, не хотел думать. А меня очень интересовало, откуда взялась такая большая группа людей. Вернее — как они среди ночи прошли мимо нас, точнее — мимо полковника, который как раз не спал, потому что стоял на карауле. И он, и я прекрасно видели, куда, в какую именно сторону пошли те Мирон и Лютый. А двигались они к лесу, в направлении, противоположном центральной части села, где стояли дома председателя Пилипчука и участкового Задуры.
Значит, группа вооруженных людей прошла мимо нас, но Калязин их не заметил. Я даже предположить не могу, что начальник милиции спал на посту, более того — он сам позаботился о нашей безопасности после того серьезного застолья. Или Червоный со своими людьми зашел в Ямки с одной стороны, сделал свое дело, а потом, подождав зачем-то лишний час, оставил село и вышел в лес с противоположного края. К тому же еще и послал двух своих бойцов ко вдове, по наши души.
Все это напоминало суетливую беготню, а не организованное и согласованное передвижение хорошо вышколенной группы так называемых повстанцев — каким я себе представлял отряд Данилы Червоного. Он уже десять лет воюет против всех с оружием в руках, да еще и дважды бежал из плена. Но ведь я должен был составить о враге правильное представление — только так я смогу оценить и его, и, соответственно, собственные силы, что даст мне возможность лучше и быстрее приспособиться к новым условиям службы. Потому что теперь я в самом деле понимал: тот уголовный бандитизм, с которым я сталкивался, не имеет ничего общего с тем, что творится здесь, — с вооруженной борьбой. Преступления совершаются не для собственного обогащения. Все действия тут направлены против советской власти, а значит, здесь идет война, и линия фронта — всюду, куда ни глянь.
Мои размышления о времени появления боевки Червоного в селе и возможном пути отступления, как и следовало ожидать, совсем не заинтересовали Калязина. Его больше волновало то, что после убийства Задуры Ямки остаются без милиционера, который выполнял бы обязанности участкового. Поскольку взвод бойцов МГБ, присланный сюда в обед, вряд ли задержится здесь надолго. Все оперативные действия, предпринятые по приказу их командира, молоденького лейтенанта с красными то ли от недосыпания, то ли от самогона, то ли от всего разом глазами, свелись к выборочным допросам и обыскам, которые, естественно, не дали никаких результатов. Если считать результатом конфискованные в двух домах продукты: лейтенант заявил, что это приготовили для бандеровцев, поэтому, если их не получается поймать, пусть хоть немного посидят в своих крыйивках голодными. Так я узнал: крыйивками называются подземные бункеры, оборудованные и старательно замаскированные в лесах. Там прячутся бандеровцы, и, как я, опять же, услышал от эмгебешного лейтенанта, с недавнего времени руководство аппарата госбезопасности настроено на выявление этих бункеров в окрестных лесах. «Выкурим, как лису из норы!» — пояснил красноглазый.
Именно поэтому вечером Калязин предложил мне остаться в Ямках участковым. Это было именно предложение, но, зная полковника, я прекрасно понимал: он может и приказать, и любому другому на моем месте он отдал бы соответствующий приказ. Но мне, по большому счету, и приказ не нужен, потому что я сам собирался занять место Василия Задуры. Так же добровольно, как недавно Калязин занял место погибшего начальника олыцкой милиции.
Странно как-то все получалось: согласившись временно, до особого распоряжения выполнять обязанности начальника милиции, полковник Калязин держится на этой должности с марта, и его воспринимают не как временного, а как настоящего начальника. Поэтому, сразу согласившись временно занять место Задуры, я знал, что задержусь здесь, в Ямках, надолго.
Представьте себе: я пробыл тут меньше месяца, и за это время произошло столько событий, суть которых я, человек с партбилетом в ящике стола, до сегодняшнего дня отказываюсь понимать…
7
Солдаты простояли в селе трое суток: дел для них в этих местах было достаточно.
В Маневцах, что за двадцать километров от Ямок, произошло открытое столкновение бойцов МВД с бандеровцами, судя по всему — с вездесущей боевкой Червоного. Налетели среди бела дня. Рота сопровождала в Луцк грузовики с местными жителями, которых организованно везли на вокзал, чтобы отправить на новое место проживания: промышленный Донбасс поднимался из руин и рабочих рук катастрофически не хватало. А я уже знал, что бандеровцы призывали местных крестьян и горожан бойкотировать переселения, называя их принудительными.
Видел я и похожую листовку, держал в руках, даже читал. Ну что могу сказать… Раз люди тут несознательные и не понимают, где именно советской власти нужны рабочие руки, то они сами виноваты в том, что их перевозят принудительно, под конвоем… Вот вам и весь сказ.
О столкновении в лесу под Маневцами мне кратко рассказал по телефону Калязин — он уехал раньше, чтобы быстрее уладить все формальности, необходимые для моего вступления в должность участкового в Ямках. Погибшие были с обеих сторон, двух убитых бандеровцев узнали, и есть достоверные сведения о том, что они из боевки Остапа. Собственно, Калязин инструктировал меня и насчет раненых: они среди нападавших наверняка есть. Прятать их могут не в лесу, а по сельским хатам — в подготовленных для таких случаев бункерах. Я должен был иметь это в виду, ведь вполне вероятно, что раненых будут прятать на территории, находящейся в моем ведении.
К тому времени я уже освоился на новом месте. Получив в наследство от покойного Задуры тот самый немецкий мотоцикл БМВ, смотался на нем в райцентр, забрал свои нехитрые пожитки и поселился пока что в поселковом совете, оккупировав кожаный топчан в углу одной из двух комнат — меньшей, где сидели счетовод и бухгалтер. При поляках тут была управа, а немцы сделали отдел вспомогательной полиции: к зданию прилегал подвал, где можно было закрывать задержанных. Мой предшественник тоже использовал этот погреб как камеру предварительного заключения, но охраняли задержанных «штырьки», а Задура жил дома. Поселковый совет — единственное место, где был телефон, а это мне очень даже подходило.
Другая причина, почему я поселился именно здесь, — недоверие к местным, усиленное ночевкой у вдовы Килины. Не хотелось каждый раз убегать спать на сено, и, хотя Пилипчук пытался поставить нового «пана-товарища» участкового кому-нибудь на квартиру, я категорически отказался.
С того времени, как вверенный мне населенный пункт Ямки оставило подразделение МГБ, прошло еще три дня, и в память о них не запало ничего, кроме разве что того, как во дворе покойного Задуры забивали досками колодец: теперь воду из него люди пить не будут. За это время, особенно когда остался на хозяйстве сам, понял, насколько я тут чужой для всех. Даже «штырьки» этого не скрывали, хотя они вместе с несколькими сельскими активистами хотя бы пытались проявить нечто похожее на уважение. А плюгавый Пилипчук меня, наверное, побаивался. Он, по моим наблюдениям, так же относился вообще ко всем, поэтому время от времени безо всякой видимой причины кричал на людей, брызгая слюной. Мог даже топать ногами и махать кулаками: все это, очевидно, до некоторой степени прибавляло ему уверенности в себе.
Именно эта манера поселкового председателя так решать даже элементарные вопросы стала причиной встречи с учительницей Лизой Вороновой. Ее фамилию, как и остальных жителей села, я к тому времени уже знал, потому что ходил из дома в дом, знакомился.
Мы виделись ежедневно, только поговорить со времени нашей первой встречи не получалось. Здоровались, обменивались малозначительными фразами, и, озабоченный освоением на новом месте и новой должности, я, если честно, совсем о ней не думал. Но в то утро, когда учительница Лиза пришла в поселковый совет, я как раз ковырялся в мотоцикле на дворе. И вдруг я понял: вот она, родственная душа.
Тогда ничего другого, кроме понимания, что она, коренная москвичка, здесь тоже чужая, еще не появилось. Не знал я и того, что этот день будет последним перед значительными потрясениями, которые меня ожидали. Просто поднялся с колен, отряхнул форменное галифе — мою как рабочую, так и повседневную одежду, — вытер тряпкой грязную от смазки руку и протянул ей, здороваясь.
— Доброе утро!
— Вот очень хорошо, товарищ участковый, что я именно вас тут застала! — воскликнула Лиза в ответ.
— Елизавета Алексеевна! — я нахмурил брови в притворной суровости. — Товарищ Воронова! Мы же договорились!
— Да знаю я, Михаил, знаю! — зачастила она, нервно поправляя волосы, которые непослушно выбились из-под берета. — Только я к вам как к официальному лицу, ну, при исполнении…
— Что-то случилось? — я мигом стал серьезным.
— Тут постоянно что-то случается, — Лиза повела плечами. — Помните, я ходила в райцентр топливо для школы выбивать?
— Так точно. Дрова украли? — Этого, кстати, можно было ожидать, и такие дела подпадали как раз под мою компетенцию.
— Есть дрова, их позавчера все же привезли.
Точно — за поссоветом с грузовика побросали какую-то древесину.
— Ага, так это ваши дрова свалили вон там?
— Наши, школьные, — закивала учительница. — Я тут пыталась выяснить, почему их не под школу привезли, а здесь сбросили… Ну, то есть разобралась: их выписали, оказывается, на Ямковский совет, не на школу, здесь и выгрузили. Логики нет, но уже ничего не попишешь. Тут другое: раз дрова есть — их нужно перевезти к школьному зданию. А товарищ Пилипчук, когда я к нему обратилась, вот такие глаза сделал, — Лиза прищурилась, очень похоже копируя манеру здешнего председателя смотреть на людей, — и говорит: «Вам привезли — вы везите! Я вам не извозчик, пани-товарищ!»
— Так и сказал?
— Так и сказал, представляете! Можно подумать, это мне лично нужно! — Учительница заводилась, ее и без того большие глаза становились еще больше и круглее. — Меня хозяйка на квартире держит только потому, что на меня, оказывается, ей выписывают дрова и уголь! Дети вместо уроков русской литературы собирают то пепел, то желуди. Желуди еще могу понять — их в восточные области отправляют. А пепел, пепел зачем? Вы видели, Михаил, чтобы кто-нибудь где-нибудь когда-нибудь собирал пепел?
Я молча покачал головой. Отчасти от того, что ответа у меня не было, отчасти потому, что только теперь, когда Лиза раскраснелась от праведного гнева, я увидел наконец, какая она красивая, и не хотел ее прерывать: розовые щечки, пухлые губы, большие глаза, коса, пальтишко, натянутое спереди, на уровни грудей… А она, игнорируя состояние, которое вдруг меня охватило, пылко продолжала:
— Спрашиваю: почему нужно именно сейчас собирать желуди? Мне говорят — потому что сезон и соцсоревнование, со школы нужно детей приучать. Нет, говорю, почему вы сняли детей именно с моего урока, с русского языка? Нет ответа! Физкультурное движение развивают, есть такое постановление партии и правительства. А литература, язык — какое постановление требуется? Михаил, меня предупреждали, я пытаюсь не обращать внимания, но это же диверсии!
Даже если б я с Лизой соглашался, такой поворот разговора мне ну никак бы не понравился.
— Ну, знаете, с диверсиями пусть другие компетентные органы разбираются, — произнес я осторожно и взял ее за плечо. Она не сбросила моей руки: или не придала значения жесту, или не захотела. — Если вы пришли ко мне за советом — хорошо сделали, правильно. Но я всего лишь участковый, один милиционер на все Ямки. Кого-то подозрительного задержать, посадить в холодную и вызвать МВД — это мое, а воспитывать директора школы, тем более поселкового председателя, не в моей, Лиза, власти. — Я попытался улыбнуться. — Скажем, возьму я Пилипчука на мушку и прикажу привезти вам дрова. Он послушается, а потом скажет кому надо: вот, мол, участковый Середа пытался устроить теракт.
— Теракт? — учительница отшатнулась, но я крепко стиснул ее плечо.
— А то! Он же у нас должностное лицо. Советской властью поставлен. А я на него — с пистолетом! Времена такие… — Говоря это, я быстро соображал: что же делать? — Так, вот что мы с вами сделаем, Лиза… На мотоцикле я дрова не перевезу, видел эту кучу. Но уполномочен требовать себе коня и подводу для служебных нужд. И пан-товарищ Пилипчук обязан мое, милиционера, требование удовлетворить. У нас что сегодня за день?
— Пятница…
— Вот и прекрасно! Завтра мои «ястребки» выйдут на субботник! — гордый собой, произнес я и добавил: — Коммунистический… или комсомольский, пусть попробуют не выйти, черти! Вот тогда увидим, кто здесь против советской власти!
Не удержалась Лиза Воронова — захлопала в ладоши.
И в каком-то искреннем порыве подалась ко мне.
Чмокнула в щеку, правую. Потом — снова, теперь уже в левую.
— Вы просто замечательный, Мишенька! Первый человек, с которым мне здесь легко, правда! Вы даже представить себе не можете… — Чего я не мог представить, Лиза не сказала, и в поцелуях ее была только искренняя радость от того, что наконец нашла друга. — Слушайте, приходите завтра вечером в клуб! Там танцы…
— Вы меня на танцы приглашаете?
— Да вы что! Здесь не танцуют так, как я привыкла в Москве! И представляете вообще, что о нас потом понесут по селу? Хотя можем на танцы…
— Лиза, как бы то ни было — а я буду в субботу в клубе! За порядком следить — моя служебная обязанность, никуда от этого не деться.
— Да я же не о танцах, Миша! Не о танцах! У нас репетиция будет, кружок самодеятельности. Представляете, тут не было кружка самодеятельности! Даже в Журавке есть, шефский концерт давали на кирпичном заводе имени Молотова! «За двумя зайцами» называется, только я говорила в районо: русскую классику нужно осваивать — Чехова или Островского.
— Так у вас репетиция будет? Что ставите?
— Пока ничего такого серьезного, — Лиза смутилась, даже заговорила тише. — С малого нужно начинать, знаете… Я предложила театрализованную постановку «Наша страна»… Понимаю, название, может, не очень, но в духе времени… Сама придумала… Предложила детям тоже принять в этом участие. Они у меня стихи сами писали. — Это прозвучало с нотками гордости. — Здесь, по селам, очень много детей талантливых. Только никто с ними не занимается…
— И как, получились у них стихи? Поэзия — это же непросто. — Тут я сказал чистую правду, потому как совсем не разбирался в поэзии, да и теперь не очень понимаю.
— Еще как! Приходите, приходите — сами услышите! Может, не очень с точки зрения литературы или еще там чего-то, зато очень искренние. Я сама тему задала, вот они на заданную тему и написали.
— И что за тема?
— Хочу к Октябрьским праздникам приурочить. Или такая — девятая годовщина воссоединения украинского народа в единой советской державе. Поводов много, идеологически правильные… Ну, соответственно, и стишки универсальные. Взрослых тут не переучишь, но для чего учителя? Для чего-то же нас сюда партия посылает, доверяет нам поколение, правда?
Хотя говорила Лиза Воронова правильные слова, но даже если бы она молола чушь — я все равно молча кивал бы, соглашался бы со всем, что она говорит и еще не сказала. Я такое чувствовал впервые, хотя, несмотря на войну, имел некоторый опыт общения с женщинами, как и всякий мужчина моего возраста. Но учительница Лиза — нечто иное, этого было не передать словами тогда, а уж тем более теперь…
Естественно, я согласился прийти на репетицию. Сельский участковый тоже должен культурно расти и развиваться, и в этом лучше учителя русского языка и литературы ему никто не поможет. Вот так я сказал тогда Лизе Вороновой.
8
В тот вечер учительница специально выбрала время перед объявленными раньше танцами. Не зная, куда себя деть в ожидании субботнего развлечения, молодежь обычно приходила в клуб раньше и — хочешь не хочешь — толклась в зале, а значит, выполняла роль зрителей. Той самой публики, к которой Лиза пыталась приучить своих воспитанников — ведь здесь, при школе, еще никогда не организовывали драмкружка. Для нее было очень важно, чтобы во время репетиции в зале сидели люди. Как объяснила мне учительница, именно такой метод должен постепенно избавить детей и подростков от страха перед зрителями и публичными выступлениями. Впрочем, Лизе, наверное, лучше знать, она же педагог, и я не собирался вмешиваться в это своим солдафонским разумом…
Понятно, что подводу у Пилипчука я выбил, «штырьков» на субботник мобилизовал, а когда дрова под моим внимательным наблюдением разгрузили, еще и попробовал провести с директором школы небольшую воспитательную пятиминутку. Тот оказался непробивным: заявил, что учеников снимают на общественно-полезные работы не только с уроков русского языка и литературы. Он, например, преподает математику, ему тоже не очень нравится, когда вмешиваются в учебный процесс, вот только никакой «политики», как сказал сам директор, в этом нет: детей прежде всего нужно приучать к коллективному труду, без понимания этого ни математика не понадобится, ни литература не пойдет на пользу.
Я уже слышал краем уха: в школе, наоборот, нет учителя украинского языка, и это директор легко объяснил. Учительница есть, но двое ее братьев — в УПА, младшая сестра — связная, арестована и осуждена, а сама учительница при немцах была членом местного отделения «Просвиты», а это националистическая организация. Я вынужден был согласиться: учительница с такой биографией действительно не имеет права преподавать в советской школе, а украинский язык здесь, в селах, и без учителей знают. Из-за этого учительницу русского, такую молодую и активную, здесь особенно ценят. Поэтому в том, что вместо ее уроков дети собирают желуди или отрабатывают с родителями в колхозе, не стоит искать особенных заговоров. Словом, этот дядька под конец разговора показался мне не таким уж гадом, как я себе представлял. При случае я решил развеять напрасные сомнения Лизы. Ведь она здесь такой же новый человек, как и я, разве что приехала на месяц раньше меня. И вот он, шанс: возьму и предложу ей осваиваться тут вместе, двум новичкам всегда спокойнее и веселее.
Вообще, о чем бы я ни думал в тот день, все так или иначе приводило к учительнице Лизе и поиску возможностей познакомиться с ней ближе. Отчасти это было вызвано тем, что местные девушки и молодицы смотрели на меня, чужака, искоса, если не сказать — враждебно, а мне, нормальному здоровому мужику, хотелось женского внимания. А отчасти — тем, что в Лизе я увидел родственную душу.
Ну и, конечно же, ее большие глаза и длинная, словно у сказочных царевен, коса не оставляли мне выбора…
Своих кружковцев Лиза Воронова собрала в клубе на шесть часов вечера, когда уже постепенно смеркалось. Хотя учительница старалась загнать в зал и зрителей, пока что тут никого, кроме меня, не было. Дети, двое пареньков-подростков и шестеро девчонок лет десяти-одиннадцати, бросали на мою форму кто подозрительные, кто откровенно опасливые взгляды. Поэтому я уселся как можно дальше, настолько далеко, насколько позволял небольшой зал, на скорую руку переделанный, как оказалось, из местной церкви еще до войны, когда священника с семьей выслали куда-то в Сибирь за связь с ОУН. Вообще-то я даже предположить не мог, что тут когда-то молились Богу — всех признаков культового сооружения это помещение благополучно, по-моему, лишили… ну разве что сцену могли бы смастерить не так кривовато, со своего места я даже невооруженным глазом заметил небольшой перекос.
Лиза очень переживала из-за того, что впервые после нескольких недель работы выводит своих воспитанников на настоящую сцену, и, не обращая на мое присутствие никакого внимания, что-то объясняла школьникам, которых собрала вокруг себя. Когда же она наконец села в первый ряд, девочки и один подросток, все без исключения в вышитых рубашках, стали там, где велела учительница, — в глубине сцены. Один мальчик остался впереди, оцепенел, ожидая команды, а когда Лиза махнула рукой, крикнув: «Давай!», сделал еще шаг вперед и монотонно заговорил, глядя куда-то перед собой:
— Новая радость настала, какой не бывало…
— Стоп! — остановила его Лиза. — Манюк! Я радости не слышу и не вижу! Ты радоваться должен, ты о радости говоришь, а сам как на похоронах или голодный. Ты голодный, Коля?
— Есть голоднее, — буркнул в ответ мальчишка. — Папа говорил, мы должны другую Украину кормить…
— А с твоим папой, Манюк, будет отдельный разговор! И говорить с ним буду не я, а вот товарищ милиционер! — Лиза кивнула в мою сторону. — Вас, дети, политика интересовать не должна, вы должны учиться, с радостью, Коля Манюк! С ра-дос-тью! Ну-ка еще раз, только правильно!
Я понимал, о чем говорит Лиза. Еще вчера разговаривал с очередным агитатором после его выступления в пользу укрепления колхозных хозяйств. Когда его спросили, правда ли, что за Збручем в Украине снова голод, поэтому здешние колхозы должны сдавать продукты для Востока, агитатор поинтересовался: «Товарищ, вы грамотный? Вы выписываете газеты? А какие? “Вільний шлях” и “Правду”? Очень хорошо, а в газетах написано, что кто-то где-то в нашей стране голодает? Не написано? Или вы считаете, что советские газеты врут? Вот я вам и ответил: читайте газеты, там все написано! И больше выписывайте!» Потом, когда уже все разошлись, агитатор, угостив меня и Пилипчука «Беломором», ворчал: «Смотри, заговорили… Листовки они оуновские читают, не иначе… Народной власти им жалко, своим братьям-украинцам куска хлеба не дадут, а бандеровцев в лесах кормят».
— Новая радость настала, — тем временем снова начал Коля Манюк, теперь уже выговаривая слова бодрее. — Какой не бывало. Раньше эти слова мы слышали, когда нужно было славить Бога и Божье Рождество…
— Манюк! — снова остановила его Лиза. — Так называемое Божье Рождество. Сколько тебе говорить! Бога нет, поэтому родиться он не мог! Именно об этом писали великие гуманисты, чьи произведения стали классикой русской литературы! Мы же с вами это учили! Ну-ка, Коля, еще раз!
Паренек покорно вздохнул.
— Новая радость настала, какой не бывало. Раньше эти слова мы слышали, когда нужно было славить Бога и так называемое Божье Рождество. Теперь мы говорим так, вспоминая тот славный день, когда советская власть, выполняя мудрый наказ друга всех народов, великого вождя товарища Сталина, объединила украинский народ, освободила нашу землю от господской власти буржуазной Польши. Поэтому эти осенние дни уже никогда не будут для нас хмурыми, и мы гордо славим наш народ-победитель, наш край и нашего дорогого товарища Сталина. Благодаря ему у нас есть то, чего не было раньше: светлые клубы, — тут Коля Манюк заученно вытянул руки перед собой, — залы-читальни, школа, где можем свободно учиться, чтобы потом исто… — Он запнулся. — Испос… использовать эти знания на благо и процветание нашей родины — Советской Украины, сестры в большой семье народов-братьев!
Переведя дух, он глянул со сцены на Лизу.
— Теперь хорошо, — милостиво кивнула учительница. — Можешь пока отдохнуть. Повтори еще раз весь текст про себя. Еще раз пройдемся.
Манюк, как мне показалось, слишком быстро спрыгнул со сцены и, прошагав по залу, вышел на улицу. Мне даже объяснять не нужно ничего: этот Коля уже просился в «ястребки», в подтверждение своей взрослости при мне закурил самокрутку, но таких вояк в «штырьках» и без него хватало. Пусть подрастет, придет через год, если эти отряды самообороны не разгонят… Ну, еще дожить нужно. А теперь Коля побежал подальше от учительских очей перекурить после нервного стресса.
Тем временем остальные участники расположились на сцене полукругом. Лиза, сверяясь с бумажкой, махнула рукой. Девочка, которая стояла в центре, сделала три шага вперед, вытянула шею и звонко, так что эхо отдалось под потолком бывшей церкви, прочитала:
— К советской власти мы пришли во время революции! Да здравствует товарищ Сталин — творец Конституции!
Отчитав свое, она стояла на месте. Но еще когда она произносила последние строки, с левого края полукруга вперед вышла другая девочка, чтобы, как только первая чтица замолчит, перехватить инициативу и продолжить:
— А я Сталина люблю! Я письмо ему пошлю! Жизнь счастливая настала — навсегда беда пропала!
Пока она читала, отделилась от группы еще одна девочка, теперь с правого конца полукруга, но эта не подошла, а подбежала, вернее — присеменила: так хотела быстрее стать рядом, выйти на первый план и прочитать:
— Мы работаем с подружкой и не беспокоимся. Ведь о нашем будущем Сталин позаботился![4]
На этом мизансцена закончилась, и Лиза не удержалась — захлопала в ладоши. Со своего места я заметил: девочки старались больше, чем Коля Манюк, потому что, наверное, им все это нравилось. Наконец я понял, точнее, почувствовал всю, как говорится, стратегию молоденькой, но увлеченной учительницы: правильнее славить власть и товарища Сталина в национальной одежде. А что — пусть все видят, знают и понимают: советская власть уважает национальные традиции, и не только буржуазные националисты, но и обычные советские школьники пусть надевают вышитые рубашки. И на партсобрания стоит ходить в вышиванках! Я бы даже такое правило ввел: тогда бандеровцам нечем будет крыть, а со временем вырастут эти дети и совсем не будут разделять власть рабочих и крестьян и ее врагов по тому признаку, что ее враги, националисты, надевают вышиванки, а коммунисты — нет. Вот еще бы посоветовать Лизе, пусть девочки наденут на свои рубашечки красные пионерские галстуки…
Вдруг двери распахнулись и в зал вбежала перепуганная девушка. Я развернулся на шум всем корпусом, взглянул на нее — и ничего больше не надо, без того видно: снаружи что-то плохое происходит. Девушка — кажется, дочь звеньевой — что-то кричала, но я не прислушивался и бросился во двор, вынимая пистолет. Уже на крыльце услышал с левой стороны, из-за угла, приглушенные крики, стон и звуки ударов, рванул туда — и налетел на небольшую группу юношей.
Они стояли тесным кругом и, прижав кого-то к стене, молча, свирепо лупили.
Сумерки уже опустились на село, света из окна не хватало, чтобы я мог кого-то узнать. Поэтому схватил за плечо ближайшего, рванул к себе, но тот оказался неожиданно крепким, легко освободился, крикнул:
— Бежим! Москаль! — И стайка рассыпалась в разные стороны, быстро сливаясь с темнотой, растворяясь в ней.
Не удержавшись, я пальнул в воздух и гаркнул:
— А ну стоять! — но без особой надежды на то, что кто-то из них послушается.
Затем, не пряча оружия, повернулся к отбитой мною жертве, которая лежала ничком, перевернул, разглядев того, кого и ожидал увидеть: Колю Манюка. Он стонал, по-детски шмыгал носом и, сообразив, кто над ним склонился, отстранил меня вялым движением, поднялся сам, сначала сел, потом встал, опираясь о стену.
— Кто? — коротко спросил я, заранее зная — ответа не будет.
Манюк промолчал, только стер грязь с окровавленного лица.
— За что? — спросил я снова, хотя и догадывался.
— За родину, — пробурчал Манюк, сплевывая кровь, потом добавил: — За Сталина.
— Все понятно с тобой.
Из клуба выбежала девушка, встревожилась, бросилась к избитому, взглянув на меня, и даже в темноте я заметил блеск ее глаз. Пока она вытирала Коле Манюку морду, с крыльца спустилась, почти сбежала обеспокоенная Лиза; она даже не набросила пальто. А с улицы, запыхавшись, уже подоспели трое вооруженных винтовками «штырьков».
— Знаете, кто его? — Я показал им на жертву.
— А кто угодно! — торопливо, словно опережая другие ответы, произнес тот, кто был старшим группы, Славка Ружицкий. — Может, даже не из нашего села! Так надежнее, они давно договорились…
— Кто они? — Я насилу удержался, чтобы не схватить этого вояку за грудки и как следует не встряхнуть. — Не надо мне тут сказок! И без вывертов! Ходите группой, оружие вам выдали, а все равно боитесь! Да идите к черту, помощники, комсомольцы-добровольцы, мать вашу!
Рядом стояла Лиза, но в этот момент мне было не до того, чтобы следить за языком. Я уже знал, что часть «штырьков» записалась в отряд самообороны, чтобы свести с кем-то персональные счеты, еще часть — чтобы не трогали родителей, которых власть считала неблагонадежными, остальные — те, кто недовоевал и хотел получить пусть крохотную, но власть над односельчанами. Надежды на это «войско» у меня, фронтовика, не было никакой, да и покойный Задура предупреждал — это потешные солдаты, в критический момент могут бросить винтовки и разбежаться по дворам. И при первом же случае мало кто из них не скажет: «Меня заставили!»
— Ты кто ему? — коротко спросил девушку, которая хлопотала возле Манюка.
— Так… — Она или не знала, что нужно сказать, или, скорее всего, не хотела говорить с чужаком лишний раз.
Ох и трудно же с ними!
— Хорошо, если так… Вы, — я снова глянул на «ястребков», — проведите своего товарища домой. Ружицкий, возьмешь еще одного, останешься возле дома патрулировать. Организуй смену, караулить до утра. Сейчас поздно, потом сам разберусь… И с вами тоже…
— Мы тут ни при чем! — искренне обиделся Ружицкий, хотя в голосе прозвучали плаксивые нотки.
— Вот это-то и плохо, что ни при чем! С вами все, исполняйте! — И я повернулся к Лизе: — Все в порядке, Елизавета Алексеевна, можете продолжать!
— Да где же в порядке, и вы сами это видите! — вырвалось у нее. — Я тоже вижу, вот в чем все дело и беда!
Пока мы разговаривали, на звук выстрела и шум к клубу подтянулись все, кто гулял неподалеку. Собралась небольшая толпа. Лиц я так и не смог рассмотреть, но чувствовал: все, кто сюда подоспел, тихо радуются бессилью молодой русской учительницы, очевидной беспомощности нового участкового, так что поддерживает меня разве что плюгавый «пан-товарищ» Пилипчук; а его поддержка на самом деле может только помешать делу укрепления власти. Да еще, может, с десяток взрослых мужчин, но в основном местные лодыри, без собственного приличного хозяйства и без честно заработанных трудодней. Таких я видел всюду: им все равно, какая теперь власть, лишь бы их не трогали и кормили время от времени — типичная беднота, которую можно вооружить, но в критической ситуации они не защитят тебя, если что-то будет угрожать их собственной жизни.
Как бы то ни было, именно из них по преимуществу состоял актив Ямок. Так что завтра, пусть это и воскресенье, я имел намеренье собрать весь этот актив в поселковом совете, который до сих пор считается и опорным пунктом местной милиции. Пилипчук, такой он или сякой, всех соберет. А я поговорю с ними, попробую прочистить им мозги, нужно будет — позвоню в район, пусть присылают МГБ. Ну, напугаю — ведь этого местные боятся как огня. Для них чекисты страшнее бандеровцев.
Так что, может, и получится наладить на вверенной мне территории нормальную самооборону.
9
Увлеченный этими планами, я делился ими с учительницей-москвичкой, пока провожал ее в тот темный вечер к дому Ставнюков, куда Лизу Воронову расквартировали.
Разумеется, свою первую большую репетицию она свернула, пообещав в следующий раз все довести до конца. Может, она хотела поговорить со мной о чем-то другом, но слова всю дорогу лились из меня без остановки, она слушала, кивала, даже поддакивала, и только когда дошли до ее жилища, спросила вдруг, без всякого отношения к уже сказанному мною:
— А вы читаете, Михаил?
— То есть? — не понял я такого поворота.
— Ну, книги вы читаете? Книжки? Литературу?
— Русскую?
— Хотя бы русскую… Можно и просто художественную, знаете, беллетристику.
Я тогда не знал, что это слово означает, поэтому решил лучше промолчать. Наверное, Лиза восприняла мою игру в молчанку по-своему.
— Нам нужно больше говорить, Михаил. Общаться. Мы можем обсудить любую книгу, будет тема для интересной обоим беседы.
— Простите, Лиза… Я намек понял…
— Никаких намеков, Михаил. — Я не увидел, но почувствовал, как она улыбнулась в темноте. — Люди должны читать, тогда будет меньше зла, нетерпимости… Это я знаю, меня папа учил. Книга — знания, а от знаний человек только добрее становится…
Я вздохнул.
— Не то чтобы очень… В смысле, читал… Война…
— А в школе? — Не дождавшись вполне ожидаемого ответа, Лиза нащупала мою руку в темноте, мягко сжала ее: — Заходите ко мне.
— Сейчас? — вырвалось у меня.
— Завтра. У меня есть книги, я подберу вам что-нибудь. И мы сможем об этом говорить. Поверьте, Михаил, о книгах гораздо интереснее и приятнее говорить, чем…
Она вдруг замолчала. Я прекрасно понимал, что Лиза хотела сказать. А еще понимал: вот так просто мы не можем сегодня разойтись. Поэтому крепко обнял ее за талию, привлек к себе. Лиза не сопротивлялась, сама прижалась к моей груди на какое-то короткое, но блаженное мгновение, не убрала губы, когда я нашел их своими…
Поцелуй получился коротким. Учительница отстранилась так же стремительно, как прижалась, скороговоркой сказала: «Завтра, до завтра!» Скрипнула калитка, и ее сапоги застучали по двору. Дождавшись, пока Лизу впустят в дом и дверь за ней закроется, я постоял еще немного, перекурил, собираясь с мыслями и с чувствами, а докурив, втоптал окурок в землю, развернулся и пошел к себе. Когда слышу что-то подобное фразе «на крыльях полетел», то знаю — не преувеличение, действительно такое бывает.
По дороге зашел к Пилипчуку. Договорился, чтобы он завтра собрал актив. С ним и поужинал, и выпил. Водки и самому хотелось, от нее тогда думалось лучше. Уже добравшись до своего топчана, долго не мог улечься, хотя там особо и не расположишься. А когда наконец заснул — подумал сначала, что снится: мне во снах после фронта часто мерещились выстрелы.
Но нет — открыл глаза, резко сел, а выстрелы не прекращались. Где-то вдалеке бахали и бахали — эти звуки ни с чем другим спутать я не мог.
Особенно собираться не надо: спал я в основном одетый, даже в сапогах, разве что ремни снимал. Пистолет держал возле руки, а выданный мне автомат ППШ[5]— под топчаном. Я подхватил пистолет одной рукой, автомат — другой, закинул его на плечо, уже по пути пристегнул кобуру, надвинул фуражку. Примостив ППШ в коляску, оседлал мотоцикл, включил фары, и мой мотоцикл с ревом помчался через все село туда, откуда, как мне казалось, были слышны выстрелы. Пока ехал, поймал себя на мысли: а мчусь я туда, откуда пришел, когда проводил учительницу…
Меня охватили нехорошие предчувствия. Стиснув зубы, нажал на газ, рискуя перевернуться в темноте на грунтовой сельской дороге. Впереди себя увидел языки пламени и понял — двигаюсь в правильном направлении, но совсем не обрадовался: ведь действительно горело что-то во дворе Ставнюков. Рев моего мотоцикла смешался с криками полуодетых людей, которые выбежали из окрестных домов. От ставнюковского плетня мне наперерез бросилась фигура с винтовкой — Ружицкий, командир «штырьков». Двигался он так резко, что я чуть не сбил парня, вовремя вывернул руль, но протаранил и завалил передним колесом соседский деревянный забор. Пистолета я не трогал, схватил автомат, выскочил из седла, оттолкнул «ястребка», который пытался что-то сказать, поднял дуло вверх, полоснул короткой очередью, отгоняя толпу и расчищая себе таким образом путь к месту происшествия.
С первого взгляда я понял, что случилось, — по крайней мере, сначала думал, что понял. Огонь охватил не дом, пылала копна сена, пламя угрожало переброситься на овин, но хозяева, старые Ставнюки, дед в одних кальсонах и бабка в белой полотняной рубашке, словно и не очень пытались гасить пожар. Старая Ставнючка, как называли ее в селе, сидела на земле, охватив руками голову, качалась из стороны в сторону и громко стонала. Дед Ставнюк, который воевал еще в Первую мировую и отморозил там пальцы на правой ноге, стоял над нею, растерянно глядя то на огонь, то в сторону колодца. Там возились несколько «ястребков», заслоняя собой нечто более страшное, чем пожар.
— Назад! Разойдись! — гаркнул я, и парни, узнав участкового по голосу, тут же расступились, открыв что-то белое на краю колодезного сруба.
Зная, что могу там увидеть, и в то же время боясь этого, я опустил автомат дулом вниз. Одолел последние метры, уже не слыша ни криков, ни стонов: все звуки вдруг умерли для меня. И когда освещенное огненными отблесками тело заскользило вниз, на землю, я бросился подхватить его, чтобы не дать упасть.
Так, сидя на голой земле, я держал в объятиях мокрое тело Лизы Вороновой.
10
«Штырьки» достали ее, пока я ехал. Один обмотался вожжами и полез в колодец. Уже потом, от Калязина, по телефону, сквозь треск помех я узнал: от выстрела в живот учительница не умерла — захлебнулась водой, когда ее бросили на дно колодца. Это сказали в районной больнице, когда делали вскрытие. А еще, прокашлявшись, Калязин сказал: если меня это интересует, Лиза Воронова оказалась девственницей. Что еще? Ага, двадцать два года, по паспорту…
Только это было потом, после того как труп учительницы погрузили в кузов полуторки и повезли в район вместе с задержанным мною той ночью пособником бандеровцев. А тогда я сидел на земле в отблесках зарева, держа худенькое мертвое тело на коленях, и мне хотелось кричать, громить все подряд, стрелять во все вокруг без исключения.
Ведь это неправильно, это совершенно неправильно — когда вот так, посреди ночи, в мирное время вооруженные люди врываются в дом, вытаскивают оттуда молодую девушку, еще совсем девочку, намотав на руку ее длинные волосы, убивают, бросают тело на дно колодца. И все происходит не в мертвой пустыне, вокруг живут люди, никто из них не выбежал, не вмешался, все ждали, пока убийцы сделают свое черное дело и уйдут в лес, чтобы спрятаться там снова в свои глубокие норы.
Ко мне никто не рисковал приближаться, и правильно делали — в то мгновение я готов был выпустить очередь из ППШ в каждого, кто сделает ко мне хотя бы один шаг. Сено за спиной полыхало. Осторожно положив тело Лизы на землю, я поднялся, подхватил автомат, выставил дуло перед собой, услышал громкий дружный вскрик крестьян, поднял ствол вверх и все же не удержался — нажал на гашетку, выпустил в темное звездное небо злую короткую очередь. Потом повернулся, ощупал взглядом притихшую толпу зевак, рявкнул:
— Что стоим, суки! Огонь гасите! Ружицкий, мать твою, сюда!
Из ночи сейчас же выбежал командир «штырьков» и замер напротив меня. У меня мелькнула мысль: да он ожидает, что я его вот тут прямо и расстреляю. Скрежетнув зубами, кивнул Ружицкому на тело:
— Ищите брезент или что там, накройте ее! Подводу найдите, где хотите! Довезете в контору, только осторожно, смотрите! Пилипчука буди, пусть в район звонит, в энкаведе! Выполняй!
Даже не пытаясь возражать, Ружицкий поправил винтовку на плече и, держа ее за ремень, чтобы не сползла, побежал передавать мой приказ своим «штырькам». Тем временем люди уже суетились вокруг копны с ведрами, тушить пришлось еще и овин, огонь успел лизнуть его кровлю. Но с этим народ справиться мог. А мне обязательно нужно было поговорить со старыми Ставнюками.
Оба, хоть и были очень напуганы, смогли рассказать, что случилось. Ничего нового я не услышал, поскольку с самого начала подозревал: без Данилы Червоного здесь не обошлось. Действительно, ночью постучали в окно, сначала тихо, но почти сразу — сильнее. Требовали открыть, или дом подожгут, и Ставнюк подчинился. Никого из тех, кто вломился в дом, хозяева не знали и не видели раньше. Одного, по виду старшего, другие называли «друг Остап». Дальше все произошло стремительно: схватили перепуганную «пани профессорку», «Остап» коротко спросил: «Это ты, курва москальская, учишь наших детей собачьему языку? Это ты велишь им вашего Сталина прославлять? Кто тебя сюда звал, лярва ты, подстилка сталинская? Ты еще в комсомол наших детей прими! Комсомолка?» — и ударил в лицо, не дожидаясь ответа, знал, наверное. «Свинья ты московская, гнида комсомольская!» — крикнул Лизе еще кто-то из незваных гостей, а потом сам «Остап», накрутив волосы девушки на ладонь, поволок ее на двор. Другие, угрожая Ставнюкам автоматами, заставили их тоже выйти.
Потом прямо на их глазах тот, кого называли Остапом, выстрелил в Лизу из пистолета в упор и отпустил тело на землю. Двое других быстро подхватили тело, перевалили через край колодезного сруба, остальные уже поджигали скирду. «Будете москалей, коммуняк или жидов пускать в дом — и дом сожжем, — пообещал “Остап”. — Всем скажите!» Взяв что-то из продуктов, они ушли. Больше в Ямках той ночью бандеровцев никто не видел. Хотя… даже если б и видели, вряд ли сказали бы, таково мое твердое мнение.
Но та ночь еще не закончилась для меня. Примчавшись на мотоцикле в поселковый совет и убедившись, что перепуганный Пилипчук все же дозвонился в Олыку и взвод МГБ уже выехал, сам, крутнув ручку на аппарате, попросил соединить меня с Калязиным, чтобы доложить лично. Его, оказывается, уже разбудили, но сюда он не собирался — без меня дел по горло, сказал крутиться самому. Бросив тяжелую эбонитовую трубку на рычаг, я выгнал из комнаты всех, включая и поселкового председателя, запер за собой дверь. Очень хотелось напиться, но прекрасно понимал — нужно держаться, потому что ситуация напряжена до предела. Поэтому просто сел на свой топчан, бросил автомат под ноги, оперся локтями на колени, обхватил голову руками, закрыл глаза и замер.
Сколько так сидел — не помню. О чем думал — тоже. Но из оцепенения вывел звук разбитого стекла за спиной.
Звон еще звучал, а я уже падал вперед, на пол, хватая автомат, перекатываясь на спину и наводя его на источник звука. Однако ничего не произошло: разбитое окно зияло черной дырой, а на полу посреди комнаты лежало что-то, совсем не похожее на гранату или другое взрывное устройство. Искоса посматривая на разбитое стекло, я подполз, пощупал осторожно, ощутил, как зашелестело под пальцами: камень, завернутый в бумагу.
На всякий случай я отполз к стене — если кто-то намеревался стрелять в окно, то лучше на всякий случай уйти с линии огня. Но что-то подсказывало: камнем в стекло на сегодня дело и ограничится. Переместившись в относительно безопасное место, я сел, опершись спиной о стену, правой рукой все еще придерживал автомат, левой — развернул бумажку, поднес к глазам.
Это был неровно оторванный клочок серой оберточной бумаги. Первое, что пришло в голову: здесь, в селе, в магазине такой нету, я точно знаю — продавщица, пятидесятилетняя Галя, заворачивает товар в куски газеты, да и ту пытается экономить, требуя, чтобы приходили со своей, как она ворчала, «замоткой». Ай-яй-яй, неаккуратно, хлопцы… Я же легко узнаю, кто из крестьян недавно был в райцентре, туда редко местные за покупками выбираются, а бумага не затасканная, свеженькая, если, конечно, можно так назвать обычную магазинную обертку. Ладно, это потом, еще будет время.
Когда прочитал написанное — сразу забыл о желании играть в сыщика. Потому что эта информация не имела значения. До сих пор стоят перед глазами старательно выведенные печатные буквы:
В ОНИЩУКІВ КРИЇВКА ПІД БУЛЬБОЮ. ТАМ ПОРАНЕНИЙ Є.[6]
Понятно: не каждый вот так запросто придет к участковому и сдаст бункер. Почему-то показалось: если бы не трагические события последних дней, вряд ли кто даже таким образом осмелился бы предупредить меня, врага, о том, что некие Онищуки прячут в бункере раненого бандеровца. Что такое крыйивка — меня уже просветили, хотя пока что ни одной не видел своими глазами. Ну, а «бульба» — так здесь картошку называют.
Итак, пришло время увидеть, кто и что у них там под картошкой.
А потом два и два сами складывались: меньше чем неделю назад была перестрелка под Манивцами, со стороны бандеровцев есть раненые, и это, вне всяких сомнений, группа Червоного. Сколько от Манивцов до Ямок? Километров семь, не больше, это если напрямую, а они только так и ходят. Вот я и прикинул, вполне реально, что Онищуки прячут у себя раненого бойца из боевки Остапа — Данилы Червоного.
А значит, у меня есть шанс лично его взять.
Часы показывали начало третьего ночи. Быстро прикинул: взвод МГБ будет здесь самое раннее через полчаса. Времени мало. А с другой стороны — вагон, если быстро действовать. Тянуть резину после того, что случилось, я не собирался.
Поднявшись на ноги и взяв автомат, я быстро вышел в ночь. Во дворе сельсовета топтались трое. Подойдя поближе, разглядел Ружицкого с еще одним «штырьком» — охраняли подводу, на которой лежало накрытое брезентом Лизино тело, и Пилипчука, который, похоже, не знал, куда себя деть. Увидев меня, все трое стали по стойке смирно, будто участковый милиционер здесь был главным начальством. Закинув автомат на плечо, я подошел к мотоциклу, спросил:
— Ничего не слышали?
— Когда? — наивно отозвался поселковый голова.
— И никого не видели. — Его удивление я проигнорировал, а сам не спрашивал ничего больше — только констатировал факт: даже если б они слышали звон стекла и видели, кто засветил туда камнем, вряд ли признались бы мне. — Ладно, Ружицкий — в коляску, вы, товарищ председатель — за мной, на седло. Ты, — кивнул «ястребку», — здесь остаешься, ждешь подкрепления. Все понял?
Конечно, никто не возражал. Командир «штырьков» послушно полез в мотоциклетную коляску, а Пилипчук боязливо примостил свой худой зад за мной, на кожаном сиденье мотоцикла, даже обхватил меня за талию руками. Сцепив зубы, я крутанул ногой педаль, запуская мотор, и рванул вперед, рассекая фарами тьму.
11
Пока ехали, никому ничего не объяснял.
До нужного дома добрались меньше чем за десять минут, и тут меня тоже никто ни о чем не спрашивал: Пилипчук сам, без особого приглашения, толкнул калитку, но остановился, не решаясь идти дальше, потому что бешено лаял хозяйский пес, поднятый ревом мотора. На крыльцо уже вышел, кутаясь в телогрейку, сам хозяин — Николай Онищук, местный конюх, и отозвался громко:
— Кого черти принесли?
— А вы всех так встречаете, гражданин Онищук, или только представителей советской власти? — гаркнул я.
— Убери пса, Николай, — громко сказал Пилипчук.
— Ты или кто, Ефимович? Что такое, слышу, шум по селу…
— Говоришь, только слышал?
— Слышал. Такое время, товарищ участковый, спишь чутко.
— Так. Что же ты слышал, а, Онищук?
— Говорю же — шум.
— И ничего больше не знаешь?
— Ничего. Своя семья, товарищ участковый, ничего мне не надо.
— Ага, вот мы пришли рассказать! — я отстранил Пилипчука, выставив дуло автомата перед собой. — Ну-ка! Убери собаку, веди!
— Куда вас вести?
— Не лепи мне тут горбатого, Онищук! Показывай, кого прячешь! Добровольная выдача тебе засчитается. Иначе или с гостями своими дорогими поедешь в район, куда повезут, или рядом с ними, сука, ляжешь!
Не знаю, что тогда подействовало на хозяина: мой крик или мой автомат, но он, ничего не спрашивая больше, спустился с крыльца, как был, босой, оттащил пса к будке, обмотал веревку вокруг вбитого для собаки колышка. Но на пса не цыкнул, и это меня лишний раз убедило — не соврал автор записки, ой не соврал. Бандит, которого тут прячут под землей, должен услышать собачий лай и выбраться через предусмотренный выход. Вот когда пожалел, что не дождался солдат: сразу окружили бы территорию, потому что ход выкопали вряд ли длинный, далеко не убежит.
— Показывай! — я решительно шагнул к Онищуку, красноречиво нацеливая автомат.
— Не знаю, о чем вы говорите, товарищ участковый, — тот говорил со мной, но смотрел на Пилипчука. — Нечего мне показывать. Жена, детей двое, да вы же видели, когда по домам ходили.
— Не морочь мне голову, падла! И зубы не заговаривай! Если потянешь еще немного — дождешься солдат, Онищук, ох дождешься. А как они ищут… ну, сам знаешь.
— Не знаю, что вы ищете. — Хозяин продолжал упираться.
Я сцепил зубы. Не оглядываясь, позвал:
— Ружицкий!
— Слушаю, товарищ лейтенант! — «Штырек» тут же оказался рядом.
— Бывал здесь, в этом доме?
«Штырек» засопел, переступил с ноги на ногу.
— Отвечай, когда спрашивают! — снова рявкнул я.
— Это крестный мой… Бывал…
— Так где твой крестный картошку держит, знаешь?
— Вон там, в погребе…
— А я тебя, Славка, сукин ты сын, у креста держал, — обреченно вздохнул Онищук. — Ищите, что хотите, ваша власть. Я с места не сойду, здесь стану. Захотите стрелять — тут и лягу, в своем дворе.
Треугольная, выложенная кирпичом крыша погреба торчала возле дома, за сараем. Я решительно направился туда. Увидел замок, и, сбив его тремя ударами приклада, распахнул крепкую деревянную дверь.
Оттуда тянуло смесью запахов сырой земли, недавно выкопанной картошки и мышиного дерьма. Вниз вели каменные ступени, их было пять — и я оказался возле сваленной между досок, что отгораживали угол, картошки. Что еще было в погребе — меня тогда не интересовало, не за едой сюда пришел. Я наклонился, зачем-то пощупал картофелины, а потом, став на колени, загреб их к себе и вывалил из самодельного ящика.
Видно, я той ночью очень хотел найти тайник, потому что удача улыбнулась мне очень скоро. В куче картошки рука наткнулась на какую-то доску, и пальцы нащупали что-то вроде ручки. Через мгновение я уже разгребал на дне ящика замаскированный картофелем вход. Все это время управлялся в темноте, но когда убедился, что поиски не напрасны, поднялся с колен, подошел к крайней ступеньке и крикнул в темноту:
— Ружицкий, свет сюда.
«Ястребок» тут же спрыгнул вниз, держа наготове неизвестно где добытый фонарик. Света он давал немного, но мне хватило, чтобы разворошить картофельную кучу, рвануть вверх замаскированную крышку и увидеть темный квадрат хода, который вел вниз, в бункер.
Чем дальше, тем больше я понимал, какая это глупость — припереться сюда одному. Но отступать не хотелось. Наведя дуло на черную дыру, набрал в легкие побольше воздуха и не крикнул — выдохнул в подземелье:
— Внимание! Говорит лейтенант милиции Михаил Середа! Двор оцеплен, сопротивляться бесполезно! Предлагаю сдаться! Жизнь гарантирую! Нет — бросаю гранату!
Не было у меня гранаты. Но и другого выхода не было: теперь уже выставить здесь пост и молча ожидать, пока подоспеют чекисты, не получится. Кровь кипела, желание покарать хоть кого-нибудь за гибель молодой учительницы рвалось наружу. Когда в ответ я ничего не услышал, то повторил приказ еще раз а потом взял у Ружицкого фонарик и, не думая долго, поставил ноги на верхнюю перекладину самодельной лестницы и прыгнул вниз.
Готовился ко всему — погреб оказался не глубже двух метров, да и не слишком просторным, и при других обстоятельствах тут, в закрытом пространстве, шансов выйти из столкновения невредимым или хотя бы живым совсем не было. Однако, как только мои подошвы коснулись досок пола, я бросился к стене, хотя пока не встретил никакого сопротивления. Более того: здесь, в этом помещении, кажется, не было людей.
Я выставил руку с фонариком перед собой и прошелся лучом по стенам, выхватив из темноты только пустые двухъярусные нары — и все, больше никого и ничего. Хотя почему: возле нижних нар что-то белело, я шагнул туда, наклонился, левой рукой, которая сжимала фонарь, подхватил этот предмет. Ага, здесь все-таки кто-то был — с выложенного досками пола я поднял самодельный бинт, пропитанный кровью.
До сих пор не могу объяснить, что именно заставило меня посветить под ноги, а потом — простучать доски под ногами. В правом углу подземелья я почувствовал под собой пустоту, стал на колени, но подцепить доски было нечем. Я сбросил фуражку, вытер тыльной стороной руки вспотевший лоб, подошел к выходу и, подняв голову, крикнул:
— Ружицкий! Тащи сюда лопату!
— Какую лопату? — послышалось над головой.
— Или не лопату! Железку острую, штык — что хочешь!
Только я это сказал, как снизу ударила длинная автоматная очередь.
Если б я не отошел от того места, где был скрыт еще один ход вниз, пули точно бы меня достали. А так я просто отскочил к стене, стукнулся плечом, присел на корточки, отшвырнул фонарь и пальнул в ответ, хотя понимал: у того или тех, кто засел внизу, позиция, несмотря на всю безнадежность ситуации, пока что выигрышная. Но хорошо хотя бы то, что никто не сбежал — значит, другого выхода из бункера нет.
Потянулись секунды. В тесном темном подземелье пахло порохом, землей, потом. Тяжело дыша, я ждал, что снизу снова начнут стрелять. Но ничего не происходило, и я, снова набрав в легкие воздуха, повторил приказ:
— Прекратить огонь! Сопротивление бесполезно! Двор окружен, бросайте оружие! Гарантирую жизнь!
В ответ снова огрызнулся автомат.
На этот раз очередь была короче, и я даже решил не тратить зря патроны. Не знаю, надолго ли внизу хватит боеприпасов, но одно понятно: хотя из-под земли и огрызаются, бункер оказался ловушкой. Выкурить оттуда кого-нибудь не так уж и сложно. Словно отвечая на мой вопрос, как действовать дальше, над головой послышался голос Ружицкого:
— Товарищ лейтенант!
Но сразу его перекричал другой:
— Говорит старший лейтенант МГБ Собинов! Что там у тебя, участковый?
— Пока не знаю! — громко ответил я, ощутив облегчение. — Но кусаются, сволочи!
— Ничего, это ненадолго! Обычное дело!
Как только Собинов это произнес, снизу один за другим грохнули три или четыре — не до подсчетов было — одиночных выстрела, по звуку — револьверных. Не удержавшись, я разрядил в доски остатки диска. Уже не ожидая специального приказа, вниз ко мне спустилось трое бойцов, в темноте я не различал ни лиц, ни знаков на погонах. Только услышал где-то рядом приказ Собинова:
— Лезь наверх, Середа! Ты свое дело уже сделал, теперь мы!
Спорить расхотелось. В самом деле, с пустым диском мне здесь делать нечего. Поэтому, протиснувшись к лестнице, выбрался наверх, увидел полуторку возле забора, солдат во дворе, уже связанного Онищука на земле, подошел к своему мотоциклу, оперся на коляску, закурил.
С этого места и увидел, как энкаведисты вытащили из бункера того, кто там прятался.
Он был один. Раненый. Выпустил сначала весь магазин «шмайсера», потом — разрядил в доски револьвер.
Последнюю пулю бандеровец пустил себе в голову.
12
Ощущения победы у меня не было. Ни той ночью, когда бойцы вытащили труп того, кого я считал бандитом. Ни когда бандеровского приспешника, окровавленного Николая Онищука, избитого прямо в собственном дворе, забросили в кузов и повезли в район. Ни позднее, когда неожиданно увидел Данилу Червоного и все в моей голове запуталось окончательно.
Под утро той долгой ночи мы все остались там, откуда и начали, не приблизившись к Червоному ни на пядь. Арестованный Онищук упорно молчал. На самом деле он мог себе это позволить: пока он встречал нас посреди ночи во дворе, его жена, быстро собрав двоих детей, десятилетнего мальчика и восьмилетнюю девочку, сбежала через окно с тыльной стороны дома, а значит, за свою семью он не боялся.
Наверное, такие действия с самого начала были продуманными, никто ни с кем не спорил, женщина спасала детей, попрощавшись с мужем, которого — знала наверняка — больше не увидит. Взяв на себя командование, старший лейтенант Собинов приказал вечно перепуганному Пилипчуку составить список вероятных бандеровских пособников. Тот обмолвился: «Вы уж как хотите, пан-товарищ, только тут полсела таких!» На что Собинов категорично ответил: «Ну раз так, тогда возьмем наугад десяток заложников — не Онищук, так кто-нибудь другой расколется. А нет — всех в тюрьму, потом — по этапу на Колыму, берем еще десяток, желательно — женщин с детьми. Или женщин, чьи дети останутся одни: так больше эффекта».
— Иначе, Середа, эту фашистскую сволочь не удушить, — объяснил Собинов, когда мы рано утром завтракали, как водится, в доме Пилипчука. — Все они тут враги, только одни в лесах, другие — в своих хатах сидят. Не хочешь, чтобы шипели, плохо смотрели или стреляли в спину, — выжги вокруг себя все и всех. Мне здешнего уже — во! — Он резанул себя ладонью по горлу.
Я мог бы возразить: мне за то короткое время, что прослужил тут, показалось наоборот — земля горит у нас под ногами. И легче было выбить немцев из Киева, Кенигсберга или Варшавы, чем бандеровцев — из здешних лесов. Понимал я и без старшего лейтенанта МГБ Собинова, почему так: местное населения пока против советской власти, поэтому и поддерживает бандитов. Значит, агитаторы работают плохо, и, наверное, нужно усиливать именно такую работу, а не хватать местное население в заложники, особенно женщин и детей.
Однако тогда Собинову я не возражал: все доводы перечеркивал вытащенный из колодца труп Лизы Вороновой. Она приехала сюда учить детей, и за это ее убили. Раз так, возможно, Собинов дело говорит. А МГБ в целом выбрал и держит единственно правильную линию: кровь за кровь, смерть за смерть. К сожалению, это война, в которой мы тоже должны победить. Немцев в Берлине, в их логове задавили, неужели здесь обломаем зубы…
Но Собинову не удалось проявить активность в полной мере. Действительно, за день энкаведисты, «штырьки» и я вместе с ними перетрясли Ямки, кажется, от края до края, вдоль и поперек. Результат — обнаружили еще в двух домах пустые крыйивки, хозяев арестовали, прихватили еще нескольких подозрительных, тут уж «ястребки» постарались, да и сам поселковый председатель поучаствовал. Вот только именно в этих сведеньях я сомневался: Пилипчука в селе не любили, «ястребков» тоже не жаловали и не слишком признавали хотя бы небольшой властью, так что они могли вполне воспользоваться случаем и сводить под шумок облавы собственные счеты.
Однако довести дело до конца Собинову не дали: вечером пришло сообщение — бандеровцы отбили арестованных заложников в Паньках, еще одном из окрестных сел. Там также организовали облаву, задержанных грузили в две машины. Вот на эту самую колонну по пути в райцентр они и налетели. Теперь готовилась масштабная облава, потому что люди все же массово бежали кто куда, а на все это в МГБ не хватало сил. Поэтому взвод Собинова срочно сняли с Ямок и перебросили ближе к Панькам.
Я же получил приказ обеспечить должную охрану задержанных бандеровских пособников, и для этого у меня никого, кроме «штырьков», не было. Их вряд ли можно было считать должной и надежной охраной, но выкручиваться как-то надо, так что комсомольцев Ружицкого в полном составе я бросил на караул. Только после этого почувствовал что-то похожее на облегчение: наконец можно хоть немного отдохнуть и восстановить силы, ведь с того момента, как выехал на убийство учительницы, не присел даже, если не считать короткого перекуса в доме председателя. Когда тебя не держат ноги, ты не боец, а мне нужно держаться и еще держать ситуацию в кулаке, даже очень нужно. Поэтому, вернувшись в так называемый опорный пункт с топчаном, сначала присел, потом — прилег, по привычке не раздеваясь, даже не сбросив сапог.
Заснул, кажется, еще в движении.
А проснулся будто сразу — вот только закрыл глаза, как тут же открыл, встревоженный чужим звуком. Стучали в окно — то есть в кусок фанеры, которым заслонили дырку в разбитом стекле.
Стучали осторожно, но настойчиво, и почему-то именно этот стух показался мне даже опаснее брошенной в окно гранаты. Первая мысль — это пришел тайком тот, кто прошлой ночью сообщил о бункере, и теперь хочет раскрыть себя и дать какую-то новую информацию. Потом осенило: ловушка. Я подойду к окну, и меня расстреляют со двора. Но сразу же отбросил эту мысль — никому ничего не мешало бросить мне через окно гранату, даже не одну. Нет, что бы это ни было и кто бы это ни стучал, вряд ли сейчас моя жизнь под угрозой.
Поднялся, взял с пола пистолет. Осторожно, держась под стеной, приблизился к окну. Выглянул. Увидел только темноту — никого, никакого человеческого контура. Прекратился и стук. Одернув зачем-то форменный китель и поправив ремень, я на цыпочках вышел из дома и прислушался. Успел мазнуть взглядом по часам — начало первого ночи. Значит, мне удалось крепко поспать больше четырех часов. Я чувствовал себя удивительно отдохнувшим. Прислушавшись, не услышал ничего, поэтому выставил перед собой руку с пистолетом, медленно обошел дом, приблизился к нужному окну.
Клочок белой бумаги, всунутый в щель между рамой и фанерой, увидел сразу. Его и пристроили с намерением, чтобы послание бросилось мне в глаза. Оглянувшись, протянул руку, взял бумажку. Это был узкий прямоугольник, сложенный пополам. Развернув, увидел какую-то надпись, но прочитать смог, только когда вернулся к себе и зажег керосиновую лампу.
Там печатными буквами было написано:
ВИХОДЬ НА РОЗМОВУ. ПРИХОДЬ ЗА ГОДИНУ. ЧЕКАЙ ЗА ОКОЛИЦЕЮ БІЛЯ ЛІСУ. БУДЬ САМ.[7]
Честно говоря, мне тогда даже в голову не пришло взять кого-нибудь с собой или вообще кому-нибудь об этом происшествии рассказать. Во-первых, в Ямках не было ни одного человека, которому можно было бы доверить это дело, а звонить Калязину, чтобы посоветоваться, не считал нужным. Ну вот как это выглядит со стороны: фронтовик, боевой офицер, милицейский оперативник согласовывает свои шаги по телефону с начальством… Во-вторых, я обратил внимание на просьбу прийти одному. Это означало: тот, кто зовет на встречу таким образом, тоже никому не доверяет. В конце концов, нет условия приходить без оружия. Значит, меня никто не хочет лишить какого-то преимущества.
Короче говоря, после всего, что случилось в Ямках в эти дни и чему я был свидетелем, пугаться и вести себя, как трус Пилипчук, хотелось меньше всего. Поэтому, решив идти, куда зовут, обошел посты, приказал «штырькам» не спать, держать ухо востро, а потом, проверив оружие, отправился в темноте пешком через все село.
Миновав крайнюю хату с темными, как и повсюду, окнами, свернул с дороги на тропинку. Через полсотни метров начинался лес, я пристроился под первым попавшимся деревом, закурил, сам удивляясь своему спокойствию, приготовился ждать.
Они вышли из ночи, когда я докуривал вторую папиросу. Подошли тихо, появились сразу с обеих сторон. Услышал приближение слишком поздно, дернулся за пистолетом. Из темноты сказали:
— Не нужно, пан офицер.
Поднявшись, я увидел — меня обступили трое. В темноте не различал их лиц, но чувствовал: незнакомцы насторожены, но не слишком враждебно настроены. Скорее, в голосе того, кто говорил со мной, звучало какое-то непонятное мне любопытство.
— Кто вы? — спросил я, чтобы не молчать, потому что прекрасно понимал, с кем имею дело.
Впервые за последнее время заговорил не на русском, а на украинском — не на таком, как там, на Волыни, на другом, к которому привык тут, у нас. Но почему-то перешел на него, хотя даже к здешним крестьянам обращался на русском, поскольку именно так и должны, по моему убеждению, обращаться к людям представители власти.
— Это не так важно, пан офицер, — ответил тот же голос. — Важнее, что ты все же пришел один.
— Откуда знаете?
— Не держи нас за дураков, москаль, — произнес другой голос, который показался мне почему-то знакомым. — Мы здесь давно, все время, пока ты сидел да курил. Если бы привел кого — увидели б.
— Вижу, Остап все-таки в тебе не ошибся, — сказал первый, который подошел ко мне почти вплотную, и я смог рассмотреть очертания лица с усами. — Пойдем, он ждет.
— Кто? — Я тогда и в самом деле не сразу понял.
— Остап, — повторил усач. — Оружие можешь пока не сдавать. Раз не привел никого и не испугался, тебе можно доверять.
— Это Червоный так сказал?
— Такого не знаем, — был ответ.
— Пусть так. Иначе спрошу: Остап так сказал?
— Может, и Остап, — спокойно подтвердил усач. — Ну-ка, пан офицер, иди с нами. Тут недалеко. Только стой пока вот так…
Зайдя мне за спину, он набросил мне повязку на лицо, закрывая глаза, плотно прижал, завязал.
— Вот теперь все. Идем.
И я углубился в лес, взятый тремя бандеровцами в полукольцо.
13
Долго ли мы шли, теперь не вспомню. Да и тогда я не слишком контролировал время. Может — час, может — больше, может — немного меньше. Всю дорогу молчали: я не пытался заговорить, догадываясь, что именно для разговора меня и ведут, а мои спутники или конвоиры не имели желания со мной беседовать.
Сначала мы двигались между деревьев, и я бросил попытки хоть как-то определить обратный путь. Через некоторое время дорога повернула в овраг, мы спустились, прошли по его дну и наконец остановились. Потом усач спокойно сказал мне сдать оружие, и я подчинился — в общем-то, ничего другого и не оставалось. Тогда повязку с глаз сняли, а когда я привык к темноте, разглядел: мои спутники уже стояли на краю прямоугольной ямы, из которой лился тусклый свет.
— Прошу пана офицера. — Меня кивком пригласили спускаться первым, и я полез вниз, по ступенькам крепко сбитой лестницы.
Тут было так же неглубоко, как и в той крыйивке, которую я обнаружил вчера, — не больше двух с половиной метров, приблизительно полтора человеческих роста. Землянкой меня, фронтовика, сложно удивить. Однако, оказавшись внутри, я понял: это настоящий бункер, сделанный старательно, заботливо и предназначенный для длительного в нем пребывания. Солдаты на фронте никогда не рассматривали землянку как постоянное жилье. Хоть во время отступления, хоть в наступлении, мы воспринимали землянки как временную крышу над головой, которую можно при первом же случае быстро оставить. А тут все сделано добротно и на совесть. Сразу увидел это, как только глаза привыкли к тусклому свету плошки, хотя, несмотря на такой заботливый хозяйский подход, я все равно чувствовал себя как в могиле, только заживо похороненным: потолок, оббитый толстыми досками, чем дальше, тем больше опускался, чтобы, как я прикинул, хорошо сходила вода.
Стены были тоже обшиты, только уже не досками, а брусом. Вдоль них — деревянные лежанки, накрытые плащ-палатками. По стенам на гвоздях — верхняя одежда: я рассмотрел шинели немецкого и польского образца, бушлаты, телогрейки, рядом висело оружие: бросились в глаза наши, советские автоматы, в основном ППШ и ППД, а еще — два «дегтяря» в углу.[8]Все это, включая наше оружие, — точно трофейное. И мне даже не хотелось думать, как эти трофеи попали в бандеровский схрон.
Ниже вешалки увидел два больших ведра. Оба накрыты досками, но то, что стояло ближе к стене, я определил как помойное. Сам бункер тянулся в длину метра на четыре, в ширину — приблизительно на три, но это и без того не слишком широкое помещение казалось еще более тесным, потому что здесь были люди. На глаз я определил: десятка полтора мужчин, все молчаливые, сдержанные и заметно организованные: не толкали друг друга, один не мешает остальным, каждый на своем месте. При моем появлении ничего не изменилось, люди в бункере расступились, открывая мне путь в глубину, где возле стены стоял сбитый, очевидно из снарядных ящиков, стол. А из-за него навстречу мне поднялся человек, которого вблизи я, несмотря на тусклый свет, сразу узнал.
Хотя польская служба безопасности фотографировала Данилу Червоного десять лет назад и с того времени он, конечно, изменился, выражение лица осталось тем же самым. Как и несколько недель назад на снимке, так и теперь, я видел перед собой мужчину-воина. Это бросалось в глаза: такого человека трудно представить в гражданском костюме где-нибудь в конторе или на колхозном поле, с вилами, скирдующим сено. Не мог он быть и школьным учителем, университетским профессором или директором завода. Если б я увидел Червоного в пиджаке и галстуке, первое, что сделал бы, — посоветовал немедленно переодеться, потому что сам на себя он может быть похож только в военной форме. Вот так, как сейчас: мундир немецкого покроя, надетый на легкий вязаный свитер, портупея, заправленные в добротные офицерские сапоги галифе. На манжете рукава я разглядел две светлые горизонтальные нашивки — наверное, это у них что-то вроде армейских погон. Рядом на столе лежала островерхая шапка с приделанным спереди трезубцем.
Тогда я уже имел представление о том, откуда у бандеровцев одежда: в селах и городах работали маленькие швейные мастерские, которые выполняли заказы УПА, обшивая их мундирами, свитерами, носками, портянками и бельем. Калязин обмолвился — за работу платят советскими деньгами, которые бандеровцы добывают, организовывая нападения на почтовые отделения и сберкассы. «Это же людские зарплаты», — напомнил тогда полковник.
Лоб — широкий и открытый. Профиль — словно чеканный, губы тонкие, на носу — небольшая горбинка: так я машинально фиксировал для себя его приметы. Коротко стриженные черные волосы сильно побила седина, и это делало тридцатилетнего мужчину старше как минимум на пять лет. Форма плотно облегала мускулистое тренированное тело.
— Остап, — он протянул руку.
Я машинально пожал ее, в тот же миг осознав — только что поздоровался с убийцей учительницы Лизы. Еле сдержал гнев, который так и рвался наружу. Мысленно решил: как бы ни повернулся наш разговор, при первом же случае брошусь вперед, вцеплюсь в горло — и будь что будет.
— Середа. Только проясним сразу: я знаю, что ты Данила Червоный. Поэтому откликайся на настоящую фамилию, мне так удобнее.
— Называй как хочешь, ты гость. — Он повел плечами.
— Говорить с глазу на глаз будем или при свидетелях?
— Сразу ты так — при свидетелях… Мне прятаться от своих нечего. Вот только ребята как раз собирались подышать, размяться, на речку сходить. Тут речка недалеко. — Червоный говорил ровным голосом, совсем, кажется, лишенным эмоций. — Помыться нужно, здесь сидеть — совсем завоняешься.
— Вода уже холодная, — произнес я, лишь бы что-то сказать.
— Холодная, — согласился Червоный — буду называть его так. — Только тут болезней на самом деле больше, чем в проточной воде. Там, в протоке, смывается.
— Что ж вы тогда здесь сидите, как крысы? — вырвалось у меня.
Я не оглянулся, услышав тревожные для себя звуки за спиной. На это Червоный сделал какой-то жест рукой, и все, кто был в бункере, по одному вылезли наружу. Теперь мы остались одни. Судя по тому, что в подземелье потянуло свежим осенним воздухом, вход оставили открытым.
— Крысы, говоришь… — Червоный прошелся по бункеру, разминаясь и пригибая голову, потому что в этом месте потолок опускался и касался его макушки. — А вы, раз по земле ходите, — будто собаки цепные? Да?
— Мы — это кто?
— Вы, украинцы, старательно служите тем, кто уничтожает наш народ. Вот ты же украинец. Не москаль, не поляк, не жид. Откуда сам?
— Чернигов.
— Из самого города?
— Можно и так сказать. Родители перебрались из села, когда я еще маленьким был.
— Почему твой город теперь под коммунистами и москалями, а ты ничего не делаешь, пан Середа? — спросил Червоный.
Мне показалось — ответ ему именно сейчас нужен меньше всего. Потому что поймал себя на мысли: что бы я ни ответил, на все у него найдутся свои железные аргументы. И каждое мое слово он повернет так, что я ошибаюсь, если вообще не окажусь дураком. Но выдавил из себя:
— Я тебе не пан, гражданин Червоный.
— Вот как! — воскликнул он. — А кто? Товарищ?
— Хотя бы и так.
— Может, ты партийный?
— Не успел. Только это ничего не меняет.
— Что бы ты хотел изменить, лейтенант Середа? — И снова я почувствовал себя в тупике, тогда как Червоный вел дальше: — Ладно, пусть ты товарищ, а я — гражданин. Только гражданин — чего? Их Советского Союза?
— Нашего, — коротко ответил я.
— Значит, вашего. Тогда объясни мне, Михаил Середа, почему везде, где нет коммунистов, называться гражданином и иметь гражданские права — это честь. А тут «гражданином» тебя называют, когда лишают гражданских прав. Никогда не думал об этом, друг Михаил?
— О чем?
— О том… — Червоный прервал меня, не поднимая голоса, говорил ровно, спокойно и уверенно, не оставляя лазейки для дискуссий. — Когда ты верен власти, ты для них — товарищ. Но как только становишься для них врагом народа, сразу перестаешь быть товарищем. Тебя заковывают в кандалы, тащат в тюрьму, там бьют смертным боем, и ты уже не товарищ — ты гражданин. Только лишь гражданин! — он красноречиво поднял к потолку указательный палец. — Без прав, вне закона, измазанный собственной кровью, собственным дерьмом, преступник для коммунистов и народа: вот что такое для Советов означает «гражданин». Товарищей голодом морить нельзя. Граждан — очень просто, достаточно отдать нужный приказ из Кремля.
— При чем тут голод?
— При том, Михаил Середа, что это власть морит украинцев голодом! — Я почувствовал, что бандеровский командир постепенно заводится. — Так же, как морила их в тридцать третьем. Ты жил в городе, ты этого не ощутил. Хотя, наверное, уже не был маленьким. Сколько тебе лет, лейтенант?
— Ну, скажем, двадцать семь, что это меняет?
— Снова ты ничего не хочешь менять! — Червоный развел руки и легонько хлопнул себя по бедрам. — Ты в Чернигове в школу ходил, так?
— Конечно.
— Хорошо учился?
— Грамотный. — И тут же вырвалось: — Не беспокойся.
— Да я вижу, что грамотный. Только тебя почему-то ничего из того, о чем мы говорим, совсем не волнует. Вот ты буквы знаешь, читать умеешь, писать протоколы — тоже. Но это еще не означает, друг Михаил, что ты грамотный. Есть в школу мама давала?
— Ну, давала, — разговор, казалось мне, уходил в какую-то странную для меня сторону. — Хлеб с салом заворачивала в вощеную бумагу…
— Сало, говоришь, с хлебом… Ты тогда, наверное, записался в пионеры. Было?
— Допустим.
— И тебе, пионеру, ничего не говорили о том, как украинцы, пока ты в городе ешь хлеб с салом, сотнями и тысячами пухли от голода в селах?
Я действительно слышал такое от родителей. Даже знал: от голода умерли в селе родственники почти у всех наших соседей. Только об этом рассказывали тихо: считалось пропагандой. Кто распространял подобные слухи, за тем приходили из НКВД.
— Говорили — неурожай, — ответил я осторожно. — А еще куркули сгноили в земле хлеб, чтобы подорвать курс на индустриализацию.
— Так вам и говорили?
— Именно так!
— Ладно, пускай. А окрестные села стерегли комсомольцы с винтовками. Их мобилизовывали и ставили в окружение при каждом селе. Чтобы ни одна живая душа оттуда не выбралась. Люди доходили до того, что начинали есть себе подобных. И до греха людоедства доходило всюду, где на Украине уже утвердили красную власть.
— Вранье…
— Правда, — отчеканил Червоный. — Правда, лейтенант. И ты, выходит, не такой уж грамотный, раз этой правды не знаешь. А заодно — слепой и глухой, потому что ничего не хочешь видеть и слышать. Вот скажи, почему на другом конце Украины снова был страшный голод? Только не говори, что ничего не слышал!
Я не просто слышал — я видел это своими глазами, когда служебные обязанности требовали выезда из Чернигова в район. Теперь сознаюсь: пытался не смотреть на тех, кто мучился от тифа и дистрофии, и не слушать жутких рассказов о том, как люди весной едят лебеду, листья деревьев, охотятся за бродячими собаками и выискивают в полях дохлых грызунов. Вот только с врагом об этом говорить не хотелось. Поэтому только ответил Червоному коротко:
— Засуха была сильная. Запасов хлеба оказалось недостаточно. Газеты писали.
— Почему же мало? Куркулей уже нет, некому хлеб гноить. — В голосе Червоного слышалась злая ирония. — Говоришь, газеты читаешь… А не писали твои газеты, как наши, здешние села сбивают в колхозы, чтобы потом продукты массово отправлять на Восток? Только, друг Михаил, никаких голодающих это зерно не спасало! Все шло туда, в Россию или за границу. Пока на Украине массово гибли люди, коммунисты кормили Польшу, Германию, даже Францию![9]И уж точно не напишут никогда эти ваши газеты, как я лично и мои парни тайком встречали беженцев с того края Украины и переправляли сюда. Потому что люди бежали от голода с Востока на Запад, а их опять не пускали: пусть подохнут, где жили! А, о чем с тобой говорить… товарищ ! — Червоный махнул рукой.
— Правильно, — легко согласился я. — Не нужно меня агитировать.
— Таких, как ты, слова не проберут, — кивнул он. — Вас только наглядная агитация убедит. Собственно, для этого тебя сюда и привели.
Червоный хотел еще что-то сказать, но я его прервал:
— Так что товарищи вам не подходят. Вы все здесь — паны. А чем тебе тогда польские паны не угодили? Я читал твое дело, Червоный.
— Интересно. Хотел бы я почитать… Что ж ты там вычитал? А, неважно… — Он снова прошелся по тесному помещению. — Я тебе скажу, чего там точно нет и не будет никогда. Я, Середа, хоть при Польше, хоть при немцах, хоть при Советах кладу свою жизнь ради того, чтобы на нашей с тобой земле, лейтенант, не было никаких оккупантов. Понятно сказано?
— Пусть поляки оккупанты, это я еще понимаю, — завелся я. — Немцы — тоже справедливо. Но почему вы против советской власти? Столько мечтали про объединение Украины, большевики освободили ее от всех, теперь страна у нас одна…
— …а государства нет! — закончил Червоный. — Слушай, из меня все же плохой агитатор или политработник. Не умею красиво говорить. Потому что ты сам должен понять когда-нибудь очевидное: никто ведь Украину не освобождал! Никто и никогда за последние триста лет, это как минимум! При Польше нас сажали в тюрьмы и лагеря, когда мы хотели свое государство. Пришли москали — мы снова в тюрьмах и лагерях, потому что Савецкий Саюз — не наше государство. Он убивал нас, пытал, морил голодом, морозил в Сибири. Пришли немцы и на наши хлеб-соль ответили тоже тюрьмами, лагерями, расстрелами и виселицами! — Теперь с бандеровского командира слетела маска невозмутимости. — Да подумай теперь и сам себе дай ответ: почему в советских тюрьмах и лагерях, при коммунистах, сидеть лучше, чем в польских или немецких? А заодно, товарищ Середа, скажи мне: почему, когда пытает и расстреливает НКВД, — это благо, а когда то же самое делали дефензива или гестапо — это зло?
— Государственная безопасность выявляет врагов советской власти…
— Правильно! Дефензива выявляла врагов Пилсудского. Гестапо — ненавистников Гитлера. Коммунисты — тех, кто против их Сталина! А методы, друг Михаил, одинаковые! Кровь из нашего брата-украинца они все выпускают одинаково. И нам одинаково больно, кто бы нас не истязал: коммунисты или фашисты! Почему всякий, кто сюда, на нашу украинскую землю приходит, не дает волю, а только меняет ржавую колючую проволоку на новенькую? Где тут освобождение, друг Михаил? Какое освобождение может быть, если конвой по периметру? Я бывал на Западе, бывал в Европе — последние лагеря там исчезли, как только американцы и англичане заняли положенные им после победы территории. Там, где остался контроль москалей, лагеря никуда не делись. Согласен, из меня действительно плохой агитатор. Вот сами факты — они упрямые. Подумай, Середа, хорошо подумай.
Червоный перевел дух, замолчал, к нему возвращалась уже привычная мне невозмутимость. Да не мог я ничего ему ответить. Поскольку чуть ли не впервые почувствовал, даже против своей воли, вопреки здравому смыслу, который впитал из школьных учебников: а действительно, почему наша власть, такая гуманная и справедливая, не может существовать без лагерей, куда из года в год пакует врагов народа эшелонами, а они, враги, никак не переведутся…
И быстро прогнал от себя подальше эти крамольные мысли. Даже мотнул головой, натолкнувшись на удивленный взгляд Данилы Червоного. И спросил, чтобы поскорее отойти от опасного для себя разговора:
— Может, советская власть себя так защищает. От таких, как ты, например. Убивать школьных учителей… Знаешь, тут действительно нужна кровь за кровь.
— Вот, значит, как… — Червоный потер подбородок. — Я все думал, как же перейти от слов к делу. Потому что говорить о том, как Советы уничтожают наш народ, можно долго. Ну, тогда поговорим о наших делах, Середа.
— У нас с тобой, Червоный, не может быть никаких дел.
— А ты не спеши, лейтенант. Потому что именно о той девушке, учительнице, я и хочу тебе кое-что рассказать. Заодно — о предшественнике твоем, участковом Задуре. Да и о прочих преступлениях, которые от нашего имени совершают вокруг переодетые агенты НКВД. Или, как это теперь у вас называется, — МГБ, одна холера.
14
Можете не верить мне.
Тем более что с того времени прошло больше тридцати лет. Это теперь, оглядываясь на события, к которым я приблизился в своей истории, легко сказать: я, мол, так и знал, что бандеровский командир будет говорить о чем-то подобном. Но тогда, ночью, в лесной крыйивке, услышав от Данилы Червоного, что МГБ «работает» под бандеровцев, действительно не очень удивился.
Сложно объяснить ход моих мыслей тогда… После того как битые полчаса бандеровский командир поливал советскую власть грязью, делая ее виноватой во всем, кроме разве что всемирного потопа, меня совершенно не удивили эти его слова. Я даже не возразил, просто молча слушал. Ну а Червоный, кажется, не заметил моего молчания.
— Скажу, лейтенант, коротко и по сути, — начал он. — Я — Остап, командир летучей группы Украинской повстанческой армии. Таких групп создано много, и наше задание — вести борьбу с оккупационной администрацией, также — просветительскую работу среди украинского населения, но главное — выявлять и ликвидировать агентурно-боевые группы МГБ. Поэтому я, как командир, имею довольно широкие полномочия, и главное из них — принимать решения и действовать самостоятельно, не ожидая приказов. Наша агентура тоже работает, она есть и в советской администрации, органах власти, в том числе — в штабах МГБ. В это хоть ты готов поверить?
— Вот в это, Червоный, я верю полностью.
— Хорошо. Тогда у тебя точно не будет сомнений в подлинности вот этого документа. — Он взял со стола планшет, вытащил несколько сложенных вдвое листов, развернул: — Это — копия специального приказа для управлений НКВД-МВД в западных областях Украины. Вот число, вот номер. Приказ касается, читаем, организации и результатов работы специальных групп, созданных для борьбы, как тут сказано, с оуновским бандитизмом. Знаешь, что это означает?
— Только то, что с бандитизмом нужно бороться.
— Тогда вот здесь почитай. Первый лист, третий абзац снизу.
Найдя нужный текст, я пробежал по нему глазами. Не нужно удивляться — не учил наизусть. Не поручусь за дословность цитаты, но попробую привести ее максимально близко к прочитанному. Казенные фразы сами цеплялись за память, остались в ней, и теперь могу повторить их лучше, чем таблицу умножения:
Заданием специальной группы, как и каждого отдельного агента-боевика, является компрометация главаря банды или местного националистического подполья. Комплектование спецгрупп при оперативных группах НКВД УССР следует проводить по принципу отбора агентов, ранее проверенных на исполнении заданий по ликвидации оуновского бандитизма. По своему внешнему виду и вооружению, знанию местных бытовых особенностей и языка личный состав специальных групп ничем не должен отличаться от бандитов УПА. Специальная группа должна быть нацелена на необходимость уничтожения местного населения, если есть уверенность в том, что оно сочувствует бандитам УПА. Подобные акции, совершенные от имени и под видом УПА, должны настроить население против бандитов, а также выбить из-под оуновцев ресурсную и человеческую базу, сеять среди местного населения страх и подрывать доверие к УПА. Конечная цель каждой такой спецоперации — лишить местное население желания поддерживать оуновский националистический бандитизм.[10]
Не читая дальше, я поднял глаза на Червоного.
— Что скажешь? — спросил он.
— Провокация! — Я сложил лист пополам, но не спешил возвращать.
— Конечно, провокация, — согласился он. — Обратил внимание на вон ту «необходимость уничтожения местного населения»? С этим мы и имеем дело.
— Эти твои бумажки — провокация! — Я бросил их на стол.
— Точно. — Червоный улыбнулся, и это вышло у него очень искренне. На какое-то мгновение на меня взглянул совершенно другой человек, тот самый, который прятался за грубой маской бесстрастности и жесткости. — Наша СБ держит целую подпольную канцелярию, где штампуют вот эти бумажки, чтобы мы показывали их таким, как ты, сельским милиционерам и обращали их, так сказать, в свою веру.
Он произнес «вера», а я невольно посмотрел налево, на икону в вышитых рушниках в углу и свечку, которая тихим огоньком горела под ней.
Червоный перехватил мой взгляд, мне почему-то стало от этого неловко, я уже готовился к очередному язвительному упреку, но бандеровский командир продолжил:
— Оригинал этого и прочих документов выкрадывать из энкаведешной канцелярии рискованно. К тому же, лейтенант, если ты не веришь прочитанному в копии, навряд ли поверишь и такому приказу, который я назову оригиналом. Ты говоришь — это подделка, фальшивка, потому что на самом деле мы, УПА, хотим всеми способами скомпрометировать милую твоему сердцу советскую власть. Поэтому предлагаю тебе договор…
— Я не договариваюсь с бандитами! — вырвалось у меня.
Червоный послушно поднял руки на уровень плеч ладонями вперед.
— Конечно, лейтенант, разумеется! Никаких договоренностей, никто тебя не вербует, нигде не нужно подписываться кровью. Скажу иначе: я даю тебе возможность убедиться в том, что действительно существуют спецгруппы МГБ, которые под видом воинов УПА и от их имени терроризируют и убивают местное население. Взамен от тебя не требуется ничего.
— Можешь не стараться! — Теперь пришла моя очередь иронически усмехаться, потому что я наконец почувствовал уверенность в себе. — Участкового Задуру повесили и бросили в колодец твои люди, Червоный. У меня есть доказательства, так что подотрись своими бумажками.
— Даже так? — Он обошел стул и приблизился ко мне вплотную: — Ты можешь это доказать?
— Когда убивали Васю Задуру, твои бойцы были в Ямках. Они приходили к вдове Килине, сам видел. И слышал, как они говорили о тебе, называли твое имя. Называли они друг друга Мирон и Лютый. Теперь скажи, что среди твоих людей таких нет.
Червоный не спешил с ответом. Сделал несколько шагов к выходу, прокашлялся, крикнул громко:
— Друг Лютый!
— Да, друг Остап! — послышалось сверху.
— А иди-ка сюда!
— Слушаю, друг командир!
Через мгновение в бункер спустился тот, кого называли Лютым, — тот самый усач, который привел меня сюда. Подойдя, вопросительно глянул на Червоного. А тот кивнул в мою сторону.
— Вот, лейтенант спрашивает, не тебя ли он видел у вдовы Килины той ночью, когда в Ямках убили участкового.
— Были мы в Ямках, — подтвердил Лютый. — Вдова должна была нам отдать выстиранное белье. Но, по слухам, у нее ночевали два офицера. А когда мы с Мироном все же пришли, Килина сказала: те куда-то сбежали ночью.
— Откуда вы пришли? — вырвалось у меня.
— Из леса, — все так же спокойно ответил Лютый. — Вот с той стороны, где мы тебя сегодня встретили.
Даже после этого я не сдался. Хотя теперь, вопреки моей воле, все словно бы становилось на свои места — вот она, отмеченная мною еще тогда странная разница во времени между нападением на дом Задуры и появлением бандеровцев во дворе Килины. Так и вертелось в голове: участкового убили другие бандиты, они пришли с противоположной стороны села, Задура жил довольно далеко от Килины… Словно прочитав мои мысли, Червоный сказал:
— Друг Михаил, в этих краях меня никто не знает в лицо. Зато благодаря агентуре МГБ, которая работает очень хорошо, москалям достоверно известно, что именно моя группа действует в Олыцком районе. Поэтому убийцы и насильники называют себя боевкой Червоного. Доказать, что это не так, могу только я сам, — он вздохнул. — УПА не воюет с регулярной армией. Мы не трогаем гражданское население. Здесь работает много гражданских, которых перевозят из России и Белоруссии. Но они не представляют для нас угрозы, и это, лейтенант, касается одинаково учителей, инженеров, агрономов, врачей, хоть москали они, хоть евреи, хоть кто. Наш главный враг — советские внутренние войска и военные подразделения МГБ, а также оккупационная администрация и все, кто ей служит. Только вот предыдущий ямковский участковый — местный, лейтенант. Он служил чужой власти, но не причинял людям зла, поэтому и продержался так долго. — Червоный взглянул на Лютого, тот молча кивнул, соглашаясь с командиром. — Нам невыгодно карать представителей местного населения, чтобы не настраивать людей против подполья. Значит, лейтенант, убийство Задуры, надругательство над его женой и уничтожение русской учительницы — дело рук твоей специальной группы, на которую мы охотимся с начала августа. Будешь дальше упираться и не верить?
— Долго же вы их ловите, — сказал я, чтобы только не молчать.
— Потому что нас, лейтенант, тоже гоняют, — спокойно, словно даже рапортуя, объяснил Червоный. — К тому же ликвидация такой группы — важное, но не основное наше задание. Людей депортируют, вывозят далеко от родных мест, тасуют, как колоду карт. Нужно этому препятствовать. Подготовка каждой такой операции требует времени… Ну, долго объяснять. И главное, друг Михаил, — спецгруппы перенимают нашу тактику. Мы неуловимы для них, они — для нас.
— Ты хочешь, чтобы я в это поверил?
Вопрос вырвался искренне. Я действительно не собирался верить бандеровскому командиру. Хотя все же червячок сомнения грыз: для чего Червоному, человеку с биографией, большим боевым опытом и определенной репутацией в своих кругах, устраивать такой спектакль для обычного сельского участкового, который появился тут пару недель назад? Апеллировал к тому, что я украинец… Вербует? В таких играх я не мастак, но если все-таки вербует, то с какой целью? Какая польза УПА от лейтенанта, у которого здесь, на Волыни, никаких связей, кроме начальника Олыцкой районной милиции? Правда, если они склонят на свою сторону десяток таких, как я, только в одном районе…
— Ничего я от тебя не хочу. — В голосе Червоного слышались нотки усталости. — Встретились. Поговорили. Я сказал, ты выслушал. Не услышал сказанного — так уж и будет, когда-нибудь сам поймешь. Пока мы не враги, лейтенант.
— Ты за меня не расписывайся.
— Так ты мне враг? — поднял брови командир бандеровцев, глянул на Лютого, но тот равнодушно пожал плечами. — Пусть так, я в друзья тоже не набиваюсь. Разойдемся, как встретились. Одна просьба к тебе, Середа… Выполни служебную обязанность, ладно?
— То есть? — Я подумал, что он, похоже, пытался окончательно меня запутать.
— Доведи до сведения своего руководства: население села Ямки не настроено против бандеровцев. Даже после того, как они убили участкового, поглумились над его женой и замучили учительницу. Это, между прочим, правда: с Задурой, считай, полсела не здоровалось, ну а девушка — москалиха, учила детей стихам про Сталина. Считай, получил от меня оперативные данные. Вот такие настроения по селу, лейтенант, не вру, ей-богу, не вру.
Я быстро сложил в голове два и два. Ладно, вполне можно предположить: акция против Васи Задуры и его семьи проведена другой бандеровской группой, МГБ тут не при чем, показанные мне документы — фальшивка, а Червоный действительно выполняет задание своей службы безопасности, чтобы реабилитироваться в глазах народа. То есть существует в стане врага некоторая несогласованность действий, поскольку правая рука не знает, кого убивают левой. И если я доложу, например, Калязину, что здешних людей эти акты не напугали и не настроили против УПА, ввиду аргументов Червоного это, как ни крути, будет правдой. Поскольку обычные люди, которые никаким боком не служат советской власти или работают на нее по принуждению, действительно могут не боятся оуновского гнева…
Да, здесь нужно работать и работать. Вот только какая польза от этого Червоному? Человек дважды бежал из плена, десять лет на нелегальном положении, особо опасный для власти преступник — он без выгоды для себя и своего дела мизинцем, наверное, не шевельнет. Таким образом, по неизвестным мне причинам ему выгодно, чтобы я именно так доложил начальству… С другой стороны, узнают ли в районной и областной управах НКВД что-то новое о действительном состоянии дел в селах? Навряд ли. Так каким образом я подыграю Червоному? Оказывается, никаким.
Наверное, даже при тусклом освещении бункера на моем лице читались все сомнения, которые меня в тот момент охватили. Потому что Червоный снова улыбнулся, теперь уже шире, показав ровные белые зубы, и сказал:
— Михаил, ты же так или иначе не смолчишь об этой нашей встрече. Распиши ее хорошо. Надави на то, что бандеровцы тебе угрожали. Обещали и дальше убивать только активистов, москалей, советских прислужников, а простых людей не трогать. Пусть, наконец, охрану тебе сюда пришлют.
— А этого не будет! — мне вдруг показалось, что я понял замысел бандеровского командира, поэтому поспешил в этом признаться: — Хочешь — стреляй прямо тут, а солдат на помощь и для защиты я требовать не собираюсь! Это же ваша тактика, знаю: нападать на небольшие подразделения, уничтожать и снова прятаться в лесах!
— Тогда не вызывай сюда НКВД! — легко согласился он. — Но информацию от меня своему начальству все же донеси. Так прямо и скажи: взводный УПА Остап просил передать, что мирное население трогать не будет. Годится?
Мне надоело толочь воду в ступе, поэтому я решил лучше промолчать. Такое мое поведение Червоного, кажется, вполне устроило.
— Друг Лютый, проводите гостя, — обратился он к усачу. Тот зачем-то взял свой автомат наперевес, кивнул мне в сторону выхода.
Червоный подал руку, прощаясь. Только я уже освоился и не захотел повторять свою ошибку: руку не пожал. Не знал еще тогда: очень скоро увижу Данилу Червоного во второй раз — и в последний.
15
Теперь перехожу к тому, ради чего начал этот разговор и в чем хотел… Не знаю, как правильно сказать: признаться, покаяться…
Нет, наверное, «покаяться» тут не годится. Даже теперь, через тридцать с гаком лет, совершенно не жалею о том, что случилось в волынском селе Ямки той ночью, в начале октября. Если же говорить о признании — так ты же не судья, не прокурор, чтобы я в чем-то тебе сознавался. Вряд ли ты захочешь быть моим адвокатом. Но также мне кажется — ты не побежишь после нашего разговора, как говорится, куда надо.
После беседы с Червоным, цели которой, если говорить совсем уж откровенно, я до конца тогда не понял, меня провели назад на окраину леса. Назад вели, тоже завязав глаза. Но даже если бы вели вот так, без повязки, я все равно не смог бы зафиксировать дорогу. В этих лесах совсем не ориентируюсь, да и не лесной я человек — несколько лет баранку крутил, так что мне на шоссейках как-то привычнее. Доведя до места, Лютый сорвал повязку и вернул мне оружие. Молча. И троица моих проводников растворилась в ночи.
Вернувшись в свое временное пристанище, я, словно ничего не произошло, проверил пост возле того подвала, где сидели задержанные, убедился, что «ястребки» не спали, потом закрылся в комнате, сел на топчан и так сидел почти час, переваривая то, что случилось со мной, то, что услышал, и то, что увидел. Мысли роились в голове, привести их в порядок я так и не смог, поэтому, когда за окном стало светать, принял единственное правильное в этой ситуации решение: нашел початую бутылку самогона, выпил полкружки одним глотком и улегся спать, поскольку в состоянии, в котором я находился, все равно не мог нормально мыслить.
Проспав четыре часа, почувствовал себя бодрым и даже готовым предположить: ночная прогулка в крыйивку — это лишь сон. Конечно, Червоный мне не приснился. Да и повод звонить в район Калязину и без того нашелся: нужно же решить, что мне делать с задержанными, долго ли мариновать их в подвале, потому что из «ястребков» охранники не лучшие. Услышав неожиданное в данной ситуации распоряжение выпустить всех (только пусть сидят дома и за границы Ямок не выходят), не возражал. Тем более что держали их под стражей не за что-то конкретное, а только по подозрению. В конце концов, пусть люди думают, что власть справедливая: пряча бандеровцев в бункерах, люди боятся за свою жизнь и жизнь родных.
Вот тут и нашелся повод упомянуть вчерашнее приключение. Подал это так, словно среди ночи меня подстерегли и предупредили, чтобы убирался отсюда вон, иначе мне не жить. Сделали некое последнее предупреждение, ну и заодно напомнили: люди боятся МГБ больше, чем УПА, потому что эти — свои, а те — чужие. Калязин не то чтобы встревожился, но сурово предупредил: во-первых, нужно держаться осторожнее, а во-вторых, выбраться в ближайшее время в район, написать заявление об угрозе, официально заявить о контакте с врагом и переговорить со следователем МГБ, который ведет дело об убийстве в Ямках…
Такое заявление я действительно составил. Но уже при других обстоятельствах…
Целый день все было спокойно. С выпущенными на волю провел профилактическую беседу, ощущая, как эти люди тихо ненавидят меня, потом целый день занимался какими-то мелкими и необязательными служебными делами, а под вечер, отказавшись есть у Пилипчука и сославшись при этом на усталость, решил попробовать, наконец, отдохнуть — ничто не предвещало беды, прошедший день оказался тихим и не по-октябрьски теплым, волынские села вообще, как я заметил, настраивали на спокойный и размеренный жизненный лад.
А ночью постучали в окно.
На этот раз не осторожно. Орали, совершенно не скрываясь, еще немного — и высадят очередное стекло, где его набраться… Спать, как обычно, лег одетый, только ремни снял, но теперь не до них было: отчаянный стук сопровождался девичьим криком, слов не разобрать. Я схватил с пола автомат — просто так девушки среди ночи участковому не стучат. В темноте не видел часов, но прикинул: где-то за полночь, раньше в этих краях беда не ходит.
Стучать в окно бросили, теперь ломились в двери. Так и оставив ремень на столе, рядом с милицейской фуражкой, я бросился к дверям и распахнул их. В объятия сразу впорхнула девушка. Глаза уже привыкли к темноте, ночь опять выдалась светлой, поэтому я узнал ее: Марийка Ставничая, старшая дочь сельского конюха, недавно шестнадцать исполнилось, слышал: не хочет в Луцк, мама болеет, но должна, потому что есть разнарядка — учиться надо, потом и самой учить, учителей в селах мало.
— Что там такое? — спросил коротко, отстранив девушку свободной рукой.
— Скорее! Там вы нужны, дядька Середа! — Так меня иногда называла местная молодежь. — Очень нужны, бегите быстрей!
Хотел уже спросить — где, но ответ сам пришел: тут же ночь отозвалась выстрелами.
Стрекотали автоматы. Сколько их было — даже не пытался угадать. Достаточно того, что они лупили длинными очередями, потом — короткими, и я быстро догадался: короткие очереди посылают те, кто атакует, длинные — те, кто отстреливается.
Бой, что вспыхнул внезапно, шел где-то совсем рядом. Я, забыв о мотоцикле и отстранив Марийку, подался на звук, но уже через миг бежал не на звук, а увидел точное место, где началась стрельба.
Ночную темень прорезал сноп огня: что-то взорвалось и загорелось, скорее всего — чей-то дом.
— Топорчуки! — послышалось за спиной.
Но я уже и без старшей Ставничей понял: пылает дом почтальона Павла Топорчука, неразговорчивого хромого человека, которого я не представлял без велосипеда, только так — в седле и с черной почтальонской сумкой — постоянно его и видел. Двор был совсем недалеко, стреляли точно оттуда. Поэтому, повернувшись к Марийке, я крикнул:
— Прячься! Там сиди!
Стиснув ППШ в руках, я большими прыжками помчался на выстрелы и огонь, даже не думая о том, кто с кем воюет, сколько их и надолго ли хватит меня самого, когда встряну в мясорубку.
Я пробежал метров двести, когда дорогу заступили две фигуры; я заметил автоматы в руках. Единственный выход — к ближайшему забору, в кусты, и стрелять, сколько продержусь. Однако ночные люди узнали меня. Даже, как я понял позднее, знали, что побегу именно этой дорогой, потому что я услышал и сразу узнал голос Лютого:
— Не стреляй, лейтенант! Это мы! Не трогай железку!
Странно — этот окрик остановил меня. Бандеровцы видели, что я вооружен, однако сами, первые опустили автоматы. Но рассредоточились так, чтобы я даже при желании не мог воевать с обоими.
— Там Остап! — снова крикнул Лютый.
— Где? — Я тяжело дышал, до сих пор не понимая, что происходит. И почему я вообще стою, опустив ППШ, и о чем говорю с этими двумя.
Через какое-то мгновение бандеровцев вокруг стало больше. Появились внезапно, вынырнув из ночи все сразу. В лунном свете я насчитал четверых, хотя сам был уверен — их больше. Эти четверо двигались с противоположной стороны села. До сих пор не могу понять, почему и когда у меня исчезло ощущение опасности. Уже ничего не спрашивая, я двинулся с ними туда, где полыхал огонь и слышались выстрелы.
Через несколько минут перед моими глазами предстала картина: красные языки пламени охватили крышу дома почтальона Топорчука; весь двор по периметру окружили люди в форме, которую я видел на бандеровцах, и время от времени посылали автоматные очереди в сторону дома. Оттуда, изнутри, кто-то яростно отстреливался. Посреди двора, лицом вниз, лежал, раскинув руки, застреленный боец, метра за два от него — еще один труп. Немного поодаль, возле порога, умирал сам почтальон. Прямо возле калитки, вперив мертвые глаза в звездное небо, лежал Славка Ружицкий.
Я не успел прийти в себя, как послышались еще выстрелы — теперь стреляли издалека, кажется, на противоположном конце улицы. У меня никто даже не пытался забрать автомат, поэтому я взял его наперевес. И вдруг услышал совсем рядом:
— В кого стрелять будешь, Михаил?
Это говорил Остап, или же Данила Червоный. Статный, крепкий, сильный, выступил из темноты, под огненные вспышки. И в них его лицо показалось мне напряженным, почти каменным — не лицо, а маска.
Маска неприкрытой злости.
— Они все-таки пришли, лейтенант. — Червоный не сказал — выплюнул короткую фразу.
— Кто?
— Те, кого ты так хотел увидеть. Очень спешили доказать, что бандеровцы — это звери и их нужно бояться.
— Что тут…
— Мои ребята с вечера окружили Ямки. Они нагрянули полчаса назад. Часть разбежалась, часть — вон где. — Червоный кивнул на мертвых. — Один в доме, выкуриваем.
— Хорошо, дети сегодня остались у бабки ночевать, — сказал кто-то рядом.
Повернув голову, я увидел в соседнем дворе двух стариков — свекра и свекруху почтальона и двух детей, которых они прижимали к себе. Рядом стояли несколько вооруженных бойцов, за ними, держась в темноте, — соседи, жители ближайших домов. Никто не кричал, не плакал, не стонал: десятки пар глаз молча смотрели на огонь.
— Топорчучка там, — предупредил один из бойцов. — Прикрывается бабой, сука москальская!
Данила Червоный сбросил фуражку.
Передал ее тому, кто стоял ближе всех к нему, — мне, потом протянул мне же «шмайсер», который я пристроил на плечо, и вытащил из кобуры «вальтер».
А потом, пригибаясь, несколькими прыжками пересек двор и приблизился к дому.
Его никто не останавливал. Единственный раз из окна ударила автоматная очередь, но Червоный словно предчувствовал это — в нужный миг упал на землю, веер пуль прошел мимо, а бандеровцы со всех сторон открыли огонь по окнам, не давая стрелку, который засел в доме, высунуться.
Быстро добежав до дверей, Червоный толкнул их и исчез внутри.
Наступила тишина, нарушаемая одиночными выстрелами, что звучали теперь с разных концов села. Трещала охваченная огнем крыша.
Казалось, что это длилось вечность. А потом вдруг изнутри дома послышался отчаянный женский крик. Раздалось надрывное протяжное «Ма-а-ма-а!», кто-то уже удерживал детей, потом люди закричали все вместе, затем из дома прогремел выстрел, и снова послышался крик — на этот раз мужской.
Через мгновение сквозь пылающие двери выбежала напуганная женщина с растрепанными волосами, заметалась по двору, словно слепая, и двое бойцов бросились к ней, подхватили под руки и стали пытаться потушить на ней тлеющую рубашку. Жену, теперь уже вдову почтальона, чем-то прикрыли, к ней подоспели другие женщины, только теперь пропустили детей, но она криком кричала, как раненная птица. Я замер, не в силах отвести глаз от этого жуткого, невозможного для мирного времени зрелища — человеческого горя и страдания.
За всем этим каким-то незамеченным было появление Червоного.
Сначала изнутри дома вылетел, словно старая тряпичная кукла, высокий худой человек в бандеровском мундире. Правая рука свисала плетью вдоль тела, он придерживал ее левой, пытаясь устоять на ногах, но тщетно — Данила Червоный, спокойно и уверенно, с выражением злости на закопченном лице, шел за ним, словно ангел смерти, сбивая с ног то прикладом автомата, то носком сапога, давая подняться — и снова сбивая.
Люди, сгрудившиеся вокруг, смотрели на эту расправу молча. Я тоже не вмешивался, забыв о своих служебных обязанностях. Хотя в условиях, когда вокруг вооруженные до зубов бойцы, исполнение любых обязанностей невозможно. Мне оставалось вот так стоять, держа в каждой руке по автомату, и следить за стремительным развитием событий: от моего появления тут до спасения заложницы из пылающего дома прошло минут десять.
16
Тут уже не стреляли.
Да и по селу стрельба очень скоро утихла. Червоный прекратил расправу, жестом позвал к себе двух своих, велел поднять пленного, бандеровцы подхватили его под обе руки, не обращая внимания, что враг ранен. Теперь уже я не мог просто так стоять в стороне, поэтому тоже приблизился. На меня никто не взглянул, только Червоный взял свой «шмайсер», повесил его на шею, положил руки на дуло и приклад, спросил громко:
— Кто такой? Чей приказ напасть на село?
Окровавленный пленный мочал, и Червоный перевел взгляд на меня.
— Участковый уполномоченный, лейтенант милиции Середа! — так же громко назвался я. — Отвечай: кто такой, чей приказ исполняешь!
Пленный поднял голову, глянул мне в лицо, попытался сплюнуть — слюна повисла на нижней губе, струйкой стекла ему на грудь.
— Дурак ты, лейтенант, — произнес он по-русски, затем перевел взгляд на Червоного, с ним заговорил по-украински, на западном диалекте: — А вам все равно кранты, курвы немецкие.
Червоный коротко замахнулся ударил, целясь кулаком в центр лица пленного, и попал в цель. От удара тот дернул головой и упал бы, да двое бойцов держали его крепко. Кривясь от боли, пленный сплюнул кровавую слюну, вместе с ней выплюнул и зуб.
Тем временем подтягивались остальные. Бойцы УПА двигались с противоположной стороны села, я не считал всех, но вряд ли их было меньше полутора-двух десятков. В толпе послышались злые крики, и несколько пришедших ввели во двор еще трех пленных. Окровавленные, в разодранных мундирах, он сразу сбились вместе, поглядывая на того, кого пытался допрашивать командир бандеровцев. Их появление отвлекло его, и он спросил, развернувшись всем корпусом:
— Это все?
— Все, кто остался, друг Остап! — крикнул один из бойцов.
— Трупы где?
— Кто где…
— Друг Хорь, как хочешь, а все трупы этих паскуд нужны здесь. Собирайте быстро, тащите на площадь, перед советом. Пусть люди их видят. Эти, — он кивнул на уцелевших, — сами туда пойдут.
— Не убивайте!
Вскрикнув так, один из троицы пленных рванулся вперед, получил прикладом автомата по спине, упал мордой в землю, но не успокоился — ужом пополз к Червоному. Ползти ему не мешали, командир только отступил на несколько шагов назад, чтобы тот не коснулся руками его сапог.
— Да веди же ты себя достойно! — снова откликнулся первый, судя по всему, действительно старший среди нападавших — пока я назвал их для себя именно так.
— Слышал, что сказали? — спросил Червоный и, уже не обращая на того внимания, повернулся к людям. — Кто из них называл себя Остапом?
Жена убитого почтальона, Докия Топорчук, вялым жестом отстранила от себя перепуганных детей, протянула в сторону своего мучителя руку.
— Вот, он!
— Что он сказал? Повторить можешь?
— Назвался командиром УПА Остапом. Говорил — мы тут слишком ретиво служим клятым москалям. Проводят показательную акцию…
— Еще?
— Ничего больше не успел… Вы… ваши появились.
Командир приблизился к своему пленному вплотную, переступив через его распластанного по земле товарища.
— Значит, ты Остап, — неторопливо промолвил он, медленно расстегивая верхние пуговицы мундира. — Посмотрим… У Остапа вот здесь — крест, потому что Остап в Бога верует. А во что веришь ты? — Резким движением он рванул воротник мундира пленного. — Нет на тебе креста, падлюка. Нет у тебя Бога, Ленин со Сталиным твои боги, паскуда красная! — Не услышав ответа, да и, наверное, не слишком его ожидая, он снова отошел на несколько шагов в сторону и стал так, чтоб его видели все собравшиеся. — Я командир отделения Украинской повстанческой армии, меня называют Остапом! Здесь и сейчас мы, отдел особого назначения УПА, сорвали спецоперацию НКВД по истреблению мирного украинского населения и уничтожили свору наемных советских бандитов! Я хочу, чтобы все услышали и передали остальным: нет приказа запугивать людей на оккупированных Советами землях! Мы, борцы за освобождение Украины от большевистской оккупации и террора, во всем опираемся на вашу, люди, помощь и поддержку! Вот и весь митинг, — сказал Червоный, переходя с крика на уже привычный мне ровный уверенный голос, потом скользнул по мне взглядом, перевел его на пленных. — Повторяю: имя, звание, кто приказал.
— Убивай, — ответил тот, кто называл себя Остапом. — Сдохнешь не завтра, так позже. С кем тягаешься, идиот, мы же Гитлера об колено!
— Я скажу, я! — закричал с земли другой пленный. — Это Топорков, Виктор Топорков, капитан МГБ! Он у Ковпака в разведке был! Диверсант!
— Сука! — Топорков снова сплюнул, на этот раз — удачно.
Даже теперь я не до конца верил, что это правда и что все это происходит со мной.
— Встать, — приказал Червоный и, когда предатель поднялся с земли, спросил: — Откуда знаешь? Тоже с ним служил?
— А он ваш! — Несмотря на свое положение, окровавленный Топорков почему-то развеселился. — Ваш, бандеровец! Как он на допросах пел, как клятвы давал, как материл вас всех — чисто курский соловей!
— Это правда? — Червоный теперь не смотрел на Топоркова.
— Не убивайте… Правда… В прошлом году, под Сокалем… Окружили бункер, парни себя постреляли… я не смог… Не смог я! Испугался я, страшно помирать, страшно!
— А вот так жить тебе не страшно? — все тем же ровным голосом спросил командир бандеровцев. — Топорков — старший у вас?
— Он, он старший! Он приказывал, я должен был кровью смыть…
— Ты смывал свою вину перед москалями кровью своих же, украинцев? — переспросил Червоный, и мне показалось — он прямо здесь, на месте, разрядит в пленного автомат, но Данила сдержался и спросил: — Ваше задание?
— Под видом боевки УПА заходить в села… Убивать активистов… Советских работников… Продукты конфисковывать, будто бы для нужд партизан…
— Был такой приказ — убивать своих?
— А какие они мне свои! — пленный вдруг оживился. — Друг Остап…
— Не смей так ко мне обращаться!
— Да, конечно… — Он затарахтел, словно боялся не успеть всего сказать: — Председатели колхозов, милиционеры, агитаторы, комсомольцы, училки — это же наши враги, наши с тобой! Если мне разрешают их уничтожать, если сама советская власть разрешает нам это делать — почему, почему я буду против?! Слушай, Остап, какая разница, с какой стороны уничтожать их, с той или с этой! Разве мы не…
— Врешь!
Это вырвалось у меня, Червоный не вмешивался, а пленный, словно почувствовав во мне заступника, шагнул ко мне.
— Не вру! Правда! Что им люди, тем москалям? Свои, чужие — им все равно! Я за это время, пока с ними тут, всякого насмотрелся! Это энкаведе, мы даже одну такую же точно группу, ну, как наша, летом ликвидировали — то ли засветились они, то ли еще какая напасть… Списали их, вот этими руками списали! — Он выставил перед собой руки.
— Кто дал задание? — снова спросил Червоный, но при этом смотрел на капитана Топоркова.
— Нам приказывал вот он, Топорков! Про него знаю только — до войны во Львове был, нелегально, чекист, мать его так! Ну, а им, наверное, из Луцка руководят… Или из Львова… А то и вообще из Москвы! Из Москвы, ребята, ими всеми Москва управляет!
— Очень содержательный разговор у вас, — вмешался Топорков.
— Ничего, мне хватит. — Червоный взглянул на меня. — А тебе, лейтенант? Или все это, — он обвел рукой дом, крыша которого уже проседала под огнем, двор, трупы, притихших людей, — специально для тебя? Кто ты такой, Середа, чтобы для того, чтоб тебя обдурить, мы все это устраивали?
Командир бандеровцев говорил правду. Вот только эта правда меня ну никак не устраивала. Возможно, даже наверняка, где-то была другая правда, которая не перечеркивала за одну ночь все, о чем я думал, во что верил и ради чего взял оружие в руки. Уже не глядя на Червоного — он как-то перестал для меня существовать, — я подошел к Топоркову почти вплотную.
— Он… он правду сказал?
— Лейтенант, не дури, — капитан снова перешел на русский, в его глазах отражалось зарево. — Это не твоя война. С кем ты сейчас, не понял разве? С ними нельзя иначе, нельзя, слышишь меня?
— А люди? — Я кивнул через плечо. — Эти люди, с ними тоже нельзя иначе?
— Они будут стрелять тебе в спину, лейтенант. Люди должны бояться тех, кого считают своими защитниками, — только так они потянутся к нам. — Теперь Топорков не сплюнул, а судорожно глотнул слюну. — Вот так мы будем воевать за этих людей. Иначе они не потянутся к нам, лейтенант.
Червоный стоял рядом и внимательно слушал. Боковым зрением я заметил: он жестом запретил остальным вмешиваться и даже приближаться к нам, давая, таким образом, возможность мне послушать капитана НКВД, а москалю — выговориться перед смертью: в том, что жить Топоркову осталось ровно столько, сколько времени он говорит со мной, я не сомневался.
— Пускай… Учительница, Лиза Воронова… Ее за что?
— Знала, куда ехала… — Теперь Топорков держался так, будто его не сжимали с двух сторон, как тиски, руки двух бойцов. — Что тебе до нее, лейтенант? Думаешь, вот эти, с трезубцами, действительно их жалеют?
— Она… — У меня перехватило дыхание. — Она была… она была молодой…
— А на фронте, санитарки? Тоже молодые, их тоже убивали! Война, лейтенант!
— Нет войны… Ты же сам только что… Про хребет Гитлера… Ты… Топорков… она была молодой, такой молодой… Она верила, что ее защитят…
— Пусть верит меньше! Никому не верь, лейтенант! Особенно здесь, вот ему. — Кивок в сторону Червоного.
— Она… — Чем дальше, тем труднее мне было подбирать слова. — У нее же не было еще мужчины… Ты это понимаешь?
— А ты что же, не успел?
Все.
Теперь никого и ничего не существовало вокруг. Только я и капитан МГБ Топорков. В которого я выпустил из своего ППШ длинную очередь. Я не спускал пальца с гашетки, пока не разрядил весь диск.
Помню одно: как только я сбросил с плеча автомат и выстрелил, капитана сразу отпустили, он упал на землю и мои пули рвали грудь лежащего.
Почти в тот же момент сбоку ударили еще автоматы: это бандеровцы расстреливали остальных диверсантов, которых удалось захватить живыми. Предателя Червоный движением руки велел не трогать, а когда быструю казнь завершили — протянул ему, перепуганному, свой «парабеллум».
— Когда твои парни погибали, но не сдавались, у тебя не хватило духа, — произнес он. — Теперь можешь исправить эту ошибку. Люди смотрят, ну?
Когда предатель обреченно протянул руку за пистолетом, я вдруг понял: с меня уже хватит. Поэтому отвернулся, замер с пустым автоматом в опущенной руке, прикипел взглядом к пылающему дому, даже не вздрогнул, когда позади меня грохнул выстрел.
Чья-то рука легла мне на плечо. Даже не оглядываясь, понимал — это Червоный подошел сзади. Несмотря на все услышанное и увиденное, у меня не было желания продолжать с ним разговор. Наверное, командир бандеровцев сам почувствовал это, потому что промолвил только:
— Вот и все, Михаил.
— Я убил советского офицера, — глухо сказал я в ответ. — Правда твоя. Вот и все.
— Ты расстрелял убийцу и бандита. Ты выполнил свой долг, участковый.
Это была правда. Искаженная, неправильная, не совсем даже моя — но правда, с которой я должен был жить… или умереть.
Наверное, Червоный ожидал от меня если не действий, то хотя бы каких-то слов. Только я продолжал молчать, и он проговорил:
— Дальше что, друг Михаил? С нами?
Теперь я повернулся к нему.
— Не думаю, Червоный.
— Знаю я, о чем ты, лейтенант, на самом деле думаешь. Мы, повстанцы, вне закона. А кто тогда закон? Капитан Топорков? Сталин, Берия, МГБ, советская власть — это твои законы? Ты согласен с этими законами, Середа? Теперь согласен?
— Я останусь здесь… Остап. — Не знаю почему, но тогда я решил назвать его по псевдониму.
Другого ответа у меня не было. Да и сейчас, когда прошло много лет, все так же себе говорю: иначе не могло быть.
— Смотри. Ты выбрал.
Отступив на два шага назад, Данила Червоный выставил вперед согнутую в локте руку с пистолетом.
И выстрелил в меня.
17
Ну, так: из госпиталя выписался под конец октября. Мог дольше валяться, у Калязина была возможность это устроить, но самому не хотелось отлеживать бока. Да и рана довольно быстро зажила. Хирург, старый львовский еврей, все удивлялся — стреляли с близкого расстояния, а пуля попала в мягкие ткани, не зацепив жизненно важных органов, крови потеряно много, но на самом деле вреда — словно на острый колышек случайно наткнулся. Промахнуться с такого расстояния — это нужно уметь…
Я не стал разочаровывать опытного хирурга. Потому что, придя в себя под утро возле тлеющей хаты, когда перепуганный ночными событиями Пилипчук лил мне на лицо колодезную воду, знал: больше ничего Червоный для меня сделать не мог. После бандеровского нападения участковый милиционер должен был или погибнуть смертью храбрых, или бежать, что наверняка закончится для него плохо, или остаться на поле боя, раненым и окровавленным. Когда врач удивлялся моему неимоверному везению и искренне радовался дурной пуле, меня так и подмывало объяснить: командир УПА не промахнулся, а сделал очень точный и мастерский выстрел — ранил меня так, чтобы причинить минимум вреда, оставив меня всего в крови. Так я стал героем, обо мне написали заметку в милицейской газете, название которой вылетело из головы, и наградили медалью.
Потом я узнал, что именно, по официальной версии, случилось той ночью в Ямках. Это рассказал, словно между прочим, следователь из областного МГБ, который снимал с меня показания и которому я изложил очень короткую историю: услышал крики, стрельбу, выскочил на улицу с автоматом, побежал на пожар, в короткой стычке с нападающими получил ранение. Подтвердив, что на многострадальное село Ямки той ночью действительно напал бандеровский отряд под командованием Данилы Червоного, следователь сообщил: бандиты встретили бешеный и неожиданный для себя отпор со стороны истребительного отряда, тех самых «штырьков», а также части местного населения. Людям, выходит, надоедают так называемые повстанцы… В стычке погиб местный почтальон, командир «ястребков» Слава Ружицкий, нападающие тоже понесли потери.
Как на самом деле убили Ружицкого, где были другие бойцы отряда самообороны, а также откуда у МГБ такие точные сведения, что действовала именно боевка Червоного, не знаю до сих пор. Вообще, для тех времен подобный случай — не из чрезвычайных. И если б я не знал, что произошло на самом деле, может, и поверил бы следователю. Кстати, крестьяне наверняка также знали, что случилось и кто кого от кого спасал: никто из минимум десятка свидетелей моих разговоров и действий той памятной ночью ни словом не обмолвился. Иначе участковый Михаил Середа был бы пособником бандеровцев… сами понимаете.
А пособничество все же нарисовалось. Как же просто все вышло! Это я потом, когда лежал и выздоравливал, сложил у себя в голове. Данила Червоный добился от меня того, чего хотел. Я доложил своему начальнику, полковнику Калязину, о настроениях в Ямках: мол, не потеряли еще люди доверия к УПА и не боятся, даже несмотря на проявления террора. Полковник, также верный служебному долгу, доложил об этом в управление МГБ, вышестоящему начальству. Там немедленно приняли меры — и в Ямки, чтобы лишить людей иллюзий относительно бандеровцев, оперативно направили спецотряд капитана Топоркова. А тот пришел в западню.
Выходит, не только я, но и Калязин неосознанно помогли Червоному ее устроить. Расчет командира оказался точным: от спецотрядов требовали активизации, а тут, выходит, их предшествовавшие действия не имеют должного эффекта. Учитывая то, что я слышал и видел, если не сразу, то на протяжении двух ближайших суток переодетые бойцы МГБ должны были появиться в селе, и Червоному, так или иначе, не пришлось бы долго ждать. Вместо того чтобы гоняться за диверсантами Топоркова, он так легко выманил энкаведистов и ждал их появления именно там, где и рассчитывал.
В Ямки я не вернулся. Как раз наступили холода, УПА сворачивала активность до весны, все силы МГБ бросали на поиск бункеров в лесах. Там мне делать было нечего. Говорили, что Данила Червоный, псевдоним — Остап, ушел из Олыцкого района, а то и вообще — с Волыни. Калязин то ли сам оставил пост исполняющего обязанности начальника милиции, то ли его настоятельно попросили — он собирался уезжать из Украины, потому что нарисовалась где-то ответственная должность. Пытался пристроить и меня, но я не согласился — вот так и вернулся обратно, в Чернигов, где с оперативной работы сам попросился снова в водители, ссылаясь на ранение.
Ничего больше не слышал о Червоном. О том, что случилось ночью, о последних словах капитана Топоркова не забывал никогда, поэтому и не люблю это кино о наших разведчиках, лучше уж «Следствие ведут ЗнаТоКи», там хоть у народа враги другие…
Вот, все, кажется. Думаю, ты без меня знаешь, о чем можно писать в вашей газете… А зачем тебе, молодому, все это, понятия не имею. Раз пришел — сам должен уяснить.
Для себя.
Тетрадь вторая Лев Доброхотов
Украина, Волынь, весна 1948 года
1
Так вас интересует, помню ли я некоего Данилу Червоного…
А как же, очень хорошо его помню. Даже не столько его самого, сколько то время. В конце концов, за операцию по ликвидации банды так называемых повстанцев отряда Червоного, или Остапа, и за захват самого командира я тогда получил не только награду. Кстати, вдумайтесь в скрытый смысл: орден Красной звезды за арест Червоного, так вот… После того как Червоный пошел по этапу, меня перевели сюда, в Киев. Пошел на повышение, как говорится.
Здесь я немного поясню ситуацию, о которой вы, наверное, слышали. Вот вы работаете журналистом, да? Сразу пришли в газету, как я понимаю, после университета. Но ваш карьерный рост типичным назвать нельзя, ведь как оно в вашей системе обычно бывает… Сначала человек пишет внештатно, становится рабоче-крестьянским корреспондентом. Активно сотрудничает сначала с многотиражкой, где ничего не платят. Потом с районной, например, газетой — это уже на ступень выше, да и гонорар начисляют. Десятка[11]— существенная прибавка к зарплате, не правда ли? Затем, если повезет, активного автора оформляют внештатным корреспондентом, а это уже определенный социальный статус. Ну, к примеру, как народный дружинник. Да. Потом внештатника отправляют куда-нибудь учиться, он становится штатным корреспондентом — и это тоже повышение. Но всякий сотрудник районной газеты хочет дорасти до областной. Потом, если есть амбиции, целится на республиканскую. И высший пилотаж — это всесоюзное издание. Сначала — внештатным корреспондентом, например, «Комсомольской правды», дальше — работа в корреспондентском пункте, а там, глядишь, солидный собственный корреспондент. Ну и большой карьерный скачок — Москва, в худшем случае — Ленинград. Только не говорите, что среди ваших знакомых нет таких успешных людей…
Примечание Клима Рогозного: В Советском Союзе спецслужбы непосредственно контролировали журналистику. Некоторые публикации автор согласовывал со специальными сотрудниками, которые сидели в отдельных кабинетах, считались работниками так называемого Главлита, неофициального подразделения госбезопасности. Ведь журналистика принадлежала к важным идеологическим профессиям, поэтому кафедрами на профильных факультетах заведовали люди, имевшие и ученые степени, и высокие звания в КГБ. Руководящие должности в редакциях, особенно в крупных газетах областного и республиканского значения, занимали люди, которые имели непосредственное отношение к спецслужбам, не говоря уже о многочисленных внештатных «секретных сотрудниках» — сексотах. Даже если офицеры КГБ по роду деятельности не имели никакого отношения к журналистской работе, практически каждый из них знал организационную структуру и принципы работы советских средств массовой информации и пропаганды.
Я такой пример не зря привел, вы, наверное, поймете его и перенесете на любую систему, в том числе на нашу. Киев — столица Советской Украины, большой город, определенный статус. Согласен, после Луцка, да еще и тридцать лет назад, — это существенное повышение. Вот только многие из моих коллег считали (да и сейчас считают) Киев таким себе провинциальным городком, чуть больше Луцка, или того же Львова, или там Житомира. По статусу для большей части моих коллег он мало чем отличается от других областных центров, вот и воспринимается как чуть более просторная и удобная стартовая площадка, откуда проще прыгнуть дальше, например в Москву. Вас удивляют мои слова? Напрасно, я в отставке давно, но мое мнение коллеги и так знают: добросовестно надо работать везде, куда бы тебя ни назначили. Ведь и здесь, в Киеве, и там, на Западной Украине, и в Ленинграде, и в Москве мы делаем одно дело и работаем для одной страны. То есть боремся с ее врагами. Да. Ну, а есть коллеги, которые просто, извините за выражение, сачкуют — считают, что здесь, так сказать, в провинции, и стараться не надо, и перспектив особенных нет.
Это я вам так подробно объясняю, чтобы вы поняли: я, когда меня перевели в Киев после успешной операции по ликвидации группы так называемого Остапа, или Червоного, на самом деле ничего большего не хотел. Наоборот, нигде, кроме Киева, я себя не видел тогда и не вижу теперь. Можно сказать, я в некоторой степени даже благодарен Червоному и вообще всем тем так называемым повстанцам — ведь благодаря работе с ними я получил повышение и перебрался, точнее, вернулся в Киев. Это же родной мой город.
Наши корни в Бердичеве, но там у меня родственников уже не осталось. Моему отцу удалось сделать блестящую для царского времени карьеру на государственной службе. Помогла удачная женитьба на дочери влиятельного киевского чиновника, а отец взял фамилию жены, то есть я ношу фамилию своей матери.
Примечание Клима Рогозного: Вероятно, отец Льва Доброхотова был выкрестом, то есть принял христианство, перекрестившись из иудейской веры в православие. Искать сведения о родословной Доброхотова вряд ли нужно, но тот факт, что он взял фамилию жены, подтверждает эту догадку. К тому же влиятельный чиновник не одобрил бы брака дочери с молодым человеком, который ничего не стоит, занимает никчемную должность и не имеет серьезных перспектив. Но, если вспомнить, что в российской империи существовал антисемитизм, такие перспективы появлялись — разумеется, со многими оговорками — только перед теми евреями, которые выкрестились в православие. В то время смена фамилии могла стать для отца Доброхотова очередным шагом к восхождению по карьерной лестнице.
Из-за моего, так сказать, непролетарского происхождения у меня могли быть серьезные проблемы, когда я уже работал в НКВД. С другой стороны, само происхождение заставило меня выбрать этот путь. Когда началась революция, мне едва исполнилось восемь лет, и я хорошо помню, что мои родители ее не приняли, поэтому дети на улице дразнили меня буржуем и кидались камнями. Долго я прятался от всех, а как-то раз не выдержал и дал сдачи. Завязалась драка. Вмешался милицейский патруль, поскольку тогда в Киеве уже закрепилась советская власть, и меня потащили в отделение. Там со мной очень долго говорил усталый человек в кожанке. Он понял отношение моих родителей к власти рабочих и крестьян, велел идти домой, а вскоре меня перевели в один из вновь созданных интернатов. Чему я был очень рад: это, я скажу вам, очень тяжело, когда твои родители не хотят понимать, что вокруг строится совершенно новая страна, совершенно новое общество, что люди тоже будут новыми.
В органах я оказался в начале тридцатых годов. Как раз тогда вливалось новое пополнение и было много работы, так как активизировались враги партии, не согласные с ленинским учением и политикой товарища Сталина, направленной на индустриализацию страны. Именно тогда я, еще молодой чекист, столкнулся с первыми проявлениями этого украинского национализма. Но сейчас мы об этом не будем вспоминать, пойдите, если хотите, в газетные архивы здесь, в Киеве, почитайте, там все написано.
Примечание Клима Рогозного: Очевидно, речь идет о сфабрикованном советской властью и реализованном НКВД процессе над так называемым Союзом освобождения Украины и следующих за ним планомерных преследованиях деятелей украинской науки и культуры, вошедших в историю под названием Расстрелянное Возрождение.
Итак, я свою работу в органах государственной безопасности начал именно с борьбы с украинско-немецкими буржуазными националистами. Затем, конечно, меня перебросили на другой участок. Но успехи в моей работе и там были достаточно высокими, иначе враги не делали бы перед войной попыток скомпрометировать меня перед органами и в глазах партии, напоминая о том самом буржуазном происхождении. Правда, на некоторое время из Киева пришлось уехать… Потом — война и назначение в недавно созданное управление НКВД, взявшее на себя руководство партизанским движением, подпольной и диверсионной работой во вражеском тылу.[12]Вот так с весны сорок третьего года ваш покорный слуга лично вел борьбу с так называемой Украинской повстанческой армией.
Несомненно, руководство считало меня специалистом. К тому же по служебным делам я лично контактировал с Медведевым[13]и, можно сказать, достаточно хорошо ориентировался на Волыни. Поэтому после войны я и оказался на должности начальника Луцкого областного управления НКВД.
Не знаю, что вы там собираетесь писать, какой материал готовите, но, независимо от этого, считаю нужным донести до вас еще кое-какую общую информацию, без которой вы вряд ли поймете, как, почему, что собственно помогло органам государственной безопасности ликвидировать бандеровские группы вообще и группу Червоного в частности именно в тот период, в конце сороковых. Хотя бы потому, что активное вооруженное сопротивление пошло на спад. Пока шла война, сосредоточиться исключительно на ликвидации УПА на только что освобожденных от немцев землях советская власть и НКВД не могли себе позволить. А вот в послевоенное время появилась возможность бросить на Западную Украину больше сил: отдельные специальные отряды, которые частично состояли из бывших партизан и полностью владели тактикой ведения боевых действий в лесах.
Параллельно выкуривали националистическое охвостье из бункеров и крыйивок: обычно УПА сворачивала деятельность с наступлением холодов, чтобы пересидеть зимние месяцы в специально оборудованных укрытиях, а мы времени зря не теряли и бросали немалые силы как раз на обнаружение и обезвреживание этих убежищ. Фактически это означало ликвидацию и, так сказать, личного состава: по каким-то своим неписаным законам бандеровцы, застигнутые нашими бойцами в бункерах, оказывали яростное сопротивление, а когда понимали, что прорваться не удастся, совершали самоубийства. Фанатики какие-то, честное слово…
Примечание Клима Рогозного: Отставной офицер КГБ при этом не упоминает, что советские солдаты и офицеры, сдававшиеся в плен, оказывались вне советских законов военного времени. Согласно личному приказу Сталина, сдаться в плен — это измена родине. А побег из плена в основном означал для беглеца трибунал и либо смертный приговор, либо огромный срок в лагерях ГУЛАГа, что приравнивалось к смерти, только медленной. Советские воины знали об этом. Тем не менее предпочитали все же сдаться, чем застрелиться.
Весной 1948-го, о которой мы с вами говорим, мы думали, что существенно ослабили ОУН-УПА. У нас даже были оперативные данные, что большинство бандитов бежали за пределы страны. Говорили о Польше, Чехословакии, Румынии и Венгрии. Но именно тогда вдруг активизировались летучие подразделения — вроде того, которым командовал Остап. Припоминаю один случай. В начале января это было, знаете, на Рождество приходится по старому календарю… Атаковали бандеровцы взвод внутренних войск где-то неподалеку от Тернополя. Когда же подоспели войска, они залегли в круговую оборону, потом обнаружили слабое место, пошли на прорыв и оставили после себя — чтоб вы понимали — сорок два человека убитых. Их тоже потрепали, только, как оказалось, гораздо меньше. Чего не отнять у бандеровцев — воевать умели, да…
Еще засело в памяти, как за три месяца, от зимы до ранней весны, они провели десять акций по волынским селам: показательно казнили предателей. Для них предатель — тот, кто сотрудничает с властью и выдает нам бандитов и пособников. Что характерно, казни совершались публично: сгоняли все село, зачитывали приговор, и никто даже слова не говорил.
Но все равно: чем дальше, тем чаще антисоветское подполье терпело поражение. Все это, молодой человек, только благодаря укреплению власти в центре и на местах. К примеру, сразу после победы объявили амнистию для осужденных бандеровцев и членов их семей. Потом националистам предложили сложить оружие в обмен на все ту же амнистию, и добровольно сдались сотни людей. Там, где не удавалось уговорить, работала наша агентура.
Наконец, мы всячески ослабляли материальную базу бандеровцев. Ведь одно дело, когда тебе нечем стрелять, и совсем другое — когда боец голодный. Благодаря агентуре мы выявляли оуновских пособников по селам, судили и депортировали их, куда следует. Организация колхозов также не способствовала тому, чтобы у потенциальных приспешников оставались запасы продуктов, которые они могли бы без ощутимого вреда для собственных семей и их благополучия передавать в леса. Поэтому велась мощная агитация против колхозов. Тем не менее наши стратегия и тактика побеждали.
Примечание Клима Рогозного: Отставной офицер КГБ здесь сознательно не говорит, что публичные акции запугивания практиковала и советская власть. К тому же Доброхотов не упоминает о так называемой Большой блокаде: предполагалось полностью отрезать подразделения УПА от сел и хуторов, замкнув их в лесах, чтобы уничтожить голодом, холодом, болезнями и непрерывными боями. По расчетам руководства НКВД-МГБ, были заблокированы, согласно административному делению того времени, десять областей Украины. Государственные границы и границы между областями и даже районами перекрывались. В селах и на хуторах стояли военные гарнизоны. Вводилась строгая контрольно-пропускная система. Если бы украинское подполье было настолько слабым, как об этом говорит Доброхотов, такие усилия власть не прилагала бы.
Вот как все складывалось: сидеть в бункерах и прятаться в лесах с автоматами бандеровцам становилось все труднее. Люди чаще отказывали им и не давали продуктов: ведь обещания свергнуть советскую власть в обмен на хлеб и сало становились все более бессмысленными. Да и власть, против которой оуновцы настраивали народ, открывала школы, больницы, давала рабочие места, снижала цены на продукты и промышленные товары. Иногда еду и теплые вещи приходилось забирать силой, с угрозами, а этого, согласитесь, никто не любит. Что же это за патриоты такие, если они забирают у бедных людей и без того скудные запасы…
В комплексе это подрывало, как вы понимаете, деятельность УПА. А вот Червоный, по оперативным данным, находившимся в моем распоряжении, меньше всего обращал на это внимание. Он оказался таким упрямым! А еще его почему-то любили в тех краях, вспоминали шепотом и с восхищением. Даже у нас на допросах задержанные по подозрению в разного рода антисоветской деятельности не сдерживались, угрожали: «Ничего, Остап до вас еще доберется! Он вам пустит красных петухов!» Именно поэтому его группа и он лично представляли для нас и — скажу без преувеличения — для успешного продвижения советской власти довольно серьезную опасность.
Можете прямо так и писать: Данила Червоный считался на Волыни особо опасным преступником. А после нескольких акций, проведенных его группой и, к сожалению, оказавшихся успешными, найти и обезвредить Червоного стало для меня делом чести.
2
Весной 1948 года боевка Остапа, то есть Червоного, напала на автоколонну, в которой была машина нового начальника Луцкого военного гарнизона.
Обычно бандеровцы не вступали в стычки с регулярными частями, сосредотачивались на подразделениях МВД, и это было понятно: бросить вызов армии — значит ускорить свой и без того близкий конец. Но, как решил я тогда, Червоный хотел пойти ва-банк, именно поэтому вконец обнаглел, так как терять ему особенно было нечего. К тому же нападение на колонну — серьезная акция, которая, как ни крути, получит огласку и наделает шуму. Конечно. И если у бандеровцев получится выпутаться живыми, их реноме в глазах антисоветски настроенного населения подскочит. Следовательно, Червоный еще какое-то время сможет пользоваться расположением людей и продолжать деятельность, опираясь на националистическое антисоветское подполье.
Акция у Червоного получилась удачной не в последнюю очередь из-за эффекта неожиданности. Засаду бандеровцы устроили там, где их никто не ждал, поскольку маршрут автоколонны составлялся тщательно и с учетом таких неприятных сюрпризов. Главную машину сразу забросали гранатами. Пока бойцы приходили в себя и занимали оборону, выискивая врага впереди, по ним ударили с тыла. Как только наши приняли бой, их атаковали с другой стороны, и те, кто чудом уцелел, потом говорили в своих показаниях — схватка началась неожиданно и закончилась молниеносно. Нападавшие расстреливали наших в упор, добивали усердно, даже я бы сказал — прилежно, со всей, как говорится, ответственностью и знанием дела. Самого начальника гарнизона повесили раненого на ближайшем дереве, прицепили на шею табличку, она до сих пор время от времени перед глазами у меня встает — «Смерть оккупантам!». Ну, табличка табличкой, а все это наводило на мысль о разветвленной бандеровской агентуре, которая закрепилась не только в селах, но и в городах, окопалась в государственных учреждениях, даже проникла в нашу систему — иначе как бы Червоный узнал пусть не максимально, но все-таки засекреченную информацию о маршруте следования автоколонны…
Не один я такой умный. Руководство из Киева тогда, помню, всыпало мне по первое число. Им, соответственно, попало из Москвы, ведь начальников военных округов назначают там. Признаюсь, той весной надо мной завис, как говорится, дамоклов меч: или я немедленно активизирую работу по обезвреживанию Данилы Червоного и его вооруженной группы, или меня, несмотря на всю мою компетентность и осведомленность в региональной специфике, зашлют начальником какого-нибудь лагеря в Сибирь.
Говорю вам это сейчас так спокойно, потому что государственной тайны не раскрываю: уголовные элементы вместе с антисоветчиками, согласно советским законам, до сих пор отбывают сроки наказания в местах, так сказать, не столь отдаленных. Охрану этих исправительных учреждений тоже надо кому-то организовывать, но если попадались служивые люди, умевшие это делать, то были и такие, кого на ответственные должности назначали специальными приказами. Разумеется, я вынужден буду подчиниться. Вот только осенью того года я готовился праздновать сорок лет со дня рождения и двадцать лет службы в органах ВЧК — НКВД — МГБ. Очень не хотелось делать это в условиях Крайнего Севера и вечной мерзлоты. Конечно, партии виднее, куда меня посылать, вот только назад, к нормальной работе, вернуться, как показывала практика, довольно сложно.
Единственный выход из сложившейся ситуации — как можно скорее взять Червоного. И тут мне на руку играли не только описанные выше обстоятельства, усложнявшие бандеровское движение, а сама возможность провести успешную операцию, которую эти обстоятельства создавали. Ведь все складывалось так, что я смог организовать и удачно провести единственную оперативную комбинацию, возможную в тех условиях. А речь, молодой человек, не о каких-то там сложных расчетах или битве интеллектов, как в шпионских романах и фильмах.
Если бы мне пришлось гонять Червоного по лесам, имея в распоряжении большое военное подразделение, готов признаться — облава затянулась бы надолго. Шансы поймать летучую бандеровскую боевку оставались ничтожными: пока что за Остапа бо́льшая часть местного населения, а еще у него были проторенные дорожки для ухода за границу — в случае чего. Единственный вариант военного решения проблемы — бомбить леса с воздуха на протяжении нескольких суток. И не надо так улыбаться. Однако истребить эту заразу с воздуха, ковровой бомбардировкой, мне никто бы не позволил. Слишком жирно для пресечения деятельности одного бандеровского командира и его отряда.
Нет, в самом деле все удалось провернуть намного проще. Нужно было всего лишь «шерше ля фам», как говорят французы. То есть найти женщину. В прямом смысле — любовницу Червоного.
Именно из-за такой вот банальной любовной истории нам и удалось подобраться к неуловимому командиру.
А что вы удивляетесь? Здесь ничего удивительного нет. Ожидали, что расскажу о военной операции, засадах, погонях, схватках? Действительно, читателей как раз такое и интересует. В кино нашем тоже любят подобные зрелища. И правда, кому интересно смотреть почти два часа на главного героя, который сидит за столом, даже не чертит каких-нибудь схем, как Штирлиц. Видели, наверное, этот фильм. Так вот. Никому не интересно такое зрелище. Нужно так, как в иностранных картинах — видел я несколько на закрытых показах. Нам устраивают показы, специально. Советские люди такую пропагандистскую кровавую гадость смотреть не должны, но это продукт идеологических диверсий нашего потенциального врага. Значит, наша служба, занимающаяся охраной государственной безопасности, должна изучать такое, как говорится, оружие. Во-первых, правильно говорят, что врага надо знать в лицо. Во-вторых, если у них это успешно работает против нас, то мы возьмем определенные приемы борьбы на вооружение, дадим рекомендации и применим у нас против них.
Ну, это я вас немного путаю, так как не о том хотел сказать: американские или французские фильмы о всяких там шпионах без погонь, драк и стрельбы не обходятся. Тогда как в реальной работе и у нас, и у них применение оружия — крайний случай. Вы, наверное, об этом слышали. Если говорить об истории с Червоным, то поверьте мне — борьбы, боевых действий, вооруженных конфликтов после войны хватало не только на Волыни и вообще на Западной Украине. А стреляли в нас не только бандеровцы или эти, слышали наверное, «лесные братья» — националисты из Прибалтики. Обычные бандиты тоже были вооружены до зубов. Хотя в сорок восьмом больше половины бандгруппировок послевоенного разлива переловили и отправили назад за колючую проволоку… тоже еще проблема…
Так вот, огнестрельного оружия на руках гуляло дай бог. Но если обычных бандитов соответствующие милицейские подразделения могли придушить сами, без специального вмешательства войск МГБ, то с такими, как Данила Червоный, было сложнее. В отличие от уголовников, у бандеровцев был боевой опыт, и опыт не просто ведения войны, а прежде всего ведения партизанской войны. Из-за этого обычные военные операции против них не всегда оказывались эффективными.
Примечание Клима Рогозного: Отставной офицер КГБ опять лукавит и не называет вещи своими именами. Операции, которые он деликатно и обтекаемо называет военными, на самом деле были карательными. После русско-чеченской войны подобные операции называются «зачистками». Военные подразделения НКВД устраивали облавы в селах по минимальной информации о том, что кто-то из местных поддерживает связь с УПА. Людей брали в заложники, иногда за решеткой оказывалась треть населения, включая женщин и детей. Облавы проводили и в лесах, и не всегда ради реализации реальной оперативной информации. Борьба с бандеровцами кое-где имела показательный, точнее — показушный характер, чтобы МГБ и МВД на местах могли подтвердить собственную дееспособность.
Но там, где не всегда можно взять силой, найдутся другие, причем гораздо более простые методы. Один из них — ждать, пока преступная группа самоуничтожится из-за внутренних противоречий. Кстати, в ОУН такие противоречия уже возникали, это было видно из аналитических справок, составленных на основе агентурных отчетов и доведенных до сведения руководителей всех подразделений МВД и МГБ. Хотя именно Червоный зависел от подобных противоречий меньше всего. У нас была проверенная информация: он сам и его мобильная группа на тот момент никому из руководства ОУН не подчинялись, сами определяли для себя стратегические задачи, направления ударов, короче — боролись с советской властью автономно, так сказать, на свой страх и риск. Без централизованного обеспечения финансами, продовольствием, оружием.
Вот это я называю фанатизмом.
Объяснить не могу, да и вам искать объяснения не советую — мозг себе высушите. Этому и правда нет объяснения с точки зрения здравого смысла. А учитывая обстоятельства, о которых я говорил вам немного раньше, Червоного и его группу можно было и не ловить. Достаточно было усиливать агитационную работу в городах, а особенно в селах, вести соответствующую разъяснительную работу.
Опыт показывал: бандеровские отряды в своих бункерах в определенный момент нуждались в элементарном продовольственном обеспечении. Поэтому все чаще встречались случаи, когда отдельные группы выходили, складывали оружие и получали за это официально объявленное смягчение в суде. Позже кое-кто даже имел возможность выйти по амнистии, естественно, без права возвращения домой. В Сибири рабочих рук всегда не хватает.
Тем не менее казалось, что Остап, то есть Данила Червоный, будет держаться до последнего. Вследствие того что его группа полностью разделяла настроение своего командира, их действия были такими дерзкими. Значит, ждать, пока Червоному надоест воевать и он выведет своих людей сдаваться или уйдет за границу, — пустое дело. Тем более что именно у него было больше всего сторонников среди местных — понятно, он активный, не сдается, еще и огрызается на власть. А недовольные властью были и тогда, и сейчас их хватает. И вы, как журналист, должны это понимать.
Поэтому оставалось дальше разрабатывать агентурную сеть, регулярно забрасывать снасти и, набравшись терпения, ждать, пока что-то поймается. Ведь брать Червоного и таких, как он, можно только на личном. Находя его близкие контакты и разрабатывая их.
Теперь немного отойдем от темы. Напрасно вы удивляетесь: на личном, в частности на женщинах, главным образом любовницах, срезались и палились десятки, если не сотни таких вот героев. Видите, сколько вон там у меня книг стоит? Быть грамотным для того, чтобы работать в системе охраны государственной безопасности, очень важно.
Не сочтите хвастовством, но некоторыми фактами из истории я оперировать могу.
Вспомните хотя бы французскую дворянку Шарлотту Корде. Это ведь она, а не политические оппоненты, заколола ножом в ванной лидера революционеров — якобинца[14]Марата. Пришла под предлогом, что принесла ему список заговорщиков, а потом зарезала. Чем существенно подкосила якобинцев. Какая же партия без лидера… Ладно, не нравится этот пример, милости прошу другой, близкий украинцам. Народный герой Олекса Довбуш как погиб, знаете? Шел к любовнице в одно село, Космач, кажется, называется. А ее муж застрелил Довбуша на пороге своего дома. И это, если вы хоть немного знаете историю, после того как Довбуша и его побратимов-опришков безуспешно ловила небольшая армия. Сколько еще таких случаев знает история… Еще больше — любой судебный архив.
Если вам интересно, при случае скажите, похлопочу, позвоню кому-нибудь, чтобы вам дали возможность почитать эти тома. Бандиты палились на любовницах — здесь Америки я вам не открою. Об Америке, кстати: слышали о таком их легендарном гангстере — Джоне Диллинджере? Ну, об Аль Капоне наверняка слышали, тот был такой же. За этим Диллинджером, значит, больше сорока лет тому назад гонялась полиция нескольких штатов, он бежал из тюрьмы несколько раз, а сдала его — кто? Правильно, подружка! Чтобы более понятный пример привести — фильм вот недавно по телевизору показывали, многосерийный, про разбойника Дату Туташхиа,[15]видели? Там, между прочим, очень подробно и правильно, как я считаю, показали работу царской жандармерии. Вы книжечку почитайте, я после фильма сам заинтересовался, мне раздобыли. Я даже рекомендовал бы коллегам читать ее внимательно, с карандашиком — в кино много чего пропустили об организации работы царской охранки, а там, пускай они были, как говорится, сатрапами, но немало делали мудрого и грамотного. Следовало бы взять на вооружение.
Ага, так вот царские спецслужбы ловили этого разбойника, Туташхиа. Поймать не могли и тогда разработали беспроигрышную оперативную комбинацию: вычислили любовницу, от которой у разбойника был сын-подросток, поработали с парнем, настроили против отца, потом подсунули пистолет — и все, дальше оставалось только ждать. Видите, жандармы в той выдуманной истории даже сами не стреляли, за них это сделал соответствующим образом настроенный, считайте, пацан. Использовали его, так сказать, втемную, зато эффективно.
Да. Кажется, я вам уже всю прелюдию к своей истории не только объяснил, а даже разжевал. Правда, есть просьба: как будете писать — имейте эту информацию в виду. Она не секретная, не закрытая… Просто это мы с вами вот так, между собой, можно сказать — по-дружески, за чайком говорим. Широким массам это неинтересно, а для вас просто информация. Чтобы вы окончательно поняли: вот так, на личном, даже такие, с позволения сказать, воины, как Данила Червоный, довольно легко ловятся.
Достаточно. Лучше перейдем к конкретике, вы же ради этого пришли. Время у меня есть, это единственное, что у пенсионера осталось. Тем более что сама история долго длилась, но, если ее пересказывать, получится короткой.
3
Началось все, как в подобных крупных операциях бывает, с мизерного, незначительного дела, которое даже по нашему ведомству не проходило.
Написал какой-то житель Луцка в редакцию газеты «Вільний шлях» жалобу. Мол, приехал к нему фронтовой друг, пошли они в столовую перекусить с дороги, а там грязь, свинство и хамство. Буфетчица разливает вино стаканом, который даже не споласкивает. Это у нее мерка такая — на глаз. Явно же недоливает на выходе, ворует, сукина дочь: так и написано — я не поленился, сам эту жалобу прочитал вместе с другими документами. Посуду тоже плохо моют. Когда делаешь замечание — грубят. Неужели ради такого отношения к себе люди на фронте били фашистов?
Даже не в жалобе суть. Фронтовики не поленились, собрали с десяток подписей, а это уже не индивидуальное дело, а коллективная петиция. Хочешь не хочешь, надо реагировать. Посылают в столовую корреспондента, тот пишет заметку: жалоба граждан проверена, нарушения имеют место; к тому же вещи работников сложены возле продуктов питания, что является грубым нарушением санитарных норм, а рядом с посудой, где готовится пища для людей, варят свиньям.
После такого сигнала следующим этапом должна быть реакция соответствующих органов. В нашей стране подобные вещи четко продуманы и хорошо работают, чем наша система мне и нравится: никто не уйдет от ответственности, именно из таких ниточек сматывается большой клубок. Стоило копнуть глубже по той столовой — и все, всплывают на поверхность факты нарушений, злоупотреблений, хищений. Вы поймите, что даже теперь, когда войны, слава богу, нет сколько лет, в стране стабильность, имеют место факты хищений в системе общественного питания. Сколько продуктов списывается через обычные столовые, если заведующий — изрядный жук, вы, даже работая в прессе, не можете себе представить. Ну а в послевоенное время, когда большинство продуктов по карточкам, талонам, — это же какое искушение для разного рода ловкачей завязать прямые и тесные контакты с черным рынком!
Кстати: чтобы персонал столовой вел себя прилично, относился к людям приветливо и держал заведение в чистоте, за жабры этого заведующего, Сидора Волощука, взяли бы не так скоро, должен признать. Но разоблаченный и задержанный Волощук перепугался до смерти, отнекивался в кабинете следователя прокуратуры всего часа два, для порядка, в стиле: «Ничего не делал, ничего не знаю, не виноват!» Потом, когда ему подробно и наглядно объяснили, что за такие художества светит по уголовному кодексу, Волощук вдруг спросил: что ему, мол, будет, если он поможет органам найти и обезвредить особо опасного преступника? Сразу не сказал, о ком речь. Торговался, зараза, цену себе набивал.
В конце концов следователь позвонил нам в управление, от нас пришел человек, и вскоре мне докладывают: если задержанный за хищения директор столовой Волощук не врет, то есть реальный шанс взять Данилу Червоного.
Такими обещаниями не разбрасываются. Я тогда сразу сообразил — этот Волощук хоть мошенник и сукин сын, но точно не дурак. Должен прекрасно понимать, что будет, если в НКВД его поймают на вранье. Но откуда у какого-то там директора столовой, вполне лояльного к советской власти — списание продуктов на усушку-утруску я не считаю, это не мешало ему быть партийным, — информация не только о Червоном, но и о том, где и как его можно взять? Ларчик просто открывался: у меня в кабинете перепуганный Волощук сказал, что Червоный поддерживает связь с его дочерью Ульяной. Причем связь ту самую, интимную.
Прозвучало это так: «Остап к моей Ульке ходит, надоело уже… Может, хоть вы, товарищи, что-то с этим сделаете».
Слово за слово, выяснилось следующее.
Ульяна Волощук, или, как ее называют коллеги, Волощучка, работает в отделе народного образования. Закончила институт в Тернополе, вступила там в комсомол, проявила себя активисткой. Поэтому, когда вернулась в родной Луцк, ее сразу пригласили работать лектором. На своей должности девушка, которой только что стукнуло двадцать два, развила бурную деятельность. Сначала по району с лекциями и агитационными бригадами ездила. Затем наладила работу в пределах области. На месте практически не сидела, инициативы — фонтан. Разъясняла на местах, а особенно в селах политику партии и правительства, говорила о колхозах, о выборах, об образовании… Ну и вообще — обо всем на свете.
Но когда я услышал о возможной связи Ульяны Волощук с Червоным, даже еще не до конца веря в это, сложил-таки два и два. И с высоты собственного опыта работы на Западной Украине сразу понял: ширма все это. Комсомол, активность, агитация… Идеальное прикрытие для бандеровской связной! Особенно в обрисованной мною ситуации. Националисты постепенно прекращали открытую борьбу, уходили в глубокое подполье, всячески конспирируясь, в том числе внедряясь в органы советской власти. Вот откуда, между прочим, произошла утечка информации о маршруте нового начальника гарнизона, переданной боевке Червоного. Вряд ли Ульяна Волощук была причастна к этому эпизоду, но раз в отделе образования работает бандеровская связная с комсомольским билетом, нет гарантии, что таких скрытых врагов — даже с партийными билетами! — нет где угодно.
А Волощук и дальше убеждал: его дочь не только связная, но и любовница Данилы Червоного. Дело в том, что живут они вместе, в одном доме. И Волощук не раз слышал, как среди ночи к Ульяне кто-то приходил. Когда пытался разобраться, дочь сначала отмахивалась — не твое, мол, дело, — а потом даже пригрозила: не лезь, куда не просят, а то тебя за измену своему народу повесят, приспешник москальский, коммуняка засранный. Так и сказала.
Я из того допроса многое запомнил.
4
Однако это еще ничего не доказывало. Мало ли кто приходит к девушке среди ночи… Но, оказывается, зимой с Волощуком сам Червоный говорил, собственной персоной.
Привела его и еще двоих сама Ульяна. Просто завела ночью в комнату, где отец спал, и поставила перед фактом: искупай грехи перед своим народом, коммуняка, а то не посмотрю, что родная кровь… Как получалось из его слов, сам Червоный поставил директора столовой в такие условия, чтобы тот мухлевал с продуктами, выжуливал определенное количество провизии, готовил ее для переправки в лес на нужды бандеровцев. Словесный портрет и фотография самого Червоного в нашем распоряжении, конечно же, были. Но, опять-таки, почему я должен принимать на веру показания перепуганного мошенника? Он же на бойцов УПА готов списать все свои грехи. Встречались такие случаи.
Но окончательно я поверил Волощуку, когда он назвал псевдо одного из тех, кто вместе с Червоным приходил, — Лютый. Его мы тоже давно разрабатывали, случайно такие сведения не совпадают; получается, у нас действительно появилась возможность выйти на Червоного, и как раз самым верным способом — через интимные, сердечные дела. Теперь главное — правильно эту информацию реализовать, провести комбинацию аккуратно, чтобы сама Ульяна ничего не заподозрила. Операцию я взял под личный контроль. Признаюсь: отодвинул другие дела, важнее ликвидации Червоного на тот момент для меня ничего не было.
Самое первое, что приказал сделать, — немедленно освободить Волощука. Задержали его еще утром, спокойно, без шума. Объяснялось все просто: волна после той газетной заметки. Ну, вызвали человека еще и в прокуратуру, ну, продержали там… С кем, как говорится, не бывает. Да. Все, кто хоть как-то были к истории причастны, получили строгий приказ держать рот на замке. Наших сотрудников дополнительно предупреждать не надо, а вот следователю прокуратуры, которому Волощук признался, на всякий случай по нашей рекомендации выписали служебную командировку во Львов — при желании всегда можно загрузить человека работой.
Самого Сидора Волощука отпустили аккурат под конец рабочего дня, благо, Ульяны не было дома, где-то проводила очередные агитационно-просветительские мероприятия, хотя, понимаете теперь, какова им была цена… На следующий день «Вільний шлях», по нашей, естественно, рекомендации, публикует короткое сообщение: по факту такому-то, опубликованному тогда-то, проведена проверка; нарушения подтвердились, виновные получили строгое наказание. Все, достаточно, в те времена подробностей в газетах не печатали. Все без газет знали: раз кто-то наказан — значит, строго. Но раз не в тюрьме, власть и партия дали шанс осознать ошибки и исправиться. Здесь, получается, прикрылись.
Дальше надо было подвести к Ульяне Волощук нашего человека. Это сложнее, особенно если учесть ее предельную осторожность. Взяли под наблюдение, аккуратно собрали предварительную информацию. Со всеми ровна, приветлива, однако близко к себе никого не подпускает, отношения поддерживает сугубо деловые, рабочие, иногда приятельские, товарищеские. Вот только никак не удавалось вычислить, кто же на самом деле ее друг, через кого действовать.
На меня давили время и начальство из Киева: мог не докладывать раньше времени, знал, чем все может кончиться. Но намного хуже, если не спешить докладывать. Червоный давно у всех в печенках сидел, со всех уровней дергали: когда, товарищ Доброхотов, вы покончите с этими националистически-фашистскими недобитками… Само собой, постоянно рапортуешь: работа, мол, ведется. Но лучше все-таки доложить о реальных результатах. Хоть и станут подгонять, зато точно знать будут: Доброхотов на своем месте, занимается тем, чем должен, компетентен и так далее.
Через несколько дней я решил активизироваться. Как раз нарисовалась возможность подтолкнуть к Ульяне одного нашего человечка. Вот только в той ситуации стоило учесть: эта Ульяна Волощук — человек, без сомнения, опытный и осторожный. Вследствие чего и выходить на нее надо, реализуя многоходовую комбинацию. Поэтому наш парень, назовем его Захар, планировался только для дезинформации.
Примечание Клима Рогозного: Ниже Лев Наумович многое будет опускать и недоговаривать, как того требует статус. На самом деле и сегодня сотрудники и милиции, и спецслужб, хоть на пенсии они, хоть работающие, в рассказах о разных оперативных комбинациях обходятся общими, неконкретными фразами. В частности, обтекаемыми словосочетаниями типа «по оперативным данным», «реализуя оперативную информацию» и тому подобное. Но на самом деле в таких случаях стоит учитывать: во все времена, даже сейчас, а тогда — и подавно, в любом советском учреждении, особенно занимавшемся идеологической и просветительской деятельностью, и уж наверняка — там, где существовала комсомольская или партийная организация, непременно работало несколько сотрудников службы государственной безопасности. Назови ее хоть НКВД, хоть ГПУ, хоть КГБ — суть от этого не изменится. Порой эти сексоты даже не знали о существовании друг друга, строча друг на друга доносы. Подводить к связной Ульяне случайных людей Доброхотов не рискнул. Ввиду этого дальше наверняка идет речь о стукачах из системы народного образования, которых до определенного момента просто придерживали.
Выполняя задание, Захар вел в присутствии Ульяны разговоры сомнительного характера. Не явно, без откровенной провокации, а доверительно, неофициально. К примеру, сомневался в отдельных пунктах программных установок ЦК КПСС. Вспоминал о так называемом голоде в прошлом году на Востоке, якобы организованном умышленно. Обсуждал недостатки местного партийного руководства. Словом, делал все, чтобы вызвать Ульяну на откровенность. Через некоторое время получаю от Захара информацию: вроде как Волощучка заинтересованно смотрит в его сторону, даже несколько раз осторожно поддакнула — разумеется, когда рядом не было посторонних.
Действительно ли она клюнула, или наоборот — сама начала какую-то контригру, чтобы проверить Захара на вшивость, до сих пор не знаю. Да и не было это так уж важно в моей операции. Поскольку конечная цель этой комбинации — выставить провокатором самого Захара. То есть разоблачить его.
Выполняя надлежащие инструкции, Захар как-то проводил домой некую Любу Соцкую. По нашим данным — не то чтобы близкую, но все-таки довольно хорошую приятельницу Ульяны Волощук. Проводил так раз, второй, третий. В то же время в контакт с Волощучкой вступает еще один наш парень, назовем его Богданом. Он действует оперативнее: осторожно обращает внимание Ульяны на Захара и намекает: он, наверное, провокатор, так что учти, девушка… Та сразу в штыки: мол, ей нет до этого дела, она вообще не слушает, кто что вокруг говорит, держит между собой и Богданом дистанцию.
Вот здесь начинается следующий этап: арестовывают Любу Соцкую. Якобы за национализм. Хотя сразу предупреждаю: советские органы никогда невинных людей не арестовывали, это задержание составляло часть разработанной мною оперативной комбинации. А Богдан переждал день-два, пока шок от ареста пройдет, и опять вроде между прочим подкатывает к Ульяне и напоминает: общалась она с Захаром, какие разговоры вела — непонятно, на какие откровения тот ее спровоцировал — неизвестно, но ситуация прозрачная, я, мол, предупреждал, что провокатор этот Захар… Ну а мы тем временем Захара осторожно из операции вывели. Свое дело он сделал, дал основания Богдану себя разоблачить и исчез внезапно.
Примечание Клима Рогозного: Разумеется, Доброхотов не сказал, что такие, как упомянутый им Захар, использовались одноразово. В описанной ситуации НКВД, по-видимому, ликвидировал агента собственными силами. К тому же акцию можно сделать публичной и списать вину на бандеровцев, которые сводят счеты с вражескими приспешниками. Вероятно, так и было. Но вполне возможно другое развитие событий: Захара ликвидировали бандеровцы по приказу Червоного. А Доброхотов не мешал, ведь сам списал агента в утиль. И именно эта акция давала ему дополнительное подтверждение связи Ульяны Волощук с бойцами УПА, так как девушка, видимо, передала информацию о провокаторе от другого его агента, Богдана, по каналам подполья. Так или иначе, упомянутый Доброхотовым сексот Захар и ему подобные исполняли в оперативных игрищах МВД и МГБ роль этакого пушечного мяса. Или пешек, которыми жертвуют в шахматной партии, чтобы ввести в игру более значимые фигуры.
После этого доверие Ульяны к Богдану окрепло. Не так быстро, как мне хотелось бы, но контакт налаживался достаточно прочный. Богдан не торопил события, работал аккуратно. Ну а сама Ульяна, видно, решила сначала как следует проверить своего нового приятеля, а уж потом привлекать его к подпольным делам.
Существовала в то время в руководстве ОУН негласная установка: вербовать как можно больше недовольных советской властью украинцев, особенно молодых, поскольку надежда местных на УПА как на иллюзорных защитников чем дальше, тем больше утрачивалась. Кто знает, возможно, таким образом готовились к вооруженному восстанию. Много версий выдвигалось тогда… Важно, что Ульяна Волощук теперь доверяла Богдану, и я уже разрабатывал очередной этап комбинации, который должен был приблизить меня к Червоному и вывести на него.
Вот только все мои хитрые планы в один момент разрушил молоденький службист, милицейский лейтенантик. Тоже героем захотел стать, зараза, тоже с подпольем боролся. Разумеется, лейтенантик этот, Воробьев его фамилия, в круг посвященных в нашу операцию не входил. Это была операция МГБ, милиция здесь даже рядом не стояла. Поэтому ничего не знал, постарался сам — арестовал Ульяну Волощук на рабочем месте.
Никакой частью моего плана это не предусматривалось. Позже Воробьев объяснял, моргая глазками: кто-то ему доложил, что Ульяна ведет антисоветские разговоры, вот он и поспешил выслужиться — бандеровку, видишь ли, поймал. Всю операцию поставил под угрозу срыва.
5
Нужно было принимать меры, и немедленно.
Чтоб вы понимали: решение я должен был найти в течение двух часов, не больше. Поскольку время работало не на нас. Смотрите сами: Ульяна Волощук задержана по подозрению в антисоветской деятельности. Кто-кто, а все эти бандеровские пособники хорошо знали, как работает наша система: долго в камере перед первым допросом не держат, немедленно берут в оборот. Но в том-то и штука, что держать ее под арестом для нашей операции невыгодно! Эта Ульяна должна была вывести нас на своего любовника Червоного. А значит, в ее повседневной, в прямом смысле двойной жизни ничего не должно измениться к худшему.
Хорошо, представим себе на минуту: девушку, задержанную МВД на глазах у массы народа, уже до конца дня выпускают на волю. Мол, извините, разобрались, живите дальше, как жили. Но никто, даже сама Ульяна, не поверит в такое счастливое и быстрое разрешение ситуации. Слишком серьезное обвинение, да и органы наши, сами понимаете, никогда не ошибаются. Конечно, во всех системах случаются досадные ошибки. Вот только в системе государственной безопасности такие ошибки за несколько часов не исправляются.
Во-первых, быстрое освобождение покажется подозрительным. Связная Волощук станет слишком бдительной, предельно осторожной, может на некоторое время прекратить контакты с бандеровцами, даже если и будет очень скучать по своему любимому. А нам придется тоже взять паузу и начинать операцию с самого начала, причем вводить в действие новый план. А время будет идти, активность группы Червоного не снизится, и кто знает, сколько советских офицеров и коммунистов еще поляжет от бандеровских пуль…
Во-вторых, если уж выпускать Ульяну, то ее освобождение должно стать не счастливой случайностью, а результатом тщательной работы. Значит, обвинения надо выдвинуть такие, чтобы через некоторое время снять их. Вот только оставалось мало времени для подготовки этой комбинации и полноценной ее реализации. То есть обвинения следует выдвигать серьезные, достаточные для того, чтобы подержать Волощук — между прочим, комсомольскую активистку — за решеткой некоторое время, но не конкретные. Те, которые можно довольно быстро снять, чтобы Ульяна сама поняла: здесь не случайность и не наш умысел, а ей в самом деле повезло, более того — ее действительно ни в чем не подозревают, все это стечение обстоятельств.
Наконец, пункт третий: даже при таком, удачном для нее развитии событий Ульяна Волощук какое-то время не будет связываться с Червоным. Значит, нужно повернуть все так, чтобы выход на связь стал для нее крайне необходимым, а иначе ее любимому угрожает смертельная опасность. Это возможно только в одном случае: если бандеровская связная в тюремной камере совершенно случайно услышит важную для своих сообщников информацию. Вот такую цель я поставил перед своими подчиненными, вот такую многоходовую комбинацию мы все должны были воплотить в жизнь.
Лейтенант Воробьев чертей от меня получил, конечно. От своего начальства — тоже. Вот как наказывается глупая инициатива. Однако именно на него, Воробьева, делал я первоначальную ставку. Ведь он заварил кашу — арестовал Ульяну, он, по логике вещей, должен был проводить хотя бы первые допросы. В том, что перепуганный Воробьев точно выполнит все инструкции, я после разгона, устроенного ему в моем кабинете, даже не сомневался. Лейтенант получил четкое указание: вести дело так, как будто он разрабатывает информацию, полученную от нашего же агента Захара. Раз Ульяна Волощук уже уверена, что он наш сотрудник, пускай эта легенда служит операции на полную катушку.
Поэтому во время первого допроса, проведенного лейтенантом Воробьевым уже через полтора часа после задержания Волощучки, сделали очную ставку между ней и задержанной ранее Любой Соцкой. Таким образом, складывалась легенда: Соцкую арестовали за дело, а Ульяну задержали как ее близкую подругу. То есть отрабатывается круг знакомых. В придачу Волощук даже предъявили письменные показания Захара, в которых она упоминается.
Примечание Клима Рогозного: Судя по тому, как уверенно делал эти записи Григорий Титаренко, его собеседник, Лев Наумович Доброхотов ближе к концу беседы тоже говорил уверенно, даже с гордостью за себя и свою удачную операцию. Но, придерживаясь неписаного правила сотрудника органов госбезопасности и замалчивая факты, которых случайный знакомый, тем более журналист, знать не должен, Доброхотов уже меньше следил за деталями своего рассказа, не казавшимися ему важными. Однако современникам, тем более занимающимся этой тематикой, стоит только внимательнее вслушаться в его слова или вчитаться в текст, чтобы понять правомерность некоторых предположений. В частности, предположение, что агента Захара не просто вывели из операции, а ликвидировали. Свидетельство тому: показания Захара на бумаге, а не очная ставка между ним и Ульяной Волощук. Никто же не мог предвидеть, что понадобится физическое присутствие этого агента. Его в спешке списали в утиль, а донос от него на Ульяну сфабриковали — вряд ли девушка знала почерк провокатора, чтобы различить фальшивку.
Потом, для большей достоверности, задержанной устроили очную ставку с другим нашим сотрудником, Ульяниным хорошим знакомым Богданом. Собственно, его легенда в этой ситуации нам тоже выгодна: именно Богдан предупредил Ульяну о провокаторе Захаре, именно с Богданом у девушки сложились доверительные отношения, именно он работал под парня с буржуазно-националистическими убеждениями, и Волощук, видимо, планировала приобщить его к оуновскому подполью. Но все эти очные ставки в кабинетах — только непрямые доказательства, которые, по моим подсчетам, должны были убедить Ульяну: ее задержали по подозрению, прямых улик нет. Таким, как Люба Соцкая и Богдан, уже не помочь, должна решить для себя она. Но вина самой Волощук — только в знакомстве с этими двумя, и не более. Значит, можно продержаться.
Примечание Клима Рогозного: Отставной чекист опять не договаривает: просто так Ульяна Волощук на провокацию, даже такую тонкую и мастерскую, вряд ли быстро поддалась бы. Те, с кем ей делали очные ставки, должны были соответствующе выглядеть. Вряд ли кому-нибудь нужно объяснять, как в кабинетах и подвалах НКВД работали с арестованными «врагами народа». Наверняка Любу Соцкую, пока она сидела в тюрьме, били, пытали и, вероятно, насиловали. Подобным образом с молодыми женщинами обращались как в НКВД, так и в гестапо во времена немецкой оккупации. Не брезговали сексуальным насилием над арестованными девушками и женщинами и полицаи — уголовные преступники, работавшие во вспомогательной полиции. А что касается провокаторов вроде Богдана, с ними тоже не церемонились. В основном все происходило так: их вызывали в кабинет, там неожиданно, без всяких объяснений, жестоко били, экзекуцию быстро прекращал «вовремя» подоспевший офицер, куратор провокатора, даже извинялся. Но затем побитых до крови агентов просто и безопасно использовали в тюрьмах как подсадных — внешне они мало чем отличались от измученных сокамерников. Саму Ульяну Волощук вряд ли били, наверное, себе она это объясняла так: пока что, сводя ее с другими арестованными товарищами, на нее давят только психологически, поскольку подводят к мысли в чем-то сознаться. Но, как я понимаю, от Ульяны не требовали оговаривать товарищей, поэтому она отрицала все обвинения, заняв такую позицию: если не можешь помочь другим — помоги себе. То есть каждый, у кого был хотя бы маленький шанс вырваться из МГБ, держался сам за себя.
Понятно, что Волощучка с самого начала заявляла об ошибке и возмущалась клеветниками. Правда, как докладывал мне лейтенант Воробьев, на очных ставках с Соцкой, Богданом и другими, не всегда знакомыми ей арестованными, которых мы привлекали, как говорится, до кучи, Ульяна вела себя сдержанно. В смысле, не так страстно убеждала следствие в том, что ее оговорили. Оно и понятно: когда снимаешь вину с себя, вполне логично перекладывать ее на других, а как раз этого бандеровская связная позволить себе не могла.
Поэтому, когда ее с кем-то сводили в кабинете, держала с другими арестованными определенную дистанцию, но, когда ее подводили к тому, чтобы она вспомнила какой-то компромат на этих людей, сразу закрывалась в себе. Мол, может говорить только о себе, у нее очень много своих дел, а кого на чем взяли, кто что говорил против советской власти, коммунистической партии и лично товарища Сталина — ее не интересует. Причем сразу соглашалась: да, это неправильно, она, как комсомолка, должна быть бдительной и помогать органам выявлять скрытых врагов и националистов. Но все это как-то мимо нее проходило, если ее хотят обвинить в ненадлежащей бдительности — что ж, за это она ответит, если в Уголовном кодексе есть соответствующая статья…
Была у нее, как вскоре выяснилось, еще одна причина цепляться за любую возможность выйти на волю. Тогда как-то о подобных вещах никто не задумывался, поскольку это не в компетенции органов. Но если бы кто-то подобное предположил, вся комбинация сразу бы упростилась и облегчилась. Но не буду забегать вперед.
6
Итак, пока Ульяна сидела в камере, я организовывал мероприятия в другом направлении: наши сотрудники собирали на Волощук всевозможные характеристики. Она ведь проводила работу, результатом которой станет подтверждение абсолютной лояльности задержанной к советской власти! Только у нас как все происходит, вы же в курсе дела? Ну, если кого-то задержала милиция или другие компетентные органы, по месту работы и проживания человека всегда найдутся те, кто на всякий случай от него открестится. Раз уж арестовали гражданина или гражданку, значит, есть за что. И айда вспоминать грехи: то дорогу не в том месте перешел, то рубль одолжил и не отдал, то джинсы купил с переплатой… Ну, тогда, понятно, джинсов не носили, это я вам поясняю — времена хоть и меняются, а люди — нет.
То есть на Ульяну Волощук ее руководство сначала хотело писать отрицательную характеристику. Хотя каких собак на нее навешать, никто толком не представлял. И в этом направлении провели осторожную работу. Кому надо намекнули: все отзывы о Волощучке должны быть только положительными, а все, от кого это зависит, должны ее защищать. За это, мол, никому ничего не сделают. Вы не думайте, в послевоенное время народ еще жил по военным законам, хотя они давно уже не действовали. Люди, особенно на Западной Украине, до сих пор находились под влиянием бандеровской пропаганды и не до конца понимали: советской власти бояться не надо, она — для народа, она — друг, безусловно.
Среди прочего, действия с нашей стороны имели далекий прицел: после освобождения Ульяна не должна чувствовать подозрительного отношения к себе. Наоборот, те, от кого она зависит, должны понимать: Волощук — наш человек. А значит, должна пользоваться полным и безусловным доверием. Когда связная это почувствует, то окончательно, по нашему расчету, успокоится — и скорее выведет нас на Данилу Червоного.
Главное же действие разворачивалось, конечно, в камере, где находилась Ульяна. Нашими стараниями там оказалась одна молодая женщина, назовем ее Юстиной, которая не особенно скрывала свою связь с оуновским подпольем. По легенде, ее взяли в Киверцевском районе, держали там, потом перевели сюда, в Луцк, в область, где следствие по ее делу продолжалось. Думаю, вряд ли нужно объяснять: сотруднику с такой легендой, как у Юстины, разрешили говорить все. Она сразу собрала вокруг себя единомышленниц из числа сокамерниц. Однако Ульяна Волощук, как докладывали мне, держалась именно так, как и предполагалось: не проявляла к Юстине никакого интереса. Ведь она за решеткой по недоразумению, настроений Юстины не разделяет, значит, на эти разговоры не ведется.
Но наша Юстина имела немалый опыт подобной работы. Поэтому свое представление сыграла грамотно, точно знала, как сделать, чтобы в определенный момент напряженная до предела Волощучка почувствовала с ее стороны фальшь. И вот здесь Ульяна насторожилась, так как поняла: Юстина — выражаясь их терминологией, провокатор. Вот только предупредить об этом Волощук не может — не имеет права, не рискует довериться ни одной из сокамерниц. А то кто его знает: вдруг в ситуации, когда каждый сам за себя, какая-нибудь женщина возьмет да и доложит о странном поведении комсомолки, которая вся из себя вроде невинную корчит, а сама интригует, партизанит, не знаю, как это еще назвать… Словом, вы поняли, я думаю.
Когда мне доложили, что Ульяна напряжена до предела и заметно борется сама с собой, чтобы настоящая сущность не проявилась, даю команду на финальную сцену: Юстина потихоньку договаривается с одной девицей, задержанной за антисоветскую агитацию, чтобы та передала на волю записку, или, как у них говорили, штафетку. А та не только согласилась, но и рассказала, кому эта цидулка пойдет. Назвала несколько фамилий, известных Ульяне. Естественно, Юстина позаботилась, чтобы Волощучка могла разговор подслушать. Ага, я не сказал — та, с которой Юстина договаривалась, тоже работала на МГБ. Правда, на вербовку пошла уже здесь, в тюрьме, в обмен на обещание, что ее семью не переселят, когда она получит срок, да и амнистию вскоре пообещали. Времена такие были, требовали договариваться с теми, кто признал свои ошибки, а также силу и справедливость советской власти. Тех, кто шел на сотрудничество, власть всегда старалась поддерживать, да и теперь ничего не изменилось.
Фокус был в том, что та девица и правда знала фамилии некоторых бандеровских сообщников, которых мы из оперативных соображений держали пока под присмотром, а Ульяна тоже этих людей знала. На самом деле в то время для меня не имело значения, есть у этих лиц связь с Червоным или нет: все равно через Ульяну на него выйти проще, а ставку мы сделали именно на нее. Вероятно, Волощук и была цепочкой, связывавшей луцкую группу, в которую она входила, с Данилой Червоным и его группой в лесу. Так или иначе, Ульяна поняла: провокаторша Юстина поймала в ловушку менее опытную женщину, и помешать этому никак нельзя, не раскрывшись.
Возможно, Волощук все-таки решила бы раскрыться на свой страх и риск, наверное, уже готовилась снять с себя маску невозмутимости. Вот тут настал, как говорится, ее час: через несколько часов после того, как две наши секретные сотрудницы разыграли перед Ульяной небольшой спектакль, ее наконец-то вызвали из камеры к следователю и отпустили с миром. И подчеркнули: да, произошла досадная ошибка, товарищ Волощук — кадр проверенный, вон, сколько народу за нее ручается, все почетные, партийные, известные, безупречные…
В целом операция в тюрьме длилась четверо суток и прошла максимально интенсивно.
А дальше все получилось совсем неинтересно.
Я лелеял надежду, что Ульяна Волощук — не сразу, конечно, но очень скоро — после своего освобождения начнет искать Червоного, чтобы сообщить: луцкая группа под наблюдением, надо остерегаться провокаций и ловушек. Несомненно, самих членов группы она тоже нашла бы способ предупредить об опасности, ведь бандеровцы в лесу должны тоже знать это, чтобы помочь своим сообщникам незаметно уйти из города. Обложили Волощучку плотно, предельно осторожно и максимально незаметно. Едва ли не две трети личного состава луцкого областного управления привлекли к операции.
А Данила Червоный взял и сам пришел.
Точнее, с ним было еще трое, их конспиративно сняли возле Ульяниного дома. Всех четверых, вместе, без единого выстрела — вот чем я лично горжусь до сих пор. Позже стало известно: Червоный был в курсе, что его подругу арестовали, и, когда узнал, что она вышла, и быстро убедился — выпустили за отсутствием доказательств, проверяли тщательно, подозрения сняты, собственной персоной объявился. Так спешил обнять свою милую, что не позаботился об элементарной осторожности.
Знаете, почему именно так он поступил? Оказывается, Ульяна была беременна.
Срок небольшой, месяца два. Поэтому никто ничего не замечал, медики задержанную не обследовали, сама она в Луцке к врачу не ходила: это ж объяснять надо, от кого да как, кто отец… По всем подсчетам, в конце февраля это произошло. Или сразу в начале марта. Засиделись парни в своих крыйивках, весна, молодые же все, здоровые, да еще и прибавьте сюда любовь — у бандеровцев она тоже случается, вы не думайте…
Эх, знать бы раньше, о чем я уже говорил! Не так бы я комбинацию строил, не усложнял бы. Что может быть проще такой наживки для бандита — любовница с его ребенком под сердцем…
Куда делась группа Остапа? По моим данным, без командира к лету все разошлись, кто куда. Прибились кто к другим разрозненным отрядам, кто за границу бежал. Правда, никто не сдался, так как добровольно сложившие оружие себя называли, перечисляли весь свой послужной список. Если бы кто-то был с Червоным, наверное, не промолчал бы.
Что касается дальнейшей судьбы самого Остапа, он же Данила Червоный… Следствие, суд, приговор. Не расстреляли, дали по максимуму. И ему, и тем, кто с ним был. Хорошо помню псевдо каждого: Лютый, Мирон и Ворон. Фамилии не скажу, да и не нужны они вам. Когда их судили, меня уже не было в Луцке, а до того момента успел немного лично пообщаться с Червоным… Вывод такой: убежденный враг советской власти, бандитом себя не признавал. Получил по заслугам…
Да. Кажется, обо всем поговорили. Большая просьба: как напишите что-нибудь, оформите, так сказать, нашу беседу, покажите, пожалуйста. Может, я еще пару фактов подкину…
Собственно, это не просьба. Вы же сами понимаете прекрасно.
Примечание Клима Рогозного: Рассказ отставного офицера КГБ Льва Доброхотова, особенно финальная его часть, другим и быть не мог. Вообще я вначале удивлялся, как это Лев Наумович пошел на контакт с провинциальным журналистом. Позднее объяснил сам себе, теперь поясню вам: если Титаренко, автор этих записей, шел ва-банк, на свой страх и риск, желая заполнить определенный пробел в своей истории, на тот момент уже почти сложившейся, то Доброхотову сначала было просто интересно. Ведь в телефонном разговоре Титаренко назвал фамилию Червоного, а это пусть не секретная, но в некоторой степени закрытая информация. Таким образом, Доброхотов только играл со своим собеседником, милостиво делился кое-какими воспоминаниями, которые, дойди дело и правда до публикации, беду вряд ли навлекут — все выдержано в должном духе. Ну а потом попросил своих коллег с улицы Короленко[16]проверить, кто же это такой любопытный. Вот тогда и выплыли связи, через которые Титаренко вышел на бывшего узника ГУЛАГа Виктора Гурова. Связи, честно говоря, для журналиста опасные, особенно в те времена, когда на Украине начиналась новая волна арестов диссидентов, а те, кого выпустили, получали новые сроки.
Думаю, стоит хотя бы немного пояснить, что скрывал Лев Доброхотов за словами «следствие, суд, приговор». Теперь из многочисленных воспоминаний известно, как именно МГБ проводило следственные мероприятия. Я не удивлюсь, если Данилу Червоного и его побратимов, которые прежде всего были обычными людьми, потому и попали в тщательно подготовленную ловушку, не просто били на допросах смертным боем. На допросах садисты в энкаведистской форме укладывали, например, жертву голым животом на табурет, ноги и руки растягивали в разные стороны так, чтобы спина напрягалась, и лупили либо крепкими палками, либо железными розгами. После такой пытки долгое время истязаемый не мог лежать на спине. Бывало, на допросах заключенным специально давали наркоз, чтобы те засыпали, и с их беспомощными телами вытворяли такое, что пробуждение казалось полнейшим адом. Но даже если к Червоному не применяли таких пыток — в арсенале НКВД было много чего другого.
Выдерживал не каждый. К примеру, вот я не уверен, что выдержал бы. Тем не менее, судя по тому, что узнал Григорий Титаренко от Виктора Гурова, командир УПА Данила Червоный достойно прошел сквозь этот ад, чтобы оказаться в другом и выжить там.
Тетрадь третья Виктор Гуров
Коми АССР, Воркута, осень 1948 — весна 1949 года
1
Впервые я увидел Данилу Червоного на утренней проверке.
И хотя тогда стоял всего лишь сентябрь, в тех краях, на русском Севере, начинались первые заморозки. Подморозить могло даже в разгар короткого воркутинского лета. Сидя в лагере, который уже привычно называл нашим, я успел почувствовать на себе убийственные возможности местного климата. Одна фраза все объяснит: зима восемь месяцев в год. Сентябрь здесь считался переходным месяцем, когда нужно было готовиться к длительным холодам.
Каторжный труд здесь не зависел от погодных условий — каждое утро сотни доходяг, выкрикнув охрипшими голосами положенное «Я!» на перекличке, медленно двигались на шахты, где одиннадцать часов в день должны были добывать уголь для страны. Или на кирпичный завод — первую его очередь тогда уже запустили, но надо было возводить вторую. Или в глиняные карьеры — долбать глину, из которой потом будут делать кирпич. Так день за днем, месяц за месяцем, год за годом.
Чтобы еще бодрее идти на работу и с работы, мы выстраивались и двигались под музыку. Репродуктор — его называли у нас матюгальником — висел на высоком, хорошо просмоленном деревянном столбе, почти в центре прямоугольного лагерного плаца. В определенные часы его жерло хрипло докладывало ежедневные новости. Именно так мы услышали о победе над немцами в мае и над японцами в сентябре. Даже обитатели нашего «политического» барака тогда искренне кричали «ура». Хотя попробовали бы враги народа не кричать — это вам не блатные, нашего брата даже за меньший косяк сразу брали на карандаш и делали соответствующие, всегда неутешительные для нас выводы.
Но в основном через матюгальник оглашали информацию, касающуюся заключенных, и еще крутили музыку. Наверное, в радиорубке нашего лагерного отделения, или, как еще говорили — лагпункта, запас пластинок был небольшой: песни заводили одни и те же, даже не баловали зеков, хотя бы как-то меняя порядок мелодий. Поэтому, честно вам скажу, меня даже теперь, через тридцать лет, трясет от Утесова с его джазом, «Амурских волн», «Сопок Маньчжурии», «Утомленного солнца».[17]Даже от Вертинского плохие воспоминания…
Червоный и другие бандеровцы пришли с очередным этапом, также под музыку. Но когда новеньких завели в наш барак, мы, старожилы, их не очень-то и разглядывали. Контингент обновлялся часто, а доходяги — те вообще еженедельно. Кто-то мог замерзнуть в стволе шахты, кто-то — не проснуться. Но в большинстве случаев тех, кто выработал в шахтах и карьерах свой человеческий ресурс и не цеплялся за жизнь, тащили в больницу. Не лечить: для таких построили отдельный барак около собственно больнички, где их складывали в ряд на голые доски и ждали, пока несчастные дойдут. Я это знал, как никто: собственно моя бригада работала главным образом как похоронная команда.
Работа тоже не из легких. Большинство смертей приходилось на затяжную зиму, земля промерзала, и одну могилу приходилось копать от рассвета до заката — целую рабочую смену. Лагерное начальство пыталось оптимизировать работу нашей бригады, вводило разные инициативы, только из этого ничего полезного не получалось.
К примеру, нам могли приказать копать большую общую могилу. Но для этого необходимо прогреть больший участок грунта, очертить больший периметр, а при таких раскладах на одну могилу тратилось больше времени. Хорошо, что мертвым зекам все равно. Они, как шутил начальник нашего лагерного пункта майор МВД Василий Абрамов, уже свое отспешили. Сложность ситуации заключалась в том, что их место в бараке обреченных должны были занять другие, ведь их нары в лагерных бараках уже ждали новых зеков. Вот так работал конвейер смерти — именно для того, чтобы человек скорее умер, ему присуждали соответствующие сроки каторжных работ в Воркуте и других лагерях, названных почему-то исправительными или трудовыми.
Но предлагаю немного отвлечься.
Представьте ситуацию: умерших выносят из барака и складывают у стены. Даже брезентом не накрывают. Так они и лежат в течение дня. И пусть обычный воркутинский день короткий, а в темноте трупов не видно. Начальство отлично знает об этой куче мертвецов, так же как отлично понимает: смерть здесь, на Воркуте, — вполне привычное, даже естественное явление. К тому же тела не завоняются, не разложатся… Но, как мы успели тогда понять, существовал еще и показательный советский гуманизм.
С одной стороны, товарищу Абрамову, «куму», то есть начальнику оперативной части лагпункта, капитану Бородину, остальному лагерному начальству, включая доктора Тамилу Михайловну Супрунову, не говоря уже об остальных вертухаях, — всем, кто не одевался в зековскую робу, плевать было на то, сколько народу здесь уйдет на тот свет, скажем, за рабочую неделю. Однако, с другой стороны, такого равнодушного отношения к массовой смертности каторжан они не могли себе позволить — как советские военнослужащие, солдаты и офицеры МВД или обычные вольнонаемные с безупречно чистыми анкетами. Ведь это шло вразрез с заявлениями о надлежащем содержании осужденных, которых справедливый советский суд отправил на перековку. Мы узнавали об этом от новых зеков, пришедших сюда с воли. А в нашем бараке не было никого, кроме предателей родины, то есть политических. Это, как я успел убедиться, народ по большей части грамотный, вполне владеющий ситуацией в стране. К тому же «враги народа» могли не только привести какой-то факт, но и сделать из него определенный вывод.
Так, доцента Бориса Шлихта, преподавателя права в Ленинградском университете, то есть моего земляка, забрали прямо на лекции. За что, теперь не существенно. На самом деле причина, по которой Шлихту впаяли пятьдесят восьмую статью,[18]в те времена значения не имела. Важно то, что рассказал нам Шлихт: вскоре после войны Америка и Западная Европа вдруг заинтересовались, в надлежащих ли условиях содержат подследственных в советских тюрьмах, а зеков — в советских лагерях. После отбоя Шлихт шепотом клялся, что сам лично слышал разговор: мол, Гитлеру и фашизму шею скрутили, теперь надо не допустить ничего подобного в СССР, потому что существование концлагерей вроде как противоречит каким-то там международным законам или конвенциям. Я особенно в это не вникал тогда, соответствующего образования не хватало — прошел только ускоренные курсы механиков, там такому не учили, никаких премудростей, кроме как разобраться, где в танке какие рычаги. Из всего, сказанного мудрым Шлихтом, я понял тогда одно: даже если лагерное начальство в своей повседневной работе не слишком стремится соблюдать приличия, оно должно делать это хотя бы формально.
Нам, например, регулярно предлагали писать жалобы и пожелания. Наивные, особенно из интеллигентов, непременно пользовались такой возможностью. Реакции не было никакой — и это в лучшем случае. В худшем — жалующийся либо по какой-то причине попадал в ШИЗО — штрафной изолятор, либо нарывался на якобы случайную заточку блатаря, либо… Ну, сами понимаете, начальство имело массу возможностей устроить любому зеку еще более веселую жизнь, чем та, которая у него была в лагере. То же и с захоронением, или, как любил говаривать товарищ Абрамов, утилизацией шлака. Ну, вот не положено трупам лежать под стеной барака! Правило такое, а против правила у нас, сами знаете, никто не пойдет. Его, правила, следует придерживаться хотя бы формально, для себя, для «галочки».
Начальник четвертого лагерного отделения мог не видеть свалки трупов в темноте, однако он должен был знать, что тела эти свалены, и за это — нагрянь вдруг проверка — его по головке не погладят. Поскольку поверяющие должны доложить по инстанциям о выявленных непорядках, чтобы формально наказать нарушителя. Разумеется, не слишком жестко, но майора Абрамова могут снять отсюда, с насиженного места, и перебросить куда-нибудь ближе к зоне вечной мерзлоты. Просто так, чтобы отрапортовать о принятых мерах. Ведь где-то там, на Большой земле, как здесь называли любое место южнее Ухты и Инты,[19]таких как Абрамов с Бородиным, тоже за людей не считают. Потому и тасуют их, как карты в колоде. Следовательно, наше начальство должно держать нос по ветру и не давать никому ни малейшей возможности для такого шантажа.
Это мне также доцент Шлихт объяснил: хоть лагерное руководство и конвойные находятся по ту сторону проволоки, их свобода — на самом деле формальность. Они тоже повязаны Системой, так же, как и мы, сидят в лагерях, и колючая проволока для них означает то же самое, что и для нас. Разница только в том, что нам, зекам, уже нечего терять, тогда как они, конвойные, легко могут оказаться на нашем месте. Итак, подытожил Шлихт, мы все вместе свободнее в своих словах и поступках, чем люди, подобные майору Абрамову и капитану Бородину.
Легче от выводов Шлихта мне, честно говоря, не становилось. Ведь моя личная свобода от этого не приближалась. Более того: в начале года, где-то в феврале или марте, теперь не вспомню, с очередным этапом пришло известие об отмене Президиумом Верховного Совета, считайте — лично товарищем Сталиным, указа двадцать два — сорок три. Чтоб вам было понятнее: именно по этому указу за измену родине меня осудили на пятнадцать лет каторжных работ. Тогда для меня открылась только одна дорога — туда, на Воркуту, потому что как раз тамошние лагерные пункты предназначались для каторжан. А подписал наш любимый вождь этот Указ аккурат 22 апреля 1943 года — ко дню рождения другого вождя мирового пролетариата, товарища Ленина…
Это я к тому, что Червоному и всем «политическим», которые тоже прибыли с новым этапом, можно сказать, повезло. Хотя бы в том, что теперь «политических» не изолировали от остальных заключенных. Впоследствии этим воспользовались сначала блатные, а затем бандеровцы. Относительно свободное передвижение по территории само по себе ускорило события, начавшиеся с появлением в нашем лагпункте большого количества украинцев. Другое обстоятельство — еще год назад в стране отменили смертную казнь,[20]так что бандеровцев, которых судили сейчас, не расстреляли. Правда, впаяли на полную. И хоть их сослали в Воркуту, но это уже не считалось каторжными работами. Исправительными — да. Но так, объяснял Шлихт, возникло определенное юридическое отличие при полном отсутствии отличия формального.
Однако приговоры в отношении меня и остальных «изменников», вынесенные до отмены указа двадцать два — сорок три, по этому постановлению не пересматривались. Так что я и дальше отбывал каторжные работы. Хотя как раз в то время, когда в нашем лагере появились украинцы и литовцы из «буржуазных националистов» и «немецких пособников», моя бригада находилась на особом положении. Как бы то ни было, а там, в лагерях, мы всегда скрупулезно изучали детали и малейшие нюансы всего, что происходило на воле и могло так или иначе касаться нас. Подобную информацию, пусть даже слабенькую, мы получали из рассказов вновь прибывших.
Думаю, теперь вы понимаете, почему я сначала возненавидел Червоного и всех, кто пришел с ним. В отличие от меня и ребят из моей похоронной команды, прибывшие были настоящими изменниками и врагами — как нам тогда казалось, эти враги еще и обладали пускай незаметными, как все в условиях вечной мерзлоты, статусными преимуществами над нашим братом, старым зеком.
Да, в лагере мы выполняли функции могильщиков. Впрочем, по странной, действительно извращенной логике, именно эта работа позволила всем нам не превратиться в классических дохляков — доходяг. И не попасть самим в барак обреченных. Нас выручали, пусть это прозвучит сейчас диковато, местные погодные условия.
Они не позволяли так просто, приложив столько усилий, сколько для этого нужно, копать землю. Как я уже говорил, для каждой новой ямы — большой или маленькой, грунт приходилось прогревать. Из-за этого мы регулярно жгли костры. И, понятное дело, сами грелись возле них. К тому же хоронить приходилось не только каторжан вроде нас, а и уголовников, которые чаще резали друг друга на смерть — как раз начиналась «сучья война».
Но об этом после. Собственно, эта лагерная война между настоящими преступниками достаточно близко свела нас с Данилой Червоным.
2
Итак, впервые фамилию Червоного я услышал на проверке на следующее утро после того, как новая партия зеков оказалась в нашем бараке. Честно говоря, даже не разглядел его тогда. Чего там смотреть…
Увидишь такого же, как ты сам, худого заключенного, наголо бритого тупой машинкой, а через эту машинку проходил каждый из нас, независимо от присужденной статьи, и вряд ли ее наточили хоть раз за эти годы. На нем такой же, как на тебе, грязный ватник, под ним — жесткая роба и, если повезло сохранить на этапе, свитер толстой вязки (правда, его могли забрать блатные или конфисковать конвойные, наказывая за какую-нибудь провинность); впрочем, долго такая одежка не продержится — расползется на нитки. Еще ватные штаны, по большей части не новые, снятые с очередного умершего дохляка и обработанные в средстве для дезинфекции, а потом подобранные для новичка по размеру. А вместо опорок с калошами, сооруженными из кусков автомобильных покрышек, на ногах у новоприбывших красовались кирзовые сапоги.
Собственно, правом одеваться кроме лагерной еще и в остатки «вольной» одежды осужденные после отмены указа двадцать два — сорок три отличались от нас, настоящих каторжан. Мы такой возможности не имели, даже если кто-то поддерживал связь с родственниками и мог бы иногда получать теплую одежду и белье с передачей — дачкой по-нашему. А обувь Червоного привлекла не только мое внимание. В нашей команде собрались фронтовики, среди которых — разжалованный офицер. В этом, кстати, был злой умысел Абрамова: я, сержант, водитель и механик танка, фактически руководил — насколько это может позволить себе обычный каторжанин — старшим по званию. Но, так или иначе, каждый из нас не забыл, какие на вид пускай грязные, стоптанные, но настоящие хромовые офицерские сапоги.
Конечно, такая обувь на зеке, обреченном прозябать в угольной шахте, выглядела откровенным пижонством и издевательством над другими заключенными. Ведь подобное воспринималось как по меньшей мере потакание со стороны лагерной администрации. Но меня удивило другое: офицерские сапоги Червоный умудрился сохранить на этапе, где всегда пасутся блатари, выискивая у других осужденных что-нибудь ценное и питательное. Когда по этапу вели меня, собственными глазами видел, как бедолаг, пытавшихся сопротивляться, безо всяких сомнений душили, пыряли самодельной пикой, калечили и даже выбрасывали из «телячьих» вагонов на ходу при полнейшем равнодушии конвоя в красных погонах.
Очень скоро не только я — мы все поняли, как и почему Червоный, его друзья-бандеровцы и прибалтийские «лесные братья» доехали до места отбытия наказания в своей одежде и даже в собственных сапогах…
Еще Данила Червоный и другие бывшие бойцы отличались цветом кожи, особенно на лице. Впрочем, эта разница быстро исчезнет: вскоре угольная пыль прочно въестся в лица, они будут зудеть, и светлыми останутся только белки глаз, а если кто-то из них доживет до лета, угольная пыль смешается еще и с солидолом. Короткими летними днями будут докучать комары и мелкая, почти незаметная и оттого еще более противная мошкара. Намазав морды тонким слоем солидола, мы могли хоть немного уберечься от укусов. Насекомые липли к жиже, вязли в ней. Время от времени мы счищали их вместе с остатками солидола, чтобы намазаться снова. К этой процедуре рано или поздно здесь прибегают все, как бы долго ни брезговали, оттягивая неприятный момент. С окончанием лета защитная маска смывалась, а угольная пыль оставалась.
Разобрав новеньких по бригадам, бригадиры — бугры, преимущественно зеки с бытовыми статьями или уголовные элементы, которым их закон не запрещал занимать эту должность, по большей части — так называемые суки, повели отряды на работу. Развернул свою команду и я: так начался новый день, похожий на все, что были, и все, что будут.
Пожалуй, пора несколько слов сказать о том, как я сам оказался не такой блатной или, лучше сказать, придурочной работе.
Весной 1944 года из всех обитателей «политического» барака я оказался первым фронтовиком, осужденным на полтора десятка лет каторги. Тогда особенного отношения ко мне у майора Абрамова не было. Но немного позже, к лету, с разными этапами пришли Саня Морозов, прозванный Морячком, Иннокентий Свистун, к которому, несмотря на красноречивую фамилию, прилипла простенькая кличка Кеша, и тот самый бывший офицер Красной армии Марат Дорохов, еще на пересылке окрещенный Сапером. Вот тогда начальник лагеря начал уделять нам чем дальше, тем больше внимания. Однажды Абрамов вызвал меня к себе через «кума», капитана Бородина, и поставил вопрос ребром:
— У меня, Гуров, сын на фронте без вести пропал. Как и ты, в танковых войсках служил. Только командир танка, младший лейтенант. Абрамов, Александр… Шурик… Не встречал?
— Нет, — ограничился я коротким ответом, зная — мое дело начальник лагеря наверняка изучил, значит — в курсе, что с его Шуриком мы воевали на разных фронтах. Спросил Абрамов скорее машинально, такое часто вырывается, даже когда человек встречает военного в обычных условиях, на воле: не видел ли ты, сынок, мол, моего там, на войне…
— Что ты там с особистом не поделил — не мое дело, — сказал майор, выдержав короткую паузу. — Твое скорее. — Тут он красноречиво похлопал по не очень пухлой картонной папке, которую я видел уже несколько раз, то есть моему уголовному делу с тщательно подшитыми одна к другой бумажками. — Есть мнение, Гуров, что эти вот враги народа, которым не угодила советская власть, к ответственным работам не готовы. С людьми они не смогут здесь работать, скажи, Гуров?
Я молчал. За время, пока меня мотало по тюрьмам, пересылкам и этапам, успел усвоить одно правило: когда к тебе обращается сотрудник МВД — лучше слушать и молчать. Так как все, что ты можешь ему ответить, он наперед знает.
— Им, Гуров, физический труд на благо и процветание советской промышленности очень полезен, — продолжал майор Абрамов. — Умственную свою деятельность они запороли. Мозги — просрали троцкизмом и другой контрреволюцией. Им власть большевиков давала шанс послужить. Теперь пусть кайлами машут. Ты же боевой офицер, танкист, людьми командовал. Значит, и с человеческим материалом справишься. Справишься, Гуров? Можно на тебя положиться?
— Так точно, гражданин майор, — автоматически отчеканил я, еще не взяв в толк, к чему он ведет.
Когда дошло, лишний раз удивился поистине ни на что не похожему, чисто лагерному, можно сказать — воркутинскому чувству юмора начальника лагеря. Эта его работа с людьми, или, как он потом чаще говорил, с людями, действительно предусматривала подобный род лагерных работ. Только речь шла о еле живых, умирающих или уже мертвых людях.
Приказав мне самому подобрать зеков из числа «политических» для работы в похоронной команде и вообще при больнице, Абрамов прозрачно намекнул: да, я враг народа, но дело мое он внимательно прочитал, сделал поправку на то, что я воевал, пусть и недолго, и его предложение в определенной степени вызвано желанием хоть как-то компенсировать потерю сына. Иногда мне даже казалось, что начальник лагеря видит на моем месте или на месте кого-то из моих товарищей по несчастью своего парня, о котором я так и не узнал ничего больше — только то, что обронил мимоходом Абрамов.
Теперь, после всего, что мне пришлось пережить в лагере, я готов честно признать: перевод меня, а вместе со мной Морозова, Свистуна и Дорохова из угольной шахты в так называемую похоронную команду был чуть ли не единственным достойным поступком, который позволил себе начальник лагеря от назначения на эту должность до самой смерти, преждевременной и страшной.
Ой, что-то меня опять понесло не туда…
Но уж потерпите, давно я ничего из этого не вспоминал вслух. Тем более, что если бы я не крутился постоянно возле больницы, то не имел бы возможности более-менее свободно общаться с теми, кого по существующим в лагере правилам держали отдельно от нас. В частности — с вором-законником, которого все звали Коля Тайга.
Считалось, что именно он держит зону, то есть он — ее неофициальная власть, иногда сильнее власти Абрамова. Волею судьбы я познакомился с Тайгой на пересылке. Узнав, что я тоже ленинградский, да еще и жил на Ваське — Васильевском острове, профессиональный вор сразу посоветовал его держаться. И хотя я сам мог о себе позаботиться, решил — такое землячество ни к чему не обяжет, а мне, для которого все вокруг было новым, неожиданным и диким, из этого знакомства может выйти прок.
Прогнозы сбылись: уже в зоне нас разделили, поместив меня к «политическим», но блатных, в отличие от нашего брата, в передвижении по территории лагеря никто не ограничивал. Поэтому я нечасто, но все-таки контачил с Тайгой, иногда получал какой-нибудь мелкий грев — горбушку хлеба или маленький кусок сахара, а когда был назначен бугром так называемой похоронной команды и оказался при больнице, общаться с Колей стал чаще: блатные всегда имели у медсанчасти массу своих интересов.
Я не слишком удивился, когда через три дня после появления в лагере бандеровцев, среди которых Данила Червоный считался чуть ли не командиром, и уж точно — старшим, из-за угла барака, где располагался морг, мне сначала тихонько свистнули, потом — так же негромко окликнули:
— Э, Танкист… Тайга перетереть хочет.
Повернувшись, я увидел Васю Шарика — киевского щипача — карманного вора, одного из приближенных к ленинградскому авторитету. Вообще свита Коли Тайги состояла из десяти всецело преданных ему людей, где каждый знал свое дело. Например, Шарик, получивший прозвище не за идеально круглую форму головы, как могли подумать непосвященные, а за то, что однажды в оккупированном Киеве не умер с голоду, поймав, сварив и съев немецкую овчарку, был у Тайги посыльным. Но это не означало, что Шарик — типичная шестерка : для мелких поручений у него самого на подхвате была стайка молодых уголовников, проходивших только первый курс своего лагерного университета. Если от имени Тайги с кем-то приходил говорить сам Вася Шарик, это означало, во-первых, важность дела, о котором идет речь, а во-вторых — определенную степень доверия со стороны самого смотрящего.
Кроме Шарика в распоряжении Коли Тайги было несколько настоящих бандитов и убийц, но, чтоб вы знали, даже рецидивист, зарезавший или застреливший человека во время своего очередного преступления, имел по суду меньший срок, чем жители нашего, «политического» барака. Рассказанный не в той компании политический анекдот или даже осторожно высказанное сомнение по поводу конкретных действий партии, правительства и лично товарища Сталина наказывались примерно так же, как умышленное убийство человека. Вот только условия для убийц и вообще разных уголовных элементов в тюрьмах и зонах были лучше, чем для нашего брата, осужденного за политику. Я, вообще-то, даже не за политику… Ладно, позже об этом, ко мне же применили пятьдесят восьмую.
И еще скажу, чтобы потом не отвлекаться: сейчас в советских тюрьмах мало что поменялось. Да и в целом законодательство не слишком изменилось. У меня, как вы уже знаете, есть определенные знакомства среди юристов, адвокатов в частности. Могу даже юридические консультации давать, но не дай бог вам они понадобятся, молодой человек.
Ага, опять немного в сторону отошли. Придется потерпеть, все-таки воспоминания о Даниле Червоном — это воспоминания о времени, о котором стоит говорить и писать. Только запрещено это, посадят за антисоветчину. Поэтому уж извините за желание выговориться. Тем более что без таких вот подробностей вам не будет до конца понятно, как развивались события в лагерном отделении номер четыре особого лагеря номер шесть с появлением Червоного и других бандеровцев.
3
Итак, осмотревшись, чтобы убедиться, что мы здесь одни, я не спеша приблизился к Васе Шарику. Тот протянул недокуренную самокрутку: уголовники как-то умудрялись добывать в зоне самосадную махорку, и я даже видел у Коли Тайги пачку пижонского «Казбека».
Да, признаю: в нашем положении приходилось докуривать за ворами, а кое-кто из доходяг вообще мог схватить окурок, брошенный под ноги конвойным, часовым или кем-то из офицеров. По этому поводу доцент Шлихт развил целую теорию о том, что лагерные условия позволили ему наконец справиться с вредным пристрастием к курению. Лучше перетерпеть, чем вот так… Тем не менее я, как и многие товарищи по несчастью, в какой-то момент перестал думать о том, что такое унижение за колючей проволокой.
Уже само пребывание здесь было унижением. Голод, холод, лишение элементарных условий для жизни и даже намека на гражданские права, каторжный труд и главное — невозможность что-то изменить, кроме как тихо умереть вот здесь, в бараках, или броситься от отчаяния на колючую проволоку, ведь попытка бегства дает гарантированную смерть и избавление от лагерных мук.
Поэтому я запросто взял окурок из рук вора. Глаз на такие вещи уже набит: оставалось минимум на три затяжки. Щедрость подарка или подачки — понимайте, как хотите! — переоценить в лагере трудно. Курить сразу не стал: аккуратно завернул окурок в кусочек грязной газеты, положил в карман бушлата. Потом из этой бумажки сделаю мундштук и докурю сигарету до последнего грамма. Шарик следил за моими манипуляциями без интереса — такое он видел каждый день. А я понимал — вот так, запросто, за здорово живешь, жирные окурки нашему брату от блатных не перепадают. Поэтому спросил коротко:
— Ну?
— Гну, — автоматически ответил Шарик. — Тайга интересуется, достойно ли вы тут похороните наших товарищей.
— Закопаем как положено, — в тон ему ответил я.
— Это были достойные люди, — гнул свое Шарик.
— Были, — согласился я. — Только отдельных ям для вашего брата начальством не предусмотрено.
— С этим разберемся. — Шарик снова настороженно огляделся. — Для сук отдельное место готовится, правильно?
Кажется, я упоминал уже о них…
«Суками» в лагерях называли уголовников, преимущественно воров, которые нарушили законы уголовного мира. Даже теперь я не очень хорошо в них разбираюсь. Тем более что эти законы корректируются — незначительно, но все-таки. А тогда, после войны, главным определением «суки» было его согласие работать на советскую власть. Например, когда осужденные за уголовные преступления соглашались идти на фронт.
«Ссученные» — так на языке воров окрестили за предательские действия ренегатов преступного мира. С ними мне довелось послужить в штрафном батальоне: пока меня не отдали под трибунал за драку с офицером особого отдела НКВД. Благодаря этому я и другие фронтовики, даже понимая всю условность ситуации, поначалу готовы были воспринимать «ссученных» преступников как товарищей по оружию. Ну а уголовники, верные традициям, которые воевать с оружием в руках за родину и за Сталина не пошли, объявили сукам войну не на жизнь, а на смерть. Этого требовали их неписаные законы. И «ссученные» это прекрасно знали. Потому и приготовились защищаться.
В том, что рано или поздно воры и суки встретятся, сомневаться не приходилось. Служба в штрафбате предусматривала: свою вину перед властью преступник смоет кровью в бою. С первым тяжелым ранением боец-штрафник получал возможность погасить все свои судимости досрочно. Можно и не ловить пули, а прослужить, то есть продержаться в штрафбате три месяца, и, если за это время бойца не убили, судимости с него также снимали, а его самого переводили в обычную общевойсковую часть, где он воевал дальше, даже зарабатывал награды.
Вот только ни одна медаль еще не перевоспитала профессиональных преступников. После войны подавляющее большинство «ссученных» вернулись к привычному образу жизни: никакого другого применения на воле вчерашние воры, разбойники, грабители и бандиты просто не находили. Соответственно, рано или поздно они попадались, по приговору суда шли по этапу, а в лагерях предателей ждали верные уголовным законам воры, чтобы исполнить свой, воровской приговор. Он всегда означал смерть сукам.
Покаяться и тем самым сохранить жизнь не получалось. Даже советские суды присуждали расстрел врагам народа, хотя их покаянные заявления занимали по нескольку листов, а речи отличались пламенной чистосердечностью. Поэтому у «ссученных» было два выхода: драться на смерть, как в последний раз, и побеждать силу силой, а массу массой, или заручиться поддержкой лагерной администрации. То есть изменять законам дальше, сотрудничая с властью.
Три десятка лет прошло. Можете поверить моему опыту: суки всегда сотрудничают с властью. А власть — только с суками. В этой стране менялось многое — только эта форма сотрудничества осталась без изменений. Знаете, что хуже всего? Жизнь будет продолжаться; наверное, сменится власть. Но это, к сожалению, не изменится: с властью будут сотрудничать только суки … Ну, это так, сугубо мои выводы…
Так вот, когда уголовники грызлись между собой, ни на кого не обращая внимания, война воров и сук оставалась их личным делом. Так что начальство одинаково наказывало за нарушения обе враждующие стороны. Но если суки шли на сотрудничество с лагерной администрацией, они получали союзника. Фактически советская власть вербовала в свои ряды убийц и бандитов, чтобы те забирали себе власть в лагерях и контролировали внутреннюю ситуацию. Заодно выполняя отдельные, часто негласные распоряжения администрации.
У нашей зоны пока что был статус «воровской». То есть заправляли заключенными уголовники, которыми руководил Коля Тайга. Видимо, майор Абрамов был намерен переломить ситуацию: несколько последних этапов по большей части состояли из сук, и взаимная травля происходила сознательно, по его плану. Однако Коля Тайга еще чувствовал за собой силу, и наш лагерь не «краснел», оставаясь «черным»,[21]то есть воровским.
Все эти внутренние противоречия уголовников нас, политических, не касались, ведь мы жили обособленно от основного лагеря. А остальные доходяги, сидевшие по бытовым статьям, во время кровавых стычек между заключенными старались держаться как можно дальше, даже забивались под нары, чтобы пересидеть очередную бурю. Хотя не слишком прыткие могли-таки попасть под горячую руку бойцам из обоих лагерей: махая ножами и заточенными металлическими пиками, ни воры, ни суки не разбирали в темноте барака, кто свой, а кто случайный.
Накануне на «воровской» барак после небольшого перерыва напала сучья команда. Застать врасплох противника им не удалось, людей Тайги предупредили в последний момент. Стычка получилась короткой, но с обеих сторон все же были жертвы. В частности, зарезали Ботву, известного в воровских кругах рецидивиста, старого товарища Коли еще с довоенных времен.
— Правильно, — повторил я после паузы.
Тем самым не вдаваясь в подробности, а только подтвердив: троих воров, включая Ботву, похоронят в общей могиле, а двоих сук, по распоряжению майора Абрамова, — рядом, отдельно.
Некая, если можно так сказать, дискриминация мертвых во время «сучьей войны», только начинавшейся в то время, для начальника нашего лагеря была привычным явлением. Тогда мне даже казалось, что майор хотел, чтобы воры и суки просто уничтожили друг друга, и тогда круглосуточная жизнь зоны окажется под его личным контролем. И, между прочим, довольно скоро после событий, к которым мы уже подходим вплотную, я убедился в правоте своих предположений.
— Жмуров этих кнокает[22]кто? — уточнил Шарик.
— Больно надо начальству еще этим морочиться, — ответил я.
И это была правда: за все время, пока мы работали в похоронной команде, никто из администрации ни разу не заглянул в яму, чтобы посмотреть, кого именно мы собираемся закопать. Врач констатировал смерть, потом оформляли соответствующие справки и списывали дело умершего в архив.
— То-то и оно. — Шарик по-блатному цыкнул зубом. — Все допер, специально толочь не надо?
— Понял, — кивнул я.
Закопать Ботву и двоих других убитых воров отдельно, в могиле для сук, а убитых «ссученных», наоборот, положить в общую могилу мы еще могли без особенных для себя последствий. Пускай сук и воспринимают как фронтовиков, но торжественных похорон для них все равно не будет. Кстати, нас в случае чего ждала такая же судьба.
Но Шарик не торопился уходить. Из чего я понял: он не закончил. Дело о захоронении воров отдельно от сук, конечно, очень важное, но из своего опыта общения с Колей Тайгой я чувствовал: эту просьбу, точнее, этот приказ мог передать и кто-то помельче по статусу, чем Вася Шарик. Значит, это была только затравка.
И правда, снова выдержав небольшую паузу, Шарик продолжил, для чего-то еще больше понизив голос:
— У вас там бандеровцы в доме…
— Так точно, — подтвердил я, для чего-то добавив: — Восьмеро. И пятеро прибалтов… Пособники… Это пока, чует мое сердце, ими нас еще допакуют.
— Это херня, — отмахнулся Шарик. — Пусть пакуют, вам-то что. Они сидят, вы тоже сидите, вашу баланду не сожрут… Ну а чьи они там пособники, пусть граждане прокуроры разбираются. Им за это зарплату платят. — Он снова цыкнул зубом. — Ты как-то с ними контачишь?
На самом деле сложный для меня вопрос на тот момент. Хотя Уголовный кодекс предусматривал для нас с бандеровцами одну статью, пусть и разные пункты, между нами я не видел ничего общего. Более того: такие, как Червоный, по моему убеждению, служили фашистам, потом американцам, то есть врагам советской власти. У меня же, например, была совсем другая история, и к настоящей измене родине я не имел никакого отношения.
К тому же существовала еще одна причина держаться подальше от бандеровцев: тогда я считал, что они ненавидят русских, они даже между собой говорили по-украински, хотя русский хорошо понимали. Вообще эта группа заключенных с самого начала казалась достаточно организованной, закрытой, они сами не очень искали с другими жителями барака контактов ближе, чем того требовали правила сожительства под одной крышей.
— Ну… Не очень…
— Придется законтачить. Кто у них старший?
Думаю, Коля Тайга это знал. Соответственно, владел информацией и Шарик. Но я оставил свои мысли при себе и коротко ответил:
— Есть там такой… Червоный. Данила, кажется.
— Кликуха?
— Фамилия. Ты же знаешь, у нас без прозвищ…
— То у вас… Танкист! — Вор криво улыбнулся, хотя глаза не излучали веселья. — Значит, так. Дашь ему знать: пускай сегодня ночью он и его кореша не спят. Спросит почему, скажешь — от Коли Тайги маячок. Совсем давить будет, говори: жить хотят — пусть слушаются. Все, больше ничего для тебя нет. — Уже собравшись уходить, Шарик вдруг снова повернулся ко мне, глянул прямо в глаза. — Своих тоже подкрути. Жарко ночью будет. Так что берегитесь, обожжетесь…
4
Не хочу сейчас говорить, что совсем не понял намеков блатаря.
Но для чего ворам предупреждать «политиков», да еще и бандеровцев, о какой-то угрозе? Если бы угроза исходила от заключенных, управляемых Тайгой, естественно, никаких предупреждений Червоному не передавали бы. Разве что воры надумали прибегнуть к одной из своих любимых сложных игр, на которые были мастаками всегда, а в лагерных условиях и подавно. Вот только опыт подсказывал: «законникам» с националистами нечего делить. Допустим, Коля Тайга пронюхал — администрация собирается прессовать бандеровцев. Но здесь хоть предупреждай, хоть нет — это все равно произойдет, и сопротивляться насилию бессмысленно.
Выходит, остается один источник реальной угрозы для бандеровцев — суки.
Они претендовали на статус третьей лагерной власти. По слухам, отдельные зоны уже понемногу «краснели». И происходило это благодаря активности «ссученных», которые, как я уже говорил, иногда пользовались молчаливой поддержкой лагерной администрации и даже обозначали себя, надевая на рукава красные повязки. Тем не менее наш особый лагерь номер шесть до сих пор держался на воровском большинстве, то есть считался «черным»: Коля Тайга и ему подобные считали себя «черной мастью». Криминальный табель о рангах вообще делил не только преступный, но и весь мир на масти, как в картах. Красное, черное, короли, тузы, шестерки… Ну, понимаете, наверное, ведь по телевизору фильмы соответствующие показывают.
Вот только меня все это не касалось. По крайней мере, я сам так хотел.
Но годы, проведенные в Воркуте, помноженные на то, через что мне пришлось пройти до лагерей, изрядно повлияли на мои, так сказать, жизненные установки. Самая первая из них: в отличие от того же доцента Шлихта или других осужденных с высшим образованием, еще на этапе я понял, что изменить ничего не удастся — придется терпеть, и я смирился.
Хотите — верьте, хотите — нет… Не дай вам бог, конечно, оказаться в такой ситуации, хотя и сейчас все возможно… Словом, не хочу, чтобы вы на собственной шкуре убедились, как это: после надрыва и слома вот здесь, внутри, плыть по течению, словно щепка в грязном ручейке на тротуаре после дождя. Даже то, что майор Абрамов обратил на меня внимание и своей властью перевел в похоронную команду, подальше от медленной смерти в угольной шахте, я воспринял как высшую благодарность за покорность судьбе. Пусть я и поддерживал — опять-таки в силу обстоятельств — контакты с уголовниками, но не считал, что чем-то обязан таким, как Коля Тайга. И тем более не имел никакого желания хоть каким-то боком вписываться в их разборки с суками. Да и вообще, единственная надежда, которую я себе оставил, — это тихонько досидеть свой срок, выйти и незаметно где-нибудь осесть.
Если сравнивать воров с теми, кого они называли «ссученными», то на самом деле мое отношение именно к сукам могло бы быть другим. Ведь мне довелось побыть штрафником: повоевать с бывшими уголовниками плечом к плечу и поспать с ними в одном окопе. И хотя часть из них после войны опять взялись за старое, я и другие фронтовики, попавшие в один лагерный барак, воспринимали их как товарищей и даже симпатизировали им. Особенно если вспомнить, что именно штрафников бросали вперед, на тяжелейшие участки фронта, и они, часто даже не вооруженные, все-таки прорывались, рвали немцев чуть ли не зубами и прочно укреплялись на взятых рубежах.
Однако именно здешним, воркутинским сукам, рассчитывать на поддержку других фронтовиков без уголовного прошлого не приходилось. Так как верховодил «сучьим бараком» Савва Зубанов, он же Зубок, арестованный и осужденный за мародерство.
Таких в войсках не любили — независимо от того, штрафник он или воюет в общевойсковой части. Как я узнал, Зубка захватили и привели в комендатуру женщины в только что освобожденном от немцев белорусском городке. Он и еще трое его подельников обирали погибших и не только: на них пожаловалась изнасилованная этим кагалом девочка-подросток, у которой во время боев за городок осколком снаряда убило маму. На следствии Зубок кричал, что эта девочка, как и большинство молодых женщин города, служили немецким оккупантам, были подстилками гитлеровцев, а он только проверял сигнал, пытаясь задержать подозреваемую и доставить в комендатуру. Конечно же, ему никто не поверил: изнасилование приобщилось к фактам мародерства, и Савва Зубанов, побывав на многих пересылках, в конце концов оказался в нашем лагере. И здесь окружил себя такими же, как он сам.
Очевидно, майору Абрамову Зубок и ему подобные были выгодны. Отселенные в отдельный барак тамошние суки, имевшие не очень заметные, но ощутимые поблажки со стороны администрации, создали свору таких редкостных подонков, что по сравнению с ними воры, подчиненные Коле Тайге, действительно казались аристократией преступного мира. А наша небольшая группа фронтовиков однозначно отказалась признавать Зубанова и других «ссученных» равными себе.
Адресованное Червоному предупреждение Тайги так или иначе касалось сложных отношений между уголовниками внутри лагеря, с одной стороны, и суками и администрацией — с другой. Но Коля Тайга вряд ли учел, что к бандеровцам, и в частности к Даниле Червоному, я сам тогда относился не намного лучше, чем к типам вроде Саввы Зубанова. И если смотрящий намекал на то, что бандеровцам следует остерегаться какого-то маневра от лагерных сук, то я мог бы эту информацию адресату не передавать. Тайга этого никак не проверит, поскольку бандеровцы в лагере принципиально ни с кем не сходились, держались отдельной группой, даже общались между собой исключительно по-украински.
Тогда даже показалось, что украинцы держатся свысока, как будто не сидят с нами в одном бараке и не хлебают одну баланду. Поэтому если бы речь шла не о Зубке, я, наверное, так и сделал бы: пускай «ссученные» выясняют отношения с бандеровцами и рвут друг друга на куски, и от этого как-то легче на душе. Вот только подыгрывать таким, как Зубанов, я не мог себе позволить даже в лагере.
Так вот, дождавшись, когда жители нашего барака вернутся со смены и без сил упадут на нары, чтобы найти хоть небольшое облегчение в коротком лагерном сне, выбрал момент и подошел к Червоному.
Не сел возле него. Не заговорил. Так как не имел такого намерения. У вас может сложиться неправильное впечатление о том, как именно жил «политический» барак. Только кажется, что все мы там — товарищи по несчастью и связаны крепкой мужской дружбой. На самом деле здесь не собрание благородных людей. Оперативная часть лагеря и даже лично «кум», капитан Бородин, должны быть в курсе того, как и чем живут осужденные «враги народа». И стукачей среди тех, кого посадили по пятьдесят восьмой статье, хватало, как и в других бараках и вообще в лагерной среде.
Вполне возможно, за моими перемещениями и контактами тогда следила пара любопытных глаз. Собственно, не за мной, а просто так, чтобы потом, обжигая губы кипятком, щедро сдобренным пайковым офицерским сахаром, в закрытом изнутри кабинете было о чем доложить начальнику оперчасти. Чай и любую другую подачку сексот должен отрабатывать, иначе не видать ему больше горячего чайку…
Я пошел в глубь барака, к самодельной печке, в качестве которой служила большая бочка из-под мазута. Там доходяги пристраивали миски с вечерней пайкой, чтоб создать хотя бы иллюзию теплого ужина. Проходя мимо Червоного, я вскользь коснулся его плеча. Поняв, что прикосновение не случайно, Червоный, также не привлекая к себе внимания, повернулся ко мне. Со стороны казалось, будто зек удобнее устраивается. Но когда наши взгляды пересеклись, я заметил, что на меня настороженно поглядывает исподлобья товарищ Червоного, сидевший на соседних нарах и вроде бы ушедший глубоко в себя после работы. Его фамилия вспомнилась сразу, так как приметная была — Воропай. Правда, в то время я уже знал, что бандеровцы обращаются друг к другу, как привыкли: у них принято давать всем что-то вроде прозвищ. Например, к Червоному, главному своему, другие обращались Остап. Этого Воропая называли Лютым. Были еще Мазепа, Мирон, Холод, Ворон — этих прозвищ я в голове тогда не держал, а теперь совсем вылетели. Это ж тридцать лет прошло!
Когда Лютый глянул на меня, я понял: Червоный дал знать товарищу: с ним вошел в контакт чужой, что на уме — неизвестно, поэтому на всякий случай надо готовиться. К чему? А эти люди, как понял я впоследствии, когда познакомились ближе, всегда готовы к схватке, к бою, словом — дать кому-нибудь отпор. Даже эти несколько человек вместе уже были определенной организацией — ни больше ни меньше…
Дав Червоному понять, что к нему есть разговор, я пристроился у огня — благо, топить воркутинским углем заключенным не запрещалось. Печка была небольшой, греться хотелось всем, так что долго здесь никто не сидел — лучше чаще подходить. Вот так, сидя на утрамбованном земляном полу барака, я ждал. Минут через десять ко мне подсел на корточках Червоный. Растопырил большие ладони, прислонил их к горячему металлическому боку печки, прищурил глаза и, не поворачивая головы, спросил тихо:
— Что надо?
Кстати, позже у меня была возможность убедиться еще в одной вещи: как Червоный и другие бандеровцы, так и прибалты, тоже составлявшие определенное сообщество и старавшиеся держаться возле украинцев, очень плохо говорили по-русски. Тогда для меня это было странно. Как это так: кто-то из жителей Советского Союза не знает нашего общего, ну, понимаете — главного языка. Господи, у меня командир танка был из Тального — это такой городок украинский есть, да вы знаете, наверное. А один инструктор на курсах — из Сум, тоже украинец. Так они, и не только они, прекрасно говорили по-русски.
Я думал сначала: это бандеровцы так нарочно. Но со временем осознал: для них и правда этот язык чужой! Иностранный! Ну как для нас с вами польский или чешский! Нет, конечно, они все понимали, даже говорили на ломаном русском, когда общались с кем-то из нас или с начальством. Но в большинстве случаев, по крайней мере в разговорах со мной, которых было немало, Данила Червоный говорил по-украински. И я его понимал.
Но в тот момент, у печки, мы заговорили впервые. Ответил я не сразу и тоже коротко:
— Сегодня ночью будьте осторожны.
— Почему?
— Не знаю. Просили передать.
— Кто?
В сокрытии источника информации я не видел смысла.
— Тайга. Знаешь такого?
— Блатной?
— Угу.
— Понял.
Потом, когда наше знакомство с Червоным стало более тесным, я убедился: в тот момент Данила действительно все понял. А сам я, оказывается, о многом даже не догадывался…
А тогда, выслушав меня, он кивнул, отвернулся, а я поднялся на ноги, подпуская к печке очередного желающего хоть немного отогреться. Мне казалось — все, свою маленькую миссию я выполнил. Оставалось теперь и самому не спать ночью, но об этом и речи не было: на такую жертву, как отказ от положенных по лагерным законам нескольких часов отдыха, я идти не собирался. Ведь чужие дела, что бы за ними ни стояло, меня не касались.
Оказывается, Червоный этого не знал. Или, скорее, совсем на жизненную установку какого-то Виктора Гурова не обращал внимания. Потому что уже через час, когда я укладывался на нары, рядом из темноты услышал тихое:
— Когда все уснут — перейдешь на место Остапа.
Резко повернулся на голос, но, как следовало ожидать, никого в темноте барака не разглядел. Но просьбу, точнее, распоряжение, передал не сам Червоный. До сих пор не могу объяснить, почему решил подчиниться и через полчаса, когда барак погрузился в сон, осторожно сполз со своих нар на нижнем ярусе и в сумраке пошел туда, где разместились бандеровцы.
Когда и как Червоный прошел мимо меня — не знаю. Нашел его место, тоже нижнее, устроился. Доски, как сейчас помню, еще сохраняли остатки человеческого тепла. Вытянулся на спине, закрыл глаза и понял, что вот теперь точно спать не буду.
Что бы ни началось этой ночью, о времени, когда все произойдет, мне ничего не известно. Поэтому приготовился ждать. Потом веки сами сомкнулись. Чтобы, как мне казалось, через мгновение разомкнуться снова.
Я услышал скрип входной двери. Другие не услышали, поскольку ни о чем еще не подозревали. «Политический» барак крепко спал. Время здесь остановилось, ведь мы измеряли его от подъема до отбоя. Я проснулся от этого звука, потому что чего-то напряженно ждал. Вот и отлетел сон. Его место занял страх. Не тот, лагерный, к которому привыкаешь.
Это было липкое предчувствие близкой и неминуемой смерти.
5
Глаза мои давно привыкли к темноте. Не только тут, в бараке: бо́льшую часть года здешние северные ночи держались дольше, чем дни. Поэтому вследствие длительного проживания в условиях ночи человеческое зрение приспосабливалось. Кое-кто из политических, тех, кто умудрился прожить здесь свыше пяти лет, приучился видеть в темноте, как кот.
Рассмотреть тех, кто проскользнул в барак, удалось не сразу. Понял только: в кого бы ни материализовались эти темные фигуры, они пришли убивать. И двигались как раз в мою сторону. Даже не так — они надвигались на меня.
Вспоминаю, что в ту ночь, застыв на нарах с полуприкрытыми глазами, я не чувствовал своего скованного ужасом тела, но сознание работало на полную. Не решаясь ни одним движением выдать себя, я тем не менее с каким-то странным для меня самого спокойствием посчитал двигавшиеся тени. Их было десятеро, и в движении они выстроились в боевом порядке, рассредоточившись по всему бараку. Они как будто заполонили собой барак через какое-то короткое мгновение и заняли проход, не оставив шанса выскользнуть для тех, кто вдруг отчаянно решил бы это сделать.
Первая фигура, которая двигалась крадущимися шагами хищника, была уже близко. Теперь даже из-под полуопущенных век я рассмотрел лицо Саввы Зубанова. Скользнув взглядом ниже, увидел в его правом кулаке короткую заточенную железку — пику. Мозг работал на полную катушку, и я достаточно легко сложил два и два: Зубок и другие суки пришли среди ночи не за мной.
На месте, где сейчас лежал я, раньше спал Данила Червоный. И Зубок это знал, так как уверенно подходил именно сюда.
Значит, отметил я для себя, кто-то из нашего барака поддерживает связь с «ссученной» командой. А суки, в свою очередь, имеют возможность свободно передвигаться по территории зоны ночью, поскольку на их дела лагерная администрация по большей части закрывает глаза, ведь они работают в одной спайке. То есть информаторы рядом с нами все-таки есть и если не напрямую передают сведения сукам, то через оперативную часть лагеря точно.
Почему в то мгновение думал именно об этом — сейчас не скажу. Зато точно помню, какой была следующая мысль: мое место в бараке — ближе к двери, и сейчас Червоный лежит за спинами Зубка и его банды убийц. То есть у них в тылу. Значит, бандеровец либо знал, что так получится, либо очень быстро «прокачал» ситуацию и предпринял тактические шаги. Остается понять, подставляет ли этот бандюга меня под ножи уголовников или…
От осознания того, что Червоный послал меня на смерть вместо себя, а я подчинился, из головы вылетели вдруг все мысли, кроме одной: сейчас меня зарежут, как свинью. Захотелось кричать, заявить об ошибке, попробовать хоть так спастись от неминуемой гибели. Но вряд ли Зубка и его сообщников остановило бы то, что в катавасии попадет под горячую руку случайный человек. Один или несколько. Тем не менее я уже собрался кричать.
Но не успел.
Тяжелую тишину барака вдруг всколыхнул громкий выкрик:
— ХЛОПЦЫ!
Это Данила Червоный крикнул из-за сучьих спин. От неожиданности Зубок, который стоял в двух шагах от меня и даже примерялся ударить, застыл, согнул колени, приседая, и резко обернулся на голос. Никто из ночных визитеров не готовился к организованной встрече — бандеровцам удалось-таки застать их врасплох.
Со своего места я только успел увидеть, как на вооруженных заточками сук с разных сторон дружно кинулись бандеровцы. Они навалились все вместе и сразу, действовали молча и слаженно. Рукопашная началась стремительно, шум борьбы разбудил всех, пространство барака мгновенно заполнили крики — удивления, страха, боли.
Оцепенение вмиг отпустило, и я сбросил свое тело с нар на пол. Но желание лезть под нары, чтобы не участвовать в чужой войне, вдруг пропало. Поднявшись на ноги, я замер, пытаясь понять, что происходит в проходе. Я не хотел становиться ни на сторону сук, которых привел сюда мародер и насильник Зубанов, ни на сторону националистов, к которым примкнули численно уступавшие прибалты, я впервые за годы тюрем, пересылок и лагерного выживания ощутил острую потребность что-то сделать. Почувствовать себя опять человеком, способным огрызаться.
В конце концов, суки пришли ко мне в дом, каким бы этот дом сейчас ни был. Пускай сегодня они пришли за жизнями бандеровцев, но где гарантия, что завтра они так же свободно среди ночи не придут за кем-нибудь другим. За мной, например… Кулаки сжались непроизвольно, и я сделал шаг вперед, выдвигаясь в проход между нарами. Туда, где драка была в разгаре. Я видел, как передо мной бандеровец Лютый голыми руками ломал вооруженного пикой суку, крепко обхватив врага. Чуть дальше двое других, украинец и литовец, сосредоточенно пинали кого-то, сбитого с ног. Разобрать, кто есть кто, было трудно, и мне даже показалось: бандеровцев и «лесных братьев» значительно больше, чем сук, так что у последних не оставалось шансов, хотя против них были безоружные и бесправные зеки.
Я не сомневался — на крики охрана не прибежит. Похоже, у вертухаев был приказ не реагировать на шум в «политическом» бараке. Но если это не остановят часовые — то этого не остановит никто: тишину распороли первые крики боли — так кричат раненые. В следующее мгновение прямо на меня из кучи бойцов выпал согнутый пополам человек. Он держался за лицо, сквозь пальцы текла кровь. Раненый не удержался, опустился на колени — и тут же над ним завис разъяренный бандит, замахнувшись заточкой и собираясь добить врага.
У меня сработали давно забытые рефлексы — резко бросился наперерез, перехватил занесенную руку и вложил всю оставшуюся силу в удар, нацеленный в лицо. Кулак врезался в острый подбородок, послышалось клацанье челюсти, сука зарычал, развернулся ко мне, легко освободил руку и ударил в ответ.
От первого выпада я уклонился инстинктивно, сделав шаг в сторону, и опять попробовал ударить, но во второй раз бандит прицелился лучше — и боль обожгла левый бок. Я закричал, отшатнулся, схватился за рану, почувствовав липкую кровь. Третьим ударом меня собирались добить, но вдруг за спиной убийцы выросла высокая худощавая фигура. Я узнал Червоного.
Резко развернув суку за плечо к себе, бандеровец, коротко замахнувшись, рубанул его ребром ладони, метя в горло. Но тот дернулся, и удар пришелся на ключицу, рука с ножом опустилась, и Червоный вывернул суке руку, причиняя боль и вынуждая уронить оружие на пол.
Схватка увлекла бандеровца, и он не заметил стремительного нападения сзади. Я предупредил его выкриком. Похоже, это спасло ему жизнь — пика, которая могла проткнуть спину, скользнула по правому боку. Червоный пошатнулся, не удержался на ногах, споткнулся о раненого и упал. Я снова разглядел Зубка — это он собрался добить Данилу, но не успел. На него навалились двое, сбили, и он проворно пополз под нары — только так смог спастись.
Вот теперь снаружи заревела сирена. Даже если так и планировалось, уголовники имели возможность убежать из нашего барака раньше, до появления охранников во главе с капитаном Бородиным. Для меня и, думаю, для других все вокруг закрутилось, поэтому, сидя на полу и опершись спиной о нары, я не зафиксировал четко, когда именно побежали из барака суки, а когда налетели вертухаи.
Пространство барака вмиг наполнилось светом их фонариков. Его оказалось достаточно, чтобы увидеть разгром, вызванный короткой кровавой схваткой, и понять: никого из напавших здесь нет. Вдоль нар с обеих сторон прохода выстроились по приказу Бородина зеки. Кроме раненых. Тот, кого ударили в лицо, лежал дальше на полу, впоследствии я узнал, что это литовец Томас, в драке ему выкололи глаз. А я стоял рядом с Червоным, мы даже поддерживали друг друга, каждый держась за окровавленный бок. Правда, я дернулся стать со всеми в строй, но Червоный, слегка стиснув мое плечо, не дал этого сделать.
— Что тут такое? — рявкнул «кум», ослепляя меня электрическим лучом. — Осужденный Гуров, какого хрена здесь происходит? Подрались? Чего не поделили? Оружие где, мать вашу, враги народа долбаные!
— Своему народу я не враг, — процедил сквозь зубы бандеровец, и как раз тогда я впервые услышал от него такие странные и не до конца понятные мне слова.
— Это кто там у нас? — луч переместился на Червоного. — Ага, фашистский пособник? Не поделил что-то с советским танкистом, морда бандеровская?
— На нас напали, гражданин капитан, — выдавил я из себя.
— Напали на них… Кто тут такой борзый, а? Молчим? В молчанку играем, Гуров?
Но начальник оперативной части уже сам понимал — что-то не сработало, и он увидел точно не то, чего ожидал. В его полной информированности насчет того, кто приходил сюда ночью и с какой целью, я уже не сомневался. Теперь перед ним была другая проблема: трое раненых. Даже по здешним правилам всех троих следовало поместить в больничку, а уже потом — разбираться. Если бы таких, как мы, можно было просто застрелить на месте, на глазах у таких же бесправных зеков, это сделали бы уже давно. Однако для лагерной администрации даже бандеровцы — прежде всего рабочие руки, и добывать воркутинский уголь они должны до последнего.
— Разберемся, — отчеканил Бородин, отводя луч и пробегая им по шеренгам доходяг. — Во всем разберемся. И накажем. Вы, — кивок в нашу сторону, — в медицинский блок… Пока что. Вижу, ковыляете. Так что сами доползете. Его заберите. — Кивок на Томаса. — Всем остальным — спать! Услышу еще хоть писк до утра — разбираться не буду. Десять доходяг в ШИЗО, давно оно по вам плачет! Профилактика… бля…
Это он произнес, уже двигаясь к выходу. Все-таки не сдержался: остановился около первого попавшегося зека, приказал сделать шаг вперед, обвел тяжелым взглядом, без замаха влупил в солнечное сплетение, удовлетворенно посмотрел, как тот сгибается от боли, и наконец оставил нас в покое.
6
Прибалту Томасу повезло меньше, чем нам, — он все-таки потерял глаз.
Хотя он и увидел в этом определенную выгоду: теперь его держали в санчасти, давали «больничную» пайку — чуть больше хлеба, кашу и мерзлую свеклу, и, по большому счету, не имели права использовать для работ в шахте. Из моего опыта, выздоровлением раненого в лагерях считается момент, когда у него перестает идти кровь из раны. Но все равно какое-то время ему не найдут другой работы, кроме как санитаром.
Наша с Червоным ситуация оказалась лучше. Меня приголубили ножом не очень сильно, его — немного серьезнее, пришлось даже зашивать. Однако более чем десять дней никто нас с такими ранениями не держал на больничной койке с относительно свежими, зато всегда выстиранными простынями.
Конечно, в том, что произошло ночью, никто особенно не разбирался. Нас по очереди допросили под протокол, и я почему-то решил не называть «куму» Савву Зубка. Ни с кем об этом не договаривался — решение последовало из нежелания всех других участников стычки называть вообще хоть кого-то. Общее «не знаю», полная несознанка бандеровцев и прибалтов передалась и мне, так что я давил на другое: случайно попал в эту кашу. В принципе, такие ситуации отвечали действительности. Вряд ли я мог вступить в какой-то сговор с националистами, да и Бородин с Абрамовым хорошо изучили меня и, соответственно, мое нежелание влезать в чужие разборки по доброй воле.
Впоследствии я понял нежелание бандеровцев пересказывать в оперативной части лагеря истинное развитие событий. Во-первых, это означало сотрудничество с администрацией, с коммунистами, чего Червоный и другие позволить себе не могли. Во-вторых, они сделали выводы, и результаты этого не только я, а и вся зона увидели довольно скоро. Пока же мы лежали на соседних койках. Так и началось наше более тесное знакомство.
И хотя мы с бандеровцем дрались плечо к плечу в темноте, мне все равно не хотелось вступать с ним в более тесный контакт. Червоный начал первым, спросив на следующий же день, когда меня отпустили с допроса в больничную палату:
— Тебя как зовут?
— Виктор, — ответил я удивленно, так как почему-то считал: Даниле мое имя уже известно.
— Откуда ты?
— Ленинград.
— За что здесь? — это уже смахивало на допрос.
— Тебе какое дело? — невольно огрызнулся я.
— И все-таки?
— В танке горел, — произнес я, немного подумав. Мне самому не хотелось лишний раз вспоминать свою печальную историю.
— Не сгорел, получается…
— Как видишь… Даже не обгорел.
— Дальше что? За то, что не обгорел, сюда попал? Почему политическая статья?
— Когда наш танк подожгли, немцы как раз прорвались. Около полутора суток был во вражеском тылу. В лесу пересидел… Потом наши опять взяли этот рубеж. Ну, я вышел к своим.
— Ага. Свои же тебя и посадили.
— Это ошибка! — вырвалось у меня.
И сразу же я пожалел о своей несдержанности — Червоный, настоящий враг советского народа, теперь может решить, что я тоже имею какие-то претензии к власти.
— Ошибка, — легко согласился он. — А в чем ошибка?
Я вздохнул. Видимо, все-таки придется ему объяснить.
— Экипаж расстреляли, когда подбитый танк загорелся. Мне, считай, повезло — ни ожога, ни царапины. Об этом меня потом особисты спрашивали: почему весь экипаж погиб в бою, а механик-водитель даже не пострадал? Что делал во вражеском тылу тридцать четыре часа? Куда делся планшет командира танка? Ну откуда я знаю, куда делся его планшет! — Вдруг я завелся. — Ну, слово за слово — пошло обвинение в измене родине. Мол, почему я не застрелился, когда оказался в окружении… А немцы меня не заметили даже! Там же война кругом! Говорит особист: вас, сержант Гуров, успели перевербовать, ведь вы отдали фашистам планшет своего командира, а там были стратегически важные карты… Не было там стратегически важных карт!
— Ты откуда знаешь? — Червоный улыбнулся уголками губ.
— О! Точно так же меня спрашивали в особом отделе фронта! Откуда сержант может знать, что держит в своем планшете старший лейтенант? Да я в него заглядывал… Если бы еще меня хоть ранили… Ну, хоть какая-то царапина…
— Видишь, как бывает: цел — и не слава богу. Лучше бы убили. — Вопреки серьезности ситуации Червоный опять улыбался.
Как будто мысли мои читал: иногда мне такое приходило в голову, но я гнал это от себя. Затем почувствовал где-то в глубине сознания — не должен я вот так запросто, на равных, вроде как… не знаю… исповедоваться этому предателю… Пусть даже не исповедоваться, даже говорить с ним о таких вещах. Но остановиться уже не мог: за все время никто — от фронтового откормленного особиста до зека на соседних нарах — не интересовался моей грустной историей с такой явной искренностью.
Пока, правда, я не мог разобраться, что же так веселит Червоного в моих мытарствах, но потом решил: где-то в глубине души бандеровец издевается над бывшим сержантом Красной армии. Не из-за ненависти ко мне лично — ведь тогда, во время кровавой драки в бараке, Данила, честно говоря, спас мне жизнь или, по крайней мере, уберег от тяжелого ранения. Просто у них это в крови — не любить нас : так я тогда думал. Но начав рассказ или исповедь, уже не мог остановиться.
— Не знаю, что лучше… Только потом мне, считай, подфартило. Приехал через неделю какой-то серьезный человек из военной прокуратуры, изучил все, по его мнению, противоречивые дела. Дошло до моего. И решил так: с меня хватит трех месяцев штрафной роты и разжалования в рядовые. Ну, пускай так — рядовой, штрафник, зато живой. Там тоже люди воюют. Только дальше я сам, наверное, виноват…
— То есть ты сам точно не знаешь, виноват или нет? — С того момента я чувствовал некоторое давление со стороны собеседника.
— Ну… Я мог бы удержаться…
— От чего?
Я вздохнул.
— Нас послали в атаку, на прорыв… Штрафников всегда бросают вперед, когда надо прорвать линию обороны на тяжелом участке…
— Пушечное мясо — известный прием, — кивнул Червоный. — И что дальше?
— Ничего! — неожиданно для себя огрызнулся я. — Много ты знаешь! Мы воевали! На войне! На передовой, в окопах! С немцами, твою мать!
— Мы тоже воевали, — спокойно сказал Червоный. — И с немцами тоже.
— Молчал бы! Мы воевали за родину!
— И за Сталина, — напомнил он.
— За Сталина! — Теперь я говорил с вызовом. — За Сталина! За родину и за Сталина бойцы поднимались в атаку и шли с винтовками на танки! И таких, как вы, на фронте без суда — к стенке! Именем Союза Советских Социалистических Республик!
— В самом деле, именем вашего Савецкого Союза, — Червоный именно так, нарочно искажая, произнес название страны, — наших бойцов и простых людей, украинцев, расстреляли ваши за десять лет много. — Он держался спокойно, как человек, уверенный в своей правоте. — Вот ты сидишь в лагере, тебя осудил советский суд. И все равно требуешь стрелять таких, как мы. Как я. — Бандеровец ткнул себя пальцем в грудь. — Даже без суда. Так?
— А хоть бы и так. — Пока я не вполне понимал, к чему ведет бандеровец, хотя подозревал — загоняет в какую-то ловушку.
— Скажи… ну а сам — стрелял бы? По приказу, без приказа, просто так — стрелял бы?
— Стрелял, — упрямо гнул я свою линию.
— За что?
Последнюю фразу он не произнес — выплюнул. Мне вдруг захотелось быть похожим на Червоного в этой его уверенности. Поэтому ответил, невольно перенимая его интонации:
— За предательство! Предателей даже в мирное время расстреливают!
— Предателей чего? Или кого? Кого мы предали, Виктор? Я, конкретно, что, по-твоему, предал?
— Родину.
— Какую? Виктор, свою родину, — он опять ткнул себя указательным пальцем в грудь, — свою, понимаешь, свою я не предавал. И никто из моих ребят: убитых, замученных, загнанных в ваши лагеря, за колючую проволоку, в ваши шахты и копи, на ваши глиняные карьеры и рудники, даже те, кто на воле до сих пор продолжает борьбу, — никто, ни один из нас не предал родину. Мы готовы умереть за нее. И за нее, Виктор, мы умираем от вражеских пуль.
— Не лепи мне тут горбатого, Червоный! Ты воевал против Советского Союза, против своей родины…
— А ваш Советский Союз, Виктор, не моя родина! — резко перебил меня Червоный, подавшись вперед, и в его глазах я рассмотрел невиданный ранее блеск. — Моя Родина — Украина. Не эта, придуманная вами Украинская Советская Республика, а свободная страна. Где нет ни советской власти со Сталиным и Кагановичем, ни польской шляхты с Пилсудским, ни немецкого рейха с Гитлером и его наместником Кохом.[23]Даже царская Россия и Австро-Венгерская монархия — тоже не наше.
— Но революция свергла царя и освободила народы! А товарищ Сталин это дело завершил…
— Большевики не дали свободы Украине. Они забрали власть над моей страной сначала у русского царя, потом у поляков, а теперь вот у немцев. Мой народ коммунисты и дальше держат в неволе. Тебе трудно это понять, но так и есть, хлопец.
Проговорив это, Червоный подался назад, оперся удобнее руками о металлический край больничной кровати, коснувшись раны на боку. В его взгляде я прочел осознание собственного превосходства. Но вряд ли бандеровец знал, что на политзанятиях Виктор Гуров не был отстающим. Кое-что об общеполитической ситуации я всегда знал и мог начать любую дискуссию. Кроме того, четыре года рядом с разговорчивыми «врагами народа» тоже чему-то да научили. И если Червоный думал, что я замолчу, то ошибался: уж кто-кто, а я за словом в карман никогда не лез.
— Что это у тебя за особенный народ такой, который держат в неволе? Бандиты, националисты — это твой народ?
— Вряд ли объясню, — ответил Данила. — Но попробую. Может, ты даже сам себе все сможешь объяснить. Мой народ — украинцы. То, что часть из нас сейчас действительно служит Советам, даже сами становятся партийными, еще ничего не значит. Твой народ — русские. Народ вон Томаса, — кивок в сторону раненого прибалта, который, кажется, прислушивался к нашему разговору, — литовцы. Среди людей разные есть. Теперь давай подумаем, Виктор, почему мы трое — русский, украинец и литовець — сидим в одном лагере по одной статье. Что у кого мы украли? Вот ты пошел на фронт почему?
— Бить фашистских оккупантов!
— Правильно. Потому что они пришли на твою землю, ограбили и сожгли твой дом, обесчестили твою жену, вывезли на чужбину твоего ребенка.
— У меня нет никого, — огрызнулся я, так как Червоный задел за живое. — Все мои умерли от голода, в Ленинграде, зимой сорок второго! Может, ты ничего не слышал о блокаде?
— Слышал, — кивнул бандеровец. — Но не украинцы виноваты в том, что случилось с твоими близкими. Это Сталин начал грызню с Гитлером. Поэтому твой город, окруженный немцами, более чем наполовину вымер.
— Не трогай Сталина, — процедил я сквозь зубы. — На нас напали. Мы защищались и победили.
— О! — Червоный многозначительно поднял палец вверх, как будто поймал меня на нужном ему слове. — А на нас тоже нападали. И не раз.
— И кто это на вас нападал? Вы — это кто? Чем на нас не похожи?
— Все люди одинаково созданы, — это прозвучало как-то даже по-философски. — Головы, руки, ноги, сердца… Только ты — русский… вы русские. Мы же — украинцы. Вот и вся между нами разница. Но мы же с тобой здесь берем шире, правильно?
Я промолчал. Теперь Червоный говорил, словно наш осужденный за критику власти институтский доцент. Вот это его берем шире так вообще было одной из любимых фраз Шлихта: как заведутся с кем-нибудь из троцкистов, только и слышишь — бери шире, бери шире… Данила же расценил мое молчание как согласие и продолжил:
— У нас, украинцев, тоже есть своя земля, исконная. Но по нашей… по моей земле сначала топтались царские и австрийские сапоги. Потом — российские, польские, немецкие, опять российские. У меня была жена — она умерла во время родов в тюрьме. Ее даже беременную держали в сырой холодной камере. И издевались над ней… Над моей Ульяной… — Он судорожно сглотнул — дернулся снизу вверх острый кадык. — Мой ребенок так и не родился. И это была ваша, савецкая тюрьма, — Червоный перевел дух. — Так можешь, наконец, рассказать, за что ты здесь сидишь, если ты служишь своей стране даже теперь, на каторге?
— Сказать? Скажу! — Теперь я набрал в легкие воздуха, чтобы выдохнуть ему все сразу. — Штрафников погнали вперед, на немецкие доты. У половины из нас не было оружия — его добывали в бою. Когда полегли первые, остальные развернулись и в панике побежали назад, в окоп. И я бежал вместе со всеми. Я не хотел умирать, Червоный, понимаешь? Я выдержал там, в штрафроте, почти месяц. Была надежда на пересмотр приговора, я уже писал письма в инстанции… Когда мы… — Вдруг говорить стало тяжело, но я пересилил себя. — Когда мы запрыгнули назад в окопы, там уже бегал молоденький особист, фамилию навсегда запомню — Орлович. Старший лейтенант Орлович. Он требовал, чтобы мы вернулись назад, потом угрожал расстрелом предателям и дезертирам. Кто-то его послал — языки у штрафников длинные. Тогда Орлович выстрелил сначала в воздух. Затем расстрелял из нагана троих — одного за другим. Стрелял в упор… На меня тогда что-то накатило… Я должен был сдержаться, но сам не знаю, как бросился на Орловича, повалил, вырвал наган, бил, куда попадали кулаки…
— Понятно, — сказал Червоный. — Покушение, попытка убийства офицера НКВД, сопротивление, невыполнение приказов. Может, еще терроризм?
— Смешно тебе, я вижу…
— Нет ничего смешного. Ты, Виктор Гуров, советскую власть защищаешь. Но тебя приговорили к десяти годам каторжных работ и лишили гражданских прав. Кто, немцы тебя приговорили? Или, может, мы, борцы за свободную Украину? Ты, может, письма писал вашему Сталину?
— А хоть бы и писал!
— Жаловался на несправедливость?
— Орлович расстрелял красноармейцев. Пускай бойцов штрафной роты, но это были наши люди, советские. Вокруг война, однако он не имел права стрелять в своих. Вот товарищ Сталин понял бы все, приказал бы разобраться…
— Ага, он же добрый, ваш Сталин. Друг всех народов… Только, как я вижу, у Сталина поважнее дела есть, чем читать письма какого-то рядового, который осмелился дать безнаказанному краснопогоннику в морду, а потом раскаялся. Ты же раскаялся, Виктор Гуров?
— Потому и не расстреляли, — буркнул я.
— Раскаялся — и тебя вместо расстрела послали сюда, гнить заживо. — Червоный широко развел руками. — Теперь я тебе кое-что расскажу. В пересыльной тюрьме со мной в одной камере сидел красный командир. Летчик, капитан Бурлаков, как сейчас помню. Он горел в самолете, выпрыгнул с парашютом, попал в плен. Год или чуть больше сидел в концлагере. Там подняли бунт, он и еще несколько человек смогли захватить немецкий самолет, поднять его в воздух и сбежать. Те, кого Бурлаков называл своими, вместо того чтобы радоваться возвращению героя, пришили ему измену родине. Ничего не напоминает?
Я решил — лучше молчать, разговор становился все более опасным для меня. Если бы я точно не знал, что Червоный — враг советской власти, решил бы: провокатор. В тюрьме с такими разговорами частенько подкатывали скользкие сомнительные типы, чтобы потом тем, кто на это велся, добавляли сроки.
— Ну, молчи, молчи… И слушай: на руке, здесь, выше запястья, — бандеровец показал, — у Бурлакова был выжжен лагерный номер. Одна тысяча сто сорок восемь, я это хорошо помню. Знаешь, что убило Бурлакова окончательно? Не садисты из НКВД, которые лупили его ногами, выбивая признание в предательстве. Не следователь-еврей, который усердно и монотонно уговаривал сознаться в обмен на еду и даже настоящий черный кофе в кружке. Не приговор — десять лет лагерей, стандартный для вашего брата-предателя, — тут Червоный опять улыбнулся, — а номер, Виктор. На этапе нас переодели, выдали телогрейки с нашитыми номерами. Знаешь, какой номер присвоили бывшему капитану Бурлакову? Одна тысяча сто сорок восемь! Такой же, как в немецком концлагере, Виктор Гуров!
— Случай…
— Конечно, случай. И с ним случай, и с тобой. Это только мы вон с Томасом и другими ребятами здесь, в савецком концлагере, не случайно. А ты здесь за что? Бурлаков? Жид этот, Шлихт, профессор…
— Доцент, — автоматически поправил я.
— Пускай доцент, все равно ученый. Мог бы быть полезен своей стране и как-то иначе, чем отваливать угольную породу. Или сидеть вот здесь этим, табельщиком или как оно, бог его знает, называется… — Опять короткая пауза. — Летчик Бурлаков умер на этапе. Наложил на себя руки. Ночью перегрыз вены. Зубами. Теми, что не выпали в немецком лагере и не были выбиты стражами советских законов. Перед этим он сказал: «Родина меня предала, Данила». Теперь понял, почему ты здесь и почему ты такой? Почему никому никогда не сопротивляешься? Почему принимаешь за счастье медленную смерть в лагере, на которую заменили мгновенную смерть от пуль расстрельной команды? Потому что не ты предал родину, Виктор Гуров, — она предала тебя. И всех остальных. Даже тех, кого еще не посадили сюда. Тебе уже не на кого надеяться.
— Можно подумать, тебе есть на кого…
— Меня, во всяком случае, моя родина не предавала. И на произвол судьбы не бросала. Не оставляла умирать вот здесь, где каторжный труд с утра до ночи. И где бандиты, которые зарежут быстрее, чем застрелит часовой при попытке к бегству. Над этим подумай, мужик…
Пока администрация вынуждена была держать нас с Червоным в лагерной больнице, бандеровец время от времени возвращался к этим разговорам. Я то заводился, то отмалчивался, поскольку признавал мысленно: крыть, как говорится, нечем.
Гораздо позже, когда случилось то, к чему день за днем уверенно шел Данила Червоный, доцент Шлихт, которому тоже удалось выжить после тех трех суток, тихонько объяснял мне почти то же самое: заключенные из Украины и прибалтийцы в самом деле не сломались и продержались достойно только потому, что не чувствовали себя преданными своей страной. Они воспринимали свое положение как вражеский плен, ни на что и ни на кого, кроме себя, не полагались и поэтому чем дальше, тем больше людей перетягивали на свою сторону из тех, кто видел их рассудительность и организованность.
Понятно, между прочим, как удалось Червоному и другим бандеровцам доехать по этапу в своих сапогах: никто из них, услышав приказ первого попавшегося блатного, не снял бы их. Уголовники, как я убедился, увидели в этих людях настоящую силу, способную пойти против их силы и даже победить…
А тогда, после первой такой беседы с Червоным, на языке так и крутились истории других фронтовиков, собранных в нашу лагерную похоронную команду.
Саня Морозов, прозванный Морячком за то, что на этапе на нем была подаренная погибшим другом настоящая морская тельняшка, теперь уже истлевшая и сожженная в печи, служил в разведке и однажды не уберег очень важного «языка». Через линию фронта перетащил уже мертвого немецкого офицера — рядом разорвалась мина, в пленного попал осколок. В особом отделе Морозова обвиняли в том, что он, мол, не выполнил приказа командования, а это преступление, тогда Саня, который перед этим почти не спал двое суток, охотясь за «языком», высказал особисту все, что накипело на душе. Наговорил на статью, которая предусматривала наказание за антисоветскую агитацию и пропаганду.
Иннокентий Свистун — Кеша — не подчинился приказу старшего по званию и отказался расстреливать на месте товарища, заявив: «Я не палач, а старший сержант!» Осужден за то, что, по утверждению его командира, члена партии, назвал в его лице палачами всех коммунистов. Марат Дорохов, офицер саперных войск, влюбился в девушку из санитарной части, на которую положил глаз командир их полка. Результат — донос, обвинение в антисоветской агитации, трибунал и приговор.
Не рассказал их Червоному, потому что после того разговора признал его правоту только в одном: никто из нас, осужденных советским военным судом фронтовиков, даже не думал сопротивляться своей судьбе. И пересматривать свои взгляды на то, что происходило в стране. Скажу вам — и без агитации таких, как Червоный, мы рано или поздно поняли бы, что виноваты не прокуроры и судьи, а сама система. Не дураки, слава богу.
Но в то время никто не говорил с нами о подобных вещах.
Да, сейчас готов признать: очевидных вещах.
7
С момента нашего возвращения в барак до того морозного вечера, когда Данила Червоный впервые заговорил со мной о паровозе и железной дороге, случилось три важных — как для особого лагеря номер шесть, так и для меня лично — события, о которых стоит вспомнить.
Первое произошло не на моих глазах. Или так: я видел, как под утро, примерно через неделю после того, как Червоный и я заняли свои места на нарах, несколько человеческих фигур бесшумно скользнули по проходу мимо меня к выходу из барака и растворились в темноте. Сначала я даже решил — это мне снится. Но после проведенного в больничке времени, когда спать позволялось больше, чем здоровым заключенным, — хотя понятие «здоровый зек» на самом деле достаточно условное, если, конечно, говорить не о блатных, которым их закон запрещает физический труд, — я какое-то время не мог восстановить сложившийся режим сна. Поэтому просыпался где-то за час до команды и лежал либо с закрытыми глазами, либо глядя на деревянный низ верхних нар.
Примерно в это время, как раз за час до общего подъема, часовые начинали обход зоны, открывая двери бараков, которые регулярно закрывались на ночь. И если кто-то среди ночи имел возможность зайти в другой барак, это означало — вертухаи в курсе. Без их разрешения никаких перемещений не происходит.
Кроме тех, что я заметил в то утро. Очевидно, бандеровцы, готовившие свою вылазку, тщательно изучали лагерный распорядок. Как я убедился позже, Данила Червоный досконально, по минутам, знал все, что происходит в зоне, когда она живет своей обычной жизнью, без чрезвычайных происшествий. Поэтому он вычислил: с пяти до шести утра, когда часовые открывают бараки снаружи, — единственный способ выйти. И бандеровцы в то утро вышли, точнее, выскользнули и утекли, как тихий ручеек.
Первая мысль: сбегают. На самом деле чего-то подобного от них можно было ожидать. Во всяком случае, Червоный, его товарищи Лютый, Мирон, Холод и Ворон — точно не из тех, кто покорно будет сидеть здесь, наивно веря, что дотянут до конца своих ужасно долгих сроков — двадцать пять лет. Но как-то слишком быстро, без особой подготовки рванули бандеровцы на волю…
Но когда они через какое-то время так же тихо вернулись и снова улеглись каждый на свои нары, я, честно говоря, отказывался что-нибудь понимать. Прояснилось все довольно скоро — во время утренней проверки. Случилась небольшая задержка с выходом на работу, по лагерю бегали раздраженные Абрамов с Бородиным, но на «политиков» совсем не обращали внимания. Наша похоронная команда узнала подробности первой: кто-то проник в барак, где осели суки, и зарезал сразу четверых, Савву Зубанова и Зубка в том числе.
Из обрывочных фраз, услышанных нами на протяжении дня, я понял: начальник оперативной части подозревает воров, ведь теперь у «ссученных» фактически нет главного. Никто даже не допускал, что на такую дерзкую карательную операцию может решиться кто-то, кроме уголовников. К тому же у лагерных оперов, как я понял, не укладывалось в голове, что заточки, пики или другое самодельное оружие мог держать в руках кто-то другой, тем более «политические». Я был более чем уверен: тогда, в драке, бандеровцы смогли частично обезоружить нападавших, и теперь их орудия убийства спрятаны где-то в нашем бараке. Эти трофеи бандеровцы пустили в дело прошлой ночью.
И, повторюсь, прошмонать наш барак капитану Бородину даже в голову не приходило. А вот Колю Тайгу, Шарика и еще нескольких блатных уже до завтрака закрыли на всякий случай в ШИЗО. Но численное, а главное — моральное преимущество «законников» над «ссученными» эта ночная акция все-таки утвердила.
Хоронить убитых, разумеется, пришлось нам. Как раз тогда ко мне пришло понимание степени готовности бандеровцев к организованному сопротивлению любому, кто попробует сунуться к их группе. Да, они переждали, к тому же после той памятной ночи суки больше в наш барак не лезли. Но только теперь я понял тонкий расчет Коли Тайги.
Сначала он узнал, что Зубок поведет своих резать бандеровцев. Между прочим, Червоный еще в больнице обмолвился: такое практикуют почти во всех лагерях, его предупредили, но кто — не уточнил. Значительно позже я узнал о существовании в лагерях какой-то подпольной украинской организации, которая непонятным мне образом наладила связь между бандеровскими группами на зонах по всему Северу. Итак, Тайга предупреждает Червоного, тоже, видимо, владея нужной информацией и зная — об украинцев и заодно прибалтов его личные враги, «ссученные», наверняка обломают зубы и когти. Ну а затем бандеровцы сами нанесли ответный удар, ослабив сук и сыграв на руку ворам. Невыясненным остается, понимал ли Червоный, что своими акциями играет на руку Коле Тайге, или не обращал на это внимания, выстраивая собственную стратегию и тактику сопротивления.
А через несколько дней майор Абрамов попробовал взять реванш и в очередной раз утвердить на подчиненной ему территории выгодные ему порядки.
В тот день пришел очередной этап, и даже «пятьдесят восьмая статья» знала: он «черный». То есть среди осужденных преобладали воры. Если на таком этапе оказывались суки, их, согласно криминальным законам, могли убить по дороге к конечному пункту назначения. Наоборот тоже случалось: воры, попавшие на «сучий» этап, также рисковали жизнью. Правда, им, в отличие от «ссученных», давали реальный шанс выжить: отречься от законов и переметнуться на сторону врага — и, конечно, сотрудничать с администрацией. Если зона, куда они попадали, оказывалась «красной», «перекрашенные» воры могли в перспективе подняться выше в лагерной иерархии: суки, набирая силу, постепенно переписывали криминальные законы под себя.
Но этап, выведенный на плац в то холодное утро середины октября, был «воровским».
Это знал Коля Тайга: тюремная почта донесла ему, что с этапом идет еще один известный авторитетный вор — Ваня Француз. Из своего опыта я знал: таких, как он, сразу по прибытии на всякий случай закрывают на несколько суток в штрафном изоляторе, пока оперативная часть выясняет обстановку в лагере и решает, как бы ослабить влияние уголовников с серьезной репутацией. Но на сей раз майор Абрамов решил действовать иначе.
Этап сразу с карантина вывели на лагерный плац. А нас всех не погнали на работу, как того требовал распорядок, а тоже вывели и выстроили таким макаром, чтобы мы хорошо видели происходящее. К первым морозам добавился первый воркутинский снежок — еще не сильный, легонький, даже какой-то неожиданно уютный. Легкий утренний ветерок гонял поземку, слепленные сухие снежинки сбивались вокруг подошв наших ботинок, сапог и чуней, и кое-кто из зеков невольно опускал глаза, следя за невинными забавами северной осенней погоды.
Еще горланило радио — репродуктор выдавал тогда:
Есть город, который я видел во сне. Ах, если б вы знали, как дорог У Черного моря явившийся мне В цветущих акациях город. У Че-ор-но-ого моря!Этап по приказу Абрамова по периметру окружили автоматчики. Сам майор, в нарядном белом полушубке с меховым воротником, в белых бурках, перетянутый ремнями портупеи, сначала прошелся вдоль нашей шеренги. За ним, на шаг сзади, двигался капитан Бородин. И когда они проходили мимо меня, морозный ветерок донес запах перегара — не густого, но крепкого.
Тянуло от Абрамова. Видно, пил майор не под вечер, как водится, а с самого утра. То, что он пьяный, выдавала походка — слишком старательно шагал начальник лагеря, слишком заметно пытался держаться ровно. Он скользил взглядом по рядам своих подопечных, и, наверное, не только я отметил: глаза были еще не мутные, но уже стеклянные и невыразительные. «Кум», шагавший за начальством, казался трезвее, хотя наверняка Абрамов и Бородин пили вместе. Скорее всего, майор начал в одиночестве, за ним это водилось, и он не слишком-то стыдился. А потом начальник оперчасти либо сам присоединился, либо выполнил приказ начальства, глотнув спирта: здесь, в Воркуте, его даже не разбавляли.
Обойдя под сопровождение музыки из репродуктора свои владения, майор Абрамов остановился перед выстроенным этапом, выдержал короткую паузу, а потом приказал, стараясь говорить как можно громче:
— Та-ак! Кто держит черную масть — два шага вперед! Марш!
Второй раз повторять приказ ему не пришлось. Да и не было смысла его не выполнять: из группы прибывших зеков вышло полтора десятка людей. Не знаю, к чему они готовились, но все смотрели прямо перед собой, не на Абрамова, Бородина, автоматчиков — мимо них, на нас. Со своего места я не мог видеть их лиц четко, но осанка воров была красноречивее любого выражения лица: все держались достойно, даже дерзко, они напомнили мне штрафников, которые шли в каждый бой, как в свой последний и решительный.
— Та-ак! — повторил майор, качаясь с пятки на носок. — Для тех, кто не знает: с вами, ублюдки, говорит начальник лагерного отделения номер четыре особого лагеря номер шесть государственного управления лагерей СССР, майор МВД СССР Абрамов Василий Михайлович! На вверенной мне территории действуют только законы Союза Советских Социалистических Республик! Других законов здесь нет! Кто не согласен, тот автоматически будет признан совершающим преступление против нашего советского государства! Всякое отрицание законов нашего советского государства здесь, на территории лагеря, считается покушением на смену конституционного строя СССР! Это преступление влечет за собой наказание в виде высшей меры социальной защиты — расстрела! Каждую гадину порву на немецкий крест! Кто из вас, суки, этого не понял?
— Мы не суки, гражданин начальник, — прозвучало в ответ.
Повисшая тишина аж звенела. Такая возникает внезапно, после того как громко ударит большой церковный колокол — в моем детстве был поселок под Ленинградом, где жила и учительствовала мамина сестра и где храм в то время еще не разрушили, и в воскресенье его колокольня оживала.
— Кто это сказал? — рявкнул Абрамов.
— Я, — ответил тот же голос.
Майор сделал несколько шагов и остановился около зека, который держал руки за спиной и продолжал демонстративно смотреть перед собой.
— Фамилия!
— Сапунов Иван Антипович, — прозвучало в ответ.
— Ваня Француз, значит, — объяснил майор не столько себе, сколько всем, кто видел и слышал все происходящее.
— Для вас, гражданин начальник, — Сапунов Иван Антипович, — повторил вор. — В личном деле сказано.
— Для меня, Ваня Француз, ты — говно ! — заявил Абрамов. — Вы все для меня и для советской власти тут — говно ! Тебе гуманная власть вот здесь и сейчас дает шанс исправиться! И не быть говном ! Это исправительный лагерь! Ты же работать не хочешь, правда, Француз?
— Закон не разрешает, — спокойно ответил тот.
— А ты, может, глухой? Здесь только один закон! Наш, советский, бля, закон! И я, майор Абрамов, этот закон представляю! Это если ты не понял, сука!
— Я не сука, гражданин начальник, — повторил Ваня Француз, теперь громче.
— А кто же ты?
— Сапунов Иван Антипович.
— Вор?
— Вор, гражданин начальник.
— Собираешься дальше держать черную масть?
— Так по закону, гражданин начальник.
— По закону, говоришь… Ну, значит, по закону… А администрация лагеря, советская власть — тебе не закон?
— Я вор, гражданин начальник.
— Ты никто, Ваня Француз!
Сделав шаг назад, майор Абрамов не выхватил, а спокойным, размеренным жестом достал из кобуры пистолет, выставил дуло перед собой, согнув в локте правую руку.
Прогремел выстрел. Второй. Третий. Четвертую пулю начальник лагеря выпустил уже в голову лежащего у его ног Француза.
И снова повисла тишина. Только Утесов бодро пел над лагерем:
Нам песня строить и жить помогает! Она, как друг, — и зовет, и ведет! И тот, кто с песней по жизни шагает, Тот никогда и нигде не пропадет!Никто не пошевелился. Данила Червоный стоял в строю всего на двух человек левее меня, я невольно повернул в его сторону голову и зацепился взглядом за его профиль. Бандеровец смотрел на происходящее без страха, без возмущения, даже без обреченного равнодушия. Мне показалось, что процесс, на здешнем жаргоне называемый трюмлением, то есть принуждение зека к смене своего тюремного статуса с помощью насилия, серьезно заинтересовал Червоного. Он следил за майором и его потенциальными жертвами внимательно, как будто стремясь запечатлеть в памяти все увиденное, но, очевидно, делая из этого свои, пока не понятные мне выводы.
Тем временем майор Абрамов, даже не прячась, повернулся к капитану Бородину, переложил пистолет в левую руку, протянул правую, и «кум» молча отцепил от ремня флягу, передал начальнику. Взболтнув ее, Абрамов приложил горлышко к губам, сделал большой глоток. И подошел к следующему вору, переступив через труп Вани Француза.
— Ты, — произнес он, наставив на зека дуло, но пока не целился, только показывал, как пальцем. — Замерз?
— Не Сочи, гражданин начальник, — в ответ.
— Правильно. Ты не скоро увидишь Сочи. Фамилия?
— Копылов Лавр Григорьевич. — На вид лет сорок.
— Масть?
— Вор. — Сказав это, Копылов стянул со стриженой головы шапку и перекрестился.
— Как дальше жить собираешься?
— По закону.
— По какому закону?
— У нас закон один, гражданин начальник.
Флягу майор Абрамов и дальше держал в правой руке. Поэтому выстрелил с левой. На этот раз — сразу в голову жертвы, почти в упор. Сделав еще глоток, вернул флягу Бородину, брезгливо провел рукой по своему белому полушубку — видимо, остались следы крови.
Пятеро следующих уголовников упали от пуль начальника лагеря один за другим. За это время Абрамов перезарядил пистолет, Бородин предусмотрительно подал ему новую обойму. Когда он расстрелял и эту, обвел взглядом сначала тех воров, что еще были живы и стояли, замерев, перед строем. Затем прибывший этап. Наконец, повернувшись, нас всех.
А дальше, засунув нетвердой рукой пистолет в кобуру, быстро подошел к ближайшему конвойному. Вырвал из его рук автомат, хотя солдат не очень-то и сопротивлялся, взял его наперевес, развернулся к этапу.
Кто-то из доходяг не сдержался — вскрикнул.
А майор Абрамов, в последний момент подняв автоматное дуло, выпустил длинную очередь над головами зеков. Воры, оставшиеся в живых, рефлекторно упали на плац лицом вниз. Остальные зеки, стоявшие в колонне, дернулись и сбились в человеческую шумную кучу, тоже склонившись перед пулями. Расстреляв весь диск ППШ, майор Абрамов, очевидно, был доволен произведенным эффектом: вернул автомат конвойному (тот его перепугано схватил и шарахнулся от начальства) и рявкнул:
— Стоять! Смирно! — Когда все заключенные выровнялись, майор распорядился: — Воров в БУР![24]С ними еще будет разговор! — Повернувшись в нашу сторону, добавил: — Звягина тоже в БУР! Пусть там подумает! — Это была фамилия Коли Тайги. — Остальные все — разойтись по участкам! Работать надо, сволочи! Вот так! И убрать на плацу! Гуров, твою мать!
Теперь язык у майора заметно заплетался. Не ожидая, пока он повторит приказ, я вышел из строя, за мной — вся похоронная команда. А других уже разводили по бригадам под сопровождение песни из «Цирка», моей любимой в другой, долагерной жизни комедии:
Я другой такой страны не знаю, Где так вольно дышит человек!Но я все же успел поймать на себе взгляд Данилы Червоного. Мне не показалось: в тот момент бандеровец действительно торжествовал.
8
Третье событие, важное для дальнейшей жизни лагеря, произошло через две недели после публичной расправы над «черным» этапом. Когда в начале ноября морозы окончательно завладели Воркутой, а жизнь проходила практически в сплошной ночи.
Как раз тогда в один морозный вечер, после окончания очередного рабочего дня, Червоный подошел ко мне в бараке. Теперь, после того как мы вместе лечили раны в больничке, нашего периодического общения ни он, ни я не скрывали. Правда, он и другие бандеровцы продолжали держаться на расстоянии от основной массы зеков, теснее общаясь только с прибалтийцами. Но, живя в одном муравейнике, муравьи, так или иначе, должны были поддерживать хотя бы формальные отношения.
Немного позже Червоному представился случай кое-что разъяснить мне: оказывается, украинцы, осужденные советскими судами со второй половины 1944 года, то есть с того момента, когда советская власть вернулась на Украину, длительное время, пока велась борьба с националистическим подпольем, находились под особо пристальным вниманием. Соответственно, фиксировались все тесные контакты между ними и остальными заключенными. По этой причине Данила не хотел, чтобы именно я оказался под колпаком. Поскольку планы на меня он построил уже после того, как узнал, что на фронте я водил танк. Поэтому однажды и завел со мной разговор о паровозе. Но это, повторюсь, случилось позднее, в феврале следующего года.
А в тот ноябрьский вечер я грел у печки котелок с порцией вечерней баланды, чтобы добавить туда немного картофельных очисток. С самого утра двое больных под присмотром конвойного старательно чистили в оцинкованное ведро редкостную здесь, на Севере, картошку. Потом ее, уже сваренную в кухне, заносили в комнату докторши, ведро источало свежий, давно забытый и пьянящий аромат, нес его солдат, а за ним шел ефрейтор, таща наполненный чем-то, накрытый полотенцем деревянный ящик. Наконец туда, к Супруновой, степенно прошло лагерное начальство во главе с майором Абрамовым. Увидев меня, он почему-то подмигнул — и царским жестом разрешил забрать очистки, которые до сих пор лежали кучкой у больничного крыльца на мерзлой земле. А когда через несколько часов, сытые, разморенные и пьяные, мужчины вышли, начальник лагеря остался. Правда, вышел провожать всю компанию: мы через проволочное ограждение видели в свете прожекторов.
Ни одно из неписаных лагерных правил не могло заставить кого-то из зеков делиться съедобной зоновской добычей. Конечно, когда выпадал такой счастливый случай и к кому-то добиралась из дома продуктовая посылка, тем, что от нее осталось, счастливец мог угостить тех, кого считал нужным, — хоть всем жителям барака по микроскопическому кусочку.
Исключение — блатные. По их законам, продукты, курево и другие блага передавались в общак. И только после того, как старшие, в нашем случае — Коля Тайга, приближенные к нему и прочие авторитеты из других бараков, возьмут себе часть кешаря, дачки или как там еще называли лагерную посылку, ею могли распоряжаться остальные, включая владельца. За нарушение этих правил могли зарезать, но чаще просто калечили.
Но, во-первых, у нас все-таки «политический» барак, вследствие чего публика пусть и вялая, зато более культурная, чем у блатных, хотя и здесь могли украсть. А во-вторых, такое добро, как картофельные очистки, уголовников совсем не интересовало. А нам они, припеченные в углях, служили гущей: даже не представляете себе сегодня, каким вкусным становился от них жиденький лагерный супчик…
Вспоминаю об очистках, потому что Червоный и другие бандеровцы такой пищей откровенно брезговали. Пайка у всех была одинаковая, и, как я считал, они еще не окончательно измучились от голода — постоянного лагерного чувства, с которым, как и с невозможностью выспаться, свыкнуться тяжело, сколько бы ты ни просидел. Может, настало бы время — и украинцы спрятали бы подальше странную спесь. Тут уж не знаю. Помню только взгляд Данилы в сумрачном свете барачного помещения: в нем на короткий миг блеснула брезгливость и презрение не к тому, что я выбираю очистки из печки (сбоку мазутной бочки для таких нужд прорезали в металлической стенке что-то похожее на поддувало), а даже ко мне — тому, кто позволяет себе этим питаться. Но он довольно быстро овладел собой, присел около меня, приложил ладонь к железному боку печки, спросил как бы между прочим, без всякого повода:
— Слышишь, Виктор… А когда в лагере последний раз был выходной?
От неожиданности я даже уронил очистки на пол.
— Ты что? Ты серьезно?
— Очень серьезно. Мы здесь всю осень. За это время выходных не объявляли.
— Ну как… А на праздник…
— Седьмого ноября, на праздник вашей революции и вашей власти, которая кормит тебя вот этим, — все-таки не сдержался Червоный и показал пальцем на мои очистки, — мы перед началом рабочего дня получили поздравление от гражданина Абрамова. И работали на четыре часа меньше, потому что он так решил. А я не хочу, чтобы такие вещи решал он.
— Майор Абрамов — начальник лагеря, — брякнул я, не находя других слов.
— Правильно, — согласился с очевидным Червоный. — Вот только кроме него есть еще конституция. Пускай ее утвердил ваш Сталин. Но даже Сталин в своих речах и статьях постоянно делает акцент на торжестве конституционных норм в советской стране.
— При чем здесь…
— При том! — по своему обыкновению перебил меня Червоный, дальше заговорил уже спокойнее. — При том, Гуров, при том. Конституция гарантирует гражданам право на отдых. Я не хочу вдаваться в подробности, чем мы, заключенные, отличаемся от тех, кто не сидит за колючей проволокой. Конечно, наши права существенно ограничены. Но выходной даже у таких людей, как мы, должен быть.
Не поверите — после этих слов я даже забыл о еде. Действительно — на моей памяти никто из зеков ни разу даже не пытался спросить, положен ли нам выходной день и сколько их для нас предусмотрено. Отсчет очередной недели мы начинали от дня, когда нас возвращали с работы раньше, — так в лагере проходило воскресенье. Официально нам объявляли выходной день после сообщения о капитуляции немецких войск.[25]Еще когда репродуктор голосом Левитана сообщил о разгроме японцев.[26]Кажется, один свободный от работ день нам дали, когда проходили первые после войны выборы…[27]Еще Новый год, но тут точно не скажу, кажется, не всегда отдыхали. Ну а на Первое мая и Седьмое ноября — на официальные советские праздники — мы работали неполный день. Словом, Червоный заставил-таки задуматься.
А он продолжал, не давая мне даже переварить услышанное:
— О конституции забудем, без толку все равно. Есть кое-что более интересное для нас.
— Например?
— Поговори со своим жидом, — Данила кивнул в сторону доцента Шлихта. — Ты же с ним вроде дружишь?
— Вроде как… Умный человек…
— Здесь других не держат. Жиды — вообще неглупая нация, вон как мир на дыбы поставили в семнадцатом году. — Он намекал на то, что вожди пролетарской революции были преимущественно евреями, и почему-то именно этими разговорами Червоный проел мне в больнице все печенки. — Я тут побеседовал с ним. Интересные вещи говорит.
— То есть?
— Существуют, оказывается, какие-то лагерные положения. Он, конечно, их не читал. Но я Шлихту твоему верю…
— Не мой он вообще-то… Просто тоже из Ленинграда…
Червоный отмахнулся — он уже чем-то увлекся.
— Согласно этим положениям, Гуров, заключенный исправительного лагеря имеет право на круглосуточный выходной раз в десять дней, — здесь Данила многозначительно поднял палец вверх. — Слышал что-нибудь об этом?
Я пожал плечами, потом мотнул головой.
— О! — Червоный теперь направил палец на меня. — Но, как говорит жид, существует конфликт между этим положением и производственным планом. У лагеря есть план, в нашем случае — это добыча угля. Если заключенные по закону будут иметь даже один выходной в месяц, выполнение этого плана окажется под угрозой. За что по шапке получит руководство лагеря. — Увидев, что я внимательно слушаю и все это для меня — действительно новость, бандеровец не сдержал привычной уже мне победной улыбки. — Это все рассказал мне Шлихт. Они такие люди — откуда-то знают все. Не только о таких вещах, как выходной.
— Шлихт — нормировщик…
— Правильно. Он и объяснил: теоретически, это он так сказал, у заключенных может быть выходной, если весь лагерь — весь, Гуров, — перекроет, это снова Шлихт сказал, какую-то там верхнюю планку квартальной выработки.
— То есть, — уточнил я, — для того чтобы иметь право на сутки отдыха, вся зона должна выполнить план раньше установленного срока?
— А желательно еще и перевыполнить, — кивнул Червоный. — Вот только нормы эти постоянно увеличиваются. Да и о плане мы знаем только несколько основных моментов. — Он загнул указательный палец. — План надо выполнять. — Загнул средний палец. — План надо перевыполнять. — Загнул большой палец, положив его между указательным и средним, — получилась дуля. — План мы не выполнили. Поскольку, как объяснил мне твой Шлихт, из Москвы регулярно спускают разные нормы, а здесь, в лагере, в них путаются. Результат: нас просто гоняют на работы. Если мы сдохнем, нас сразу же заменят другими. Не существует плана, который можно выполнить или даже перевыполнить, заработав себе выходной. Ты понял, Гуров, в чем ловушка?
Я опять пожал плечами.
— У нас будет выходной не тогда, когда положено, а тогда, когда этого захочет начальство, — терпеливо, как маленькому несмышленому ребенку, объяснил мне Червоный. — Это нарушение конституции, Виктор.
— Пиши в Кремль, — вырвалось у меня.
Червоный склонил голову набок. Потом постучал согнутым пальцем себе по центру лба. Наконец покрутил этим самым пальцем у виска. Поднялся и перед тем, как идти, бросил как бы между прочим фразу, глубинную суть которой я понял через несколько недель:
— В Кремле не читают, друг Гуров. Другие способы есть.
9
Несколько следующих дней в жизни особого лагеря номер шесть ничего не происходило. Я даже успел забыть о разговоре с Червоным: мало ли кто выходной себе хочет. Обычные зековские мечты, нашему брату только мечтать и остается — даже снов многие давно не видели…
Но вдруг, когда шахтерская бригада вернулась в очередной раз из шахты, ко мне поспешил непривычно возбужденный Шлихт. Для чего-то настороженно озираясь, бывший доцент заговорил, точнее, зашептал, как будто собираясь втянуть меня в какой-то тайный заговор или наоборот — сообщить о нем:
— Витюша, я не понимаю этих людей. То есть совсем их не понимаю!
— Вы о ком, Исакович?
— Эти, с Украины… Националисты. — Из-за того, что бандеровцы запросто, без очевидной злобы, скорее по привычке, называли его «жидом», Шлихт относился к ним настороженно: — Витюша, они стахановцы! Не понимаю, для чего им это нужно, но они вправду стахановцы!
— И сейчас не дошло…
— Что тут непонятного, Витюша! — Теперь в голосе бывшего доцента послышались нотки раздражения, как будто он высказывался ясно, а его все равно не хотели понимать: — Уже несколько дней их бригада усиленно работает! Либо их кто-то подкармливает здесь, Витюша, либо я не знаю… Эти люди двужильные, семижильные, но главное — для чего они это делают?
— Исакович, — вздохнул я. — Начните с самого начала. Что случилось?
— Ничего особенного! Кроме того что группа из нашего барака вдруг начала активно работать! Вы шире на это смотрите, Витюша, шире! Им теперь не успевают подавать пустые вагонетки в шахту, вы представляете, на секундочку, что это означает?
И я представлял.
Бригаду зеков с кайлами загоняли в глубь темной шахты, где они, дыша угольной пылью, с утра до вечера отбивали породу, которой загружали вагонетки — тоже вручную, зеки орудовали тяжелыми совковыми лопатами. Полные вагонетки толкали к рельсам старой колеи: когда в этих краях начали добывать уголь, ствол шахты значительно углубился, вот только прокладывать вглубь рельсы никто не собирался. Поэтому сначала группа доходяг толкала пустую вагонетку по колее снаружи, потом вручную, навалившись сообща, спускали на землю, дальше доставляли до конца забоя. Там ее загружали отбитой породой и уже полную тащили назад, так же вручную заводили по настеленным доскам на рельсы и толкали наверх, где разгружали, чтобы эту насыпанную кучу дальше перебрасывать к другим, большим вагонеткам. Они доставлялись за пределы зоны, к железнодорожной станции в Воркуте, где уголь грузился в вагоны, которые паровоз тянул по железной дороге еще дальше, ближе к Большой земле.
Вниз, к шахте, вело две колеи. Когда пустую вагонетку спускали, полную уже толкали наверх. Я сам поначалу вкусил такой работы, так что сразу вспомнил боль во всем теле и полную апатию, которая очень быстро охватывала вместе с отупением от монотонного каторжного труда. И вдруг это недоумение Шлихта. Оказывается, бандеровцы дружно взялись за работу, как будто от ее конечного результата зависели их жизни. Знать бы еще, где он и какой — этот конечный результат…
Я по-новому посмотрел на украинцев. Они, так же как и остальные зеки, возвращались уставшими. Но в этой усталости просматривалось нечто такое, чего я, даже фиксируя для себя, не мог как следует понять. Странная сосредоточенность на неизвестной пока что, непонятной для меня и остальных цели. Червоный и другие уставали от работы, которая если не давала удовлетворения, то, по крайней мере, имела смысл. Но какой смысл видели враги советской власти в беспросветной работе на нее, ни Шлихт, ни — после его слов — я понять пока не могли. Ударного труда здесь, в лагере, никто не увидит. А хоть и заметят, не наградят, даже не отметят перед строем. Единственное, на что можно было надяться, — это на так называемый усиленный паек: лишние сто грамм непропеченного хлеба и мерзлая брюква. Немного зная Червоного, я мог точно сказать: вряд ли он будет рвать пупок ради возможности получить довесок к скудной пайке.
Подозрения, конечно, были. Правда, я еще до конца не понимал, как эти трудовые подвиги бандеровцев в шахте связаны с разговорами о выходном дне. Но довольно скоро все стало на свои места — в то самое морозное утро в конце ноября, когда Червоный во время развода на работу выдвинул свои требования.
До него никто из заключенных ни на что подобное не решался. И произошло это как-то буднично: Данила сразу после переклички громко позвал бригадира. Их бригаду водил на работу раскулаченный, один раз осужденный, а перед самой войной сразу арестованный и осужденный повторно пятидесятилетний Григорий Лемешев, к которому в лагере приклеилось прозвище Гриша Кубань.
— Бригадир!
— Что такое? — дернулся от неожиданного выкрика Кубань. — Это кто там?
— Осужденный Червоный Данила Назарович!
— Чего надо? — Словно ожидая указаний, бригадир глянул на торчавшего рядом лейтенанта Засухина в полушубке с красными погонами.
Тот вмиг встрепенулся, машинально положил руку на кобуру. Но Червоный говорил так громко, как мог, стараясь привлечь к себе внимание тех, кто был ближе всего, и ему это удалось. Надзиратели до выяснения внезапно возникших обстоятельств — «ты смотри, у какой-то падлы голос прорезался!» — на всякий случай остановили движение своих колонн, тоже положив руки на оружие. Хотя ничего не свидетельствовало о близкой угрозе со стороны заключенных.
— Я хочу кое-что сказать, — произнес Червоный.
— Я тоже! — рявкнул лейтенант. — Имеет место нарушение дисциплины! И если ты, бандеровская морда, сейчас не закроешь хайло, пойдешь в БУР! Полетишь даже!
— Имеет место нарушение советских законов. — Голос Червоного теперь звучал ровно, даже, как мне показалось, звенел на морозе. — За это, офицер, тоже не похвалят.
— Какого черта ты там мелешь!
— Вчера наша бригада перевыполнила месячную норму по добыче угля, — сказал Червоный. — Тем самым мы, кроме всего прочего, перевыполнили даже квартальный план. Пусть бригадир подтвердит. Вчера на вечернем разводе он об этом говорил.
Теперь лейтенант Засухин повернулся к Кубани. А тот, вмиг овладев собой, подтвердил тоном крепкого хозяина, оценивающего труд своих работников:
— Было такое, гражданин начальник. Сведения я еще вчера подал в контору. Все правильно. Хохлы работают по-стахановски, гражданин начальник.
— И что? У нас исправительное учреждение! Здесь хороший труд — не подвиг, а путь к осознанию совершенных перед советской властью преступлений! Значит, путь к исправлению! — ответил лейтенант, продолжая держать руку на кобуре. — Что еще?
— Есть соответствующие положения в законе, гражданин начальник, — спокойно объяснил Червоный. — Если бригада работает с перевыполнением плана, она получает выходной день как поощрение. А если эти нормы выполняют все бригады, выходной получает весь лагерь.
— Ты, значит, умный…
— Нет, гражданин начальник. Умная и справедливая советская власть. А мы, как вы точно заметили, осознаем свои ошибки. И понемногу исправляемся. Еще я знаю — лагерь действительно перевыполняет план. Это можно проверить.
Засухин как-то совсем по-детски мотнул головой.
— Почему я тебя слушаю до сих пор, Червоный?
— Потому что вы мудрый человек, начальник. А я говорю правильные и разумные вещи, — гнул свое Данила. — Если вы своей властью здесь и сейчас не объявите сегодняшний день выходным, наша бригада не выйдет на работу.
— Бунт? — Не знаю, один ли я услышал тогда в голосе лейтенанта радостные нотки — он уже смаковал жестокое подавление и наказание непокорных.
— Не бунт. Мы перевыполняем план. Есть законы, которые дают нам за это право на выходной. Мы должны отдыхать, чтобы наш труд был более продуктивным…
— Ты, Червоный, и такие, как ты, — не дал ему договорить Засухин, — должны здесь сдохнуть! Потому что на ваше место уже везут новых врагов! Знаешь, как говорят: свято место пусто не бывает! Я повторяю вопрос: ты отказываешься от работы?
— Я требую соблюдения советских законов. — В отличие от лейтенанта, Червоный не повышал голоса, удивительным образом он и без такого напряжения разносился далеко.
А суть его слов, кажется, доходила теперь до каждого зека на плацу.
— По советским законам ты, падла, сидишь здесь! И будешь сидеть!
— Но даже вы, начальник, не захотите пойти против вашей конституции, — отрезал Данила: и вот честное слово — этот необычный для лагеря спор выбивал у Засухина почву из-под ног.
Затем Червоный повел себя так, что, наверное, не только я мысленно попрощался с ним — ведь ничего не мешало не только лейтенанту, но и любому конвойному расстрелять Данилу вот здесь, на месте. Потом как-нибудь отпишутся задним числом, такое уже бывало — вспомните хотя бы трюмление майора Абрамова. Не знаю, как он потом оформил для руководства кучу расстрелянных людей, но как-то же оформил!
Поэтому вы меня поймете: когда Червоный, не выходя из строя, медленно опустился на мерзлую землю, я ждал выстрела. Но через мгновение его примеру последовали другие бандеровцы: полтора десятка изможденных, худых, грязных зеков тоже устроились на земле, за ними — одноглазый Томас и другие «лесные братья».
10
Такого зрелища лагерное отделение номер четыре за четыре года, что я здесь сидел, точно не видело.
Массовые драки были, но чтобы вот так, на плацу, заявляли об отказе от работы — для начальства это, видимо, слишком. Но именно поэтому, думаю, лейтенант Засухин сначала растерялся. А конвойные без приказа офицера ничего не делали, ведь никакой попытки напасть на часовых и бежать не предпринималось, поэтому пускать в ход оружие солдаты не имели права: они только сбросили автоматы с плеч, взяли наперевес, наставили стволы на бунтующую шеренгу.
— Вы-ход-ной! — проговорил Червоный и повторил уже громче: — ВЫ-ХОД-НОЙ!
Его призыв подхватили другие — даже прибалты, говорившие по-русски еще хуже, чем бандеровцы, дружно скандировали со всеми:
— ВЫ-ХОД-НОЙ! ВЫ-ХОД-НОЙ! ВЫ-ХОД-НОЙ!
Сделав два шага назад, лейтенант Засухин все-таки вытащил пистолет из кобуры. Но вдруг на его глазах, глазах конвоя, остальных построенных зеков сначала один за другим, а потом группами, словно выполняя команду, доходяги из «политического» барака тоже опустились на плац. Кто-то приседал на корточки, кто-то прямо садился на холодную землю, кто-то при этом скрещивал ноги по-татарски. На колени никто не встал — это я отметил боковым зрением. Ничего не успел подумать, честно вам говорю: не смог принять никакого решения. Колени сами решили за меня — подогнулись: и вот я тоже сижу, хрипло выкрикивая вместе со всеми:
— Вы-ход-ной! Вы-ход-ной! Вы-ход-ной!
На мерзлом плацу сидела вся «пятьдесят восьмая». Но на этом все не закончилось: то ли поддавшись общему настроению, то ли разделяя требования украинцев, то ли, скорее всего, почувствовав запах и вкус бузы, — со своего места зычно гаркнул Коля Тайга:
— Правильно, братва! Дело, хохлы! Сливай воду, начальник! Даешь выходной!
— ДАЕШЬ ВЫХОДНОЙ! — подхватили слова своего главаря блатные. И вот уже они опустились на плац по примеру «политических», нагло скандируя и хлопая при этом в ладони.
Захлопали и с нашей стороны: теперь в отказниках была чуть ли не треть зоны. За ними, увидев неподдельный шок офицера и конвоя, сначала неуверенно, медленно, но через несколько минут уже активнее и дружнее, на плац опускались мужики с бытовыми статьями: а их большинство в любом лагере. Через десять-пятнадцать минут подавляющее большинство зеков сотрясало морозный воздух призывами:
— Вы-ход-ной! Вы-ход-ной!
За исключением «ссученных», которые не торопились определяться, и «опущенных» — лагерных педерастов, которые вообще держались отдельно, законного выходного требовала вся зона.
Наверное, какое-то наказание нас ожидало. Вот только впервые за все время моего заключения о последствиях, даже самых неприятных, думать не хотелось. Кажется, в то утро такое же настроение охватило всю зону. Теперь уже не Червоный и бандеровцы подавали всем пример: каждый заключенный следовал за тем, кто сидел рядом, выкрикивая: «Выходной, выходной, выходной!» — и хлопая одной ладонью о другую.
Когда к общему протесту присоединились и лагерные изгои, а за ними, сцепив зубы, подчинились настроениям большинства лояльные к власти суки, лейтенант Засухин не выдержал — выстрелил вверх. Это не подействовало: никто не замолчал, не дернулся, чтобы встать на ноги. Засухин выстрелил еще раз, потом необходимость в этом отпала, поскольку к плацу уже торопились лагерные опера во главе с Бородиным, кто-то из них даже попробовал поднять нескольких доходяг, но «кум» жестом запретил подчиненным кого-нибудь трогать — стоял, расставив ноги и заложив руки за спину, и слушал монотонное скандирование зоны. Он должен был дождаться Абрамова.
И майор не задержался — прибежал на плац в распахнутом полушубке, без портупеи, только с пистолетом в руке. Но и он не спешил применять какие-либо меры: даже если сейчас заводил оттащить в штрафной изолятор, остальные просто так не разойдутся — силу и оружие так или иначе придется применять против всего контингента. Такое уже не скроешь, Абрамову никак уже не выкрутиться, и Червоный наверняка принимал это во внимание, когда планировал свою акцию неповиновения. К тому же он удачно выбрал момент: у людей в самом деле очень давно не было ничего даже близко похожего на выходной — законный, как ни крути. Вот и прорвало — должен был найтись кто-то, способный набраться смелости и подтолкнуть к отчаянному сопротивлению всех остальных уставших.
Появление начальника лагеря не повлияло на зеков — призывы не стихли, наоборот — увидев его, кто-то из блатных выкрикнул задиристо:
— Банкуй, начальник!
Кивнув то ли в ответ, то ли просто так, майор Абрамов не спеша засунул пистолет в карман полушубка. Затем, так же не торопясь, застегнул полушубок на все пуговицы, одернул его, поправил шапку на голове, потом набрал воздуха в грудь и произнес протяжно:
— Ну-ка… Ма-а-алчать!
Даже если кто-то один замолчал, этого не было заметно. Зеки сидели на земле и требовали выходного.
— МОЛЧАТЬ! — повторил Абрамов уже громче, во всю силу легких.
Опять никто не послушался — каждый смотрел на соседа и не хотел оказаться трусом. Я ждал, когда майор в третий раз повторит приказ, однако начальник лагеря, немного помолчав, произнес как-то очень миролюбиво, по-простецки:
— Да харе уже, говорю. Базарить давайте, что ли…
Странно — теперь его послушали. Скандирование вмиг умолкло, как по команде, а майор, коротко спросив о чем-то Засухина, опять заговорил, также не повышая голоса:
— Червоный, это же ты начал.
— Требования законные, гражданин майор, — сказал Данила в ответ.
— Вы бы встали… Или до вечера так собираетесь?
— Будет разговор?
— Если я захочу, Червоный, с лежачим тобой поговорю, — заметил Абрамов. — Вставайте уже, давайте, все вас уже услышали и увидели.
Сначала Данила, за ним бандеровцы, наконец другие зеки поднялись. Теперь мы стояли на плацу так, как обычно перед утренним разводом.
— Тебе кто задвинул эту бодягу про выходной? — поинтересовался майор.
— Это законное требование, гражданин начальник. Мы перевыполнили план, — Червоный упрямо держался заданной линии. — Объясните всем, за что мы здесь работаем. Если вы найдете причину…
— Я тебя, паскуда, могу без причины — при попытке к бегству, — перебил Абрамов. — Вы тут все это прекрасно понимаете.
Все ждали, что майор скажет дальше. Но он какое-то время опять молча смотрел на зеков. А потом жестом подозвал к себе «кума», наклонился к нему, что-то коротко приказал. Бородин вскинул руку к шапке, махнул рукой своим операм, те развернулись и двинулись за капитаном к баракам.
— Передовики труда, значитца… Ну-ну…
Опять заложив руки за спину, Абрамов молча расхаживал вдоль шеренги зеков. Реденькие снежинки, сыпавшие с неба от восхода солнца, теперь превращались в крупные хлопья снега, покрывавшего зону, плац, офицеров, конвойных солдат и нас — все, кроме майора, замерли в немом ожидании неизвестно чего.
Сколько времени прошло, не берусь сказать. Казалось, после общего сидячего протеста начальник лагеря начал игру, в которой выигрыш остается за тем, кто всех перемолчит. Но вот на плац вернулся капитан Бородин, вместо доклада кивнул майору, Абрамов снова одернул полушубок и, прокашлявшись, сказал:
— Выходной хотите? По закону, Червоный?
— Ваши законы, гражданин майор.
— Законы где-то прочитал?
— Грамотный, гражданин майор.
Опять короткая пауза. Абрамов смаковал момент.
— Будет вам выходной, — произнес наконец. — Советская власть свои законы уважает.
Последние его слова утонули в радостных криках блатных, бытовушников и части «политиков». Бандеровцы были в меньшинстве зеков, проявивших в этот момент сдержанность. Абрамов жестом велел всем замолчать и продолжил:
— Можете сегодня гулять. Тем более что норму отдельные бригады действительно перевыполнили. Таким образом, обеспечили выходной тем, кто филонил. Кто кому должен — между собой разбирайтесь.
— Филонов накажем, начальник! — пообещал Коля Тайга. Его голос я ни с чем не спутаю, да и говорил он серьезно.
— Это ваша забота, — кивнул майор. — Но выходной ваш начнется после того, как наведете порядок в своих жилых помещениях. Услышал, Тайга? Бардак на зоне!
— Где бардак, начальник…
— А я тебе покажу, Коля! Если сам не увидишь! И за это те, кто допустил бардак, получат по пять суток ШИЗО! Готов провести выходной в изоляторе, Коля? Или все-таки на работу?
— Мне на работу закон не разрешает…
— Так то тебе! Кандидатов, кроме тебя, хватает.
Говоря так, майор смотрел в упор на Червоного, и я понимал — его судьба на ближайшие пять суток так же решена, как и вопрос об объявлении сегодня выходного…
— Чего встали? Разойтись по баракам, навести порядок! Совсем распустились!
Так мы поняли еще одну задумку Абрамова: наш барак и, как я подозревал, другие за то время, пока нас морозили на плацу, опера и солдаты по приказу майора и под руководством начальника оперативной части тщательно обыскали. Жалкие пожитки наши разбросали по бараку, а огонь в печке залили водой, от чего она ужасно чадила, задымив все помещение. Конвойные подгоняли, мы взялись наводить порядок. Печку заново никто не затопил, и за те несколько часов, что мы потратили на ликвидацию последствий набега оперов, стало холодно, как на улице. Поэтому бо́льшую часть дня, все-таки объявленного выходным в лагере, не только мы, но и другие зеки, как могли, прогревали бараки.
Только под вечер у нас была возможность насладиться покоем — и оказалось, что вот это, отвоеванное Червоным время, нам некуда девать. Кто-то слонялся по лагерю, кто-то писал письма, а большинство дремали, съежившись на нарах. Бандеровцы дальше держались обособленно, однако я уже чувствовал — после того дня Червоный понемногу завоевывал авторитет на зоне, ничего особенного для этого не делая. Даже обещанные Абрамовым пять суток в БУРе, которые Данила все-таки отсидел, начиная со следующего дня, ничего не изменили: заключенные впервые за много лет, если не за все время своей лагерной жизни, увидели возможность сопротивления и почувствовали все наслаждение от этого.
С того дня Червоного знала вся зона. Что сыграло на пользу планам, в которые в начале февраля следующего года он посвятил меня.
11
Заключенные получили определенные поблажки — теперь выходные в зоне стали не такой уж редкостью.
Не сказал бы, что произошло какое-то послабление режима или лагерная администрация боялась повтора небольшого бунта. Наоборот, подавить сопротивление для власти было бы выигрышно — стоит открыть огонь на поражение, и большинство зеков сложит лапки: за жизнь, пускай такую ничтожную, заключенные цеплялись каждый день, прожить следующий день становилось для большинства из них смыслом существования. И не думайте — не скажу, что был другим, все мы живые люди и хотим жить, хоть бы и в непригодных для этого условиях.
Точно не скажу, но, учитывая мой опыт лагерника, дело было не в неспособности майора Абрамова подавить в зародыше любую попытку бунта. Тем более — не в том, что начальник лагеря теперь хоть немного обращал внимание на права зеков. Ему не хотелось возиться с самим процессом усмирения непокорных заключенных. Поэтому он решил играть на опережение: узаконил один выходной раз в две недели — при условии, что нормы и планы будут выполняться. Даже поставил в пример бригаду, в которой работали бандеровцы. Абрамову не нужна зона, неожиданно осознавшая, что за свои права можно — пусть не бороться, но хотя бы попробовать побороться. Ведь, не дав зековскому кипению выхода, можно смело прогнозировать: очень скоро пар сорвет крышку. Вот тогда, как говорится, берегись…
Да и на собственные амбиции начальник лагеря в этой ситуации никоим образом не наступал: как ни крути, а выходной день нам должны были давать чаще, чем это было до сих пор. Следовательно, майор Абрамов мог проявить к зекам несвойственный ему гуманизм, да еще и гордиться собой и своей человечностью. К тому же на некоторое время он даже не трогал Колю Тайгу и Червоного, старого и нового зековских неформальных лидеров. Одно дело — закрывать вора в законе и бандеровца в карцер просто так, для профилактики, найдя формальный повод: в лагере к этому относились спокойно, так как с каждым может случиться что-то подобное в любой момент. Но совсем другое дело — трюмить Червоного, когда тот начал сознательное сопротивление и выступил в защиту прав человека: теперь он всякий раз шел в карцер и выходил оттуда героем.
Кто-кто, а герои Абрамову не нужны на вверенной ему территории. До этого я додумался не сам, хотя и подозревал: именно так майор мыслил. Теоретическую базу под мои размышления подвел, как всегда, доцент Шлихт. Он и обмолвился: долго эти расклады не продлятся, потому что хоть начальник лагеря и соблюдал законы, к такому решению его подтолкнул именно Данила Червоный. Значит, рано или поздно майор сделает так, чтобы убрать его — либо из лагеря, либо даже совсем, с лица земли… Ну а так зону не тревожило больше ничего, кроме прибытия новых этапов и локальной грызни между уголовниками.
Так продолжалось до начала февраля нового уже года, когда морозным вечером очередного выходного дня Червоный незаметно для других подал мне знак выйти.
Не очень хотелось выходить из маслянистого и кислого, но все-таки теплого барачного воздуха в северную пургу. Но Данила впервые после того памятного ноябрьского дня отозвал именно меня. Пройдя вдоль длинной стены, мы зашли за барак, где, казалось, немного уютнее, и там я увидел еще небольшую группу людей.
Дни в это время года были совсем короткими, темнело рано, к тому же лагерь заметало снежной пургой чуть ли не каждый вечер. Иногда снежные бури не утихали и под утро, но это не мешало поднимать зеков на работу. По мудрому наблюдению майора Абрамова, в шахты снег не заметает. Но как раз в такую метель охрана старалась слоняться по лагерю реже. Следовательно, это был чуть ли не единственный удобный случай собраться группой за пределами барака, точно зная — собрание внимания не привлечет.
Подойдя ближе, я рассмотрел одноглазого литовца Томаса и неизменного спутника Червоного Лютого, который редко держался далеко от своего старшого. Даже их нары теперь стояли рядом, хотя, когда бандеровцев завели в наш барак, они устраивались не как хотели, а занимали свободные места. Чуть дальше, у противоположного угла стены, пристроился еще кто-то, но я не мог рассмотреть со спины. Наверное, это был кто-то из бандеровцев — он стоял на страже, охраняя небольшое собрание.
— Длинно говорить не будем, тут все уже всё знают. — Червоный начал с ходу, без предисловий. — Тем более, друг Виктор, долго мы вообще здесь собираться не можем.
— Ну, говори, — ответил я, ничего еще не понимая, — просто, чтобы не молчать.
— Ты на войне был. Танк водил, да?
— Водил…
— До войны с техникой тоже имел дело, да?
— Интересовался. Хотел инженером-механиком…
— Мало ли кто что хотел, — отмахнулся Червоный, чем даже немного задел. — Паровоз, например, повести сможешь?
Вопрос прозвучал так неожиданно, что я решил — мне послышалось. Либо, что вероятнее, я не расслышал или не так понял.
— Паровоз? Почему паровоз? Какой паровоз?
— Обыкновенный. Не знаю, насколько он похож на танк или трактор. Но, думаю, принцип действия такой же. Примерно… Если водил танк, запустишь и паровоз. Или нет?
— Может быть… Не пробовал… Какой паровоз, Червоный? Где паровоз?
— На станции, — спокойно ответил Данила.
— Железнодорожной, — уточнил Лютый, вступив в разговор. — Узкоколейка тянется отсюда на Воркуту, до станции.
— Туда стекаются все грузы с углем. — Червоный говорил дальше, как будто принял от своего друга футбольный пас. — Туда же, на станцию, приходят вагоны с заключенными. Затем этапы гонят сюда своим ходом, и, когда мы сюда шли, имели возможность понять, как в случае чего возвращаться.
— Ты хочешь… — Вот теперь я все понял — и у меня дух перехватило, как только осознал — я же теперь в сговоре.
— Хочу, — твердо сказал Червоный. — Мы все хотим завоевать себе свободу. Меня удивляет, что тысячи людей, сидящих здесь, ни разу не пытались сделать то же самое. Нас тут тысячи, Гуров. Намного больше, чем вооруженных бойцов, которые нас охраняют.
— Ты хочешь бежать. — Не зная, чего от меня ждут другие, я закончил фразу, которую Данила не дал договорить.
— Неправда, — вмиг отрезал он, взглянув на остальных заговорщиков и словно заручившись их поддержкой. — Мы не бежим. Мы хотим получить свободу. Вернуть свободу, разве не понятно? Бегут преступники от ограбленных ими людей. Бегут убийцы от заслуженного наказания. Бегут те, кто навредил другим. Хочу, Гуров, чтобы ты это четко и ясно понял. Нас держат в неволе. Так же, как и тебя. Пускай ты считаешь нас бандитами, врагами коммунистов, бог с тобой. Но сам ты за что здесь сидишь?
— Друг Остап, не агитируй этого москаля, — буркнул Лютый. — Не старайся. Либо твои слова дошли до него, либо нет.
— Ну да, — согласился Червоный. — В конце концов, можешь сидеть здесь и дальше. Сколько тебе осталось? Десять лет, одиннадцать? Или думаешь досидеть, пока добрая власть не объявит амнистию? Дальше что? Воркута, поселение, ограничение в правах? Я не собираюсь ни ждать, пока Сталин меня помилует, ни сидеть здесь и гнить в шахте. Надо вырываться на свободу.
— Как? — не сдержался я.
— Вот это уже лучше, — на ломаном русском вставил одноглазый Томас. — Уже думает.
— Я объясню, только слушай внимательно и попробуй представить себе всю схему. Рисовать не на чем, — произнес Червоный. — Будет так…
И в тот момент у меня исчезли последние сомнения — вот это его «будет» не оставляло другого варианта развития событий: потому что он так решил, а значит, так и будет.
— Будет так: мы в назначенный день нападем на часовых и захватим оружие. Потом, если будем действовать четко, ликвидируем лагерную администрацию. — Червоный говорил так, будто речь шла об определении объема каких-нибудь домашних работ. — Дальше сложнее. Но попробовать надо — тогда получится. За лагерем — поселок. Там — продукты, транспорт, казарма.
— Оружие, — уточнил одноглазый Томас.
— Оружие, — подтвердил Червоный. — Нас полсотни наберется. Если действовать быстро и наскочить сразу, можно взять все — автоматы, машины, еду. Дальше — бросок на Воркуту. А там захватываем поезд и едем по железке до Ухты. Машины загоняем на платформу.
Чем дальше я слушал, тем меньше почему-то сомневался: будет именно так, на фронте чаще реализовываются максимально простые планы военных операций.
— Оттуда начинаются дороги, — продолжал между тем Данила. — Можно передвигаться на машинах или даже пешком. Но, так или иначе, из Ухты больше возможностей куда-нибудь рвануть и сбросить хвост. А вот из Воркуты на волю один прямой путь — железная дорога. Есть еще тайга, болота… В тайге мы вряд ли долго продержимся. Зимы здесь затяжные. Осталось посадить кого-нибудь на паровоз, из наших никто его с места не сдвинет. Все, сам дальше решай.
12
Он замолчал, и все трое сразу надвинулись на меня со всех сторон: то ли прикрывая от порывистого снежного ветра, то ли угрожая — или соглашайся, или не обессудь… На короткий миг я даже почувствовал себя затравленным, загнанным в глухой холодный угол.
— Не знаю, — выдавил я из себя. — Никогда не приходилось вести паровоз…
— Так попробуешь, — вставил Лютый.
— Отказаться могу?
— Ты правда готов дальше сидеть здесь, закапывать покойников в мерзлую землю, хлебать вонючую болтанку и подыхать день за днем?
Червоный спрашивал искренне, в голосе слышалось искреннее недоумение, но не в этом дело. До того момента я действительно не признавался самому себе: вот такая, как он говорит, моя лагерная жизнь и есть со стороны. Чтобы как-то смягчить это мерзкое и липкое чувство собственного ничтожества, я попробовал возразить:
— Так все живут…
— Нет, — Червоный говорил жестко. — Так живут не все. Уж никак не все. Даже уголовные преступники имеют здесь больше прав и возможностей, чем мы с тобой. Ладно мы, украинские повстанцы. Или наши литовские братья. Вы, русские, для майора Абрамова и даже вашего дорогого товарища Сталина — такое же дерьмо, как мы, украинцы. Или другие народы, которые большевики подгребли под себя. Разве нет, Виктор?
— Знаешь, не люблю этих твоих разговоров… Непросто у нас все…
— Потому и не любишь, что понимаешь — я говорю правду. Не все просто, согласен. Кроме одного: нас тут держат в неволе за преступления против Советов, а вас — неизвестно за что. Поэтому наше желание получить свободу должно совпадать с вашим.
— А на свободе что делать?
Знаете: это я сам у себя уже тридцать лет спрашиваю… Тогда вслух произнес впервые, с не меньшим отчаянием. Ведь бандеровцы точно знали, что будут делать, если им повезет осуществить свой безумный план и вырваться из лагеря. У меня и мне подобных не было даже такого пути, на который стремились вернуться украинцы — пути борьбы. Мне не с кем было бороться, тем более — с оружием в руках. Немцев мы разбили, в своих стрелять я не собирался.
— Вот здесь ты верно мыслишь, — откликнулся Лютый. — Друг Остап, твой товарищ сам для себя еще не решил, зачем ему свобода. Ведь за проволокой и заборами для него — то же самое, что и здесь.
— У него есть время подумать. — Теперь они говорили так, будто я не стоял рядом, почти впритык. — Пока что мы сами ждем команды.
— Команды? — переспросил я.
— Такие акции готовятся сразу в нескольких лагерях Севера, — пояснил Червоный. — Это все, что тебе нужно знать. Ты и так, кажется, очень много услышал для человека, который ни во что не ставит личную свободу.
— Это угроза?
— Понимай как знаешь. Только что-то мне подсказывает, Гуров, вряд ли ты побежишь с этим к Бородину.
И снова Данила Червоный сказал чистую правду — сдавать планы бандеровцев лагерному начальству я не собирался. Они могли считать меня кем угодно — трусом, ничтожеством, врагом, коммунистом… Вот только стукачом я никогда не был.
— Ладно, — вздохнул я. — Это все теория. Схема, костяк. Не все у вас продумано.
— О, теперь вижу и слышу серьезного человека, — Червоный удовлетворенно хмыкнул. — Говори, мы тебя слушаем: что, по-твоему, не так?
— Другие заключенные… Блатные, например. Да и наши, пятьдесят восьмая… С ними что будет? Все вместе пойдут за тобой?
— Меня мало волнует, кто и как собой распорядится. Лютый вообще предлагает вырываться только одним ударным отрядом. Нас два десятка, пятнадцать литовцев. Если твои парни, ну, из твоей команды, воевавшие и с боевым опытом, пойдут с нами — это будет довольно мощная боевая единица. Мы можем дать бой и принять его: зубы о нас кто-то точно сломает.
— Вот и я об этом — стрелять в своих не буду. Никто из наших не будет стрелять в своих, — ответил я решительно.
— Даже так? И кто для тебя свои? Конвойные с овчарками, каждый из которых готов и без приказа застрелить тебя на месте или спустить на тебя собак? Майор Абрамов? Ты видел его справедливость не так давно на плацу. Скажешь, он убивал преступников, а все остальные для него — свои? Гуров, для них мы все тут — враги народа.
— Но я им не враг… — Эти слова я произнес негромко, убеждая самого себя в том, что в данный момент доказывал бандеровцам.
— Значит, ты не с нами?
— Остальные зеки, — напомнил я, чтобы сойти со скользкой темы.
— Значит, все остальные… Я не согласен с Лютым, — продолжил Червоный. — С оружием в руках на волю будет прорываться только одна, наша группа. Остальные заключенные также получат возможность выйти на свободу. Тут пускай каждый сам решает, как ты, Виктор, сказал: кому и насколько эта свобода на самом деле нужна. Нянчиться со взрослыми людьми я не собираюсь.
— Друг Остап, вместе со всеми мы выпустим бандитов. — По тону Лютого я понял — этот спор длится между ними давно.
— Ничего не поделаешь, — развел руками Червоный. — У блатных иная цель, чем у нас. Они собьются в стаю.
— А… мы?
— Мы — не стая, — Червоный говорил со мной терпеливо, как любящий отец с непослушным сыном. — Мы взвод, вооруженное подразделение УПА — Украинской повстанческой армии. Разницу понимаешь?
— Все мы станем беглыми зеками. — Тут уже я уперся.
— Они — зеки, Виктор Гуров. Мы — заключенные. Пленные. Даже — если так лучше понимаешь — военнопленные. Они будут грабить, чтобы прокормиться, и все равно скоро перегрызутся между собой. Мы видим перед собой совершенно другие цели. Их, так или иначе, поймают и вернут назад, потому что тюрьма для них — второй дом. У нас есть план начать боевые действия на вражеской территории.
— Стратегия, — добавил одноглазый Томас.
— Вот человек дело говорит — плюс ко всему еще и стратегия.
— Вы о чем?
— Когда на волю из бараков выйдет сразу, считай, свыше тысячи человек, начнется хаос, — заметил Червоный. — Охрана растеряется — но также растеряются заключенные. Ведь здесь ты, Гуров, очень правильно подметил: свободу все они получат внезапно. Не завоюют ее — забитым и перепуганным заключенным свободу подарят. Мы подарим. А они не будут знать поначалу, что с ней делать. Даже блатных это касается. А мы тем временем в этой общей суматохе действительно будем знать, что и как нужно делать. Поскольку, говорю же тебе, у нас есть цель, мы разработали стратегию и знаем правила тактики.
— Я не согласен, — гнул свою линию Лютый. — Но ты — командир, друг Остап. Ты поведешь, тебе решать.
— Значит, здесь договорились. Что тебе еще непонятно, Виктор Гуров?
— В Воркуте, наверное, есть военный гарнизон. Не только войска МВД, как в поселке. Армейское подразделение. Нам не дадут прорваться к вокзалу.
— Другого пути на волю я не вижу. — Здесь Червоный был категоричен. — Если не получится действовать стремительно — будем действовать по обстоятельствам. Не сможешь запустить паровоз, не удастся захватить никого, кто умеет это делать или может тебе показать — пойдем пешком. Здесь, в этом аду, я не останусь. Надо будет — поползу на свободу.
Слова его не казались митинговыми лозунгами. Данила Червоный действительно так думал, говорил спокойно, без надрыва, даже немного стесняясь того, что приходится озвучивать такие прекрасные потаенные мысли. Главное — я вдруг понял: да, он правду говорит. Готов ответить за свои слова — ручаюсь, что даже последний лагерный дохляк тайно мечтал выйти за периметр колючей проволоки.
Лучше всего — когда рассвет зардеется, время года значения не имеет, хотя на волю особенно почему-то тянет весной. Но бог с ней, с весной: когда бы ни настал час свободы, каждый хочет выйти на торную дорогу за лагерные ворота и пойти на восход солнца — чем дальше, тем увереннее печатая шаг. Не важно, придется идти по промерзшей земле или месить грязь поздней воркутинской весны — ведь с каждым новым шагом бараки, колючка и часовые с автоматами будут оставаться позади…
А чем дольше говорили мы с Червоным, тем яснее чувствовалось приближение желанной свободы: пускай на день, час, еще меньше, но все-таки хочется почувствовать себя на воле, вдохнуть ее пьянящий воздух… Думаю, не надо объяснять, почему решение пришло ко мне само и я не очень-то ему сопротивлялся.
13
Со своей командой, фронтовиками, я говорил осторожно, словно шел по тонкому льду. Но напрасно боялся: Морозов, Свистун, а тем более Марат Дорохов, кажется, быстрее меня почувствовали близкое дыхание свободы. Долго уговаривать их не пришлось, особенно Марата: тот вообще хотел, вырвавшись, пробираться из Воркуты один, готов был голодать, только бы отыскать того, кто написал на него донос. После этого, сказал Сапер, можно либо назад в лагерь, либо… Не договорил тогда Дорохов, что имел в виду, мы и сами догадались, не было желания уточнять.
Единственное, в чем наше мнение совпало — не станем стрелять в своих, то есть в солдат и офицеров, даже завладев оружием. Ведь мы понимали, что бандеровцы и другие, кому удастся завладеть оружием, начнут стрельбу и резню. Да, мы становились соучастниками убийства советских военнослужащих, но ни на одном из нас не будет хотя бы крови своих. Пускай даже, как убеждал Червоный, они и убили бы нас без угрызений совести. Впрочем, как признал Марат, они выполняют приказ — даже майор Абрамов подчиняется приказам высших инстанций.
Бандеровцы с этим не согласились. Хотя признали наше право не убивать советских военных. Вообще договоренность между фронтовиками и другими заговорщиками свелась к следующему: я, имея определенные навыки, попробую повести паровоз и, если у меня это получится, на станции Воркута, куда нас приведет узкоколейка, остаюсь с бандеровцами и «лесными братьями». Все остальные наши дальше заботятся о себе сами. Дорохова устраивал как раз такой вариант, Свистун примкнул к нему, а Морозов вообще подумывал, не прибиться ли ему к националистам — все равно беглецу нечего терять.
Словом, побег — а я называл наш план именно так, ведь я действительно собирался бежать вместе со всеми, даже не надеясь получить полную свободу, — стал для заговорщиков вопросом решенным. Ждали мы не столько сигнала от Червоного, которого даже наша небольшая команда, не говоря уже о литовцах, считала своим вожаком. Мы ждали весны: тоскующие по воле украинцы не хотели осуществлять свой план, пока все вокруг засыпано снегом и воет вьюга. Да и сам Червоный тоже ждал команды от какого-то неизвестного мне провода. Ну а сам приказ начинать, по логике вещей, также ожидали ближе к таянию снегов.
Все полетело кувырком через месяц после нашего сговора за бараком, в начале марта.
Снежных метелей с приходом календарной весны в этих краях становилось меньше. Хотя снег лежал, и он еще долго не будет таять, потому что первые оттепели начинались здесь в лучшем случае ближе к середине марта. Как раз одним таким морозным, но тихим утром Червоного после утренней проверки вызвал из строя и повел с собой под конвоем капитан Бородин. Ничего хорошего никто не ожидал, я, честно признаюсь, даже не думал, что Данила вернется назад в барак. Но в конце дня мы увидели его на своих нарах. Однако выражение лица нашего вожака ничего хорошего не предвещало.
Начальник оперчасти почти девять часов продержал его в своем кабинете. Повод: из Киева через Москву пришли какие-то материалы, требовавшие допроса бандеровского командира по новому делу. Так, по крайней мере, объяснил Червоный: или там, на Украине, поймали кого-то, с кем Данила был тесно связан, и теперь закон требует допросить осужденного Червоного по этому делу, или в его личном уголовном деле открылись новые обстоятельства. Что также требовало снять с него показания.
В конце концов Бородин все же отпустил Червоного назад в барак, продержав целый день без еды. Но завтра его дернут на допрос снова, если не завтра — то послезавтра. Могут на всякий случай закрыть в изоляторе, до особого распоряжения. И хуже всего: согласно специальному распоряжению из Москвы, его не только могут, но и обязаны по закону этапировать в Киев для дачи показаний местному следователю. Сюда, в Воркуту, следователь не поедет.
Никто не давал гарантий, что потом Червоный вернется назад, в тот же лагерь, в тот же барак. Скажу больше — уже тогда мы все согласились с Данилой: без определенных усилий майора Абрамова здесь точно не обошлось. На что конкретно он мог повлиять, до сих пор не готов сказать. Тем не менее начальник лагеря не упустит момента и воспользуется ситуацией, чтобы на законных основаниях избавиться от такого проблемного заключенного, как Червоный.
А это означало конец всем планам. Руководство мог взять на себя и Лютый. Но он сам заявил: без Червоного попытка вырваться из лагеря не получится как надо. И наверняка обречена на провал.
— Но мы можем провалиться и с Червоным, — не сдержался тогда я.
Червоный согласился, что всякое может случиться. Вот только он лично ждать не может. Его тянуло на свободу с дикой, неудержимой силой, и угроза снова попасть в следственно-судебную махину нашей системы только ускорила принятие решения.
— Начинаем сегодня и сейчас! — так сказал Червоный.
Никто не возражал, не спорил, ничего не обсуждал. Мы давно были готовы и восприняли это как сигнал, которого должны были дождаться.
Через несколько часов все, что было до этого, перечеркнулось жирной линией. А жизнь стремительно ускорила свой бег — следующие сутки уложились в одно-единственное воспоминание. И до сих пор вспоминаются, как одна большая мозаичная картина.
14
В ту ночь никто из заговорщиков не спал.
Каждый научился определять время без часов, но как раз тогда оно тянулось слишком медленно. Не поручусь за всех, но я, лежа на спине на своих нарах, до сих пор не мог представить, как все это будет. И совсем не чувствовал себя готовым к отчаянной попытке бегства. Эти ощущения смешивались с другими: громко стучало сердце, тело обволакивало томительное предчувствие перемен — не важно каких, главное — это будут перемены не только в моей судьбе: каждый из заключенных так или иначе почувствует это на себе, пропустит сквозь себя, а жизнь лагеря, что бы потом ни происходило, поделится на время до выхода Червоного и после него.
Кажется, окунувшись в такие мысли, я задремал — так как легкое прикосновение руки словно пробудило меня, вернуло в кисло-вонючую реальность лагерного барака. Не рассмотрел, кто меня зацепил, но это и не имело значения. Я легко поднялся и, стараясь шагать осторожно, придерживаясь условий прежнего плана, пошел в сторону двери. Там уже собрались заговорщики, нас становилось больше, люди подходили со всех концов барака, и только теперь я осознал масштаб всего, что должно было произойти: к схватке подготовились с полсотни молчаливых худых суровых мужчин. Они измучены, но как животное чувствует изменения в природе и атмосферу опасности, так и зеки насобачились тонко чувствовать настроения окружающих. Это, опять-таки, обо мне — я знал, что большинство из тех, кто шел за Червоным, готовились к смерти, но в бою.
Нечто подобное овладевало и мною, когда я вел свой танк вперед, видел перед собой свет и врага через прямоугольное окошко. Сначала, в первом бою, охватил страх — и он заставлял меня жать на педали и дергать рычаги, подбадривая себя криками «Ура!». Потом вперед вело уже что-то другое, отчаянное — так пацанва до войны сходилась в уличных драках.
Заключенные расступились, пропуская вперед, к небольшому коридору, в котором стояла параша и который отделял жилую часть барака от улицы, Червоного, Лютого, одноглазого Томаса и бандеровца по имени Ворон. Теперь, когда все начиналось и остановить события было невозможно, заговорщики не очень-то прятались. Их уже не волновало, что они могут поднять на ноги весь барак: стукачи, которые наверняка есть среди нас, уж никак не смогут предупредить оперативную часть.
Червоный заколотил в закрытые снаружи барачные двери. В унисон ему молотил кулаком литовец Томас. Остальные стали полукругом, в их руках я заметил острые предметы — вот когда опять пойдут в дело добытые в бою с уголовниками самодельные заточки и пики. От мысли, что сейчас на моих глазах будут убивать советских солдат, стало не по себе. Но для меня не было пути назад.
Конвойные отреагировали на бузу в «политическом» бараке довольно быстро — сначала послышались неразборчивые крики, кто-то с той стороны всадил по запертой двери чем-то увесистым, наверняка автоматным прикладом, а потом послышалось характерное лязганье — это выдвигалась из пазов тяжелая толстая длинная щеколда.
Первым порог переступил сержант с автоматом наперевес. Его пропустили, даже расступились — так, чтобы Червоный и Лютый оказались у него за спиной. Он еще не успел рассмотреть, что к чему. За старшим вошли один за другим трое солдат. На них набросились вместе, молча, не ожидая команды. В воздухе мелькнули руки с зажатыми заточками, конвойные выдохнули неожиданную острую боль, кажется, хором, осели на пол. Кто-то — я не увидел кто, быстро прикрыл дверь.
Не хочется признаваться сейчас, через тридцать лет. Тем более не хотелось признавать это тогда. Видимо, я должен был бы стыдиться и смущаться своих чувств. Точнее, того, что у меня их не возникло. Ничего, ни одна струна не дернулась в душе, когда на моих глазах бандеровцы зарезали солдат конвоя. Сам не смог бы — скажу точно. Но когда это сделали другие, я почувствовал что-то вроде признания очевидного факта: вот и стало на нескольких вертухаев меньше…
Все-таки я ощутил на короткое время оцепенение, из которого меня вывел, толкнув, Марат Дорохов.
— Чего встал, Гуров? Не кисни! Двигайся, замерзнешь!
Встрепенувшись и окончательно взяв себя в руки, я увидел, как Червоный, Лютый и Ворон надевают на себя шинели и шапки убитых конвойных. Томас крутил в руках шинель ефрейтора, не зная, что с ней делать: убитый оказался на голову выше и толще литовца, шинель только сковывала движения одноглазого. Наконец, бросив ее кому-то из тех, кто стоял ближе, Томас подхватил ефрейтора за ногу и оттащил в угол, к параше, где уже сложили остальные трупы. Но автомат взял, хотел выскользнуть из барака первым, однако Червоный, уже в шинели вместо бушлата и в солдатской шапке, жестом остановил его.
— Теперь так, ребята. Томас ведет одну группу к администрации. Автомат один на всех, вооружаться будем в бою. Друг Ворон — к выходу, там караулка, оружейный склад. Понимаю — трудно, но вас тут больше, чем солдат на вахте. Я с Лютым буду снимать пулеметные гнезда на караульных вышках. Вот этих двух, угловых. — Для верности он что-то показал рукой в воздухе, как будто напоминая направления ударов. — Действуем быстро и одновременно, всем ясно?
— Ясно, друг Остап. — Лютый взял трофейный автомат наперевес.
— Томас, вы подходите ближе и по возможности соблюдайте осторожность. Без команды не начинать, ладно? Тебя, друг Ворон, это тоже касается.
— Какая команда? — деловито уточнил одноглазый.
— Сам еще не знаю, — признался Червоный. — Смотрите в сторону вышки, той, что слева. Либо махну шапкой, либо буду оттуда стрелять. Но как бы там ни пошло, Томас, начинайте сразу, что бы ни увидели и ни услышали. Остальным быть здесь. Друг Мирон, поведешь людей.
— Да, друг Остап.
— Стрельба начнется так или иначе. Как только услышишь ее — веди людей в лагерь, открывайте бараки, выпускайте всех на волю. Следи за пулеметами, ведь у кого-то из нас не сразу может получиться. К тому же не забывайте о других вышках — там тоже пулеметчики. Но эти ближе.
— Погасим их — половину дела сделаем, — добавил Лютый.
— Не говори «гоп», — буркнул Червоный. — Пока действуем так. Дальше по обстоятельствам. Пошли, ребята. Со мной кто?
Не знаю, зачем шагнул вперед. Но Данила даже не отметил это и не оценил, хотя не думаю, что в тот момент мне вообще нужна была оценка. Просто вдруг остро захотелось быть причастным к чему-то важному. А важное — там, где Червоный.
15
Выбравшись на мартовский мороз, Червоный, Лютый, Ворон и один из литовцев, которому подошла шинель крупного сержанта, на миг остановились.
Суматоха около «политического» барака наверняка не осталась без внимания, и точно: прожектор с ближайшей вышки светил в нашу сторону. Червоный, стараясь держаться к свету боком и надвинув солдатскую шапку глубоко на уши, махнул рукой, чтобы дать понять — все в порядке. Тем временем Лютый и Ворон вели под конвоем троих зеков — якобы виновников ночного ЧП. Небольшая процессия двинулась, скрипя снегом, в сторону кирпичной двухэтажки — оплота лагерной администрации. Прожектор проводил ее, и в этот момент я с еще несколькими заключенными выскользнул из барака, стараясь сразу скользнуть за стену и прижаться к ней, чтобы спрятаться от света.
На ночной лагерь снова спустилась тишина. Луч прожектора переместился в центр плаца, расположенного неподалеку. Это стало для всех определенной командой: Червоный и Лютый мгновенно отделились от группы, к ним примкнули заключенные, готовые действовать немедленно, и я оказался среди них. Еще несколько человек присоединились к Ворону и Томасу. Одноглазому без всяких возражений отдали автомат, второй взял бандеровец. Передвигаясь в темноте быстро и стараясь даже не скрипеть снегом, все группы рассредоточились по лагерю, каждая — в своем, определенном командиром направлении.
Все-таки наши темные фигуры были заметны на общем белом заснеженном фоне. И если часовые на вышках не обратили на наши перемещения внимания, это можно объяснить тем, что в ту ночь карты легли в нашу пользу. Или удачно выбранным временем для начала акции: до середины ночи на морозе трудно продержаться даже в полушубке и битых валенках, сохраняя при этом максимум внимания. Плюс ко всему бдительность конвоя на угловых вышках притупилась давно. Ведь в нашем лагере несколько последних недель даже уголовные группы не особенно воевали — наверное, заключили что-то вроде перемирия. Кроме того, «политический» барак, та самая «пятьдесят восьмая», даже во времена, когда уголовники между собой воевали, не считалась таким уж опасным сообществом. «Враги народа» до появления в лагерях бандеровцев вообще принадлежали к смирной категории заключенных.
Приблизившись к вышке на максимально безопасное для всех расстояние, Червоный жестом приказал своей небольшой группе остановиться. А сам, совсем не скрываясь, запахнул шинель, перекинул через плечо автомат и двинулся вперед. Он сразу же привлек к себе внимание — сверху послышался окрик, сначала заинтересованный, а через секунду с тревогой в голосе:
— Эй, кого там несет?
Червоный выиграл драгоценные мгновения еще и благодаря неповоротливости часового. Увидев движение под собой, он сначала сам повернулся и глянул вниз, не посветив лучом прожектора. Иначе преимущество было бы на его стороне: если бы часовой увидел группу зеков, имел бы возможность переместить пулемет в нашу сторону и открыть огонь. Сектор обстрела позволял ему положить большинство из нас одной длинной полукруглой очередью. Но часовой немного подмерз на своей вышке, так что его реакция замедлилась.
— Свои! — крикнул в ответ по-русски Червоный, двигаясь и стягивая автомат с плеча. — Греться будешь?
Когда на морозе слышишь что-то подобное, первая реакция всегда вызвана естественной потребностью человека в тепле, но никак не логикой момента: темная ночь, солдат с автоматом, странное предложение.
— Чем греться? — донеслось сверху, а Червоный уже поставил ногу на первую ступеньку лестницы, ведущей наверх.
— Спирта хочешь?
— Можно… Э, стой, какого еще спирта? Где спирт? Стоять, я сказал!
Еще не поняв, что происходит, часовой все же заподозрил неладное. Со своего места я и другие зеки-беглецы не видели, как именно он повел себя, стоя на вышке. Но в следующий момент это уже не имело значения, потому что с противоположной стороны, где виднелась другая вышка и куда отправился со своей командой Лютый, донеслось: «СТОЙ, СТРЕЛЯЮ!» — и сразу же ночную морозную тишину распорола короткая пулеметная очередь.
Червоный не ждал, пока часовой начнет огрызаться, так как уже выиграл несколько секунд растерянности, поэтому поднял автоматное дуло вверх, пристроился и дал длинную очередь. Пули, пущенные веером, нашли цель: часовой с криком полетел вниз. Червоный отступил — и тело распласталось на снегу, а затем стремительной птицей взлетел наверх и взялся за пулемет.
С противоположной стороны пулеметчик строчил короткими прицельными очередями, послышались крики раненых, огрызнулся автомат — это Лютый вступил в поединок. Не теряя времени, Червоный развернул прожектор, направляя широкий луч через весь плац на другую вышку. В свете мы увидели солдата, который залег у пулемета и, наверное, совсем не ожидал, что на него направят мощный прожектор. Машинально прикрылся рукой, повернулся в сторону Червоного, что-то выкрикивая, — и Данила, припав к пулемету, выпустил в ту сторону длинную очередь, не боясь расстрелять весь запас патронов. Сейчас важнее обезвредить еще одно пулеметное гнездо, ведь других возможностей в ближайшее время не появится. Пулеметы к себе не подпустят.
Не знаю, кто попал: Червоный, стреляя со своего места, или Лютый, который был к врагу ближе. Пулемет на соседней вышке захлебнулся и заглох. Данила сбросил вниз ненужное уже оружие, скользнул по лестнице, встал на ноги, расстегнул шинель и сбил набекрень шапку: конец маскараду.
Лагерь ожил как-то сразу. Я уже не следил за событиями, которые начались внезапно и одновременно: стрельба со всех сторон, рев сирены распарывал снежный сумрак, темные фигуры, уже не скрываясь, пересекали плац. Я только сосредоточился на передвижении своей группы — Червоный с автоматом наперевес вел нас к админзданию. Казарма, где был оружейный склад, стояла в поселке, за территорией лагеря. Там был и продуктовый магазин, и больница с бо́льшим, чем в зоновском медпункте, набором нужных нам лекарств, и платформа для узкоколейки. Там жили и работали вольнонаемные и поселенцы. Это была не настоящая, такая себе — наполовину, но все-таки — свобода.
По дороге мы пересеклись и слились с группой Лютого — она уменшилась, но он ничего не объяснял: и так понятно, что кто-то остался на снегу возле второй вышки. Но эффект неожиданности все же давал нам существенное преимущество — остальные «враги народа» хлынули наружу, уже не ожидая команды, и в общем порыве дружно открывали другие бараки.
Остро почувствовав ситуацию, к ним присоединились воры — чуть позже я узнал, что Коля Тайга немедленно приказал уголовникам вооружиться, вместе они взломали дверь изнутри и, не теряя времени и не выжидая, как именно повернутся события дальше, даже не разобравшись, что к чему, бросились резать своих кровных врагов — сук.
Менее чем через час после того, как прозвучал первый выстрел, лагерь накрыла неудержимая волна массовой расправы: вырвавшиеся на волю едва успевали избегать заточек воров, а «ссученные», даже не пытаясь сопротивляться, панически убегали — шестое чувство подсказывало им, что в ближайшее время за них никто не заступится.
Спасаясь от верной смерти, суки бежали врассыпную — и первыми попадали под перекрестный огонь пулеметов с вышек. Это и прочее я тоже узнал гораздо позже. Вмиг ошалевший от неожиданной свободы и безнаказанности лагерный народ, независимо от того, кто эти люди и за что сидят, не обращал внимания на стрельбу. Конечно, не лезли бездумно: когда под пулями упали первые жертвы, заключенные без команды разбежались. Чтобы потом, так же без команды, перестроиться вроде как в боевой порядок, группами броситься на вышки и свалить их на землю, вместе с часовыми.
Солдатам не давали подняться: топтали ногами, рвали руками, кого-то затоптали насмерть, кого-то зарезали в общей куче ловкие воры. Конвойные группы также отстреливались, но их автоматные очереди остановили зеков на очень короткое время, потом в первые ряды выдвинулись уголовники, прозвучал клич: «Смерть легавым!» — и свою смерть в ту ночь нашли все, кто не успел вовремя выбежать за лагерную территорию.
А вскоре морозную тьму лизнули первые красные горячие языки — вспыхнул один из бараков. В огонь бросали еще живых «ссученных», туда же летели мертвые тела солдат охраны. Все это происходило под громкий рев сирены, выключить ее пока что не было возможности.
Пока на территории лагеря полыхал бунт и шла кровавая расправа, мы вместе с Червоным добежали до двухэтажного кирпичного административного корпуса. Здание уже окружили вооруженные самодельными ножами бандеровцы и «лесные братья» — именно сюда, на стрельбу, они подтянулись после того, как лагерь погрузился в сплошной мятежный хаос.
16
Здесь шел настоящий бой.
Вокруг здания на окровавленном снегу лежали несколько трупов, среди них я узнал Мирона — он лежал навзничь, пули прошили его от головы до груди наискосок. Внутри держали глухую оборону. Хотя, судя по нескольким полуодетым трупам около крыльца и кирпичной стены, оперативный состав лагеря тоже понес потери. Китель с погонами был только на одном из убитых, остальные успели вскочить только в галифе и сапоги или валенки. У нескольких заключенных я увидел пистолеты. Те, кто нашел смерть здесь, на небольшом дворе, выбежали вооруженными, и восставшие задавили их массой в рукопашной схватке. Те, кто уцелел, вернулись назад: время показало, что я почти не ошибся с выводами.
— Что здесь? — коротко спросил Червоный, становясь рядом с одноглазым Томасом, выбравшим себе позицию за углом кухни.
— Кусаются, — сосредоточенно ответил литовец, давая в сторону здания еще одну скупую очередь.
Ему ответили выстрелы из окна на втором этаже — все знали, что это кабинет «кума». И там, видимо, засел в обороне сам капитан Бородин. Он бил из приоткрытого окна коротко, прицельно, и в отличие от нападавших имел, несомненно, гораздо больший боезапас. Огрызались выстрелами и из других окон. Но желание вырваться у всех, кто атаковал здание, оказалось сильнее. Или мне показалось, или на самом деле никто из нападавших не боялся поймать слепую пулю.
— Ничего, зубы вырвем.
Процедив это, Червоный повернул голову направо — оттуда, от выхода, тоже доносилась канонада: это Ворон со своей группой пытался взять штурмом караульное помещение и расчистить выход из зоны на волю. Рядом была казарма, а там пирамида с винтовками и автоматами. И если захватить ее стремительно, почти голыми руками, согласно расчетам Червоного, не удалось, тогда дела наши швах. Но, судя по всему, у входа продолжалась перестрелка — значит, все вроде бы шло по плану.
Видимо, Червоный разрывался между желанием быть здесь, у здания, где оборонялись его главные враги, Абрамов с Бородиным, и бежать туда, где Ворон с остальными пробивал путь на свободу. Не знаю, долго ли в той ситуации он собирался искать свое место, но все решили действия украинцев и литовцев.
Одноглазый Томас что-то скомандовал на своем языке, несколько его вооруженных только самодельными ножами товарищей резко рванули к приоткрытой двери, туда же за ними заскочили несколько бандеровцев. Червоный не сдержался — вскинул автомат, давая скупую очередь в сторону окна, из которого отстреливался Бородин, и в следующий момент капитан с криком летел со второго этажа головой вниз. Падая, он смог сгруппироваться, встретил землю вытянутыми вперед руками, перекатился, но подняться не смог — в оконном проеме вырос Томас, наклонился для верности, прицелился и щедро разрядил в начальника оперативной части остатки автоматного диска.
Из других окон тоже доносились крики — боль, ярость, предсмертный стон. Вдруг к ним добавился пронзительный женский визг — и стрельба внезапно стихла. А затем двое заключенных вытащили на утоптанный и розовый от крови — это было заметно даже в темноте! — снег майора Абрамова: босого, в ватных штанах, без кителя, в одной нижней рубашке, тоже грязной от крови. Заключенные тащили начальника лагеря, как капризный ребенок надоевшую сломанную игрушку: выкручивали руки, пинали по ногам и спине, пытались придушить за горло и, если бы это было возможно, наверное, оторвали бы коротко стриженую голову. Пленного майора не бросили на снег под ноги Червоному — тот как раз подошел ближе, — его плотно окружили, не давая упасть, и начали рвать руками: так, по крайней мере, казалось со стороны.
Когда за ним вывели Тамилу, докторшу, — растрепанную, в шинели, наброшенной на ночную рубашку, из-под которой выглядывали полные голые ноги в теплых бурках, с ней обращались не так, как с ее лагерным любовником. Наоборот, ее, кажется, просто тащили за руки и подталкивали в спину. Но все равно докторша надрывно кричала, и в этом крике слышались боль и страх.
Наконец захлебнулась сирена — видно, кто-то добрался до распределительной будки и вырубил ее вместе со всем электричеством. Лагерь окончательно погрузился во тьму, если не считать отблесков пламени со стороны подожженного барака. А еще я вдруг заметил: северную ночь делает светлее белый снег вместе со звездами, неожиданно высыпавшими на темном мартовском небе над мятежной зоной.
— Не надо, не надо, пожалуйста, не надо! — кричала Тамила.
И непонятно было, чего она хотела: избежать собственной смерти, остановить неотвратимую расправу над Абрамовым, призывала к общему милосердию… Испуганная растрепанная женщина вопила от страха. Ее не пугали ни сама зона, ни поведение офицеров и солдат конвоя в отношении заключенных, ни ежедневные заключения о смерти от кровавых ран, обморожения или голода, составленные и подписанные ею. Я сжал зубы: готовясь к тому, что ярость зеков, вырвавшихся вдруг на волю, будет неудержимой и неуправляемой, не ожидал сам от себя, что и меня охватят мстительные настроения.
Со стороны вахты до сих пор тарахтели выстрелы. Червоный судорожно стиснул автомат, опять посмотрел в ту сторону, но сдержался, приблизился к Абрамову, бросив при этом докторше:
— Закрой рот, а то докричишься у меня…
Странно: это подействовало. Тамила всхлипнула, вмиг перестала кричать, только стояла, окруженная заключенными, и тяжело и шумно дышала, выдыхая воздух с громким присвистом.
— Ну, гражданин майор, так что мне теперь с тобой делать? — вопрос Червоного был риторическим, приговор начальник лагеря получил давно, так сказать — заочно.
Червоного и других ответ не очень интересовал. Но вдруг сзади послышалось хрипловатое:
— Не знаешь — так я знаю!
Из темноты надвинулась группа воров — не очень большая, человек десять. Впереди шел Коля Тайга: снятые с кого-то светлый офицерский полушубок вместо бушлата, бурки и старая шапка-ушанка на голове. Вор игрался пистолетом, тоже, видимо, отобранным у убитого офицера. Немного позади шел Шарик с винтовкой на плече. Остальные блатные держали наготове заточенные железки: видно, не все вооружились вовремя.
17
— Здорово, бродяги! — рявкнул Тайга, и в его голосе слышалась неприкрытая веселость. — Молоток, Червоный! Я с самого начал знал: этот хитрый хохол втянет-таки всех в знатную бузу!
— Тебе чего надо? — Данила, не скрывая враждебности, повернул к главарю воров автоматный ствол.
— С гражданином начальником перетереть напоследок. — Коля Тайга стоял достаточно близко, и в темноте было видно, как блестят, когда он растягивает рот в улыбке, две металлические фиксы. — Скажу ему пару слов. Отпущу грехи, нельзя на тот свет без отпущения, разве не?
— Ты разве поп? — Брови Червоного взлетели вверх.
— Да и ты не святой! — отрезал Коля Тайга. — Никто здесь не святой, все мы грешники.
— Ага, все к Богу в очереди, — вставил Шарик.
— Сейчас вот начальника очередь, — Тайга кивнул на окровавленного майора. — Завтра, может, твоя, Червоный. Или вот хоть Танкиста. — Кивок на меня. — Или вон Циклопа. — Кивок в сторону одноглазого Томаса.
— Твоя когда?
— И за мной придут, когда надо, — легко согласился Коля Тайга. — Видишь, сколько у нас с тобой, хохол, общего…
— Ты это к чему?
— К тому самому. — Теперь и Коля Тайга повернул голову на звуки стрельбы со стороны выхода. — Все эти людишки, которые тут сидят, — шелупонь, жизни не знают, крови не нюхали. Мне с ними не по пути, им со мной — тоже. Они как спирт найдут и кухню разбомбят, нажрутся, зенки зальют, покричат — вот и вся свобода. Мне и вот этим нормальным бродягам, — Тайга широким жестом обвел свое небольшое войско, — тут, с ними, нечего делать.
— Твое дело.
— Нет, Червоный, это уже наше дело. Общее. Тебе тоже с ними не по пути. У тебя… у всех вас точно есть план. И свое дело вы, мужики, знаете. Тогда мы с вами.
— Кто так решил?
— Я вынес вопрос на коллектив. Мы приняли резолюцию. — Коля Тайга криво усмехнулся. — Все как по закону.
— По вашему закону я не живу, — отрезал Червоный. — Советские законы мне вообще до одного места. А людей у меня хватает.
— У тебя? Тебя здесь кто-то бугром назначил, а, хохол? — оскалился Тайга.
— Меня никто никем не назначал. У нас общих сборов не проводят. Я решаю сам, с кем мне идти дальше и куда.
С Колей Тайгой никто из заключенных здесь, в лагере, не позволял себе говорить вот так, прямо и даже нагло. Немного зная главаря воров, я нутром чувствовал: даже если эти двое между собой о чем-то договорятся, чтобы только не начинать грызню за шаг до выхода на волю, при первой же возможности Тайга ударит Червоного ножом. Или выстрелит в него.
В спину. Иначе с такими, как Червоный, Томас или Лютый, такие, как Тайга и Шарик, не справятся.
Не знаю, как далеко зашли бы эти двое в ту ночь, если бы из темноты не выбежал запыхавшийся Ворон: на шинели с левой стороны расплылось пятно, левая рука двигалась плохо, но правая сжимала автомат. Ворон зачастил возбужденно:
— Друг Остап! Там наши оружие захватили!
— Отлично! — оживился Червоный, тут же забыв про Тайгу и других уголовников. — Потерял много?
— Москалей легло больше! Голыми руками работали, рукопашная началась! Только, друг Остап…
— Ну?
— Там, на вахте… В караулке…
— Что в караулке?
— Засухин… Лейтенант… С ним еще бойцы, у них пулемет… Думаю, патронов мало осталось, часто стреляли… Переговоров хотят…
— Время они тянут! — раздраженно сказал Червоный. — Сирену в поселке наверняка слышали. Связь тут тоже есть, думаю, успели сообщить куда следует. Если и не успели… Один черт из поселка уже подкрепление идет.
— Так что?
— Ничего! Никаких переговоров, друг Ворон! — Он бросил взгляд сначала на Колю Тайгу, потом на захваченного и связанного майора, скользнул глазами по мне, докторше, остановился на одноглазом литовце. — Томас, ну-ка все за мной, на вахту! У нас теперь больше стволов, выкурим всех! — Он опять глянул на воров. — Черт с вами, забирайте майора!
— Когда договорим?
— Никогда мы с тобой не договорим!
Это Червоный выкрикнул на бегу, а за ним поспешили остальные. Меньше чем через минуту я остался один на один с уголовниками, Абрамовым, стонавшим на снегу, докторшей Тамилой, тут же кинувшейся к майору и накрывшей его собой, и Свистуном. Кеша тоже не мог найти себе применения. Потому что воевать с советскими солдатами и офицерами — со своими же, как ни крути, — бывший старший сержант Красной армии тоже не был готов.
Тем временем Коля Тайга немедленно взял ситуацию в свои руки. Двое бандитов оттащили докторшу, еще трое дружно подняли избитого и раненого Абрамова. Главарь подступил к пленному вплотную, коротко замахнулся, сильно ткнул пистолетным стволом в центр лица майора, раскраивая кожу и выбивая дулом передние зубы жертвы.
— Ну как, начальник? Побазарим? Или ты не можешь меня выслушать?
Снова не сдержала крика Тамила. Тайга повернул голову в ее сторону. Я стоял в нескольких шагах от него, поймал даже в темноте этот взгляд, и он мне очень не понравился. Свистун почувствовал мои опасения — сделав несколько шагов вперед, встал рядом со мной.
— С тобой, сучка, тоже поговорим. Ты у нас врач? У нас тут вон сколько больных мужчин. Всех полечишь. Есть у тебя хорошее лекарство, куколка… Не бойся, жить будешь, от этого бабы еще не умирали.
Тамила снова закричала, но Колю Тайгу женщина пока не интересовала. Он опять повернулся к Абрамову, наотмашь ударил в лицо.
— Ну что, молчим, начальник? Холодно, язык примерз на морозе? Ничего, есть где погреться. Там твоих уже много греется. Айда, братва.
Когда начальника лагеря подхватили под руки и поволокли в сторону пожара, он все понял раньше, чем я, потерял контроль над собой, из последних сил задергался в руках своих палачей. Но один из бандитов резко ударил Абрамова сзади в затылок — и тело его сразу обмякло. Теперь майор не сопротивлялся своей страшной участи — только что Коля Тайга приговорил его к сожжению живьем в охваченном огнем бараке.
— Так нельзя, — вырвалось у меня.
— О, Танкист! — Главарь воров как будто только сейчас меня заметил. — Голос прорезался? Почему ты с дружками своими не поиграл? А ты, Кеша, чего киксуешь? Может, бабу ждете? Ничего, хватит. Пока там Червоный с начальниками все порешает…
— Коля, докторша здесь при чем? С женщинами не воюют…
— Кто тебе сказал, что мы с ней будем воевать? — Тайга глупо хихикнул. — Я сколько тебя знаю, земляк, а не думал, что ты такой дурак… Башка закружилась?
— Нет времени, Тайга. — Я решительно шагнул вперед. — Отпусти ее.
— На что у тебя нет времени? Ох, вижу, ошибался я в тебе… Стал я ошибаться в людях, Танкист, ох, стал… Ничего, мне наука будет, тебе тоже.
— Тайга…
— Хайло заткни! — рявкнул тот, стиснув в руке пистолет, но не спешил наставлять дуло на меня. — Беги на вахту, тебя там твои заждались! Вон, слышал?
В самом деле, со стороны выхода вдруг послышалась частая стрельба.
— Вали! Кеша, ты тоже вали! Или остаешься с нами? А то смотри! Мы подтянемся!
Двое блатных тем временем уже тащили перепуганную докторшу к дверям здания.
Потом все закрутилось очень быстро. Я не успевал следить за событиями и не управлял ни ими, ни собой. Ведь если бы не так, то вряд ли бросился бы за бандитами. Ничего не кричал — просто рванул с места, вооруженный только собственными кулаками.
Не сговариваясь, всего лишь реагируя на мой рывок и действуя на опережение, бывший старший сержант Свистун прыгнул на Колю Тайгу, подбивая вверх его правую руку с зажатым пистолетом и не давая выстрелить мне в спину. Мгновение — вор и фронтовик уже сцепились, покатились по снегу. На выручку главарю бросились двое, Шарик клацнул затвором винтовки. Я услышал этот звук за спиной, инстинктивно присел, нырнул влево, стремясь избежать пуль.
Но остановил меня не выстрел — один из блатных, тащивших докторшу, отпустил женщину, резко повернулся всем корпусом, встретил меня метким ударом. Что-то острое и жгучее пронзило живот, я вскрикнул, остановился, схватился руками за рану и осел на снег. Но сознания не терял.
Поэтому видел, хотя и в темном тумане, как Коля Тайга сбросил с себя Свистуна и, пока другие бандиты пинали его тело ногами, поднялся, а затем, не раздумывая, выстрелил в лежачего.
Где-то рядом отозвался автомат — и Тайга, скошенный очередью, упал на только что застреленного моего товарища. Остальные бандиты бросились врассыпную, в первую очередь те, кто взялся за Тамилу: растворились в темноте, в отличие от тех, кого свалили прицельные выстрелы.
А потом я увидел возле себя Червоного. Он держал автомат дулом вниз, шапки на стриженой голове уже не было. Червоный опустился около меня на колени, нагнулся близко, и впервые я услышал в его голосе растерянность:
— Думаю, куда ж ты подевался… Что же ты… Мог с нами… Хотел же…
— Не мог… — выдавил я, преодолевая жгучую боль. — Потом… Я не стрелял бы… Знаешь…
— Ты молчи, молчи, — Червоный положил руку мне на лоб. — Как же так, ну как…
— У вас что?
— Нормально все, — послышался рядом голос Лютого, и я увидел его у себя над головой. — Раскололи орешек. Выход есть, свобода, Виктор.
— Не для меня…
Червоный вздохнул, выпрямился.
— Выходит, нет у нас машиниста, друг Лютый. Куда его с собой…
Может, он еще что-то говорил. Но боль становилась сильнее меня. Я даже не чувствовал холода — постепенно погружался в мягкую вату, которая неизвестно откуда взялась здесь, в лагере, в темную воркутинскую ночь. Последнее, что уловило ухо, — скрип снега, отдаленные звуки выстрелов, далекие победные крики…
Потом наконец наступила тьма — настоящая, густая и безмолвная.
18
Меня выходила Тамила Супрунова.
Когда все закончилось, она никому ни слова не сказала о том, что в ту ночь я был вместе с Червоным и другими бандеровцами. Ничего не объяснила и мне. Сам догадался о причине хорошего и заботливого к себе отношения. Знаю только: когда Червоный и Лютый оставили меня и пошли к своим, чтобы попробовать завершить начатое, женщина, потерявшая надежду на спасение, подползла ко мне, подхватила, волоком затащила внутрь здания, нашла все необходимое и перевязала рану. Потом узнал: Тамила в свое время тоже нюхала порох, была военным врачом, а в управление лагерей перебралась после гибели фронтового мужа, какого-то полковника.
Она же добилась, чтобы после выздоровления я был при больнице, и меня сделали санитаром. Попытку бегства не шили: отчасти помогли показания Супруновой, отчасти то, что судить и навешивать новые сроки надо было всему лагерному контингенту без исключения. А оказалось, Червоный правильно говорил: не все, даже «враги народа», знали, как себя вести, когда вокруг бунт, убивают солдат и офицеров, режут друг друга и поджигают барак. Подавляющее большинство заключенных даже не пытались выйти за пределы лагеря. Более того — даже не рискнули приблизиться к периметру.
Поэтому, как я узнал от Тамилы, судили уголовников, которые разбежались, когда Данила Червоный вывел свою группу за лагерные ворота.
Им удалось, хотя и ценой потерь, подавить отчаянное сопротивление конвоя, завладеть оружием и до рассвета марш-броском добраться до поселка. Там, на околице, навстречу уже выдвигалась автоколонна — солдаты в кузовах трех грузовиков. Развернувшись в боевом порядке, бандеровцы и численно меньшие «лесные братья» дали бой. Когда закончились патроны, а это случилось, судя по всему, очень быстро, заключенные пошли врукопашную.
Им удалось заставить солдат отступить, оставив одну машину — восставшие просто отбили грузовик. Все, кто остался жив, вооружились заново. Среди заключенных нашелся тот, кто умел держать руль, они загрузились в кузов и поехали по единственному маршруту — в тайгу, стараясь обогнуть поселок сбоку и все-таки прорваться на Воркуту.
У них это получилось — успешному передвижению отчасти способствовала паника. Но сначала заключенные сбились с дороги, потом, когда разобрались, в баке полуторки вышел весь бензин: оказывается, бак был неполным. Тогда вооруженные заключенные пошли пешком — другого варианта у них не было.
Под вечер добрались до небольшой, в двенадцать домов, деревни. Там застрелили местного милиционера, который сдуру требовал сдаться, стали лагерем в двух домах, отогрелись и поели: впервые за долгое время они питались человеческой едой. А под утро деревню окружила регулярная армейская часть. Говорят, откуда-то пригнали даже два транспортера. Подробностей от докторши узнать я не мог, она сама не все знала. Выведывать же не хотел, чтобы мой интерес не восприняли как нездоровый.
Ну а потом…
Я вот так, при больнице, дотянул до 1953 года, без нескольких месяцев — десять лет из пятнадцати присужденных. Весной умер Сталин, летом меня и еще кучу народа вызвали с вещами, доставили в Воркуту, там выдали какие-то бумажки о пересмотре дела и досрочное освобождение. Потом, уже в Ленинграде, еще долго ходил, брал разные справки о реабилитации, но не дали. Или дали, но какие-то не такие… Я же особисту по морде заехал, а разве другой особист такого помилует, даже задним числом? Скостили треть срока — и будь здоров…
Еще через какое-то время вызвали в КГБ, бледный юноша сухо предупредил, что проживать в черте города я не могу, и посоветовал перебраться в Ленинградскую область, даже обещал поспособствовать с работой. Между прочим напомнил — лучше бы я поменьше говорил о своем уголовном прошлом.
Так и сказал, представляете: у-го-лов-ном. Судимость с меня же не сняли, только выпустили на волю досрочно. Дело не фабриковали, сам себя я не оговаривал, значит, сидел справедливо, а то, что оттянул две трети срока, — гуманизм власти, не иначе… Вот примерно на что намекнул их бледненький молодой сотрудник.
Но вас не это интересует… Конечно, конечно, не извиняйтесь, все прекрасно понимаю. Итак, Червоный…
Все, что я знаю теперь: вооруженные заключенные держались четыре часа. Живых осталось очень мало, четверо или пятеро, среди них Марат Дорохов и одноглазый литовец Томас.
Их лечили, чтобы судить и добавить срок по максимуму. Через год, когда Сталин вернул смертную казнь, их дела пересмотрели и присудили каждому расстрел.
Всех, кто оказывал вооруженное сопротивление, привезли в лагерь, сбросили тела на плацу навзничь и провели мимо них строй заключенных. И так трижды. Это рассказал доцент Шлихт — потом, когда имел возможность наведываться ко мне. Именно он, по привычке настороженно озираясь вокруг себя, полушепотом сказал: Червоного среди мертвых не было.
Точнее так: он, Борис Исаакович Шлихт, на плацу среди выложенных навзничь трупов Червоного не увидел. Или не узнал: хотя там лежали и Лютый с простреленной головой, и Ворон, с грудью, изрешеченной пулями, и все остальные, с кем мы делили барак. Даже трупы Коли Тайги, Шарика и других уголовников, в том числе тех, кого выловили потом в окрестностях Воркуты, лежали там. Их узнать было можно. Червоного же не было…
Между тем Шлихт обмолвился: лежали там, рядом с пригодными для опознания мертвецами, несколько человек с залитыми кровью лицами. Конечно, кто же их будет отмывать, смывать кровь, чтобы все увидели эти лица?!
Может, Данила Червоный был одним из них.
Может, нет.
Если вы ждете от меня готового ответа — его не будет…
Киев
Октябрь — декабрь 2011 года
Благодарность
Скажу честно: был большой соблазн дать волю творческому воображению и написать роман о событиях украинской истории ХХ века, не обращая внимания ни на что и ни на кого. А все упреки в стиле «Так не бывает!» списать на невежд, которые не понимают, что фантазию изобретательного автора связывают оковы исторической правды и настоящей, а не книжной реальности. К тому же давили и субъективные факторы: а именно — писательское нежелание раскрывать кому-то тему, идею, сюжет будущего произведения. Тем более — давать прочитать рукопись кому-нибудь, кроме будущего издателя.
Но здравый смысл победил. После длительной борьбы с самим собой я понял: без консультаций людей, находящихся в теме украинского повстанческого движения середины ХХ века намного глубже, чем автор, который решил взять для романа не очень знакомые страницы истории, точно не обойтись. Могу откровенно сказать — этот роман не был бы написан без помощи тех, кого искренне благодарю:
Николай Дмитриев, писатель с Волыни, лучанин, автор произведений военной тематики, исследователь военной истории и очевидец событий, использованных или только упомянутых в первой части романа;
Александр Булавин, генерал-майор СБУ — кроме прочего, помог мне детально прорисовать типичную оперативную комбинацию, вследствие которой такие, как мой герой, Данила Червоный, гарантированно попали бы во вражескую ловушку. И дал понять: времена не меняют методов, только совершенствуют и корректируют их…
Иван Патрыляк, кандидат исторических наук, первый читатель. Его заключения я боялся больше всего, но он, к счастью, понял: у художественного произведения свои законы. Зато его замечания помогли максимально приблизить художественную правду к исторической. Итак, события, описанные в романе, вполне могли происходить там и тогда, ведь история с его помощью только приобрела форму литературного произведения.
Вахтанг Кипиани, журналист, редактор «Исторической правды» — его замечания к тексту оказались очень точными.
Кроме того, замечу: не читая чужих книг, своей не напишешь. Поэтому источниками для создания этого романа служили:
— воспоминания ветеранов УПА Степана Семенюка «…И погибали первыми» и Марии Савчин «Тысяча дорог»;
— заключенных ГУЛАГа Варлама Шаламова «Сучья война», Ивана Иванова «Колыма», Андрея Микулина «Концентрационные лагеря в Советском Союзе» и Густава Герлинга-Грудзинского «Иной мир. Советские записки»;
— книги историков Ивана Патрыляка «“Встань и борись! Слушай и верь…”: украинское националистическое подполье и повстанческое движение (1939–1960)» и Владимира Вятровича «История с грифом “секретно”»;
— рассказы Варлама Шаламова «Последний бой майора Пугачева», роман Сергея Бортникова «Замок королевы Боны», а также фрагменты романов Владимира Высоцкого и Леонида Мончинского «Черная свеча» и Андрея Константинова и Александра Бушкова «Второе восстание Спартака».
А еще источниками были волынские газеты 1946–1948 годов из архивов Национальной библиотеки им. В. Вернадского, тематические публикации в современной печатной периодике и Интернете.
И все же не забывайте — прежде всего это художественное произведение…
Примечания
1
Использован фрагмент настоящей листовки, распространявшейся УПА в 1947 году. ( Здесь и далее примеч. автора. )
(обратно)2
Дефензива — польская политическая полиция и контрразведка, действовала в период 1918–1939 годов.
(обратно)3
Поц ( идиш ) — мужской половой орган. Распространено как жаргонное слово в одесском и других южных регионах Украины. В отличие от идиш, в украинском языке не всегда употребляется как нецензурное ругательство.
(обратно)4
Здесь переведены фрагменты настоящих сочинений волынских школьников, написанных в 1947 году и опубликованных в местных газетах.
(обратно)5
ППШ — пистолет-пулемет Шпагина, сконструированный Георгием Шпагиным в 1940 году.
(обратно)6
У Онищуков крыйивка под картошкой. Там раненый есть ( укр. ).
(обратно)7
Выходи на разговор. Приходи через час. Жди за околицей возле леса. Будь один ( укр. ).
(обратно)8
ППД — пистолет-пулемет, разработанный Юрием Дегтяревым, базовая модель на вооружении Красной армии с 1934 года; «дегтярь» — разговорное название ручного пулемета Дегтярева, поставленного на вооружение в 1994 году.
(обратно)9
В 1946–1947 годах во время послевоенного восстановления экономики и военно-промышленного комплекса СССР советская власть использовала украинское село как основного «донора». Чтобы подтвердить существующий миф о преимуществах социализма и стремясь раньше государств Западной Европы, тоже охваченных засухой, отменить карточную систему, в Советском Союзе по прямому приказу Сталина создавались так называемые резервы зерна. Хлеб поставляли не только будущим союзникам — странам формируемого социалистического лагеря, но и даже в некоторые капиталистические страны. Таким образом, произошло очередное тотальное выкачивание хлеба из села, что в условиях экономики нерыночного типа через механизм административно-командной системы привело к третьему массовому голодомору. Он охватил все регионы Украины, кроме западных — тамошнее сельское хозяйство еще не было уничтожено колхозами. Поэтому Западная Украина, по стратегическому замыслу руководства СССР, на то время стала поставщиком продуктов в так называемый госрезерв и за границу.
(обратно)10
Использован фрагмент подлинного документа.
(обратно)11
Речь идет о 10 советских рублях. За газетную публикацию приличного объема или несколько небольших заметок корреспонденту могли дать минимум десятку в месяц. Эта сумма составляла примерно четверть месячной зарплаты советского работника культуры, поэтому было популярно активно писать в разные печатные издания, что на выходе действительно могло составить существенную подработку для малообеспеченной категории советских служащих.
(обратно)12
Речь идет о Четвертом управлении НКВД СССР под руководством Павла Судоплатова, которое тогда специализировалось на борьбе с украинскими националистами. В частности, выполняя задание Кремля и лично Сталина, сотрудниками управления в 1938 году был убит легендарный полковник УНР Евгений Коновалец, а на протяжении последующих 15 лет управлением был организован ряд терактов и провокаций, направленных на дискредитацию украинского национально-освободительного движения.
(обратно)13
Медведев Дмитрий (1898–1954) — герой Советского Союза, кадровый чекист. Работал в системе ГУЛАГ. Во время войны — командир партизанского отряда специального назначения «Победители», который занимался разведывательно-диверсионной деятельностью на оккупированных немцами землях, в частности на территории Украины. Среди прочего, участвовал в вооруженных столкновениях с бойцами УПА. Этот период описал в нескольких книгах, самая известная из них — «Сильные духом». В Советском Союзе неоднократно переиздавалась. Позже его перебросили на борьбу с литовскими повстанцами — «лесными братьями».
(обратно)14
Якобинцы — политическая сила времен Великой французской революции (1789–1799), которая в своей идеологии опиралась на революционный террор, из-за чего превозносилась советскими историками. Именами якобинских лидеров назывались улицы в СССР.
(обратно)15
Доброхотов имеет в виду телевизионный художественный фильм «Берега», снятый в 1977 году по мотивам романа Чабуа Амиреджиби «Дата Туташхиа» (русский перевод — 1976 года, украинский — 1984 года).
(обратно)16
На улице Короленко (сейчас Владимирской), 33, в Киеве располагался КГБ УССР, сейчас — СБУ.
(обратно)17
Популярная в Советском Союзе эстрадная музыка. «Амурские волны» — русский вальс, написанный в 1909 году капельмейстером Восточносибирского полка Максом Кюссом, текст для которого в 1944 году написал солист Дальневосточного ансамбля Серафим Попов. «На сопках Маньчжурии» — русский вальс, написанный в 1906 году капельмейстером Ильей Шатровым для поднятия духа Мокшанского полка, в 1940-х часто исполнялся по радио в СССР. «Утомленное солнце» — польское танго, написанное в 1935 году композитором Ежи Петербургским на стихи Зенона Фридвальда, через год переведенное русским поэтом Иосифом Альвеком — именно эту версию хорошо знали советские люди.
(обратно)18
В Уголовном кодексе РСФСР, принятом в 1927 году, статья 58 предусматривала наказание за государственные преступления и контрреволюцию. Содержала 18 пунктов. Осудить по этой статье при желании или необходимости можно было без суда и следствия — достаточно было рапорта ответственного должностного лица.
(обратно)19
Поселок городского типа Инта и город Ухта были основанны в 1940-х именно как центры управления концентрационными лагерями в СССР. Лагеря построили возле Воркуты, потому что нашли там залежи угля и природного газа. Для разработки и добычи использовался принудительный бесплатный труд осужденных. Территориально Инта и Ухта расположены ближе к так называемой Большой земле, чем Воркута: здесь на момент развития событий романа силами каторжан построили железнодорожный путь. Однако автомобильных дорог, которые связывали бы Воркуту и Ухту с Большой землей, не нашли возможности построить даже к концу ХХ века.
(обратно)20
Запрет выносить и исполнять смертные приговоры, принятый в мае 1947 года с формулировкой «как мера, невозможная для применения в мирное время», в 1950 году был отменен только для предателей, шпионов и диверсантов. То есть для тех же политических заключенных. Хотя как исключение смертную казнь применяли также за совершение убийства при особо тяжких обстоятельствах.
(обратно)21
«Красный лагерь», или «красная зона», — место лишения свободы, где внутренним распорядком управляет администрация и где она имеет больше влияния, чем уголовники. Заключенные, сотрудничающие с администрацией, называются «активом» и носят красные повязки. Соответственно, «черная зона» — место лишения свободы, где сильно влияние криминальных авторитетов. По градации, зона не могла «чернеть» — только «краснеть». Администрация должна была каждый день усиливать свое влияние на контингент. В «лагерных войнах», наподобие тех, что описаны здесь, «краснеть» зоны могли ускоренными, откровенно насильственными методами.
(обратно)22
Буквальное значение слова «кнокать» на русском воровском жаргоне середины ХХ века — «наблюдать». Однако часто это слово употреблялось в значениях «следить», «смотреть», «присматривать», «опекать», «заботиться».
(обратно)23
Эрих Кох (1896–1986) — военный преступник. В 1941–1944 годах был назначен Гитлером рейхскомиссаром оккупированной немцами территории Украины. Определял украинцев как «недолюдей». По его приказу их массово вывозили на работу в Германию, расстреливали.
(обратно)24
БУР — барак усиленного режима, штрафной изолятор, где заключенные отбывали наказание.
(обратно)25
9 мая 1945 года, следующий день после подписания между советскими и немецкими войсками акта о безоговорочной капитуляции Германии в пригороде Берлина.
(обратно)26
2 сентября 1945 года японское правительство подписало акт о безоговорочной капитуляции. Так закончилась Вторая мировая война.
(обратно)27
10 февраля 1946 года состоялись выборы в Верховный Совет СССР.
(обратно)
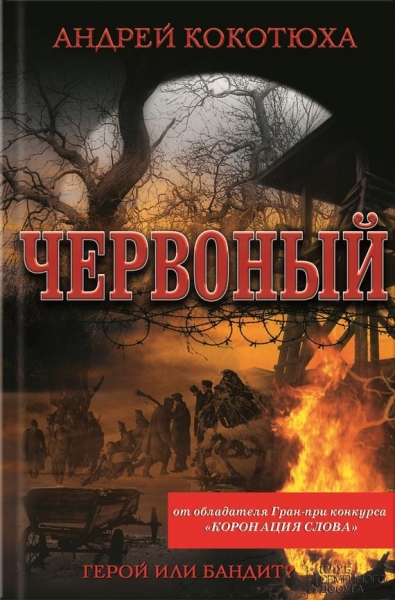

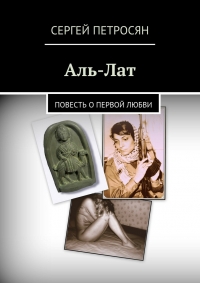

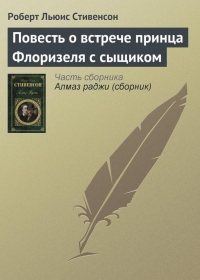


Комментарии к книге «Червоный», Андрей Анатольевич Кокотюха
Всего 0 комментариев