Владимир Николаевич Дружинин Янтарная комната и другие повести
ЗАВТРА БУДЕТ ПОЗДНО 1
На обочине, перед самым въездом на мост, лежит мертвый немец. Он промерз насквозь. Когда машина задевает труп, он звенит, как стеклянная кукла.
Должно быть, это один из тех, которые прикрывали отход. Свои не успели подобрать его, а нашим некогда убирать тела убитых врагов. «На Берлин!» — нацарапано мелом на борту грузовика, на броне самоходной пушки.
Машины идут и идут. Летит в небо ракета. Звонко, утренними голосами поют девушки-санитарки.
Я стою у дороги.
Все кругом в отсветах полыхающих ракет. Только мертвый немец, уткнувшийся в снег, обожженный струей огнемета, по-прежнему черный.
Вот наконец попутная! С мороза в кабине жарко, как в бане. Наши там, в машине, спят сейчас. Кончили работу и спят. Я застану их за чаем. А может быть, они уже позавтракали. Юлия Павловна взялась за карандаш, шофер Охапкин — он же повар — вслух, облизывая губы, составляет меню обеда, а Шабуров… Шабурова мне труднее себе представить. То битый час сидит неподвижно и разглядывает свои руки, то с остервенением копается в своей технике.
С ним вообще непросто…
Я слез с грузовика на перекрестке, километрах в двух от передовой. «Саморядовка» — гласила надпись готическими буквами на поваленном столбе. Сразу за перекрестком начинался лес, и где-то в глубине его ухали разрывы.
Лес был искорежен танками, снег истоптан гусеницами. Звукостанцию я отыскал в ложбине, в гуще молодого сосняка.
Когда-то она была автобусом, наша звуковка, рядовым ленинградским автобусом. Может быть, и я ездил в нем на лекции, в театр. Тогда, в мирные дни. В то время кузов был красный, а выше окон — желтый. Теперь он, сплошь закрашен в зеленоватый цвет, именуемый защитным.
В задней стенке — дверца. Под слоем свежей краски на ней проступают звездочки — следы пробоин. Нам всыпали в дверцу и в правый борт.
Раньше внутри были диваны, обитые гранитолем. Их сняли. Сколотили лари по бокам, достаточно широкие, чтобы спать. Третий ложится на полу, расстелив тюфяк на листе фанеры. На крючках, на расстоянии протянутой руки, висят ватные куртки, автоматы.
Не вставая с постели, можно достать и верньер приемника, закрывшего одно окно. Остальные окна затянуты плотными шторами. Впереди, у перегородки, отделяющей кабину водителя, — приборы. Мраморная доска с рубильниками, лампы, мерцающие во время работы синеватым светом. На крыше два больших рупора.
Сосняк почти скрывает звуковку. Она съехала немного с проселка, чтобы не мешать движению, и почти упирается радиатором в толстый, расщепленный снарядом пень.
Дверца распахнута. На пороге, расставив ноги, в ватных штанах, в козьей безрукавке мехом внутрь, стоит Юлия Павловна.
— А-а, Саша! — слышу я. — Klamotten packen[1], насколько я понимаю.
Мы ездим на звуковке посменно — я и капитан Михальская. Так скоро она не ждала меня.
— Майор рвет и мечет, Юлия Павловна, — говорю я. — Где Шабуров?
— Шабуров? Keine blasse Ahnung![2]
Из приемника течет бархатный баритон генерала Дитмара, берлинского военного комментатора. Германская армия не отступает. О нет! В районе Ленинграда — эластичная оборона, выпрямление фронта.
«Вас обманывают», — написано по-немецки на листке бумаги рукой Юлии Павловны. Комки смятой бумаги на табуретке, служащей письменным столом, на полу, на ларе. Пепельница набита окурками. Михальская пишет листовку.
Сочиняя листовку, она накуривается до одури, ругается по-немецки и отвечает всем тоже по-немецки.
— Десять начал! Кошмар, Саша! Verflucht![3] Михальская — абсолютная дура.
Она берет еще папиросу. Со смехом в узких карих глазах она смотрит, как я зажигаю спичку.
— Ой, не так, Саша!
Недавно я чуть не спалил ей брови. Я очень неловок со спичками, они ломаются у меня или гаснут. Со стороны это смешно, разумеется.
Я не курю. Коробок, который у меня в кармане вместе с пачкой «Беломорканала», для нее.
Михальская с нами недавно, месяца три. Когда майор Лобода предупредил нас, что в «хозяйстве» будет женщина, я ждал увидеть юное создание в гимнастерке, студентку с филологического, этакую круглую отличницу, гордую и наивную. Мы все, однако, готовились к ее приезду.
Я побрился, начистил пуговицы. Вошел невысокий танкист в ватных, не по росту громоздких шароварах, приложил руку к огромному кожаному шлему и отрекомендовался капитаном Михальской.
У нее есть еще одно звание, невоенное, — кандидат филологических наук. Знает пять языков.
В танковой дивизии Михальская ездила в звуковом танке, у нас она летала: да, поднималась на самолете, над немецким передним краем и кричала оттуда, с высоты, в микрофон.
Штабные машинистки прозвали ее «Юрием Павловичем». За шаровары и кирзовые сапоги. Им невдомек, что Михальская — наша гордость. Мы все гордимся ею, а я…
Нет, об этом не надо!
Сучки, комья мерзлой земли застучали по крыше звуковки. Ударило ближе.
— Всю ночь сыплет. Ну так что же вы молчите, Саша? Выкладывайте.
— А вы не в курсе?
— Отнюдь. — Она улыбнулась. — Майору, очевидно, понадобилась поэтесса.
Поэтессой ее называет наш майор. Стихов она не пишет. Но в обращении к немцам любит вставить цитату из Гёте или из Гейне. Что особенно удалось Юлии Павловне, так это новогодняя передача. Очень уж трогательно напоминала она о семьях, покинутых в Германии. В ту ночь крутили еще пластинки с праздничными немецкими песнями — их принес с собой пленный саксонец-антифашист.
Саксонец сидел у проигрывателя, беззвучно плакал и ронял слезы на кружащуюся пластинку, на золотую дорожку от лампочки, дрожавшую на ней. Песня о елочке, о зеленой елочке с игрушками неслась через траншеи, через воронки, надолбы, неслась над позициями дальнобойных пушек, бивших по Ленинграду. В ту ночь они безмолвствовали. Голос Михальской призывал солдат и офицеров спасать свою жизнь ради жен и детей, переходить к нам.
Так она ничего не знает! Шабуров, значит, не сказал ей. Ему, положим, горя мало. Он заявит, что отвечает за технику, прочее его не касается. И прибавит свою любимую фразу, ставшую у него привычной в последнее время: «Одним фрицем меньше».
— Неприятная история, Юлия Павловна. К нам шел перебежчик… И не дошел…
— Фу, черт! Как же?…
Знал я немного. Наш разведчик наткнулся на немца, на раненого немца, и приволок его уже мертвого. А потом выяснилось: немец направлялся к нам. С нашей листовкой. Она была зажата в его мертвой руке.
— Да, печально. — Обжигаясь, я допивал чай. — Один-единственный перебежчик из Саморядовки…
В Саморядовке засело тысячи полторы немцев — остатки разбитой авиаполевой дивизии. Поток нашего наступления вот-вот охватит их. Им худо в Саморядовке, они без малого в котле. Но не уходят, вцепились намертво.
— Скверно, Саша! Майор, бедняга, в отчаянии? — Михальская выдохнула комочек дыма. — Честное слово, я ничего не знала.
— Шабуров невозможен.
— Да, тут я пас, Саша. Майор просил меня повлиять на него. Меня! Святая наивность!
— Теперь отдохнете, — сказал я.
— Вы комик, Саша! Я разве к тому?… — Она с силой воткнула окурок в пепельницу. — Пустяки это, и не хочу я отдыхать.
— Придется, Юлия Павловна, — ответил я. — Донесение приказано послать с вами.
2
Командира разведроты я узнал издали: кубанка набекрень, белый войлочный башлык на спине, поверх полушубка. Кто еще, кроме разведчиков, с таким лихим озорством нарушает форму! Офицер, должно быть, только что проснулся. Он месил снег кривыми ногами кавалериста, нагибался, хватал его пригоршнями и растирал красное лицо.
— Солдата тягать нечего, — сказал он недружелюбно, выслушав меня.
— Да я вовсе не намерен тягать, — запротестовал я.
— Ну и все! — Он сбил с ладоней снег. — И башку ему нечего дурить. Не позволю!
— Товарищ…
Башлык закрыл его погоны. Он был старше меня по званию, я угадывал это по тону.
Он зашагал к землянке. И у самой двери вдруг словно вспомнил про меня.
— Эх, солдат-то какой, вы бы знали! — проговорил он совсем другим тоном. — Солдат, как бы выразиться… Песня, а не солдат…
Я расхохотался.
— Заходьте! — Он распахнул дверь и впустил меня в тепло землянки, врезанной в насыпь.
В полумраке перекликались голоса, кто-то храпел. Горели два трофейных фонаря в кожаных чехлах, лучи скрещивались, отсвечивая серебром на топчане, на столике, заставленном котелками, на рельсах, держащих бревенчатый накат.
Рельсы с этой же насыпи, с пути, разоренного немцами. Рельсы, по которым когда-то мчались поезда из Ленинграда к Одессе, везя отпускников к морю.
Котелки на столе тихонько позвякивают. Кругом в лесу беспорядочно рвутся снаряды. Я привык к этому и словно не слышал их, когда шел сюда. В землянку гул едва проникает, зато явственно отзываются алюминиевые солдатские котелки — певуче и задорно.
— Кураев! — крикнул офицер.
Обросший бородой солдат соскочил с топчана, и я вздрогнул от неожиданности.
Вот встреча!
Возникло в памяти Токсово, палатки запасного полка. Тогда и я был солдатом. В нашем отделении появился скуластый загорелый парень с очень тихим, ласковым тенорком. Но, странное дело, мы, новички, всегда хорошо слышали его, что бы он ни сказал. Взят он был сперва во флот и вскоре переведен в пехоту, носил тельняшку. Но, казалось, Кураев так и родился солдатом!
Все ему удавалось сразу, все он делал споро и весело: упражнения в противогазе, скатывание шинелей, сборку пулеметного затвора. Ох, и помучил он меня, проклятый затвор! Тугая пружина не хотела встать на место, грозила выскочить, щелкнуть по лбу.
Вспомнилось, как я стирал гимнастерку. Перед этим мы валили деревья, вымазались в смоле. Прибыть в таком виде в Ленинград нечего было и думать. Битый час я полоскал гимнастерку и мял ее, сидя на корточках у озера, — черные пятна не сходили. И тут выручил Кураев: посоветовал растянуть гимнастерку на доске, взять щетку, намылить.
Прощаясь, он сказал, что я не вернусь в полк, хотя никто из нас не мог знать, почему ротный приказал мне выйти на два шага из строя, зачем меня вызывают в Ленинград, в штаб фронта. Те два шага были началом нового, удивительного пути, который привел меня к майору Лободе, к звуковке, к новым друзьям.
— Кураев! Живой! — Я обнял его.
Да, живой. Это самое главное. Картины прошлого мелькнули и погасли, вызывать их снова незачем. На войне значительно лишь настоящее. Прошлое быстро отходит прочь.
— Жизнь, — отозвался Кураев, помолчав. — Она в горсти вся, жизнь-то…
Он щелкнул зажигалкой. Острый огонек освещал его ладонь.
— Куришь? — спросил он.
— Нет.
Мне стало чуточку стыдно и своих новеньких лейтенантских погон и даже того, что я по-прежнему не курю.
Он поднес огонек к губам. Теперь я мог разглядеть его. Оброс бородой, раздался в плечах, стал старше.
— Значит, живем, — сказал он.
Глаза Кураева смеялись. Кого он видит во мне? Тыловика, устроившегося в укромном месте?
— Я часто на передовой, а вот не виделись, — выговорил я с нарочитой неуклюжестью. — Я на звуковой машине.
— Две трубы, — молвил кто-то.
— Achtung, Achtung![4]
— Так это вы по-немецки даете?…
Землянка оживилась. Командир постучал ложкой по чайнику.
— Кураев, — сказал он в наступившей тишине, — доложи лейтенанту насчет фрица.
— Ночью было, — начал Кураев. — Снег и кусты — все вроде в тумане. Ракета чиркнет разок… Идем мы, я и Ваня Семенов, Ванюша наш.
— Семенова нет, — вставил офицер.
Он с таким нажимом, точно против воли, отчеканил это «нет», что я понял: Семенова уже нет в живых.
— Ванюша наш, — повторил Кураев. — Идем мы, и вдруг фриц из куста — шасть! Стонет, тихонько этак стонет, будто ребенок… Мы думали — с перепугу. И шатается… Мы его прибрали, конечно… А потом, как притащили, смотрим: кончается. Вот тебе и «язык»!
Кураев встал, провалился куда-то за топчан, в полумрак, и возник с полушубком в руках. Кровь темнела на полушубке широким галуном.
— Спирту хотели дать из фляги. Где там!.. Смотрим, кровь…
— Короче, — вставил офицер.
— Виноват я, — бросил Кураев и вздохнул.
Командир хлопнул себя по колену.
— В чем ты виноват? Толкует немой с глухим! Я скажу вам. — Он повернулся ко мне. — Раненого они схватили. Смертельное ранение.
— Точно, — подхватил Кураев. — Откуда же иначе кровь? Его кто-то ножом…
— Свои прирезали, — сказал офицер.
На уголке газеты он нарисовал вражеский передний край. Дело было недалеко от немецкой траншеи, шагах в тридцати. Какой-нибудь заядлый фашист следил за этим перебежчиком, пополз вдогонку и пырнул тесаком. Обчистил карманы — и живо обратно… Ни солдатской книжки, ни бумажника с деньгами, с карточками родных на убитом не оказалось.
— А листовка где? — спросил я.
— Пропуск только, — молвил Кураев. — Не целиком листовка. Он отрезал конец…
— Тащи музей свой, — вставил кто-то.
И впрямь музей был у Кураева. Из деревянного сундука он извлек банку из-под американской свиной тушенки, отогнул крышку. На свет появились два железных креста, «Демянский щит», который давался немецким солдатам за сидение в демянском котле, осколки причудливой формы, немецкая пуговица, вырванная с куском зеленого шинельного сукна. И, наконец, то, что Кураев назвал пропуском.
«Эта листовка служит пропуском для перехода немецких солдат и офицеров в плен Красной Армии» — значилось на узенькой полоске бумаги по-немецки и по-русски.
Такими словами заканчиваются все наши листовки. Перебежчик отрезал этот кусок, чтобы показать первому же советскому бойцу. Да, немец шел к нам сдаваться.
— Досадно, — вздохнул я.
— Ничего, — молвил офицер, — он исправит упущение. В части «языка». Верно, Кураев?
— Как выйдет, товарищ капитан…
Кураев сгреб свои сувениры в банку. Я спросил, не было ли у немца еще чего-нибудь.
— Правильно, — спохватился капитан. — Сходите-ка за Милецким! Письмо есть.
Пришел переводчик Милецкий, щуплый, узкоглазый парень с большой головой и басовитым голосом. Он дал мне письмо, найденное в шинели убитого под подкладкой.
Я прочел:
«Дорогой отец! Прости за долгое молчание, но ты ведь сам требуешь, чтобы я писал только правду. Поэтому приходится ждать оказии, так как почте доверять рискованно. Креатуры Фюрста зарабатывают себе награды, от них нет житья. На меня они и так смотрят косо, особенно после того, как Броку попалось на глаза твое письмо. Он родом из Эльзаса, и французская пословица, которую ты привел, его смутила. Характерно: чем хуже дела на фронте, тем креатуры Фюрста наглее.
Как ты знаешь из газет, наше движение к границам рейха продолжается. Мы знаем, что несладко и дома. Посылок с едой почти нет, вместо консервов и шоколада мы получаем отпечатанные в типографии воззвания. Все еще толкуют о победе Германии! А нам опостылела война. Носы полны от нее!
Если вести от меня прекратятся, не теряй надежды.
Спасибо за часы. Передай Кэтхен мои лучшие поздравления, хотя Эдди никогда не принадлежал к числу моих друзей. Однако не мне, а ей жить с ним!
Кончаю писать, так как мне еще надо вычистить толстому обжоре Броку башмаки. Он с минуты на минуту должен явиться за ними. Одно хорошо: холода немного смягчились.
Целую крепко тебя, Кэтхен, генерала всех шалунов Фикса и милую тетю Аделаиду.
Твой Буб»
Буб — значит «малыш». Убитый намеренно не поставил имени. Я почти зримо видел Буба. Я снял копию с письма и простился с разведчиками.
Стемнело. Я шагал по насыпи, прорезавшей лес. Вдали, словно в конце длинного белого коридора, вскидывались фонтаны света. Десятки огоньков медленно гасли, озаряя сугробы и пятна пожарищ там, в Саморядовке. Потом оттуда докатывался гул разрыва.
Села давно уже нет. Но осветительные снаряды летят и летят туда, завывая над головой. Артиллеристы нащупывают немцев, их мерзлые норы.
Я сошел с насыпи. Где-то глубоко в недрах темноты пробудился пулемет, дал длинную, тревожную очередь.
Лес гулко вздохнул, дослушав ее до конца, и замер. И тотчас застучал дятел. Он словно отвечал пулемету, храбрец дятел, не пожелавший покинуть фронтовой лес.
Над звуковкой, притаившейся в ложбине, плясали искры. Михальская — по-прежнему одна — разжигала печурку!
— Юлия Павловна! — крикнул я, входя. — Все обстоит иначе! Кураев не виноват.
— Какой Кураев? Осторожно, Саша, чайник! Помолчите минуту, остыньте. — Она поглядела на часы. — Так… Так… Минута прошла. Ну, а теперь по порядку.
Я рассказал.
— Занятно. — Она дочитывала письмо. — Он славный малый, должно быть. Мальчик из интеллигентной семьи, вероятно неуклюжий, зацелованный тетями и боннами. На фронте болел ангиной. Может, даже коклюшем. — Она с улыбкой сузила глаза и замахала рукой, чтобы разогнать дым. — Тощий, в очках… Жаль, мы не знаем его настоящего имени, а то…
Она мысленно уже составляла листовку. Эх, кабы еще имена!
— Немец на немца, — сказал я. — Это же… Им конец, Юлия Павловна.
— Не так еще скоро, Саша.
— Это выбьет их из Саморядовки, если как следует подать.
— Утопия, Саша. Выбьют их «катюши». Фюрст… Фюрст… Неужели тот самый?
Некий Фюрст, обер-лейтенант, находился у нас в плену. Его захватили в начале зимы, возле Колпина.
— Интересно, что за пословица, — сказал я. — Французская пословица…
Машину качнуло. Вошел, топоча и злясь на стужу, капитан Шабуров, коротким рывком пожал мне руку. Ни о чем не спрашивая, швырнул в угол шапку, сел и затих. Его мысли бродили где-то очень далеко.
Обритый наголо, плотный, с серебристой щетиной на щеках, он сидит ссутулившись, изучает свои толстые, беспокойно шевелящиеся пальцы. И мы говорим еще громче, чтобы рассеять тяжелую тишину, загустевшую вокруг него.
Не таким был Шабуров раньше, когда были живы его жена и пятнадцатилетняя дочь. До того дня, когда в его квартиру на Литейном попал снаряд.
К ужину явился и шофер Охапкин. Весело поздоровался со мной, мигом затопил погасшую печь. Жаря на сковороде картошку, с упоением толковал о докторше из медсанбата, которая якобы влюблена в него до безумия.
— Врешь ты, — равнодушно бросил Шабуров. — Врешь ты все, Николай.
— Я вру?
Юное лицо Коли, с пушком на мягком подбородке, выражает искреннюю обиду.
— Фантазирую когда… Чуть-чуть, — Коля лукаво ухмыляется. — А врать не вру. Спросите: есть в медсанбате докторша Быстрова. Все точно…
— Быстрова, может, и есть, — скучным голосом откликается Шабуров. — А ты все-таки заливаешь.
Что и говорить, на редкость разные люди собраны прихотью войны на нашей звуковке!
— Нынче вещать не будем, — объявил Шабуров, когда мы принялись за еду. — Тапки дорогу перепахали.
Больше он ничего не сказал, пока мы ели картошку, пили чай с клюквенным экстрактом, горьковатым от сахарина, и толковали о разных вещах. О штурме Саморядовки, который начнется не сегодня-завтра. О трофейном сухом спирте, подобранном Колей, — к его огорчению, этот проклятый фрицевский спирт нельзя пить. Но больше всего, конечно, мы говорили об убитом немце.
После ужина Михальская собралась в путь. Я вышел с ней.
— Шабуров доволен, — сказала она. — С вами ему легче, Саша, я понимаю.
— Со мной? — удивился я.
— Сперва я думала, он завидует мне. Ну, зрелище чужого благополучия…
Война не отняла у нее близких, вот что она имеет в виду. Ее родные живы, перебрались из Киева в глубокий тыл, куда-то за Урал.
— Нет, Шабуров не злой человек, — продолжала она. — Не злой. Я сама виновата, Саша. Тормошила его, в душу лезла. Ругаю себя, а удержаться не могу.
В лесу во тьме передвигались танки, урчали, рылись. С треском, как сухая лучина, сломалось дерево.
— Жена у него, наверное, была тихая, — произнесла Юлия Павловна задумчиво. — В мягких тапочках, фланелевом халате, смирная, уютная северяночка.
Мы стояли на шоссе, на ветру. Михальская обминала в пальцах папиросу.
— Э, нет! — Она выхватила у меня спички. — Лучше уж я сама.
Попутный грузовик взял ее. Я не спеша шагал обратно. Под сенью леса остановился, нащупал в кармане коробок, он был еще теплый и, как мне показалось, от тепла ее рук.
3
Утром примчался Лобода.
Первым заслышал начальника Охапкин. Он готовил завтрак на дымящей печурке, вытирал слезы засаленным рукавом ватной куртки — и вдруг застыл.
— Майор ругается! — произнес он шепотом, почти торжественно.
Снаружи трещало, лесным чудищем шел, ломая заросли, танк. Но Коля не ошибался. Через минуту мы все услышали голос майора.
Я открыл дверцу пошире. Лобода не ругался, он зычно здоровался с кем-то.
— Ну, все! — молвил Охапкин. — Влетит нам, товарищ капитан, за то, что не вещали.
Теперь Лобода двигался к нам. Невысокий, лысоватый, полный; походка вразвалочку; по виду он ничего не унаследовал от своих предков — запорожцев. Но голосище! Вероятно, с таким точно рыком скакал на коне его прапрадед, наводя ужас на панов.
— Здорово, хлопцы! — громыхнул майор, влезая в машину. — Спали?
Наше «здравия желаю» получилось нестройным: Шабуров брился, я спросонок продирал глаза.
Звуковка не работала ночью, это было ясно без всяких слов. Мы потому и проснулись так рано. Охапкин подмигнул мне.
— Оладьи, товарищ майор! — заявил он. — Ваши любимые.
Он, сияя, смотрел на Лободу. Оладьи — конек Коли-повара, его неизменный шедевр. Он искренне пытался отвести от нас грозу.
Шабуров ополоснул лицо над ведром, вытер его, надел портупею. Он проделывал все это медленно, даже, пожалуй, медленнее, чем обычно. Лобода наблюдал за ним некоторое время, потом вынул из планшетки сложенный лист бумаги.
— Вручаю, — сказал майор.
— Ясно, — хмуро молвил Шабуров, глянул и не спеша разорвал листок пополам.
— Вот так! — сказал майор с вызовом.
— Слушаюсь, — отозвался Шабуров.
Сцена была мне понятна: регулярно каждый месяц Шабуров подавал рапорты. Ему опостылела звуковка, он не видит никакого смысла в нашем деле. Он старый артиллерист. Он хочет бить немцев. Рапорты неизменно возвращаются с пометкой «Отклонить». Шабуров — инженер, знаток нашей техники — усилительных ламп, мерцающих синеватым светом во время вещания, рупоров и прочего. Как же можно отпустить его!
— Почему не работали?
— Танки дорогу перепахали, — говорит Шабуров.
— Танки! — взрывается майор. — Я только сейчас вот тут толковал с танкистами…
Разве танкисты откажутся помочь звуковке? Никогда! Если нужно, разровняют сугроб, а то и на буксир возьмут. Есть же у Охапкина стальной трос? Есть! На что он, спрашивается, — завязывать мешок с сухим пайком, что ли?
Коля фыркнул и пролил чай. Он восхищался майором. Лобода вошел в азарт. Ни одной ночи простоя! Одни лентяи утверждают, будто звуковка зимой выходит из строя. Чепуха! Мы покажем сегодня…
— Нет, нет, молчать мы не можем! — гремит майор. — Тем более, имея такие новости! Мы такое закатим немцам! Верно, товарищ писатель?
Меня смущало это обращение. Перед войной я только начинал печататься: всего-навсего три рассказа в толстом журнале.
— Верно, — ответил я, зная, что звуковка наша одолеет теперь все препятствия. Когда в кабину рядом с Охапкиным садится майор, она становится вездеходом.
Но какие новости имеет в виду Лобода? Что он намерен закатить сегодня? Наверно, о перебежчике.
Майор откинулся к стенке и похвалил оладьи. Да, именно о перебежчике. Придет время, мы, может быть, узнаем больше об этой истории. Но ждать незачем. Нельзя ждать! Факты горячие.
— Вот, я помню, под Москвой…
Лобода любит вспоминать Москву. При этом в голосе его гудят нотки такого энтузиазма, что меня, ленинградца, точит невольная ревность.
— То Москва! — мечтательно вздохнул Охапкин. — Небо и земля.
Лобода усмехнулся.
— Правильно, Коля, — молвил он мягко. — Настоящий солдат так и должен рассуждать. Он не скажет: мне тяжелей всех. Нет! Товарищу еще труднее!
Но Коля таил в мыслях другое.
— Там бы я давно орден заимел, — вырвалось у него, да так простодушно, что мы расхохотались.
После завтрака майор и Шабуров ушли к танкистам. Охапкин, охваченный жаждой деятельности, проверял мотор. Я ломал голову над бумагой.
По мысли майора, передачу можно написать так, что немцы сами разоблачат убийцу и к тому же сообщат нам новые данные. Лобода ничего не советовал. Он предвкушал писательские находки.
Легко сказать!
Я писал, зачеркивал, выскакивал из машины, чтобы вобрать в легкие свежего воздуха. Дело не клеилось. Я с отвращением перечитывал сумбурные, вялые строки. Сухо! И, главное, причину неудачи я, как ни бился, уразуметь не мог.
Ну какой я писатель! Юлия Павловна сделала бы это гораздо лучше. По дружбе она оставила мне свои заветные тетрадки, вот они, на полке. Она заносит туда, опрашивая пленных, образцы окопного жаргона.
Что толку!
Иронически поглядывает на меня маленький бронзовый мавр, охвативший корзину для винограда. Она набита окурками, ее окурками. Юлия Павловна привезла эту пепельницу из своей киевской комнаты, выходившей окном на Днепр. А может быть, из Испании.
Я еще сидел за партой в школе, а она уже была в горах Гвадаррамы, под огнем фашистов. Я слушал лекции в университете, а она уже преподавала.
Да, я ничего не умею…
Лобода вернулся к обеду.
— Все в порядке, — возгласил он. — Нашли позицию для машины — лучше нельзя. Всего двести метров от немцев. Ну, что создали, писатель?
Я показал.
— Так… Так… Неплохо… Ну, здесь лишнее. Рассуждений многовато. Да зачем вы в прятки-то играете? Не отрывок, все письмо им давайте! Без недомолвок! Его отцу это ничем не грозит, письмо и так известно этим… как их… креатурам Фюрста. Будет им пилюля!
Через несколько минут от моего наброска не уцелело почти ничего — две-три фразы.
— Не беда! — утешал он меня. — Вы думаете, Лев Толстой написал бы хорошую передачу? Неизвестно.
Сели обедать, Охапкии опять отличился: приготовил голубцы и чувствовал себя именинником. За это он ожидал дани от Лободы — рассказа о Москве.
— Однажды под Воронежем, — начал майор, к огорчению Коли, — мы схлестнулись с итальянцами. Перебежчик у нас тепленький, прямо из боя, из пекла. Говорит: «Ангелы меня перенесли к вам. Бог решил спасти меня и послал их. Как раз в момент артподготовки». Я спрашиваю: «А могли бы вы это все объявить вашим товарищам? Насчет ангелов? Выступить у микрофона?» — «С удовольствием. Пусть знают!» Дня три он ездил со мной и разглагольствовал, как ему повезло. Как ему теперь спокойно в плену. Не расстрелян, живой, накормленный… Один буквоед из политотдела налетел на меня. «Позор! — кричит. — Пропаганда мракобесия!» — «Пожалуйста, — говорю, — жалуйтесь. Хоть военному министру». Ну, он скоро замолчал. Перебежчики валом повалили. И верующие и неверующие. Религия тут ни при чем. Они сами объясняли: большевикам про ангелов не придумать, значит, перебежчик-то выступал по радио наш, настоящий… Так же вот и с письмом. — Майор Лобода обернулся ко мне: — Конечно, в нем не все существенно. А привести лучше целиком. Гораздо убедительнее.
После обеда мы подготовили передачу. Потом я включил Берлин, прослушал Дитмара и составил комментарий с вестями из наших сводок.
Тронулись в полночь.
— Во лупит по дороге! — бросил мне, подбоченившись, Охапкин.
Трактор вытянул звуковку из ложбины, Коля снял трос и сел за руль.
Мы миновали лес и остановились. Впереди падали снаряды. Звуки доносились глухие, короткие, словно снаряды не рвались, а глохли в толще снега.
Как только замолкло там, Коля дал газ. Чаще всего по дороге била одна батарея. Машина ринулась вперед. Оглушительно задребезжали железные тарелки в шкафчике. Быстрее, быстрее! Пока немцы перезаряжают, мы успеем проскочить. Должны успеть.
Это очень неприятно — сидеть в темном кузове. Всякое приходит в голову: не проскочим, завязнем в рытвине; а может, не одна батарея бьет?
Майор в кабине, а напротив меня, опустив голову, молча сидит Шабуров. Поле, наверно, залито луной, и машина на нем черная, как яблочко мишени, и нас легко накрыть, разнести вдребезги.
Я не вижу поля, не вижу луны: окна задраены, ни единой щелочки. Зажечь бы свет! Но зажигать не велено; надо экономить аккумуляторы. Звуковка несется на предельной скорости, все вокруг скрипит, звенит, что-то падает и катится мне под ноги. Удар молнии, крохотная вечность тишины — и разрыв. Но уже позади! Воздушная волна бьет в дверь звуковки.
Проскочили! Если у них одна батарея…
Молодец Коля! Да, проскочили! Еще молния, еще разрыв, но уже далеко позади.
На переднем крае, в нежилой землянке, поврежденной бомбой, позиция, выбранная майором. Ветер задувает снег в пролом. В рваной рамке обледенелых, покореженных досок — кусок берега, занятого врагом. Уродливые бугры, редкие, тощие сосенки, свинцовые вспышки пулеметов.
Здесь край нашего мира. Лысые холмы на том берегу потому и уродливы, а сосенки потому и кажутся такими чахлыми, больными, что там враг. Может быть, сосны не живые, без корней. Их срубили и воткнули перед огневыми точками, перед траншеями для камуфляжа.
На полу землянки — примятые ветки хвои. Днем здесь несет дозор снайпер. У пролома, на бревне, куда достает лунный свет, рядком лежат стреляные гильзы. Аккуратно, как медная посуда на полке. Я невольно считаю их. Восемь гильз, и если каждая пуля попала в цель…
Пока я машинально отсчитываю гильзы и строю догадки, сколько может быть убитых врагов, руки мои успевают сделать множество движений. Передний край не велит медлить. Охапкин бросает мне плащ-палатку. В ответ на шальные пули, повизгивающие то и дело, Коля сопит и залихватски звонко шмыгает носом. Он хочет показать мне и в особенности майору, что презирает опасность, презирает всей душой. Теплый, вздрагивающий борт звуковки подведен к самому входу в землянку, и Коля подает мне из машины микрофон. Следом за микрофоном вползает в землянку длинный, упругий резиновый шпур.
— Начинайте, — сказал майор.
На звуковке Шабуров пустил движок. Тотчас в маленькой стеклянной лампочке, соединенной с микрофоном, родилось зернышко света, разгорелось, осветило тетрадку в моей руке и пятнистую плащ-палатку, накрывавшую меня.
— Achtung, Achtungl — произнес я. — Hier ist Sender der Roten Armeel[5].
Громовой голос вовсе не мой — могучий, богатырский голос несется на тот берег. Он топит перестук движка, глушит все вокруг и так плотно заполняет дырявую землянку, что в нем, кажется, можно захлебнуться.
Немцы могут направить против этого голоса огонь своих пушек, своих минометов. У них там много оружия. Хватит одного снаряда, чтобы разнести в щепы эту землянку. Или машину. Но об этом некогда думать. Да, некогда, пока читаешь.
Кажется странным, невероятно странным, что наш голос, голос нашего берега, невозбранно штурмует немецкие траншеи, врывается в их землянки, движется вглубь, достигает второй линии их обороны, осаждает командные пункты их батальонов, их батарей.
Я прочел немцам вести с фронта. Потом Шабуров поставил пластинку. Лампочка погасла. Я сбросил маскировку. Фигура майора маячила у пролома.
— Слушают, — молвил он удовлетворенно. — Эх, тут бы не вальс, а…
Где-то невдалеке лопнула мина. Еще одна. Шабуров доиграл вальс. Майор шагнул ко мне.
— Отдыхайте. — Он взял у меня тетрадку. — Теперь я сам.
Главного сообщения он не уступил никому. Он оповестил об убийстве Буба, прочел его письмо к отцу, а затем, уже не по тексту, повинуясь внезапному наитию, закричал:
— Убитый — ваш товарищ! Вы знаете его? Если знаете, дайте трассирующую очередь!
Немцы притихли. Даже вспышки пулемета стали реже. Но ответа нет. Минута, другая — и вот уже алые прутья хлещут ночное небо.
У меня захватило дух. Нам ответили! Да, пули посланы прямо вверх. Вероятно, офицер спит в блиндаже, и солдат осмелился… Узнал по письму, о ком речь, улучил удобный момент и ответил.
Майор читал письмо снова, когда звуковка вдруг умолкла. Тишина словно обрушилась на нас, расплющила репродукторы. Голос майора, по инерции произносивший фразу, донесся, как шепот.
Что случилось? Я шагнул к выходу и столкнулся с Шабуровым, вылезавшим из машины.
— Подвижные системы, — бросил он.
Эх, мать честная! Значит, надо лезть на крышу звуковки, налаживать эти проклятые подвижные системы. Но как лезть? Ведь горб землянки едва закрывает звуковку! Лезть нельзя…
Шабуров уже на крыше. И Коля поднимается туда же.
Шабуров управился бы и один. Но вдвоем быстрее, конечно. Оба нагнулись над рупорами, капитан орудует ключом. Дела на несколько минут, но как они тянутся, эти минуты!
Две фигуры отчетливо видны в лунном свете. Да, землянка не закрывает их целиком. Немцы, наверно, заметили их.
«Нагибайтесь же! — хочется мне крикнуть. — Ниже, ниже… Черт возьми, неужели так трудно нагнуться?»
Тот берег молчит. Не видят или… Даже шальные пули залетают как будто реже. Майор улыбается мне и что-то говорит, показывая в сторону врага. Да, это тишина ожидания!
Вот когда задело их! Хотят дослушать до конца иисьмо убитого. Офицеров, должно быть, разбудили.
«Креатуры» Фюрста, нацисты из самых отпетых, соглядатаи, тоже прислушались, ждут, им не терпится знать, что же затеяла красная пропаганда… Кто из них решится выдать себя, послать пулю или мину? Нет, затаились.
Наконец динамики в порядке, звуковка снова обретает голос. Майор дочитывает письмо.
— Вот до чего дошло у вас! — говорит он. — Убивают своих же солдат. Надеются с помощью террора удержать вас. на месте. Удержать на обреченном рубеже, в безнадежно проигранной войне. Напрасно!
В тетрадке этих слов нет. Он отбросил ее, говорит свободно, горячо. Я любуюсь им, как ни жаль мне моих пропавших трудов. Немецкий язык он знает с детства — это певучий баварский говор села Люстдорф, что под Одессой.
— Напрасно! — грохочут трубы звуковки. — Красная Армия гонит оккупантов. Где были ваши траншеи, теперь там могилы. Там березовые кресты.
Одинокая вереница трассирующих пуль взметнулась над буграми. Что это, еще один запоздалый ответ? Или знак одобрения?
— Березовые кресты! — гремит наш берег. — Березовые кресты, поражение… Гитлер губит вас!
Отрывисто затявкал пулемет.
— Офицеры пугают вас советским пленом. Будто мы убиваем пленных! Тогда зачем же нацисты убили вашего товарища? Какой в этом смысл, если мы убиваем пленных? Значит, нацисты сами не верят тому, что твердят вам!
Гитлер проиграл войну. Креатуры Фюрста не смогут помешать вам, если вы примете единственно правильное решение…
Когда я уже смотал шнур микрофона, а Охапкин заводил мотор, на том берегу снова ударили минометы. Мины, не долетая, врезались в лед.
Обратно я ехал снова в кузове, вместе с невыносимо безмолвным Шабуровым.
Здорово! — сказал я. — Здорово выдал им майор!
Мне сдается, я вижу: в темноте кривятся жесткие губы капитана.
— Из-за одного фрица столько шуму, — зло выдавливает он.
«Ничем его не проймешь, — думаю я. — Упрям. Подаст еще один рапорт и так будет долбить в одну точку, пока не добьется своего».
На этот раз Охапкин как будто еще быстрее одолевает опасный перегон.
4
В ту же ночь наше боевое охранение задержало двух перебежчиков — солдата и ефрейтора. Я застал их в крестьянской избе, разоренной, но теплой. Русская печь обогревала комнату с изорванными обоями, устланную соломой.
Немецкий солдат, курносый, розовый коротышка, потирал руки и улыбался, радуясь теплу и тому, что остался невредим. Идти в плен было как-никак боязно. Если в лагере русские относятся к пленным так же благородно, тогда, что же, жить можно…
— И там не обидят, — сказал я.
— Значит, выбрался из дерьма. — Солдат скорчил гримасу и почему-то подмигнул.
Ефрейтор — длинный, костлявый, бледный, с синевой под глазами — лежал на соломе. Он страдал от какого-то недуга или притворялся больным. Фамилия у него оказалась не простая, с приставкой «фон».
— О да, именно благородно, — произнес он. — Ты, Гушти, совершенно прав.
При этом он косил глаза на солому, где лежал его серебряный портсигар с монограммой. Нет, именитый ефрейтор не мог поднять глаз на солдата. Не мог смотреть на него иначе, как сверху вниз.
— А вы имеете право мстить нам, о да! О боже мой, конечно, имеете!
Однако ефрейтор решил не дожидаться нашей мести. Обоих страшила перспектива нашей атаки — со шквалом снарядов, с «катюшами». «Катюши» — ужасное оружие! Советские листовки не лгали: удары Красной Армии усиливаются. Да, они читали листовки, а однажды возле Колпина — ефрейтор произнес «Кольпино» — русские агитировали с самолета. Он летал над траншеями, и оттуда, с неба, говорила женщина. Да, женщина! Подумайте только…
Увы, ни тот, ни другой не могли сообщить мне ничего нового о преступлении «креатур» Фюрста. Дело было в соседней части. Что же касается самого Фюрста, то он известен в дивизии. О его смерти было объявлено в приказе.
— Фюрст сатана! — воскликнул солдат. Он встрепенулся, откинул голову, стал будто выше ростом, шире в плечах. Сильно сгибая колени, он тяжелой медвежьей походкой пошел по соломе.
Теперь ефрейтор удостоил солдата взглядом. Поднял брови, потом задохнулся от смеха.
— Ферфлухтер! Да, да, Эрвин Фюрст, хоть и нехорошо смеяться над покойником.
Эрвин? Но ведь и тот Фюрст тоже Эрвин. Обер-лейтенант Эрвин Фюрст, командир третьей роты. Я запомнил его имя, так как часто читал у микрофона перечень офицеров, находящихся у нас в плену.
— Мы слыхали, — сказал солдат. — Только у нас никто не верит.
— Почему?
— Фюрст в плену? Невозможно!
— Но почему же?
— Такой человек, как Фюрст, — с чувством проговорил ефрейтор, — не мог сдаться в плен.
Оказывается, нашлись свидетели, которые видели, как обер-лейтенант защищал свою честь. Он убил пятерых русских и последним выстрелом покончил с собой. В дивизии его чтят, как героя.
— Ну-ка, Гушти, — снисходительно молвил «фон», — изобрази господину офицеру еще кого-нибудь.
— Рейхсмаршал Геринг, — бойко объявил Гушти, зашипел, выпятил живот и начал надуваться, словно резиновый шар.
— Хватит, — остановил я его. — У меня еще есть вопросы.
Гушти мне понравился. Надо побольше разузнать о нем, об этом весельчаке, сыплющем хлесткими солдатскими словечками, актере, живчике. Юлия Павловна будет в восторге. Да и майор тоже.
Немец выпустил изо рта воздух, обмяк и смотрел на меня с улыбкой. Он был встревожен и все-таки улыбался, переминаясь с ноги на ногу. Я спросил его, откуда он родом, в какой части служил.
— Я эльзасец, — ответил Гушти. — Трофейный немец! Второй сорт. — Он притворно вздохнул.
Стукнула дверь. Гушти согнал с лица улыбку и рывком, едва не подпрыгнув, встал «смирно». Вошел капитан Бомзе из разведотдела.
— Вольно, Гушти! — сказал он по-немецки, смеясь.
Немец выглядел уморительно — толстый, низенький, в нарочито бравой позе.
— Вы знакомы? — спросил я.
— Отчасти, — ответил Бомзе. — Полезный тип. Что он вам травит?
До войны Бомзе служил в торговом флоте, усвоил морские словечки. Даже стоя на месте, он чуть покачивался, словно на палубе в ветреную погоду. Во время боя его место на рации. Никто, как Бомзе, не умеет перехватить и расшифровать вражескую депешу, а вмешаться в разговор радистов, притворившись немцем, — на это способен один Бомзе.
— Я забираю Гушти, — заявил он. — Айда, подвезу вас до КП.
Выяснилось, что Гушти служил чертежником в тылу, около Пскова, в штабе армейской группы. На передовую попал совсем недавно, в наказание: осмелился передразнить майора. В плену, на первом же допросе, Гушти вызвался нарисовать план оборонительной линии немцев. Уверяет, что память у него великолепная, укажет все точно: окопы, доты и дзоты, расположение минных полей.
То, что гитлеровцы предвидели наше наступление и загодя начали строить оборону в тылу, — для нас не новость. Разведка по крупицам собирает данные о рубежах врага, и каждая новая деталь, разумеется, драгоценна.
Что ж, пусть Гушти чертит. Он уже помог нам.
«Стало быть, о Фюрсте сочинили легенду, — думал я, трясясь в «виллисе». — Новость важная, очень важная. Да, кисло немцам! Пришлось выдумать героя, чтобы поднять воинский дух. А Фюрст целехонек, сидит у нас в плену. Этот самый Фюрст.
Спешил я к майору.
Лобода беседовал в машине с Колей.
— Что выше? — спросил Коля. — Слава первой степени или Красная Звезда?
— Трудно сравнить, — посмеивался майор, отлично понимая, куда клонит Охапкин. — Орден Славы, видишь ли, солдатский…
— Короткову орден Славы дали, — произносит Коля в сторону и как бы невзначай.
— За что же? — притворно удивился майор, уже не раз слышавший про Короткова.
— Такой же шофер, как и я. В автороте. Снаряды возит на передок. Эх, пойти, что ли, шину накачать! — сказал Охапкин, но не двигался с места.
Лобода рассмеялся. Ну можно ли сердиться на Колю! Он наивно выпрашивает себе награду, как мальчишка коньки или велосипед.
Я доложил майору. По-моему, медлить нечего, Фюрста надо взять в оборот. Он-то, наверно, знал убитого. И надо, чтобы Фюрст выступил у микрофона. Это ошеломит немцев. Легенда рассеется как дым.
Но странно, майор рассердился. Он крякнул, отбил пальцами дробь на ларе, потом стал выговаривать мне.
Легенда? Кстати, Фюрст дрался как черт, ранил троих наших бойцов, и взяли его полумертвого. Недешевая добыча! Пруссак, твердое дерево! Взять в оборот? Но есть же конвенция о военнопленных. Понуждать их к чему-либо запрещается.
— За-пре-щается! — повторил Лобода. — Эх, писатель! Повоевали бы вы с таким Фюрстом, как это делал я…
Лобода часто наезжал в лагерь для пленных «повоевать», то есть поспорить с пленными.
— Предположим, он назовет вам фамилию убитого. Дальше что? — кипел майор, бросая на меня свирепые взгляды. — Всё одним махом хотите, да? И наломаете дров.
Он отвернулся к оконцу и вдруг запел.
— «На земле-е весь род людской», — проревел он так, что задребезжало стекло, и умолк, погрузившись в размышления. Дальше первой фразы арии он обычно не шел в таких случаях. Пение означало: Лободе надо побыть одному.
Я вышел из машины.
Коля накачивал шину. Чудно действует на меня его пухлое мальчишеское лицо: огорчения делаются как-то легче. Но сейчас он расстроен. Награждение Короткова, его сверстника и приятеля, мучает Колю.
— Товарищ лейтенант! — услышал я. — Васька-то Коротков, а?
— Орден, — кивнул я. — Знаю.
— У меня тоже свой нерв, — вздохнул Коля. — Меня давно в автороту зовут. Тут не езда. Капитан Шабуров говорит: мы гастрольщики, артисты. Верно, нет? А таким дают в последнюю очередь. Чувствуете?
— Брось, Коля, — начал я и кинулся к машине: майор стучал мне в окно.
— Что он там насчет Шабурова? — спросил майор!
Я объяснил.
— Вот, вот! Две башки надо иметь с вами. — Большие карие глаза под чернью бровей искрились. — Поедешь в Славянку, в лагерь, где Фюрст. Но сперва…
Повеселевший, полный радости открывателя, он почти пропел мне свой план.
5
Я держал путь на Колпино, где наша база, а затем уже в Славянку.
Когда на равнине показался город, в мозгу возникло слово «Кольпино». Так называли его все пленные немцы. «Эмга» вместо Мга, «Кольпино»… Издали город кажется живым, нетронутым. Мираж длится недолго. Это не дома, одни стены в багровой оспе выбоин. Скорбный, черный от гари снег.
«Кольпино»… Они исковеркали город и его русское имя. Сыпали бомбы, обдавали шрапнелью. «Кольпино» — это звучит, как пуля в рикошете, как лязг мятого железа, как скрип двери, обыкновенной квартирной двери с голубым ящиком для почты, распахнувшейся там, наверху, на высоте четвертого этажа. Дверь скрипит над провалом, над грудами кирпичей, она как будто зовет жильцов, которые никогда не придут…
«Контора жакта» — написано на табличке у входа.
Волна табачного дыма накатилась на меня, как только я открыл дверь. В тесной комнатенке, у окна, курит и стучит на трофейной «Эрике» с латинским шрифтом Юлия Павловна.
— Вы потрясли немцев, — говорю я. — Небесная фрау! До сих пор вас не забыли. Только что видел двух перебежчиков.
Про Фюрста я тоже рассказал ей. И про забавника Гушти.
— Шура, вы золото! — воскликнула она. — Kolossal! Прелестно! Machen sich keine Sorgen[6], он от нас не уйдет.
Она тянется за новой папиросой.
Из железного сундука с бумагами я извлекаю записи бесед с пленными. Ага, вот! Эрвин Фюрст, обер-лейтенант, командир третьей роты. Взят в плен во время разведки боем, отчаянно сопротивлялся. Да, троих ранил, сам получил несколько ранений, месяц лежал в госпитале. Возраст — 32 года, родился в Инстербурге. Отец — портной. Во время войны отец переехал в Дрезден, открыл собственную мастерскую. Там же, в Дрездене, на Кирхенгассе, 12, живет жена обер-лейтенанта, Гертруда, с двумя дочерьми — Моникой и Лисси.
Как можно больше подробностей! О Фюрсте я должен знать больше того, что записано в офицерском удостоверении. То, чего не скажут и пленные однополчане.
Мы должны объявить немцам, что Фюрст, герой дивизии, жив и находится у нас в плену. Большой вопрос, согласится ли он сфотографироваться для листовки.
В Славянку, в лагерь военнопленных, со мной поехал армейский фотограф, маленький человек с крохотной головой, которой он непрерывно вертит, словно приглядываясь и принюхиваясь. Фамилия у него литературная — Метелица.
«Пикап» подскакивает на обледенелых рельсах. Мы в Славянке. В наступивших сумерках проносятся за оконцем понурые вагоны на запасных путях, мертвый паровоз. Им не было хода отсюда, со станции, замороженной блокадой.
Часовой у ворот лагеря вызывает дежурного, тот показывает нам офицерский барак.
Железные кровати в два этажа, густой табачный дух и еще какой-то запах, должно быть после дезинфекции. Метелица, завидя немецких офицеров в форме, вертит головой. Как бы прицеливаясь, он оглядывает железные кресты, демянские, крымские и прочие «щиты».
Прежде всего мне нужен Лео Вирт, тот самый саксонец, лейтенант, который вместе с Михальской работал на звуковке в новогоднюю ночь. И плакал, слушая пластинки.
У Вирта впалые бледные щеки, большой лоб, круглые очки в тонкой черной оправе. Садясь, он кладет на колено книгу. Книга для него дороже хлеба, табака, он читает с жадностью, недосыпает, необходимо наверстать все упущенное по вине Гитлера… Книги Бебеля, Либкнехта, Тельмана… Сочинения Ленина… Вирт был слишком юн, когда эти книги были доступны в Германии. Плен открыл ему бездну неведомого.
— Старик Вильгельм, — он называет видного немецкого коммуниста-эмигранта, — прислал мне из Москвы целый ящик книг. Изумительно!
Я показал саксонцу письмо убитого перебежчика, рассказал легенду о Фюрсте-герое.
— О негодяи, проклятые наци! — Вирт вне себя от гнева. — Значит, Фюрст — герой дивизии? И вы думаете устроить им сюрприз?
— Да.
— Хорошо бы, — вздохнул Вирт. — Теперешний Фюрст — это уже далеко не тот Фюрст, но… микрофона не возьмет. Нет, нет! Совершенно немыслимо.
Мы беседуем в клетушке, которая служит и библиотекой и канцелярией. «Ваш ход, господин барон», — раздается за стенкой. Там играют в карты.
— Я пытался вербовать Фюрста в комитет. Боже мой, как он ругался! Он прусский офицер, пруссак до корней волос. Имеете представление об этих типах?
В среде пленных набирает силы комитет «Свободная Германия». Создали его сами немцы, бывшие военнослужащие вермахта и эмигранты, люди разных убеждений, но жаждущие покончить с войной, создать Германию без Гитлера.
— В семье Фюрста молятся на Гитлера. Да, Фюрст — сын портного, простого трудящегося человека. В Германии есть и рабочие-нацисты… Для вас странно?
Он снял очки. На меня смотрят умные глаза, усталые от ночного чтения, немного печальные. Я сказал себе: вероятно, такими были первые немецкие социалисты, те, кто окружал Маркса.
— Ленин, — Вирт бережно погладил книгу, — предостерегает против догматизма Нужно считаться с действительностью. Что ж, Гитлер дал портному работу — шить офицерские мундиры. Чем больше офицеров, тем больше мундиров. Логично?
Он жадно проник во все детали биографии Фюрста. Тот вырос среди мундиров, напяленных на манекены. От погон, от золотого шитья исходило, сияние власти, силы. Папаша Фюрст мечтал, конечно, вывести сына в люди. Сын стал офицером! До Гитлера это и не снилось. Сказочное время настало для старого портняжки, когда его Эрвин, офицер армии фюрера, красовался в Париже, потом в Осло, когда почта приносила посылки с диковинной заграничной снедью, с вином, шелками.
В своей роте Фюрст свирепствовал почище иного барончика. Сам всюду совал нос. Поражения его только ожесточили.
— Да, он уже не верит в победу. Если вы ему скажете, что Гитлер не сдержал своих обещаний, он согласится, Где молниеносная война? Пшик! Где изоляция России? Тоже блеф. Да, но признать это вслух? Исключено! Присяга, офицерская честь и тому подобное. А хуже всего вот что: Фюрст считает, что вся Германия гибнет… Айн момент, я позову его.
Утлая перегородка затряслась. Вошел Эрвин Фюрст и встал навытяжку, выставив грудь, откинув крупную голову. Крепкая нижняя челюсть, нос с горбинкой, холодок голубых глаз, копна белокурых волос. Он напомнил мне арийских молодчиков в военной форме, изображениями которых пестрят немецкие журналы. «Здоров! — подумал я с неприязнью. — Отъелся на чужих хлебах».
Я коротко сказал, что мне нужно. Хотя мы оглашаем списки пленных, на той стороне его, Фюрста, все-таки считают мертвым и прославляют его. Мы хотим опровергнуть легенду. Для этого со мной прибыл фотограф.
Фюрст не изменил позы. Я напрасно пытался поймать его взгляд. Он смотрел куда-то поверх моего плеча, в одну точку. Я не ощутил в нем враждебности. Нет, скорее безразличие. Он как будто и не слышал меня.
— Вашей семье, я полагаю, не безразлично, живы вы или нет, — прибавил я.
Он шевельнулся.
— Вы слышите? — спросил я.
Метелица уже бегал вокруг Фюрста, целился, подталкивал плечом.
— Хорошо. Ради них, — произнес Фюрст глухо.
— Снимайте, — приказал я.
Метелица щелкнул фотоаппаратом.
— Еще не все, — сказал я. — Прочтите это.
Я дал Фюрсту письмо, подписанное «Буб». Он читал медленно, чуть двигая губами.
— Вас интересует его судьба? — произнес он недоверчиво и опять отвел взгляд. — Да, был такой. Мои креатуры?
Он повел плечом.
Я протянул руку, чтобы взять бумагу у Фюрста. Он еще не расстался с ней. Он читал снова, лицом к окну, как будто разглядывал листок на свет. Потом нехотя подал мне. Пальцы его дрожали.
— У меня есть копия, — сказал я и открыл планшетку. — Могу подарить на память.
Фюрст смешался. Он поблагодарил нерешительно и даже с испугом. Собрался сказать что-то, но не смог и четко, истово откозырял.
В тот же вечер Михальская отстукала текст листовки о Фюрсте. Федя Рыжов, наш «первопечатник» (очень уж архаично выглядела его ручная «американка»), к утру сдал весь тираж.
А утром задребезжали стекла: наши ударили по Саморядовке. Немцы бежали.
Поток наступления, задержавшийся там, хлынул дальше на запад, к зубчатому лесному горизонту, над которым вздымались черные обелиски дыма. Черные, зловещие обелиски над горящими деревнями.
По пятам ринулись танки, самоходные пушки. Летчик, взявший на борт связки листовок, с трудом нашел отступающие остатки немецкой авиаполевой дивизии. Медленно разжимая пальцы, он выпустил из пачки наши листовки одну за другой. Крутой воздух вырвал их, и они долго плыли, прежде чем опустились на землю.
Достигли ли они цели? Читают ли их немцы? Как подействовала на них новость? Эти вопросы я задавал себе уже в звуковке.
Теперь вся надежда на тебя, Коля! Давай газ, ищи, как можно выгадать время, обойти главные, запруженные машинами дороги. Дошла листовка до цели или нет, все равно надо нагнать солдат из авиаполевой гитлеровской дивизии.
6
— Хана! — сказал Охапкин. — Приехали. Волоча ноги, нахохлившись, он ходил вокруг звуковки, именно вокруг, хотя препятствие выросло впереди, шагах в пяти от радиатора.
Мы вышли из машины: майор, Шабуров и я. Коля продолжал свое круговое движение — признак крайней растерянности. Карта сулила нам здесь мост. Но то, что мы увидели, было скорее скелетом моста или его призраком. Под дырявым, как решето, перекрытием синели проталины. От мартовских оттепелей река размякла, было бы сумасшествием довериться льду.
Путь один — через мост. Но мыслимо ли?… Какие-то смельчаки уже проехали. Внизу, на льду, валяются обломки настила, сбитого колесами. Наверно, каждый шофер, оглядываясь назад, называл себя счастливцем.
Лобода подбежал к мосту. Брови его поднялись. Он круто повернулся.
— Решай! Ты хозяин.
Эти слова произвели поразительное действие. Коля подтянулся, поправил ушанку, застегнул куртку и, лихо подмигнув мне, ступил на мост. Прошелся, потрогал носком сапога полусгнившие доски, потом, не говоря ни слова, влез в кабину. Дверца захлопнулась. Майор открыл ее.
— Нет, — сказал Охапкин. — Без вас.
— Не дури, — ответил Лобода и занес ногу на ступеньку.
— Все. — Коля выскочил на дорогу. — Не пойдет дело, товарищ майор.
— Да ты что!..
— Раз я хозяин…
Лобода готов был рассердиться, но вдруг лицо его просветлело.
— Ладно, — кивнул он. — Езжай.
Шабуров шагнул к машине. Майор удержал его.
— Распоряжается водитель, — промолвил он раздельно и необычно тихо.
Сейчас Коля не храбрился, не подмигивал. Он шагнул в кабину и нажал стартер. Ноющий звук родился где-то в недрах машины. Она словно жаловалась нам, трясясь от страха. Со стуком откинулась левая дверца.
Было немного стыдно стоять на дороге и провожать глазами машину. Опасность большая. Иначе Коля не оставил бы нас тут. Дверцу он открыл, чтобы можно было выпрыгнуть, если машина начнет падать. Но успеет ли он? И куда прыгать?
Ломались, проваливались, сыпали на лед труху хлипкие доски, кроваво-рыжие на изломе. Обнажался переплет балок, тоже подточенных гнилью. Коля рассчитал точно: машина двинулась по ним, как по рельсам. Но вот путь все уже. Взрывом авиабомбы перекрытие выкушено до середины, надо податься влево, еще влево…
Прыгать некуда, разве что в реку. В полынью. С многометровой высоты. Перила снесены, звуковка идет по самому краю.
Мост отчаянно трещит. Кажется, наступил его конец. Сейчас немногое отделяет машину и водителя от гибели — какой-нибудь дюйм. Правее, Коля, хоть чуточку правее! Я вижу, как задние колеса порываются уйти от карниза, но срываются, откатываются опять влево. Машина уже не двигается дальше. Левое колесо повисло над пропастью, оно судорожно вертится, и я с ужасом думаю о том, что будет, если оно перестанет вертеться…
На миг все ушло из глаз, кроме того отчаянно кружащегося, мокрого, отмытого талым снегом колеса. Машина напрягалась, стонала. Вот-вот ее силы иссякнут, и тогда…
Я зажмурил глаза, и как раз в это мгновение колесо поднялось на балку. Снова с ледяным звоном захрустело дерево. Машина двинулась.
Минут пять спустя мы добрались до машины. Я стал приводить в порядок вещи, сдвинутые качкой на мосту и сброшенные на пол кузова. Чувство у меня было такое, словно я вернулся в родной дом.
«Мы целы, целы, черт побери!» — пело внутри, хотя опасности подвергался один Коля. Таково слияние судеб у друзей на войне. Даже тряска в родной машине была хороша. Радовало все: и печурка, помятая в одном месте осколком, и сияние приборов, и мешки с сухим пайком — хлебом, гречей, фасолью, мукой — на полочке под самым потолком.
Шабуров молча осматривал усилитель. Я не выдержал.
— Сегодня он заслужил орден, — сказал я. — Честное слово! Талант наш Колька!
— Парень золотой! — отозвался Шабуров. — И мог пропасть ни за что! Ни за грош, ни за денежку. Из-за гастролей этих… Из-за проклятой чепухи… Люди воюют, а мы — тру-ля-ля… Фрицев потешаем…
Я смешался. И вдруг в памяти ожило недавнее: Шабуров порывается сесть в машину…
— Однако если бы не майор, — сказал я, — вы бы поехали вместе с Охапкиным.
— Ах, вот вы о чем!.. Так я ради него, чудака… Оказать помощь в случае чего… И вообще, — голос его стал резче, — не обо мне речь. Меня-то все равно нет.
Он опустился на ларь рядом со мной. Нас подбрасывало на выбоинах, сталкивало, он дышал мне табаком в лицо.
— Очень просто, нет, — повторил он. — Оболочка одна… Вот как они…
Он смотрел в окно. Там, качаясь, проплывал редкий лес, и на талом снегу среди нетронутых, свежих березок лежали убитые. Наши убитые.
— Наступление, — услышал я дальше. — А им уже все равно. Вот и я… Ну, доедем до Берлина! — крикнул Шабуров и сжал кулаки. — Мои-то не воскреснут.
Видение за окном уже исчезло. Лес пошел гуще, черным пологом задернул мертвых. Шабуров все смотрел туда.
— У каждого потери, — жестоко перебил я, так как очень боялся, что Шабуров разрыдается. — У меня отец умер в блокаду. А мы все-таки существуем и должны существовать.
«Меня нет», — повторялось в мозгу. Эти слова неприятно кололи. Потом протест сменился жалостью.
Жить на войне трудно. И надо, чтобы человеку было чем жить на войне. Шабурову нечем, и это страшно. Пожалуй, это самое страшное на войне. Он мог бы жить местью, если бы ему дали гранату, поставили к орудию…
— Ну снова рапорт напишу. Что толку! Уперся майор, как… Ничего, я добьюсь!
Что-то новое шевельнулось во мне.
— Правильно! — сказал я. — И добивайтесь, коли так. Меня-то майор не послушает, а то…
Он схватил мои руки:
— Нет, нет!.. Не понимаете вы… Он всегда со смехом к вам: писатель, мол… А по сути, уважает вас.
— Ладно, — сказал я, отвечая на пожатие. — Ладно… Я все, что смогу…
До сих пор я был на стороне Лободы. Сейчас я уверял себя, что Лобода несправедлив к Шабурову.
А Лобода тем временем беседовал в шоферской кабине с Охапкиным. Чаще доносился глуховатый, иногда срывающийся тенорок Коли, он что-то с воодушевлением рассказывал майору.
Окно темнело, близился час ужина. Я обдумывал, как лучше завести разговор с майором о Шабурове. Но все сложилось по-другому.
Мы въехали в Титовку.
Эта лесная деревушка не упоминалась в сводке боевых действий. Известна она стала теперь, когда наши вошли в нее и увидели догорающие костры на месте домов.
Теперь костры погасли. Они лишь дымили кое-где. Тянуло гарью, и к этому примешивался еще какой-то запах, тошнотворный, сладковатый. Я ощутил его, как только вышел из машины. Из мрака вынырнул коренастый белесый лейтенант в угловатом брезентовом плаще.
— Вижу, машина ваша… — сказал он, переводя дух. — Генерал Лободу ищет.
Он увел майора куда-то в темноту, наполненную скрипом орудийных колес, хлюпаньем шагов.
— Ряпущев, адъютант генерала, — сказал Шабуров. — Николай, рули-ка подальше.
Однако мы не могли отвязаться от томящего запаха. Он настигал всюду, вся сожженная Титовка дышала им.
Шабуров мрачнел. Мы догадывались, отчего такой запах. Коля, отпросившийся разузнать, сообщил: на краю деревни сгорел сарай с людьми. Фашисты заперли жителей Титовки, не успевших убежать в лес, и подпалили.
— Наш майор там, — сказал Охапкин. — Он в комиссии, акт пишут… Там одна женщина с ума сошла. — Глаза Коли округлились. — Сына сожгли.
Обычно Коля вечером, перед сном, читал, шевеля губами, затрепанный томик рассказов Чехова и поминутно спрашивал у меня значение загадочных слов: «горничная», «акции», «исправник». Сегодня ему не читалось. Он покопался в моторе, потом подсел ко мне.
— По-немецки хощу ущиться, — заявил он. — Товарищ лейтенант, поущите меня.
— Зачем тебе?
— А я бы им сказал, чтобы не смели… Найдем, кто это сделал, так плохо будет.
Я взглянул на Шабурова. Он желчно кривил губы.
— Мы предупреждали, Коля, — ответил я.
И объяснил ему: решено привлекать к ответу военных преступников — поджигателей, грабителей, палачей.
Майор вернулся ночью. Впопыхах выпил кружку чаю; от оладий, разогретых Колей, отказался. Некогда. Надо ехать в Вырицу, на новый КП, куда сейчас перебирается наше хозяйство.
— Генерал приказал срочно дать листовку, — прибавил он. — Об этом… Ох, мерзавцы! — Он зажмурился. — Это все-таки нужно видеть, писатель. Ну, в добрый путь!
Он простился с нами и выбежал.
На ночлег мы стали на сухом, свободном от снега пригорке, среди елей. Ветер теребил их, на крышу звуковки падал дождь, минутный весенний дождь. А запах из Титовки все еще чудился мне. Он словно сочился в машину. И, закрыв глаза, лежа на своем ларе, я видел мысленно то, чего не успел увидеть в Титовке.
Среди ночи мы вскочили. Что-то огромное, оглушающее разбило сон, машина качалась, большая еловая ветка мягко и грузно легла на крышу, потом соскользнула на землю, царапнув по стеклу.
Похоже, немцы из дальнобойных на ощупь обстреливали дорогу. Мы оделись, но взрывы уже заглохли, противник переносил огонь.
Утром Охапкин, прежде чем сесть за руль, развернул новую карту, еще чистую, не тронутую цветными карандашами. Ленинградская область вот-вот кончится, начнется Псковщина. Где-то там, в болотистых лесах, отступают солдаты и офицеры немецкой авиаполевой дивизии.
К обеду мы нагнали воинскую часть, которая только что завершила прочесывание леса. Бойцы отдыхали, сидя на пнях, на поваленных стволах у походных кухонь. За соснами чавкали топоры, вонзаясь в сочную древесину. Саперы чинили мост. Мы сыграли им несколько пластинок. Нам захлопали.
— Еще венок сплетут, — язвил Шабуров. — Офицерам патефонной службы.
Убрав пластинки, он достал из планшетки блокнот и старательно, крупным ровным канцелярским почерком написал очередной рапорт Лободе.
К нам постучали. Вошел капитан в казачьем башлыке, откинутом на спину, в кубанке, сдвинутой на затылок, — знакомый мне командир разведроты.
— Здравия желаю! — весело возгласил он. — Уши болят от вашей музыки. Ох, сила! У вас «Очи черные» есть?
— Никак нет, — сурово отрезал Шабуров.
— Жаль. Замечательная вещь! Добре, я Кураева сначала к вам направлю, — прибавил он неожиданно. — Может, почерпнете что-нибудь?
— Отлично, — ответил я, усвоив лишь то, что увижу сейчас Кураева.
— Штабной драндулет фрицевский, — сказал капитан. — В воронке застрял. Гитлер капут! — Он засмеялся.
Вскоре к звуковке приблизился конвой — три наших солдата во главе с сержантом Кураевым — и двое тощих пленных в зеленых шинелях. На одном шинель была длинная, чуть не до пят, у другого едва покрывала колени. Кураев поздоровался без тени удивления. Будто именно сегодня, в этот час он ждал встречи со мной.
Шофер и писарь сдались добровольно. Завидев наших пехотинцев, они вышли из машины и, крича «Гитлер капут!», подняли руки. В машине оказались бумаги. Кураев и солдаты набили ими вещевые мешки.
Я бегло опросил пленных. Они прибыли на передовую недавно, с пополнением. О «креатурах» Фюрста, об убитом перебежчике не имеют понятия. Но о Фюрсте, конечно, слышали. О «герое дивизии» им говорили еще в тылу.
Читали ли они нашу листовку о Фюрсте? Писарь, юный, косоглазый, похожий на озябшего кролика, ответил, переминаясь и стуча зубами:
— Нам показали вашу листовку перед строем. Фюрста у вас нет. Чистая пропаганда.
Как многие пленные, он произносит это имя с иронией.
— Но как же нет Фюрста? А фото?
— Нашли похожего, одели в форму, и вся игра! — сказал юнец с апломбом. — Пропаганда! — повторил он. — Мы тоже вас обманываем. На то война.
— А своим вы верите?
— Не всегда, господин офицер. Но Фюрст мертв, у командования точные сведения. Безусловно! Наш унтер-офицер — очевидец. Фюрст при нем покончил с собой. Приложил пистолет к виску и последней пулей…
— Пропаганда, господин офицер, — подал голос шофер. — Она не может быть правдой.
Бойцы выкладывали из мешков бумаги. Конторские книги, синие и зеленые папки с орлами рейха, со свастикой. Документы мы оставили у себя. Пленных увели.
Весь остаток дня, трясясь в машине, я разбирал немецкие бумаги. Нам повезло. В наши руки попали бумаги второго батальона авиаполевой дивизии, того самого, в котором служил Фюрст.
«Дорогой Буб!» — бросилось мне в глаза. В особом конверте хранилась пачка писем, все они были адресованы Бубу и заканчивались неизменно: «Твой старый папа». Во многих местах чей-то красный карандаш подчеркнул машинописные строки. Резкая жирная черта выделяла несколько слов по-французски.
«Aide-toi et le ciel t'aidera», — прочел я. — «Помогай себе сам, тогда и небо тебе поможет».
Вот она, наконец, пословица, так заинтриговавшая нас! Да, конечно, та самая. «Креатуры» недаром навострили уши. «Старый папа» довольно ясно указывал сыну выход из войны.
Сначала я читал только подчеркнутое, выискивал самое нужное для нас, а потом все подряд. Нет, не только служебная обязанность приковала меня к этим письмам. В них было что-то еще.
«Мой дорогой Буб!
Меня крайне обрадовало, что вы отошли от Ленинграда и избежали окружения, которое лишило бы нас возможности получать от тебя известия. В то же время меня чрезвычайно печалит гибель твоих товарищей. Кстати, сообщи мне имя и адрес земляка Шенгеля из Букенома, дабы я мог выразить соболезнование его старикам. Ведь он был твоим другом!
Ты пишешь, что провел ночь в яме, из чего я заключил, что вы уже не располагаете землянками. О, если бы это была худшая из напастей!
Вчера нас. навестила тетя Аделаида. Ее Альф жив и здоров. Хорошо, что она обратилась в шведский Красный Крест. Чутье не обмануло ее. Шведы разыскали Альфа в английском лагере для военнопленных, куда он попал еще в прошлом. году из Африки. В связи с этим Аделаида утратила ореол германской женщины, матери-воина, и ее даже уволили из госпиталя. Это, разумеется, легче перенести, чем смерть сына. Ты, наверно, согласишься со мной.
О часах для тебя я помню. На моем столе листок с пометкой «Часы». Чтобы не потерять, я придавил его лампой, той лампой с совой, которая, помнишь, так пугала тебя в детстве. Вообще в наших комнатах все так, как было при тебе, но вид из окна… Боже мой, что стало с нашим городом! Шпиль старого Мюнстера еще стоит, но в собор уже было два прямых попадания: одно — в башню над романскими хорами, другое — в левый придел. Стекла из окон все вылетели. Здесь разрушения еще поправимые, в отличие от дворца принцев Роган. Его, по-видимому, не восстановить. Позавчера я прошел по улицам Старого города и ужаснулся. Дорогой мой, это нельзя описать. Площадь Гутенберга, средневековый Рыбный рынок, историческая лавка на Вороньем мосту — все превращено американскими бомбами в битый кирпич. Спрашиваешь себя: чего добиваются янки, во имя чего эта бессмысленная жестокость?
Тревоги у нас чуть не каждый день. Я стал осторожнее и теперь при звуке сирены отправляюсь в «Погребок героев» — милое название для кабачка, переделанного в бомбоубежище. Ты можешь себе представить твоего отца, — он сидит среди женщин, штопающих носки, среди детских колясок и правит черновики своего трактата об архитектуре Возрождения. Чудак, не правда ли? Но это и твои письма — единственное, что поддерживает меня.
Я, тетя Аделаида, твоя сестра Кетхен — мы все верим в твою смелость и находчивость. Верь и ты! Помогай себе сам, тогда и небо поможет тебе.
Твой старый папа».
«Страсбург» — стояло в верхнем углу каждого письма. И дата. А одно было на бланке «Доктор Гуго Ламберт».
Я не мог оторваться от писем, пока не прочел все. Они захватили меня, как книга, проникнутая сердечной теплотой. Или как знакомство с хорошим человеком. «Старый папа» бедняги Буба чем-то напомнил мне моего отца, умершего в первую блокадную зиму. Он тоже спускался в убежище с рукописью, работал до последнего дня.
Раньше я видел в своем воображении Буба, долговязого, близорукого юношу. Теперь рядом с ним возник сухощавый, быстрый старик с добрыми глазами. Мысленно я входил в страсбургскую квартиру, в кабинет ученого, где на столе стоит лампа в виде совы, мудрой ночной птицы. Книги в массивных шкафах за стеклом, запах книг, близкий мне с самых ранних лет.
«Старый папа» Буба, Гуго Ламберт, немецкий интеллигент с долей стойкого иронического иммунитета против фашистского бешенства. Один из тех немцев, которые всегда хотели мира, разумной и свободной жизни. Он посылал своего сына к нам. Он доверял его нам.
Но «креатуры» Фюрста следили. Документы подтверждали это.
Я прочел:
«Господину командиру 3-й роты
лейтенанту Отто Миттельбаху
Донесение
Настоящим имею честь сообщить, что солдат 2-го взвода Август Кадовски в разговоре с солдатом того же взвода Эмилем Цвеймюлем поносил фюрера и выражал желание перейти к красным, на что и подбивал упомянутого Цвеймюля. Данный Цвеймюль о сем заявил мне.
Унтер-офицер Курт Брок».
Поперек донесения командир нацарапал, разбрызгивая зеленые чернила: «Расстрелять».
Я насчитал трех казненных за попытку сдачи в плен. «Моральное состояние личного состава упало», — доносили «креатуры» Фюрста. Их много, батальон кишит соглядатаями.
Из одной бумажки я узнал, что во взводах для укрепления духа офицеры рассказывали о Фюрсте и других «выдающихся воинах дивизии».
Неплохая находка эти бумаги! Теперь мы знаем гораздо больше о событиях в авиаполевой.
Итак, существуют два Фюрста. Фюрст-легенда и подлинный Фюрст, размышляющий в офицерском бараке о Германии и о себе! Должен ли знать пленный, как ведет себя на той стороне его тень? Непременно!
Пока чинят мост, звуковка не сдвинется. А что, если?…
Да, повернуть, и немедленно на КП! Доложить майору — и в лагерь к Фюрсту.
— Можете, — разрешил Шабуров. — Я останусь.
7
Озерко, круглое как блюдце. На синем льду, почти на самой середине, чернела, тонула, затягиваясь шугой, каска.
Нам отвели каменное строение на берегу, облупленное, изрешеченное осколками. Солдат-связист с мотком проволоки на плече срывал со стены доску с изображением слона — эмблему немецкой части. Из распахнутой двери на дорожку, в лужи летели банки из-под консервов, из-под немецкой сапожной мази, тряпки…
— Майор у генерала, — сказала Михальская. — Ну-ка, помогайте, Саша!
Мы втроем — я, Коля и печатник Рыжов, тихий силач рязанец, — с грохотом вытаскиваем на улицу немецкие койки. Кидаем в печь немецкие книжонки с анекдотами, плоскими, как стоптанная подошва. Выметаем огрызки плотного, темно-серого немецкого хлеба. Выбрасываем выжатые тюбики с надписями: «Лосось», «Селедка» — хитроумный химический эрзац, пустые сигаретные коробки, бутылки из-под шнапса, из-под мозельвейна, из-под греческой мастики, болгарской ракии. Изгоняем дух немецкой казармы.
Михальская командует нами. Она показывает, как отмыть, как отскрести, где должен быть кабинет майора, куда поставить железный сундук с документами.
Помещение быстро преображается. Пучок сосновых веток в медной гильзе; кусок фанеры, прибитый к стене над кроватью; на столике — пестрая салфетка, чайник.
— Плохо, что нет майора, — говорю я Михальской. — Времени в обрез. Завтра обратно.
— Тогда спешите, Саша. — Лицо ее озабочено. — С майором я улажу.
Я заколебался.
— Что это значит, Саша? Вы забываете, что я старше вас по званию, — говорит она с улыбкой, но твердо. — Поезжайте в лагерь. Я вам раздобуду транспорт. Так уж и быть.
Она берет трубку. Да, «виллис» в политотделе есть. Папироса у Юлии Павловны погасла, я зажигаю спичку, но она отводит мою руку.
— Нет, нет, я сердита на вас, — сказала она с шутливым упреком.
Дом затрясся. Бомба с «мессершмитта» угодила в озерко, подняв фонтан воды и обломки льда. Я увидел это в окно. Каска на озере медленно перевернулась и утонула.
Зенитки неистовствовали. Фашист еще кружился в воздухе, и, пока я ждал «виллиса», зенитки возобновляли свою музыку несколько раз. Начало смеркаться. Вдруг в окно с силой плеснуло режущим желтым светом. Он тотчас погас, его словно задуло грохочущей воздушной волной. А потом снова возникла за окном колеблющаяся желтизна, залила крыши, снег.
Коля Охапкин в эту минуту приколачивал над койкой майора гвоздь.
— Машина горит! — заорал он, уронил молоток и бросился на улицу.
В сотне метров от дома, на пустыре, стоял дощатый сарайчик. Коля с немалым трудом завел туда звуковку, предварительно раздвинув в стороны немецкие канистры из-под бензина, — там помещался склад горючего. Из нашего окна сарай не был виден.
— Почудилось ему, — сказал я Михальской, но выбежал следом.
Сарай горел. Можно было только подивиться чутью Кольки: маленькая бомба с «мессершмитта» подожгла постройку, яркое пламя охватило стену и крышу. Коля исчез в клубах дыма, и я услышал, как он нетерпеливо нажимает стартер. Звуковка трогалась с места, порывалась выйти из пылающего сарая, но что-то мешало ей.
Я подбежал. У входа в сарай желваками нарос лед. В него-то и упирались передние колеса звуковки, накатывались, долбили… Что я мог сделать? Звуковка едва различима в дыму, оттуда пышет жаром. Задохнется Колька… Надо немедленно помочь, но как? Лопату! Да, лопату, чтобы разбить лед. Я повернулся и увидел Михальскую. Она была в одной гимнастерке, бледная. Ветер откидывал со лба ее волосы.
Я что-то сказал ей. Мы кинулись к дому. Где лопата? Помнится, она попадалась мне на глаза, когда мы прибирались.
Коля все еще нажимает стартер. Или это только кажется мне? Я шарю в передней, в коридоре, опрокидываю какие-то ящики. Фу, дьявол побери, лопаты нет! Задохнется Колька… Я отчетливо представлял его себе: вцепился в баранку намертво, а дым душит его.
В темноте за дверью натыкаюсь на гладкую, чуть изогнутую рукоятку. Топор! Держись, Коля! Сейчас! Потерпи еще немного, еще чуть-чуть! На пустыре все неистовей пляшут отсветы пожара, их ощущаешь почти физически. Мотор звуковки работает, фары ее зажжены, они режут дым, как два клинка… Значит, Колька еще дышит там. Но чем он дышит? Как можно дышать там, в костре?
Кольке упрям. Я знаю, он не выпустит баранку. Задохнется, но не выпустит.
Меня нагоняет Рыжов. У него лопата. Сейчас мы живо взломаем лед. Еще минута… Нет, меньше — полминуты…
Только один раз ударил я, давясь от дыма, по ненавистному панцирю льда. Клаксон звуковки взревел, и мы отпрянули. Разбежавшись, насколько позволяло тесное пространство, машина одолела порог, свет фар стал ярче, еще ярче и, наконец, ослепил нас, глянул нам прямо в лицо, в упор.
Вероятно, от жары лед обтаял и выпустил звуковку из плена. Но это мы сообразили после. Лишь одна мысль жила во мне, когда звуковка вышла из огня: Колька выдержал. И машина спасена.
Коля вылез, хотел что-то сказать, но закашлялся и припал к радиатору.
Он кашлял долго, очень долго, и мы ждали. На пожар сбежались еще люди, и все смотрели на Колю и ждали. Наконец он выпрямился.
— Порядок, — сказал он тихо, обошел машину кругом и сел на ступеньку.
У сарая хлопотали солдаты. Но они сбежались слишком поздно, чтобы отстоять хлипкое, на время сколоченное сооружение. Крыша уже обвалилась, стену проело огнем насквозь.
Мы отвели Колю в дом.
— Лежи, — сказал я.
— А кто же вас в Славянку повезет? — Он порывался встать и надсадно кашлял. — Нельзя лежать. Вам же ехать, товарищ лейтенант.
— Есть «виллис», — сказал я.
— Плохо, — сетовал Коля. — Нет, я встану.
Гонять звуковку так далеко все равно не имело смысла, но Коля не хотел этого понять, ему было обидно, что я поеду в другой машине, в «чужой».
Зенитки будто взбесились. Под их неистовый перестук, невольно пригибаясь, я побежал к «виллису».
Часа три спустя я слез у ворот лагеря.
Обер-лейтенант Эрвин Фюрст внешне не изменился, он производил все то же впечатление: манекен в форме. Ворот кителя туго стягивал плотную шею.
Листая письма, он тяжело дышал.
— Да, Ламберт, — сказал он сипло. — Солдат Клаус Ламберт из Страсбурга.
— Вы знали убитого?
— О да, знал. Странно, почему вы, советский офицер, интересуетесь судьбой немца…
Я ответил:
— Не все немцы — наши враги.
За перегородкой, как и в тот раз, играли в карты. «Ваш ход, господин полковник!» — донеслось оттуда. «Все то же», — подумал я.
Время неодинаково для всех. Есть время победителей, стремительное, как танковый удар, и время побежденных. Мы много испытали, мы знаем, как тяжело время в отступлении, как томит время в окопах и блиндажах обороны, но не нам досталось время побежденных, эта пытка временем.
Невольно я сказал это вслух. Понял ли меня Фюрст? Его пальцы поднялись к шее, расстегнули ворот.
— Русские — удивительная нация, — с трудом произнес он и умолк, словно прислушиваясь. Мне показалось, он боится привлечь внимание своих товарищей, глушащих там, за перегородкой, лагерную тоску картами.
— Вам дьявольски везет, господин дивизионный пастор, — послышался оттуда густой покровительственный бас.
— Пастор! — бросил мне Фюрст. — У вас нет пасторов в армии, верно? Какой же бог у вас? Какой бог вам помогает, хотел бы я понять!
Он сжал большими руками виски, перевел дух, заговорил спокойнее.
— Слушайте… В декабре на передовую возле Колпина, — он, как и все немцы, сказал «Кольпино», — ваши выслали самолет. Маленький, легкий самолет, его можно сбить одним осколком. Бог мой как солдаты были потрясены! Оттуда говорила женщина… Она кричала нам, чтобы мы сдавались в плен. Ну, у нас не было охоты сдаваться, мы еще спали в тепле, и дела у нас шли еще не так плохо. Но женщина… Из осажденного Ленинграда…
Ого, и он запомнил «небесную фрау»! Нашу Юлию Павловну!
— Из осажденного Ленинграда, — повторил Фюрст. — Вот что удивительно! Фюрер говорил: Ленинград упадет нам в руки, как спелый плод. Голодный город, измученный, и вдруг женский голос оттуда призывает сдаваться в плен. После этого я среди солдат слышал такие речи: «Э, господин обер-лейтенант, Ленинград нелегко будет взять! Они там и не думают поднимать руки». И я спрашивал себя: откуда у русских столько уверенности? Если бы мы были в таком положении, в блокаде, нашлась бы у нас такая… «небесная фрау»? Но дело не в ней. Там у нас есть отчаянные. Не в том дело… Моральная сила сопротивления, понимаете…
— Понимаю, — сказал я.
А Михальская и не предполагала, что ее полеты вызовут сенсацию, Возвращалась она тогда расстроенная: то зенитки помешали, то аппаратура закапризничала.
Как же говорить с Фюрстом дальше?. У меня не было определенного плана.
— Ваша семья, если не ошибаюсь, в Дрездене? — спросил я.
— Да.
— На Дрезден были налеты, — сказал я. — Ваших родных ободрила бы весть от вас. Живая весть… По радио…
Фюрст помрачнел и опустил голову. Я почувствовал, что он отдаляется от меня.
— Видите, — продолжал я, — мы разбросали листовки с вашим портретом, но нам не поверили. Я беседовал с одним пленным. Говорят: пропаганда. Твердят нам: Фюрст покончил с собой. Некоторые будто бы своими глазами видели.
Может быть, и не следовало сообщать ему об этом. Я упрекал; себя в излишней откровенности, когда Фюрст вдруг поднял голову и я уловил на его лице выражение любопытства и удивления. Впоследствии я понял: доверие завоевывается только доверием.
Он вдруг откинулся на стуле и отрывисто заговорил.
— Да, да, господин лейтенант. Я знаю, чего вы хотите, чтобы я, как Вирт… Моя семья! — он сплел крепкие пальцы. — Семье будет хуже, если я воскресну, вы понимаете? Но дело не в этом. Вы сказали, что у побежденных и у победителей даже время разное. Да, да, боже мой, как это верно! — Он подался ко мне. — У нас все разное, все! У нас не может быть общего языка.
— Почему? — спросил я.
— Нет! Не было такого примера в истории… Вы оказались сильнее и растопчете нас. Это же ясно! Что же вы предлагаете мне? Идти вместе с вами?…
— Бейте, Вилли! — раздалось за перегородкой. — Бейте рейхсмаршала!
— Они играют, — произнес Фюрст и поник. — Они ни о чем не думают, господин лейтенант, и в этом их счастье. А я не могу не думать, такая уж проклятая у меня голова.
— Желаю успеха, — сказал я, вставая. — Но мы не намерены топтать немецкий народ. Мы не нацисты.
Теперь лучше оставить его. Наедине с его мыслями. У него есть о чем подумать сегодня, после того как он узнал о Фюрсте-легенде. И о своих подручных. Но одна невысказанная мысль не давала мне уйти.
— Вы признаете себя побежденным, господин Фюрст. Зачем же вы заставляете драться своих бывших подчиненных? Они до сих пор действуют от вашего имени.
Он удивленно вскинул брови.
Как я узнал потом, Фюрст действительно немало размышлял в тот день. Помогали ему не только саксонец-антифашист и начальство лагеря. Нет, невольно помогли офицеры-нацисты, товарищи по плену.
За карточным столом Фюрст сидел рядом с лейтенантом Нагером, фатоватым сынком прусского юнкера. Офицеры располагались по старшинству. Фюрст, сын портного и, по общему мнению, выскочка, должен был считать за честь играть в компании потомственных родовитых вояк.
Игру придумал Нагер, карточный виртуоз. На квадратах плотной бумаги он написал: рейхсмаршал Геринг, рейхсмаршал фон Браухич, генерал Гудериан, генерал Шернер. Вместо королей, валетов, дам — гитлеровский генералитет, высшее офицерство. Нагер предложил и правила игры. В основе они были просты: «старший» бил «младшего». Но даже равные по званию отличались знатностью фамилий, должностями, степенью близости к фюреру, и поэтому за столом нередко возникали споры, а временами и стычки.
После моего отъезда Фюрст вернулся к играющим. Но стул его исчез.
— А, господин обер-лейтенант! — прошепелявил Нагер. — Вы уверены, что ваше место здесь?
Фюрст не любил Нагера. Бездарность, трус, осевший благодаря протекции в штабе.
— Уверен, — ответил Фюрст.
— Вы ошибаетесь, милейший, — просипел седой, сморщенный полковник Бахофен. — Мы вам совершенно не нужны, насколько я разбираюсь в положении.
— Любимчик большевиков! — бледнея, выкрикнул Нагер.
Фюрст поднял кулак. Он мог бы убить Нагера одним ударом, и в эту минуту ему страшно хотелось сделать это. Фюрста схватили, оттащили от стола.
Он лег на нары. Его колотила лихорадка.
Чья-то ладонь легла на его горячий лоб. Он увидел гауптмана Вахмейстера Луциуса, или Луца, как его называли в военной школе. Фюрст и Вахмейстер вместе учились и были выпущены офицерами в один день.
— Я с тобой, Винни. — Так звал он Эрвина Фюрста со времен учения. — Я не буду с ними играть.
— Нагера я изобью, — пригрозил Фюрст и поднялся.
Луц взял его за плечи и снова уложил.
— Спокойно! — сказал он. — Без драки! Они все против тебя. Видишь ли, Бахофен сказал им…
Старый интендантский полковник, барон, владелец поместья в Вестфалии, Бахофен попал в плен недавно: наши танкисты прошли по тылам врага и захватили обоз. Когда я беседовал с Фюрстом, Бахофен вспомнил листовку с его портретом и всем поведал об этом.
Значит, Фюрст позволил себя снять для советской листовки! Недаром сюда приезжал фотограф! А сегодня явился русский офицер, тот самый, что привозил фотографа. И заперся с Фюрстом…
Нацистские бонзы, «фоны» отлучили его, объявили предателем.
Фюрст и не жалел об этом. Размышления его получили новую пищу. Впрочем, ни с антифашистом Виртом, ни даже с однокашником Луцем не делился Фюрст своими сокровенными мыслями. Они стали известны мне гораздо позднее.
Не буду, однако, забегать вперед.
В Вырицу я въехал ночью. Зенитки молчали, в небе невидимо гудели наши истребители.
Наши не спали. Стучала «Эрика» Михальской, печатник Рыжов смазывал машину, Коля латал покрышку. Лобода ходил по комнатам, напевая тягучую, пасмурную песню без слов. Его вызывали к генералу, и разговор был не из приятных.
8
Генерал Мусхелишвили встретил Лободу невеселым кивком. Перед ним лежал рапорт. Почерк показался знакомым.
До войны Мусхелишвили заведовал кафедрой в педвузе. «Не убьет, так рассмешит», — говорили о нем студенты. Он не позволял себе повышать голос, «убивал» метким словом, ядовитым сарказмом.
Генерал подвинул к себе рапорт. Несколько минут длилось молчание. Слышались только тихие шаги Рянушева, адъютанта. Он заварил чай, нежно звеня ложечкой и поглядывая на Лободу с добрым сожалением.
Угнетала мрачность обстановки. При немцах здесь был отдельный кабинет казино. Его отделали в «старогерманском» вкусе: голые, некрашеные деревянные стены с черными ожогами, такого же стиля люстра из толстых, обожженных дубовых брусков. Лишь в одном месте унылый орнамент прерывался на стене рисунком. Садовая скамейка, на ней парочка. Военный облапил хрупкую, с осиной талией девушку. Внизу кудрявились пошлые готические вирши.
— Ну, антифрицы, — сказал наконец генерал. — Нет, даже не антифрицы, а…
— Слушаю вас, — спокойно проговорил Лобода. Кличка «антифрицы» давно укрепилась за нами.
— Может быть, мы похороним вашего немца с воинскими почестями, а? Возложим венки? С оркестром похороним, а? Может быть, дадим залп?
— Разрешите доложить, — сказал Лобода, поняв, что речь идет об убитом перебежчике.
— Мне уже доложили тут, — генерал подвинул к майору бумагу. — Ваш офицер будит разведчиков, устраивает форменное следствие. А потом вы с прискорбием извещаете немцев. Было это, товарищ Лобода?
— Не совсем так, — ответил майор.
— Пишет же человек. И другие подтверждают. Ознакомьтесь, секрета нет.
Писал Шабуров. Майор лишь в первую минуту почувствовал удивление. Он представил себе Шабурова, хмурого, мрачно выдавливающего слова. Именно так, лаконично, с плохо скрытым раздражением был составлен рапорт. Майор Лобода позорит звание советского офицера, утверждал капитан. Оплакивает убитого немца. Судьба фрица для Лободы на первом плане.
— Разрешите теперь мне доложить вам, — сказал Лобода, кладя бумагу. — Смысл передачи был иной.
— Текст с вами?
— Нет, товарищ генерал.
— Прошу доставить.
— Запись есть, но я менял на ходу… Я говорил без шпаргалки.
«Ну, держись», — подумал майор. Но генерал взглянул на него с любопытством. Лобода рассказал все подробно.
— Все-таки вы перехлестываете, — сказал Мусхелишвили, дослушав. — Сбиваетесь с тона. Вообще эта история с перебежчиком больше касается самих немцев. Существует комитет «Свободная Германия», есть немецкие антифашисты — вот и на здоровье. Они редко выступают у вас. Почему? Эффект от вашей работы пока что слабый, товарищ майор.
— Хвалиться нечем, — признался Лобода.
— Я не знаток, но смотрите, как на других фронтах проявили себя немцы-антифашисты! Сотни перебежчиков, коллективная сдача в плен…
— У нас немец еще непуганый.
— Шабуров, по-моему, обижен, — сказал генерал, отмахнувшись. — Это он просится в артиллерию?
— Так точно.
— Взять его у вас?
— Воля ваша, товарищ генерал, — рассердился Лобода и перешел в контратаку. — Мы же антифрицы всего-навсего. Нам и бензин в последнюю очередь. И специалиста у нас отнять ничего не стоит. Да что Шабуров! Шофера в автороту сманить тоже можно. Антифрицы! А вот простой солдат так не скажет. Я помню, под Москвой…
Он запнулся, сообразив, что ляпнул дерзость. Но генерал улыбнулся.
— Ну-ну, что под Москвой?
— Солдаты на передовой просили: «Разрешите дать понятие фрицу». В одной руке винтовка, в другой — рупор. Вот как было. Фашист тут гадил, — Лобода поднял глаза на рисунок с двустишием, — и наш боец не прощает ничего. Нет! Но спрашивает: кто же он, фриц? Неужели каждый немец — враг? А нельзя ли иному дать понятие и противника превратить в друга? А?
— Скоблить времени нет, — сказал генерал и тоже посмотрел На рисунок. — Завтра дальше двигаемся. Обижаетесь на кличку? Хорошо, правильно, что обижаетесь. — Он усмехнулся. — А в части бензина, между прочим, команда дана.
Генерал смягчился, Лобода нравился ему: смело отстаивает свое дело и за Шабурова держится, несмотря ни на что. Тем яснее выпирало личное в рапорте Шабурова.
— Так Шабуров нужен вам?
— Обязательно, — твердо ответил майор. — Золотые руки.
— Добро, — весело сказал Мусхелишвили. — Но объясните, что с ним? Инженер, служба по специальности. Начальник у него… Вежливый начальник.
— Личное горе, товарищ генерал. Потеря близких.
Лобода обдумывал упреки генерала и на вопросы о Шабурове отвечал нехотя, сухо.
— А вы беседовали с ним?
— Неоднократно.
— Ваша звуковая машина, ваши листовки тоже Оружие. Почему он не сознает этого? Чем он дышит? Война не личное дело капитана Шабурова.
— Верно, товарищ генерал, — отозвался Лобода. Чем, однако, дышит Шабуров? Майор не мог ответить, он припомнил беседы с ним, короткие, колкие. Шабуров не раскрывал себя.
— Нехорошо, — произнес генерал. — Понять немца надо, это вы правильно сказали. Но своего подчиненного почему проглядели?
Лобода шагал из политотдела взволнованный. Сам того не замечая, он запел. Навстречу ему по талой, хлюпающей дороге шла колонна пехотинцев. Солдаты с любопытством взирали на странного майора. Запрокинув голову, подставив лицо мокрым хлопьям снега, он возглашал «Реве та стогне» и никого не видел.
Все это Лобода рассказал мне и Михальской. Все, без утайки, с той дружеской откровенностью, которая так располагает к нему.
— Да, друзья, генерал прав. Мы не помогли Шабурову. Как это сделать? Как?
— Отпустите его, — сказал я. — Силой держать не надо. Он еще в гражданскую, у Щорса, в артиллерии был. Тяжело ему у нас, товарищ майор. До того, что… «Победа, — говорит, — не вернет мне моих близких, все равно я конченый. Одно желание — побольше фашистов убить напоследок».
— Что? — воскликнул Лобода. — Победа не вернет?… Он так сказал? И вы считаете, нужно отпустить его? С таким настроением? Эх, писатель! — Майор смерил меня уничтожающим взглядом.
— Одной местью жить нельзя, — вставила Михальская. — Без света впереди, без веры в будущее… Это ужасно, Саша! Это моральное поражение.
— Да, мы тут проглядели, — продолжал майор. — На звуковке все рассыпались, нет настоящей спайки… Охапкин и тот в лес смотрит.
— У Коли семь пятниц на неделе, — сказал я. — Немецкий язык вздумал изучать.
Михальская засмеялась.
— Вы, писатель, удивительно наивны иногда. — Лицо майора уже потеплело. — Обойти пытаетесь все сложное, неприятное, хотите рубить узлы? Методом упрощения? Не выйдет. Побаивался я, признаюсь вам, как бы вы с Фюрстом не испортили музыку. Нет, молодцом! — Лобода обернулся к Михальской. — Ваше мнение?
— На пять с плюсом, — ответила она.
Я обрадовался. О трофейных документах, о моей поездке в лагерь я доложил Лободе раньше, как только приехал. Теперь предстояло решать, как быть дальше.
— Генералу я обещал перебежчиков, — пошутил майор. — Нет, серьезно, успехи у нас не блестящие. За авиаполевой, пожалуй, незачем гоняться. С листовкой осечка получилась. Их только сам Фюрст может убедить. Живой Фюрст, собственной персоной, у микрофона…
— Так и будет, — заявил я.
— Надеемся. А пока антифашиста для звуковки нет. Вирт занят в лагере, в комитете, да и неважная у него дикция. Насчет забавника того, вашего…
— Гушти, — подсказал я.
— Справлялся я. Все еще чертит. Спектакли дает разведчикам, Геринга, Геббельса изображает.
— Товарищ майор, — начала Михальская, — немцы давно не слышали голоса «небесной фрау».
Она выпустила изо рта комочек дыма, он медленно таял в воздухе. Она рассекла его карандашом.
— Что ж, согласен, — кивнул Лобода. — Поезжайте с писателем. Работы хватит на двоих. И напомните немцам, что вы та самая…
9
Попутчиком нашим оказался майор Бомзе из разведки. Михальская явно нравилась ему. Он болтал всю дорогу, не умолкая.
— Ох, и травит Гушти! Мы хохотали до колик. Геринг, — ну как вылитый…
— А польза от Гушти есть? — спросил я.
— А то нет? Красиво рисует. Память редкая: траншеи, бетонные укрепления — чертова пропасть всего понастроено. Взяли мы его творчество, сверили с данными аэросъемки. В общем совпадает.
— Скоро он освободится у вас?
— Потерпите.
Мои расспросы досаждали майору Бомзе. Отвечая, он смотрел на Михальскую, обращался только к ней. Я умолк.
— Вчера Усть-Шехонский к нам заходил, — продолжал Бомзе. — Из-за Гушти. А повод, собственно, я сам подал. Как-то на прошлой неделе залез в эфир. Переговариваются два немецких радиста. «Как поживает Курт?» Второй радист отвечает: «Нет Курта». — «Что, в отпуск уехал эльзасец?» — «Нет, в другую сторону». — «Куда же?» Тот радист смутился, промычал что-то невнятное, ну, словом, дал понять, что местопребывание Курта знать не следует. Черт его ведает, может, его к нам закинули? Ясно? Усть-Шехонский и прикатил. «Покажите, — говорит, — вашего фрица, надо с ним покалякать». Гушти ведь из Эльзаса. Ничего, все обошлось благополучно. Теперь Гушти проверенный, — засмеялся Бомзе. — Не беспокойтесь.
Майора Усть-Шехонского из контрразведки я знал. Он навещал нас и по службе и в часы отдыха. Держался просто, без многозначительности, пел с Лободой украинские и русские песни.
«Разумеется, нельзя подозревать Гушти, — подумал я. — Мало ли эльзасцев! А главное, съемка подтверждает его чертежи, он не обманывает нас».
«Виллис» одолевал промоины, расплескивал лужи. Сзади доносилось:
— От мужа известия имеете?… Ах, не замужем?… Развелись до войны? И не скучно?
Он подсел к Михальской поближе. Она отодвинулась.
Шабурова мы застали в палатке связистов, в бору на берегу реки. Саперы закончили работу, обновленный мост белел, как сахарный. По нему, тяжело громыхая, ползли танки.
Вид у Шабурова был кислый, приезд Юлии Павловны совсем не радовал его.
— Авиаполевую отставить, — сообщила она ему. — Курс меняется.
Охапкин повеселел, увидев Михальскую. К обеду сменил воротничок, пригладил жесткие волосы. Глотая фасолевый суп, вопрошал, может ли женщина с высшим образованием полюбить шофера или, допустим, токаря? Каково мнение капитана Михальской? Всем было ясно: это только завязка — Коля заведет речь о враче Быстровой.
— В Ленинграде одна женщина-конструктор в меня влюбилась. На танцах познакомились. Костюм мне подарила. Верите, нет? Еще галстук.
И это не новость для нас. Великодушная девица дарила Коле то мировой шарф всех цветов радуги, то ботинки, то рубашку. Если верить Коле, щедротами девицы-конструктора можно было одеться с головы до ног.
— Врешь ты все, Николай, — устало сказал Шабуров и бросил ложку в кастрюлю.
В кастрюлях пусто. Посуда вымыта, аккуратно поставлена в шкафчик. Пора в путь.
Я сел в кабину с Колей. Машина мягко съехала с пригорка, набухшего влагой, словно губка. Мартовское солнце грело по-весеннему. В талых водах колеса выводили гаммы: где поглубже, там звук пониже, где мельче — высокий, звенящий.
— Товарищ лейтенант, — сказал Охапкин, — у капитана Юлии Павловны есть кто-нибудь?
— Нет, — ответил я.
— Смешно, — бросил Коля. — Кто-нибудь должен быть.
«Она не такая, как, все», — отзывалось во мне. Она решила до конца войны быть «Юрием Павловичем», как ее прозвали машинистки штаба, капитаном в кирзовых сапогах, отвергающим мужские ухаживания.
— Весна, щепка к щепке и то лезет. А она же, как ни есть, баба, верно? Вот врач Быстрова, майор медицинской службы…
— Влюблена в тебя?
— Ага.
— А еще кто в тебя влюблен? Лейтенант Шахина из мыльного пузыря?
Таково было неофициальное наименование банно-прачечного отряда.
— Тоже, — выдавил Коля, глядя в сторону. — Только я ни в кого, товарищ лейтенант. Вот беда!
— Отчего же?
— Нельзя мне любить, — истово ответил Коля. — Если влюблюсь, тогда я себя беречь начну, товарищ лейтенант. Нельзя ни в коем случае. Хана тогда.
Звуковка катилась по снежной равнине, залатанной бурыми проталинами. На горизонте, где синел лес, невидимо ворочалось и гремело что-то огромное. Временами в этот гром врывался залп «катюш», будто тонны камней скатывались с железного лотка.
Фронт звал нас все громче. В деревушке, наполовину сожженной, бросились в глаза следы совсем недавнего боя. В кювете, вздыбившись, застыл подбитый немецкий танк, ствол его пушки навис над шоссе подобно шлагбауму. Яростно треща, горел дом с наличниками на окнах, с резным крылечком. Некому тушить. К нижней ступеньке крыльца приткнулся солдат в валенках, обшитых красной кожей, в теплой куртке и ушанке. Казалось, он спит.
За деревней, на обтаявшем холмике, — кучка немцев, взятых в плен. Я сошел с машины. Все долговязые парни, молодые, с отупелыми, странно одинаковыми лицами. Изодранные шинели. Сквозь прорехи белеют бинты.
— Сосунки, — сказал усатый военфельдшер, подходя к ним. — «Катюша» поцеловала слегка. Что, толковать с ними желаете? Бесполезно. Видите, обалдели, не смыслят.
Немцы стояли не двигаясь, молча.
— Сколько вам лет? — спросил я ближайшего.
Он не шевельнулся. «Живы ли они?» — мелькнула дикая мысль. Немец будто врос в землю, взгляд его водянистых глаз не выражал решительно ничего. Взгляд мертвеца.
«Ему не больше восемнадцати, — подумал я. — Верно, свеженький, из тыла и сразу под огонь «катюш». Надолго запомнит эту встречу».
В сумерки мы добрались до передовой части. Здесь снег еще не сошел: зарывшись в нем по ступицу, притаились маленькие, почти игрушечные, противотанковые пушки-«сорокапятки». С бугра просматривалось плоское поле, там маячили, тонули во мраке черные фигурки — уходящие гитлеровцы. «Сорокапятки» задорно глядели на них.
К нам подбежал длинноногий бородатый майор в расстегнутой куртке. На груди серебрился орден Александра Невского.
— Чем черт не шутит, — сказал майор. — Не ровен час, контратака.
— У них танки? — спросил я.
— Два. — Майор жадно затянулся папиросой. — В сущности, полтора, — поправился он. — Один мы кокнули, ковыляет кое-как.
Подошла Михальская.
— Поработаем, — сказала она.
— Антифрицы. — Майор оглядел нас с интересом. — Учтите, у них шестиствольный миномет.
Охапкин уже разворачивал звуковку. С вечера ударил мороз, дорога поскрипывала.
— Стоп! — крикнул Шабуров. Он соскочил на дорогу и шел рядом с машиной, держась за крыло.
Теперь она повернулась рупорами к противнику. Укрыться негде. Рядом, за обочиной, заросли, но туда не сунешься: снег слишком глубок.
— Я первая, — заявила Михальская и вошла в кузов. Затарахтел движок.
Рупоры грянули военный марш. Потом раздался голос Михальской, оглушающий, совсем чужой.
— Вы, наверное, уже слышали меня, — начала она. — Вы называете меня «небесной фрау». Я говорила вам с самолета. Я предупреждала вас, что и под Ленинградом вас ждет разгром. Вы тогда не верили. И вот вы убедились.
Вся ночь наполнилась ее голосом. Немцев не видно, их поглотила темнота. А может быть, их и нет вовсе? Оттуда ни выстрела, ни ракеты.
Охапкин что-то говорит мне. Его губы шевелятся.
— Удирают самосильно! — кричит он мне в самое ухо. — Не оглядываются.
— На что вы рассчитываете? — Звуковка грозно вопрошает молчащую ночь. — Бегство не спасет вас. Для вас нет спасительного рубежа.
Около меня приплясывает, дышит на руки Коля. Ноги его в новых сапогах скользят, он хватает меня за рукав.
— Блеск! — слышу я. — Видели у майора?… А что, орден Кутузова выше или нет?
— Выше, — отвечаю я, не задумываясь.
— Холодно! — Коля отпустил мой рукав. — Зима опять… Пойду в кабину.
Рупоры умолкли. Машина стала как будто меньше. Потемнела, начала сливаться с ночью. Острый щелчок дверцы — словно точка, звуковая точка после передачи.
— Бензин душит, — сказала Михальская. Она жадно вобрала в себя студеный воздух.
— До чего же тихо, — сказал я.
— Провалились они, что ли? — неспокойно откликнулся майор.
Его тянуло к нам. Словечко «антифрицы» он произносил без иронии. Он тревожился за нас, порывался помочь нам, подать совет.
Вдруг звуковка выделилась из мрака. Облака раздвинулись, показалась половинка луны с прозрачным, оттаявшим краешком. Отчетливее забелело снежное поле впереди, голое, враждебное. Гитлеровцев нет, они далеко.
— Вы сюда встаньте, — сказал майор Михальской. — В случае чего — в кювет.
— Тихо ведь, — ответил я, чтобы ободрить себя. На меня тоже действовала эта непонятная тишина. И ненужный свет луны. Сейчас моя очередь, движок уже остыл, кузов проветрен. Там, в кромешной тьме, копошится Шабуров.
— Включаю, — сказал он.
Я вошел и плотно захлопнул за собой дверцу. Движок встрепенулся, сонно разгорелась лампочка, соединенная с микрофоном.
Вещать из машины очень неудобно. Не только из-за паров бензина, выбрасываемых движком. Собственный голос не слышен, его топит рев репродукторов. Неудобно, а иногда жутко бывает здесь, в наглухо закупоренной машине, охваченной ночью, неизвестностью. С робким светлячком-лампочкой. А может быть, луна уже за тучей? Да, наверно, за тучей, ведь просвет был небольшой. Если так, то хорошо. А если нет? У немцев шестиствольный миномет, и им нетрудно, в сущности, засечь нас по звуку, накрыть нас.
— Внимание, внимание! — начал я. — Даем вести с фронта.
Я читаю сводку. Я чувствую, как движутся мои губы, ощущаю мускулы гортани, давление воздуха, но голоса, моего голоса, точно не существует. Грохочет другой голос. Он бьет в уши, он сжимает голову, как тяжелый шлем. Он разливается необъятным океаном, и я на дне этого океана.
Сводка закончена. Тихо, по-прежнему тихо. Лампочка меркнет, я отодвигаю штору. Да, луна спряталась. Теперь листовку о преступлениях фашистов. О сожженных заживо в Титовке, о пытках, об издевательствах над советскими людьми.
— Палачи не уйдут от расплаты! — грозит, сотрясаясь, звуковка.
Внезапно микрофон выпадает из пальцев, я уже не сижу на ларе, я на полу. Какая-то сила отчаянно трясет звуковку, словно налетел ураган. По инерции я еще произношу слова, отпечатавшиеся в памяти, но рупоры наверху молчат.
В ту же секунду я очутился на улице. Как это произошло, не знаю, очевидно меня вытолкнул Шабуров. Дорога безлюдна. Где Михальская? Где майор?
Отвратительный вой заставил пригнуться, кинуться к кювету. Шабуров дернул меня за плечо, я упал и растянулся в кювете, на ломком снегу. Близко, в кустарнике, лопались мины.
Шестиствольный… «Это второй залп», — сообразил я. От первого умолкла звуковка. Я поднялся, сплевывая снег. Рядом вырос майор, потом, опираясь на него, встала Михальская.
Она побежала к машине. Звуковка дрожала, мотор жил. Охапкин, вероятно, пустил его в ход, как только миномет начал стрелять. Ох, отчаянный Колька! Первая пачка мин разорвалась за другой обочиной шоссе, звуковка наша заслонила тех, кто стоял у кювета и возле «сорокапяток». Осколки достались ей. Но это выяснилось потом. Я не заметил пробоин в борту, не успел заметить, так как Михальская рванула дверцу кабины и крикнула:
— В машину! Живо!
Звуковка понеслась на предельной скорости. Я глядел в окно. Дорога повернула, опоясывая холм. Лязгнули тормоза.
Мы с Шабуровым вышли. Со мной столкнулась Михальская. Она задыхалась.
— Надо вынести его, — сказала она.
Коля лежал в кабине. Он сполз с сиденья, ноги его подогнулись, голова откинулась на спину. Крови почти не было. Мы не сразу разглядели ее — она тоненькой струйкой сочилась из ранки на виске, едва приметной.
Мы вытащили Колю и внесли в кузов. Он застонал. Я развернул на полу матрац, и мы положили на него Колю.
— Вы с ним будете… — сказала мне Михальская. Она села за руль, за ней послушно пошел в кабину Шабуров.
Стало быть, Михальская вела машину. А мотор включил Коля, включил последним усилием, раненный…
Машину подбрасывало. Я придерживал голову Коли. Он опять застонал.
— Скоро, Коля, скоро, — сказал я, силясь увидеть в темноте его лицо. — Приедем в медсанбат, Быстрова тебе перевязку сделает…
Он не слышал меня. Нет, я не видел его лица, но знал, что мои слова раздаются в безучастной пустоте.
— Ерунда, Коля, — сказал я. — Царапина. Мы еще воевать будем, Коля. Нам до Берлина с тобой…
Он стонал и временами двигал руками, будто смахивал что-то с лица. Сквозь ушанку я ощущал живое тепло.
Палатки медсанбата, большие, мягкие, словно опустившиеся на землю облака, возникли у самого шоссе, в серой мгле. Подбежали две низенькие плечистые санитарки с носилками.
Мы ждали. Вышел седой прихрамывающий санитар с тазом, плеснул из него и заспешил обратно. Красноватое пятно осталось на снегу. За тонкой стенкой палатки кто-то, захлебываясь, кашлял. У соседней палатки разгружали машину с красным крестом, выносили раненых.
Вышла женщина в туго перетянутом халате, бледная, с вызывающе четкими черными бровями, с длинными ресницами.
— Привезли? — спросила она. — Оха… как фамилия?
— Охапкин, — сказала Михальская.
— Возьмите его документы. — Женщина в халате строго оглядела нас и прибавила: — Смертельный исход неизбежен. Пробит череп. Мы нашли выходное отверстие.
Нашли… Как будто это может что-нибудь изменить! Мгла обступила меня.
— А когда… — Михальская отстранила Шабурова. — Когда наступит исход?
— Не возьмусь определить. Несколько часов, а возможно, и день.
— Мы приедем за ним, — сказала Михальская. — Чтобы похоронить.
Ее пошатывало. Мне показалось, она страшно устала. Я коснулся ее локтя.
— Капитан Быстрова! — позвал кто-то из палатки, и женщина в халате исчезла.
10
На обратном пути я сидел в кузове против Шабурова, Михальская гнала вовсю. За лесом вставало багровое солнце, освещало изуродованный осколками движок, пробоины в обшивке, в ларе, в железной печурке.
Я видел Колю, его живое тепло еще не остыло на моих ладонях.
— Быстрова! — с горечью проговорил Шабуров. — Она и не знает его.
— У него мать в Ленинграде, — сказал я. — Больше никого нет.
— Орден ей пошлем.
— Какой? — не понял я.
— Дадут посмертно! — отрезал Шабуров и стукнул по столу.
— Ему все равно теперь, — сказал я.
— Зато ей не все равно, — возразил Шабуров запальчиво. — Мы с майором добьемся.
«Он по-своему был привязан к Коле, — подумал я. — Ворчал на него, злился на его невинные выдумки и все же…» Сейчас он скажет, пожалуй, что Коля погиб напрасно, что мы патефонная служба, — оседлает своего конька. Я не хотел этого и сказал:
— Видите, мы тоже в бою. На самом передке. В самом пекле.
Шабуров расстегнул китель и вытащил из внутреннего кармана сложенный лист бумаги. Руки его тряслись. Он медленно развернул бумагу, глянул и медленно разорвал вдоль. Затем сложил обе половинки и разорвал еще раз — поперек.
Обрывки упали на пол. Это был очередной рапорт Шабурова с просьбой отчислить его от нас и перевести в артиллерию.
11
В то же утро на батарею «сорокапяток» пришли три перебежчика и заявили, что их звала в плен «небесная фрау».
Мне не довелось увидеть их. Звуковка отправилась в Ленинград, в капитальный ремонт. Вел ее Чудинов, степенный немолодой солдат, осторожно объезжавший каждую промоину. Я ехал с ним в качестве пассажира: меня командировали на фронтовую радиостанцию.
Обратно Чудинов привез меня, через два с лишним месяца, в разгар июня.
Звуковка резво бежала по добротному сухому проселку. Большой шмель жужжал в кузове, ударяясь о стекло. За окном проносились эстонские хутора. Они пестрели среди молодой зелени, напоминая разноцветные грибы сыроежки.
Со мной сидел Шабуров. Совсем другой Шабуров, чисто выбритый, бодрый, соскучившийся по друзьям, по действующей армии. По пути он приглашал в кабину и сажал на колени белоголовых эстонских ребятишек, угощал их пайковыми леденцами.
В звуковке пахло свежей краской, машина помолодела, но что-то ушло из нее вместе с Колей…
Наших мы нагнали в поселке, почти не тронутом войной. Они расположились в оранжевом доме с высокой, как башня, крышей. В доме было множество пустых ящиков, коробов, мешков, пачек плотной бумаги для обертки. Должно быть, хозяин, кулак, бежавший с немцами, грузил свое добро второпях, навалом. В одной комнате осталась репродукция «Сикстинской мадонны», под которой Михальская пристроила свою койку. В комнате Лободы — вешалка из бычьих рогов, круглый стол и сейф, содержавший, как выяснилось при вскрытии, пару черных перчаток и цилиндр. Машина «первопечатника» Рыжова лязгала своими натруженными сочленениями на веранде, среди горшков с кактусами. Один кактус был приспособлен Рыжовым под пюпитр, к нему он прикреплял рукопись, сданную в набор.
Без меня в хозяйстве Лободы появился еще один сотрудник — перебежчик Гушти. Я застал его на веранде, он отвешивал что-то на магазинных весах с красными чашками.
На кактусе белела бумажка. Гушти отмечал на ней вес своей порции масла, хлеба, сухарей. Ему полагался тот же солдатский паек, что и Рыжову. Получали они продукты разом, а потом делили. Операция эта, совершавшаяся нашими бойцами быстро, на глазок, у Гушти занимала добрый час.
Гушти стоял на коленях перед весами. Вид у него был такой серьезный, что я не сразу узнал его. Он полез в пакет за щепоткой фасоли и стал высыпать на чашку по зернышку, шевеля толстыми губами.
Я окликнул его.
— О господин лейтенант! — Гушти вскочил и вытянулся. — Все в порядке. Снабжение достаточное.
При этом он подмигнул и снова стал комиком Гушти. Он цитировал листовку. «Снабжение достаточное» — на это мы неизменно указывали, говоря гитлеровским солдатам о советском плене.
— Увы, нет шнапса и мармелада, — прибавил он, вздохнув.
— Ох, здоров жрать! — буркнул Рыжов. — Эссен, эссен[7] — первая забота.
Гушти между тем, снова приняв молитвенную позу, вешал фасоль. Простоватая, маслянистая улыбка сошла с его круглого лица — это был уже другой Гушти, невеселый и жадный. Губы его шевелились. Похоже, он считал зерна.
— Э, вовсе он не простофиля, — сказал мне о Гушти майор. — Это кажется только… А в общем полезный немец.
Михальская тоже была довольна работой Гушти. Ходячий словарь окопного жаргона! Записи Юлии Павловны сильно пополнились с появлением Гушти. Пришлось завести новую тетрадь.
— Взгляните, какие перлы! — восклицала она, листая ее. — Mit kaltem Arsch[8]. Значит, капут, гибель. А как немцы из рейха называют зарубежных немцев — чешских, румынских, польских? Beutedeutsche[9]. Правда, хлестко?
— Гушти развлекает вас, — заметил я.
— Сперва мы помирали с хохоту. Геринга он играет бесподобно. Но нельзя же без конца повторять одно и то же!
Она курила. Я подносил ей огонь, она, как всегда, с улыбкой отводила мою руку.
— Как Фюрст?
— Нового пока ничего.
Я не забыл Фюрста. Саксонец Вирт, выступавший у нас по радио, нередко приносил мне вести о нем. Хотя мне и не удалось за эти месяцы побывать в лагере военнопленных, я все же издали следил за житьем-бытьем обер-лейтенанта.
Его друг Луц еще в апреле примкнул к «Свободной Германии». В союзе с ним Вирт повел атаку на Фюрста, но обер-лейтенант уперся. Нет, он не выступит против Гитлера, не нарушит присяги! Пусть изменились его убеждения — он сохранит их при себе. Его бывшие подчиненные должны драться до конца.
— Другого выхода нет, — твердил Фюрст. — Германия рушится, к ней никто не придет на выручку. Русские — наши друзья? Красивые слова! — говорил он антифашистам. — Победители всегда одинаковы. Опять Версаль, голод, безработица… И русские, и англичане, и янки — все навалятся и скрутят нас по рукам и ногам.
Спорил он до изнеможения, до ссор и, разругавшись, ложился на койку. Возврата к карточному столу, к фон Нагеру, к фон Бахофену не было, да он и не стремился к ним.
Фюрст стал больше читать. Вначале он брал книги у Вирта с недоверием, с задором: погоди, мол, я разнесу твои авторитеты! Но вскоре увидел, что не в силах этого сделать. А бросить книги уже не мог.
Для компании, игравшей в карты, он перестал существовать. Его не замечали, с ним не здоровались. Фюрст не смотрел в их сторону, старался не слышать. Все же возгласы играющих доносились до него.
По правилам игры, из карточных генералов, рейхс-маршалов и нацистских бонз выделялись козыри. Фамилии козырных начинались на одну букву. Чаще всего «козырными» были «Г», — легче всего назвать Гинденбурга, Гаусгофера, Гиммлера. До последнего времени Гитлер не фигурировал в игре, но с высадкой англичан и американцев во Франции настроения среди лагерной знати переменились.
Труднее было с буквой «М», предложенной кем-то однажды. Назвали Манштейнл, Мильха, Макензена. Кто же четвертый? И тогда лейтенант Нагер назвал маршала Монтгомери.
Фюрст подскочил на своей койке. Может быть, он ослышался? Нет! Германский офицер ставит в один ряд со своими маршалами англичанина, врага! Молокосос Нагер сошел с ума! Его сейчас отведут к врачу или…
— Он, пожалуй, прав, господа, — вдруг раздался голос полковника Бахофена. Внук последнего владетеля Вестфалии, он считался старейшиной кружка. И вот вместо того, чтобы одернуть Нагера, Бахофен соглашается с ним! Фюрст ушам своим не верил.
— Браво, браво, граф! — воскликнул барон Ролло. — Я всегда ценил независимость ваших суждений. Нам-то с вами придется считаться с Монтгомери.
«Как мерзко! — думал Фюрст. — Эти вельможи еще недавно кичились своими заслугами перед нацистской партией, выдавали себя за патриотов Германии! Сейчас они готовы кланяться англичанам. Еще бы, Монтгомери с войсками в Нормандии, рано или поздно англичане и янки вступят в Баден-Баден, в Вестфалию, где этим чинушам принадлежат родовые замки, виноградники».
Предатели! Фюрст соскочил с койки. Нет сил терпеть! Он хватит кулаком по столу и выскажет им все, что он о них думает. Но в эту минуту кто-то коснулся его плеча.
— Чудак ты, Винни, — сказал с усмешкой Луц. — Мяч не твой.
Так говаривал Луц еще в пору юности, когда учил Фюрста играть в футбол. «Не горячись, Винни, не бросайся, как бешеный, не твой это мяч».
— Они же не поймут тебя, — прибавил Луц, усаживая Фюрста. — Ты просто младенец, Винни. Неужели тебе не ясно? Они пекутся только о себе.
Однокашники тихо беседовали, сидя на продавленной койке Фюрста.
— Ты обрати внимание на Нагера, — говорил Луц. — Именинником ходит. Перед ним заискивают. А почему? Сестра Нагера в Америке, замужем за членом конгресса… Да, это факт, Винни, что им Германия!
— Я вспоминаю своих солдат, Луц, — отвечал Фюрст. — Они славные парни и храбро выполняют свой долг. Знали бы они, о чем толкуют офицеры… Бахофен, надо думать, мечтает принять Монтгомери в своей усадьбе. Нет, нет, Луц, солдатам нельзя этого знать! Тогда конец, штыки в землю…
— Здесь ты как раз не прав, — настаивал Луц. Именно нужно им знать. Да, штыки в землю, иначе русские истребят твоих славных парней, и уж тогда Германия наверняка погибнет. И говорить-то по-немецки будет некому.
Слова Луца вызвали в уме Фюрста новый поток размышлений. Все чаще он стал думать о своих солдатах, умирающих на фронте. В самом деле, если их перебьют, что останется от Германии? Ведь поражение будет еще горше!
Шли дни. Радио приносило сенсационные известия. Советская Армия во многих местах достигла рубежа своей страны. Освобождены Крым и Одесса, финские дивизии изгнаны из Карелии, отпал еще один союзник Гитлера — Финляндия. Англичане и американцы крепко вцепились в Нормандию, теперь их уже не выбить оттуда. Бахофен, Нагер и прочие спохватились, что давно не практиковались в английском и французском.
— Худо ли им? — говорил Луц. — Семьи у них в безопасности. Под каждым замком, вероятно, глубокий и надежный бункер с ванной и паровым отоплением. А Бахофен каким-то образом умудрился отправить своих в Бразилию.
— Не им решать судьбу Германии, — вставлял саксонец Вирт. — Народ им не доверит своего будущего. Простые люди — вот кто теперь начал делать историю. Крот истории, как сказал Марке…
Теперь Фюрст не гнал от себя Вирта. Простые люди? Да, такие, как его отец, как его солдаты… Эти господа Бахофен, Нагер и словом не обмолвились о солдатах! Считают будущие доходы, переводят их на франки, на доллары, на фунты.
В памяти Фюрста возникал Клаус Ламберт, убитый при попытке уйти к русским. Клаус, веселый юноша, любимец товарищей, нравился Фюрсту, хотя и проявлял иногда непозволительное вольнодумство. Ему, например, не хотелось чистить сапоги унтер-офицеру, он смеялся над поздравлениями, которые почта доставляла на передовую от окружных нацистских ляйтеров. Лучше бы присылали шоколад! Отец Клауса — учитель истории в Страсбурге. «Ох, уж эти эльзасцы!» — сетовал тогда Фюрст. Все-таки они неполноценные немцы. Испорченная кровь, с примесью французской. Письма папаши Ламберта совсем не подтверждали любви эльзасцев к фюреру, их готовности к самопожертвованию. Фюрст ловил себя на том, что он мягок с Клаусом, непостижимо мягок. Покоряло обаяние этого жизнерадостного юнца. И странно, свойств истинно солдатских, столь ценимых Фюрстом, у Клауса не было совсем. Он был похож на хорошенькую, немного взбалмошную, шаловливую девушку.
Теперь Фюрст вспоминал Клауса уже без всякой досады, жалел его. Жалел и солдата Кадовски, полуполяка из Мекленбурга, расстрелянного за пораженчество. Молчаливый великан с большими, грубыми руками крестьянина… Как мечтал Кадовски вернуться в свою деревню, обрабатывать свое иоле!
Толстого, угодливого Брока Фюрст ставил в пример другим. Не то чтобы унтер-офицер возбуждал симпатию, нет, он часто раздражал Фюрста. Как заведет, бывало, речь о своих родственниках… Дядя у него, видите ли, из самого древнего рода в Тюрингии, дому и сенному сараю триста двадцать два года, а коровник, где мычат два десятка породистых симменталок, заложен сто десять лет тому назад. Какие сливки у дяди, какая домашняя ветчина! Другой дядя — бургомистр в маленьком городишке, его сын — морской инженер, строил базу для подводных лодок в Свинемюнде. Перечень родичей не имел конца.
Брок жаден, на солдат смотрит свысока, но Фюрст поощрял его наградами, помогал продвигаться по службе. Брок был нужен. Теперь Фюрст спрашивал себя с болью: для чего нужен? По доносу Цвеймюля казнен Кадовски. А смерть Клауса Ламберта? Может быть, тоже дело Брока!
Как-то Брок получил посылку из Тюрингии. Из того самого хваленого дядиного хозяйства. Сыр, колбаса с тмином. Фюрст видел только корочки от сыра и кожуру от колбасы. Другие делились домашними дарами, Брок же не угостил даже своего обер-лейтенанта. Забился в укромный угол и съел все один.
Брок действует и сейчас, заставляет солдат воевать. Действует и Фюрст, вернее его имя «героя дивизии»… Еще недавно это радовало Фюрста. Сейчас он не находил в легенде удовлетворения.
Так работала голова Фюрста. О его трудных раздумьях я узнал гораздо позднее, уже после того, как он принял решение, изменившее всю его жизнь.
Два события повлияли на Фюрста.
В лагерь прибыли новички. Один из них, капитан с длинной фамилией Кенигсрайтерхаузен, сдался с остатками своего батальона. Правая бровь у капитана дергалась. Он примкнул было к компании Бахофена: баронская фамилия давала ему на это право. Но как-то сразу отошел от нее. Изо дня в день он рассказывал Фюрсту и Луцу о том, как батальон попал под огонь «катюш». Три залпа вывели из строя больше половины солдат. Снова и снова капитан спрашивал, правильно ли он поступил, сдавшись в плен.
— Нас бы истребили, понимаете? Как цыплят… Нас окружили. Мы ничего не могли поделать. Я должен был… Все-таки двадцать семь человек сохранили жизнь.
— Хорошо, — кивал Луц. — Эти жизни пригодятся Германии.
Фюрст смотрел на капитана, на его прыгающую бровь и неожиданно для самого себя выговорил:
— Вы правильно поступили, да, да!
Тем временем наступление наше продолжалось. Настал час последней битвы и для авиаполевой дивизии. Советские войска обошли ее с флангов и отрезали пути отхода. Майор Лобода, обрадованный, тотчас велел передать эту новость Фюрсту.
— Решай, — сказал Фюрсту Луц. — Ты ведь, в сущности, еще командуешь там.
И Фюрст решился.
— Передай русским, — сказал он Вирту, неловко переминаясь, охваченный внезапным смущением. — Я согласен… То есть, видишь ли, мне нужно сказать несколько слов моим ребятам… Моей авиаполевой… Всего несколько слов.
Вирт тотчас же позвонил Лободе. Майор пригласил Фюрста приехать. В тот же день Фюрст, краснеющий, неуклюжий, не знающий, куда девать свои огромные руки, появился у Лободы. Я не был свидетелем этого события. В звуковке, с Гушти на борту, я мчался далеко от нашего КП в потоке наступления.
12
Гушти быстро освоился в звуковке. Примостившись у табуретки, он сочинял листовки и передачи, бросая плотоядные взгляды на мешки с пайком, разложенное на верхней полке, над кабиной водителя.
Писания Гушти были корявые. Еще на базе он начал составлять обращение к авиаполевой дивизии на случай встречи с ней. Солдата Клауса Ламберта он немного знал. Перед отправкой на фронт их обучали в одной части, и жили они в одной казарме, в Страсбурге. Потом Гушти потерял Клауса из виду. И вот недавно, уже у нас, открылась его печальная судьба.
— Ах, бедный Клаус, — вздыхал Гушти.
С Фюрстом он был знаком лишь понаслышке. Гушти чрезвычайно интересовался Фюрстом, нередко спрашивал меня и Михальскую, как поживает герой авиаполевой дивизии, что «варится в его котелке».
— Подручные Фюрста убили моего товарища Клауса, — декламировал Гушти, выводя карандашом колючие, неровные готические буквы. — Но я не побоялся их. Я добровольно сдался в плен русским. Они не обманули меня, я получил все, что обещано в советских листовках. На день мне отпускается хлеба восемьсот граммов, мяса…
Он не забывал указать и количество перца, соли. Отзывался с похвалой о гречневом концентрате.
— Листок из поваренной книги, — говорил я. — Поверьте, их занимает не только продовольствие.
— Да, о да, господин лейтенант! — Гушти хватался за карандаш и принимался за переделку. — Простите меня, сейчас я исправлю. Мигом! О, если бы я умел писать так, как вы! Нужен талант, не правда ли?
— И поменьше «я». Меньше хвастовства, Гушти.
Он вновь усердно погружался в работу. Однако глазами он то и дело косился на буханку хлеба, черневшую на полке.
Лобода приказал изучать Гушти, присматриваться к нему. Майор сказал это нам, мне и Шабурову, в день отъезда, а накануне вечером у него побывал майор Усть-Шехонский.
Наверняка речь у них шла о Гушти. Пищу для догадок мне дал Бомзе. Немцы забросили к нам агента, некоего эльзасца. Понятно, нет прямых указаний на Гушти — мало ли эльзасцев!
Как же, однако, изучить Гушти? Знаток людей из меня плохой. От Шабурова еще меньше толку: он не знает немецкого. И я по всякому поводу заводил с Гушти длинные пустопорожние разговоры, уставал от них, злился на себя и на него.
«Спокойнее, — твердил я себе. — Будь у контрразведчиков определенные подозрения, Гушти не сидел бы тут, в звуковке, направляющейся на передний край». Но воображение рисовало мне зловещие картины. Я не мог справиться с ними, и состояние мое было мучительным.
Тревоги мои и сомнения однажды на время утихли — после ночи вещания. Гушти читал у микрофона внятно, от текста не отступал, все прошло гладко.
За неделю странствований эта ночь, к сожалению, была единственной. Фронт двигался. Нам посчастливилось нащупать с помощью разведчиков группу гитлеровцев, засевших в лесу около железнодорожной станции. Они слушали нас, вяло постреливая. Ветви лип с цветами, сбитые пулями, падали на звуковку.
Утром немцев выбили. Бой был коротким. Он не оставил никаких видимых следов: брошенные палки от фаустпатронов, коробки из-под боеприпасов утонули в молодой зелени, в зарослях папоротника, малины. Вставал летний день, лучистый, теплый, душистый. Война словно замирала. Но в тот же день обстановка изменилась.
Мы миновали группу домиков, красных как маки, венчавшую холм. Дорога вела к глинистому откосу. Наверху дрожали юные березки — прозрачные зеленые облачка. Вдруг к откосу, обогнав нас, вынеслась откуда-то длинная машина, похожая на пожарную. Стальные фермы, возвышавшиеся над ней подобно сложенной лестнице, были усеяны рядками длинных хвостатых мин. Машина остановилась, едва не упершись радиатором в желтую стену глины. С подножек, из кабины брызнули бойцы, и раздирающий уши грохот потряс воздух. «Катюша» дала залп. Могучий ветер пригнул березки. Толкая друг друга, они суетливо выпрямились. Бойцы уже исчезли в машине. Она снялась, и лесная дорога поглотила ее. Позади рвануло, на месте одного из алых домиков взметнулся столб дыма.
Шабуров велел подвести звуковку под откос. Укрытие слабое, но другого поблизости не было. Машина накренилась, одна сторона ухнула в богатырскую колею «катюши». Снаряды рвались на холме и в лесу; потянуло гарью.
Мы вышли из машины. В откосе зияла ниша. Вырыли ее, вероятно, печники, бравшие здесь глину для нарядных домиков, превращаемых теперь в щепу, в угли. Мы все четверо забились в нишу. Обстрел не прекращался, противник засек «катюшу» по звуку и пытался накрыть.
— Wieder losl…[10] — прошептал Гушти. Розовое лицо его побледнело.
— Нас не заденет, — сказал Шабуров. — Ошибку в расчете допустили.
Эти слова, произнесенные деловитым тоном, — «ошибка», «допустили» — пришлись очень кстати в эту минуту. Я крепче прижался к плечу Шабурова.
— Орлы! — раздалось рядом. — Эк занесло вас! Ну, позвольте-ка!
В пещеру, низко нагнувшись, влез рослый подполковник, за ним солдат в шоферском комбинезоне.
— Кто в тереме живет? — засмеялся подполковник. — А это? — Он обернулся к Гушти.
И он засмеялся еще громче. Вид у Гушти был потешный, он силился отдать офицеру честь по всем правилам, но голова его стукнулась о глиняный свод, рука никак не доставала до пилотки.
С подполковником я был знаком: это Лякишев, начальник политотдела дивизии, той самой дивизии, где служил разведчик Кураев.
— Дело затевается серьезное, — сказал Лякишев. — У немцев тут подготовленная оборона. — Он махнул рукой по направлению к лесу, — Калеван-линн — по-эстонски крепость Калева. Может, когда и была крепость…
Гушти дернулся. Я сидел между ним и Шабуровым и потому ясно почувствовал это.
— Калеван-линн, — произнес Гушти, встретив мой взгляд.
— Он был там? — спросил Лякишев.
— Нет, никогда, — затараторил Гушти. — Я был чертежником при штабе, я. чертил… Да, я чертил эти укрепления, у меня они в памяти…
— У него мировая память, — сказал я. — У нас он снова нарисовал все.
Гушти кивал, лицо его сияло.
— Гут, — кивнул Лякишев, — Калеван-линн, — повторил он и развернул карту. — Вот! Высота с хуторами очень выгодная позиция. Брать нелегко, много крови будет стоить.
В ту же ночь звуковка нацелила свои рупоры на Калеван-линн.
Хрупкие, чуткие сумерки — такой была эта июньская ночь. На скате возвышенности, занятой немцами, отчетливо густеют кущи кустарников. Там и сям рождаются, пульсируют и умирают огоньки. Лес отвечает на выстрелы стонами, всхлипами, свистом. Это пули, посылаемые оттуда, из Калеван-линн. Немцев бесит наша звуковка. Они не нашли ее пока, мины тратить им жалко, они палят из винтовок, из пулеметов. Кажется, весь лес полон летающих заблудившихся пуль.
Гушти сплоховал, раскашлялся у микрофона. Едва дочитал передачу.
— Горло схватило, сырость, — говорит он извиняющимся тоном, подавая мне плащ-палатку.
Пусть отдохнет. Я отсылаю его к Шабурову, помогать у движка. Звуковка передает музыку из кинофильма «Веселые ребята». Пальба затихает.
Тишина. Пока движок остывает, я ищу место посуше. Гушти угодил в мокрую канаву, оттого и потерял голос. Ноги утопают в мягких подушках мха. Лес возобновляет свою ночную жизнь, где-то трудится кукушка, суля нам годы, долгие годы бытия. Славная кукушка! Она обещает долголетие всем, даже тому, чья жизнь оборвется этой же ночью, и тому, кто погибнет завтра, на том скате, в час штурма…
За мной, как удав, шуршит в траве толстый резиновый шнур микрофона. Вот здесь как будто неплохо. Та же канава, но в ней два больших плоских валуна, как раскрытые ладони. Отлично, я устроюсь на них. Ледник не зря трудился тысячелетия назад: он притащил эти камни сюда для меня. Я снимаю ватную куртку, сажусь на нее, накрываюсь плащ-палаткой и слегка дергаю шнур. Так водолазы просят воздуха. Я требую звука.
Движок очнулся. В лампочке расширяется зрачок света. Она глаз, разбуженный среди ночи, встревоженный, старающийся увидеть как можно больше. Микрофон включен, он теперь налит звуком, вернее — запасом звука, который только ждет моего голоса.
Над головой тоненько, почти ласково свистят пули. Лес ловит их мохнатой лапой.
— Внимание! — начинаю я. — Мы предлагаем вам выбор: жизнь или смерть.
Голосом я богатырь. Я мог бы померяться с легендарным Калевом. Мой голосище вызывает во всех моих мышцах ощущение силы.
— Вспомните, сколько рубежей вы сменили, — гремит наш лес. — Всюду вы оставили убитых товарищей. Не сегодня-завтра падет и этот рубеж.
Что-то живое шевелится возле меня. Ящерица! Маленькая, юркая, искроглазая ящерица. Она прибежала на свет и с любопытством смотрит в микрофон. Ночной мотылек залетел под плащ-палатку, он порхает вокруг лампочки, садится на текст, который я держу перед собой. Лес принял меня, как своего. Ящерица скатилась под камень, но появился другой обитатель леса. Он сидит на моем колене — зеленоватый пятнистый лягушонок.
Хлоп! Хлоп! Это мины, они упали близко, в какой-нибудь полусотне шагов. Валун защищает меня лишь с одного бока, да и то не целиком. Я пригибаюсь. Я продолжаю читать. Сбиться, замолчать, растерявшись, — значит помочь немецким минометчикам скорректировать прицел. Тогда пропал. Тогда они засыплют участок минами.
Еще мина. Я стискиваю микрофон, припадаю плечом к камню. Не подать виду!.. Еще мина, осколки вспороли дерн где-то рядом, шагах в пяти. Спокойнее! Не ускорять чтение, не повышать голос, читать как ни в чем не бывало. Как будто нет никаких мин.
Мотылек — тот не боится их. Он по-прежнему беззаботно кружится тут, садится на ободок моих очков. Ему наплевать на мины. Они рвутся слева, с той стороны, где мы не защищены, — ему это безразлично. Мы не уйдем. Мы — это я и мотылек, это лягушонок, это лес, все живое перед лицом воюющей, лязгающей смерти.
Мой голос сейчас как будто отделился от меня, я двигаю губами, лежа на камне, почти касаясь микрофона горячим, потным лбом, а мой голос подхвачен лесом. Он бушует, он кричит гитлеровцам:
— Решайте сейчас! Завтра будет поздно!
Все! Конец! Теперь Шабуров поставит пластинку.
Рубашка прилипла к телу, я мокрый, словно не ледник, а я сам укладывал эти валуны.
«Роса, — думаю я. — Скоро утро. Но мы дадим еще одну передачу. Не отсюда — здесь нас накроют: Шабуров сыграет им музыку, и мы уедем».
«Се-ердце, тебе не хо-очется покоя», — поет Утесов. Еще мина, еще… Они лопаются негромко, глухо — должно быть, угодили в топкую низину. Движок стучит.
И вдруг что-то сдавило горло певцу, он захрипел и замолк…
Что случилось? Движок стучит, но звука не стало. Продираясь сквозь малинник, я спешу к машине. Шнур микрофона, холодный, выкупавшийся в росе, наматывается на руку.
— Лампа! — крикнул Шабуров и выругался.
В углу кузова было до странности пусто и темно, синий огонь усилительной лампы погас. Под ногами захрустело стекло.
— Осколок залетел, — сказал Шабуров. Он искал отверстие в борту.
— Сволочь! — Шабуров осматривал прибор. — Как проскочил! А где Гушти?
— Гушти! — крикнул я.
Никто не ответил.
13
— Здравия желаю! — кричал Лобода, и трубка, казалось, вот-вот разлетится от его баса. — Алло! Да, я Долото, не прерывайте, девушка! Что? В Калеван-линне авиаполевая дивизия? Бомзе, милый, это же здорово! — Он положил трубку и обернулся к Михальской. — Вы слышали?
— Да, товарищ майор, — отозвалась она. — Наконец-то! Кстати, там ведь наша машина.
— Именно, — басил майор, ликуя. — Сегодня же Фюрста туда. Но с кем?… Из русского лексикона у него: «давай», «хорош», и все… Нет, его нельзя одного отправлять. Поезжайте вы с ним.
Фюрст сидел на веранде, около печатной машины. Согнувшись над крупным ломберным столиком, он вслух зубрил русские слова. Лоскутки бумаги со словами «утро», «вечер», «день», «месяц» висели, наколотые на кактусы. На листке размером побольше стояло «три стула, пять стульев, двадцать один стул». И, словно крик души, крохотное, в скобках, «почему?».
— Герр Фюрст, — сказала Михальская, входя. — Нам с вами надо ехать.
— Слушаю, фрау гауптман, — ответил он и встал.
— Мы столкнулись с авиаполевой. И вам наконец представится возможность…
— О! — протянул Фюрст. — Когда мы едем? Я готов, фрау гауптман.
Лобода смотрел в окно, как они садились в «виллис». Потом припал к гранкам, но ненадолго. Резко постучав, рванул дверь Усть-Шехонский.
— Где твой фриц?
— Который? — Майор вскинул глаза. — У меня ведь два немца.
— Нет, не Фюрст, — отмахнулся контрразведчик. — Тот… эльзасец.
— Гушти, — напомнил майор.
— Ну да, Густав Эммерих по документам. Черт, из головы выскочило! Вот до чего…
— Да в чем дело?
— Изволь. — Усть-Шехонский выхватил из кармана два листка и разложил перед майором.
— Схемы какие-то, — произнес майор. — При чем тут Гушти?
— Вот это его художества. — Майор накрыл рукой один листок. — А те — оборона Калеван-линна как она есть. Понятно?
— Пока не совсем.
— Проще каши, — нетерпеливо сказал Усть-Шехонский. — Одно из двух: или гитлеровцы внесли изменения за это время, переместили точки, или…
— Или Гушти наврал, — заметил майор.
— То-то и оно! Пока ничего нельзя сказать наверное. Изменить они могли. Мало ли для этого причин! Хотя бы то, что их чертежник у нас в плену. Но… черт его знает! В оба надо глядеть за твоим Гушти.
— Да! — воскликнул майор в тревоге. — Конечно, надо! Он же из Эльзаса, к тому же…
Он отвернулся, чтобы скрыть любопытство, Усть-Шехонский никогда не сообщал подробностей.
— За твоим Гушти нужен глаз, — повторил Усть-Шехонский.
14
Гушти! — крикнул я еще раз. Смутное эхо ответило мне. Где же Гушти? — Его же не было в машине, — сказал Шабуров. — Я еще окликал его, когда пластинка играла. Я там был, в кустах, думал, не задело ли его. А тут ещё парочку гостинцев оттуда прислали. И вся музыка…
Гушти сбежал?
Мы звали его, шарили в зарослях. Вероятно, немцы решили, что цель накрыта. Чужой холм молчал, подернутый грязноватым туманом.
Битый час мы бродили по лесу, оглядывая каждый куст, каждую ямку. Уже рассвело, на борту звуковки выступили капли росы. Самые худшие предположения теснились в моей голове. Гушти — враг, хитро замаскированный враг. Ему поручили войти к нам в доверие, он выполнял какие-нибудь задания. Наверняка выполнял! И вот сбежал к своим, сбежал безнаказанно…
В лесу затрещал валежник. Я выглянул из машины. К нам шли трое. Юлия Павловна, Фюрст и… Гушти. Он плелся сзади, понуро, с виноватым видом. Фюрст оглянулся на него, и в это мгновение Гушти торопливо выпрямился, расправил плечи и поднял на офицера подобострастный взгляд.
— Хорошенький номер, — сказала Михальская. — Нервы у него, видите ли…
Я понял не сразу. Что же случилось? Фигура пришибленного, едва плетущегося Гушти красноречиво говорила о том, что «нервы» — это относится к нему, конечно.
Оказывается, Гушти попутал страх. Из страха он в свое время перебежал от своих к нам, и приступ страха погнал его сейчас, во время обстрела. Он кинулся в чащу леса, подальше от звуковки, с одной только целью — уйти из-под обстрела, спастись. Дрожа, он лежал под кустом, а затем, увидев Михальскую и Фюрста, вышел к ним навстречу. Бросился в ноги, умоляя не посылать больше на передовую.
— Я пообещала, — сказала Михальская. — Неволить не имеем права. Но обер-лейтенант взял его в оборот.
Вещать было уже поздно, спать не хотелось. Мы осмотрели звуковку, нашли пробоину. Шабуров вставил запасную лампу. Фюрст, сидя в сторонке на пеньке, продолжал беседу с Гушти. Тот стоял перед офицером навытяжку и монотонно повторял:
— Jawohl, Herr Oberleutnant![11]
Фюрст сердился, брал себя в руки, снова выходил из себя.
— Гушти — филистер, — обращаясь ко мне, произнес Фюрст. — Филистер, — повторил он. — Дурная порода. Она доставит нам еще много хлопот в Германии. — Он деловито наморщил лоб. — О, ему нравится быть при штабе, на привилегированном положении. Еще бы!
— Он трус, — сказал я.
— Да. Он хочет переждать войну, только и всего. Я ставлю перед ним вопрос прямо, господин лейтенант. Готов ли он бороться за новую Германию? Не знаю, с ним надо еще поработать.
И Фюрст насупился, давая понять, что работа предстоит нелегкая и будущее Гушти для него не ясно.
Я отдыхал от тревоги. Хорошо, что не сбежал. Трус — только и всего. Впоследствии подтвердилось: в чертежах он не наврал, фашисты переставили огневые точки.
Подходит Михальская с папироской в руке. Фюрст чиркнул спичку. Я невольно следил за ним. Фюрст держит спичку твердо, ловко. Мне совсем не до того сейчас, но я все-таки смотрю.
День прошел спокойно. Ночью звуковка снова наставила рупоры на холм, занятый немцами. Я прочел обращение советского командования. Калеван-линн окружен. Единственное спасение — в капитуляции.
Немцы слушали тихо. Музыки мы им не дали на этот раз. Микрофон взял Фюрст.
Он очень волновался. Он путался в проводе, уронил микрофон и неуклюже искал его, топча папоротники. Я показал ему мои валуны в канаве, и, когда он, сопя, уселся, я нахлобучил на него плащ-палатку.
— Вы помните меня, — начал Фюрст. — Я обер-лейтенант Фюрст, бывший командир второй роты. Я жив, я в русском плену…
Ночь была светлая. На фоне холодного фарфорового неба ясно выступали очертания высоты Калеван-линн, пологой, гладкой, словно укатанной. Я видел, как одна за другой гасли редкие вспышки, только один пулемет еще отбивал дробь.
— Вы узнаете меня? — спрашивал Фюрст… — Ты, лейтенант Блаумюль Эмми, мой партнер по шахматам! Ты, наш чемпион бокса, унтер-офицер Гаутмахер, Франц, рыжий Франц! Ты, обер-ефрейтор Габро, носатый Габро, прозванный аистом! Вы узнаете меня? Отвечайте же, черт вас возьми, когда с вами говорит ваш командир, хотя и бывший! Отвечайте как можете — ракетой, трассирующей очередью!
— Узнали, — облегченно вздохнул Шабуров, стоявший рядом со мной на опушке, в ольшанике. Рука Шабурова до боли стиснула мое плечо. Там, над траншеями немцев, плясали, растворялись в воздухе ярко-красные стрелы.
— Слушайте мой совет, кончайте с проклятой войной! — гремел голос Фюрста. — Это говорю вам я, Фюрст. Кончайте, пока вы живы!
Фюрст говорил долго. Мы не уехали с передовой на отдых, тишина приковала нас. Нам не терпелось увидеть, что же будет дальше.
Рассвело. Холм был в серой пелене тумана. Солнце пробивалось где-то в глубине леса, позади нас. Туман порозовел и начал таять. Чья-то фигура вдруг выросла перед нами, в кустах. Это был капитан, Командир роты разведчиков, в летней форме, в пилотке вместо кубанки, — я не сразу узнал его.
— Красота-а! — пропел капитан, засмеялся и сел на ступеньку машины.
Он устал, вымок в росе и выглядел так, будто на него свалилось неожиданное счастье.
— Мои славяне за «языком» пошли, а привели полдюжины, целое боевое охранение. Немцы рубашки на себе разорвали, машут: «Гитлер капут!»
Смеясь, он рассказывал, каких отборных солдат послал в разведку. По всем статьям отличные солдаты. Обстановка серьезная. Место голое, риск. Мне понятна его радость. Он послал на опасное дело самых опытных, самых умелых. И тревожился за них. Я спросил его о Кураеве.
— Вот и он тоже ходил, — сказал капитан. — Как же! Где потруднее, там Кураев. Из всех солдат солдат. А пленные немцы говорят, что весь гарнизон сдается.
День разгорелся, туман редел, сползал к подножию холма, в сырую низину. И тут мне открылось зрелище, которое навсегда врезалось в память. Скат обнажился, засеребрилась сочная, влажная трава… И, словно большие цветы, распустившиеся за ночь, забелели на колючей проволоке, на палках, воткнутых в землю, солдатские платки, полотенца…
Высоко над нами в чудесной, необыкновенной тишине звенел жаворонок.
ЧЕРНЫЙ КАМЕНЬ НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ
Я родился в среднерусском селе Клёнове. Мой отец, Николай Сергеевич Ливанов, был учителем.
Впрочем, спешу оговориться. Не потому я начал свои записки с нескромного «я», что намерен приписать себе главную роль в событиях. Нет, я далек от такого стремления. Если бы не мои друзья, вместе со мной боровшиеся и с силами природы и против коварного, опасного врага, я не продвинулся бы и на шаг в своих поисках и, конечно, не сидел бы сейчас в своей комнате на Васильевском острове, — живой, с пером в руке.
Я мог бы в первых же строках сказать о партизане, который, преодолев тысячи опасностей, пришел из вражеского тыла к своим и сообщил важные вести. Я мог бы начать с того дня, когда наши бойцы захватили в плен парашютиста Гейнца Ханнеке, сброшенного близ Дивногорска, и затем рассказать о том, как странный документ, найденный у Ханнеке, помог раскрыть заговор, составленный много-много лет назад. Я мог бы…
Нет, не сто?ит забегать вперед. Ведь события, связанные с черным камнем, начались для меня очень давно — в детстве.
Итак, родом я из Клёнова. Село это — если смотреть сверху — чаша садов, разделенная, словно пробором, широкой и прямой улицей, по-нашему «плантом». Теперь наше Клёново знаменитое: мичуринцы вывели замечательный сорт яблок. А тогда, в доколхозное время, яблоки были мелкие, кислые и мало отличались от диких. К тому же, чуть не каждый год львиную долю урожая съедала болезнь. Не успев созреть, яблоки валились на землю и покрывались пятнами гнили.
Один дом в Клёнове резко отличался от прочих. При нем не то что сада — кустика не было. Не было ни клумбы с цветами, ни скамеечки под окном. Ветер шевелил бородки пакли, торчавшие из пазов. Некрашеный, без наличников на окнах, без навеса над крыльцом, дом выглядел голым, неуютным, холодным. Он был известен под названием «приказчиковой дачи», или «Сиверсовой дачи». Хозяином ее был приказчик Сиверс — датчанин, служивший до революции у крупного нефтепромышленника.
В Клёново Сиверс наезжал вербовать рабочих и здесь женился на дьяконовой дочери Тамаре. Говорят, что дача воздвигалась на ее приданое. Тамара хотела, будто бы, осесть с мужем в Клёнове и умножить капитал торговлей. Но впоследствии Сиверсы перестали бывать в Клёнове. Дача осталась неотделанной; для присмотра за ней Сиверс поселил старуху.
Много лет прожила эта женщина на «приказчиковой даче» совершенно одна. Сиверс пропал куда-то. Его домоправительница добывала кусок хлеба тем, что вязала из цветной шерсти варежки и остроконечные шапочки.
Я помню ее. Труша — так окрестили у нас Гертруду — была тощая высокая старуха с глазами младенческой голубизны — робкими и кроткими. Из своего жилья она выходила редко, потому что у нее болели ноги. Она переставляла их медленно, с опаской, словно шагала на ходулях. По-русски она говорила плохо. Мальчики дразнили ее, а девочки защищали, — она учила их вязать.
Перед смертью Труша помешалась. Должно быть, одиночество доконало ее. Она заперлась в «приказчиковой даче» и несколько дней ничего не ела. Потом собрала свои пожитки в мешок, взвалила на плечи, шатаясь спустилась с крыльца и упала. Фельдшер Николай Кузьмич не мог помочь ей. Сельчане жалели Трушу. Несчастная умерла вдали от родины! Вспомнили про Сиверса. Где он? Если жив — должен прибыть, чтобы распорядиться домом.
И Сиверс прибыл. Это событие прекрасно сохранилось в моей памяти, хотя мне было тогда тринадцать лет.
Я полол гряду с брюквой, елозя голыми коленками по канавке. Подошел отец и велел мне переодеться: «у нас гость».
Новость удивила меня. День был будний, трудовой. В такой день нам никогда не случалось принимать гостей. Для этого существуют праздники. Необычный гость заинтриговал меня. Чтобы не показаться ему в затрапезном виде, я влез в свой мезонин снаружи, по пожарной лестнице, вымылся и надел парадную толстовку.
В столовой я увидел низенького, коротконогого человека с отвислыми усами, которые придавали его узкому лицу выражение сокрушенное. Он обмахивался платком от жары и от мух.
— Ваш наследник? — произнес он, посмотрев сперва на меня, потом на отца. — Мое почтение, молодой человек.
Меня никто не называл наследником. Судя по иллюстрированному журналу «Нива», лежавшему в коробах на чердаке, наследником именовали царского сына. Там было черным по белому написано под портретом: «Наследник цесаревич». В применении ко мне, советскому мальчугану, готовившемуся вступить в комсомол, слово «наследник» звучало странно и даже обидно. Я пожал протянутые мне жесткие, прохладные пальцы и сел.
Сидел я между двумя тетушками. Поглощенный созерцанием гостя, я всё же заметил, что с тетей Клавой — младшей сестрой отца — творится неладное. Она словно окутала себя непроницаемым, недобрым молчанием. Худое скуластое лицо ее еще больше обтянулось. Отец поглядывал на тетю Клаву с некоторой опаской и сам держался необычно: говорил мало, угощал гостя с какой-то забавной церемонностью.
Я понял, что гость очень неприятен тете Клаве. Отец тоже не питает к нему симпатии, но боится взрыва со стороны тети Клавы. И только разбитная тетя Катя — старшая сестра отца — тараторит как ни в чем не бывало: она решила выжать из гостя как можно больше городских новостей.
Гость жевал и говорил. Он как будто не примечал сурового взгляда тети Клавы. С легким акцентом, временами коверкая фразу, он обстоятельно и с жаром рассказывал о себе. Мне казалось, он хвастается. Однако ничего особенного он не совершил. Он служит бухгалтером — вот и всё.
— Да вы на все руки мастер, — подал голос отец. — Вы и бухгалтер, и механик…
— Приходится, — ответил гость. — Я на этих руках, Николай Сергеевич, обошел земной шар.
Тут произошел небольшой конфуз. Я представил себе нашего гостя, идущего вокруг света на руках. К несчастью, рот мой был наполнен супом. Я фыркнул и окатил скатерть. Одна капля попала даже на запасное пенсне отца, висевшее на лацкане его люстриновой куртки.
Естественно, разговор за столом сосредоточился вокруг моего поведения, а затем коснулся воспитания детей вообще. И тут отец выдал мою тайну. Не знаю, зачем он это сделал. Возможно — хотел сгладить впечатление от моей неловкости.
— У Сережи серьезные интересы, — сказал он. — Пишет историю нашего села.
Отрицать было бесполезно. Я действительно писал историю Клёнова. Но никто из посторонних не должен был этого знать. Работа только начата. Еще неизвестно, что получится. Я надулся и стал смотреть на плакат, приклеенный к стене. Плакат изображал прилавок сельского кооператива, у которого теснятся довольные, смеющиеся мужики. У них квадратные плечи и квадратные ярко-желтые бороды. А напротив, через улицу, виднеется лавка частного торговца. Там нет ни одного покупателя. Частник стоит всклокоченный и злой. В него я и вцепился сумрачным взглядом, но ненадолго. За столом заговорили о Труше.
Гость скорбел о ней вместе с нами. Но что можно было сделать? Ревматизм, как известно, лечат на юге, грязевыми ваннами. Да и то не всегда вылечивают. У него тоже ревматизм. Суставы трещат, как сухая лучина, а спину по утрам не разогнуть. И однако он ждет путевки на курорт. Так, без путевки, он не может себе позволить… Он скромный служащий. Некоторые думают, что он нажил бог знает какие ценности при старом режиме. Но это смешно. Он всегда трудился. Его хозяин — тот, совершенно верно, нажил и теперь живет себе припеваючи за границей.
Уже не раз я мысленно спрашивал себя — кто такой наш гость. Теперь я начал догадываться. Неужели — сам «приказчик»? Откуда, с какой стати?
— Гертруда служила у моего покойного папаши, — говорил между тем гость. — Она нянчила меня. Можете быть абсолютно уверены: я не бросил бы ее так, на милость божию, если бы не превратности судьбы.
Сомнений больше не было. Помнится, я сжал кулаки и нахмурился. Пусть видит Сиверс: я всецело на стороне тети Клавы.
Обед кончился, отец увел гостя к себе, а я еще сидел некоторое время, удивленный и сердитый. Тетя Клава срывала тарелки со стола.
— Николай как хочет, а я не поеду, — вдруг произнесла она. — Не поеду я.
— Подумайте, радость какая! — отозвалась тетя Катя, размешивая пойло для поросенка. — На юру ветер свищет. В подвале, чай, вода. И для скотины ничего нет.
— Ясное дело, нет. Двор самим надо строить, — сказала тетя Клава. — Нет, вы как желаете, а меня простите… Проклятое место.
Оказывается, Сиверс предлагает нам купить дачу. Просит он недорого. Но, по мнению тети Клавы, дом не сто?ит и этих денег. А главное — это дом Сиверса! Ноги? ее не будет там.
Я понимаю тетю Клаву. Я знаю, почему она терпеть не может Сиверса.
Тетя Клава — вдова. Со своим мужем, дядей Ефремом, портрет которого висит у отца в кабинете, она прожила очень недолго. Принесла нелегкая Сиверса в наше село нанимать рабочих. Он и подсунул контракт дяде Ефрему. Соблазнил его хорошим заработком и увез куда-то за тридевять земель. Там обманутый дядя Ефрем затосковал, пристрастился к вину и однажды, возвращаясь в рабочую казарму, упал в шахту и разбился на?смерть.
Я всем сердцем сочувствовал тете Клаве. Мы были друзьями, хотя характер у нее был далеко не из-легких. Она часто бывала резка, иногда выпивала и после этого ругалась нехорошими словами. Отец в таких случаях запирался с ней наедине и часами стыдил ее. После она долго ни с кем не разговаривала, молча, яростно работала и неизменно ломала что-нибудь — косу, грабли, а то рассыпа?ла крупу или соль.
Ласки от нее доставались мне редко. Тетя Катя — та расточала их без счета. И всё же я любил тетю Клаву и заодно с ней ненавидел Сиверса.
Неужели отец купит «приказчикову дачу»? Нет, это немыслимо. Оставить наш уютный старый дом, поставленный еще дедушкой, наш сад, с узловатыми, раскидистыми яблонями! Расстаться с моей комнатой в мезонине, с чердаком, где лежит в коробах «Нива», висит дедушкина домра и где найдется, если поискать получше, еще много-много неизведанного! Всё это сменить на холодную, мрачную «приказчикову дачу»! Нет, ни за что!
— Я тоже не поеду, — сказал я тете Клаве. — Я с тобой буду.
ВЫЦВЕТШАЯ ФОТОГРАФИЯ
Мы напрасно волновались, — отец отказал Сиверсу. «Приказчикову дачу» купил кулак Нифонтов. А Сиверс уехал и больше не напоминал о себе.
В сентябре мне исполнилось четырнадцать лет. Тетя Клава испекла сладкий пирог и воткнула в середину пучок бумажных цветов. Они очень смущали меня. Парадная толстовка резала под мышками: я вырастал из нее. Пришли мои приятели — Женя Надеинский и Шура Петелин. На них тоже всё было тесное и до того чистое, что они боялись сделать лишнее движение. Я не пытался их развлечь. Не знаю почему, но на торжестве, устроенном в мою честь, я чувствовал себя ужасно неловко и глупо.
Вечером отец позвал меня к себе, чтобы побеседовать по душам. Он любил такие беседы. Он был доволен, когда ему удавалось «пронять», «взять за живое» меня, тетю Клаву или кого-нибудь из своих учеников.
— Я наблюдал за тобой и мальчиками, — начал отец, — и нахожу, что вы представляли жалкое зрелище. Вы стесняетесь взрослых. Вам не о чем говорить в их присутствии. Чем же заняты ваши головы, возникает вопрос? Я не случайно коснулся сегодня этого. Ты уже почти юноша.
Словом, отец советовал мне подвести итог прожитому году, составить план на следующий и постараться больше и упорнее заниматься. Как обстоит дело с историей села Клёнова? Что-то она медленно подвигается. Смогу ли я выполнить такую задачу один? В этом году в школе будет организован краеведческий кружок — кружок юных историков, натуралистов, собирателей песен и сказок.
Тут я стал слушать отца внимательней. Целый кружок? Это интересно. Я как историк зашел в последнее время в тупик. Из столетнего деда Евдокима — самого старого клёновского жителя — я выудил всё, что мог.
Вдруг отец встал и указал на старую, пожелтевшую фотографию на стене. Портрет выцвел неравномерно: лицо сделалось белобрысым, безбровым, зато на рубашке можно было пересчитать все полоски и пуговки. В семейном альбоме был другой портрет этого же человека, — там он снят примерно в моем возрасте, с матерью. Стройный мальчик с вздернутым носиком, который словно тянет за собой верхнюю губу и чуть открывает ровные зубки. Поэтому кажется, что он улыбается. Именно по той детской фотографии знаю я этого человека и чаще всего рисую себе его как своего сверстника.
— Ты знаешь, кто это? — спросил отец.
— Дядя Ефрем.
— А всё-таки… Кто он такой был?
На это я не знал, что ответить. Простой и понятный в свои тринадцать или четырнадцать лет, он куда менее ясен взрослый. Отзываются о дяде Ефреме различно. Тетя Катя, например, удивляется: как могла тетя Клава выйти замуж за такого беспутного! Он забросил жену и дом ради каких-то сумасбродных фантазий; не хотел работать, как все: невесть что воображал о себе. Если послушать тетю Катю, выходило, что Сиверс не ахти как виновен в гибели дяди Ефрема: он сам себя погубил. Возразить тете Кате я не умел. Я только думал, что чудаковатый дядя Ефрем был, верно, не так уж плох, если завоевал любовь строгой тети Клавы.
— Дядя Ефрем, — сказал отец, — прожил свой век неудачником.
— Что значит неудачник? — спросил я.
Отец засмеялся, снял очки и протер ладонями близорукие глаза:
— Да, к счастью, теперь это слово исчезает. И скоро его вообще не будет. Видишь ли, умный, талантливый был дядя Ефрем, а сруб сгорел.
Да, так оно и было. Я не раз видел у отца газету царского времени, с иллюстрацией, отчеркнутой красным карандашом. В кольце зрителей пылал бревенчатый сруб. Невозмутимые всадники с саблями возвышались над толпой. То были полицейские. Подпись я знал наизусть: «Плачевный результат испытаний огнеупорной краски крестьянина Ефрема Любавина». В толпе был и Сиверс. Впрочем, искать его в черном сгустке голов, похожем на икру, бесполезно. Даже дядю Ефрема и то не найти. Голова в платке, белеющая в задних рядах, за лошадью полицейского, — быть может, тетя Клава. Отец в то время учился в Петербурге, так что подробности знаменательного дня мне известны только со слов тети Клавы.
— Дядя Ефрем был очень несчастен, — продолжал отец. — Даже самый близкий человек не сочувствовал ему. Ведь мой отец мог дать образование только сыну, на дочерей средств не хватило. Клава не могла даже понять, чем занят ее муж. Она считала его талант проклятием, ненавидела его талант. Ты понимаешь, Сергей, какой это ужас? Какая страшная была жизнь!
Волнение отца передалось мне. События, знакомые с детства, поворачивались передо мной, обнаруживали неведомые до сих пор стороны и новый смысл. Я вдруг почувствовал себя старше. Ведь отец впервые заговорил со мной так.
— А дарование у Ефрема было. Самоучкой постигнуть такую сложную науку, как химия! Сколько опытов он проделал, с каким упорством! Он жег костры за деревней, в овраге, клал в огонь деревяшки, покрытые краской. Над ним издевались, а он всё палил свои костры. Он хотел избавить наше крестьянство от пожаров, от «красного петуха», уносившего каждый год многое множество дворов. И заметь: в кострах краска вела себя хорошо, а на публичном испытании сруб сгорел. Почему? Я в свое время снесся с одним специалистом, который принимал близкое участие в трудах дяди Ефрема. Правда, специалист не ахти какой… Он уверял меня: Ефрем стоял на правильном пути и непременно добился бы своего, если бы поработал еще. Одно дело — маленький костер, другое — сруб, обложенный кучами хвороста. Нужно было усовершенствовать состав краски.
— Папа! — воскликнул я. — Значит, он мог стать знаменитым изобретателем?
Эта мысль поразила меня. Наш дядя Ефрем мог занять место рядом с создателями паровоза, парохода, электрической лампочки! Чего доброго — и о нем было бы сказано в школьной хрестоматии. Но почему же он бросил свои поиски и уехал куда-то с Сиверсом? Должно быть, решил, что ничего не выйдет? Вот ведь досада!
Я обрушил град вопросов на отца. Он печально улыбнулся, кутаясь в плед:
— Мальчик мой, дядя Ефрем был беден. На опыты нужны были деньги. Не думай, что он упал духом. Нет, нисколько. Но ему никто не помогал. Он поехал добывать деньги.
В тот вечер я долго не отставал от отца. Куда отправился дядя Ефрем? Правда ли, что Сиверс обманул его? Я хотел знать всё. У отца на столе лежала стопка тетрадок по русскому языку, ему предстояло проверять их, он уже несколько раз раскрывал одну. Раскрывал и клал обратно, — ему жалко было отпускать меня. Да, дядя Ефрем не получил того, что сулил ему Сиверс. Так, по крайней мере, говорится в дядином последнем письме: «попутал меня бес довериться Сиверсу». А подрядился дядя Ефрем в Дивногорск, — это километров восемьсот от нас. Там капиталист, у которого Сиверс служил в приказчиках, затеял добычу асфальтита. В то время вербовщики, нанимая рабочих, обычно привирали: расписывали беднякам разные блага, хотя надобности особой в этом не было, — местность наша была малоземельная, голодная, и мужики соглашались на любую плату. Выходит, Сиверс и дяде Ефрему наврал. Однако первые месяцы дядя Ефрем не жаловался; а потом, вслед за последним его письмом, пришло другое — из конторы, с черной траурной каемкой. В нем не было никаких подробностей; Любавин Ефрем Федорович стал жертвой несчастного случая, — вот и всё. О том, как это произошло, написал Сиверс. Дядя Ефрем был нетрезв и оступился в темноте. Сиверс присовокупил: его-де, как цивилизованного человека, всегда неприятно поражал странный характер русских. Напрасно он, Сиверс, поощрял Любавина в его работе над огнеупорной краской, напрасно подыскал место с хорошей оплатой. Любавин показал, что у него нет той твердости воли и дисциплины, которая необходима для достижения цели.
— Высокомерное, холодное письмо, — сказал отец. — Не понравилось оно мне. Вместо того чтобы утешить родных Ефрема, он вздумал поучать. Ну вот, Сергей, я и предлагаю. У вас будет краеведческий кружок, займитесь Ефремом Любавиным. Разберитесь в его записях, рецептах, составьте его биографию. Может, из трудов Ефрема удастся извлечь что-нибудь полезное. Тут понадобятся и историки и химики.
Так закончилась беседа с отцом — беседа, повлиявшая на всю мою жизнь. Нужно ли говорить, что мне не терпелось начать изыскания: сию же минуту кинуться на чердак, рыться в коробах. Но спускались сумерки, а тетя Клава запретила ходить на чердак с лампой. И главное, надо было сесть за уроки.
Наконец воскресенье. Я снова лезу в короб. Надо мной то лениво, то настойчиво барабанит по дранкам дождь. Дверь в мой мезонин открыта, полоса света, протянувшаяся оттуда, затеняется набегающими тучками. Запахи чердака в сырую погоду еще сильнее, — особенно лекарственный дух мяты, напоминающий о зубной боли. Я откладываю в сторону черные тома «Нивы», знакомые от корки до корки. Дальше — слой бумаг, еще мало изведанный. Там, должно быть, и записи дяди Ефрема.
Вот они! Пухлые счетоводные книги, заполненные цифрами, перечнем товаров, — чай, сахар, соль, керосин. Загадочные цибики, дести, гарнцы. И всюду, где лавочник оставил чистое место, — выписки из научных книг. Как отец объяснил мне потом, бумага для дяди Ефрема была слишком дорога, он выпрашивал у сельских торговцев приходо-расходные книги и писал в них. Отличить его строки нетрудно: очень мелкие из-за экономии места, но четкие, вдавленные.
Эти драгоценные конторские книги я передал Жене Надеинскому, взяв с него клятву не терять, не закапать чернилами. Краеведческий кружок уже начал жить, и кому, как не Жене, надлежало взять на себя химическую часть исследования о Ефреме Любавине. Еще два года назад Женя чуть не спалил дом своими экспериментами. Он пытался заливать горящий бензин водой, отчего огонь растекся еще шире по полу. Но, конечно, не по невежеству Женя так сделал, а от страха. Теперь, в седьмом классе, он занял по химии первое место.
Полмесяца спустя Женя сделал доклад на кружке. Пришел Шура Петелин, решивший стать, по моему примеру, историком. Сестра его Тося взялась измерять глубину снежного покрова и направление ветра, а подруга Тоси — Зина Талызина, краснощекий, вечно смеющийся живчик, захотела собирать песни и частушки. Женя сел за учительский стол, рядом с моим отцом. Жесткие черные волосы Жени, обычно топорщившиеся, были смочены и зачесаны назад. Как сейчас, вижу его темные глаза, слышу его неторопливую речь с заиканием, на «у».
— У-у-уже ясно, что? это такое. Мы с Вадимом Александровичем прочитали…
Пробежал смешок. Все знали: формулы читал один Вадим Александрович — учитель химии. Но авторитет Жени в этот вечер всё же вырос еще больше, о чем мне тут же на собрании сообщила запиской Зина.
Из доклада Жени следовало, что дядя Ефрем избрал стекло как основу огнеупорной краски. Состав несложен. Надо продолжать опыты изобретателя-самоучки.
Разумеется, все горячо откликнулись. Зина Талызина, комментировавшая каждое событие нашей школьной жизни, послала мне записку:
«Т. говорит, что Надеинский герой вечера. Ревнуешь?».
Буквой «Т» была обозначена Тося Петелина, самая хорошенькая девочка в классе, при которой Зина состояла в адъютантах. Записка смутила меня, я спрятал ее в карман, потом, долго мусоля карандаш, обдумывал ответ, и рука вывела против воли, упрямое:
«Ну и пусть».
КРАСКА ЕФРЕМА ЛЮБАВИНА
Учитель химии Вадим Александрович, или сокращенно Ваксаныч, прибыл в Клёново со студенческой скамьи. Он привез с собой теннисную ракетку и повесил ее в своей комнате над письменным столом. В Клёнове играть в теннис было негде и не с кем, и Ваксаныч жаловался на это всем и каждому. Потом он влюбился в Стрункину — преподавательницу начальной школы. Это не сразу обнаружилось бы, если б не Зина Талызина. У нее была страсть лазить на деревья. Устроится там с книгой и читает. Однажды она просидела на ветвях битых два часа, ни жива ни мертва: под деревом на лавочке были Ваксаныч и Стрункина. Они целовались!
Сперва об этом потихоньку шушукались девочки, потом стало известно и мальчикам. «Меня мама ужинать кличет, — рассказывала Зина, краснея. — А как мне слезть!»
Вскоре они поженились; молодой химик попытался отрастить усы, по это не прибавило ему солидности. Ученики старших классов держались с ним запанибрата. Урок он вел с увлечением, любил повторять, что химия — это музыка, но часто терял нить изложения и принимался объяснять какую-нибудь теорию, понятную разве только Жене Надеинскому. Предмет Ваксаныча так и окрестили: «музыка».
Однако с осени химия начала завоевывать умы. Всё реже слышалось пренебрежительное: «музыка». Надеинский убеждал меня:
— Переходи в нашу секцию. Что — история! То ли дело химия. Химия, понимаешь, везде. Человек, например, дышит — и тут химия.
Как я ни упирался, увлечение химией, охватившее многих моих товарищей, тревожило меня. Коллекция старинных книг уже не радовала, как прежде. Я уже не ощущал трепета, переворачивая толстые, пожелтевшие по краям, изъеденные жучком страницы «Диоптры», изданной до Петра, реже снимал с полки любимый роман — «Юрий Милославский» Загоскина. А ведь бывало я по нескольку раз читал то место, где Юрий, застав в русском доме врага, приказывает ему под дулом пистолета доесть огромного жареного гуся — доесть до последней косточки. Враг давился, лопался, но ел. Этот жареный гусь поражал мое воображение не меньше, чем кровавые битвы, описанные в романе.
Нет, не хочется читать Загоскина!
— Знаешь, что я буду делать? — сообщил я Жене Надеинскому. — Я буду клёновским летописцем, раз у нас затеяли такие важные дела с краской.
До зимних каникул химики варили песок с поташом, добавляли различные красящие вещества, испытывали составы на огне. Ваксаныч внес поправки в любавинский рецепт шестнадцатилетней давности, — ведь наука за это время ушла далеко вперед. Настало решающее испытание.
Километрах в двух от села была сторожка лесника. Лес вокруг вырубили, и она торчала на Копейкином бугре никому не нужная. По преданию, записанному Зиной Талызиной, некогда на этом бугре один бродяга убил другого из-за копейки. Эту сторожку мы и решили обмазать краской Любавина и поджечь. Восемь слоев краски положили на дощатые стенки, на тесовую крышу, кругом навалили сухого хворосту. В воскресное утро клёновцы, стар и млад, обступили Копейкин бугор. Остались дома только дряхлые старики и старухи, да еще наша тетя Клава, которая с утра заявила с раздражением:
— Все уйдут, а дом на кого? Обворуют — вот и будете знать. Нет, нет, я всё равно не пойду.
Отец чуть не силой тащил ее, но под конец обругал темной бабой и отступился.
Не было у Копейкина бугра и Тоси Петелиной. Она еще в августе уехала в город и поступила в педагогический техникум. «Но это, пожалуй, кстати, что ее нет, — думал я. — Если бы я стоял там, на вершине бугра, в числе ассистентов Ваксаныча, вместе с ними поливал хворост керосином, тогда мне только приятно было бы показаться Тосе». Но я был внизу, среди зрителей, и чувствовал себя не у дел.
Горючее занялось быстро, и сторожка мгновенно скрылась в огне. Ваксаныч увел всех с холма, и ветер швырнул вслед клубы густого дыма. Ветер в тот день неистовствовал. Но клёновцы, обдаваемые горьким дымом, стояли неподвижно и молча, захваченные зрелищем пожара. Скоро у подножия холма стало жарко, люди отодвинулись. Хворост сгорел, теперь пылали дрова. Языки пламени стали ниже, но как будто яростней. И всё же сторожка держалась. Поленницы таяли, съедаемые огнем, а сторожка вздымалась из огня и возвышалась в нем, словно волшебная. Держится краска Любавина! Клёновцы хлопали и улыбались нам. Аплодировал и мой отец, стоявший на большом березовом пне. Когда пламя затихло, отец легко соскочил и первый побежал к сторожке. Она потемнела от копоти, но сохранилась прекрасно. Лишь кое-где обуглились доски. Удача! Сельчане еще долго обхаживали и разглядывали сторожку; поздравляли Вадима Александровича.
На долю Жени Надеинского, Шуры Петелина и других ассистентов тоже досталось немало похвал. Как я завидовал им в тот день!
В понедельник, после урока литературы, мой отец задержал нас в классе.
— Деятельность наших краеведов, — сказал он, — не мешало бы осветить в газете.
— Ливанов напишет, — подала голос Зина Талызина, которая всегда совалась первая. Подумать можно, она лучше всех знает, кому что надо делать! Зину поддержал Женя Надеинский.
Я встал и, глядя в парту, сказал:
— Я не буду.
— Почему, Сергей? В чем дело? — полетело со всех сторон.
— Пусть Надеинский напишет, — сказал я, — он работал…
Как еще объяснить, что? со мной произошло? Почему я потерял вкус к своей миссии историка и летописца? Но других слов я не нашел и замолчал.
— Кто же возьмется? — спросил отец.
Поднял руку Женя.
«Ишь ты, как ему не терпится, — подумал я, хотя только что назвал его имя. — Обрадовался, что я отказался. А еще друг! Ну и пускай пишет, пускай. Мне всё равно».
На следующем уроке я получил записку от Зины:
«Ты поступил благородно. Тосе будет сообщено».
Это несколько ободрило меня, но ненадолго.
Статью Жени напечатали. Ваксаныч вырезал ее, приложил рецепт огнеупорной краски и послал в Москву — своему университетскому профессору.
Через две недели пришел ответ. По мнению профессора, начинание Любавина было смелым. Времени, однако, прошло много. За границей имеются краски, в основе своей весьма сходные с любавинской. Но честь и слава тому, кто обгонит иностранцев. Главная задача — обеспечить долговечность огнезащитного слоя. Пока что все силикатные краски быстро разрушаются от сырости. Дождь губителен для них. В заключение профессор советовал продолжать опыты и давал указания. Эта часть письма состояла из сплошных формул.
Незадолго до весенних каникул пришел еще один отклик на статью Жени Надеинского — на этот раз из далекого города Дивногорска.
Вот что мы прочли:
«Дорогие товарищи! Я узнала из газеты насчет Любавина, насчет доброй его смекалки. Я прошу вас ответить, не тот ли это Любавин Ефрем, который работал в Дивногорске на асфальтовой шахте. У нас многие его помнят. Мой муж вместе с Любавиным спину гнул, и злодеи, которые Любавина со света сжили, и супругу моему сократили век. Мой адрес — Дивногорск, Донская, дом 10. Парасковья Шатохина».
ЕГО УБИЛИ
Был второй день весенних каникул, когда я слез с поезда в Дивногорске.
— Тебе полезно съездить, — сказал отец, напутствуя меня. — Узнай всё. Не мямли, не фыркай в кулак. Пора быть взрослым.
И вот я совершил первое в своей жизни путешествие по железной дороге, во время которого, понятно, не сомкнул глаз, так как боялся выпустить из рук мешок с хлебом, салом и запасной фуфайкой, боялся проспать Дивногорск и не помню, чего еще я боялся.
Глаза ломит от бессонной ночи. За вокзалом площадь и такой же круглый сквер, как в нашем уездном городе, — только, пожалуй, больше. Впрочем, и дома здесь большие. Я иду по главной улице, читаю вывески, считаю этажи самых высоких домов. Этажей — три, очень редко четыре. Но в нашем уездном городке и трехэтажных зданий только два.
В конце проспекта, за садом, отыскалась Донская улица и повела меня под откос, мимо заборов, складов, мастерских, к реке, покрытой синим льдом. Поют провода, желтеют стволы тополей. Почки набухли, снег вокруг деревьев обтаял, и кажется, что они растут из горшков. Ворота деревянного домика под номером десять приоткрыты. Во дворе высокая горбоносая старуха в очках колет дрова. Я толкаю ворота, они отчаянно скрипят, старуха оборачивается и, с топором в руке, идет прямо на меня.
— Нету, нету тут ваших птиц, — говорит она угрожающе и загораживает мне путь. Я почти касаюсь носом полушубка, горько пахнущего дубленой кожей.
— Ка-каких птиц? — бормочу я.
— А ты чей такой, молодой человек? — слышу я. — Чего тебе нужно?
— Я из Клёнова… к Шатохиной. Я…
Не успел я кончить, как сильные, словно мужские, руки стиснули мне плечи:
— Ах вот кто! Ты бы сразу…
Пахну?ло печным теплом из открывшейся двери, и я очутился в комнате — чистой, светлой, с фикусом, упершимся в низкий потолок.
— Зятек мой голубей приучил. Повадились у нас кормиться. Как улетит у кого голубь — так к нам. Терпенья нет! Ходят и ходят без конца. Ты, молодой человек, раздевайся. Вот сюда вешай. Письмо от твоего папаши получила, хотела бежать встречать, да ведь личность незнакомая, как узнаешь! Сапоги не промочил? А то снимай, мы живо обсушим. Садись, чай пить будешь с нами.
Она с такой ласковой твердостью указывала мне, что я должен делать, что приступ застенчивости быстро прошел. Я сел на деревянный диван с узорчатой спинкой и — совсем как дома — увидел свою нелепо вытянутую физиономию на выгнутой поверхности самовара.
— Горячий ли? А то подогрею?
— Не надо, — ответил я непринужденно. — Горячий. В самый раз.
— Ну, я пошла, — объявила она. — А ты поспи. Глаза-то красные.
Когда я проснулся на лежанке, на окна уже пала предвечерняя тень. В комнате — никого! Я слез и босиком прошелся по жестким половикам, потрогал ногой педаль швейной машины, перебрал книги на этажерке, выронил конверт с адресом: «Депутату Горсовета Парасковье Димитриевне Шатохиной», — повертел в руках, положил обратно. Очень хорошо, — теперь я знаю отчество. Не звать же ее тетей Пашей! Пора быть взрослым. Над этажеркой улыбался в рамке из ракушек некто с усиками и остреньким девичьим подбородком. «Зять, любитель птиц», — подумал я почему-то.
Шатохина вернулась вечером. И вскоре к ней начали собираться гости. То были кряжистые старики, благообразные и степенные. Хозяйку они называли запросто — Пашей, а она подталкивала меня к каждому и говорила:
— Ефрема Любавина племянник.
Мне же сообщала имя, отчество и должность каждого: мастер на лесопилке, начальник пристани, директор фабрики-кухни…
Они крепко жали мне руку, поглядывая так, будто ожидали совсем другого племянника дяди Ефрема — постарше и посолиднее.
Последним явился маленький веселый дядька с трубкой в зубах. Борода его начала седеть снизу, а у самых губ была еще черная. Он подмигнул мне, точно товарищу.
— А вот и Петрович, — сказала хозяйка, и больше ничего я не узнал про него.
Старики смотрели на меня, спрашивали о любавинской краске, о родне Любавина, и я сообразил, что Шатохина пригласила их по случаю моею приезда.
Их заинтересовал мой приезд. Почему? Они любили дядю Ефрема, объяснил я себе мысленно. Но есть — я чувствовал это — еще причина. Нашим опытам с краской они придавали какое-то особое значение. Пестробородый, тот сказал по этому поводу загадочно:
— Пурклин знал, поди, что тут деньгами пахло.
— А то нет! — ответил мастер с лесопилки.
Застенчивость моя быстро прошла, — так захватила меня встреча с друзьями дяди Ефрема.
Мне и раньше приходилось слышать об асфальтитовых разработках под Дивногорском. Страшную они оставили память. Там бедняки, нанятые за гроши, долбили лопатами вязкий, пропитанный загустевшей нефтью грунт, дышали нефтяным газом, который съедает легкие, отравляет мозг. Когда на одной из тетрадей дяди Ефрема мы прочитали «Доннель и К°», напечатанное золотыми буквами, мой отец сказал мне, что фирма эта — иностранная, что на Доннеля работали и добытчики асфальта и еще тысячи других людей. Доннель имел нефтяные промыслы на Кавказе, имел суда, пристани, заводы. Я узнал также, что у Доннеля и состоял в приказчиках Сиверс, вербовавший у нас рабочих. Клёновцы шли на баржи, на буксиры, на заготовку леса, но только самая отчаянная нищета могла заставить человека запродать себя на асфальтитовые копи.
Вот примерно всё, что я знал о Доннеле. Сегодня смысл пышной золотой марки «Доннель и К°», а вместе с тем и судьба дяди Ефрема открылись мне с новой, отчетливой и жесткой ясностью.
— Много ли выжило наших, дивногорских, которые асфальтит ломали? Почитай, тут все они, — и Шатохина обвела рукой сидящих. — Еще кто? Ну, Костя из слободки. Еще Машошин, больной.
— Больной, — подтвердил начальник пристани. — Хоть и подлаживался к Пурклину, а не помогло.
— А мой Степан? — продолжала хозяйка. — Кабы не асфальт, разве погиб бы от пустяковой раны?
Но кто же такой Пурклин? Оказывается, Пурклин и есть Сиверс. Еще в Баку, где Сиверс был буровым мастером, он, по слабости в русском языке, писал в контору о результатах бурения: «Пур клин», — то есть «бурая глина». Так и возникла кличка.
Я рассказал о приезде Сиверса в Клёново, и старичок с пестрой бородой сказал:
— Уцелел, паразит.
При этом он стиснул зубами трубку, и смеющиеся, оплетенные сеткой морщинок глаза его стали строгими. «Сюда бы еще тетю Клаву», — подумал я. Кроме нее, никто в Клёнове не говорил о Сиверсе с такой непримиримой ненавистью, как эти дивногорцы. Мастер с лесопилки спросил меня, откуда пожаловал к нам Сиверс, но этого я не знал. Сиверс не дал нам своего адреса.
— Эх, жаль, — молвил начальник пристани.
Он сидел против меня, грузный, красный, с прилизанными волосами, которые на макушке завивались крючком, и гневно, шумно дышал.
— Кабы не Пурклин, дядя твой и сейчас, может, был бы жив. Крепкий был мужик, — сказал он, обминая пальцами кожаный кисет с табаком.
Никто не курил, и я понял, что в доме Парасковьи Димитриевны это не принято.
Вслед за начальником пристани все заговорили о Сиверсе, и поднялся спор, вначале темный для меня. Упоминались какие-то Ибрагим и Савка, следившие за дядей Ефремом. Шатохина объяснила мне: у Доннеля были свои наемные охранники; Савка — кулацкий сын, в гражданскую войну ушедший к белым, а Ибрагим откуда-то издалека. Как прогнали Доннеля, Ибрагим — ходил слух — удрал за границу.
Я спросил, зачем они следили за Любавиным. Старичка с пестрой бородой мой вопрос почему-то удивил.
— А как же! — воскликнул он, усмехнулся, и трубка в его губах быстро задвигалась.
— За нами тоже шпионили, — сказал мастер. — Верно, товарищ Панфилов?
И тут я с новой стороны узнал дядю Ефрема. Нет, оказывается, мало назвать его изобретателем-неудачником. Крепкий мужик, — так отозвался о нем начальник пристани. Да, крепкий. Однако не физическую крепость имели в виду старые дивногорцы… старые рабочие, говорят так. Дядя Ефрем был их боевым товарищем.
Сиверс поставил Любавина, как грамотного человека, учетчиком. Дядя Ефрем не должен был спускаться в колодец в бадье. Он наблюдал за вагонетками, куда из той же бадьи, поднимавшейся ручным воротом, высыпа?лись комки асфальтита, и вел учет добыче. И платили дяде Ефрему больше, чем грабарям. Но он не продал свою честь. Он не мог спокойно видеть, как рабочий вылезал из колодца, шатаясь, словно пьяный, — нефтяной газ в самом деле опьянял. Одни принимались хохотать без причины, другие буйствовали, рвали на себе рубахи, лезли в драку. Доннель, купивший копи у местного заводчика, тогда еще обещал доставить машины, облегчить труд, провести вентиляцию. «Всё будет новое, заграничное», — похвалялся он, однако обманул рабочих. И Ефрем Любавин выступил против хозяина. В ту пору на копях служил геолог Пшеницын, душа-человек. Он был в дружбе с Ефремом, занимался с ним разными науками и вместе с рабочими пошел против Доннеля, — прокламации писал даже. Началась забастовка. Но геолога Пшеницына арестовали, рабочих стали увольнять пачками. А Ефрема Любавина нашли в колодце мертвым.
— Колодцы не ограждались, — сказал директор фабрики-кухни. — Хозяин-то жалел деньги на охрану труда. А людей не жалел.
— Лучше всего спа-сает ин-стинкт само-сохра-нения, — проговорил Петрович по слогам, и я догадался, что он передразнивает Сиверса.
— Оступился — и готов, — продолжал директор. — Не разобьешься, так газ задушит.
— Оступился! — задорно отозвался Петрович. — Нет, Ефрем не оступился.
— Доказать трудно.
И тут старики опять заспорили. Мастер с лесопилки и Петрович насели на директора фабрики-кухни.
— А ты скажи, — настаивал Петрович, — почему в ту же ночь в казарму — тук-тук. Кто? Ибрагим и Савка. Где Любавин? Я говорю: не возвращался. Они на это ноль внимания, — шасть к нему в угол. Выволокли сундучок из-под койки. Мы, мол, прокламации ищем. Всё выложили на одеяло: книги его, тетрадки. Что в тех тетрадках, мы мало знали.
— И камешек черный в сундучке был, — вставил мастер с лесопилки.
— Да. Образец породы Пшеницын Ефрему дал. На память, верно. Ну-с, прокламаций никаких не нашли. Однако сложили всё обратно в сундучок и унесли. После мы ходили в контору, требовали: выдайте имущество погибшего, родным пошлем. Отвечают: сами пошлем. Три рубля, что в сундучке были, перевели по почте, это верно. А прочее всё сгинуло куда-то.
Я слушал с бьющимся сердцем. И вдруг, словно завеса раздвинулась, — смысл спора стал понятен мне. Я как будто увидел, что? произошло с Любавиным.
— Его столкнули? — спросил я пресекшимся голосом. — Его, значит, столкнули туда?
Помнится, я перестал слышать спорящих. Зато внутри каждая клеточка моего существа кричала: его столкнули в колодец! Его убили!
Несколько мгновений спустя стали до меня доходить чьи-то слова. Не помню, кто говорил, кажется, мастер с лесопилки.
— Конечно — Сиверс. Кто же еще над ним был! Охранниками командовал управляющий, — Сиверс, следовательно.
Директор фабрики-кухни не возражал больше. Теперь все сошлись на одном: Сиверс — убийца! Никто не произносил — Пурклин. Сиверс, и только Сиверс, — отчетливо, как на суде. Я был однажды на заседании волостного суда, когда разбирали дело наших клёновских хулиганов, и знакомые фамилии их звучали необычно, грозно. Так и теперь — фамилия Сиверса. И я подумал, что ведь труды Ваксаныча и ребят тоже обвиняют Сиверса. Ну разумеется! Дядю Ефрема убили и ограбили. В деревянном сундучке Ефрема нашлась лакомая добыча для Сиверса. «Изобретение огнеупорной краски было по тогдашнему времени смелым», — так писал Ваксанычу профессор…
Почему же Сиверсу всё сошло с рук? Почему не заставили его ответить?
— Заставили! — молвил Петрович. — А кому пожалуешься? Кто заставит-то? Записали в акте: несчастный случай. И вся обедня. Ты, молодой человек, учил в школе, что? такое буржуазная власть? Сам разбираться можешь, как оно… А в революцию Сиверса тут не было. Еще до германской войны очистил место. Или после?
— До германской, — подтвердил директор фабрики-кухни. — Как закрыли предприятие. Газ настолько сильно пошел, что никакой возможности не стало копать, — прибавил он, обернувшись ко мне.
— Сейчас-то где он? — сказал Петрович. — Вот, брат, голова с мозгами. Адрес-то не взяли!
Это относилось ко мне, и я почувствовал себя очень виноватым. В самом деле, надо найти Сиверса. Мастер с лесопилки, скрипя табуреткой, требовал, чтобы Шатохина дала ход делу через горсовет.
— А может, не отцу, так другому кому он адрес дал? — спросила она меня, и я ощутил, как тяжесть вины на моих плечах еще больше выросла.
— Не знаю, — выдавил я.
Надо сказать всем в Клёнове: отцу, Ваксанычу, ребятам. Может, кому и оставил. И тут я мысленно представил себе, как много еще предстоит рассказать в Клёнове…
В поезде на обратном пути я думал всё о том же. Эх, зачем доверился дядя Ефрем! Почему не догадался! Подальше бы ему держаться от Сиверса, от Доннеля, тогда он дожил бы до советской власти, стал бы знаменитым изобретателем… Вся моя, с раннего детства взращенная, неприязнь к Сиверсу поднималась во мне и становилась глубокой, недетской ненавистью.
За окном проплывали Дивные горы. С них сползал снег, и я, казалось, различал на рыжих склонах впадины асфальтитовых колодцев. Мрачно смотрели на меня Дивные горы, прославленные своей красотой.
СИВЕРС ИСЧЕЗ
В Клёнове никто не мог сказать в точности, где находится Сиверс. От нас он поехал на Кавказ, — так утверждал дядя Федя, отвезший Сиверса на станцию. Но дядя Федя был мужик забывчивый, рассеянный. Он постоянно терял что-нибудь. При этом он хлопал себя по бедрам и произносил нечленораздельные, кудахтаюшие звуки. На слова дяди Феди положиться было нельзя. И к тому же, разве это адрес — Кавказ!
Дома у нас творилось невообразимое.
— Что? собственно, мы можем предъявить Сиверсу? — вопрошал отец. — Там, в Дивногорске, его лучше знают, но всё же… Свидетелей нет. Очернить человека — проще пареной репы. Я сам не поклонник Сиверса, но убийство! Боже мой!
И отец хватался за голову.
— Ты вечно успокаиваешь, преподобный ты Никола, — задорно ответила тетя Катя.
— Глупости, — сердился отец. — Я стремлюсь быть объективным. Всю жизнь стремлюсь…
— Ну, мы неученые, таких слов не знаем, — пожимала плечами тетя Катя, хотя отлично понимала, что? значит быть объективным. Отец постоянно подчеркивал свою объективность.
И всё-таки тетя Катя не решалась обвинить Сиверса. Она колебалась. Такой вежливый, приличный, воспитанный человек, и вдруг — убийца! Отец уверял, что искать Сиверса всё равно бесполезно: срок давности для возбуждения уголовного дела истек.
Тетя Клава почти не участвовала в дебатах. Можно было даже подумать, что ей безразлично, виновен Сиверс или нет. Выслушав новости, которые я привез из Дивногорска, тетя Клава часа полтора просидела на одном месте как оглушенная. Посуду не мыла, со стола не убирала, только молча сидела и шевелила пальцами узловатых рук. Потом она вышла, крепко стукнув дверью, и вернулась пьяная. Опять был крупный разговор между нею и отцом. Тетя Клава кричала, что ей наплевать на срок давности, — ей нужна справедливость. Она сама будет искать Сиверса и расправится с ним, а отец пусть въезжает в рай на осетре.
Что до меня, то я полностью разделял гнев тети Клавы. Я тоже не мог примириться с мыслью, что приказчику Доннеля всё сойдет с рук. Нет, ни в коем случае! Заступившись за тетю Клаву, я нагрубил отцу и несколько дней не разговаривал с ним. Упорным молчанием отвечали мы с тетей Клавой на рассуждения отца:
— Закон есть закон. Если вы не желаете с ним считаться, это доказывает лишь вашу ограниченность. Жаль, не спросили вашего мнения при составлении законов, Клавдия Сергеевна. Или вашего, Сергей Николаевич. Михаил Иванович Калинин не знал, очевидно, что есть в Клёнове такие головы…
Отец убеждал не только нас, но и себя. У всех было ощущение чего-то невыполненного, какого-то долга перед дядей Ефремом.
Но так продолжалось недолго.
Директором школы был у нас коммунист, бывший боевой комиссар Иван Назарович Масловский. Он нередко заходил к отцу — побеседовать и сразиться в шашки. Мне Масловский нравился своей прямотой. Помню, он как только появился у нас в доме, сразу заметил несходство двух сестер — моих теток — и спросил отца: «Что за причина? Одну словно всю жизнь пряниками кормили, другая глаз не поднимает. Горе на сердце есть?» Отец ответил, что у Кати характер легкий, воробьиный характер, а историю Клавы передал подробно…
Иван Назарович был в курсе всех наших дел. Он поощрял работу с краской Любавина, близко к сердцу принимал судьбу химика-самоучки.
Конечно, Масловский тотчас же вник в наши споры и сомнения по поводу виновности Сиверса и срока давности. И когда Иван Назарович стал высказывать свое мнение, — а он по каждому вопросу старался отчетливо определить свое мнение, — я с восторгом смотрел на него. Казалось, сама справедливость говорит его устами:
— Тут не простая уголовщина. Враг рабочего класса, царский шпик, главарь охранников! Нет, извините, для таких типов срока давности не существует. Это дело политическое.
Не только я и тетя Клава, — все мы ободрились и повеселели, услышав это. Словно большая тяжесть свалилась с плеч. Значит, от кары Сиверс не уйдет, была бы только доказана его вина. Тут же, за чайным столом, как бы под председательством Ивана Назаровича, порешили: ехать тете Клаве в областной центр, требовать расследования.
— Однако не мешало бы вам заглянуть в литературку кое-какую, — сказал дотошный Иван Назарович, считавший, что каждое начинание нуждается в солидной подготовке. — Я вам принесу завтра.
На другой день я, придя из школы, застал в мезонине тетю Клаву. Она сидела за моим столом. Обернувшись ко мне, она прижала пальцем недочитанное место.
— Сиди, — сказал я. — Я еще за водой схожу.
— Здесь потише, так я… Голова-то старая, вколачивать надо, — молвила тетя Клава строго, как будто имела в виду кого-то другого.
С тех пор тетя Клава, улучив свободную минутку, занималась в моем мезонине. Я знал: коли на столе порядок, карандаши собраны и вставлены в стаканчик, учебники мои и тетрадки уложены в две стопки по краям — значит, была тетя Клава. Иногда она спрашивала у меня значение трудных слов — «кассация», «высшая инстанция», а я бежал к отцу и приносил ответ. Через неделю тетя Клава уехала.
Отлично помню ее возвращение из областного города. Весна была холодная, и тетя Клава вошла толстая от накрученных серых шалей. Не говоря ни слова, она освобождалась от них и бросала на лавку. Став прежней тетей Клавой — сухой, скуластой, сказала резко:
— Ищут его… Видишь, он не значится нигде, Сиверс. Пропал.
Эх, а мы не знали! Схватить его надо было, когда он приезжал сюда. Приехал, продал дом кулаку, положил в карман деньги и укатил преспокойно. Какая досада!
Сколько раз я воображал себя обличителем, выступающим на суде против Сиверса. Я даже пробовал произнести речь, как наш волостной адвокат Петелин — с подвыванием и отчаянной жестикуляцией.
За обедом отец хватался за голову и повторял:
— Чудовищно!
Тетя Клава брала горячие чугуны руками. Тетя Катя спрашивала:
— А дети есть у него?
— Один сын, за границей, ровесник Сергея.
— Какой он мне ровесник! — вставил я.
— В одних летах, следовательно, ровесник, — спокойно заметил отец.
— Мало ли что, — буркнул я.
Отец и тетя Катя улыбнулись, но тетя Клава сохранила серьезность.
Сиверса не нашли. Скоро имя его перестало упоминаться у нас в семье. Но тетя Клава не перестала читать книги в моем мезонине. Иван Назарович предложил ей учиться на курсах женщин-активисток.
— Что вы! Где мне! — отнекивалась она. — Там всё молодые, поди…
Но мы все насели на нее, и она, подумав два дня, согласилась.
Вообще, какой это был значительный год!
Поездка в Дивногорск была как бы рубежом в моей жизни. Чем больше я думаю об этой поездке и о последующих событиях, тем яснее становится, что они не только совпали с порой моего возмужания, но и ускорили его. Помогли ответить на вопрос — кем быть. Той же весной преподавательница географии сказала мне:
— Почему бы тебе, Сережа, не сделать доклад о Дивных горах?
Я, собственно, ждал этого. Мы как раз проходили Европейскую часть СССР. Мое путешествие в Дивногорск прославило меня на всю школу и на время затмило даже труды Ваксаныча и его помощников.
— Во-первых, передай свои впечатления. О Дивных горах в песнях поется. Ах, жаль, ты не видел их летом! Тогда они во всей красе, зеленые, как… как…
Она не нашла сравнения, и, к тому же, одышка мешала ей говорить длинными фразами. Когда-то давно, когда у нее не было одышки, не было грузной полноты и серебристых усиков на верхней губе, Анна Ивановна побывала во многих уголках России.
— Не знаю, — сказал я. — По-моему, ничего там красивого нет.
Я вспомнил рыжие склоны с пятнами грязного снега, промоины, которые представлялись мне заплывшими асфальтитовыми колодцами. Нет, вовсе не о красоте Дивных гор я собирался говорить в докладе. О чем же? Это я сам недодумал до конца.
Дома, просматривая книги по географии, я набрел на рисунок, не раз встречавшийся мне и прежде. Голая песчаная равнина. Из почвы вырываются столбы пламени. Среди них, словно охраняемый огненными часовыми, храм с плоской крышей и сводчатым входом.
Рисунок давно был в памяти, но в текст я не вчитывался до сих пор. А тут бросилось в глаза: «Нефтяной газ». У храма огнепоклонников в Баку горел нефтяной газ — тот самый, который губил рабочих Доннеля в Дивногорске. В Баку ему почему-то воздавались почести! Конечно, я прочел главу географической хрестоматии до конца. В докладе нельзя обойти молчанием нефтяной газ. Но тогда уж придется объяснить, откуда он взялся. Если я этого не сделаю, то дотошный Витя Шилов, наш отличник по всем предметам, непременно задаст вопрос. Он хотя и мечтает стать, по примеру отца, начальником железнодорожной станции, но интересуется решительно всем, и Зина Талызина недаром сказала о нем: «Не голова, а Дом советов». «Дом советов» спросит о газе, непременно спросит, — мысль об этом заставила меня погрузиться в следующую главу — о нефти.
Доклад прошел хорошо. Зина Талызина, как водится, многозначительно обещала, что Тосе Петелиной будет сообщено о моих успехах. Образ Тоси, учившейся в городе, начал уже расплываться. Но как признаться в этом Зине! Она сочла бы меня самым низким предателем.
Жене Надеинскому — председателю кружка краеведов — я в тот же день заявил:
— Надо организовать географическую секцию. Может, и у нас обнаружится что-нибудь.
— Что?
— Ну, нефть или железо, например.
— Мы у-у-ужо? обсудим, — кивнул Женя. — Я посоветуюсь с Ваксанычем и с Анной Ивановной.
Женя важничал в последнее время. Чем больше росла моя слава путешественника, тем больше он задирал нос. Должно быть, не хочет уступать пальму первенства, — так оценил я его поведение. Впрочем, возможно, я ошибаюсь? Я обменялся мнениями с Зиной, и она — совесть нашего класса — подтвердила:
— Жуткий воображуля.
— Слушай, Зина, — вдруг решился я спросить. — Ты сама в кого-нибудь влюблена?
— Да. Но этого никто никогда не узнает, — испуганно проговорила она. — Ни одна душа.
— И он не будет знать?
— Нет, ни за что на свете.
— И мне не скажешь?
— Ну уж нет. Во всяком случае, не тебе.
— Глупо.
— Видишь ли, я умею скрывать свои чувства, — ответила Зина тоном такого превосходства, что я не нашел, что ответить.
В июне, после окончания занятий, географическая секция совершила первый выход в поле. Мы осматривали берега речки Сонохты, огибающей Клёново и пропадающей в березняке. Предполагалось обследовать Сонохту до самого районного города, где она впадает в Волгу, но так далеко мы не дошли: задержались в березняке. Там, на обрывах, нависших над рекой, ясно можно было разглядеть земные пласты. Ни дать ни взять — разрез слоеного пирога! Однако Сонохта нас не порадовала ни железом, ни нефтью…
В девятом классе у меня окончательно сложилось решение: поступить на геолого-географический факультет.
ЗАГАДКА ДИВНЫХ ГОР
Настал, наконец, счастливый миг — в университетском коридоре вывесили списки принятых, и я прочел там, боясь верить собственным глазам:
«Ливанов Сергей Николаевич».
Я студент!
Еще недавно был выпускник клёновской школы Сергей Ливанов, оглушенный громадным городом, растерявшийся в круговороте незнакомых лиц и робко мечтавший встретить земляка, неловкий юноша в толстовке, до боли в затылке уставший считать этажи высоких домов, шагать по бесконечным, размякшим от жары тротуарам. Фамилия этого юноши писалась до сих пор карандашом или чернилами, так как в клёновской школе не было машинки, а здесь, в списке, отпечатанном фиолетовыми буквами, она выглядела необычно, словно речь идет о другом человеке. И в самом деле — появился на свет студент Ливанов, Сергей Николаевич. Студент!
Теперь, когда я вспоминаю свои университетские годы, мне ясно, что студент Ливанов еще долго оставался мальчишкой. Во всяком случае, первый курс был пройден в состоянии умиления и восхищения решительно всем: городом, товарищами, профессорами. Курс геологии читал у нас профессор Подшивалов. Вот уж кого, при всем желании, я не мог сравнить ни с одним клёновцем! Достаточно взглянуть на него: оленья малица, отороченная ломаным якутским узором, мягкие вышитые унты с раструбами выше колен, меховая шапка с ушами, которые не завязывались на макушке, а свободно ниспадали на грудь.
Подшивалов провел десять лет в царской ссылке, в Сибири, обнаружил там залежи угля, а при советской власти отправился в те же места с экспедицией и подробно обследовал запасы, оказавшиеся колоссальными. Он бил медведей картечью и рогатиной, передавали, что квартира его увешана шкурами таежных зверей. Он много раз тонул, замерзал, зарывался в снег от бурана, — приключения Подшивалова стали легендой.
Для лекций Подшивалова отводилась самая большая аудитория, двухсветная, выходящая окнами на Неву. Иногда даже в этом зале не хватало мест, и опоздавшие слушали стоя. Подшивалов читал лекцию без конспектов, на память (а она у него была изумительная), называл возраст пластов, состав минералов, на доске размашисто чертил схемы залегания. Каждая лекция его была путешествием, увлекательным путешествием в недра.
В перерыв его обступали студенты, и он охотно отказывался от короткого отдыха, чтобы ответить на вопросы. Наконец и я, собравшись с духом, подошел к нему.
— Петр Евграфович, — начал я. — В Дивногорске есть асфальтиты и газ…
— Да, да, есть, — отозвался он, круто, всем туловищем, поворачиваясь ко мне. — Вы сами оттуда, да?
— Не совсем, — ответил я.
Меня оттирали другие, но он с улыбкой потянул меня к себе:
— Асфальтит, да, конечно… Загустевшая древняя нефть. Разработки заброшены, кажется?
— Да. Газ очень сильно пошел…
— И вышел весь, — усмехнулся он. — И асфальтита там немного. По нынешним запросам — самые пустяки. Вас интересуют перспективы промышленного освоения? Нефти там нет.
Больше я не спрашивал Подшивалова. Но он запомнил меня.
Однажды после лекции он подозвал меня, указал на молодого человека в синем костюме в полоску, по виду не студента, и сказал:
— Познакомьтесь. Это аспирант Касперский. Все справки даст по Дивногорску.
— Пожалуйста, к вашим услугам, — произнес тот скороговоркой, наклонив голову. — Но я-спешу, к сожалению. Вы прово?дите меня? Безумный цейтнот, понимаете…
Что значит цейтнот, я понятия не имел, но не показал виду. Мы вышли на набережную. Касперский шагал, придерживая меня за локоть, и говорил тоном старшего. Он в самом деле старше меня лет на пять, а главное, уже готовится защищать диссертацию. Мое восхищение новичка перед университетом, профессурой тотчас распространилось и на Касперского.
Говорил он то же самое, что и Подшивалов, только гораздо подробнее. Да, асфальтиты — это остатки древней, загустевшей и потому уже непригодной нефти. Газа очень немного. Правда, сперва он вырывался из асфальтитовых ям бурно и остановил разработку, но скоро иссяк. Словом, для нефтяников перспектив никаких.
— А для кого? — спросил я.
— Ну, боюсь, не сумею в короткое время… Моя работа — чисто теоретическая. Дивногорск — это ключ, понимаете, ключ, который может открыть геологическое прошлое огромной территории. Как бы вам изобразить… Дайте тетрадку! Нет, карандаш дайте!
На белой стене дома он начертил маршрут своей поездки, крестиком пометил Дивногорск.
— Вы нашли ключ? — доверчиво спросил я.
Касперский приосанился:
— Видите, геологическое строение здесь очень сложное, — и он набросал на стене схему. — У Подшивалова очень интересная точка зрения на вопрос… Я, в сущности, развиваю его взгляды.
Он объяснял, а около нас росла кучка слушателей. Два строителя в куртках и беретах, вымазанных штукатуркой, женщина с узлом белья, школьники.
— Вопросы имеются? — весело обратился к ним Касперский. — Нет?
Он засмеялся, осторожно кончиками пальцев отстранил штукатура и, не дожидаясь ответа, зашагал дальше. На минуту он, казалось, забыл обо мне и улыбался своим мыслям. Потом спросил:
— Интересуетесь нефтью?
— Нет, специально заниматься нефтью я не думал, — сказал я. — Я бывал в Дивногорске и вообще хотел знать, что там есть…
Он проворно сжал мне руку около запястья, снова помянул загадочный цейтнот и побежал к трамваю…
Шли месяцы, и Дивногорск оттеснялся в дальние закоулки памяти. Геология нефти и в самом деле не увлекала меня сама по себе, и не о Дивногорске, — о других, куда более далеких, краях мечтал я, намечая маршруты своих будущих путешествий.
В те годы студентов геолого-географического факультета можно было разделить на две группы: одна готовилась плавать в водах Арктики и зимовать на Диксоне или на Земле Франца-Иосифа, другая бредила Средней Азией. Меня полярные края отпугивали холодом и одиночеством. Мой путь — на юго-восток! Туда — на поиски металлов и угля для пятилетки! Всё, всё волновало мое воображение: караванные тропы, песчаные бури, схватки с басмачами и даже тропическая лихорадка.
Но вскоре мои мечты переменились.
ЧЕРНЫЙ КАМЕНЬ
Я был на первом курсе, когда наше Клёново стало колхозным.
Летом со станции я ехал на грузовике, придерживая ногами бочку с керосином для трактора, поминутно срывавшуюся с места. Шоссе чинили, машина тряслась по ухабистым объездам.
Если вам случалось приезжать на каникулы в родной дом, то вы, наверное, тоже с удивлением смотрели на постройки и вещи, знакомые с детства и вдруг ставшие совсем-совсем другими. Проснешься утром, лежишь и диву даешься: до чего всё сделалось маленьким и старым, пока тебя не было. И потолок навис до странности низко, не то что в студенческом общежитии.
За стеной катятся машины на Великую Чисть — на торфоразработки. Это громадные, тупорылые машины с высокими бортами; дом дрожит, словно трехтонный «ЗИС» зацепил его и потащил за собою.
Много перемен в Клёнове. В доме Сиверса — колхозный клуб, и самое название «приказчикова дача» быстро забылось. Сын кулака Нифонтова, владевшего дачей, ударил сельскую активистку, его судили в зале клуба при участии народного заседателя Клавдии Любавиной — моей тети Клавы.
Тетя Клава — и в суде и в правлении колхоза. Мой мезонин она превратила в свой рабочий кабинет, по вечерам щелкает там на счетах, разлиновывает бумагу для записи трудодней, ведет беседы с бригадирами.
Бригадиры с интересом расспрашивают меня об университете, о будущей моей специальности, — они ведь знали меня ребенком, и каждый из них считает долгом зайти к моему отцу и поздравить: «Вымахался сынок», «Ливановы все с головой». Отец смотрит праздником, тетя Катя уговаривает меня не спешить с женитьбой.
Первое время мне кажется, что я заехал от Ленинграда за тридевять земель, но потом — странное дело — Клёново словно подвигается к городу, к университету всё ближе и ближе, потому что у клёновцев открылись глаза на широкий мир, им понятнее теперь мечты и заботы студента.
Однажды я застал у тети Клавы бригадира-полевода Федора Матвеевича. Передо мной был тот самый рассеянный мужик, который отвозил когда-то Сиверса на вокзал. Впрочем, рассеянности в нем теперь стало как будто меньше, он подтянут, побрит, старается говорить деловито, твердо. Отец утверждал, что прежний пришибленный, потерянный вид дяди Федора проистекал от бедности и неустроенности его жизни, от тревоги за семью в семь ртов, а вообще он человек дельный и неглупый.
Узнав от тети Клавы, что я буду геологом, дядя Федор вспомнил прошлое.
— Знал я одного геолога, — начал он. — Некто Пшеницын, Кирилл Степанович. Я ведь тоже мотался по свету порядочно, только в голову не входило, на подметках отражалось единственно. Так вот, насчет геолога я начал…
Пшеницын! Я ведь слышал о нем, помнится. Это имя потянуло за собой другое — Ефрема Любавина. Ну да, еще в Дивногорске мне рассказывали про Пшеницына. Он служил на асфальтитовых копях, боролся вместе с рабочими против Доннеля, потом был арестован. Любавин хранил в своем сундучке вместе со своими тетрадками камешек, подаренный геологом, — должно быть образец породы.
Конечно, теперь я весь обратился в слух. Что же знает дядя Федор про Пшеницына, друга дяди Ефрема?
В десятом или одиннадцатом году — дядя Федор точно сказать не может — ватага клёновских мужиков двинулась на заработки в Дивногорск. Сиверс жил там, был управляющим асфальтитовыми разработками и представителем фирмы Доннеля по губернии.
Одних мужиков Сиверс отрядил цистерны ставить, других — на ремонт пристани, а дяде Федору, деду Семену покойному и еще двоим объявил, что они будут сопровождать геолога. Мужики и слова такого не слыхали — геолог. Духовное звание, что ли? Но нет, при чем духовное, не для крестного хода нанимались. Тот геолог и был Пшеницын, Кирилл Степанович — молодой человек приятной внешности, обходительный, обращавшийся к мужикам не иначе, как на «вы». Дед Семен ворчал: мол, что за честь, когда нечего есть, даст ли этот господинчик заработать? Кирилл Степанович первым долгом спросил: есть ли грамотные. Назвались двое — дед Семен и Михаил Стрюков. Кирилл Степанович вздохнул и повел свою бригаду к бурильному станку. Он был разобран, лежал на дворе под навесом и выглядел грудой стальных труб. Пшеницын стал объяснять, да так хорошо и понятно, что дяде Федору геолог понравился еще больше. Оказалось, Кирилл Степанович работает в Дивногорской губернии не первый год. Он нашел нефть в земле, и теперь остается еще пробурить в нескольких местах и окончательно выяснить, где она залегает. А потом Доннель заложит промысел, и народ получит дешевый керосин. Сейчас его из какой дали возят! С Кавказа! Дед Семен ворчал: мы-де не дивногорские, мы клёновские. Но тут дядя Федор встал на защиту геолога и принялся доказывать деду: Клёново от Дивногорска всё равно ближе, чем от Баку. И отправились клёновцы с геологом бурить землю. На привалах Кирилл Степанович читал мужикам Тургенева. Семен — тот сапоги латал на всю партию и отказывался слушать. Некогда, дескать.
Дядя Федор то и дело отклонялся в сторону во время рассказа, и я перебил его:
— Нефть есть? Видел ты ее?
— Постой, — сказал он. — От Дивногорска, от ям асфальтитовых прошли мы всю губернию, бурили в пяти или шести местах. Инструмент высверлит кусок камня — небольшой брусочек. Понюхаешь — крепенько отдает керосином. Были у меня такие камешки взяты на память, да ведь тогда пешком всё… Котомка во как плечи натрет! Я и выкинул их из котомки. Ну, на другое лето мы, мужики-то, сами подались в Дивногорск. Нельзя ли на промысел устроиться… Какое там! Степь как была пустая, так и осталась, — один ветер да суслики. Хотел я Пшеницына повидать, да, вишь, — его уже не было. Сиверс нам: Пшеницына, мол, арестовали за бунт и услали в Сибирь. Сами, говорит, виноваты, понадеялись на Пшеницына. Пеняйте на себя! И даже говорить нам запретил, что мы искали с Пшеницыным. Это-де в секрете надо держать, чтобы народ не смущать. Одним словом, велено было забыть про наши труды с Кириллом Степановичем. Вот какое дело, Сереженька! Извините, вы теперь Сергей Николаевич. А на асфальте, совершенно верно, заварушка была, не одного Пшеницына схватили. И супруга ихнего, — он показал на тетю Клаву, — тогда сгубили… А керосин, — неожиданно закончил дядя Федор, — при царе и вправду дорогой был.
— Дорогой, — подтвердила тетя Клава.
— Мы вот толковали с Клавдией, — сказал бригадир. — Виноват ли Пшеницын-то?
Дядя Федор в школу не ходил, но грамоту знает, начал изучать ее с геологом, а вполне осилил уже при советской власти и понимает, что? пишут в газетах. Капиталисты в море выбрасывают мешки с зерном, только бы удержать цену на хлеб. Не так ли поступал и Доннель! Ему-то чем дороже керосин — тем лучше.
Тетя Клава кивала, ласково глядя на бригадира. Да, и Доннель так поступал, наверно.
В сознании моем возник Ефрем Любавин и встал рядом с геологом Пшеницыным. Может быть, и Пшеницына постигла та же судьба. Он нашел залежи нефти, хотел дать мужикам дешевый керосин, а Доннель скрыл нефть. Скрыл не только от клёновцев — от России…
Я подумал, что в наших руках нить еще одного преступления Доннеля, и, как знать, возможно, это преступление до сих пор не раскрыто и нефть, обнаруженная Пшеницыным, никому неведома.
Но если так, то профессор Подшивалов и его ученик Касперский неправы!
Еще в прошлом году до университета докатились вести, что в Приуралье нашли нефть. Нефть на равнине! Правда, нефть дает только одна скважина, но теория, отрицавшая нефтеносность русской равнины, была поколеблена. Разгорелись споры. Я не следил тогда за этими спорами. Но теперь почувствовал, как они важны.
Знает ли Касперский о работе Пшеницына? Конечно, должен знать. Интересно, что? он скажет…
Сейчас, вспоминая те каникулы в Клёнове, я могу сказать, что именно тогда начали меркнуть мечты о Средней Азии и на смену неопределенной, наивной романтике явились серьезные цели, стали вырисовываться маршруты, ставшие впоследствии моей трудовой жизнью.
Вернувшись в Ленинград, я первым долгом рассказал о Пшеницыне и своих сомнениях друзьям.
Мы жили втроем в комнате общежития: я, Ваня Щекин и Кондратий Алиханов.
Щекин был невысокий, верткий, скуластый крепыш. Ему было свойственно то состояние упоения жизнью, какое бывает у очень здоровых, чистых сердцем. Он хотел слушать лекции всех видных профессоров, переплыть Неву, сыграть в волейбол со всеми командами Ленинграда, — и всё как можно скорее. Он всегда куда-нибудь тащил меня. Утихал он только за едой да еще в присутствии чернокудрой студентки Маши Элинсон, о которой пели:
Есть студентка Элинсон,
Ровно камень аль бетон.
Серые глаза Вани делались большими и жалобными, когда он смотрел на неприступную Машу.
Кондратий Алиханов — родом с Терека, из казаков. Это нескладный, большерукий, смуглый гигант, с точками оспин на носу. Барашковая шапка словно приросла к его голове, остриженной бобриком. Алиханова нельзя представить себе без казацкой шапки, без струйки мелких черных пуговок по груди от высокого тесного ворота. В прошлом у Алиханова — схватки с интервентами, рабфак. Он самый старший среди нас.
— Вот что, — сказал Алиханов и, скрипнув табуреткой, повернулся ко мне. — Научное студенческое общество зачахло у нас. Думали мы на партбюро, сидели и думали… Как расшевелить, а? Доклад об экспедиции Пшеницына прочитать ты можешь? По-моему, можешь.
Щекин фыркнул:
— И вдруг Подшивалов забредет на его доклад? Наш Сереженька сразу языка лишится.
Он попал не в бровь, а в глаз. Застенчивость, которой я страдал в начале своей студенческой жизни, еще не вся выветрилась. Перед Подшиваловым я как-то странно робел. Должно быть, я поставил этого простого и доброго человека на очень высокий и вычурный пьедестал.
— Иди к черту, Иван, — огрызнулся я. — Серьезный вопрос, а ты…
— Поругайтесь у меня! — цыкнул Алиханов. — Так как же, Сергей?
— Не знаю… У меня, понимаешь, минералогия не сдана.
Он сказал, что время найдется. Он прибавил еще, что договорится с Нюрой Ушаковой — секретарем нашей ячейки, — и я могу рассматривать доклад о Пшеницыне как комсомольское поручение. Но я, собственно, не отказывался. Я просто не мог решить сразу, сумею ли я сделать доклад в научном обществе. Там бывают не только студенты, но и преподаватели; Подшивалов, в самом деле, может прийти.
— Но ты держись, Сергей, — предупредил Алиханов. — Бой будет.
Он высказал то, о чем я сам размышлял в эту минуту. Конечно, у меня будут противники.
— Первым налетит Касперский, — сказал я.
Черные глаза Алиханова иронически сузились, как всегда при упоминании о Касперском. Я знал, почему. Алиханов называет Касперского белоручкой. Геологом-белоручкой, который не поднимется лишний раз по обрыву, пожалеет свои брюки.
— Касперский сейчас важный ходит, беда! — вставил Щекин. — Книжку всем сует.
Диссертация Касперского о Дивногорске вышла отдельным изданием. Ее похвалили в научном журнале. Касперского оставили при университете.
— Всем профессорам преподнес свое произведение, — продолжал Щекин. — С трогательной надписью.
— Не только профессорам, — возразил я. — Мне он тоже подарил. Вообще, ребята, Касперский вовсе не плохой парень.
— У тебя все хорошие, — отрезал Щекин.
— Хватит языки чесать, — вмешался Алиханов. — Сергей, доклад за тобой. Так?
— Хорошо, — сказал я.
— Добре, Сергей, действуй… Глинистый раствор при бурении служит для того, чтобы…
И он снова припал к книге. Занимался Алиханов с яростным упорством. При этом его могучее, жилистое тело принимало самые разнообразные положения: он то вытягивался на койке, держа перед собой книгу, то клал ее на подушку и садился, обхватив руками колени, то наваливался на маленький, хрупкий столик так, что тот трещал. Можно было подумать — Алиханов одолевает науку не только умственным напряжением, но и силой своих мускулов.
За подготовку к докладу я принялся на следующий же день: разыскал Касперского и спросил, знает ли он что-нибудь о Пшеницыне.
— Да. Геолог, революционер. Умер в ссылке. Кажется, в шестнадцатом году.
Я попросил указать, имеются ли печатные труды Пшеницына и что? вообще есть в геологической литературе о нем и его экспедициях.
— Зачем вам? — удивился аспирант.
Я объяснил.
— Модные влияния, — улыбнулся он.
Подходящего ответа у меня не нашлось, и я промолчал. В этот миг я впервые, должно быть, почувствовал в Касперском неизбежного оппонента.
— Я должен огорчить вас, Сережа, — произнес он. — Пшеницын не создал сколько-нибудь солидных трудов. Небольшие заметки в журналах, в газетах, вот и всё. Зато в беллетристике он упражнялся весьма серьезно. У него есть неплохие зарисовки пейзажа, народного быта.
— Пшеницын был поэтической натурой, — сказал я, вспомнив рассказ дяди Федора.
— Настоящий ученый чужд беллетристики, — молвил Касперский строго. — Что ж, я могу вам дать библиографию, если вам хочется. Только спишите здесь, — велел он, доставая из портфеля пачку глянцевых карточек. — Навынос я не даю.
Я списал, вернул ему карточки, и он — дружелюбно, но с ноткой иронии — пожелал мне успеха.
— Работы Пшеницына, разумеется, представляют исторический интерес, — молвил он. — Некоторый исторический интерес. Но и только. Если вы рассчитываете на большее, — разочаруетесь, уверяю вас, Ливанов.
— Увидим, — сказал я.
ПРЕСТУПЛЕНИЕ ДОННЕЛЯ
С тех пор я стал проводить вечера в Публичной библиотеке, с головой ушел в комплекты старых газет и журналов. Не вдруг мои старания были вознаграждены: я обнаружил несколько очерков из крестьянской жизни, написанных Пшеницыным, статьи о признаках нефти в Башкирии, которую он обследовал в 1908 году, а вот о второй его экспедиции — в Дивногорской губернии — почти ничего! Наконец я набрел на открытое письмо Пшеницына, помещенное в газете «Отголоски» в апреле 1910 года. Имя Доннеля сразу же бросилось мне в глаза.
Пшеницын писал живо, горячо, и я мог отчетливо представить себе происшедшее.
Зимой, накануне нового, 1909 года, Пшеницын, будучи в Екатеринбурге, получил письмо, написанное собственноручно Доннелем: он узнал об изысканиях Пшеницына в Башкирии, восхищен его умением и настойчивостью и предлагает ему место у себя. Он, Доннель, рад будет поручить Пшеницыну геологические исследования в Дивногорской губернии, в районе своих асфальтитовых разработок. Там замечены сильные выходы газа. Можно предполагать нефть.
«Письмо нефтяного туза, — пишет Пшеницын, — явилось для меня как бы новогодним подарком. Принимая предложение, я надеялся, что необозримые капиталы этого богатейшего предпринимателя будут употреблены на благо России, на использование ее подземных ценностей».
Как поясняет Пшеницын далее, такой маршрут был облюбован им давно. Он не раз высказывал мнение, что из Башкирии к самому Дивногорску тянется нефтеносная полоса. Доннель дает ему возможность доказать это!
Два года провел Пшеницын в Дивногорске и губернии. Он числился геологом асфальтитовых копей: в летние месяцы вел изыскания — те самые, в которых участвовал клёновский дядя Федор, а в холодную пору обрабатывал собранные в поле материалы.
«Доннель вынуждал меня держать мои занятия в тайне и ничего не публиковать без его разрешения. Управляющий Сиверс, как я после узнал, учредил контроль за моей корреспонденцией, дабы не просочилось ничего, что могло бы рассматриваться как секрет фирмы», — прибавляет Пшеницын не без горечи.
Странное чувство овладело мной, когда я сидел, склонившись над пожелтевшей газетной страницей, — я словно читал между строк. Я видел геолога — он представлялся мне сухощавым человеком с бледным добрым лицом, видел рабочих — оборванных, измученных людей. И невольно я думал о Ефреме Любавине. Ведь он был на копях в то время, он и Пшеницын должны были хорошо понять друг друга…
«Результаты двухлетнего изучения местности подтвердили мои прогнозы относительно нефтеносности земель, простирающихся от Дивногорска к южному Уралу. Нефть залетает на большой глубине. Ручной буровой станок, которым я располагал, позволил нам извлечь лишь образцы пропитанного нефтью песчаника, лежащего близ поверхности».
Черный камень! Тот самый пласт черного камня, кусочки которого таскал в своем заплечном мешке дядя Федор! И такой же образчик хранился в сундучке Ефрема Любавина — дружеский дар геолога Пшеницына.
«Подобные находки, по моему глубочайшему убеждению, твердо указывают на наличие жидкой нефти в более древних, нижележащих слоях, откуда часть ее поднялась в верхние слои и в них, под воздействием воздуха и других факторов, окислилась, загустела».
Выписав это место в свою студенческую тетрадку, я прибавил несколько саркастических и, как мне тогда казалось, уничтожающих фраз по адресу Касперского. Касперский не верит, что нефть мигрирует, передвигается из нижних слоев в верхние. И многие не верят, считают, что нечего искать ее внизу, не видят дальше бурового долота!
Пшеницын прав! Прав!
«Послав Доннелю отчет экспедиции, я одновременно обратился к Доннелю с целью испросить средства на более глубокую разведку бурением, более сильными станками. Письменного ответа я не получил, но меня пригласил вскоре управляющий г-н Сиверс и, очевидно на основании инструкций от Доннеля, начал речь весьма курьезную».
Нефтяной король, г-н Доннель, доволен данными экспедиции. Он благодарит Пшеницына, выделяет суммы для награждения геолога, но планы создания промысла неосуществимы: цены на нефтяном рынке падают и без того. Даже слух о новом месторождении может поколебать курс акций. Пшеницыну нужно будет еще раз проехать по тем же местам, и одному.
«Несколько удивленный, я спросил г-на Сиверса, не соблаговолит ли он объяснить мне, чем вызвана такая необходимость. Если г-н Доннель обнаружил какие-либо пробелы в отчете, то восполнить их в одиночку, без людей и аппаратуры, представляется затруднительным. То, что я услышал вслед за тем от г-на Сиверса, побивает все рекорды цинизма. «Дельце деликатное, и следует стараться избегать огласки», — так начал г-н Сиверс, а далее от имени г-на Доннеля предписал мне буквально следующее: в местностях, где я производил изыскания, договориться с сельскими старостами и волостным начальством, чтобы они не допускали на свои земли геологов и не разрешали добычу нефти. Засим г-н Сиверс положил передо мной образчик требуемого соглашения — документ, чудовищный по своему назначению! Мне предлагалось собирать подписи, втягивать в эту преступную сделку наше крестьянство, выплачивать за это деньги, или, проще говоря, действовать подкупом! Меня понуждали скрыть то, что я сам стремился извлечь из земных недр на свет! Естественно, согласиться на это значило бы потерять всякую совесть и стать сообщником самого откровенного разбоя. Я обращаюсь к вам, г-н редактор, дабы через посредство вашей уважаемой газеты мог прозвучать и дойти до слуха общественности голос русского геолога».
Сидя за столом библиотеки, в тишине, под мирным светом люстр, я сжимал кулаки. Соседи с опаской поглядывали на меня.
«Отказ мой, — читал я дальше, — поставил меня в условия невыносимые, какие можно сравнить только с домашним арестом. Доннель не увольняет меня, оттягивает расчет, боясь, что я перейду к его конкуренту, и не разрешает публиковать материал экспедиции. Если бы не было верного человека, изъявившего готовность доставить настоящее письмо вам, г-н редактор, то оно не пошло бы дальше дивногорской почты».
Интересно, кто был этот верный человек? Ефрем Любавин?
Как сложилась дальше жизнь Пшеницына, я уже знаю. Это письмо в редакцию напечатано в августе, а в сентябре на асфальтитовых копях начались волнения. Пшеницына выслали. Любавин погиб. Как много говорит мне эта пожелтевшая страница провинциальной газетки, слежавшаяся, чуть припахивающая плесенью, как «Нива» в клёновских коробах на чердаке, и такая тонкая, что кажется — вот-вот обратится в ничто! Теперь можно считать фактом: Доннель скрыл дивногорское месторождение, сделал всё, чтобы замолчать данные экспедиции Пшеницына, вычеркнуть ее из истории.
Голос Пшеницына прозвучал одиноко. Я перелистывал столичные издания, отпечатанные на плотной, глянцевой бумаге, и в них находил статьи, угодные Доннелю, может быть даже написанные по его заказу, чтобы замять правду, опорочить Пшеницына. Пшеницына принялись обвинять в «легкомыслии», «научной несамостоятельности», называли его мечты о степных промыслах «чистейшим блефом».
Итак, судьба Пшеницына ясна.
Вопрос о дивногорской нефти тоже ясен, кажется. Судьба Пшеницына как будто прямо говорит — нефть он нашел!
Но через минуту та необычайная легкость, которая приходит к человеку с решением трудной задачи, исчезла, как ни хотелось мне удержать ее. Ведь всё, что я узнал, — только начало моего доклада в научном обществе. О дивногорском месторождении Пшеницыну ничего не дали сказать в печати. Мы даже не знаем, из каких слоев получены черные, пахнущие нефтью песчаники, которые были в вещевом мешке дяди Федора, в сундучке Любавина. Известно только одно: эти слои близки к поверхности. По мнению Пшеницына, поверхностные признаки нефти указывают на месторождение в глубине. Такие взгляды высказывали и до Пшеницына геологи, изучавшие русскую равнину; потом эти взгляды подверглись критике и одно время были даже забыты, а теперь снова утверждаются, — в спорах, в борьбе за освоение «второго Баку». Мне не отделаться общими рассуждениями. Скажут: подавай точные данные о геологии Дивногорской области, укажи, как образовалась там нефть и в каких пластах скопилась. И правильно скажут.
Касперский доказывает, что нефти под Дивногорском нет. Пусть в Приуралье есть, а здесь — нет. Я чувствую, что Касперский неправ, что он во власти старых, неверных взглядов. Но чем я опровергну Касперского?
А я должен опровергнуть, отомкнуть запертое Доннелем и Сиверсом, узнать, что? же заперли они… Лицо Сиверса, узкое лицо с опущенными книзу усами, маячит передо мной, я вижу его таким, каким видел в Клёнове. Отступиться сейчас, оставить поиски — значит позволить Доннелю и дальше держать под спудом богатство, принадлежащее нам, нужное пятилетке! Нет, ни за что! Чего бы это ни стоило — не отступлюсь!
Студенты, сидящие за одним столом со мной в тихом зале библиотеки, поглядывают на меня, — это оттого, что я яростно скриплю пером, разбрызгивая чернила. Наверное, я похож в эти минуты на одержимого. Помнится, мне хотелось объявить вслух, всему залу, открытые мною факты и тут же, при всех, принести клятву: не отступать, разгадать тайну дивногорских недр до конца, продолжить дело Пшеницына.
Что же теперь? Надо найти документы экспедиции. Лежат же где-нибудь карты, дневники, буровые журналы Пшеницына! Хранятся же где-нибудь образцы пород — черные камни! Неужели всё ушло с Доннелем за границу? Не может быть. Что-нибудь осталось. Во всяком случае, тяжелые ящики с брусками высверленной породы он вряд ли увез с собой, удирая из России.
Не один я ломал голову. Со мной вместе судили и рядили Щекин, Алиханов, Лара.
ЛАРА
Над моей койкой в общежитии висела открытка с видом на площадь Эль-Регистан в Самарканде. На обороте — по диагонали, к верхнему углу — бежала одна размашистая строчка:
«То солнечный жар, то ущелий тоска».
Поэт с филфака сказал мне, что это из Маяковского. В нижнем углу, мелко: «Лара».
Лара Печерникова ходила в лыжных шароварах и в тюбетейке, из-под которой тянулись до пояса две темные косы. Крутой взлет бровей — нарочно слегка подбритых — делал ее глаза чуть-чуть раскосыми. Со всеми на нашем курсе она была на «ты», с шиком ввертывала в свою речь таджикские и узбекские словечки.
Я слушал ее с завистью. Девушка, не старше меня, — и уже побывала на Памире, у отрогов Копет-Дага! Отец ее — начальник экспедиции. Иногда зависть мучила меня так сильно, что я, боясь обнаружить ее, только молча кивал в ответ на ее рассказы, и она отходила обиженная. Эх, если бы я мог тоже показать себя бывалым человеком! Но как?
Иногда она, поощряемая вниманием слушателей, начинала завираться, и меня так и подмывало дернуть ее за косу. Однажды я открылся ей в этом, и Лара сказала:
— Ладно, Сережа. Дергай. Только не больно.
— Уж как выйдет.
— Смотри, сдачи дам!
После этих вскользь и со смехом брошенных слов мы стали как-то ближе друг к другу.
На втором курсе мы всё чаще бывали вместе. Несколько раз я провожал ее домой, и всю дорогу до улицы Декабристов мы разговаривали без умолку. О чем? Обо всем, — не задумываясь, не стесняясь самых случайных ассоциаций, самых причудливых прыжков с одной темы на другую, то есть так, как разговаривают люди, способные стать очень близкими, но еще не догадывающиеся об этом. В марте в пролетах улиц свистели сырые ветры, серый снег распускался в синих проталинах на Неве. Мы не прощались у подъезда с лепными русалками, а шли дальше. Не думаю, чтобы я когда-нибудь в своей жизни ходил больше, чем в ту весну. Мы уходили по Невскому до Лавры и пешком же двигались обратно, пережидая набеги дождя в подъездах, любуясь, как стрелы дождя, невидимые среди серых домов, выбивают миллион фонтанчиков на черном, опустевшем асфальте. Мы бродили между колоннами Казанского собора, как в волшебном лесу. Трамваи для нас не существовали.
Особенно тянуло нас шагать вдвоем по граниту набережных, вниз по течению канала, туда, где за каменными громадами угадывалось море. Однажды незнакомая улица вывела нас к мостику, и мы вступили на небольшой остров. Из него росли, тесно сгрудившись, узкие дома с пятнами от едкого дыхания моря, — высокая, скалой вздыбившаяся куща строений, обнесенных рыбачьими сетями, упруго натянутыми на вешалах. Пахло смолой, в проливе качались, перестукивались бортами лодки, высокая баржа уткнулась в низкий берег. Мы долго гуляли по острову. Была белая ночь, фонари не горели, сиреневый закат лежал на воде.
Остров этот исчез за поворотом, когда мы шли обратно, и больше мы не могли его отыскать, как ни старались. Мы забыли туда дорогу. И теперь наши прогулки имели одну цель — найти остров. Не знаю почему, но мы ни у кого не пытались спрашивать. Мы ходили и ходили по приморским улицам — пустынным, широким, как будто раскрывающимся навстречу простору.
Дома у Лары я бывал редко. Старшую сестру ее — крупную девицу, с полными, тяжелыми руками, коротко остриженную — я видел мельком. И однажды — мы с Ларой стояли в конце какой-то улицы — она мне сказала:
— Я не хотела, чтобы ты видел Ксению.
— Почему?
— Все мои знакомые дуреют при ней. Досадно даже.
— Подумаешь, — сказал я. — Что в ней хорошего!
— Се-ре-жа! В моей сестре!
— Ах, прости!
— То-то же! Но ты не подумай, пожалуйста, что я в тебя влюблена.
— И ты не думай, что я в тебя! — сказал я с веселой запальчивостью, какая всегда присутствовала в наших встречах, и замолчал, смутившись.
Лара тоже умолкла.
Так вырвалось наружу наше первое признание. Но мы не знали этого. Невзначай коснувшись того, что зрело в нас, мы через минуту опять исступленно болтали, шагая в ногу по звенящим плитам набережной.
Я всеми своими заботами делился с Ларой — и, конечно, имя Пшеницына упоминалось в наших беседах очень часто.
— Понимаешь, Лара, — говорил я, — какие-то материалы экспедиции были в геологоразведочном институте. Но их затеряли. Касперский просил найти, но ничего не добился.
— А Касперский вообще добивался? Он ждет, что ему на подносе принесут образцы, — сказала Лара.
— Может, всё-таки мне толкнуться туда? Взять ходатайство из университета? А?
— Возьми, возьми. Только ты, Сережка, либо мямлить будешь невразумительно, либо петушиться. От тебя одного мало толку. Я вот думаю, кого я знаю в институте…
— Ты борца вызови ворочать ящики с керном, — пошутил я.
Среди знакомых Лары — а их великое множество — есть и спортсмены. Она играет в теннис и вместе с Ваней Щекиным болеет за ленинградских футболистов и тяжелоатлетов.
Ходатайство я выправил, и даже за подписью Подшивалова.
Был поздний час, мы с Щекиным, обжигаясь, пили чай из жестяных кружек, Алиханов, корабельным узлом скрутившийся на койке, повторял, закрыв глаза, кристаллографию. В дверь резко постучали, и только мы успели ответить, как в комнату влетела Лара — раскрасневшаяся, радостная:
— Сережа! Материалы Пшеницына есть…
Она говорила не только мне, — всем нам, так как дело, занимавшее меня, стало общим делом.
— Ларка! — вскочил я. — Ты просто невероятная прелесть!
Я стащил с нее перчатки. Она бросила пальто на спинку стула.
— Я тут ни при чем, ребята! Совершенно ни при чем. Только узнала раньше вас и прибежала… Это всё Лукиных.
Московского профессора Лукиных я знал по его статьям. Они очень помогали мне в подготовке к докладу. Лукиных стоял во главе энтузиастов среднерусской нефти, остроумно полемизировал с Подшиваловым. Лукиных был не только выдающимся ученым, но и государственным деятелем. Он работал в главном геологическом управлении. Оказывается, он предложил директору геологоразведочного института отыскать материалы старых экспедиций, положивших начало разведкам на нефть между Волгой и Уралом. И многолетние залежи кернов и документов, скопившиеся в институте, наконец сдвинулись с места. Образцы пород, добытых Пшеницыным, обнаружены.
— А буровой журнал? — спросил я.
Я еще не был на практике, но понимал, что образцы трудно оценить по-настоящему без бурового журнала, куда разведчики недр записывают характеристику каждого каменного кусочка и с какой глубины он вынесен на поверхность.
— Журнала нет, — сказала Лара. — Ни дневников, ни карт — ничего.
— Плохо, — вздохнул я.
— Степан Степанович — знаете, старожил института — говорит, что их не было. То есть, их не было еще в Баку, когда вывозили керны из бывшей конторы Доннеля.
Мы все бывали в институте на лабораторных занятиях и встречали Степана Степановича — кособокого, маленького старичка с трясущейся головой, который когда-то одолевал уссурийскую тайгу и хребты Сихотэ-Алиня. Степан Степанович — ходячая летопись института.
— Ясно. Документы Доннель увез, — сказал я. — Эх, черт! Ну, хорошо хоть керны есть.
Институт помещался в громадном здании на Васильевском острове. Широкие окна смотрели на пустыри, на серо-голубую весеннюю воду взморья, но я погрузился в вечные сумерки, как только вступил в коридор, окаймленный шеренгами шкафов. Двери справа и слева вели в лаборатории, где геологи, возвратившиеся из походов, изучали привезенные образцы пород. Там в свете дня сверкали сотни пробирок и линз.
— Сюда, сюда, молодой человек, — направлял меня Степан Степанович. — У нас и не новички блуждают, как в лесу.
И вот я в комнате без окон. Высокие, до потолка, шкафы заполнены ящиками. Один из них передо мной; у него выдвижная крышка, как у пенала, и внутри, переливаясь оттенками коричневого и желтого, плотно лежат каменные столбики. Их перепоясывают бумажные ленты с цифрами. Чернила выцвели, порыжели… Вот что добыл Пшеницын. Я вспомнил клёновского дядю Федора, — не он ли своими руками крутил буровой станочек, который вырезал эти столбики и извлекал их из недр. Здесь глины, пески, спрессованные в течение миллионов лет.
Затаив дыхание, я стал вынимать камни. Степан Степанович укладывал их на столе, следя, чтобы не нарушился порядок. Его узловатые пальцы бережно обнимали каждый образец. Мы молчали.
Серые, синеватые, красного оттенка образцы глины, желтые, серые, темно-серые песчаники. Доставая их один за другим, я словно погружался в дивногорские недра.
Где же черный камень? Где тот пропитанный нефтью песчаник, о котором писал Пшеницын? Черный камень, крепко отдающий керосином, камень, радовавший дядю Федора?
Мы перебрали весь керн во всех трех ящиках. Я нюхал каждый брусок темного песчаника, но нет — ни один не пахнет. Может быть, мелкие черные точки, рассыпанные по гладкой поверхности песчаника, несут весть о черном золоте? Но Степан Степанович — он стоит рядом в синем рабочем халате — еще сильнее трясет седой головой:
— Смолистые вещества. Нефти они не родня.
— Степан Степанович, как же так? Должен быть запах. Неужели выветрился? — спрашиваю я упавшим голосом.
— Запах долго держится, молодой человек.
Нет, за двадцать с небольшим лет не могли эти камни потерять запах. Мы исследовали их. Да, пустая порода! Степан Степанович смотрит на меня с тревогой и сочувствием.
— Хаос, хаос, — произносит он в сердца?х. — В кернохранилище что делалось, черт ногу сломит! Образцы на полу валялись! Я всегда говорил: хаос у нас тут… Это сейчас немного привели в систему, а то ведь войти невозможно было при Тарасове. Завхоз у нас был, некто Тарасов, ремонт затеял в хранилище. Всё разворошил…
— Степан Степанович! — воскликнул я. — Это не те образцы. Не Пшеницына!
— И очень просто. Тут такой хаос…
— Перепутали образцы, вы думаете? А может, нарочно подменили, Степан Степанович?
Говоря так, я испытывал такое же чувство, как в Дивногорске, в доме Парасковьи Шатохиной, когда узнал об убийстве дяди Ефрема. Да, и здесь преступление. Когда оно совершено? Возможно, керны подменили еще в Баку, в конторе Доннеля. Быть может, Доннель, удирая за рубеж, дал такое распоряжение. Или после. О Доннеле, о Сиверсе я привык думать, как о фигурах далекого прошлого, но ведь это не так. Быть может, враги действуют и теперь, таятся в этом здании, их грязные руки недавно касались этих кусков известняка и песчаника.
Сейчас, вспоминая эти минуты в кернохранилище, я могу сказать, что тогда я впервые почувствовал сопротивление врага. Начиналась борьба — борьба, ставшая неизбежной, как только я решился продолжать дело Пшеницына.
Степан Степанович, бедняга, покраснев от волнения, стоит растерянный, перекладывая образцы на столе. Подменили нарочно! Нет, этого добрейший Степан Степанович не может допустить.
— У нас, в институте! Что вы, молодой человек! Кто же у нас? Нет, нет, у нас порядочные люди… Завхоз? Так он же не геолог, едва грамотный человек. Специалистом надо быть, чтобы нарочно-то. Нет, нет… А я наших специалистов всех знаю, поверьте, молодой человек. Вы директору не брякните, я вас прошу, я сам доложу как-нибудь… Перепутали. Хаос ведь… Хаос!
В ту ночь долго не засыпали три друга в комнате общежития.
— Может, ты и прав, — гудел Алиханов. — Отчего нет? Такие случаи не бывали? Бывали. Старичок, ясно, думает: сам я чистенький, так и все чистенькие. Паразит какой-нибудь есть среди специалистов. Запросто! Это именно специалист мог, старик прав. Попробуй подменить так, чтобы сбить с толку геолога! Вообще — гадать трудно, кто? сделал и когда, но керны не те! Факт! Ты не стесняйся, Сергей, так и заяви.
— Я так и сказал, — ответил я. — Мы вместе пошли к директору.
Алиханов взялся было за учебник, но потом отложил его и продолжил:
— Да хорошо ли искали в институте? Ты попроси всё-таки, пусть еще пороются.
— Я просил, — заверил я. — Обещали.
Но ничего нового о Пшеницыне в институте не нашли. Что же до образцов, оказавшихся на месте пшеницынских, то их директор передал на экспертизу. Мнения разошлись. После долгих прений решение приняли такое: хотя данные об экспедиции Пшеницына, обнаруженные и представленные студентом С. Н. Ливановым, позволяют сомневаться в подлинности кернового материала, хранящегося в институте, тем не менее установить, откуда взяты данные образцы, не представляется возможным. При отсутствии бурового журнала Пшеницына и других документов проверить подлинность керна нельзя.
Мне сообщили это решение в канцелярии института, и секретарша сказала:
— Вас Степан Степанович хотел видеть.
Я застал его в лаборатории, залитой холодным светом зимнего солнца, — аккуратного, заботливого, как всегда. Голова его тряслась, но пальцы крепко держали пробирку. Он много думал обо мне, о моих поисках и вспомнил: у геолога Пшеницына был брат здесь, в Ленинграде.
— Высокий такой, в сюртуке, с бородой, похожий на Льва Толстого. Когда к нам керны привезли в Баку, из конторы Доннеля, старик заходил к нам, справлялся, есть ли пшеницынские. Адрес свой оставил. Вот, пожалуйста, — он раскрыл записную книжку. — Это на Песках.
— Где? — удивился я.
— По-старому это — Пески, по-петербургски. Четвертая Советская, восемь, квартира два. Сам-то он не жив, может. Но вы прогуляйтесь, молодой человек, я вам рекомендую. Вдруг почерпнете что-либо.
ЧТО БЫЛО В СУНДУЧКЕ?
Старик, похожий на Льва Толстого, давно умер. В квартире мы с Ларой застали его внучатого племянника — долговязого, вертлявого молодого человека в пиджаке песочного цвета. И волосы у него были такого же цвета. Весь он, за исключением золотых зубов, был какой-то линялый.
— Пра-шу, — говорил он в нос и глядя только на Лару. — Пра-шу садиться. Извините, не прибрано.
Мало сказать — не прибрано. В комнате, смотрящей окном в колодец двора и еще затененной широколистой пальмой, все вещи словно встряхнуло землетрясением. На полу, прислоненные к стене, стояли два пейзажа в золоченых рамах, на крышке рояля красовалась электрическая плитка. На круглом столе в углу чернел большой длинный ящик.
Оказывается, картины, пластинки Шаляпина и Галли Курчи в длинном ящике — всё продается, о чем молодой Пшеницын дал объявление. То, что мы пришли не по объявлению, несколько огорчило его.
— Геолог Пшеницын? — произнес он, обращаясь к Ларе. — Совершенно верно, мой дядя. Интересовались уже, были тут у меня.
— Кто? — спросил я.
— Один гражданин, — ответил он, небрежно скользнув по мне взглядом, и снова повернулся к Ларе: — Я продемонстрировал ему письма дяди, предлагая купить. Он тут читал и ничего не взял. Они якобы абсолютно не имеют значения. Я лично не могу судить, я совершенно другой специальности.
Он помолчал, надеясь, должно быть, что Лара спросит, какой, но она тоже молчала, и он сказал:
— Я артист кукольного театра.
— Ужасно люблю кукольный театр, — весело отозвалась Лара. — Я, знаете, долго думала, что куклы сами разговаривают. Так это вы, значит?
Он засмеялся:
— Э-э, да. Совершенно верно.
— Письма можно посмотреть? — напомнил я нетерпеливо.
Он перестал смеяться:
— Простите, я хотел бы всё же… Каковы ваши намерения? Вы купить смогли бы?
Я замялся, — не ожидал, что разговор примет такой деловой оборот. Но Лара всегда найдет, что сказать.
— Конечно, — решительно кивнула она, тряхнув косами. — Мы из университета. Университет, понимаете, изучает вопрос… Если письма нам пригодятся, то мы, конечно, купим.
Он стал шарить в старом, скрипучем комоде, а Лара подбежала к ящику с пластинками:
— Ах, какая масса у вас!
— Двести штук, — гордо сказал артист. — Громадная ценность. Желаете послушать?
— Мы торопимся, — отрезал я.
— Поставьте что-нибудь, — ответила Лара, не обращая на меня внимания.
Шаляпин запел: «Вдоль да по речке, вдоль да по Казанке», — и я шепнул Ларе:
— На какие деньги мы купим?
Она подмигнула мне, потом сделала глазки артисту и вздохнула:
— Как бы я хотела всё прослушать. Всё!
— Пожалуйста, — услышал я. — В любое время. Вы позволите вас пригласить?
— Боюсь, что не удастся. Так некогда!..
— Мы по делу, — сказал я грубовато, стараясь перекричать пластинку. — Будьте добры мне…
— Пожалуйста, пожалуйста, — он кинулся к комоду и принес пачку писем, перетянутую резинкой.
Письма Пшеницына! Письма, серые от пыли, — не очень-то берег их этот артист, сверкающий своими золотыми зубами. Письма самого Пшеницына!
Пусть Лара кокетничает с артистом. Подумаешь, артист кукольного театра! Пусть, мне всё равно. Я не должен обращать на них внимания.
Почерк тонкий, почерк мечтателя. Чернила были когда-то зеленые, но сейчас лишь местами отливает зелень. Кое-где строки почти растаяли. Писем всего десять. Они все помечены Дивногорском. Пшеницын пишет как будто только о своем житье-бытье, о домашних делах. Да что? бы он ни писал! Мне всё важно, что касается его, каждая мелочь, каждая буква, каждая запятая. Не всё разборчиво. Далеко не всё. Но разбирать сейчас нет никакой возможности, странное нетерпение охватывает меня, и я говорю:
— Всё это нужно. Очень нужно.
Лара выхватывает письма.
— Дай сюда! Что тут есть? А про месторождение? Нет? — частит она вопросы. — Ну, тогда действительно, какое же научное значение…
Я жадно гляжу на письма, и у меня одна мысль в эту минуту: вдруг он не отдаст их, отнимет, спрячет, и я больше не увижу их!
— Десять писем, — слышу я голос артиста. — По десяти рублей, самое малое. Сто рублей. Недорого. Мы всё оформим, пожалуйста. Я выдам расписку.
— Да нет, какая расписка? Зачем расписка? — озабоченно тянет Лара, наморщив лоб.
— А как же? Вам для отчета? Вы же от учреждения.
— Нет, — храбро сказал я. — Мы не от учреждения. Мы студенты. У нас сейчас нет столько, и вообще это много… Но мы соберем вам деньги.
Лара молчала. Она уже не улыбалась артисту. Она смотрела на него сурово.
Он сидел неподвижно. И вдруг артист кукольного театра сделал правой рукой широкий, картинный, даже величественный жест.
— Я ничего не возьму, — сказал он.
Мы охнули.
— Нет, нет, — он загородил себя рукой, словно мы упрашивали его взять. — Нет. Студенты! Ради науки! Нет. Позвольте мне пожертвовать вам. Да, позвольте!
Только спустившись с лестницы, мы оправились от изумления. Лара сказала:
— Я-то разыгрывала, делала глазки, чтобы он не чересчур содрал с нас. А он неплохой парень, в сущности.
— Просто влюбился в тебя и отдал даром, — сказал я.
— Сережка! Значит, в меня можно влюбиться? Да? — и она затормошила меня, потом нахмурилась: — Если он из-за меня только, то это нехорошо, Сережка. Тогда ему надо заплатить.
— И я думаю, надо.
— Давай замнем лучше это дело, — решила она. — Ты шутишь, собрать сто рублей!
— Нет, надо заплатить, — упрямился я. — Ты что, продаешь свои улыбки?
И мы чуть не поссорились. Но Лара сумела успокоить меня и заявила примиряюще:
— Сережка! Мы вот что сделаем: мы пошлем ему благодарность от группы студентов. Верно?
Так мы и сделали.
Письма я передал потом геологоразведочному институту, предварительно сняв копии для себя. Я знал каждое слово наизусть. Еще бы! Одно место, неразборчивое и пропущенное при первом чтении, я помню и до сего дня. Оно до конца открыло мне историю Ефрема Любавина. Правда, имя его не названо в письме, но можно ли отрицать, что речь шла именно о нем!
«Среди рабочих есть чудесный человек, изобретатель-самоучка, которому я по вечерам даю уроки химии. Именно он носит мои письма в город к адвокату Томбергу, а тот переправляет их с оказией в Петербург. Иначе мне не избежать недремлющего ока Доннеля, присутствующего на почте. Увы, я как бы под домашним арестом! Потрудись, братец, зайти в Географическое общество к Антону Эрастовичу, расскажи, в каком положении я нахожусь, а главное, пусть они займутся дивногорской нефтью. Это их святая обязанность. Одновременно посылаю ему письмо, из коего он убедится, что игра, право же, сто?ит свеч. Экспедиция Географического общества, не зависимая от частного капитала, — она одна может разрешить проблему! До свидания, братец, через несколько дней вышлю тебе мою статью, о которой, я, кажется, уведомлял тебя. Намерен опубликовать ее, несмотря на запрет Доннеля, для чего также будешь от моего имени бить челом Обществу».
Письмо написано в сентябре, за несколько дней до убийства Ефрема Любавина. Вот как сплелись, оказывается, судьбы Любавина и Пшеницына! Статья Пшеницына, научная статья, лежала в сундучке Ефрема Любавина. Да, скорее всего так! Он должен был вынести ее с асфальтитовых копей в город, но ему помешали… Статья и, наверно, образец породы, приложенный к ней! Это и было добычей убийц!
Что же до рецепта краски, то у Сиверса была тысяча возможностей завладеть им. Любавин не делал из этого секрета. Он на первых порах доверял Сиверсу, ждал от него содействия…
Доннель — вот главный убийца Любавина! Доннель убил, Доннель руками Сиверса! Доннель, наложивший лапу на труды Пшеницына, как на свою собственность, готовый перегрызть горло всякому за малейшую часть своей собственности!
Весь под впечатлением открывшегося, я не сразу уразумел одну деталь в письме, одну, брошенную вскользь ссылку на другое письмо, более раннее: «вышлю тебе мою статью, о которой я, кажется, уведомлял тебя». Правда, тут есть «кажется». Стало быть, может и не уведомлял. И потом, уведомить можно и устно, не обязательно письмом. Всё же, когда я перечитал внимательно все письма и нигде не нашел намека на статью, мне стало как-то тревожно.
Что если Пшеницын действительно написал брату о своей статье и даже изложил ее содержание, привел данные о месторождении, которые нам так нужны, и это письмо исчезло, перехвачено в пути!
Но почему непременно в пути? Письма Пшеницына переправлялись верными людьми, друзьями геолога. А может быть, исчезновение письма, так же как и керна, — дело совсем недавнее!
И тут я, уже с отчетливой неприязнью, подумал о человеке, который недавно был у артиста Пшеницына, смотрел письма и оставил, сказав, что они не имеют значения.
Выслушав меня (а я всеми своими догадками и тревогами делился с товарищами по комнате и по курсу), Ваня Щекин сказал:
— Фантазия, Серега! Артист заметил бы пропажу. Заметил бы, будь спокоен.
— Я схожу к нему всё-таки, — ответил я. — Спрошу.
Непредвиденное событие ускорило мой визит к артисту.
Было двадцать седьмое мая, день рождения Лары. Я явился в гости первым, ровно к назначенному часу. Во-первых, я спешил к Ларе. Во-вторых, я состоял в обществе «Береги время» — было и такое! — и носил значок с синими буквами Б и В. Лара встретила меня в фартуке, с полотенцем через плечо. Я слонялся за ней по пятам из комнаты в комнату, предлагая помощь: откупорить бутылки, вытереть блюдо для пирога или нарезать хлеб.
— Отстань! — слышал я в ответ. — Не суйся. Посиди тихо.
Она и сестра твердо решили не допускать меня к хозяйственным делам. Я сел и начал от нечего делать разглядывать семейные альбомы. Набрел на большой групповой снимок, сделанный по случаю десятилетнего юбилея геологоразведочного института. Узнал отца Лары, служившего тогда там, узнал старожила, ходячую летопись института, Степана Степановича, отыскал еще нескольких знакомых геологов.
И вдруг… Наяву это или… Прямо на меня из сонма близких, дружеских лиц глянуло другое лицо. Совсем другое, немыслимое здесь, чужое. Но ошибки нет. Я же отлично помню его… Помню эти опущенные книзу усы, которые придают его узкому лицу скорбное выражение, помню прикосновение его прохладной руки тогда, в Клёнове…
— Сережка! Что с тобой? Что, покажи!
Ко мне подбежала Лара.
— Это Сиверс, — сказал я пресекшимся голосом. — Смотри. Это Сиверс.
Убийца Сиверс среди геологов института! Среди людей! Почему он здесь?
Теперь около меня стоял отец Лары, держал обеими богатырскими ручищами снимок и гудел:
— Опять у вас сенсация! Какой Сиверс? Нет, такого не знаю. Сочиняете вы! Это Тарасов, завхоз бывший наш.
— Сережка, ты ненормальный! — воскликнула Лара. — Тебе почудилось.
Она надушилась, надела длинное платье. Сейчас соберутся гости. И вот, в такой день…
— Нет, мне не почудилось, — сказал я и почти крикнул: — Это Сиверс!
«Сиверс, конечно Сиверс, — проносилось у меня в голове. — Его искали. Тарасов — не настоящая фамилия. Его искали, а он устроился завхозом в институт под фамилией Тарасова… Теперь понятно, кто подменил керны! Да, завхоз, который делал ремонт в хранилище кернов… Где он теперь?…»
Так я объяснил им, — не помню, какими словами, наверно очень сбивчиво, путано. И тут мне пришел на память тот неизвестный, кто являлся к артисту смотреть письма. Я взял у Константина Игнатьевича снимок.
— Извините меня, — сказал я. — Можно мне его на час-полтора? Пожалуйста!
Крепко держа фотографию, я кинулся в переднюю одеваться. За мной выбежала Лара.
— Прости, Ларка, — сказал я. — За час обернусь. Я к артисту. Ты понимаешь?
— Понимаю, — кивнула она.
— Я скоро, Ларка!
— Ладно. Иди.
— Я покажу ему Сиверса, понимаешь?
— Да. Постой, Сережка. И я с тобой.
— Нет, нет. Тебе нельзя. Ты новорожденная, и вообще…
— Шут с ним. Новорожденная сбежала, — засмеялась она. — Я подколю платье, и всё. Я хочу быть с тобой.
— Ларка!
— Ну что!
Мы поцеловались в передней, с нашими пальто на руках, поцеловались крепче прежнего, но легко, по-товарищески. Как причудливо сплеталось тогда у нас наивное, детское со взрослым, серьезным!
Дорогой я уверял Лару, что это Сиверс приходил к артисту за письмами и, наверное, украл часть. Я снабжал этот рассказ фантастическими подробностями, и Лара, в подколотом вечернем платье, выбившемся из-под пальто, соглашалась и прибавляла от себя.
Артист был дома. Впустив нас в свою комнату, он первым долгом указал на стену, — там в рамке, под стеклом красовалась наша благодарность, подписанная мной, Ларой, Щекиным и Алихановым.
— Я крайне, от всей души признателен, — протянул он в нос, изгибаясь. — Копию дал нашему месткому. Общественная деятельность, так сказать.
Я положил на стол снимок, показал Сиверса и… предположения, которые вели нас сюда, рассыпались.
— Абсолютно не тот. Ни малейшего сходства. Здесь пожилой, а у меня был гражданин в моем возрасте. Да, лет двадцати пяти. Я еще не скрываю свой возраст, — прибавил он, осклабившись и сверкнув золотыми зубами.
Да, значит не Сиверс! Но я не мог успокоиться. Кто же тогда? Артист не спросил имени, а тот не назвал себя. Ни одно письмо не пропало. Их было десять, всего десять.
Узнав это, мы тотчас ушли, как ни упрашивал он нас посидеть, послушать пластинки.
— Не ты один занимаешься Пшеницыным, Сережка, — сказала Лара. — Есть еще такой же безумный. Это тебе не приходило в голову?
— Нет, как-то не приходило, — засмеялся я. — Вот бы узнать, кто?
— Он не университетский.
— Нет, — сказал я. — А то бы мы знали.
Еще недавно я видел Сиверса в незнакомце, а теперь мы с такой же быстротой освобождали этого неизвестного от подозрений. Такова юность.
«БЫТЬ МОЖЕТ, СТОЛКНЕТЕСЬ НА УЗЕНЬКОЙ ДОРОЖКЕ»
Но что же всё-таки с Сиверсом? Где он? Служит где-нибудь, вредит исподтишка, и никто не знает, что он Сиверс, — Сиверс, а не Тарасов! Я должен что-то сделать. Надо сказать… И немедленно.
— Ларка, я минуты не могу ему дать лишней. Ты поезжай к гостям, а я скоро…
Нет, я ни минуты не могу дать ему. Ведь один миг понадобился для того, чтобы столкнуть Ефрема Любавина в асфальтовую яму и чтобы он задохнулся там. В несколько минут перерыли сундучок Любавина, вытащили статью Пшеницына. Ждать до завтра и сознавать, что Сиверс, возможно, на свободе, — нет, это немыслимо.
— Ну, ладно, — сказала Лара. — Гости всё равно уже сели за стол. Поедем.
— Тебе необязательно.
— Нет уж, поедем вместе. И ко мне будут вопросы. Мало ли…
— Ты-то при чем? — удивился я.
— Мало ли, — настойчиво повторила она.
По улице Дзержинского мы почти бежали: Лара боялась, что все следователи, кончив работу, разойдутся по домам. Добежав до большого пятиэтажного здания, мы остановили первого человека в форме, показавшегося из подъезда. Он повел нас в бюро пропусков, позвонил по телефону.
— Давай, Сережка, я буду объяснять первая, — шёпотом предложила Лара. — Ты залезешь в дебри.
Мимо нас по лестнице проносились люди в форме, — люди сурово озабоченные и словно окутанные непроницаемой тайной.
Кого же я увидел, когда вошел в кабинет следователя? Нет, такой встречи я никак не ожидал! Ко мне навстречу из-за письменного стола вышел… Нет, кто бы мог подумать! Женя Надеинский!
— У-ужасно рад, — сказал он, пожимая мне руки. — У-ужасно! Садись.
Карие глаза его блестели, черные волосы топорщились совсем как раньше, в Клёнове.
Я знал, что он оставил химию, поступил по путевке райкома комсомола на юридические курсы. Да, всё это я знал. Он писал мне. Но что он здесь…
— Ты кем же? — спросил я.
— Помощником следователя.
— Значит, химию по боку?
— Да, так получилось, — ответил он деловито. — Но мы у-успеем о личных делах.
Он обмакнул перо в чернильницу. Он не ожидал, что на прием явится товарищ по школе, и смутился. Как я теперь вижу, вспоминая этот эпизод, молодой помощник следователя не совсем твердо знал, как ему надлежит себя вести.
Перо его, однако, застыло в воздухе.
— А ты… на каком курсе?
— На втором, — сказал я и развернул снимок. — Это Сиверс, Женя. Я голову дам отсечь. Да ведь ты сам видел его. Он приезжал в Клёново в двадцать шестом году. А здесь снят в двадцать седьмом.
— Здесь он Тарасов, — вставила Лара.
— Не все разом, товарищи, — взмолился он. — По порядку давайте.
Он всё записал и тотчас доложил своему начальнику, и тот обещал навести справки. Потом Надеинский повел нас отмечать пропуска и затем проводил до часового.
— От Тоси Петелиной имеешь вести? — спросил он по дороге.
— Нет.
— Она в Москве учится…
У часового мы остановились, и Лара сказала:
— Сережа! Зови товарища Надеинского к нам сейчас. Дело в том… — Она поглядела на свое подколотое платье и кончила робко: — У меня сегодня компания собралась и…
— У нее день рождения, — пояснил я.
— Да? Поздравляю. Я никак не смогу, очень благодарен. Никак не вырваться сейчас. Ты звони, Сергей.
Мы шли к трамваю молча; мне всё казалось, что я не сказал чего-то очень важного, и мысленно продолжал свой рассказ.
Лара посмотрела на часы:
— Ну вот. Я уже родилась. Ох, что за день у меня сегодня. Я так еще ни разу не рождалась, Сережка! На улице! Шутишь! Все поздравили, а ты… Эх, ты!
— Поздравляю, — сказал я коротко, так как беседа с Надеинским о Сиверсе для меня еще не кончилась. — Я завтра же позвоню ему, Ларка.
— Он славный, — сказала она. — А что это за Тося?
— Училась с нами.
— Твоя симпатия? Или его?
— Наша, — признался я. — Дело прошлое. Это всё забыто, — оправдывался я почему-то.
— Что ты помнишь вообще, кроме Пшеницына! — заметила она колко.
Но я думал о своем:
— Не ожидал я, что Надеинский бросит химию. По-моему, если выбрал себе путь, то не оставляй его.
Сказал — и встревожился. Лучше бы не брался Надеинский искать Сиверса! Впрочем, надо сказать, для такого дела найдется более опытный человек.
Когда мы вернулись, нас обступили, мы попали в кольцо протянутых к нам бокалов, и я послушно пил, пил и не пьянел, — так велики были волнения этого вечера. Лара сунула мне в рот кусок торта. Отец Лары уже принялся за свое любимое: богатырь саженного роста, на голову выше других, он дирижировал пением и сам был запевалой. Казалось, дрогнули стекляшки люстры от его зычного:
Из-за о-острова на стрежень…
Я никогда не пел на вечеринках, голос у меня прескверный, но тут и я решился. Фальшивил, но пел.
Так завершился этот памятный вечер.
Надеинскому я позвонил на другой же день, но он еще не успел ничего выяснить. Я позвонил на следующей неделе и услышал в трубке:
— У-у тебя есть время зайти?
— Есть! — крикнул я.
— Зайди.
На этот раз меня пожелал видеть начальник Надеинского — седой, с тремя «шпалами» в петлице. Женя держался при нем так же спокойно и рассудительно, как обычно, и это понравилось мне. Начальник поблагодарил меня за стремление помочь чекистам и начал расспрашивать об учебе, о моих исследованиях.
— Сиверс проскользнул, к сожалению, — сказал он, выслушав меня. — Проскользнул между пальцами. Это был очень ловкий враг.
Я опешил. Я смотрел на полковника, не говоря ни слова. Мы опоздали? Та?к я должен понять его? Сиверс удрал?
— Сиверс умер в прошлом году в Курганове, — он назвал город недалеко от Дивногорска. — Устроился в конторе утильсырья под именем Тарасова и умер своей смертью. От гнойного аппендицита.
— Он в самом деле умер? — вырвалось у меня.
Полковник улыбнулся.
— В самом деле, — кивнул он.
— Досадно всё-таки… Своей смертью!
— Но в этом деле не всё умерло, товарищ Ливанов, — продолжал полковник. — Не исключено, что у вас будет случай помочь нам. Кстати, вам известно, что существует сын Сиверса?
— Говорили мне… Да, у Сиверса был сын, я слышал это еще в Клёнове. Отец назвал его как-то моим ровесником, а я обиделся. Но ведь он за границей, как будто.
— Достойный отпрыск отца, — сказал полковник. — Маврикий Сиверс. Быть может, столкнетесь… На узенькой дорожке.
Я сидел, гордый доверием, которое мне оказали, оглушенный новостями, распираемый невысказанными вопросами.
Объяснений мне дали немного, но всё же я смог дополнить и связать всё известное мне про старого Сиверса. Он поступил завхозом в институт вскоре после своей поездки в Клёново. В том же году подменил образцы породы в хранилище кернов и затем уволился. Значит, когда моя тетя Клава била тревогу, требовала найти Сиверса, он был в Курганове, числился Тарасовым.
— А Маврикий Сиверс? — спросил я. — Где он?
— Он за границей, — сказал полковник, — но может появиться и здесь… Товарищ Ливанов, я верю, что вы никому ни под каким видом не разгласите то, что я вам сообщил.
«Зачем он напоминает мне!» — подумал я с удивлением. Я принимал каждое его слово как драгоценный дар доверия и точно становился взрослее и сильнее.
Как убедить его, что он может сказать мне всё, всё, что он может целиком положиться на меня, как на самого себя!
— Желаю вам успеха, — проговорил полковник, и глаза его потеплели. — Желаю большого успеха.
И опять Женя Надеинский — наш клёновский Женя Надеинский — в форме чекиста, скрипя новыми сапогами, проводил меня до часового, застывшего у выхода как изваяние. И снова он, как и в тот раз, заговорил о Тосе Петелиной, и это было странно, неуместно в таком доме, среди озабоченных людей, проносившихся мимо.
Зина Талызина, подруга Тоси, написала ему какую-то глупость. Будто сердце Тоси несвободно. Будто между мной и Тосей что-то есть.
Во-первых, ничего подобного нет. И во-вторых, откуда Зина там, в Воронеже, в мединституте, может знать! Лирическая душа Зина! Всё-то ей видятся вокруг пылкие чувства, любовь! Вечно она болеет за других!
Невдомек мне было, что Женя Надеинский — пылкий и сдержанный Женя Надеинский — до сих пор не может забыть хорошенькую одноклассницу Тосю. Мои мысли были заняты другим. Передо мной неотступно стоял Маврикий Сиверс. Я рисовал себе узкое, как у его отца, лицо… Что ж, давай встретимся, Маврикий Сиверс!
ПЕРВЫЙ БОЙ
Доклад свой для научного студенческого общества я дописал, будучи на третьем курсе. В докладе, как я сейчас понимаю, было много благих намерений и деклараций, но мало геологических данных о районе Дивногорска, хотя я использовал все известные тогда источники. По молодости лет мне казалось: все, потрясенные судьбой Пшеницына, поверят в дивногорскую нефть, и Касперский не сумеет мне возразить.
Предстояло поставить мой доклад в календарь общества. Научным руководителем был Подшивалов, но он заболел, и профессора замешал Касперский.
— Тема не наша, — сказал аспирант, просмотрев мои тезисы. — Для истфака скорее. Нет, мы будем возражать.
— Простите, — ответил я, — кого вы подразумеваете под «мы»?
Вряд ли тон мой был очень вежлив. Но во мне поднялось раздражение против Касперского, и я не мог сдержаться. Касперский ответил:
— Мы. Вообще — старшие.
— В таком случае, к самому старшему и обратимся, — сказал я.
— Петра Евграфовича сейчас нельзя беспокоить; его измучили лекциями, заседаниями, учеными советами. Врачи велели ему отлежаться и никого не принимать…
Друзьям я сказал:
— Что-то надо сделать, ребята. Подшивалов, говорят, не так уж болен. Касперский стоит у его постели как цербер.
Мы посовещались, и Лара предложила:
— Я пойду к Подшивалову.
— Вот это правильно, Ларчик, — сказал я. — Она пройдет, ребята: Подшивалов дружит с ее отцом. Ларису Касперский не посмеет не пустить.
Пока Лара была у профессора, я ждал в воротах, скрываясь от ледяного ветра.
— Пляши, Сережка! — крикнула она, подбежав ко мне. — План ему понравился. Обещал подумать, но наверно утвердит. А Касперский, знаешь, почему так зазнался? Его за границей превознесли до небес. Там пишут, что дивногорский ребус разгадан.
Дня два спустя Касперский столкнулся со мной в коридоре и бросил:
— Подшивалов разрешил ваш доклад.
Пронесся дальше, потом круто повернулся и подозвал меня:
— Максимально сократить общие рассуждения. Меньше трескотни.
Для моего доклада отвели кабинет картографии. Здесь — в романтическом окружении карт, висящих на стене и свернутых в рулоны, под портретами знаменитых мореплавателей — особенно часто собиралось студенческое научное общество. Но народу явилось много, и мы перебрались в аудиторию.
Судьбу экспедиции Пшеницына я изложил на фоне борьбы монополий за нефть — звериной борьбы стяжателей, безудержных в своей жадности. Таков, например, Эзра Доннель — один из самых богатых хозяев зарубежной нефти, на которого работают миллионы людей в Мексике, Венесуэле и других странах, Доннель, держащий на откупе инженеров и геологов, газеты и радиовещательные станции, министров и генералов, Доннель, диктующий правительству политику разбоя. Изгнанный из России в семнадцатом году, он пытался вернуть свои промыслы силой, тратил миллионы на вооружение интервентов. Потерпев поражение, он сменил личину. Под видом мирного, доброжелательного негоцианта он предлагал советской власти техническую помощь, брался вести разведку на нефть. В концессии ему было отказано. Конечно же, Доннель не успокоился. Он снабжает деньгами германских фашистов, стремится к войне против нас. Доннель и его приказчики пойдут на любую подлость, чтобы помешать нам в освоении наших нефтяных богатств, чтобы лишить наши тракторы, наши автомашины, наши танки и самолеты горючего.
Потом я прочел вслух выписку из заокеанского журнала, издающегося фирмой Доннеля:
«Нефтяные ресурсы огромной России, предпринимающей индустриализацию, ограничены по-прежнему областями Баку, Грозного, Майкопа. Большевикам грозит нефтяной голод».
Я сказал:
— Тот же журнал хвалил работу аспиранта Валентина Адамовича Касперского. Но я думаю, каждую свою работу исследователь должен рассматривать как ступень, которая ведет к следующей, более высокой ступени. А если похвала исходит от доннелей и дело касается района Дивногорска, то тем более нельзя успокаиваться на достигнутом.
Я коротко сказал о геологии района, в свете воззрений Лукиных, и несколько раз повторил, что под Дивно-горском есть условия для скопления нефти.
— Доннель до сих пор смотрит на дивногорскую нефть, как на свое, спрятанное в недрах добро, как на свои владения. Не характерно ли: подручный Доннеля Сиверс проникает в геологоразведочный институт, устраивается там завхозом, и после него мы обнаруживаем подлог. Какая-то подозрительная личность интересовалась письмами Пшеницына у его родственника. И, на мой взгляд, одного письма там не хватает.
Сказав это, я призвал геологов уделить больше внимания Дивногорску. Университет должен снарядить туда экспедицию! Надо бурить там, и как можно глубже! А Касперский не вел буровой разведки, он только обследовал поверхность, видел обнажения пород над рекой Светлой да в степных балках.
Прения были жаркие. В нашем научном обществе, как в капле воды, отразились споры, которые разгорелись тогда среди геологов. Первые ораторы — два студента и один аспирант — встали на мою сторону.
Касперский, как и следовало ожидать, выступил против. Он прочел добрых три страницы из своей диссертации, сказал, что геологическое строение Дивногорского района специфично и сколько бы нефти ни добыли в Приуралье, он — Касперский — стоит на своем: под Дивногорском нефти нет. И нечего бурить, выбрасывать огромные деньги, когда это и так ясно.
И опять он сослался на свою, работу. Как упоенно он цитировал самого себя!
— Керн могли перемешать случайно или подменить, это дела не меняет, — сказал он в заключение. — И Пшеницын и Доннель, поверивший ему, ошибались: наука с тех пор ушла вперед. Пшеницын обнаружил недалеко от поверхности песчаник с запахом нефти, но это вовсе не значит, что ниже есть месторождение жидкой нефти. Его нет и быть не может.
Словом, ничего нового Касперский не сказал. Снисходительно похвалил меня за инициативу и упорство в сборе материала, слегка пожурил за чрезмерную подозрительность, — мол, если верить Ливанову, то кругом притаились враги, приказчики Доннеля. Спокойно улыбаясь, всем своим видом давая понять, что ничуть не поколеблен в своем мнении, он занял место в президиуме. И я понял: это не последний спор с Касперским.
В зале на нашем собрании сидел еще один человек, которому тоже суждено было играть видную роль в дальнейших событиях — студент-дипломант, сотрудник геологического музея Василий Симаков, или, как его звали студенты, — Симаха.
Когда Симаков поднялся на трибуну, слушатели переглянулись. Он ни разу не выступал в научном обществе. Начал он…
Но сперва о самом Симакове.
Краснощекий, шумный, с нагловатым блеском в глазах, он всегда вызывал во мне смешанное чувство опаски и любопытства. Он вышел из беспризорников, а я, юноша, выросший в семье, видел беспризорных в ореоле романтики. Я много читал о них, зная, что среди них немало талантливых людей. За Симаковым знали один талант: он быстро и аккуратно рисовал плакаты, диаграммы и этим зарабатывал деньги в дополнение к стипендии.
Заказчиком его часто был Касперский, читавший популярные лекции в клубах и нуждавшийся в наглядных пособиях. В геологоразведочном институте многие диаграммы сделаны тоже Симаковым.
Учился Симаков средне и постоянно жаловался, что ему, бывшему беспризорнику, плохо помогают. Все в долгу перед Симаковым, который, видите ли, несмотря на равнодушие к его особе, всё-таки кое-чего достиг, до университета дошел. Однако полностью он, Симаков, свои способности еще не развернул. Беспризорным своим прошлым он явно кичился… Охотно рассказывал, как он, четырех лет от роду, был отдан матерью деду-шарманщику, потом попал в детдом, бежал оттуда…
Он любил издеваться над теми, кто вырос «держась за мамкину юбку», и к таким причислял и меня.
Этот-то Симаков поднялся на трибуну, выпятил грудь и начал так:
— Валентин Адамович Касперский слишком мягко, я считаю, отозвался о докладе Ливанова. Я считаю, товарищи, надо подойти принципиально, по-комсомольски, дать опенку со всей остротой. Надо прямо заявить: доклад Ливанова — это выпад против наших специалистов и ученых, ни больше, ни меньше. Что получается, товарищи! Все у него льют воду на мельницу Доннеля! Ливанов бросает тень на коллектив геологоразведочного института, пытается опорочить товарища Касперского. Я бы сказал: Ливанов в последнее время прямо-таки травит Касперского, и невольно приходится делать вывод, что здесь играет роль личный момент.
Он еще долго говорил в таком духе, но я плохо слушал. Личный момент! Что он имеет в виду!? Но самое примечательное было впереди.
— Ливанов и на меня бросил тень. Да, и на меня, товарищи! — крикнул он, наваливаясь на трибуну, и широкое лицо его покраснело от негодования. — Никакой не классовый враг был на Четвертой Советской, у кукловода этого почтенного, а я.
Он так неожиданно сказал это, что я в первую минуту даже не поверил.
Так это он был у артиста? Он, Симаков? Ему-то что там понадобилось?
Оказывается, в музее составляют геологическую карту равнины. Район Дивногорска — трудный, мало изученный. Симаков случайно узнал, что в Ленинграде живет племянник Пшеницына, и решил попытать удачи.
— Ливанов действует в одиночку, товарищи. Он оторвался от коллектива. Я, например, не знал, чем он занят. У него вообще нездоровые тенденции, товарищи…
Как только Касперский закрыл собрание, я пошел искать Симакова и застал его в кружке приятелей. Спиной ко мне стоял Скобыкин — понурый парень, лодырь и завистник. Когда я подошел, Симаков, беседовавший о чем-то вполголоса со Скобыкиным, умолк и выжидательно уставился на меня.
— Какие же у меня нездоровые тенденции? — спросил я громко. — Какой личный момент?
Он ощупал меня взглядом, нагнул голову и нехотя буркнул:
— Сам должен знать, какой.
Я шагнул еще ближе:
— Не увиливай!
— Правильно, пусть ответит, — сказал Алиханов.
Симаков помялся, обвел взглядом присутствующих и подбоченился:
— Ты комедию не ломай, Ливанов. Геоморфологию провалил Касперскому? Провалил.
— Не понимаю, — сказал я.
Я действительно не сразу понял. Да, я не сдал зачет Касперскому. Но при чем тут это?
Симаков сквозь зубы, злорадно пояснил:
— Ребята! Провалил и обозлился на Касперского. Мстит ему.
Мне как будто кипятком плеснули в лицо. Должно быть, я хотел ударить Симакова, потому что руки мои кто-то сжал железной хваткой и отвел за спину.
— Скот! — сказал я.
Нас развели. Меня держал Алиханов. Лицо мое горело, и то, что говорил Алиханов, стоявший рядом со мной, доносилось до меня как бы издалека.
— Мальчишки! Вы где — в университете или во втором классе школы? Симаков! — крикнул он. — Вот что, вы немедленно должны извиниться друг перед другом.
— Нет, — сказал я.
— И я не намерен, — сказал Симаков. — За скота он мне ответит. Я в бюро ячейки подам.
На бюро вызвали нас обоих. Симаков настрочил про меня столько, что Шура Ушакова — секретарь нашей ячейки — читала заявление добрых четверть часа. Широкоплечая девица в клетчатой ковбойке, она откровенно вздыхала и чертыхалась, разбирая мелкий, разузоренный почерк Симакова. Он обвинял меня, во-первых, в том, что я по личным мотивам всячески дискредитирую Касперского. Дальше Симаков «вскрыл корни» моего поведения. Это выражение ему, видимо, очень нравилось, и он совал его к месту и не к месту. Корней он обнаружил два. Один — моя личная обида на Касперского. Другой «корень» — моя «академическая неуспеваемость». Никаких доказательств, кроме двух моих «хвостов» — по немецкому и по геоморфологии, Симаков не мог привести, и, однако, он рьяно утверждал, что я отстал от товарищей и пытаюсь прикрыть это болтовней в научном обществе. Все мои выступления по поводу дивногорской проблемы — это, по мнению Симакова, краснобайство, демагогия и желание выдвинуться.
Себя Симаков изображал страдальцем за правду. Он, дескать, сигнализирует, вскрывает, а его за это осыпают оскорблениями. В заключение он предлагал строго наказать меня.
— Ну и наворотил, — сказала Шура, дочитав. — Послушаем теперь Ливанова.
— Симаков всё извратил, — начал я. — Он хвастается, что вскрыл какие-то «корни». Чепуха на постном масле. Эти корни существуют лишь в его больном воображении.
— Ливанов! — остановила меня Шура. — Ты можешь говорить более спокойно?
— Могу. Мне нечего волноваться — он врет, а не я.
Отвечая, я видел самонадеянную физиономию Симакова и плохо владел собой. Как он возмутил меня! Минутами я от волнения переставал слышать собственные слова.
— В общем, ты безупречен? — сказала Шура. — Так я тебя поняла?
— Нет, но… Никакой личной вражды к Касперскому у меня нет. Даю слово комсомольца. Я не хотел чернить его. Я надеялся, он поймет и сам захочет разобраться в истории с Пшеницыным. Это очень важный вопрос… Что бы ни говорили, я его не оставлю.
— Всяк по-своему с ума сходит, — молвил Симаков в сторону.
— Ему доказывать что-нибудь, — взорвался я, — это всё равно что прививать оспу телеграфному столбу.
Все засмеялись, кроме меня и Симакова. Шура постучала карандашом по крышке чернильницы.
— Ну вас! — сказала она просто, по-домашнему, и я, поймав взгляд ее невозмутимых серых глаз и вдруг испугавшись, что самое важное будет забыто, заявил:
— Я кончу вуз и поеду в Дивногорск. Я для того и учусь.
Должно быть, фраза прозвучала заносчиво, так как Шура сухо заметила:
— Приветствовать будем.
Симаков заерзал на стуле:
— Ливанов разводит демагогию.
Поскрипел стулом, откашлялся и оглядел членов бюро, ища поддержки. Но Шура опять постучала карандашом.
— У Ливанова есть серьезная цель, — сказал Савичев, один из самых старших студентов на факультете. — Демагогии я тут не вижу, — он пощипал редкую бородку. — Не вижу. Зачеркивать доклад Ливанова нельзя, мысли хорошие. Главный вывод такой: мы должны быть ближе к жизни, к задачам пятилетки.
Он помолчал и закончил:
— Но вот с кулаками кидаться, обзывать других — нехорошо, товарищ Ливанов.
При этих словах Симаков приободрился. Не воображает ли он, что я начну оправдываться?
— Перед ним мне нечего каяться, — отчеканил я. — Он налгал на меня. И уж если искать корни поведения, то я у него скорее найду. И не ошибусь. Симаков лижет пятки Касперскому. Это все знают.
Мой выстрел попал в цель. Симаков побагровел…
Закончилось разбирательство тем, что и мне и Симакову решили вынести порицание — ему за склоку, а мне за нетактичное поведение.
Принял я это решение без ропота, но, когда вышел из университета и зашагал к дому, от меня словно отделился другой Сергей Ливанов. И два Ливанова столкнулись в споре.
«Плохо, брат, — сказал один, глядя на другого сверху вниз. — Впервые за свое пребывание в комсомоле ты получил взыскание. И за что! Ты назвал Симакова скотом. Так он же действительно скот. Ты хотел дать ему в морду. И следовало дать. А он вышел чистым. Нет, бюро отнеслось к тебе очень несправедливо».
«Всё же драться не полагается, — пробовал возражать другой Ливанов. — Должна же быть дисциплина».
«Так ведь ты и не ударил. Только замахнулся. И за это — взыскание! Никто тебя не понял, бедняга. Все будут теперь пальцами показывать: вот, мол, Ливанов, тот самый, который выступил с неудачным докладом, затеял ссору с Симаковым и получил взыскание. А Симакова пожалеют, как жертву. И он еще больше зазнается и будет издеваться над тобой, и тебе придется всё покорно переносить».
Этот второй Ливанов — не понятый светом и несправедливо наказанный — взял, наконец, верх. Он поднялся в комнату замкнутый и злой, молча завалился на койку и на расспросы Алиханова невнятно огрызался. Тогда его решили оставить в покое, и он, часа два протаращив глаза в стенку, уснул. На другой день Ливанов на лекциях присутствовать не изволил и явился лишь на комсомольское собрание, где решение бюро было утверждено.
После этого Ливанов — я говорю о себе в третьем лице, так как видел себя как бы со стороны, — провел еще два дня на койке, упорно цепляясь за свою роль невинно пострадавшего. К концу затворничества настроения Ливанова-второго, впрочем, несколько изменились. Дело в том, что товарищи решили испытать, надолго ли его хватит, и отвечали на молчание дружным молчанием. Сперва Ливанов-второй хорохорился.
«И пусть, не всё ли тебе равно, — убеждал он другого Ливанова. — Все от тебя отворачиваются, но ты будь горд и непреклонен».
Товарищи даже не замечали всей красоты и трагичности роли, и это было тяжелее всего. Они вели между собой обычные разговоры, как будто ничего не произошло. Ливанов-второй сбавил тон, сморщился и слился с первым; я впал в тоскливое оцепенение, мысли потекли медленно. Да, все от меня отвернулись, никому я не нужен. Должно быть, я очень глупо выступал в научном обществе. Я наболтал массу лишнего. Недаром Щекин говорил мне: ты обычно самое главное проглатываешь; тебе, верно, кажется, что оно само собой разумеется — и тонешь в подробностях. Впрочем, теперь не исправишь. Я больше рта не раскрою. К чему? Всё равно никто не примет мое мнение всерьез. Придет время — я докажу, кто прав. Докажу, если сумею. Если я вообще годен на что-нибудь…
Вечером — вместе с Алихановым — неожиданно вошла Лара.
— Фу, какая небритая рожа! — сказала она с гримасой. — Немедленно срежь бороду, иначе уйду.
«Ну и уходи», — шевельнулось во мне, но тотчас заглохло. Что-то заставило меня встать с койки и выполнить приказ…
ДОРОГА В БУДУЩЕЕ
После доклада я ушел с головой в учебу. Первым долгом избавился от «хвостов», чтобы никто не смел попрекать меня, а затем начал читать труды по геологии средней России. И чем больше читал, тем сильнее мечтал о работе в поле, о том, чтобы самому вонзить в недра стальной бур.
Весной приехал из Москвы — на сессию Академии наук — профессор Лукиных. Весть эту принесла Лара (она всегда-в курсе всего, что делается в среде геологов), и я решил пойти к ней с просьбой. Приближается производственная практика! Вот бы провести ее в экспедиции разведчиков-нефтяников, если не под Дивногорском, то на приуральских буровых или в Башкирии! А Лукиных по-прежнему служит в главном геологическом управлении и может мне помочь.
Ко мне присоединились Алиханов, Савичев, Митя Бунчиков — тщедушный паренек, болевший коклюшем и прозванный по этой причине «младенцем», и Лара, — словом, целая делегация.
Собрались у Дворцового моста. Через полчаса я стучал в номер гостиницы «Астория», — как сейчас помню, двести пятый. Человек невысокого роста, с большой рыжей головой, с огненными веснушками на лбу, похожий на озорного деревенского парня, толчком распахнул дверь:
— Входите!
— Мы к профессору Лукиных.
— Я Лукиных, — сказал он. — Садитесь. Ну что? — он быстро оглядел нас. — Поедем во второе Баку?
У меня дух захватило, так просто, буднично назвал он то, что только начинает обозначаться порослью вышек опытного бурения, — пока еще редкой.
— Поедете в Приуралье, — объяснил он. — На реку Чусовую. Слыхали? У Мамина-Сибиряка замечательно описано… Моя родина. Я ведь пермский лесоруб.
Тут я заикнулся о Дивногорске, и Лукиных бросил на меня быстрый взгляд.
— Дале-е-еко туда, — протянул он, разумея не расстояние, а время. — Дивногорск — наша вторая очередь. Конечно, хорошо бы так: карту развернул и провел нефтяной пояс от Урала до Волги, как мечтал Пшеницын. Но пока трудно… трудно.
Огненные крапинки на его лбу шевелились, и были они словно знаки внутреннего пламени, горящего в этом сильном, подвижном, жилистом человеке. Я не успел задать вопрос, — он, словно угадав его, заговорил:
— Очень сложно всё в Дивногорске. Там в университете ваш Касперский доцентуру получает. Я не возражаю. Пусть полазает по балкам, по обрывам. Ему полезно. Вы, — он вдруг нахмурился, — смотрите у меня, я не люблю таких, которые боятся запачкаться… Загорать не дам.
Закончив угрозы, Лукиных вскочил, заходил по комнате.
— Нефтяной пояс проведем, обязательно проведем, — сказал он с неожиданной душевной теплотой, — со временем наладим и у Дивногорска глубокое бурение. Вы должны знать: мы накануне великих открытий на равнине. Многие не верят. Говорят: мало нефти у нас, чайной ложкой черпаете, есть ли смысл… Ничего, второе Баку еще покажет себя…
А в окно смотрит весна. Золотая пыль солнца тлеет на бархате портьеры, лучи его горячие и почти весомые. Бывают такие дни на нашем Северо-Западе, когда весна, долго скованная холодами, вдруг вырывается на волю, и тогда замечаешь, что молоденькое деревцо, высаженное на тротуаре, стоит окутанное прозрачным изумрудным облачком, что в сквере поднялась трава и от самого крохотного газончика, смоченного дождем, пахнет лугами и речкой, затянутой кувшинками.
Сегодня как раз такой день. И слова Лукиных звучат особенно радостно, празднично. Правда, жаль, что решение дивногорской загадки откладывается, — но я поеду создавать «второе Баку», поеду!
Пришли другие посетители. Я так и не успел рассказать Лукиных, почему меня интересует Дивногорск, и вообще не задал и десятой части приготовленных вопросов, но главное ясно: я поеду… Еще месяц-другой, и я отправлюсь в первую свою экспедицию. И Лукиных будет там. Лукиных, покоривший меня сразу и навсегда…
— Ребята, как чу?дно на улице! — кричала Лара, сбегая впереди всех по лестнице, вызолоченной солнцем. — Пошли скорей! Пошли гулять!
Что творится с ней сегодня! Она болтает вдвое против обычного, смеется, кокетничает с Алихановым. Вдруг ей понадобилась ветка каштана, Лара подпрыгивает, тянется к ней. Я хочу поднять ее, но она высвобождается, — нет, пусть лучше Алиханов, он выше. Ветка сорвана и через минуту брошена, мы идем гурьбой через площадь, и Митя Бунчиков — самый рассудительный в нашей шумной компании — останавливается:
— Стоп! Куда же мы движемся?
Лара и минуты не думает:
— Ребята! Давайте искать остров! Мы с Сережей забрели как-то, понимаете, забыли дорогу… Словно приснился.
Она объясняет, в какой стороне должен быть наш остров, и Митя Бунчиков, знающий город как свою ладонь и прочитавший уйму книг по его истории, говорит:
— Никакой не сон, это Лоцманский остров в Нарвском районе. Идти к нему…
Он объясняет своим тихим голоском, покашливая и стягивая потуже шарф, и у меня сразу почему-то пропадает охота идти туда:
— Нет, не сто?ит. В другой раз.
— Мы одни пойдем с Сережкой, — говорит Лара, подбегая ко мне. — Верно?
Не успел я ответить, — она снова берет под руку Алиханова, висит на огромной его ручище.
— Ребята, давайте на пристань, — зовет она. — На пароходе кататься!
Голубая весенняя Нева, ветер. Узорчатая пристань, пахнущая краской, покачивается на дерзкой волне. Желающих кататься много сегодня, на пароходе полно пассажиров. Мы проехали две остановки, Бунчиков закашлялся, и Лара объявила, что мы сойдем у Марсова поля. Но случилось так, что Лара и Алиханов, пробившись сквозь толпу, вскочили на пристань, а я не успел и остался. Должно быть, у меня был очень растерянный, нелепый вид, — Лара смотрела на меня и хохотала, цепляясь за рукав Алиханова.
Бунчиков и Савичев исчезли куда-то, я стоял один, сжатый со всех сторон незнакомыми людьми, брошенный, забытый, одинокий. Ледяные брызги летели через борт, на пароходе стало холодно, неуютно.
У стальной громады Литейного моста я вылез и побрел по набережной обратно, в надежде увидеть Лару, попрощаться, — да, только попрощаться и уйти домой. Лара и Алиханов выбежали ко мне из-за угла, он слегка подтолкнул ее ко мне и сказал, лукаво подмигнув:
— Принимай ее. Соскучилась.
— Ты прости, Сережка, — сказала она, когда мы пошли вдвоем. — Ты рассердился? За то, что я смеялась, да? Но ты застыл, как аист, с поднятой ногой, — ужасно уморительно.
Если бы я решился открыть ей свою душу, я должен был бы сознаться, что обида моя называется ревностью, — да, ревностью, неожиданно вспыхнувшей к Алиханову в этот удивительный, солнечный, такой богатый событиями день, и что через ревность дано мне было осознать другое чувство… Но я ничего не объяснил и только спросил:
— С ума ты сошла сегодня, Ларка?
— Хорошее настроение, — упрямо ответила она. — А знаешь, почему хорошее?
— Нет.
— Фу, надутый какой! А ты не хочешь ехать вместе со мной на практику?
Она записалась у Лукиных, но к этому я не мог отнестись серьезно, — ведь отец Лары и в этом году снаряжает экспедицию в Среднюю Азию и Лара сама собиралась…
— А ты, правда, поедешь? — спросил я.
— Поеду. Ты хочешь?
— Да. Очень хочу.
Эти слова мы произнесли тихо, почти шепотом, как будто высказали тайну, которую надо было скрыть от дворника, подметавшего тротуар, от школьников, игравших в «орла-решку», даже от гипсовой кариатиды с отбитым носом, поддерживающей балкон. И в ту же минуту мы поцеловались под балконом, на виду у всех.
…Мы долго гуляли по городу, держась солнечной стороны гулких, гудящих от ветра улиц, любуясь зеленым прибоем, хлеставшим в решетки садов, — и говорили о будущем.
— Ларка! — сказал я. — Давай всё-таки искать наш остров! Ты не устала?
— Нет, не устала, милый. Пошли, — ответила она.
На практику мы поехали вместе, и там, в Уфе, поженились. Через год мы окончили университет и были зачислены оба в нефтяной институт.
Исполнилась моя сокровенная мечта. По предложению профессора Лукиных меня направили в Дивногорск. Я должен пойти по тем местам, где работал Пшеницын, бурить там, искать нефть!
— Первым долгом — в Клёново, — говорил я Ларе, захлебываясь от воодушевления. — Стариков повидать и дядю Федора. У меня предложение к нему. Авось тряхнет стариной, поедет с нами в экспедицию. Покажет, где бурил с Пшеницыным.
Казалось, стоит погрузить бур поглубже, — и хлынет нефть.
НА БЕРЕГУ КЕМБРИЙСКОГО МОРЯ
Уговорить дядю Федора оказалось легче, чем я думал. Пожилой колхозный бригадир с завистью смотрел на молодежь, приезжавшую в отпуск с больших строек. Стать снова бурильщиком (эта специальность полюбилась ему в молодые годы, хотя и не принесла радости), поехать снова с геологом, да еще со своим, клёновским, продолжить дело Пшеницына — можно ли отказаться от этого! Он отложил молоток, которым отбивал косу, и, краснея от волнения, заговорил:
— Что ты, что ты, Сережа! Мыслимо ли! Куда мне, я свои версты отмахал, борода уже седая. А бригаду на кого я брошу? На Кольку Авдотьина?
Но я видел, что он уже решился и заместителя наметил, — не кого иного, как Кольку.
Я напомнил ему мечту Пшеницына — промыслы в степи. Теперь она становится явью.
— Не смущай меня, Сергей. Не надо. А то я… Я ведь земляную работу люблю. Вот она — землица. Всё от нее! И хлеб и всякое растение. И золото в ней! Что хочешь…
Я почувствовал, как сильна у него любовь к «земляной работе».
Мы прибыли в Дивногорск в июле. Дикая сирень, одевавшая лиловой шапкой Тугову гору — самую высокую в цепи Дивных гор, — уже отцвела, на вершине дул ветер, шевеля поблекшую листву. Сзади — весь в прозрачных дымках, в бликах раскаленных крыш, там и сям пронзенный острыми тополями — лежал город. Улицы его уступами спускались к синей реке. Другой берег ее почти невозможно было различить: он сливался с горизонтом, растворяясь в жарком мареве. А перед нами раскинулась степь — выгоревшая, желтая. Тени облачков медленно ползли по ней, переваливали через косогоры, тонули в облаках.
— Тугова она и есть, — сказал Федор Матвеевич. — Натужно было тут нашему брату. Вон деревня Корсаковка, прямо.
Там, куда он указывал, сгрудились дюжины две построек. Неподвижные клубы пыли висели над ними.
— Два пальца отмерь вправо. Силосная башня, видишь? Там асфальтовые ямы доннельские были.
Я напряженно всматривался. Всё та же опаленная солнцем степь, волнистая, расчерченная квадратами посевов. Стерлись с лица земли проклятые копи, никто не скажет, где была яма, в которой погиб Ефрем Любавин, — она, как и другие, давно исчезла, занесенная глиной, поросла ковылем и полынью.
Там, у асфальтовых ям, и начал бурить Пшеницын. Но где в точности? Когда мы спустились с горы и уже из города всей партией выехали в Корсаковку, Федор Матвеевич стал в тупик. Местность неузнаваемо преобразилась. Хутор стал селением, пустырь — полем или садом, балки переменили русло. При всем том можно было найти скважины, пробитые экспедицией Пшеницына, если бы уцелели остатки вышек, торчащие из земли концы стальных труб. Ничего, ровно ничего! Районный агроном, которого я застал в сельсовете, посоветовал не тешить себя надеждами.
— Бревна от вышек сгнили либо пошли на стропила. Дерево — большая ценность в степи. А металлическое, если что осталось до наших дней, свезли на утиль. Да, да. Возле Гремячей, километрах в тридцати отсюда, выворотили трубу, диаметром в пять дюймов примерно. Тарасов, прежний начальник конторы утильсырья в Курганове, только что носом землю не рыл.
— Как вы его назвали? — переспросил я.
— Тарасов. Он всю степь обрыскал.
Сиверс! До последнего издыхания он вредил нам, затаптывал следы экспедиции Пшеницына.
В Курганове мне подтвердили: Тарасов, служивший здесь лет пять назад, отыскал и доставил на базу полтонны труб и другого бурового оборудования — старого, проржавевшего.
Я подумал, что путь, который я себе наметил как геолог, неизбежно ведет меня к жестокой борьбе, будет испытанием всех моих сил. Пусть! С дороги я не сверну. С такими мыслями я писал докладную записку в Москву, профессору Лукиных.
Писал я ночью, в палатке. За пологом трещал кузнечик. Федор Матвеевич лежал на койке, глядя вверх, и рассуждал вслух, сумеет ли Авдотьи Карповны Колька — новый бригадир в Клёнове — во?время убрать клевер. Я прочел вслух всю докладную, он вздохнул, ничего не сказал, но погрузился в размышления. Наутро я услышал от него:
— Ты, Сережа, — он всегда звал меня по имени, когда мы оставались с глазу на глаз, — и на будущее лето приедешь сюда шуровать?
— Придется, — ответил я. — Работы еще много.
— Тогда и я с тобой. В Клёнове без меня управятся, я считаю. Надо дело наше доводить до конца.
А конца еще не предвиделось. Чем больше мы трудились, тем дальше он, казалось, отодвигался. Не только преграды, воздвигнутые темными вражескими силами, замедляли разведку дивногорских недр, — сами эти недра были малодоступны, загадочны. Поистине — дивногорский ребус! Не стану утомлять вас подробностями, скажу только, что строение здесь действительно своеобразно и геолог, знающий месторождения в Приуралье или в Башкирии, не будет иметь ключа к Дивногорску. Сложно, подчас причудливо залегают пласты. Вот, думаешь, успех почти в руках: посверлим черный камень, пахнущий нефтью, еще день, два — и отдаст земля свое богатство. Но нет, буровой инструмент выносит на поверхность пустые породы.
Правда, добыли мы немало и образцов, пахнущих нефтью, подобных тем, какие дядя Федор доставал с Пшеницыным.
Иногда меня навещал Касперский. Он стал доцентом дивногорского университета, слыл знатоком местного края, вся фигура его излучала благополучие. Федор Матвеевич прозвал его «майским барином». Помню — Касперский вылез из машины одетый как на прогулку: в соломенной шляпе, защищавшей его лицо от загара, в синем костюме в полоску. Других расцветок он не признавал. Касперский взял кусок керна, покатал на ладони, затем вытер руки платком и сказал:
— Согласитесь, моя концепция устояла.
— Пока да, — ответил я. — Но мы не кончили работу.
— Блажен, кто верует, — молвил Касперский. — Кстати, слыхали? Приехал Симаков.
— Приятная новость, — сказал я.
— Поверьте, и я не в восторге. Устроился здесь, в областном геологоразведочном тресте. Говорит, — тут Касперский пренебрежительно усмехнулся, — что хочет работать под моим научным руководством. Оснований возражать у меня не было, кадры нужны, хотя, между нами, наличие научных устремлений у Симакова весьма сомнительно.
Я молчал.
— Ненависть, я вижу, взаимная, — засмеялся он. — Симаков — субъект злопамятный, он, по-моему, не забыл эпизода в университете и настроен в отношении вас весьма агрессивно. Не подумайте, что я… Я давно искал случая вам сказать, что его выходка меня глубоко возмутила. Я ни словом, ни намеком не поощрял его тогда. По-дружески хочу предупредить: Симаков агитирует против вас в дивногорских учреждениях, намерен писать в Москву, выставить вас чуть ли не растратчиком государственных средств. И должен сказать: мнение здесь не в вашу пользу.
Касперский закончил советом, — чисто дружеским, как он подчеркнул, — прекратить разведку на нефть.
Шел третий год работы, я из начальников отряда был переведен на должность главного геолога всей экспедиции. Тем больше ответственности на мне, тем тяжелее признать неудачу. Признать после того, как миллионы рублей ушли на бурение!
Симаков строчил кляузы в главное управление, обвинял меня во вредительстве, требовал отдать под суд.
Этим он только раззадорил меня еще больше. Я подал заявку на дополнительные ассигнования. Конечно, я старался всё рассчитать спокойно, взвесить трезво все шансы, но возможно всё-таки, что доля азарта в этих расчетах была.
Ответом был вызов в Москву.
— Как же мне быть с вами? — вот первая фраза, которую я услышал от Лукиных. — Печальная картина получается.
— Так, — сказал я. — Понятно. Что же, крест поставим на Дивногорске?
— Сядь, — приказал он, впервые, с отеческой суровостью, обращаясь ко мне на «ты». — Мы тут совещались, обсуждали твою работу. Есть разные мнения…
Он не кончил и потянулся к кипе бумаг. Я вставил:
— В том числе мнение Касперского.
Про себя я решил: клевета Симакова и неверие Касперского проложили дорогу и сюда, в главное управление, к Лукиных.
— Молчи! — сказал он, рассердившись на мое замечание. — Молчи и не ершись. Мнение Касперского, если хочешь знать, давно у нас имеется. Заниматься углем, не нефтью, а глубинным углем, — вот его мнение. По обыкновению, цитирует свои труды, игнорирует оппонентов. А уголь, между прочим, достать нельзя, даже если он и есть на этой сумасшедшей глубине, в чем я лично сомневаюсь. Но всё-таки, товарищ Ливанов, знания у Касперского есть, как по-твоему?
— Григорий Ильич, нет у меня с ним общего языка, — сказал я, уловив, к чему он клонит.
— Касперский замкнулся, считает себя непогрешимым, трудно с ним, — верю. Но ты сделал хоть шаг со своей стороны? Выходит, каждый на своем хуторке? Так? Ох, не терплю я хуторян в нашем деле! Надо учиться работать с людьми. Ладно! Был бы ты постарше, я бы не так с тобой говорил. Одно тебя извиняет — твоя молодость.
Я молчал.
— Так вот, мы рассмотрим вашу заявку и все данные. Вывод такой: прежде чем сверлить новые дырки, надо пересмотреть теоретическую основу. Действовать на ощупь не можем, товарищ Ливанов, слишком дорого. Но я надеюсь, в Дивногорск вы еще вернетесь. У меня есть идея… Потребуются эксперименты. Хотите поступить ко мне в лабораторию?
— Спасибо, — ответил я смущенно, так как не ожидал такого приглашения после разноса. — Но я не знаю… Дайте мне подумать.
Я пошел на улицу Горького, на междугородную телефонную станцию, и заказал Ленинград. Там моя Лариса нянчила дочку. Она знала о наших неудачах в Дивногорске, и то, что я сообщил, не удивило ее.
— Лукиных зовет к себе в лабораторию. Но ты послушай, Ларка, могу я сейчас, после всего этого?… Похоже на бегство. Скажут, оскандалился в поле и спрятался в тихом углу. Нет, буду бурить в другом месте, если разрешат. Пускай пошлют на любой промысел, только не снимают с разведки.
— Очень глупо, — донеслось до меня.
— Почему?
— Ты иногда бываешь таким мальчишкой, Сергей! По-моему, то, что ты решил, это и есть самое худшее бегство. Скажут! Подумаешь, как важно! Я думала, ты тверже.
Умница Ларка! Она права, — я понял это, когда остыл. И как это я сам не почувствовал, что? мне мешает. Ложное самолюбие! Нет, не сворачивать в сторону! Не на буровой, так в лаборатории распутать дивногорскую загадку!
Отдохнув месяц в Ленинграде, я с головой ушел в изыскания. Лаборатория, руководимая Лукиных, — имя его я всегда буду произносить с уважением и благодарностью — готовила те, известные ныне всем нефтяникам, труды по геологии русской равнины, или, как говорят геологи, платформы, которые позволили в конце концов понять строение дивногорских недр. Рассматривая под микроскопом породы, добытые мной и другими геологами, изучая состав этих пород и окаменелостей, мы точнее узнавали историю русской равнины. Миллионы лет назад на месте Дивногорска было море, и Лукиных решил выяснить, как и в какие сроки менялись очертания этого моря. Ведь именно в прибрежных участках — в тихих лагунах — скапливаются остатки морских животных и растений, порождающих нефть.
Вывод у Лукиных сложился такой: в недрах Дивногорска скрыты огромные богатства, о которых Пшеницын не имел, да по тогдашнему состоянию науки и не мог иметь точного представления.
Напутствуемый Лукиных, я выехал с экспедицией в Дивногорск весной 1941 года. В намеченных местах мы заложили пять опытных скважин. Но нефть упорно не давалась.
Война застала нас на буровой. Я пошел в ополчение. Со мной вместе двинулся, несмотря на свои пятьдесят пять лет, буровой мастер Федор Матвеевич — наш клёновский дядя Федор, который работал на Эмбе, пока я жил в Москве, и присоединился ко мне, как только я снова вышел в поле.
Через два дня нас отозвали из ополчения. В Дивногорск пришла телеграмма от Лукиных:
«Постановлением правительства предписано бурение продолжать. Желаю успеха в труде для победы».
Пришлось подчиниться приказу. Пришлось сдать гимнастерку, бриджи, противогаз. Винтовку я не успел получить. Выходя из расположения полка в штатском, я видел, как наш старшина, стоя в кузове трехтонки, вынимал из ящика винтовки, жирные от густой янтарно-желтой смазки, и выдавал моим товарищам, выстроившимся в очередь. Так, даже не прикоснувшись к оружию, я вернулся к буровым. Неделю спустя, в довершение ко всему, слег. Выпил сырого молока, заболел коровьей хворью — бруцеллезом и провалялся в госпитале целых три месяца. До сих пор не могу вспомнить об этом без досады.
Моя Лара и та на фронте. Она капитан, геолог в воздушной армии, а я в тылу, да еще без дела, на больничной койке.
Без меня скважина номер один — первая и самая глубокая, впоследствии почтительно названная «бабушкой», — дала газ. Федор Матвеевич, навещавший меня, рассказывал, как скважина сперва «плевалась», как глинистый раствор клокотал в ней, выплескивался — и вдруг взмыл фонтаном. Как все стало серым от глины: вышка, одежда рабочих, земля вокруг. Фонтан ревел, выбрасывал камни, потом стал бледнее и как будто исчез. Раствор вышел, но скважина гудела, из нее рвался газ.
Всё это было без меня! Не я, а Лукиных, находившийся тогда в нашей экспедиции, набрал газа в бутылку и почти бегом, с бутылкой в кармане плаща, отмахал пятнадцать километров до города, разбудил лаборантов, велел немедленно определить состав. Не передать, какую радость доставил всем нам результат анализа: нефтяной газ — спутник жидкой нефти.
Шли месяцы, забурлили еще две скважины и стали, хотя и скупо, с перерывами, давать нефть. Экспедиция наша гордо назвалась промыслом, а я лежал в четырех стенах палаты. Бороться с тоской помогал мне, как мог, Федор Матвеевич, помогали близкие своими письмами.
В Свердловске дочка моя Таська прижала ладошку к листу бумаги, обвела карандашом растопыренные пальцы и прислала, подписав:
«Папка, это моя ручка, бабушка велела тебе нарисовать».
Лара служила под Москвой, на строительстве аэродрома. Она встретила там Женю Надеинского, — он старший лейтенант, разведчик, спрашивал про меня и передал привет. Даже Симаков — мой старый противник Симаков — и тот был на фронте.
Тогда, лежа на больничной койке, я и вообразить не мог, что Дивногорск тоже станет фронтом жестокой непримиримой, смертельной борьбы.
ВОЗВРАЩЕНИЕ СИМАКОВА
Он вошел ко мне в кабинет в офицерском кителе без погон, с нашивкой на груди, выданной за ранение, подтянутый и как будто повзрослевший. В документах его значилось, что он, Симаков Василий Андреевич, отозван из армии, как специалист, нужный в тылу, и направлен в Дивногорск в наше распоряжение.
Я прочитал документы и вернул ему.
Он не торопясь вложил их в карман и сказал:
— Значит, так… Если не возражаешь, Сергей Николаевич, будем работать.
Он замолчал, ожидая ответа.
— Люди нам нужны, — сказал я. — Зверски нужны.
— Мне предложили Дивногорск. Я сразу решил — поеду. После всего, что было между нами, Сергей Николаевич, мое место, я так считаю, — здесь!
Я понял — он просит меня забыть прежнее. И я не возражал.
Что я мог возразить?
То, что было между нами, давно прошло. Давно, задолго до войны. Теперь, когда идет война, это кажется таким несерьезным, мелким. И сам он, Симаков, как будто не похож на прежнего Симакова. Он пролил свою кровь на фронте. Пристало ли мне судить его, — мне, пострадавшему во время войны всего лишь от сырого молока!
Передать точнее мое состояние тогда, в день возвращения Симакова, я не берусь. Но вывод, к которому я пришел, помню отлично. Да, надо забыть их, наши былые столкновения. Война велит нам это.
— Под Москвой царапнуло, — сказал он, заметив, что я гляжу на его нашивку. — Хорошо, кости не задело. Из такого ада выскочил!.. А как на промысле дела?
— Нефть даем, — сказал я. — Но мало пока.
— Молодец ты, Сергей Николаевич. Добился.
— Ну, хвастаться нечем, — ответил я. — Не такие у нас успехи, чтобы хвастаться.
План добычи мы не выполняли. Дивногорск вобрал в себя заводы, эвакуированные с Украины, из Ленинграда, заказы на горючее росли, а новых месторождений мы не находили. Нет, не все тайны дивногорских недр удалось нам раскрыть. Далеко не все.
— Где вы остановились? — спросил я.
— В гостинице.
Я подвел его к окну, еще не затемненному черной шторой (у нас тогда не было затемнения), и показал дом геологов, только что выросший в ряду других стандартных домов на главной улице поселка нефтяников.
— Перебирайтесь сюда, — сказал я.
Не мог я, никак не мог, перейти с ним на «ты». Еще не освоился как-то. Возможно, он заметил это.
— Сергей Николаевич, — проговорил он и сжал мои руки. — Значит, вместе работаем? Да? К черту старое! Правильно! Симаков пригодится здесь, будь спокоен!
Всё время он держался со мной скромно. А последние слова вдруг напомнили прежнего Симакова. Однако я ответил на пожатие.
Он ушел. Около полуночи позвонил Касперский.
— Симакова видели? — спросил он.
— Да.
— Война Алой и Белой розы закончилась? — пошутил он. — Помирились? Ну, я сердечно рад, Сергей Николаевич. Серьезно. Вашего полку прибыло. Он товарищ энергичный, горячий. Не то что мы, скептики.
Касперский имел в виду себя. Он числился научным консультантом промысла, носил поверх синего костюма в полоску ватник и сапоги, вникал в наши заботы, но единомышленником моим в геологии не стал. То, что Дивногорск начал давать нефть, не переубедило его. По его мнению, для развития добычи данных нет. «Нет смысла доставать нефть по капле, — твердил он на совещаниях, которые созывал Лукиных. — Рациональнее перебросить силы в Башкирию, — в Ишимбаево». Это особое мнение доцента Касперского неизменно заносилось в протокол. Я спорил с ним, и Лукиных тоже спорил.
В трубке раздалось:
— И как же вы намерены его использовать?
— Не знаю, — ответил я. — Директор решит.
— Армия пошла ему на пользу, кажется. Бравый товарищ!
Как всегда, доцент отзывался о Симакове с легкой, снисходительной иронией.
Утром меня вызвал директор:
— Симаков был у тебя? Дадим ему первый участок. Парень смелый, видать. Фронтовик.
В тот же день Симаков был назначен начальником первого участка — самого трудного. Я, как главный геолог промысла, поддержал это решение…
Симаков приосанился. Прежний апломб вернулся к нему. В час перерыва в столовой слышалось:
— Скажу вам точно: весной фрицы побегут. Мне известно из авторитетных источников. Это не для широкой огласки, конечно, вы понимаете…
На первом участке бельмом на глазу, постоянным укором была скважина номер один, «бабушка». Газовый фонтан не сумели покорить, заковать в сталь. То ли от искры, высеченной камнем, то ли от спички, брошенной вражеской рукой, фонтан загорелся.
Синий пульсирующий сгусток пламени висел над вышкой. Газ выходил из скважины вместе с водой. Бессильная потушить, она гнала его вверх, и поэтому казалось, что струя воды там, на десятиметровой высоте, превращается в огонь. Падая ливнем на землю, вода замерзала, глыбы льда скрыли вышку до половины. А вокруг, на пятачке раскисшего, истоптанного чернозема, обдаваемые брызгами, двигались люди.
Борьба с пожаром шла круглые сутки. Счастье, что другие вышки далеко от «бабушки». Но опасность велика. Не сегодня-завтра придет приказ замаскировать промысел. Надо погасить, во что бы то ни стало погасить, газовый фонтан.
В конце марта водяная струя из скважины усилилась, шапка пламени поднялась, и мы решили добавить еще воды, направить в фонтан струи воды из нескольких пожарных шлангов, — тогда, может быть, пламя уйдет выше и оторвется, затухнет.
Мы не ошиблись. Гнетущее синее зарево, стоявшее над Дивногорском, исчезло, и Симаков — новый начальник участка — сразу стал видным человеком на промысле. Правда, всё было подготовлено до него. И самую большую благодарность заслужил Федор Матвеевич, организовавший тушение. Но ведь он не любил распространяться о себе. И вышло так, что львиная доля славы досталась Симакову.
Так или иначе, пожар одолели. Тот день, когда погасили «бабушку», был праздником, настоящим праздником. Еще вчера огни поселка мерцали тускло, придавленные синим светом газа — мертвенным, больше похожим на тень, чем на свет. Свинцово смотрели окна. Паровоз, шедший по насыпи, которая отделяла поселок от промысла, казался в зловещем сиянии плоским, словно вырезанным из черного листа. Жуткий, несносный свет! А сегодня белеет снег под молодой луной, тени лежат четкие, неподвижные. Эх, друзья! Если бы можно было так всегда различать в жизни светлое и темное, благородство и низость, честность и предательство.
Другая буровая у Симакова, пятая, вела себя неспокойно. «Плюется», — говорил о ней Федор Матвеевич. Из осадной трубы, торчавшее из земли, смачно выплескивался глинистый раствор.
— Надо закрыть ее, — сказал я Симакову. — А то еще ударит…
Он и сам решил сделать это, оказывается. Закроет, поставит отводную трубу.
Но не всё он сказал мне. Знал бы я, что? он собирается учинить на буровой, — крупный вышел бы у нас разговор.
Как только поток из недр начал настойчиво проситься наружу, упираясь в стальную задвижку, Симаков бросился к телефону. Он позвонил в горком, в горсовет, в буровую контору, в трест, в университет Касперскому. Начальник участка приглашал всех на пуск скважины, звал любоваться, как пойдет нефть.
Затем Симаков известил дирекцию о предстоящем спектакле. Я был против. Но директора он всё-таки уломал: промысел-де молодой, надо ему создать авторитет.
Что же получилось? Скважину открыли, в трубе забулькало, заурчало, и хлынул поток, — но не нефти, а воды.
К счастью, зрителей было немного: у большинства приглашенных нашлись более важные дела.
Красный, в расстегнутом ватнике, Симаков носился от вышки к гостям и жаловался на воду, на оборудование, на всё решительно:
— Хоть сам дежурь день и ночь! Скважина капризная, а помощи я много вижу? Настоящей помощи?
Знакомая песня! Я снова увидел прежнего Симакова-студента, вспомнил, как он бил себя в грудь и возмущался, что ему — беспризорнику, сироте — никто не помогает.
Я не был в числе зрителей. О неудавшемся спектакле я узнал от товарищей. Многие жалели Симакова. Директор наш сказал:
— Сильно переживает, бедняга. Всю душу вложил.
Пятая буровая всё же оправдала надежды: воду откачали, просверлили еще несколько метров песчаника — и пошла нефть.
ОЧНАЯ СТАВКА
Да, это была очная ставка. И необычная. Но сперва надо сказать о мастере Загоруйко.
Загоруйко — один из лучших наших бурильщиков. Человек он молчаливый, замкнутый. Голос от застарелой простуды сипловатый, тихий. Чуть ли не к каждой фразе он прибавляет: «никаких зверей». Лет ему по паспорту пятьдесят, а на вид — не больше сорока. На войне он был шофёром, возил снаряды через замерзшую реку, под огнем немцев. В конце зимы его, тяжело раненного, вытащили из ледяной воды. В мае он вернулся на промысел — в солдатской гимнастерке, с орденом Славы, — и встал у буровой, хотя нога, поврежденная в колене, повиновалась неважно.
— Никаких зверей, — говорил он. — Выдержит.
Больше всех был рад ему Федор Матвеевич. С Загоруйко он подружился до войны, на Эмбе. С тех пор повелось так — дядя Федор ничего не решит, не посоветовавшись с Загоруйко. И Загоруйко, прежде чем взяться за какое-нибудь сложное дело, непременно обговорит всё с Федором Матвеевичем. Своеобразный технический совет образовали на промысле два мастера-бурильщика, и даже война не могла оторвать их друг от друга. Загоруйко в каждом письме спрашивал, как идет бурение. Дядя Федор подробно отвечал: мол, замучила вода, затопляет скважину. Проходит неделя, — и старый мастер развертывает очередное письмо-треугольник со штампом военной цензуры.
В час короткого отдыха, в землянке, сержант Загоруйко припоминал свой опыт борьбы с подземными наводнениями, давал советы, набрасывал чернильным карандашом схемы. «Алексашка помоложе, пограмотней», — говорил с уважением дядя Федор.
Работали они на разных участках промысла, встречались в перерыв, в столовой. Молча ели, потом, поднявшись на взгорок, ложились на жесткую степную траву, уже начинавшую желтеть от солнца. Федор Матвеевич сосал трубку. Загоруйко, выросший в старообрядческом селе, не курил.
Дядя Федор заметил: Загоруйко всё чаще заводит речь о Симакове. Чем так заинтересовал мастера новый начальник первого участка? Загоруйко не объяснял. Пройдет Симаков мимо, — мастер обернется и долго смотрит ему вслед.
— Симаков! Симаков! — загадочно повторял он, лежа на взгорке и жуя травинку. Казалось, фамилия эта удивила Загоруйко.
Когда при нем говорили о Симакове, мастер слушал, стараясь не пропустить ни слова, Федор Матвеевич — тот недолюбливал своего начальника. Плохой работник? Нет, этого не скажешь. Первый участок не назовешь отстающим.
— Шумит, колготится, — ввертывал дядя Федор клёновское словечко, означавшее чрезмерную суетливость. — Подумать можно, Аника-воин, герой. А для себя всё. К другим — задом.
В общем, отношение к Симакову установилось на промысле несколько насмешливое. Конечно, люди сразу раскусили мелкое честолюбие Симакова, его хвастливость и эгоизм. Над ним посмеивались, — одни сурово, другие добродушно. Работает всё-таки, надо отдать ему справедливость, неплохо!
Федор Матвеевич, знавший Симакова еще до войны, был строг к нему. И Загоруйко соглашался:
— Без отца, без матери вырос. Один — вот главное дело. Без семьи сердце у человека каменеет. Си-ма-ков!..
«Далась ему эта фамилия», — думал дядя Федор. Но он не требовал откровенности, — умел терпеливо ждать.
Однажды в перерыв они сидели на пригорке, и Загоруйко, повернувшись к дяде Федору, спокойно сказал:
— Матвеич! Мне с Симаковым потолковать надо.
— Да?
— Дело к нему. Серьезное.
— Какое дело, Алексаша?
— Трудное. Не знаю, как и взяться.
Матвеич ждал.
— Ты говоришь, матка шарманщику отдала его?
Со слов Симакова было известно: ребенком четырех лет привезла его мать в Алма-Ату на базар и отдала деду-шарманщику. Дед бросил мальчика или потерял, его подобрали и определили в детский дом. Чей он, откуда, малыш толком объяснить не мог. Симаков — фамилия воспитателя. Ее и дали ребенку. Эту историю Загоруйко знал, но теперь ему зачем-то понадобилось услышать ее снова, и со всеми подробностями, какие Матвеич мог припомнить.
— Чумаченко Настька, — сказал Загоруйко тихо, как бы про себя.
Матвеич не понял.
— Была такая в нашем селе. Отдала ребеночка на ярмарке, в Алма-Ате. Никаких зверей! Только не его.
— Не его?
— Нет.
— Этого тринадцати лет отдали. Отец, своими руками… Сам отослал от себя. К чужим людям…
Говорил Загоруйко не торопясь и как будто спокойно, только голос вдруг осекся, упал до шепота. Лица его Матвеич не видел: Загоруйко лежал на животе, подперев кулаком щеку, смотрел вниз, пальцы его выщипывали траву. Она не давалась, корни ее цепко впились в сухую, спекшуюся землю. «Словно волосы на себе рвал», — рассказывал мне Матвеич впоследствии.
— Тринадцати лет мальчишка, — продолжал Загоруйко. — Должен он отца помнить или нет? А?
Ошеломленный, слушал Федор Матвеевич, и не сразу до него дошло, что друг его говорит о себе, о своей отцовской боли.
Впервые Загоруйко открыл ему свое прошлое. Прошлое, о котором писал в автобиографии: «вырубил навек и убедительно прошу не разглашать». Кроме отдела кадров, мало кто знал, что он, Александр Загоруйко, в 1923 году был осужден на десять лет за то, что вместе с приятелем-кулаком поджег сено в соседней сельхозкоммуне. Сперва арестовали его сообщника. Предвидя разоблачение, чувствуя крах всего мира собственников, к которому и сам Загоруйко тогда принадлежал, он решил расстаться с сыном. Чтобы хоть на сыне-то не было пятна! Пусть считают, что Василий — беспризорник, не знающий ни отца, ни матери, как тот мальчонка, отданный шарманщику. Так наказал Загоруйко родственнику своей покойной жены, кустарю-фотографу Кумушкину. К нему, в город Кзыл-Орду, он и отослал сына на воспитание.
Загоруйко отбыл принудительные работы и, отпущенный досрочно через четыре года вместо десяти, вышел на волю со специальностью электромонтера и поступил на лесопилку в Архангельске. В Костроме он стал матросом речного флота, в Баку — бурильщиком, и к этому делу привязался душой. Имя его появилось на Доске почета, среди ударников. Шли годы. Прошлое свое Загоруйко стал вспоминать с удивлением и ужасом, — словно не он, другой кто-то шел поджигать… Пытался найти сына, но безуспешно: кустарь-фотограф умер, воспитанник его Василий исчез из Кзыл-Орды.
И вот нашел теперь…
— Забыл он меня, Матвеич? Или не хочет признать? — спрашивал Загоруйко с тоской. — Боится меня? А? Неужели я и теперь недостоин? Скажи!
Вот что мучило Загоруйко. Федор Матвеевич как мог ободрял его, советовал:
— Ты бы поговорил с ним.
— Да. Предположим, я поговорю. А если он отопрется? От страха возьмет да отопрется? Тогда что? Оставим мы это дело? Что же я врать буду людям, что от сына вестей не имею, а он тут, начальником участка? И тебя врать заставляю? А? Ведь не будешь ты врать, Матвеич.
— Не буду.
— Вот я и соображаю: с глазу на глаз, втихаря, разговор у нас, может, и не выйдет. Никаких зверей. При свидетелях надо.
Не знаю, почему, но Федор Матвеевич решил, что свидетелем должен быть я. Если бы он предупредил меня, я пригласил бы парторга.
Дядя Федор привел сперва Загоруйко, а потом с озабоченным видом отправился за Симаковым, который еще ничего не подозревал. Так состоялась встреча отца с сыном.
Я назвал ее очной ставкой. Действительно, Симаков имел вид пойманного преступника. Он сидел красный как рак. Даже руки его, усеянные рыжеватыми волосами, покраснели. Он не знал, куда девать их. Если у него и пробудилось хоть малейшее сыновнее чувство, то я, во всяком случае, не заметил этого. Он испугался. Страх подавил в нем всё остальное. Однако он понял, что отрицать бесполезно. На это у него хватило разума.
Да, он Загоруйко, а не Симаков. Каким образом он стал Симаковым? Так его записал Кумушкин, у которого он жил. Зять Кумушкина служил в милиции, поверил родственнику, подмахнул документ. Симаковым и в школе числился, и в вуз пошел.
Лицо Загоруйко выражало страдание.
— Простят, Василий, — произнес он тихо, с суровой решимостью.
Сын не взглянул на него. Симаков поспешно шарил своими красными руками по карманам расстегнутого ватника. Потом оттянул обшлаг пиджака, извлек бумажник. На столе выросла пачка серых, замусоленных справок.
— Геологоразведочного треста… От буровой конторы в Грозном… От экспедиции редких земель… Пожалуйста, можешь убедиться. На ответственном деле был всегда.
— Простят, Василий, — молвил Загоруйко еще тверже.
Но сын опять не обратил на него никакого внимания. Вид бумажек придал Симакову бодрости. Видно, он держал свой архив всегда при себе, на всякий случай! Теперь он, слюнявя палец, осторожно развертывал каждую потертую, прозрачную на сгибах бумажонку, расправлял и клал на стол. «Словно деньги отсчитывает», — подумалось мне.
Я посмотрел на Загоруйко. Страдание не сходило с его лица. Как бы я хотел порадоваться тому, что этот человек нашел сына! Но я не мог радоваться.
Вдруг Симаков ободрился. Нагловатый огонек блеснул в его глазах:
— Та-ак! Что же дальше? На собраниях трепать будете? Ну-ну. Вижу, Сергей Николаевич, не забыл ты старое.
Меня передернуло.
— Не понимаю тебя, — сказал я.
— Всё понятно, всё понятно. Было бы желание. Эх!.. От тебя зависит, как подать… Пока до масс не дошло… С авторитетом моим, как начальника, надо считаться? А? Симаков нашел отца, вот и всё. Коротко, ничего лишнего… А то — скрывал происхождение, то да сё. К чему это?
— Товарищ Симаков, — прервал я. — Вы сейчас же возьмете свои слова обратно.
— Ладно. Вижу. Эх…
Он махнул рукой и промолчал, отвернувшись, потом бросил:
— Ладно. Топи?те Симакова.
— Глупый ты человек, — прозвучал голос Загоруйко. — Совесть твою хотят спасти, а ты…
Когда эта необычная очная ставка наконец кончилась, я подошел к открытому окну, чтобы вдохнуть свежего воздуха. Поселок спал, в тишине светлого летнего вечера звенели шаги двух человек, шедших по дощатому тротуару.
— Ну, и чего ты добился? — услышал я резкий, озлобленный голос Симакова. Он шел впереди. Хромой Загоруйко едва поспевал за ним.
— Василий… Вася… Погоди! Не беги! — донеслось до меня.
Симаков, ускоряя шаг, поднялся на мостик, перекинутый через ручей, и пропал в волне тумана.
Оба они уже давно перешли на тот берег, а я всё еще слышал их шаги — Симакова и его отца, хромого Загоруйко, спешащего вдогонку. Но нет, это мне кажется. Всё тихо, только стучит движок электростанции за ручьем, — стучит неумолчно, размеренно, жестко.
И на партийном собрании, где разбиралось дело Симакова, меня почему-то преследовала одна эта картина: гулкие мостки, ведущие к ручью, туман, ковыляющий Загоруйко, его просящее: «не беги»…
Я готов был сказать во всеуслышание: Симаков не заслуживает доверия. Ему не место в партии. Уже изобличенный в обмане, он придумывал новую ложь. Он озлоблен против нас. Он озлоблен и против своего отца. За что? Отец поступил честно, открыл нам правду. Оказалось, что ходом истории и волей самого Загоруйко социальное происхождение Симакова исправлено. Ему бы благодарить нашу партию, которая такие чудеса творит, так людей поднимает! Но Симаков не понял этого, ничего не понял. И раскаяние его неискреннее, вынужденное.
Но я ничего не сказал. Я колебался.
«Не лучше ли тебе помолчать? — спрашивал я себя. — Вряд ли ты сможешь быть вполне беспристрастным к Симакову. Пусть скажут другие».
За исключение из партии высказался только один из выступавших, но все критиковали недостатки Симакова, советовали ему строже отнестись к себе, оправдать доверие товарищей.
Бюро решило:
«Принимая во внимание, что Симаков пролил кровь за Родину, в партии его оставить, вынести строгий выговор с предупреждением».
За это решение вместе с большинством проголосовал и я.
Потом я жалел, что не взял слова, спрятался за коллектив, оставил при себе свое мнение. И от этого моя неприязнь к Симакову, вспыхнувшая вновь, стала еще сильнее.
Однако не так уж много я думал о нем. Были дела поважнее.
Фронт приближался к Дивногорску, — вот главное, что волновало всех нас.
То была пора Сталинградской битвы. Фашисты силились перерезать Волгу, охватить все средние области России, лишить их бакинской нефти, с тыла выйти к Москве. В июле враги два раза бомбили Дивногорск. Подвоз оскудевал, запасы в городе истощались, заводы, ковавшие оружие для фронта, жгли последний уголь. Теперь как никогда важно было иметь собственное топливо. Между тем из скважин всё чаще вместо нефти лилась вода. Дивногорские недра отдавали нефть скупо, слишком скупо! Промысел по-прежнему не выполнял плана. Когда же удастся освоить это загадочное месторождение, которое то как будто дается в руки, то исчезает? Когда мы избавимся от аварий, перестанем тратить недели на то, чтобы достать инструмент, оброненный по неумелости или по злому умыслу в глубокую скважину?
Неожиданно в самую гущу наших горестей и забот ворвался Надеинский. Капитан Евгений Надеинский.
СЛЕД ВРАГА
— Помогать вам прислали, — сказал Надеинский.
Помощь ох как была нужна!
Он сидел у меня в комнате, как всегда чистенький, аккуратный, с вышитыми звездочками на сверкающих погонах, в хорошо начищенных сапогах, которые каким-то образом сохранили свой блеск, несмотря на черноземную пыль. Офицерская планшетка лежала на колене. А вот глаза его остались такие же, как у школьника Надеинского, — большие и мечтательные.
Я спросил его про Тосю Петелину, он грустно усмехнулся:
— Она замужем.
— Да, мне Зина сказала, — отозвался я. — Наша Зина Талызина, клёновская. Помнишь? Она здесь, врачом в госпитале.
— Тося уже пять лет замужем, — сказал он. — Я, как только прослышал, отправил свой гроссбух ей по почте. Пусть знает, что я вздыхал по ней! Смешно? А? Сам не понимаю, зачем я у-учинил такое.
Гроссбухом называл Женя толстую тетрадь, в которой тайком от всех писал стихи, посвященные Тосе.
— Даже мне не показал ни разу, — пожурил я его. — Прочел бы хоть одно.
— Еще чего! — удивился он и поднял брови. — Лариса как? Пишет?
— Пишет. Молодец она, орден ей дали. Не то что я тут…
— И у тебя, по-моему, есть успехи.
— Какие к черту! — сказал я. — Трудно нам, Женя. Придется тебе лекцию по геологии вытерпеть, коли хочешь иметь понятие о наших делах. Не по твоей части, боюсь.
Пока мы говорили, на языке у меня вертелся один вопрос. Ведь я не забыл нашей встречи в Ленинграде. Нет больше на свете негодяя Сиверса, ускользнувшего от правосудия, но есть его отпрыск. Маврикий Сиверс, — вот что сообщили мне тогда, и это крепко засело в моем сознании. Известно о нем что-нибудь? Объявился он? Пойман?
— Ничего нельзя сказать, — ответил Надеинский.
По тону его я понял: ему не пришлось долго рыться в памяти, чтобы ответить мне. Он тоже не забыл и, может быть, видит след врага!
На самом деле Надеинский, как он сам признался мне потом, еще ничего не видел.
В то время, когда коммунисты промысла решали судьбу Симакова, в тысяче километров от нас шел из вражеского тыла партизан. Очень многое в жизни разных незнакомых друг с другом людей зависело от того, сумеет ли он пройти через позиции гитлеровцев, добраться к своим, вручить донесение. В нем сообщалось, что вражеский штаб установил связь с агентом, находящимся в Дивногорске. Этот агент вместе с тремя другими гитлеровцами был заброшен в район Дивногорска еще в конце февраля.
Партизан благополучно перешел линию фронта. Донесение передали капитану Надеинскому, который интересовался всем, что касалось Дивногорска. Надеинский изрядно удивился. Там в конце февраля действительно была сброшена четверка вражеских парашютистов. Но десант считался ликвидированным. Судя по рапорту, полученному тогда из Дивногорска, ни один враг не спасся.
А теперь выходит — один всё-таки ускользнул!
Приехав в Дивногорск, Надеинский первым долгом направился в центр города и вошел в серое трехэтажное здание. Местный работник, лейтенант Карпович, положил перед ним папку с пометкой «секретно».
Папка содержала отчет о ликвидации вражеского парашютного десанта 26 февраля 1942 года. Операцией руководил Карпович. Из протоколов явствовало, что трое диверсантов убиты, один захвачен живым.
Переворачивая страницы протоколов, Надеинский обнаружил имена убитых гитлеровцев: их назвал задержанный.
1. Герман Винд, двадцать пять лет, уроженец колонии Грослибенталь, близ Одессы.
2. Франц Вирбель, двадцать два года, оттуда же.
3. Маврикий Сиверс, тридцать лет, родился в Баку.
И это не было новостью для Надеинского. Тогда, полгода назад, он почувствовал облегчение, узнав о гибели Маврикия Сиверса. Опаснейший, злобный враг не существует больше! Теперь Надеинский перечитывал список с тревогой.
Он крепко запомнил себе со времен учебы: опытные шпионы «погибают» и «воскресают» иногда самым неожиданным образом. А Маврикий Сиверс, капитан гитлеровской армии, главарь десанта, был бесспорно самым матерым врагом из четверых.
Но нет, не похоже, что ускользнул именно он. Труп Сиверса опознан не только задержанным парашютистом Гейнцем Ханнеке, — этот, допустим, солгал, — но еще и нашим человеком — шофёром грузовой машины военторга Петренко Анатолием Ивановичем.
Вот как это было.
В ночь с 3 на 4 марта разыгралась пурга. Благодаря ей парашютисты могли скрытно приземлиться и остаться незамеченными до рассвета. В ту же ночь Петренко возвращался из дальнего района в Дивногорск с грузом картофеля. Близ деревни Михеевки, в тридцати шести километрах от города, машина застряла. Петренко уверяет, что он завяз в сугробе, но это не совсем точно. Просто он плохой водитель, имеет два выговора за халатное обращение с машиной. Колхозники напрасно раскачивали грузовик и толкали. Мотор заглох. Петренко сообразил, что машина встала намертво, что картошку, пожалуй, хватит морозом, и расстроился. Телефона в Михеевке нет, и шофёр отправился в село Раздольное, с тем, чтобы оттуда позвонить в Дивногорск, на свою автобазу, спросить, как действовать. От Михеевки до села десять километров открытой степью. Пройдя примерно полдороги, Петренко сбился и вышел по снегу, крепко схваченному настом, к глубокой балке. Там он встретил незнакомого человека в полушубке, в шапке-ушанке и спросил, как пройти в Раздольное. Незнакомец не знал и даже не слыхал о таком селе и, в свою очередь, задал вопрос Петренко — где находится военный городок.
Петренко знал это, но не сказал и двинулся дальше. Нездешний человек, ищущий военный городок, показался шофёру подозрительным, и он оглянулся. Незнакомец спускался в балку. На дне ее были какие-то люди. Уже светало, сквозь летучий снег люди различались смутно. Петренко не может сказать, как они были одеты. Они что-то делали, сгрудившись и нагнувшись, похоже — пытались разжечь костер.
Что им нужно в голой степи, в балке, вдали от жилья? Кто они такие? Хотя Петренко не отличался доблестью как водитель и политзанятия пропускал постоянно, однако одно он усвоил твердо: время военное, надобно быть начеку.
Светало быстро, пурга слабела, и Петренко смог ориентироваться без посторонней помощи. Часа полтора спустя он рассказывал по телефону дежурному автобазы о происшествии с машиной и о странной встрече в степи.
Лейтенант Карпович уже имел известия о появлении чужого самолета к востоку от Дивногорска и принимал меры. К полудню, силами подразделения автоматчиков и местного населения, диверсанты были окружены.
Итак, труп Сиверса опознал гитлеровец Ханнеке, а шофёр Петренко подтвердил, увидев труп: да, это тот самый подозрительный субъект, который спрашивал дорогу к военному городку.
Перечитав показания Петренко, Надеинский обратился к протоколам осмотра трупов. На Сиверсе была одежда советской выделки. Белье помечено клеймом 213-го госпиталя. В кармане перочинный нож с маркой «Павлов посад», огрызок карандаша «Пионер», советские деньги на сумму 167 рублей 75 копеек. Ничего удивительного! Гитлеровцы отобрали одежду и прочее у советских граждан, запертых в концлагерь, и экипируют своих агентов.
Надеинский закрыл папку. Всё! Бумаги больше ничего не скажут.
И всё-таки он медлил сдать папку в окошечко канцелярии. Он вызывал Карповича, задавал ему еще раз одни и те же вопросы, ворчал по поводу того, что поля документов слишком узкие:
— У-удовлетворительно я бы вам не поставил за оформление. Поля должны быть шире! Научите ваших машинисток! Читать же трудно! Хоть расшивай!
Имя Маврикия Сиверса не давало ему покоя. Уходя, он сказал Карповичу:
— Если вы допустили ошибку, то именно в отношении Сиверса, мне кажется.
— Какую?
— Пока неясно. Поговорю с Петренко. От него самого хочу услышать.
«Карпович — мужик без фанаберии, — решил про себя Надеинский. — Правильный мужик. Хотя ликвидацию десанта он считает самой большой своей заслугой и сейчас ему обидно, всё же он держит себя в руках».
— Надо, значит, исправлять ошибку, товарищ капитан, — сказал Карпович. — Указания от вас будут?.
— Пока нет.
На автобазу Надеинский попал в обеденный перерыв. Шофёр Петренко — молодой парень, щеголеватый, насколько это вообще возможно на работе в гараже, в кубанке набекрень, с пестрым шарфом, лезущим из-под ватника, сидел на ступеньке грузовика и рассказывал товарищам, обступившим его, что-то смешное. Рассказывал живо, в лицах, «ч» произносил с присвистом, как «щ».
«Парень наблюдательный, — подумал капитан. — Запоминает людей, их характерные черты. Тем лучше».
После перерыва он отвел Петренко в сторонку. Разглядев погоны, шофёр обратился по-солдатски:
— Слушаю вас, товарищ капитан.
— В армии служили? — спросил Надеинский.
— До октября сорок первого. Я оконтуженный весь, а на личность — здоровый.
Надеинский попросил его передать встречу с незнакомцем в степи во всех подробностях.
— Опять следователь! — вздохнул Петренко. — Я могу сказать. Он подошел ко мне… Ну, обыкновенно подошел. Говорит: эй, браток, ты здешний? Я говорю: здешний. А я сразу щувствую, как будто меня по голове…
— Так уж сразу?
— Ага, — отозвался он вполне серьезно. — Он мне: в какой стороне военный городок? Я говорю: не знаю. Тут он меня, товарищ капитан, послал.
— Куда послал?
— А подальше. Интеллигентно сказать — в три этажа.
— Так, товарищ Петренко. Честно, без хвастовства, могли вы тогда подумать, что этот человек — только что из немецкого расположения, с парашютом?
— Очень свободно. Меня ровно кто по голове. Стоп, думаю…
Они поговорили еще немного, и на прощанье Петренко вдруг молвил, вздохнув:
— Эх, мне бы на следователя выущиться.
— Пока воевать надо, товарищ Петренко, — сказал Надеинский. — Ваша работа важная и чистая. Да, чистая. Вам не надо в человеческой грязи копаться.
Что осталось от беседы с Петренко? Почти ничего. Разве только одно словечко: «браток». Словечко возможное только в устах человека, который отлично, до мелочей, знает наш разговорный язык.
Из автобазы Надеинский поехал в военный госпиталь. Машина шла сперва по набережной, потом по шоссе вдоль берега. Дивные горы охватывают город полукольцом, прижимая его к реке Светлой. Как раз там, где южный конец подковообразного хребта выходит к Светлой, на скатах, над обрывами стоят белые здания курорта «Красный богатырь», теперь заполненные ранеными.
В коридоре Надеинского встречает женщина средних лет, — невысокая, широколицая. Крепко, по-мужски, жмет руку:
— Майор Талызина, — отступает на шаг и: — Женя? Неужели Женя?
Кинулась к нему, поцеловала в щеку, подтянувшись на носках, затормошила, засыпала вопросами. Он смотрел на нее во все глаза. Та же Зина Талызина, только крупнее и черты лица расплылись немного. Рядом с ней виделась ему Тося Петелина. Они всегда были вместе в школе.
Зина привела его в свой кабинет, включила электрический чайник. Не сразу Надеинский смог приступить к делу.
— Зина! Не имеешь представления, где госпиталь двести тринадцать?
— Это не наш номер, — сказала она.
— Я знаю.
— Двести тринадцать! Постой! Этот госпиталь расформирован. Ну да! Часть его, видишь, к немцам попала. На Украине. Нам кое-что из их имущества передали.
— Например?
— Инструменты.
— А белье?
Она вызвала сестру-хозяйку — белобрысую, розовую, словно облитую горячим молоком, и та, закусив губу, думала.
— Есть белье, — заявила она наконец.
Надеинский попросил показать ему пару. Сестра-хозяйка посмотрела на него, улыбнулась и опрометью выбежала из кабинета.
Метка, обнаруженная на рубашке убитого, была срисована в блокноте Надеинского. Но ему не пришлось вытаскивать блокнот. Одного взгляда было достаточно, — да, метка та самая.
Простое совпадение? Весьма возможно. Но Надеинский не мог уйти, не выяснив одной подробности — когда поступило сюда белье из двести тринадцатого?
Сестра-хозяйка снова улыбнулась ему и помчалась за накладными.
— Ох, бесстыжая, — рассмеялась Талызина. — На всех мужиков пялится. И на женатых.
— Я не женат, — сказал Надеинский.
— Да что ты?
— Из-за Тоси, наверно, — признался он. — Она, злодейка, виновата. А там война…
— Бедный, — вздохнула Зина.
Вернулась сестра-хозяйка. Белье заприходовали пятнадцатого февраля.
Пятнадцатого… значит, за одиннадцать дней до истории с десантом. За это время пара белья вряд ли успела пропутешествовать в Германию и прибыть обратно — на парашютисте. Значит, ему дали пару из имущества, забранного немцами раньше, на Украине. Но это в том случае, если убитый — Маврикий Сиверс.
А если нет? Если шофёр Петренко встретил в степи не Сиверса, а советского человека? Могло ли быть на нем белье с такой меткой? Да, могло. Допустим, это был боец, выписавшийся перед тем из госпиталя и искавший зачем-то военный городок. А задержанный Ханнеке, будто бы опознавший труп Маврикия, солгал.
Догадка крепла. Рождалась гипотеза, — пока еще шаткая. Как проверить ее?
Так размышлял Надеинский. Должно быть, эти мысли не покидали его, когда он сидел у меня в комнате вечером. Уже уходя, он спохватился и вынул из кармана пачку глюкозы:
— Чуть не забыл. Тебе от Зины для поддержания сил.
— Спасибо, — сказал я. — Не хочу я глюкозы, говорил же я ей. Добрая душа Зинка! Ей непременно надо заботиться о ком-нибудь.
Надеинский подал мне руку.
— У-увидимся, — сказал он. — Мне работать еще. А глюкозу ты ешь! Хорошая штука.
НАСЛЕДСТВО ГЕЙНЦА ХАННЕКЕ
Гейнца Ханнеке еще не расстреляли. Полковник Степанов — начальник Карповича — решил, что Ханнеке рассказал не всё.
На первом допросе Ханнеке отчаянно изворачивался, уверял, что оказался в числе диверсантов не по своей воле, а по принуждению. Во всем-де виноват Сиверс.
Как же Сиверс заставил его? Карпович потребовал объяснений. Ханнеке долго вилял, но наконец сознался в одном — он отправился в Советский Союз добывать себе наследство. Дома, у родных Ханнеке, хранится документ, удостоверяющий, что 23 мая 1913 года отец Гейнца — Рудольф Ханнеке, совместно с Генрихом Сиверсом — отцом Маврикия, приобрели у фирмы «Доннель и К°» часть ее земельных владений в Дивногорской губернии. На этом участке ныне расположен курорт «Красный богатырь» с его сернистыми источниками. А в то время значилась лишь небольшая деревушка Шестихино. На востоке участок примыкал к доннелевским асфальтовым разработкам, где теперь нефтепромысел.
— Выходит, Ханнеке за наследством пожаловал к нам? — спросил Надеинский Карповича.
— Точно, — ответил он. — Надеялся досидеть тут до победы Гитлера и стать хозяином.
«Генрих Сиверс, — тот, по всей вероятности, вложил в эту покупку деньги, нажитые на украденном изобретении — на краске Любавина. А Рудольф Ханнеке? Верно, был под стать ему», — подумал Надеинский.
Готовясь к беседе с Гейнцем Ханнеке, он слушал Карповича. Лейтенант допрашивал Гейнца подробно и смог многое сообщить о нем.
Гейнц Ханнеке родился в 1910 году в Баку. Отец его, инженер Рудольф Ханнеке, ганноверский немец, приехал в Россию в начале века и поступил в контору нефтепромышленника Доннеля. Там Рудольф познакомился с датчанином Генрихом Сиверсом. Оба искали одного — наживы. Но, конечно, не асфальт привлекал их под Дивногорском, — залежи его истощились и, кроме того, пугал ядовитый нефтяной газ. Землю купили для того, чтобы соорудить на целебных ключах водолечебницу, — вернее сказать, увеселительное заведение под вывеской лечебницы. Заведение назвали «Квисисана». Дивногорские купцы ездили туда на пароходе кутить.
Гейнц провел детство в Баку, о «Квисисане» знает только по рассказам отца. Другом Гейнца с ранних лет был Маврикий Сиверс. В 1922 году, когда Ханнеке выехали за границу, старый Сиверс отправил Маврикия с ними.
Вернувшись в Германию, Рудольф Ханнеке не потерял связи с Доннелем, определился на службу в туристское бюро «Глобус», созданное на доннелевские доллары. В этом бюро весьма интересовались Советской Россией, и Рудольф слыл специалистом.
Купчая на землю в России лежала в шкатулке вместе с фамильными ценностями. Гейнц помнит: отец иногда вынимал купчую, расправлял, читал вслух, по-русски, и бранил большевиков. В 1928 году надежды семейства Ханнеке ожили: заокеанский миллионер Доннель просил у советской власти концессию на поиски нефти. Однако радость была недолгой: Доннель получил отказ. Ханнеке перенесли упования на Гитлера, на войну.
Себя Гейнц Ханнеке не причислял к фанатикам гитлеризма. По его словам, он стремился жить тихо. Маврикий Сиверс пошел в военное училище, ну а он, Гейнц, предпочел архитектуру. Гитлер покрывал Германию казармами, и Гейнц чертил эти казармы — сходные между собой, как солдатские ботинки. Таланта для такого занятия не требовалось. Однако Гейнц на вопрос о профессии именует себя деятелем искусств.
В 1935 году отец Гейнца умер. Во главе доннелевского «Глобуса» оказался гитлеровец Маврикий Сиверс. В 1939 году Маврикий вызвал Гейнца и поставил вопрос решительно: право на землю в России надо заслужить, иначе Доннель объявит купчую потерявшей силу. Гейнц усомнился, есть ли на это право у Доннеля. Маврикий ответствовал, что Доннель достаточно богат, чтобы не считаться с законами. Потом Сиверс сказал: война с Россией будет, а Доннель стоит на стороне Гитлера против России, так как вложил в нацизм двести сорок миллионов долларов. Гейнц отказывался служить у Сиверса: архитектору-де, человеку искусства, чужда воинская дисциплина. Он хотел, чтобы землю завоевали ему другие. Однако уклониться не удалось. Его мобилизовали в армию и направили в школу альпинизма при «Глобусе», то есть в школу шпионажа и диверсий. Выучившись там на доннелевские деньги, Гейнц пожаловал к нам.
Обрадованный тем, что его не расстреляли сразу, как он ожидал, Гейнц рассказывал о себе подробно, поощряемый лейтенантом Карповичем, которому вообще интересно было узнать, как же формируются такие, как Гейнц, как Сиверс и прочие, им подобные. Гейнц выложил на допросе и задание, с которым летела сюда вся четверка диверсантов: тормозить выпуск оружия для фронта всеми мерами, вплоть до убийства советских и партийных работников, крупных специалистов. Особое внимание приказано было обратить на нефтепромысел, хотя он создан недавно и дает очень немного топлива для промышленности города. Но у Доннеля, говорит Ханнеке, есть какие-то особые интересы, связанные с дивногорской нефтью.
Вот и всё, что сообщил Гейнц Ханнеке. Понятно, Карпович этим не удовлетворился. Есть ли у четверки диверсантов опора на нашей земле? Кто сообщники? Где явки?
Тут Ханнеке начинал отнекиваться. Он никого не знает в Советском Союзе. Явки, наверно, есть, но о них знал Сиверс, убитый Маврикий Сиверс. Карпович и его начальник, полковник Степанов, пришли к выводу: Гейнц рассказал лишь часть правды. Потомственный шпион, друг детства Маврикия Сиверса, должен знать больше.
«С чего же начать разговор с Гейнцем? — спрашивал себя Надеинский. — Вряд ли стоит задавать ему вопрос, жив ли Сиверс. Если предположения верны, то Маврикий Сиверс, главарь группы, удрал, избежав кары. Из этого и надо исходить. Сиверс жив, Гейнц Ханнеке нас обманул. Так скорее подействует».
Гейнца привели. Запоминающихся примет нет, — так говорил мне Надеинский впоследствии. Такого можно увидеть несколько раз и всё-таки не удержать в памяти. В глазах — испуг. Но эти же глаза могут смотреть заносчиво, нагло.
— Вы по-прежнему намерены утверждать, что Маврикий Сиверс убит? — начал Надеинский.
Всё же он удивился, когда услышал ответ, удивился, хотя имел основание предвидеть его. Прежде чем заговорить, Ханнеке дернулся на табуретке и помолчал. Потом ответил с готовностью и даже истово:
— Теперь я могу сказать, господин офицер. Убитый не Сиверс.
— Кто же?
— Не знаю.
— Опять играете в прятки?
— Нет, нет. Теперь я скажу всё, господин офицер. Но я клянусь, что не знаю.
И он объяснил, как было дело. Четверка Сиверса приземлилась в сильную пургу. Пурга, да еще ночь, ориентиров никаких, кроме далекого зарева горящего газового фонтана. Определить свое место непрошеные гости не смогли, забрались в балку, попытались устроить укрытие из снега, но не сумели. Под утро, как только стало светать, Сиверс приказал Ханнеке идти на разведку. Ханнеке вылез из балки, побродил по степи, вышел на полузанесенную дорогу и у колхозника, обновлявшего путь на санях, спросил, куга он едет. Колхозник ответил, что до Раздольного, за четыре километра. С этим Ханнеке и вернулся. Сиверса он не застал. Под обрывом, на снегу, лежал труп неизвестного человека — очевидно, русского. Кто он, как попал сюда, в балку, Гейнц не знает. Сиверс застрелил его, взял документы и ушел, назначив старшим Германа Винда. Гейнц не успел ничего расспросить толком: их окружили, завязалась перестрелка.
— Винд приказал, в случае чего, выдать убитого за Сиверса, — сказал Ханнеке. — Я боялся, нет ли риска. Но Винд сказал, что риска никакого нет, так как этого человека хватятся не скоро.
Надеинский спросил:
— Почему вы сразу не открыли правду?
— Я думал, господин офицер… Я думал, меня всё равно расстреляют… Господин офицер, могу я рассчитывать, что мне сохранят жизнь?
«Ну, это не от меня зависит», — подумал Надеинский. Он бы лично не сохранил его паршивую жизнь. Ханнеке обманывал нас, он позволил удрать обер-бандиту Сиверсу и теперь ищи-свищи его! Да, предположение оправдалось. Но радости от этого было мало. Сиверс жив, шофёр Петренко встретил тогда, утром в степи, не его, а нашего, советского человека, которому нужен был военный городок. Затем неизвестный заметил людей в балке, спустился и, наверно, с той же доверчивостью обратился к ним. Почему Сиверс убил его? Неизвестный, приглядевшись к людям в балке, очевидно, заподозрил, что это чужие, стал опасен для бандитов!
— Винд хотел сперва спрятать труп, — обстоятельно пояснял Ханнеке. — Но тут нас окружили, а убитый был еще теплый… Я сам не трогал, я боялся прикоснуться, это Винд сказал: он еще теплый, надо выдать его, в случае чего, за Сиверса.
— Это я уже слышал, — сказал Надеинский. — Вы хотите быть откровенным сегодня, я вижу. Продолжайте. У вас должны быть явки.
— Я не знаю, господин офицер. Маврикий знал всё и Винд тоже. Мне Маврикий не всё доверял.
— Почему?
— Ну, понимаете… Я человек искусства. Маврикий считал, что это несолидно. Он вообще грубо обращался со мной, господин офицер. Я знал одно: мы должны были устроиться рабочими на нефтепромысел. Документы у нас хорошие. Сиверс обещал, что всё пройдет отлично с такими документами, тем более при нынешней обстановке.
— То есть? Что за обстановка?
— Военная, господин офицер. Но мы ее неправильно оценивали. Нас направляли в прифронтовой район. А оказалось, что наша армия еще далеко. Нам говорили, что у русских в тылу полная неразбериха и наша задача — только усилить хаос. И что вообще война вот-вот кончится. Я не знал ничего, в сущности… Я, господин офицер, в сущности случайно попал в эту компанию… Я вообще…
Глаза его шныряли, он лепетал, заискивал. Надеинскому стало противно, и он сказал:
— Ясно. Я вижу, кто вы такой. И всё-таки вы не сказали всей правды.
— Клянусь вам…
— У вас должны быть явки.
— Клянусь вам, господин офицер, я всё сказал… Я хотел вам помочь…
«Врет, негодяй, — решил Надеинский. — Не нам, себе он старается помочь. Да, про Маврикия он, пожалуй, открыл всё».
Глядя в плоское, бледное лицо пойманного диверсанта, следователь думал о причинах поведения Ханнеке и тут, казалось, до дна увидел подлую его натуру. Ведь Маврикий, судя по купчей, соперник Ханнеке. Война затянулась, авось русские успеют расправиться с Маврикием, а ему, Ханнеке, за откровенность даруют жизнь, и он, выпущенный из камеры своими, вступит во владение землей один! Не эта ли перспектива рисовалась ему?
— Всё, Ханнеке, — сказал Надеинский, вставая. — Пока всё. Не от меня зависит сохранить вам жизнь, — проговорил он, поймав умоляющий взгляд. — Только полной откровенностью, слышите, полной, вы сможете облегчить свою участь.
Всё, капитан Надеинский! Больше ты ничего не добьешься. Вот он опять клянется и умоляет. Что же ты остановился? Ты же ему разъяснил его положение как надо.
— Но знайте: так или иначе, земли вам не видать так же, как Гитлеру победы, — сказал он.
Ну, это уж вовсе ни к чему. Этакая привычка у русского человека — пронять врага не только оружием, но и словом, чтобы осознал безнадежность своих позиций, чтобы признал себя побежденным. Да где там? Этот разве осознает?
Очутившись на улице, Надеинский продолжал размышлять о том, что сейчас произошло. Он шел допрашивать Ханнеке, приготовившись к упорной борьбе, к запирательству преступника, к отчаянным уловкам с его стороны. И вдруг Ханнеке выдал Маврикия. Пришлось выдать, потому что война идет не так, как планировал Гитлер, — война затянулась, и Ханнеке решил извлечь из этого выгоду. История сработала против Маврикия Сиверса: Ханнеке выдал его, не сознавая, что его маневр обречен, что купчая, которую он хранил под подкладкой, никогда не будет иметь силы. Еще не разобравшись во всем этом, Надеинский обрадовался удаче, — очень обрадовался, напав-таки на след Маврикия Сиверса. Но в следующую минуту одернул себя: «Берегись, этак на радостях, упоенный успехом, ты примешь частицу правды за всю правду. Да и нет тут, по сути-то дела, твоего личного успеха».
Да, Ханнеке выдал Маврикия, так как считал это выгодным. Но ведь не лишено вероятности, что есть другие, которых Ханнеке знает, но укрывает. Ханнеке — враг, злобный, непримиримый враг, который силится, во-первых, избежать расстрела, во-вторых…
Ну, условимся, что про Маврикия, по крайней мере, Ханнеке сказал всё. Что же дальше? Опять впереди развилка дорог, капитан Надеинский! Два вопроса: кто убитый диверсантами советский человек и где Маврикий Сиверс? Не лишено вероятности: обе эти дороги в какой-нибудь точке сойдутся, потому что документы убитого — у Маврикия. Но он вряд ли пустит их в ход без особой нужды. Слишком рискованно.
Установить личность убитого надо поручить Карповичу. Он недостаточно внимательно вел следствие, рано ему вынесли благодарность. Пусть исправляет промах.
Маврикию повезло, чертовски повезло. Он уцелел благодаря исключительному стечению обстоятельств и за эти месяцы, наверно, плотно замаскировался, пустил корни.
Видно, у Маврикия есть в Дивногорске опора. В Дивногорске на нефтепромысле, возможно, с давних пор сидит какой-нибудь резидент Доннеля, — ведь на нефтепромысле у Доннеля какие-то особые интересы. И Ханнеке, если и знает, не спешит раскрыть этого резидента: ведь он не стоит на дороге у Ханнеке, как Маврикий Сиверс, сонаследник. Напротив, Ханнеке оттягивает время, спасает свою жизнь…
Шли недели. Ханнеке ничего не открыл.
«ЧЕЛОВЕК НЕ ИГОЛКА, ПРОПАСТЬ НЕ ДОЛЖЕН»
Фронт еще ближе придвинулся к Дивногорску. Гитлеровцы бросали к Сталинграду всё новые дивизии. Вести оттуда сообщало два раза в день радио, приносили беженцы, нахлынувшие в Дивногорск, и раненые воины. В госпитале N 212 стало тесно. Койки стояли в клубных комнатах, даже под стеклянной крышей оранжереи. Талызина похудела от бессонных ночей, от бесконечной ходьбы по палатам, от забот о новоприбывших.
Иногда ее навещал Надеинский. Вначале она была для него лишь подругой Тоси, живым напоминанием о ней. Я не спрашивал, что произошло у него с Тосей, только ли ради нее он бывает у Зины или появилась другая причина. Кажется, появилась…
— Хорошая она, — говорил он о Зине. — Всё для других! Трех младших сестер воспитала. Правда, свою жизнь так и не устроила, осталась бобылкой.
Он чего-то недоговаривал, умолкал смущенно.
Однажды Талызину позвал безногий сержант Лазарев. Пулеметчик, спасенный санитарами из пробитого, горящего танка, он перенес несколько операций. Прошло более полугода с тех пор, как его привезли в Дивногорск. Спокойное мужество этого человека, упорно цеплявшегося за жизнь и не терявшего веры в будущее, поражало Талызину. Он никогда не жаловался. И на этот раз он говорил не о себе. Его тревожила судьба товарища — ефрейтора Клочкова, гвардейца-минометчика, который лежал с ним в одной палате.
Еще в начале марта Клочков выписался из госпиталя, получил отпуск на родину до полного выздоровления, — и словно в воду канул. Ни слуху, ни духу. Лазарев запросил родных Клочкова, но они переехали на Урал, почта долго искала их, наконец прибыл ответ:
«Клочков дома не показывался».
— Обращался я в его воинскую часть, — сказал Лазарев, — но и там его нет.
— Позволь, — заметила Талызина. — Зачем же туда? Клочкова же домой направили.
И тут открылось: Клочков, еще будучи в госпитале, узнал, что его родная часть, в которой он бился на Волоколамском шоссе, прибыла на переформирование под Дивногорск и разместилась в военном городке. Родная часть! Какой воин не мечтает вернуться после ранения в свою фронтовую семью, в свою роту!
Тогда же между Клочковым и Лазаревым возник спор. Минометчик уверял, что он чувствует себя хорошо и годен в строй, а Лазарев предостерегал: всё равно полк не примет, не отменит отпуск, нет такого права. Клочков всё-таки решил попытаться и взял слово с товарища: никому ни звука!
— Веры у меня в эту затею не было, — сказал Лазарев Зинаиде Павловне. — Однако на всякий случай и туда написал. Выходит, нигде его нет. Как понять, товарищ майор? Человек не иголка, пропасть не может. Куда мне теперь толкнуться, может, посоветуете?
Гвардейский минометный полк давно уже покинул военный городок и дрался под Сталинградом. Запрашивать снова? Вряд ли есть в этом смысл. Кто же тогда мог бы помочь? И Зинаида Павловна подумала о Надеинском.
— Есть тут капитан один, следователь, — сказала она Лазареву. — Он уж наверно все пути знает… Я вот скоро поеду в город и повидаю его, попрошу.
Она спустилась к шлагбауму и влезла в кузов трехтонки, направлявшейся в город. Попутчиками ее оказались два пожилых солдата из строительного батальона, колхозница и два школьника. Зина села на груду мешков, вынула из планшетки пачку бумаг и стала их перечитывать… Не ради одной просьбы Лазарева ехала она в город. Надо было выхлопотать овощи для раненых, посмотреть новую аппаратуру для водолечения, присланную из Москвы, посоветоваться с профессором по поводу редкого заболевания, да и мало ли накопилось дел…
Недалеко от города, у поворота на мост через Светлую, трехтонка нагнала колонну тяжелых, крытых брезентом санитарных машин и пошла в хвосте. В это время завыли сирены, — из облаков вынырнули фашистские хищники. Одни спикировали на мост и на шоссе, другие снизились над промыслом. Трехтонка остановилась. Зина встала, чтобы сойти, но помедлила, пряча бумаги в планшет.
— Прыгайте, прыгайте! — крикнул ей шофёр.
Он вылез из кабины и протянул ей руку, но оглушительный треск и свист осколков, разодравших воздух, заставил его нагнуться. И не он, а солдат-строитель, успевший выбраться из машины и лечь в кювет, увидел, как женщина зашаталась и упала.
Она упала ничком на пыльные мешки и застыла. На виске, там, где вонзился крохотный осколок, розовела тонкая и, казалось, совсем неглубокая царапина. Можно было подумать, что маленькая женщина в шинели с погонами майора медицинской службы и с потертой, туго набитой походной сумкой устала от множества забот и прилегла отдохнуть.
Надеинского на похоронах не было. Поздно вечером, придя ко мне, он признался:
— Пусть она живой останется в памяти, понимаешь? Только живой.
— Понимаю, — сказал я.
Я видел, как ему тяжело. Мы сидели молча, больше думали о Зине, чем говорили о ней.
— Да, ты прав, — сказал я наконец. — Человек хочет бессмертия. Я тебе откровенно скажу: когда погибает кто-нибудь, невольно и о себе думаешь, — правда ведь? Пусть краешком сознания, но думаешь. Единственное утешение: я смертен, но мы, мы все — бессмертны. А ты? Тебе не приходило в голову? Знаешь, когда-нибудь жизнь будет настолько хороша… Ну, когда не будет войны, при коммунизме, одним словом… Настолько хорошо, дружно будут жить люди одной человеческой, всемирной семьей, что чувство коллектива, сознание своего «мы» сделается куда сильнее. Правда?
Так, августовской ночью, рассеченной клинками прожекторов, наполненной гулом самолетов, охраняющих город, два друга скорбели о потере и мечтали о бессмертии.
Между тем безногий сержант Лазарев, озабоченный судьбой своего друга, наводил справки как только мог. И в конце концов, хотя и с большим запозданием, Надеинский от начальника госпиталя узнал об исчезновении ефрейтора Клочкова.
Допрос Ханнеке возобновился.
— Мы знаем, чьи документы у Маврикия Сиверса, — сказал ему Надеинский. — Не сегодня-завтра он будет в наших руках, и если вы что-нибудь скрываете, это всё равно выплывет наружу. Нам надо знать, кто помогает Маврикию Сиверсу в Дивногорске.
Однако Надеинский добился немногого.
— Не знаю, Маврикий никогда не называл его. Этот человек был связан еще с отцом Маврикия в Ленинграде. Теперь я сказал всё, господин офицер.
Всё ли? Надеинский был уверен, что Ханнеке и на этот раз выложил лишь частицу правды.
Шли недели. Однажды Ханнеке попросил плотной бумаги и новое перо. Если бы Надеинский заглянул к Ханнеке, он удивился бы несказанно: Ханнеке рисовал. Он набрасывал какой-то эскиз, рвал его, бросал на пол и снова принимался за работу.
ДОВЕРЕННЫЙ ДОННЕЛЯ
В конце лета в Дивногорск прибыло из-за океана оборудование, а с ним — мистер Джонатан Келли, представитель фирмы «Доннель». Прислали его, как объявлялось официально, для технической помощи.
Не очень я обрадовался такому гостю. Но ничего не поделаешь, надо принять союзника.
Джонатан Келли — лысый, краснощекий — ходил в зеленом пиджаке, усеянном всевозможными значками. Среди них я, к удивлению своему, обнаружил даже эмблему спортивного общества «Локомотив». Ловко пользуясь небольшим числом известных ему русских слов, он смело заговаривал с каждым, через пять минут хлопал собеседника по плечу и просил значок, какой-нибудь советский значок для коллекции. Секретарша его, Хэтти Андерсон, затянутая в темный жакет, молчаливая, с суровым взглядом серых глаз, была, напротив, сама сдержанность.
Для ужина, устроенного в честь мистера Келли, раздобыли икры и семги. Я расстался на этот вечер со своим неизменным ватником и вынул из чемодана пахнувший нафталином парадный костюм.
— Ли-ваноу, о-о! Да, да. Ли-ваноу, — обрадованно повторял мистер Келли, тряся мою руку. — О, йес! Да, да.
Он прибавил английскую фразу, и Хэтти, звонко и старательно выговаривая русские слова, перевела:
— Я много слышал о мистере Ливанове, и меня восхищает его упорство.
Потом ему представили Касперского. Его руку Келли тряс еще дольше, высказал еще больше восторга, а Хэтти, всё так же спокойно, без улыбки, возглашала:
— Я читал труды мистера Касперского. Я рад приветствовать такого выдающегося коллегу. В Штатах высоко ценят его труды.
Келли изрядно нагрузился, и щеки его сделались пунцовыми. Были тосты за союзников, тосты за правительства обеих стран, за Красную Армию, за второй фронт. Мистер Келли каждый раз исправно осушал свою рюмку.
— Второй фронт! — восклицал он. — Да, да. О, да!
Он умолк и уже без всяких спичей хлестал рюмку за рюмкой. Набрал в ложку икры, не донес, обронил часть на скатерть, не заметил и размазал бы локтем, но подоспела Хэтти, нагнулась к мистеру Келли и проворно очистила скатерть ножом.
Хэтти сидела почти напротив меня и рассказывала, старательно, по-ученически закругляя фразы. Она окончила университет. Ее отец три года работал в России, на тракторном заводе. Тогда в Америке был кризис. Отец в России добыл деньги для того, чтобы Хэтти могла учиться. Он много говорил дочери о России. Поэтому она избрала своей специальностью русский язык.
В произношении Хэтти выпадали мягкие знаки, «л» звучало твердо, жестко.
— На каком заводе был ваш отец? — спросил я.
— Краснохолмский тракторный завод, — выговорила она. — Красно-холмский.
— Да. Слышал, — сказал я. — Я жил в одной квартире с инженером, который проектировал этот завод и строил. Ваш отец, верно, знал его. Инженер Шеломкевич, Ефим Семенович.
— О! — брови Хэтти поднялись, глаза оживились. — Шеломкевич! Конечно! Отец вспоминал.
— Вот видите. Есть поговорка — мир тесен.
— Как? Мир тесен? Очень хорошая поговорка, — сказала Хэтти и повторила: — Мир тесен.
После ужина она подошла ко мне и сказала, что еще в Нью-Йорке узнала мое имя.
— Ваш родственник был изобретатель, — сказала она с улыбкой, и у меня дух захватило от неожиданности.
Оказывается, Келли перед отъездом поручил ей перепечатать справку из архива фирмы. Справку о доходе, полученном от какой-то огнеупорной краски, лет двадцать назад. Странная бумага, Хэтти запомнила ее. И сумма солидная — несколько сот тысяч. Старичок конторщик сказал Хэтти, что изобрел краску один русский. А когда она спросила Келли, то он ответил: этот русский — родственник Ливанова, главного геолога в Дивногорске. Келли велел ей молчать, но она не знает, зачем нужно скрывать это.
Кажется, когда Хэтти рассказывала, возле нас терся Симаков. Во время ужина он сидел на дальнем конце стола и молча ел, не поднимая головы, а тут вынырнул откуда-то.
Но я не обратил внимания на Симакова. В полнейшем смятении я слушал Хэтти. Что задумал Келли? Соблазнить меня своими грязными долларами? И Хэтти — такая с виду искренняя Хэтти, просто-напросто прощупывает меня? Я сказал довольно резко:
— Меня совершенно не касается, сколько нажил Доннель.
Глаза Хэтти заблестели.
— Да, мне отец говорил, — неожиданно воскликнула она, — русские — особенные люди! Они не молятся на деньги, точно это есть бог.
Она пристально и с любопытством посмотрела на меня. Овладев собой, я спросил:
— Вы давно у Доннеля?
— Нет. Не давно? — произнесла она раздельно.
Я молчал. Какая-то неловкость сковала меня, и Хэтти почувствовала это и тоже умолкла. Конечно, я бы с наслаждением выложил ей всё, что знаю о фирме Доннеля, о его приказчиках. Но нужно ли это? Надо быть осторожным. Что сказал бы на моем месте Надеинский?
— Вам известно, как изобретение попало к Доннелю? — спросил я.
— Да. Был служащий фирмы. В России… Я забыла имя. Он отнял изобретение. Он продал фирме, понимаете… продал патент. Сиверс. Так его звали.
— Да, — кивнул я. — А почему Келли велел вам молчать?
— Я не знаю. Наверно, он желал говорить с вами сам. Я доставила вам неприятность? — и она тревожно взглянула на меня. — Простите…
В эту минуту подошел улыбающийся Келли, протараторил пару английских фраз и прибавил нетерпеливо по-русски:
— Переводить!
— Господин Ливанов — опасный мужчина, — с усилием, чуть нахмурившись, перевела она. — Но у мисс Андерсон есть жених в Нью-Йорке.
Келли залился смехом и подмигнул мне, а Хэтти бросила ему несколько слов, и Келли прервал смех. Он отвел ее в сторону, и они беседовали некоторое время, как мне показалось, не очень дружелюбно. Грубоватое вторжение Келли, очевидно, не понравилось девушке. Шутливо грозя мне пальцем, доверенный фирмы снова подошел ко мне.
— Хэтти каприз. Да, — молвил он и взял меня под руку.
Я не отнял руки. Мне хотелось знать, что он еще скажет.
— Надо практика. Да, да. Немного водка, не надо переводчик, а? О, да, да!
Однако он подозвал Хэтти.
— Путешествия весьма полезны, — услышал я. — Нам весьма интересно в России. Возможно, господин Ливанов приедет как-либо со временем в Штаты. Ему будет тоже интересно познакомиться с нашей фирмой.
Хэтти обрела свою обычную деловитость и переводила безучастно, как автомат.
— Скажите господину Келли, — начал я, — что некоторое представление о фирме Доннеля я уже имею.
Дипломатическими способностями я не обладаю. Что ж поделаешь!
— Господин Ливанов, я понимаю вас, — сказал Келли. — У вас имеется предубеждение против нашей фирмы, и это весьма прискорбно. Но капитализм теперь другой. Он стал лучше.
— Что вы имеете в виду? — спросил я и отнял руку.
Тут Хэтти не успела подать голос. Я поймал на себе ее внимательный взгляд. Заговорил Келли:
— О, вы это узна?ете. Я уверен.
Начал он ворчливо, но потом снова заулыбался и, хлопнув меня по плечу, отошел к директору промысла. А я остался с ощущением брезгливости, словно чьи-то грязные руки шарили по мне. Отыскав Надеинского, я дал себе волю и, выложив всё, что услышал от Хэтти, крикнул:
— Гнать Келли отсюда, гнать! Нечего церемониться!
Я даже стукнул кулаком по столу.
— Не кипятись, — сказал Надеинский. — У-узнаю студента Ливанова! Нет, не сунется Келли с деньгами, у-учтет, с кем имеет дело. Не так уж он глуп. Зондирует почву. Начал он вон как — с пропаганды капитализма! А присмотреться к этой птице надо. Что за человек Хэтти — секретарша его, как по-твоему?
— Одного поля ягода!
— Думаешь, притворяется наивной? Давай вообще не делать скороспелых выводов.
На утро Келли осмотрел промысел. В легком плаще и кепке блином он носился от одной вышки к другой, хлопал по плечу геологов, мастеров, рабочих, расспрашивал обо всем: о режиме бурения, о глубине скважины, о зарплате. В одной скважине оборвался бурильный инструмент, бригада пыталась достать его, опуская туда различные приспособления. Келли предложил свой способ, и хотя, как сказал мне после Федор Матвеевич, он отнюдь не мог считаться новинкой, отзывчивый мистер Келли сразу завоевал симпатии на буровой.
Один изъян обнаружили в нем нефтяники, и довольно скоро, — трусость. Мистер Келли панически боялся налетов. Вой сирены гасил краску на его щеках и загонял его в первую попавшуюся канаву. — бледного, дрожащего. Сидя в убежище, он силился шутить, уверял, что его могут убить только тринадцатого числа, но зубы мистера Келли стучали, и усмешка получалась кривой. Налеты стали реже. Сирены затихали иной раз на неделю, — битва под Сталинградом поглощала все силы гитлеровцев. Тяжелая была осень. Холод пробирался в палатки госпиталей, в аудитории; многие цехи теперь работали в одну смену. А впереди — зимняя стужа.
Делом жизни для нас стало — добыть больше топлива, скрытого в земле, снабдить город.
Снова — в который уже раз — я попытался проникнуть до дна в загадку дивногорских недр, всё еще не разгаданную до конца. Близость фронта, необходимость отстоять жизнь города, спасти его людей от холода надвигавшейся зимы — всё это придавало мне силы. Я работал ночами как одержимый. Первые эскизы, появившиеся на бумаге, казались мне самому фантастическими. Я показал их Лукиных, он ободрил меня.
Однажды зашел Надеинский. Он хотел тотчас уйти, чтобы не мешать, но я попросил его остаться. Пусть сидит молча, курит, читает. Пусть делает, что хочет. Присутствие спокойного, сильного, упорного человека помогало мне. Я чертил, отпивая крепкий чай, чертил волнистые разрезы пластов, закрашивал их, вдруг отрывался от стола и, глядя на Надеинского, начинал вслух спорить, нападать на воображаемого противника.
Надеинский сидел и думал о своем. Ему было еще труднее, хотя бы потому, что он не имел права сказать о том, что? мучит его. Маврикий Сиверс исчез, как в воду канул. Не найден и его дивногорский помощник. Нет даже намека на след.
И Надеинскому — он признался мне в этом впоследствии — легче думалось рядом со мной.
Чтобы было понятно, я должен, прежде всего, объяснить, как выглядит нефтеносный пласт.
Лучше всего сказал об этом великий Менделеев:
«Представим себе слой песчаника, подобный губке, напитанной водой, вообразим, что такая губка окружена непроницаемыми стенками, и представим себе затем, что в этом замкнутом пространстве имеются возвышения и углубления. Далее вообразим, что в этом замкнутом слое находятся нефть и сжатый газ. Газ должен скопляться в верхних частях такого пространства, нефть ниже, еще ниже вода».
Почему именно так? Да потому, что вода тяжелее нефти, а нефть тяжелее газа.
Обычно пласты пористой породы, собирающие нефть, образуют пологие своды, или, как говорят геологи, куполы. В вершине собирается нефтяной газ, как самый легкий, под ним нефть, а под нефтью вода.
Строение недр под нашим промыслом мы рисовала себе так: вот пласт эпохи карбона, выгнутый кверху. Внизу пласт эпохи девона с таким же выгибом. Купол девона под куполом карбона.
Верно ли это? Ведь здесь очень подвижный район, то есть подвергавшийся бурным изменениям. Что если под куполом карбона — скат девонской складки, а под скатом девона как раз купол! Просверлили здесь скат — вода! Ничего, надо смело бурить глубже. Пробьем купол нижнего пласта, а в нем, возможно, газ! Или в нефть попадем?
Если же верхний пласт дал хоть малую толику нефти, а нижний в этом месте решительно ничего, как у нас часто бывало, то огорчаться, проклинать девон не следует.
Составляя новую схему, я использовал данные полутора десятков скважин, пробуренных нами. Без этого я не мог бы вычертить ничего сколько-нибудь вразумительного. Недаром мы зондировали землю!
Вывод ясен: надо бурить глубже, главное внимание направить на девон! Брать девонскую нефть, о которой Пшеницын и мечтать не мог!
Когда я и Лукиных сказали об этом Касперскому, старый спор разгорелся с новой силой.
— Арабески, красавец мужчина, — молвил он с усмешкой. — Чистейшие арабески.
По мнению Касперского, под Дивногорском вообще нет цельных структур, а есть лишь кусочки. Искать какую бы то ни было систему бесполезно.
Я показал на плане промысла буровую номер три и сказал:
— Предлагаю проверить. Углубим эту скважину до девона и посмотрим, что будет.
Третья была на консервации. Там дошли до карбона, нефти не получили и прекратили бурение.
— Безумие! — пожал плечами Касперский. — Бросаем деньги на ветер!
— Валентин Адамович, — сказал я. — На войне приходится рисковать не только деньгами. Более дорогим — жизнью!
— Что ж, делайте, делайте.
Он отошел от стола, сунул руки в карманы своего синего в полоску костюма и прибавил:
— Келли абсолютно согласен со мной, кстати. А у них, в Америке, опыт нефтедобычи на равнине слава богу какой… Побольше нашего. Желаете, прокатимся к Соломенной балке, перенесем дискуссию в поле. Захватим Келли.
Соломенная балка была издавна яблоком раздора. Я и Лукиных видели там признаки правильной структуры, а Касперский — ничего, кроме разломов и сбросов. Решили съездить еще раз.
Келли, разумеется, принял приглашение с радостью. Он карабкался по откосам, вымазался в глине, как и мы, слушал всё, что говорилось, и сам рьяно поддакивал Касперскому. Но, как и следовало ожидать, каждый остался при своем мнении.
Третью буровую всё же пустили. И вскоре наступил счастливый поворотный день в истории нашего промысла: из скважины, считавшейся безнадежной, пошел газ. Газ из глубины девона!
Кому первому пришло в голову использовать газ для спасения города, соорудить газопровод, перевести на газ заводы, лазареты, столовые, школы, — сказать трудно. Эта идея возникла, кажется, одновременно у многих людей: в обкоме партии, в дирекции промысла, в главке у Лукиных. Только Касперский оставался скептиком, уверял, что месторождение бедное, газа не хватит. Жизнь прошла мимо Касперского.
Развернулась народная стройка. Тысячи и тысячи дивногорцев — рабочие и домашние хозяйки, служащие, студенты — рыли траншеи, укладывали трубы.
В середине октября, как ни пытались гитлеровцы помешать нам своими налетами, мы закончили первую очередь газопровода — до госпиталя и пригорода Коркино.
Мистер Келли поздравлял нефтяников с успехом, сулил Гитлеру скорый разгром. К Касперскому Келли охладел и расточал свои восторги мне и Симакову. Да, и Симакову. Этот решил всех удивить! Шли осенние дожди, газопровод был местами под водой; кто-то из членов комиссии во время приемки потребовал палку, чтобы прощупать стыки. Но палки под рукой не оказалось. И тогда Симаков, не раздумывая, шагнул в лужу, ухнул выше колен в холодную воду и, отыскав ногами трубу, поднялся на нее. Некоторое время он стоял на трубе, подпрыгивал и приплясывал, показывая ее прочность.
— О! Да, да, — возглашал Келли. — Это есть героизм! О! Да, да, героизм!
Кто решился бы утверждать, что энтузиазм розового, говорливого, разбитного мистера Келли — настоящий, не наигранный?
О краске Любавина, которой завладела фирма, о доходах от нее мистер Келли речи не заводил. Надеинский оказался прав: Келли учел обстановку и не пошел на явный провал. Он решил действовать иначе.
НОВЫЙ ПОЧТАЛЬОН
Я по-прежнему работал ночами. В печке громко и торжественно, как труба победы, гудел газ — дивногорский горючий газ, отвоеванный нами, освобожденный из подземных каменных казематов. Я сидел без ватника, даже без пиджака, наслаждаясь теплом, а в окно колотился ветер, разгулявшийся в голой степи, набравшийся там ярости. С фотографии смотрела на меня и улыбалась Лара. Ларка, родная Ларка! Подожди, кончится же когда-нибудь война, и мы будем вместе. У нас будет тогда настоящее тепло, — нашей маленькой семьи, нашего дома.
Вошел Надеинский, острым холодком пахнуло от его шинели.
Я показал ему неоконченный чертеж:
— План закладки новых скважин. На бумаге всё более или менее гладко, а на деле… Черт его знает, как обернется! Мы тут привыкли к неожиданностям.
— Что ж, хорошая привычка, — сказал он. — Полезная привычка на войне. Сергей, у-у меня к тебе дело. Очень серьезное.
Он сел.
То, что я услышал от него, не только встревожило, но и удивило меня.
— Береги себя, Сергей, прошу тебя. Ты бродишь один по балкам… Это неосторожно. Обстановка сейчас такая, что…
— Беречь себя на войне! — рассердился я. — Абсурдно! Не меня охраняй, пожалуйста, а промысел.
Я, действительно, лазал вчера часа три по Соломенной балке, где обнажаются девонские пласты, — надо же взять на карандаш всё, что можно, пока не занесло снегом. К зиме там встанут вышки, возникнет новый участок промысла. Симаков уже завозит строительные материалы, — он вызвался осваивать Соломенную балку. Но не могу же я сидеть в кабинете, всё доверить другим! Ну нет! Лукиных постарше меня, он доктор геологических наук, а как лихо орудовал багром, показывая рабочим, как надо вылавливать бревна из Светлой. Я, говорит, пермский лесоруб и сплавщик! А мне — беречь себя! Сидеть в четырех стенах!
— Сережа, — сказал Надеинский. — Я беседовал по телетайпу с моим начальником. Он считает, что тебя надо подготовить. Промысел выходит из прорыва, и враги будут действовать еще активнее.
Он открыл свою офицерскую планшетку, достал листок плотной бумаги. На нем резкими взмахами пера, густыми синими чернилами было изображено лицо мужчины — узкое, бритое, с маленьким, презрительно сжатым ртом. Кое-где рисовавший слишком нажимал на перо, поэтому в волосы, в сетку морщин на лбу вплелись кляксы.
— Незнаком? — спросил Надеинский.
— Нет, — сказал я.
— Это редкий документ. Исключительный. Я вот смотрю и, знаешь, что? думаю? Наступит время, когда не надо будет людям ничего скрывать друг от друга. Никакая грязь не коснется честности и чистоты человеческой. И вот этот портрет я сохранил бы потомкам нашим для музея. Да, чтобы знали они, какие существа попадались раньше на земле. Как тебе известно, наверно, здесь в феврале были сброшены на парашютах диверсанты. Один попал в плен.
— Доходили слухи, — сказал я, не понимая, куда он ведет речь.
— Я допрашивал его на днях. Десятый раз, должно быть. Он и нарисовал. Рисунок не блестящий, конечно. Понимаешь, он архитектор по специальности, а не портретист, но он очень старался. Да, еще бы! Он нарисовал своего друга детства, своего товарища по шайке… и знаешь, зачем? Ведь сам захотел! Мне, по правде сказать, в голову не пришло предложить ему… Его рукой водили жадность и страх за свою шкуру.
И Надеинский рассказал мне историю Гейнца Ханнеке — незадачливого наследника.
Она показалась мне странной, почти фантастической. Человек, развращенный настолько, что даже за решеткой тюрьмы воображает себя хозяином поместья, хочет нашими руками устранить соперника, увеличить свою долю в грабеже!
Надеинский говорил, и вдруг смысл его слов перестал доходить до меня. Я понял, кого нарисовал Ханнеке. Сиверс! Маврикий Сиверс!
В комнате стало как будто холоднее. Лара, кажется, перестала улыбаться из своей рамки, глядя на портрет Маврикия Сиверса.
— Женя, — сказал я. — Ты знал давно, что он здесь. И мне — ни слова!?
— Ну зачем же? — ответил он. — У тебя хватит своих забот. Всё равно ты не мог бы помочь. Он ловко прячется. У него много имен, очевидно. Хитрый негодяй! Я чувствую: все нити ведут к нему. Теперь мы знаем: пожар на первой буровой в марте, аварии — дело врагов. След их вожака, Маврикия Сиверса, оборвался.
«Как спокойно он говорит, — подумалось мне. — Маврикий Сиверс здесь, может быть, рядом с нами. Тут у него подручные, которые указывают цели… Я не знал бы покоя ни днем, ни ночью, пока не нашел бы Маврикия Сиверса, не схватил за глотку!»
— Женя! — сказал я с обидой. — Неужели я ничем не мог помочь?
— Теперь можешь, — кивнул он. — Я уже сказал тебе. Береги себя, вот что требуется пока. Кстати, оружие тебе выдали? Ты стрелял хоть раз?
Он осмотрел мой пистолет, велел получше вычистить, потом выучил меня наводить на цель.
— Тренируйся почаще, — сказал он, садясь и вытирая носовым платком пальцы. — Ну, что нового вообще? Симаков, говорят, не ладит с отцом?
— Нет, не ладит. Трудный человек, никому не принес радости. Для себя живет.
Только вчера был у меня Загоруйко. Просится на другой промысел. Первое время они жили вместе — в деревне Петровской, где Симаков купил дом. Оказывается, Симаков взял к себе отца, чтобы сделать из него батрака. Сад решил развести, огород и заставляет старика после работы, уставшего, окапывать деревья, рыть колодец. Ругает его!
— Как, по-твоему, — произнес Надеинский, выслушав всё это, — Симаков может стать врагом? Изменником родины?
— А что? Есть основания?…
— Нет. Одно известно: у Маврикия Сиверса в Дивногорске есть человек. Он был знаком еще с Генрихом Сиверсом, в Ленинграде.
— Симаков был тогда студентом, — сказал я, — желторотым юнцом. Нет, нет, отказываюсь представить. Я никаких симпатий не питаю к Симакову, ты знаешь. Но подозревать, что он враг! Нет, это слишком. Это чудовищное обвинение!
Надеинский усмехнулся:
— Я вспомнил Клёново, Сергей, Твой отец вот так же хватался за голову и восклицал: «Чудовищно!», когда ему доказывали, что Сиверс — убийца.
Надеинский ушел, а я еще долго сидел в тягостном раздумье. Как помочь Надеинскому? Иногда во мне вдруг поднималась досада на него. Как случилось, что Маврикий Сиверс еще не пойман? Быть может, Надеинский напрасно бросил химию в свое время, — быть бы ему лучше химиком, а поиски врагов предоставить более умелому. И снова настойчивый вопрос: как помочь? Шесть специалистов, работающих на промысле, учились в Ленинграде, когда там, в институте, под видом завхоза Тарасова был старый Сиверс. Мы только что перебрали с Надеинским всех шестерых и, должен признать, я не блестяще знаю людей. Далеко не блестяще! С головой ушел в геологию, а к людям, стоящим бок 6 бок, как-то не нашел времени присмотреться.
Конечно, Симакова и Касперского я знаю получше. Касперский был и остался белоручкой в науке, барином. Да, барином! Нет, уж он-то не полезет лишний раз в балку! Он по-прежнему любит цитировать самого себя, любит покой и тех, кто ограждает для него славословиями этот дешевенький покой. Поэтому — хоть и с иронической усмешкой — Касперский покровительствовал даже Симакову, который, помню, как-то до войны возгласил на одном заседании: «Валентин Адамович — большой ученый! В глаза скажу! Резко, может быть, но правильно, товарищи!» Касперский, верно, и сам не заметил, как оброс самодовольством, стал сторониться свободных дискуссий, критики, превратил свою кафедру в университете в единоличное владение. И не только кафедру! Он удивился бы, если б ему сказали, что он добивался последние годы не столько научной истины, сколько монополии в геологии Дивногорской области. Но это так!
Касперский, вероятно, видел Генриха Сиверса в институте, и, во всяком случае, они имели тысячу возможностей познакомиться. Но это еще не улика.
И снова мои мысли обращаются к Симакову. Я вспоминаю наше столкновение в студенческие годы, его кляузы, когда я закладывал первые буровые под Дивногорском. Я вижу Симакова, стоящего на затопленной трубе газопровода, приплясывающего на ней, и ощущение, возникшее тогда у меня, оживает. Мокрый, в хлюпающих сапогах, он был жалок мне. В нем под внешней лихостью было что-то трусливое, истерическое… А почему он, вернувшись из армии, оставил своего патрона Касперского, решил прослыть энтузиастом дивногорской нефти? Правда, он усердно гасил горящий фонтан… Но во всем — такое неприкрытое жадное стремление сделать карьеру! Теперь открылось его прошлое, которое он так судорожно скрывал. Пусть вся прежняя его жизнь была изуродована, отравлена ложью, но сейчас его освободили от лжи! Ему бы вздохнуть свободно, по-другому посмотреть в глаза людям!
Я вижу мастера Загоруйко — отца Симакова. Вот кого мне по-настоящему жаль! Он всё сделал, чтобы вернуть сына. Надо будет поговорить с Симаковым, пристыдить…
Подумав так, я очинил карандаш и снова нагнулся над картой, где синими крестиками, пока эскизно, обозначались будущие буровые.
Наутро я выехал в Соломенную балку. Осматривал обнажения, уточнял план закладки скважин. Видел мельком Симакова, но не говорил с ним о Загоруйко. Симаков ходил растерянный, жаловался на дождь, вконец испортивший дорогу. Как возить с берега, вверх по откосу, бревна для вышек! Как всегда, нахлынули на меня трудовые заботы промысла, и тяжесть подозрений, вспыхнувших вечером, стала как-то менее ощутимой.
Между тем мы стояли на пороге жестокой схватки. Враг стягивал силы.
В тот самый день в наш поселок на почту явился мужчина лет пятидесяти — грузный, с белесыми бровями, в солдатской шинели, и попросился на временную работу — в письмоносцы. Из бумаг его следовало, что он военнослужащий, находится в долгосрочном отпуске после ранения. Родных своих, живших в Воронежской области, он найти не смог и решил провести остаток отпуска в Дивногорске… Словом, документы ефрейтора Клочкова наконец выплыли!
Об этом Надеинский не сказал мне тогда ни слова, но отныне я буду излагать события, в основном придерживаясь их последовательности.
Нетрудно понять, что лже-Клочков тотчас поглотил всё внимание Надеинского. Впоследствии он ругал себя за то, что на время забыл всё остальное, но кто поступил бы иначе! Не знаю…
Одного взгляда было достаточно Надеинскому, чтобы сказать себе: нет, это не сам Маврикий Сиверс. Почтальон старше. Но он, конечно, связан с Сиверсом: ведь не кто другой, как Сиверс, не мог бы снабдить его отпускным билетом и красноармейской книжкой Клочкова.
Как поступить? Арестовать? Нет, решил Надеинский. Схватить подручного значило бы спугнуть хозяина. Надеинский и Карпович начали следить за врагом — следить неотступно, осторожно…
Новый почтальон обнаружил немалое усердие. Признаться, я с некоторой симпатией смотрел на пожилого человека с сумкой, энергично карабкавшегося по косогору к буровой. До сих пор письма и газеты доставляли на дом, их читали вечером, после работы. Новый работник почты взялся сам обходить буровые. В два-три дня он уже хорошо усвоил расположение участков, и мы видели, как он, покинув проезжую дорогу, шагал по тропе или прямиком через степь — желто-бурую от высохшего ковыля и полыни.
— Люди доро?гой, а черт стороной, — говорил он о себе, снимая сумку и переводя дух. — Здравствуйте, кого не видал.
Держался он бывалым солдатом, охотно рассказывал: служил-де писарем в штабе полка, попал под артналет. Осколком задело легкое. И сейчас еще больно дышать…
Однажды я задержался до сумерек на дальнем участке — не доходя Соломенной балки, откуда берет начало газопровод. Рабочие собрались на перекур, я отозвал в сторону мастера Загоруйко и спросил, как он живет с сыном. Загоруйко ответил, что переехал обратно в общежитие. Не склеилось у них. Светлячок папиросы дрожал в его руке. В эту минуту из полумрака возникла фигура почтальона.
— Фу ты! Испугал даже, — бросил Загоруйко.
Раздав почту, тот ушел, а Загоруйко сказал:
— Полюбился ему наш участок.
— Разве? — отозвался я.
— Ну, не то чтобы полюбился… Спрашиваю его вчера: зачем тащился к нам в такую даль? Почты — почти ничего! А он мне: нет, мол, надо! Сами, мол, критику наведете: почтарь ноги свои жалеет, не ходит к нам. И давай доказывать, что главная его заслуга — нас, то есть дальних, обслужить. До Соломенной балки ему не дойти, дня не хватит, а то бы и туда махнул.
Участок здесь, действительно, самый малолюдный. Работает только одна вышка. Две скважины уже разбурены, закрыты стальными задвижками и тихо, без помощи человеческой руки, подают газ. От них тянутся трубы и срастаются с газопроводом.
— Уж он доказывал нам, доказывал, как ему важно к нам добраться, — продолжал Загоруйко. — Как на митинге… Сергей Николаевич, — неожиданно заключил мастер, — интересно, кто он такой, откуда взялся?
Видно, честные люди уловили нотку фальши. Не укрылось от рабочих и то, что хотя почтарь и служил при штабе, как он говорит, а к аккуратности не приучился, повязку на шее — против кашля — давно пора сменить, до черноты затаскал ее.
Однако главного о почтаре мы не ведали. Надеинский уже сделал свои выводы из наблюдений: похоже, лже-Клочков интересуется скважинами, дающими газ, изучает подходы к ним, бродя вечерами по полям и оврагам.
Но главный враг — Сиверс — еще не пойман. Значит, надо неустанно наблюдать за его подручным и в то же время оградить буровые еще надежней, быть готовым в любую минуту обезвредить противника. Кроме вооруженной охраны, у нас был отряд рабочих для борьбы против вражеских парашютистов. Этот отряд пополнили. В числе добровольцев был и Загоруйко.
Надеинский жил очень неспокойно эти дни. Казалось — след Сиверса ясен! Но нет, негодяй с документами Клочкова хитер, ничем не выдает своих связей. Верно, он и Маврикий Сиверс обо всем условились заранее и день вылазки уже назначен!..
ВЫЛАЗКА
У Соломенной балки, в перелеске, рубил колья невысокий, жилистый человек в ватнике, подпоясанном широким ремнем, — по виду такой же рабочий человек, как и все. Поступил он на промысел плотником недавно, одновременно с лже-Клочковым. Паспорт на имя Корнея Салаги, предъявленный плотником при найме, сомнений не возбуждал.
Никто не заметил, что Корней Салага связан с Келли — доверенным фирмы Доннеля. Два прохожих столкнулись на людной улице, извинились друг перед другом, причем Келли учтиво приподнял шляпу, — и разошлись. Так выглядела эта встреча.
И слова Келли и движение его руки были полны значения для Корнея Салаги. Доверенный Доннеля давал директиву, а Салага — впрочем, будем звать его настоящим именем — Маврикий Сиверс — принимал ее к исполнению.
Если бы Сиверс обнаружил на промысле свое знакомство с лже-Клочковым, карьере гитлеровца, агента двух разведок, был бы тотчас положен конец. Но он принимал все предосторожности, хотя и не знал, что его подручный уже разоблачен.
Однако Маврикию Сиверсу нужен был еще один подручный. Никто не видел, как в ольховой чаще, одевшей склоны Соломенной балки, человек в подпоясанном ватнике подошел к начальнику участка Симакову и спросил:
— Вместе с Ливановым приехали, товарищ начальник?
— Да. А тебе что? — не останавливаясь, грубо отозвался Симаков.
Плотник с топором на плече двинулся следом. Симаков обернулся:
— Ну?
— Старых знакомых забываете, — негромко произнес плотник. — А они помнят вас. Особенно Тарасовы.
Симаков покачнулся, как от удара, и сделал шаг к незнакомцу. Тот спокойно улыбался, поглаживая длинное, в черных пятнах смолы топорище.
Теперь они стояли друг против друга. Сиверс увидел, как плечистый, широкий в кости Симаков вдруг ослабел, обмяк, его красное лицо пошло пятнами. Он задел ольху, она окатила его ледяным дождем, но он остался на месте и смотрел на незнакомца, тяжело дыша и крепко сжав ветку ольхи.
— Вытрите лицо, — приказал Сиверс.
Симаков послушался, стер рукавом холодные ручейки, но по-прежнему не мог выговорить ни слова.
— Хозяин очень доволен вами, — сказал человек с топором. — Вам доверяют здесь. Вы вели себя неплохо.
— Тише! — прошептал Симаков.
— Мы давно не тревожили вас. Мы вам даже позволили ликвидировать пожар на вышке. Вы видите, как мы вас бережем, — чуть усмехнулся Сиверс. — Сейчас… Сейчас от вас нужна маленькая услуга.
Симаков сделал нетерпеливое движение. Он выпустил ветку, она разогнулась и несильно хлестнула незнакомца по плечу. Симаков выругался.
— Нервы! — молвил Сиверс.
— Я не могу, — зашептал Симаков. — Я ничего не могу. Вы ошибаетесь. Мне не доверяют.
— Дело — пустяк. Ливанов ездит сюда каждый день…
— Что вы хотите с ним?…
Тот смерил взглядом Симакова:
— Не волнуйтесь. Ничего плохого. Келли должен побеседовать с Ливановым. Вот и всё. В укромном месте.
К этому Симаков был уже подготовлен. Со слов Хэтти, подслушанных тогда, на вечере, он знал, что Келли имеет какие-то виды на главного геолога. Фраза «мы вас бережем», брошенная незнакомцем, тоже не пропала даром для Симакова. Он несколько успокоился и, чтобы показать себя осведомленным человеком, произнес, с усилием переводя дух:
— Да, деньгами пахнет, а?
И нервно засмеялся.
— Слушайте, — прервал его Сиверс. — Завтра вы сами повезете Ливанова. Сами, без шофёра. Ясно вам?
Не дожидаясь ответа, он быстро, раздельно, тоном командира, объяснил, что? требуется от Симакова. Его дело — везти, вот и всё. Если остановят, вызовут главного геолога — оставаться в машине, отъехать в сторону и ждать.
— Так вы… от Келли? — спросил Симаков.
— Да. От Келли. От союзников. Это вас больше устраивает? Не вздумайте делать глупостей! Слышите? Не подходите ко мне больше.
Симаков ничего не сказал, но Сиверсу достаточно было посмотреть на его лицо, словно окоченевшее от страха. Через минуту над балкой снова зазвенел топор, — насвистывая, как ни в чем не бывало, плотник рубил колья.
Буду и дальше излагать события в их последовательности.
В семь утра, когда я делал зарядку, чтобы согнать сон, мне позвонил шофёр. Это был Петренко, тот самый Петренко, который навел на след парашютного десанта. С автобазой своей он расстался, решил попытать удачи на легковой машине и — не без содействия Надеинского — устроился у нас на промысле. Водил он машину теперь неплохо, так как новым местом дорожил, и заслуживал полного доверия. Выпить любил, но обычно соблюдал меру.
— Товарищ нащальник, — услышал я. — На Соломенную балку поедете?
— Непременно, — сказал я.
— Хана? — вздохнул он. — Я совсем без живота. Лежу, товарищ нащальник. Вчера тут с одним маленькую распещатали.
— А не большую? — спросил я.
Петренко любое количество выпитого называл «маленькой», а самый процесс поглощения именовал каждый раз по-новому: «раздавили», «перекачали», «тяпнули».
— У меня язва, наверно, товарищ нащальник. Мне Екатерина Павловна, женщина-вращ, говорила: не пей, а то будет язва. Вам ехать? Да? Вот номер, а? Пещальный номер!
Обычно Петренко, упомянув Екатерину Петровну, прибавлял, что она была в него влюблена. Он очень гордился этим. Женщина-врач — в него, шофёра! Она даже подарила ему шарф. Но на этот раз Петренко только жалобно охал в трубку.
Кто? напоил его, он сказал не мне, а бригадиру Федору Матвеевичу — соседу по комнате.
— У Салаги пе?ти-ме?ти, видать, водятся, — удивлялся Петренко. — Откуда? Плотничает по мелочи, на дальнем участке. Выработка с гулькин нос!
Петренко на работу не вышел. Федор Матвеевич, обеспокоенный тем, что я остался без шофёра, встретил на улице, у конторы промысла, Симакова и сказал:
— Петренко заболел. Как же Сергей Николаевич? Подвезете его?
В ответ Симаков выругался, велел бригадиру заниматься своим делом и прошел мимо. Однако через несколько минут Федор Матвеевич увидел, как Симаков выкатил свою машину, открыл дверцу и впустил меня. Мы поехали.
Немного спустя подошла трехтонка с брезентовым верхом и скамейками в кузове. Ее ждали, и она в мгновение ока заполнилась. Федор Матвеевич мог подождать следующей машины, но он заспешил и втиснулся последним.
Федор Матвеевич — я всегда буду думать о нем с любовью и признательностью — относился ко мне с отеческой заботой. Он всегда оберегал меня — задолго до того, как Надеинский просил об этом его и еще нескольких наших нефтяников. Правда, сейчас я был не один, а с Симаковым, но старик всё-таки решил поехать следом. Почему? Вряд ли он сам мог бы тогда толково объяснить. Беда, случившаяся с Петренко, его отзыв о Салаге, странное поведение Симакова — всё это встревожило старика.
Между тем я сидел в машине, рядом с Симаковым. Он был в расхлыстанной кожаной куртке, застегнутой на одну пуговицу, небритый, но таким я видел его нередко.
Стало совсем светло, мокрое шоссе блестело, на ветровом стекле возникали редкие капли дождя.
Теперь, вспоминая всё происшедшее, я спрашиваю себя: как же я, сидя рядом, ничего не заметил! Вероятно, я был слишком занят собственными мыслями и не следил за Симаковым, державшим баранку. Я давно собирался поговорить с ним о его отце, усовестить его, и случай представился.
— Мне вчуже обидно, — сказал я. — Ваш отец достоин лучшего отношения.
Симаков сжал губы и промолчал.
— Я сто раз его похоронил, — произнес он, наконец. — Так нет, воскрес!
Было в тоне Симакова что-то откровенно злобное, и это смутило меня, расстроило приготовленную речь.
— Ох, невесело вам жить на свете! — вырвалось у меня.
Он не ответил, рывком припал к баранке, прибавил скорость.
Мелькнул верстовой столб. Симаков резко затормозил. Кто-то постучал по стеклу дверцы, — я заметил только темные от грязи пальцы и рукав ватника.
— Авария! Товарищ Ливанов, авария! Трубу пробили! Газ!
В следующую минуту я перескочил через кювет и побежал, продираясь сквозь кусты, к газопроводу, лежавшему параллельно шоссе, метрах в двухстах от него. Впереди маячил человек, остановивший нас. Невысокий, цепкий, он перескакивал через канавы, нырял под ветвями сосенок. Топор, который он держал в правой руке, казалось, был слишком велик для него.
О Симакове я забыл. Я не позвал его с собой и не задавал себе вопроса, почему он не присоединился к нам.
Тем временем позади меня, на шоссе, прошла трехтонка с рабочими. Хотя Симаков, следуя инструкции, отвел машину в сторону, Федор Матвеевич, сидевший на заднем борту, заметил ее среди деревьев и, попросив шофёра замедлить ход, соскочил. Он застал в машине одного Симакова.
— Авария, — вынужден был сказать Симаков. — Ливанова вызвали. Машину бросить нельзя, а то бы и я…
— Куда они пошли?
— Туда, — показал он.
Теперь в голосе Симакова были нотки испуга…
К трассе газопровода и дальше, к реке Светлой, вела ложбинка, поросшая молодым леском. Шумел ручей, мутный и набухший от дождя. Проводник мой двигался очень быстро, и я потерял его из виду. Я позвал его. Он отозвался не сразу, где-то в стороне, и я двинулся на голос. Густые, плотные кусты противились мне, коряги лезли под ноги. Наконец я достиг газопровода. Проводник мой маячил справа, на гребне ложбины. Там свистел газ, рвавшийся наружу.
Труба в том месте лежала в траншее. Ее вырыли недавно, выброшенный лопатами грунт раскис, превратился в жидкую грязь. Я поскользнулся и, ухватившись за рукав человека, стоявшего рядом, посмотрел вниз. Отверстие было на самом стыке. Действительно, похоже, что сварку повредили нарочно. Но почему мы стоим на месте? Надо что-то делать! И почему мы одни?
Странно ведет себя этот человек! Уснул он стоя, что ли?
Я обернулся и увидел совсем близко худое, темное от жесткой щетины лицо с тонкими губами, лицо смутно знакомое…
— Сиверс! — вырвалось у меня.
Как я узнал его? По рисунку Ханнеке? Нет, если бы я не знал старого Сиверса, плохой рисунок вряд ли помог бы мне. Скорее всего, помогла моя настороженность, ощущение близости врага, вызванные этим портретом и словами Надеинского. Я увидел черты сходства, фамильные черты исконного врага, давно врезавшиеся в память, вдавленные в нее глубоко, навечно, силой ненависти.
В ту же секунду я почувствовал сильный удар по голове и полетел вниз, в траншею.
Я не услышал шагов Федора Матвеевича, подоспевшего вскоре. Дядя Федор вытащил меня из траншеи, а немного спустя явились еще люди, так как давление в трубе от потери газа упало и стрелка прибора в будке диспетчера стала крениться.
Меня положили в госпиталь отравленного газом, с сотрясением мозга. Я был без сознания.
Между тем Петренко почувствовал себя лучше. Он направился было в медпункт, но по дороге решил зайти в контору, чтобы позвонить Надеинскому. Не то чтобы шофёру передалось беспокойство Федора Матвеевича, — нет, для этого Петренко был слишком беспечен, хотя и состоял в числе лиц, которым Надеинский поручил оберегать меня. У Петренко были свои причины для волнения. С тех пор как он стал возить главного геолога, Петренко привык считать себя весьма значительным лицом на промысле, водителем особого класса, незаменимым. И вдруг обошлись без него!
— Сегодня Сергей Николаевич без меня поехал, — сообщил он директору промысла, столкнувшись с ним в коридоре. Смысл этих слов был такой: бог весть, ка?к главный геолог доедет без меня, но я за это не отвечаю.
Надеинскому Петренко сказал:
— Я щуть приболел, товарищ капитан.
— Что? Язва? — спросил Надеинский, зная, с какой мнительностью тот следит за своим здоровьем и внешностью.
— Ага.
Оправдываясь, он рассказал, как тяпнули «маленькую», а она оказалась «вредной», и пожаловался на Салагу, не преминув упомянуть про «пе?ти-ме?ти», водящиеся у Салаги в подозрительно большом количестве.
Словом, первый сигнал тревоги Надеинскому — сам того не зная — дал Петренко.
Надеинский уже собирался на промысел, когда прозвучал второй сигнал. На газопроводе авария!
Мчась на трассу, Надеинский встретил рабочих, несших меня из леса. От Федора Матвеевича он узнал, что я выехал с Симаковым на его машине и, очевидно, был кем-то вызван к газопроводу. Кем? Ответ на это мог дать только Симаков.
Через полчаса Надеинский был на дальнем участке. Симаков не появлялся, сказали ему.
Капитану еще ничего не было известно о Маврикии Сиверсе. Но поиски Симакова, исчезнувшего при странных обстоятельствах, начались тотчас.
Между тем помощник Надеинского Карпович не выпускал из виду лже-Клочкова, вышедшего еще затемно с сумкой на плече в обычный обход. Примерно в то время, когда Федор Матвеевич вытаскивал меня из траншеи, почтарь приблизился к скважине, подающей газ, открыл сумку и прикрепил к задвижке, закрывавшей скважину, небольшой, малозаметный предмет. Как из земли, выросли люди, охранявшие участок. Диверсант был схвачен. В его сумке нашли еще один заряд взрывчатки, для другой задвижки. Несколько минут — и обе взлетели бы на воздух. Два фонтана горящего газа поднялись бы над промыслом.
ШЛАГБАУМ
Сиверса не заметили. Он прошел вверх, к шоссе, по ручью, чтобы скрыть следы, и влез в машину.
— Поехали! — приказал он Симакову.
— А как же… А Ливанов? — забормотал Симаков, включая мотор. — Как он там?
— Ливанов просил не ждать, — бросил Сиверс. — Поехали! Живей!
Симаков не знал, кто этот человек, именующий себя Салагой, хотя старого Сиверса видел не раз. Те черты сходства, которые различил я, были недоступны зрению Симакова хотя бы только потому, что он думал лишь о себе, смертельно боялся за себя, и страх застилал ему глаза.
По-видимому, Симаков надеялся, что никто не явится к нему из прошлого, от «семьи Тарасовых».
Прошло двенадцать лет с того дня, когда Симаков, рисовавший плакаты по заказу института, познакомился с завхозом Тарасовым, как именовал себя Генрих Сиверс. Сиверс каким-то путем узнал, кто был отец Симакова, и дал ему понять это. Симаков страшно испугался. Трусость толкнула его на преступление. Он снимал для Сиверса тяжелые ящики с образцами пород, выкладывал керны, добытые Пшеницыным, и, сам того не зная, помог совершить подлог. Сиверс не оставил его в неведении. Нет, напротив, он объяснил ему всё, дал денег, велел молчать и ждать нового задания. Вскоре Сиверс попался на растрате. Тогда его не удалось разоблачить до конца. И Симаков уцелел. Через четыре года Сиверс, отсидев свой срок, приехал на побывку в Ленинград, отыскал Симакова, задавал ему вопросы, вручил ему еще денег и инструкции. Симаков появился у актера Пшеницына, просмотрел письма, но действительно, как мы теперь знаем, ни одного не взял, — ничего существенного в них не нашлось.
Сиверса уже не было в живых. Десять лет «Тарасовы» не тревожили Симакова. И вот они снова позвали его.
Правда, многое изменилось. Отец Симакова, о котором и кустарь-фотограф в Кзыл-Орде и впоследствии Сиверс говорили, что он не выйдет из лагеря, на самом деле обрел новую жизнь, вернулся другим человеком. Пример отца мог бы подсказать Симакову путь искупления вины, открытый и для него. Но для того, чтобы встать на него, надо было иметь доверие к людям, доверие к нашему строю и уверенность в победоносном для нашей страны исходе войны, а этого Симаков в себе не нашел. И путь искупления, как черным дымом, заволокло недоверием, злобой против нас и страхом.
Новое задание казалось ему на первых порах не очень опасным. Во всяком случае, он больше боялся ослушаться Сиверса и быть выданным за это, чем подчиняться ему. Подвезти главного геолога на свидание с Келли? Только и всего? Но когда Маврикий Сиверс влетел в машину забрызганный грязью и запыхавшийся, с таким видом, словно за ним гнались, беспокойство Симакова усилилось.
— Нехорошо всё-таки, — сказал он. — Ливанову надо к Соломенной балке. Как он доберется?
Сиверс понял, что слова эти — косвенный вопрос. Кабриолет, ковыляя, выходил с ухабистого объезда на шоссе, Сиверс качался, держась за скобу дверцы, и процедил:
— Ничего. Доберется.
— На чем?
— Есть транспорт.
Сиверс хотел успокоить Симакова и обдумать собственное положение. Но Симакова всё крепче сжимали тиски страха.
— Пока я стоял, — сказал он, — бригадир меня видел. Этот… Федор.
Сиверс не ответил.
Симакова прорвало. Он заговорил о себе. Он умеет держать язык за зубами, когда нужно! Он доказал это! Разве не правда? И тут, осмелев, Симаков выложил главное:
— Что же получается? Глаза мне завязали? Я не привык так, извините!
Он хотел знать, что? же произошло там, в ложбине, почему его седок так спешит. Маврикий Сиверс отвернулся. Болтливость Симакова мешала ему думать.
До сих пор обстоятельства складывались для него неплохо. Маврикий Сиверс предвкушал звание майора и еще один железный крест, — на этот раз, быть может, с венком из дубовых листьев.
Еще в 1926 году подростком он с делегацией немецкой молодежи был в Ленинграде, видел отца и передал ему задание от старика Ханнеке из туристского бюро «Глобус», то есть из доннелевского шпионского центра. С этого началась карьера Маврикия. В «операцию Дивногорск» он верил, как в козырного туза. Хлопот она доставляла до войны не много: черное золото там упорно не давалось большевикам, и казалось, сами недра земли содействуют Маврикию.
Во время войны Маврикию Сиверсу пришлось еще раз отправиться в Россию. Ему повезло: случай занес в степную балку ефрейтора Клочкова. Сиверс застрелил его, скрылся, бросив своих, и в том числе друга детства — Гейнца Ханнеке, несколько месяцев выжидал, заметал следы, нащупывал связи. Его считали убитым. Судьба была милостива к нему: он сумел завербовать уголовника, бежавшего из тюрьмы и нуждавшегося в новых документах. Подручный получил их — красноармейскую книжку и отпускной билет ефрейтора Клочкова.
Сиверс гордился и тем, что, не вызвав подозрений, вошел в контакт с Келли, а затем прибрал к рукам Симакова. Всё сулило успех.
Верный прусской военной школе, воспитавшей его, Маврикий Сиверс готовил свой небольшой блиц-криг. Уничтожить главного геолога, который давно стоит на дороге у Доннеля, отвлечь нефтяников к траншее, избранной для нападения, и в это время взорвать задвижки, устроить пожар, вывести газопровод из строя на сутки или двое, а может, на неделю. Фонтанами огня демаскировать местность, открыть цели для ночных бомбовых налетов.
Не всё, однако, шло по плану. И самое неожиданное, непонятное для шпиона стряслось сегодня, — его опознали!
Неожиданное либо веселит, либо пугает, — так говорил Маврикию друг детства Ханнеке. В данном случае оно пугало. Конечно, если бы он был уверен, что я погиб и что Федор Матвеевич, спугнувший его, не слышал моего крика: «Сиверс!» — оснований для паники не было бы. Убийство могло бы, по крайней мере в первое время, сойти за несчастный случай, и тогда он — Маврикий Сиверс — мог бы перебраться через линию фронта без излишней спешки, по плану.
Прежде он мечтал дождаться в России прихода гитлеровских войск. Не раз он рисовал себе, как это произойдет. Он явится к командованию в русской ватной куртке, в шапке с ушами и затем поразит всех метаморфозой: предстанет капитаном разведки, героем немецкого шпионажа. Он будет подобен тому лейтенанту, который жил под видом скромного часовщика на Оркнейских островах и, указав германской подводной лодке проход в базу английского флота, помог ей потопить броненосец «Ройял Ок». Тогда война только начиналась и про лейтенанта не писали в газетах, а о нем — Маврикии Сиверсе — напишут! Он позаботится об этом! И, само собой, он получит награды и сразу же вступит во владение земельными угодьями под Дивногорском — по отцовской купчей.
Но война затянулась, и он понял, что план надо менять. Уходить придется раньше. Когда? Возможно, сразу после нападения на главного геолога. Симаков с машиной как нельзя более подходил Сиверсу.
И всё-таки он не думал, что бегство будет таким стремительным, паническим. Его опознали. И откуда-то взялся бригадир Федор. Следил он, что ли? Маврикий Сиверс ничего не мог объяснить и от этого нервничал еще больше.
Машина приближалась к Соломенной балке. В зеркальце, укрепленном в кабине, Симаков видел своего седока, подскакивающего на заднем сиденье. На крупных, еще не обкатанных булыжниках шоссе машину бросало. И вдруг седок соскользнул куда-то с зеркальца, исчез.
Симаков обернулся. Седок лежал на полу, скрючившись, вобрав голову в плечи: он прятался. Симаков сообразил это. Он свернул к обочине и остановил машину.
— Вам вылезать, — сказал он.
Начинался тот самый лесок, где Салага рубил колья. По условию, Симаков и не должен был везти его дальше. Но седок не пожелал вылезать. Если Симаков, чуя беду, стремился как можно скорее избавиться от опасного пассажира, то у Маврикия Сиверса родились другие намерения.
Не поднимаясь с пола, чтобы случайный прохожий не увидел его сквозь стекла, он велел ехать дальше. И тут Симаков восстал.
— Вылезайте, — повторил он.
Теперь, чтобы удержать Симакова в повиновении, оставался один способ.
— Не валяйте дурака, — сказал Сиверс. — Или вы хотите, чтобы вас поставили к стенке?
Симаков побелел.
— А что?… Ливанов жив? А? Жив? — зашептал он, пугаясь собственного голоса. Зубы его стучали.
— Простись с Ливановым, — отрезал Сиверс.
Не дав оторопевшему Симакову прийти в себя, он пояснил: расстрел грозит обоим, и, значит, лучше держаться друг за друга.
Через минуту машина тронулась. В ней сидели два человека, связанные преступлением.
Маврикий решил бежать, немедленно бежать к своим через линию фронта. До нее было не больше семидесяти километров. Он обещал взять с собой туда Симакова, и тот, парализованный страхом, гнал машину на юг. Маврикий показывал дорогу. Кроме страха, Симаков уже ничего не чувствовал и не сознавал.
У безымянной балки, вдали от жилья, Маврикий Сиверс тронул Симакова за плечо:
— Мотор стучит.
— Нет… Вроде, ничего.
— Я слышу. Иди посмотри.
Симаков вылез, подошел к радиатору и поднял крышку. Сиверс тоже вышел, держа сзади топор, и приблизился к радиатору с другой стороны, незаметно для Симакова, потом сделал быстрый рывок вперед и наотмашь ударил его.
Симаков упал, не вскрикнув. Так кончилась его уродливая жизнь.
Сиверс оттащил труп в кювет и забросал соломой. Он еще издали заметил груды соломы на пашне и поэтому выбрал именно это место для того, чтобы избавиться от Симакова.
Сев за руль, Сиверс проехал еще с десяток километров. На голой грязно-желтой поверхности осенней степи темнела впадина, одетая кустарником. Там Сиверс разбросал дерн, вытащил из тайника чемодан. В нем была одежда. Шпион вынул ее и торопливо переоделся. В новенькой форме с погонами, сверкавшими золотом, он вернулся в машину. Безопасной бритвой, всухую, выскоблил щеки, подбородок.
Проселок заворачивал вправо, к большаку. Там невдалеке — шлагбаум, проверка.
Сиверс знал это. Однажды он видел, как к контрольному посту с бешеной скоростью мчался «Виллис» и в нем во весь рост стоял военный в очень высоком звании и махал рукой. Шлагбаум поднялся. «Виллис», даже не замедлив хода, пронесся мимо. Тогда же Сиверс сказал себе: престиж мундира, гипноз золотых нашивок действует безошибочно. Полуграмотная девчонка-солдат не посмеет задержать такого.
У Сиверса в кармане кителя лежало удостоверение, соответствовавшее погонам и изготовленное в Берлине со всей тщательностью. Но оно было всё же не очень надежно.
Брезентовый верх машины теперь мешал. Сиверс откинул его. Через полчаса он вырулил на шоссе и нажал рычаг.
Все контрольные посты на всех дорогах, ведущих к фронту, уже получили приказ усилить бдительность. Но никто не мог сказать, в каком обличье появится враг.
У шлагбаума стояла низенькая, веснушчатая девушка, в сапогах, в застиранной добела гимнастерке с ефрейторскими лычками. Она знала — смотреть надо в оба, не пропускать никого без самой строгой проверки, но, конечно, она меньше всего ожидала увидеть врага, одетого генералом. Около дежурной топталась в ожидании смены ее подруга.
— Открывай, Шурка, — сказала она. — Генерал! Открывай! Шурища!
— Обожди, — ответила та спокойно. — Дай посмотреть… В военном совете всех знаю, командующего артиллерией знаю…
Сиверс не сбавлял хода. Стрелка спидометра достигла семидесяти. Сиверс несся на шлагбаум, отчаянно сигналя и бранясь. Один раз он привстал, держа левой рукой баранку, и попытался сделать другой рукой повелительный жест, но баранка угрожающе задергалась, свистящий ветер едва не сорвал фуражку. Расстояние до шлагбаума быстро уменьшалось, полосатый брус, перегородивший путь, вырастал, делался толще…
— Манукяна из бронетанковых знаю, Сергеева из связи… — невозмутимо продолжала Шура.
Теперь всё зависело от того, подчинится ли ефрейтор Шура Морозова «гипнозу золотых нашивок», на который враг так твердо надеялся.
— Шурка! Генерал же! — волновалась сменщица. В нетерпении она семенила у столбика, где закреплялся конец бруса, и уже взяла веревку.
— Не надо, — сказала Шура и отвела ее руку.
Шлагбаум не поднялся.
Нервы Сиверса сдали. Он начал тормозить, но полосатое бревно надвинулось так близко, что шпион, испугавшись столкновения, инстинктивно свернул влево. Машина влетела в канаву.
Сиверса вытащили оттуда помятого, оглушенного.
Удостоверение берлинской выделки не помогло: в тот же день Надеинский, подоспевший вскоре, препроводил шпиона в Дивногорск, а наутро свел лицом к лицу Сиверса и Ханнеке — обоих незадачливых «наследников». Сиверс назвал себя, рассказал всё о себе, Симакове и Келли.
На этом можно было бы поставить точку. Но воспоминания обступают меня, не дают положить перо.
Разве забудешь это!
Кажется, всё напоминает мне о тех событиях. Даже часы на руке Лары, маленькие часики на черном ремешке. Ведь это был едва ли не первый предмет, увиденный мной, когда я очнулся тогда в палате дивногорского госпиталя. Глазами вернувшегося к жизни я смотрел на свет, на белизну высокого потолка надо мной, на солнечный луч, лежащий на тумбочке и на одеяле, — нежаркий, невесомый и нежный. И что-то блестело на тумбочке, зажженное лучом. Твои часы, Лара! Ты прилетела на самолете ко мне, просидела двое суток возле меня и, как раз перед тем, как я открыл глаза, вышла из палаты отдохнуть. Ларка, родная! Как ты помогла мне встать на ноги!
Вот здесь, на столе, оттиски моей диссертации о дивногорском месторождении — свеженькие, пахнущие типографской краской. И они напоминают о том же. Ведь всё, что вы прочли здесь, это, можно сказать, история моей кандидатской диссертации, и, коли рассудить по совести, я никак не могу считать себя ее единственным автором. Впрочем, если вы не специалист, она покажется вам сухой и скучной. Съездите лучше в сегодняшний Дивногорск, побывайте на промысле. Еще в конце 1942 года он поддержал город, немало сделал для победы, а теперь снабжает многие промышленные центры. Самое подходящее время для этого — начало лета, когда степь еще зелена, а на склонах Дивных гор цветет сирень.
Не закончен, однако, мой поиск, хотя мечта Пшеницына осуществлена, и черный, цилиндрической формы брусок, лежащий возле письменного прибора, добыт с такой глубины, до которой Пшеницын и в мыслях своих, верно, не осмеливался добираться. Этот камень — крохотный сколок гигантских сокровищ, найденных под поверхностью дивногорской степи, — наших и моих сокровищ, друзья! Вряд ли сам Доннель так счастлив, подсчитывая свои миллионы, как я, богатый нашим всеобщим богатством. Враги наши — жалкие существа, они даже понять не способны, что? значит быть по-настоящему счастливым и богатым.
Глядя на черный камень — твердый, спрессованный в недрах, я думаю о загадках природы, еще не раскрытых нами, таящихся под панцирем земных пластов, о новых кладах. Я думаю также о темных кознях врагов. Но они не спрячутся от света!
Я смотрю на свою папку с письмами. Здесь послания — многостраничные и по-стариковски обстоятельные — от Федора Матвеевича, вышедшего недавно на пенсию и поселившегося в Клёнове. Здесь еще одно, очень памятное письмо. Адрес написан крупными, почти детскими буквами: «Сергею Николаевичу, г-ну Ливанову». И вот снова перед глазами палата госпиталя, у моей койки сидят Лара, Надеинский, — он выглядит в белом халате юношей. Дежурная сестра вносит ужин.
— Ах, извините, — говорит она, — совсем забыла, вам письмо… Давно лежит.
Лара передает его мне.
— Ну-ка, ну-ка! — вопросительно улыбается она, подняв брови. — Почерк женский.
«Глубокоуважаемый Сергей Николаевич! Г-н Келли внезапно принял решение уезжать. Однако я не могу уезжать, не написав Вам. Я имею нечто очень важное сообщить. Я получила письмо из Штатов. Стало известно относительно г-на Келли, что он до войны жил на Тихоокеанском побережье и был членом фашистского «Германо-Американского клуба». Этот клуб является, как говорят, замешанным в большом преступлении. В 1938 году был взрыв на верфи компании «Пасифик», причинивший смерть 179 людям. Г-н Келли также долго служил в филиале фирмы «Доннель» в Берлине и находился в контакте с гитлеровцами. Нельзя доверять Келли, г-н Ливанов! Я не могу больше писать, т. к. пакуем вещи. Поверьте, в Америке большинство — настоящие союзники России, желающие победы над фашизмом, в том числе я. Мое письмо я прошу Вас сохранить на память обо мне, а я всегда буду помнить Советскую Россию и Вас. Ваша Хэтти Андерсон».
Письмо было помечено двадцать вторым октября. Келли уехал вечером, накануне покушения на меня! Бежал, боясь разоблачения!
Где теперь Хэтти Андерсон? Как сложилась ее судьба? Хватило ли у нее мужества открыто порвать с доннелями, встать в шеренги борцов за мир?
Надеинский часто бывает у нас. Он теперь подполковник. Иногда я шутя спрашиваю его: не лучше ли было бы ему заниматься химией? Он сердится. Конечно, не всё было гладко у него тогда, — в Дивногорске. Надеинскому представляется, что он мог бы гораздо раньше пресечь путь врагу, если бы не брался всё делать сам и больше полагался бы на силы и зоркость своих друзей. Не знаю, возможно, он и прав.
Сейчас Надеинский сидит рядом со мной, просматривает эти записки, составленные при его участии, и просит добавить, что борьба не кончена. Надеинский обязан держать в тайне дела, которые он ведет теперь, но и так всем ясно, что Доннель и его шайка не сложили оружия. Не далее, как осенью 1953 года, в газетах промелькнуло имя Келли. Как сообщают беженцы из Западного Берлина, Келли возглавляет там шпионский центр под прежней вывеской — «Туристское бюро «Глобус»». Келли вызывает к себе немцев, бывших в плену в Советском Союзе, и, угрожая лишить работы и хлеба, выпытывает у них разные сведения о нашей стране. Его карьера, как видно, еще не кончилась…
Прошло больше десяти лет со времени событий в Дивногорске, описанных мной. Но они свежи в памяти. Можно ли забыть это? Нет, такое не забывается. Не правда ли, друзья?
ЯНТАРНАЯ КОМНАТА 1
Трое нас было… Уцелел я один. Сержант Симко погиб в Померании, старшина Алиев — под Берлином.
Как я выжил — сам удивляюсь! Вон он, на стенке, — тогдашний Леонид Ширяев. Не узнали? Да, тот молодой парень. Пилотку-то как заломил лихо! Лейтенантские погоны, как видите, совершенно новые, только что получены. Гордится он ими — страсть! Даже снялся вот, по случаю присвоения офицерского звания. Карточку сделала Вера, дивизионный фотограф, — «чудо-фотограф», как прозвали ее у нас.
Но речь не о ней.
Итак, трое нас вышли в разведку. Был 1945 год, апрель. Сырой, прохладный вечер.
Местность впереди открытая: поле, уже свободное от снега, небольшая рощица, а за ней — холм.
Задача наша — занять на холме наблюдательный пост. Провести там ночь, приглядываясь к тому, что творится на шоссе и в предместье Кенигсберга, а если представится возможность, то и взять «языка».
Где-то справа подает голос наша батарея. Выпустит заряд, умолкнет, и тогда слышно, как бьют по сапогам головки прошлогоднего нескошенного клевера. Они обмерзли и колотятся громко, словно град.
Запал мне в память клевер. И туман. Он ждал нас в роще, где местами еще дотаивал снег. За рощей он немного поредел, а потом стал гуще, — мы спустились в ложбину.
Если бы не туман, не батарея, затихавшая только для того, чтобы перезарядить орудия и изменить прицел, операция наша закончилась бы, должно быть, совсем по-другому. Да что операция! Вся жизнь моя пошла бы иначе. Короче говоря, стряслось конфузное для разведчика происшествие. Мы наскочили на немецкую траншею.
Прямо против меня стоял молоденький тощий солдат. В одной руке — саперная лопата, в другой — дохлая мышь. Должно быть, прикончил ее лопатой и хотел выкинуть. А перед этим он долбил землю, и я, помнится, слышал смутный шум, но снаряды нашей батареи, завывавшие над головой, не дали мне как следует прислушаться. И вот теперь мы столкнулись лицом к лицу, и оба оторопели.
В струйках тумана — еще немцы. И все с лопатами. Застыли, смотрят на трех русских, выросших вдруг у самого бруствера. Туман ползет, вьется, и немцы точно плывут, и всё вообще — наподобие миража.
Что нам остается? Стрелять, убить как можно больше фрицев, а последнюю пулю — себе. Не даться живыми…
Рука моя уже отстегнула кобуру. И чую, кожей чую, — спутники мои тоже напряглись, приготовились к последней схватке. Много дорог мы прошли вместе, сроднились. Сплавились, можно сказать, воедино.
Немец с мышью не шевелился. Испуг пригвоздил его. В него первого я и должен был выстрелить.
Но я не вынул пистолет. Счастье, что этот немец — отощавший, окаменевший от ужаса — маячил как раз передо мной. Он помог мне увидеть другой выход.
— Где ваш офицер? — крикнул я и шагнул на бруствер. — Мы советские парламентеры!
Крикнул, а сам соображаю, — на парламентеров мы ведь явно не похожи. Ни белого флага, ни белых повязок на рукавах. И молоды слишком. Особенно — я.
В ту пору я еще стеснялся своего возраста. И внешности своей не доверял. Толстогубая, щекастая физиономия… Словом, в роль парламентера я входил не очень-то уверенно. Сейчас, думаю, бросят они лопаты, поднимут винтовки, автоматы…
И, чтобы не дать немцам опомниться, я опять заговорил. Слов немецких у меня не очень много, от волнения я путаю их, безбожно путаю, запинаюсь, но чувствую: молчать нельзя. Надо как можно лучше объяснить им самое главное. «Войну они проиграли. Кенигсберг окружен. Порт Пиллау отрезан, помощи ждать неоткуда. Не будет ее ни с моря, ни с суши.
Складывайте оружие! Сдавайтесь в плен. Мы гарантируем вам безопасность!
Бывало, отправляясь в тыл противника, мы брали с собой листовки с этими призывами и там разбрасывали их. Для практики в языке я читал листовки и многое невольно заучил.
— Советская армия обеспечит вам жизнь, возвращение на родину после войны!
Надо бы иначе, по-своему, а я барабаню по-печатному, как урок! Эх-ма! Вот уже израсходован запас — весь, до самого дна. Я судорожно стараюсь припомнить еще какие-нибудь слова, но нет! Пусто! И я умолк.
Что теперь? Траншея безмолвствует. Солдата с мышью уже нет, на его месте — офицер, лейтенант. Высокий, в очках, весьма штатского вида. Что он ответит? Или ничего не ответит, а скомандует, и они откроют огонь…
— Ja… So… — протянул наконец лейтенант. Потом лицо его задергалось. Он выдавил несколько длинных, сбивчивых фраз. Я понял только, что вести переговоры он не вправе. Надо доложить командиру батальона.
— Веди, — говорю, — нас к командиру.
Сам думаю: «Неужели я еще жив! Чудеса!»
Немцы посторонились; мы перешагнули через траншею, и лейтенант повел нас по тропе, выбитой солдатскими ботинками, сквозь кустарник, одевший скат холма, на вершину. В сумерках забелел столб с облупившейся штукатуркой. Скрипит, стонет на ветру железная калитка, свернутая воздушной волной. За горелыми стволами сада — здание. Вернее, обломок здания.
На безглавой башне еще лепится кое-где выпуклый орнамент — крупные гипсовые раковины. Над входом, в узорчатой рамке, надпись: «Санкт-Маурициус». Кроме башни да стены с пустыми окнами, ничего не сохранилось от виллы.
Лейтенант ухнул вниз, в тёмный провал, мы — за ним. Неяркий луч метнулся из открывшейся двери. Мы вошли в помещение, освещенное круглой походной лампочкой. Она висела на толстом проводе, подтянутом к потолку от аккумулятора. Меня кольнуло. Трофейный аккумулятор, нашей марки! За столом — немец в форме майора, седой, желтый от старости.
На впалой груди майора мерцали ордена. Их было много. Кроме гитлеровских наград я различил и другие, полученные, верно, в армии кайзера.
Майор с трудом приподнялся и снова сел. Ордена глухо стукнулись. Диковинно выглядел этот дряхлый командир батальона, нацепивший все свои, регалии, точно для парада. Похоже, актер играющий в каком-то зловещем спектакле.
Лейтенант доложил. Старик громко задышал, а затем стал быстро-быстро выпаливать слова. Сгустки слов. Я уразумел лишь «Deutschland», повторенное очень много раз.
— Имеется переводчица, — сказал лейтенант. Это было как раз кстати.
Между тем в подвал набирались люди. Они топтались позади, но я не оглядывался. Я не выпускал из вида командира и лейтенанта. Дверь опять хлопнула. К столу приблизилась девочка в зеленоватой куртке, в берете с галолитовой брошкой — кленовым листком. Да, именно, девочкой показалась она мне с первого взгляда… Детское курносое личико, пятнышко пудры на пухлой щеке.
«Немка? Или из наших? Верно, русская, — подумал я с досадой. — Связалась с ними…»
Не знаю, точно ли передаю тогдашние свои впечатления, — мне и досадно было, и больно за нее. Ей бы еще в школу ходить, играть на переменах в жмурки, собирать открытки с портретами артистов, писать на ладошках, перед экзаменом, «Килиманджаро», «Баб-эль-Мандебский пролив», как это делает моя сестренка Вика, эвакуированная из Калуги на Урал. Эта — ненамного старше Вики, а ростом такая же.
Майор вез говорил, не глядя на нас, как бы про себя. Переводчица прижалась к резной спинке кресла, опустила веки, прислушалась, потом одернула курточку и сказала чисто, певуче, с мягким украинским «г»:
— Господин майор учитывает ситуацию на фронте. Он принимает ваше предложение.
— Прекрасно! — вырвалось у меня.
Конечно, парламентеру не полагалось давать волю своим переживаниям. Надо было реагировать по-другому — сдержанно, с достоинством.
Не ожидал я, что все сойдет так гладко. Ведь майор, матерый служака, наверняка догадался, кто мы такие. Почему же он не захотел даже проверить наши полномочия? Но тут же я понял, что происходит. Никого мы не обманули. Всем немцам ясно — не парламентеры мы, а разведчики, налетевшие на позиции батальона в тумане, случайно. Пусть у нас нет белых повязок, нет отпечатанного текста капитуляции — это сейчас неважно. Вся суть в том, что Кенигсберг обречен, что войну они проиграли, что их солдаты, голодные тотальники, драться не умеют и не хотят.
Лейтенант наклонился к майору и что-то тихо проговорил. Наступила заминка.
— Просьба есть одна, — сказала переводчица. — Тут два обер-ефрейтора… Им, наверно, дали следующее звание и… Майор просит позволения позвонить в штаб дивизии, узнать. Он считает, они должны пойти в плен унтер-офицерами.
Слова она произносила не детские, из языка войны, строгие, мужские и от этого становилась как бы старше. И сходство с Викой исчезло.
— Гадюка! — прошептал сержант Симко и поправил на плече автомат. — С Украины она, факт, товарищ лейтенант.
Однако как же быть? По мне что ж, и унтерам найдется место в плену. Я их понимаю. Сам недавно получил звание. Но вот звонок в штаб отсюда — это, пожалуй, рискованно. Нет ли тут подвоха?
Я заколебался. Между тем лейтенант уже потянулся к телефону. Переводчица открыла сумочку; в руке ее блеснули ножницы — маленькие, отливавшие никелем и эмалью ножницы. В одно мгновение она оттеснила лейтенанта и… перерезала телефонный шнур.
Ловко!
Тут я поймал себя на том, что думаю о ней без гнева, скорее с любопытством.
— Господин майор не настаивает, — услышал я. — В данной обстановке…
Майор, к моему удивлению, кивнул. А ведь она на этот раз не переводила, сказала от себя. Лейтенант, которого она только что оттолкнула от телефона, тоже не противился. Он отошел в сторону и почтительно слушал ее. Э, да она не простая переводчица! Никак она теперь распоряжается тут?
Майор встал, звякнул орденами и выронил на зеленое сукно стола револьвер. Рука старика дрожала.
Тогда мне было не до него.
Затем к моим ногам упал тяжелый автоматический пистолет лейтенанта. Еще пистолет. В тесном подвале поднялся оглушительный грохот. Офицеры сдавали оружие. Некоторые бросали его прямо в кобурах, вместе с ремнями.
Что чувствовал я? И ликовал, и дивился удаче. И глазам своим не верил. Неужели мы трое взяли в плен батальон фрицев?!
— Старшина! — повернулся я к Алиеву. — Расстели плащ-палатку и собери всё.
Руки Алиева, — смуглые, с тонкими пальцами, проворные, прилежные руки, — укладывали оружие, завязывали узел. Еще сегодня утром он так же спокойно, старательно собирал у нас в разведроте зимнее обмундирование: теплые шапки, рукавицы, байковые портянки. А сейчас вот — оружие. Немецкое оружие. Это не сон, — мы действительно взяли в плен батальон фрицев. До чего же здорово!
Капитуляцию солдат мы принимали у траншеи. Винтовки я велел сложить в окоп и засыпать. Лейтенант выстроил солдат; старый майор подозвал двух обер-ефрейторов, вручил им лычки, погоны и поздравил.
Бедняги истово благодарили, и в глубине души я одобрил поступок майора. Парень я был не злой, хоть и стремился, по молодости лет, казаться человеком, ожесточившимся на войне, не ведающим жалости.
Я пересчитал солдат. Всего тридцать семь — не густо! Видать, батальон хватил огонька! Переводчица подала мне списки личного состава. Все это время, пока мы были у траншеи, она суетилась, совалась всюду и даже покрикивала на немцев.
— Из кожи лезет, — жестко молвил мне сержант Симко. — Прищемили хвост, вот и выслуживается.
Выслуживается? Нет, это мне не приходило в голову. Почему-то не приходило. Сержант продолжал в том же тоне, а я не знал, что сказать ему. Странное дело, одно только любопытство у меня было к ней, и ничего больше.
— Разберутся, — бросил я.
На перекличке одного солдата не хватило. Лейтенант повторил имя:
— Кайус Фойгт!
Шеренга сумрачно молчала. В эту минуту подбежала переводчица, и лейтенант спросил ее, где Кайус Фойгт. «Она-то при чем?» — подумал я. Оказывается, Фойгт — шофер. Он привез ее сюда и находится у своей машины. Числится в батальоне, а служит в другой части.
— Там, где фрейлейн Катья, — пояснил мне лейтенант. — Вы возьмете машину?
— Не возьмут они ее, — вставила переводчица. — Дырявая, как решето. Вы гляньте.
Я помедлил.
— Тут близко. — И она шагнула ко мне. — Идемте, прошу вас.
Она споткнулась о брошенный кем-то ранец, на миг уцепилась за меня. Что-то новое вдруг появилось в ее тоне, во всем ее облике.
— Товарищ лейтенант, — услышал я быстрый шепот, — идемте. Вы должны мне помочь.
2
Она так горячо, так искренне произнесла это «товарищ лейтенант», что я не сделал ни одного протестующего движения и не перебил ее.
— Идемте! Идемте скорее! Там, на вилле… Надо показать вам…
— Что?
— Там ценности, — сказала она. — Вещи. Вещи из советских музеев.
Вещи! Только и всего! К вещам я относился с истинным солдатским пренебрежением. Музеи остались где-то далеко в мирной жизни, почти забытой. Посещал я их нечасто. На фронт я ушел восемнадцати лет. Как многие юноши, увлекался техникой. С искусством я был мало знаком. Не дорос еще. Не успел. И слышать о музеях здесь, у траншеи, среди раскиданных на земле ранцев, обшитых ворсистой шкуркой, среди алюминиевых фляжек, тесаков, было как-то непривычно и странно.
Однако мне все равно следовало провести ночь на высотке. Вести наблюдение до утра — таков был приказ.
— Пленных поведет старшина, — сказал я, вернувшись к своим. — Симко будет со мной.
Алиеву я дал инструкции. Передал свой разговор с переводчицей и велел доложить Астафьеву обо всем, не упуская ни одной мелочи.
Симко хмурился. Переводчица раздражала его до крайности. Пока мы лезли на холм, он угрюмо молчал, сопел и бросал на нее свирепые взгляды.
С холма открывалось шоссе, стальное от лунного света, и фабричные трубы предместья. В полусотне шагов от виллы, за садом, под крутым откосом, стоял высокобортый, крытый брезентом, тупоносый грузовик, Несмытые белые полосы зимней маскировки покрывали кузов. Долговязый немец расхаживал взад и вперед по асфальту, подпрыгивал от холода и бил себя по бедрам.
— Это Кай, — сказала переводчица.
— Давай туда, — приказал я сержанту и указал ограду, нависшую над шоссе. — Заодно и на него поглядывай.
— Это русские, Кай, — сказала девушка по-немецки и так, словно речь шла о самом естественном. — Ты в плену. Тебе известно уже?
— Jawohl, — коротко отозвался Кай.
Все же я отобрал у Кая автомат и заглянул на всякий случай под брезент.
— Так вы Катя? — спросил я переводчицу, когда мы отыскивали вход в подвал.
— Катя. Катя Мищенко.
Понятно, мне хотелось знать о ней больше. Так и подмывало. Но я сдерживал себя. «Мало ли что она может сочинить, — строго внушал я себе. — Доставлю ее нашим — там разберутся».
Между тем в душе я доверился ей. И это смущало меня. Поэтому я напустил на себя строгость, говорил с ней односложно, резко. Именно так, казалось мне, повел бы себя на моем месте Астафьев, командир нашей роты. Он был суровый человек, неразговорчивый. Я любил его и нередко подражал ему.
Круглый стеклянный пузырь на толстом проводе все еще светил в подвале. За креслом, где сидел старый майор, темнела глубокая, узкая ниша. В ней — фигура какого-то святого. Курьезная фигура — с черной негритянской головой, с черными руками.
Из соседней комнаты железная винтовая лестница вела вниз. Я зажег фонарь. Мы спустились.
В луче фонаря возникли дощатые ящики. И другие ящики, необычного вида, широкие и плоские. Заблестели рассыпанные на полу гвозди. А посреди помещения возвышалась фигура женщины с луком в руке.
— Вот, — сказала Катя, — видите, готово все. — Она прошлась среди ящиков, потрогала их, пощупала тюки, потом смерила взглядом статую. — Я должна была вам показать… Чтобы вы, по крайней мере, знали место.
— Ясно, — сказал я.
— В коробках фарфор. Дворцовые сервизы. Кидать нельзя, запомните. Ладно?
Я спросил, что в плоских ящиках. Оказывается, картины. Вот не думал! До сих пор я встречал картины только в рамах.
Должен заметить, хоть я и воображал себя непроницаемо строгим, мои настроения все же отпечатывались на моей нескладной физиономии весьма отчетливо.
— Я тоже вот, — она засмеялась, — как пришла первый раз в музей, в хранилище, мне жалко их было, жалко картин. Море плещет, деревья шумят, люди как живые написаны, — да как же можно это трогать, из рам вынимать… и в темницу…
Я ничего не ответил. Я сжался весь еще сильнее оттого, что она так внезапно и непрошено заглянула мне внутрь. А она как ни в чем не бывало порхала по комнате, сыпала именами. Я уже не помню сейчас всех художников, которых она назвала тогда. Я не знал их, кроме Айвазовского.
И тут меня прорвало. Мне вдруг взбрело на ум показать, что и я не лыком шит.
— Девятый вал, — сказал я.
У нас дома, в Калуге, висела репродукция «Девятого вала».
Катя улыбнулась. Веселые, лукавые искорки плясали в ее глазах. Я насупился.
— Что вы, этой картины нет! — услышал я. — Она в Москве, в Третьяковской галерее. Тут полотна из Минской галереи, из нашей Киевской. — Тон ее стал опять деловитым, как вначале. — Грузить будете — стоймя ставьте, как здесь. А вот с Дианой, — она обернулась к статуе, — сложнее обстоит. Ящик сколотите. Только сосна не годится. Сосна не выдержит. Дуб только. И потом…
— Я не плотник, — вставил я.
— Это всех касается! Всех! Вы знаете, где она стояла раньше? В Петергофском парке! Ой, лышеньки, да зачем вы молчите так! Да вы ж не представляете, какое это богатство! А тут малая часть. Он же массу всего вывез…
— Кто? — не выдержал я.
— Фон Шехт. Хозяин виллы. Мой начальник. Вы слыхали про эйнзатцштаб?
— Никак нет.
— Эйнзатцштаб — это… — начала она и запнулась. — А вы поверите мне? Нет, — она покачала головой, — лучше спросите про штаб… И про меня… У Бакулина.
У Бакулина?
Я знал его. Майор Бакулин, офицер разведотдела армии, часто бывал у нас в роте. Я насторожился. Мало ли почему он мог быть известен в этом, как его, эйнзатцштабе! Если она связана с Бакулиным, работает на нас, то почему он не ориентировал Астафьева, меня? Не предупредил о возможной встрече? Бакулин с его редкой памятью, рассудительный, внимательный. Бакулин не упустил бы…
Я терялся в сомнениях. В душе доверие к ней, вопреки логике моих размышлений, еще жило, но я решительно заглушал его.
— Вы поможете мне, правда? — спросила она и, подтянувшись на носках, глянула мне прямо в лицо. — Правда? Вы отпустите меня?
— Куда?
Еще больше насторожился я, когда она объяснила. Обратно, к немцам, в Кенигсберг, — вот куда ей нужно, оказывается! Большая часть музейных вещей там. Гитлеровцы сейчас прячут их, и ей надо быть в курсе. Иначе их не найти потом.
— Это же для нас… Лышеньки! Там на миллионы, на миллиарды… Из Петергофа вещи, из Пушкина…
— Не могу, — сказал я.
Ни в Пушкине, ни в Петергофе я не был. Я не имел о них почти никакого понятия. Возможно, все это так, как она говорит. Но я не могу, не имею права отпустить ее. — Я отвел луч фонаря вниз, к истоптанному, в трещинах, бетонному полу. Не видя ее, мне легче было противиться ей.
— Хорошо, — вздохнула она. — Тогда вы сообщите Бакулину.
— Что?
— Это самое и доложите, — произнесла она жестко. — Что я вас просила, а вы…
— Душно здесь, — сказал я. — Пошли.
Мы выбрались из подвала и остановились у портика с надписью «Санкт-Маурициус». Луна зашла за облака. Стемнело. Где-то гремел на ветру лист железа, словно подражал орудиям, рокотавшим вдали. Теперь уже не одна, несколько батарей, наших и немецких, ввязались в спор. Мраморная Диана, картины в ящиках, дворцовый фарфор — всё это показалось мне до странности чуждым войне. Как будто я только что прослушал сказку о спрятанных сокровищах.
Катя нахохлилась. Галолитовый листок на ее берете блестел ниже моего плеча.
— Если вы такой… Ведите меня туда, к нашим! Мне же скорее надо обратно!
— Подождет ваше дело, — сказал я.
Сняться с холма я предполагал на рассвете. Но получилось иначе, командование сочло нужным занять обнажившийся участок, улучшить свои позиции.
Удивительно быстро обосновываются солдаты на новом месте. Возникли окопы, огневые точки, замаскированные плетнями из ивовых прутьев. На склонах выросли шалаши. Запахло махоркой, срезанным можжевельником, оружейным маслом.
В подвале расположился командный пункт стрелкового полка. Я зашел туда, поручив Катю сержанту Симко.
— А я тебя ищу, — раздался голос Астафьева. — Где твоя переводчица? Давай ее!
Не только он, и Бакулин приехал, чтобы свидеться с ней. Им отвели шалаш, и я привел туда Катю, задыхаясь от нетерпения. Седой майор шагнул к Кате, взял за плечи и поцеловал в лоб.
— Девочка хорошая! — сказал он.
Я буквально прирос к полу. Все смешалось в моей голове. Почему же, почему нас-то не предупредил Бакулин? Но не мне было задавать вопросы майору. Астафьев покосился на меня и дернул свой ус движением, означавшим, что мое присутствие излишне.
Сержант Симко караулил машину, Шофер Кайус Фойгт мирно похрапывал в кабинке.
— Наша она! Наша! — шепнул я сержанту. Радость распирала меня, я не мог не поделиться ею.
Катя пробыла с офицерами не дольше получаса. Потом вызвали меня. Майор дописал что-то, промокнул и отставил пресс-папье. Он хмурился. Астафьев дергал свои чапаевские усы.
— Проводить надо товарища, — произнес он. — Мимо боевого охранения… В общем, на ту сторону. Саперы уже, поди, заложили свои гостинцы на шоссе, так ты первым делом ступай к ним. Пусть укажут объезд.
Меня точно резнуло…
Зачем? Разве так необходимо? Идти обратно, в осажденный город, ради вещей! Ведь не сегодня-завтра Кенигсберг будет в наших руках. И все, что там есть. Выходит, я напрасно задержал ее. Только, отнял у нее время и, может быть, повредил ей. Ну, конечно! Возвращаться — так сразу, а сейчас это опасно вдвойне… Привычное «слушаюсь» не шло с губ, его стало вдруг очень трудно выговорить. Трудно, как никогда.
— Товарищ майор, — начал я, — разрешите… Я готов и дальше с ней… Если найдете целесообразным.
Наверно, это выглядело нелепо, по-мальчишески. Но молчать я был не в силах.
— Не нахожу, — отрезал Бакулин. — И ее под топор подведете, и вам несдобровать. Нечего! — Он сердито откашлялся и добавил мягко: — Вы правильно поступили, лейтенант. Верно, Астафьев?
Как раз такие слова мне очень нужны были в ту минуту. Но стыд, чувство вины перед ней не проходили.
— И немца с ней? — спросил я.
— Да, и немца. — Лицо Бакулина теплело. — Не все они фашисты, Ширяев. Не все.
Ох, до чего же опять нелегко повиноваться! Немец все-таки! Правда, при мне наши политработники отпускали пленных в расположение врага с листовками: агитировать, разъяснять правду о Гитлере, Я сам сопровождал однажды пленного через наш передний край. Но Кайус Фойгт!.. Ведь, коли он побывал у нас с Катей, жизнь ее зависит от него. Что, если выдаст?
— Действуйте, лейтенант, — кивнул Бакулин и задержал на мне ласковый взгляд. — Прошейте им кузов из автомата да у минометчиков попросите огонька. Легенда такая: заблудились, наткнулись в темноте на красных, едва улизнули.
— Ясно, — выдавил я.
Я сам всадил очередь в задний угол кузова. Нескольку мин лопнуло впереди, на шоссе, затем Катя села в кабину, я втиснулся рядом. Кайус Фойгт дал газ, и мы не спеша, на тормозах скатились с холма. Катя зябко ёжилась.
— Ой, звездочка упала! — воскликнула она. — Я загадала. Значит, все будет хорошо.
Она улыбалась мне, ободряла меня. От этого становилось еще тяжелее. Мы объехали минное поле, я вылез и пожал маленькую холодную руку.
— Простите меня, — только и сумел я сказать.
Начинало светать, и машина не сразу скрылась из вида. Я стоял и смотрел. Вот она превратилась — в бесформенный комок и растворилась в сумерках. Некоторое время еще слышалось жужжание мотора, потом его заглушил отдаленный гомон зениток. Край неба вспыхнул, там занимался пожар. Где-то переговаривались дальнобойные. Озаряемое сполохами, лежало каменной целиной предместье вражеского города, и к нему, в неизвестное, двигалась маленькая бесстрашная девушка…
3
Вы поймёте, как нетерпеливо ждал я вестей от Кати, когда мы вошли в Кенигсберг.
Дышалось по-весеннему. На Университетской площади, где генерал Ляш со своим штабом сложил знамена, дерзко пробивалась в обгоревшем сквере молодая зелень. В тот год весна несла самый драгоценный дар — победу, мир. И хотя в городе то и дело рвались мины, возникали пожары, а пленные немцы рассказывали о каком-то «тайном оружии», будто бы имеющемся у Гитлера, мы все знали: дни фашистской Германии сочтены.
«Неужели Катя не дожила?…»
Она не встретила нас. Явки, которые она дала Бакулину, не состоялись.
Значит, случилась беда. Чувство вины перед ней и раньше донимало меня, а теперь оно стало невыносимым. Я рисовал себе ее в застенке, в руках палачей. «Если она погибла, — думал я, — то из-за меня. Да, из-за меня».
Бакулин предпринял розыски. Я понадобился ему, так как видел Катю и шофера. От Бакулина я и узнал ее историю.
Жила Катя сперва в Майкопе, потом в Киеве. Окончила там семилетку, поступила в музей, на техническую должность. Полюбила музей. Когда Киев захватили немцы и стали вывозить сокровища, Катя вызвалась сопровождать эшелон в Германию. То было поручение комсомольского подполья — не выпускать из вида музейное добро.
Юная девушка, наивная, почти ребенок, — кто заподозрит, что у нее секретное задание! Ограблением музеев ведал эйнзатцштаб Альфреда Розенберга. Катя устроилась в штабе переводчицей. Немецкому языку ее обучали еще в детстве. В музее Катя успела прослыть ходячим каталогом. Она держала в памяти тысячи имен, дат.
Последнее время Катя была в Польше. В Кенигсберге она очутилась недавно. Вот почему Бакулин не предупредил нас. Он сам не рассчитывал встретить Катю на нашем участке.
— Миссия ее, в сущности, почти закончена, — сказал Бакулин. — Много сведений уже получено от нее, кое-что она сама мне сообщила. Но… Она, понимаешь, считает, что рано ставить точку. Аргументы у нее серьезные.
Луч солнца, пробившийся сквозь цветное стекло узкого окна, освещал лицо Бакулина, доброе и немного грустное. Разведотдел занял помещение духовной школы.
— Вещи! — воскликнул я с досадой. — Да куда они денутся, товарищ майор!
— Могут и пропасть. Вопрос не такой простой, Ширяев. Но мы убедили ее не увлекаться, по крайней мере. Ограничить цель. В Кенигсберге, видишь ли, находится знаменитая Янтарная комната.
— Комната? — спросил я.
— Отделка комнаты, точнее говоря. Не слыхал? Видел я ее. Богатый в Пушкине дворец, всего не запомнишь, а это забыть невозможно. Комната в огне будто. В золотом огне. Он тлеет, тихонько тлеет, а тебе сдается, вот-вот вспыхнет пламенем. Даже жутко. Раздобудем ее в Кенигсберге, и ты увидишь.
— Не влечет, товарищ майор, — сказал я. — Что в ней? По сравнений с жизнью человека…
Для меня она была далека, как все мирное, — Янтарная комната; как дома «Девятый вал» в рамке, выпиленной лобзиком; как мои школьные учебники, закатанные чернилами; как плеск весел на Оке…
— Согласен, — молвил майор. — Человек дороже всего. Но ты ответь, можно запретить человеку идти на подвиг?
В тот день Бакулин долго не отпускал меня. И я изливал ему свою душу.
Астафьев — тот восхищал меня храбростью, хладнокровием в бою, но отдалял от себя суровостью. Причину он не скрывал. Война отняла у него всех близких. «Сердце из меня вынуто», — бросил он как-то, хватив трофейного шнапса. Бакулина я знал еще мало, чуточку робел перед ним, но тянулся к нему. Вырос я без отца и, должно быть, знакомясь со старшими, бессознательно искал отеческое…
Сегодня впервые Бакулин говорил мне «ты». Катя словно сблизила нас.
— Располагайте мной, товарищ майор, — сказал я. — Раз я допустил ошибку…
— Опять ты за свое… — Он покачал головой.
— Судить меня не за что. Верно, — отозвался я, — устав я не нарушил. А все-таки есть моя вина!
В чем она состоит, я не мог как следует объяснить. Чувствовал я себя как бы уличенным в трусости. От смерти в бою не бегал, а довериться человеку в решительную минуту смелости недоставало.
— Ну-с, ближе к делу! — отрезал Бакулин.
Я выслушал инструкцию. В Кенигсберг Катя приехала с двумя офицерами эйнзатцштаба — подполковником фон Шехтом и обер-лейтенантом Бинеманом. Известен еще шофер — Кайус Фойгт. Их и надо обнаружить прежде всего.
Я вышел.
Наводить справки, отыскивать кого-нибудь в чужом городе, только что занятом, — задача нелегкая. Я убедился в этом очень скоро. Фойгт как в воду канул. Не было никаких сведений ни об эйнзатцштабе, ни об его офицерах. В комендатуре пожимали плечами. Немцы — пленные и штатские — не знали или отмалчивались… На конец на третий день мне принесли пакет со штампом немецкого лазарета.
«Подполковник Теодор фон Шехт скончался 10 апреля от сердечного удара», — прочел я.
Среди несметного количества смертей, изобретенных людьми, естественная, невоенная причина казалась неправдоподобной. К тому же речь шла о фон Шехте — грабителе фон Шехте. Требовалась проверка.
Бакулин дал мне «виллис», и я поехал. Сперва машина колесила по центральным улицам, разгромленным бомбовыми налетами англичан, огибала завалы, воронки, противотанковые надолбы, поваленные деревья. Я держал на коленях план Кенигсберга. Двигаться среди руин было трудно. Потом мы вырвались в западную часть города, почти не тронутую бомбами. «Виллис» остановился у серого особняка. У подъезда, под тяжелым узорчатым железным фонарем, советский офицер-медик — потный, в расстегнутом кителе — растолковывал что-то немкам-санитаркам.
— Фон Шехт? — Медик поднял брови. — Совершенно верно, умер.
— Tot, tot, — закивали санитарки.
— Удар? — спросил я.
— Точно, точно, — подтвердил медик. — Я сам очевидец.
Одна из санитарок принесла небольшой желтый чемоданчик. Медик достал из кармана ключ.
— Документы умерших, — сказал он.
Синий сафьяновый бумажник с инициалами фон Шехта мне бросился в глаза сразу. Он словно аристократ, чванный, пузатый, раздвигал потрепанные паспорта и солдатские книжки. Вывалилось офицерское удостоверение, пропуск штаба гарнизона, два орденских свидетельства: одно — к железному кресту, другое — к кресту с дубовым венком. На фотоснимках — узкое лицо, словно рассеченное широким, плотно сжатым ртом, вдавленные виски, высокий, без морщин лоб. Год рождения 1898-й, сообщали документы. Но ему можно было бы дать и тридцать лет, и все пятьдесят. Лицо было без возраста… Вот пачка визитных карточек. «Фон Шехт» — стояло на них крупно, затейливой старинной вязью. Вспомнилась вилла «Санкт-Маурициус» — башенка, унизанная гипсовыми раковинами. И еще одна подробность возникла в памяти при взгляде на карточки. На каждой, в левом верхнем углу, красовалось изображение святого с черной негритянской головой. Того самого, что стоял в подвале виллы, в нише.
— Святой Маурициус, — произнесла санитарка постарше, и остальные опять закивали.
Уголок сложенной вчетверо бумажки торчал из бумажника. Я развернул.
«К ногам могучей немецкой империи складывает покоренная Россия сокровища, накопленные царями и блиставшие в их дворцах. Немец! Посмотри на эти трофеи! Они по праву принадлежат расе господ».
Бумажка перетерлась на сгибах, потеряла глянец, — фон Шехт, очевидно, давно хранил этот рекламный листок. Как сообщалось далее, выставка вещей из дворцового убранства открыта в Орденском замке, и в числе экспонатов — Янтарная комната из Екатерининского дворца в городе Пушкине.
Вот и все содержимое бумажника. «Пожалуй, только реклама выставки и представляет интерес», — думал я, трясясь в «виллисе». Теперь установлено по крайней мере, где показывали Янтарную комнату — предмет особых забот Кати.
— В замок! — приказал я водителю.
Орденский замок — в самом центре города. Первый раз я увидел его в день штурма. Багровое пламя вырывалось из окон угловой башни. Он стоял в клубах дыма, над пустырями, над грудами битого камня. Жилые кварталы окрест рухнули, а замок стоял. Ловкие мастера воздвигли когда-то это здание вышиной с восьмиэтажный дом. Бомбы, пожары сильно повредили его: стены местами обвалились, но он все же выдержал.
«От замка на зюйд», «мимо замка и вправо» — так говорили тогда у нас, уточняя направление. Он виден издалека. Но только теперь, поднимаясь по ступеням лестницы, ведущей к воротам, я почувствовал всю мощь древней твердыни. Замок словно придвинулся и навис надо мной. Угрожающе клонилась башня, мохнатая от опаленного, порванного плюща. Струйки дыма сочились из амбразуры, — внутри что-то еще горело.
От этого замка и пошел Кенигсберг. Оплот Тевтонского ордена, немецких псов-рыцарей был его началом, ее сердцевиной. Потом замок стал резиденцией прусских королей: Один из них — Фридрих-Вильгельм, — принимал здесь русское посольство во главе с Петром Первым… Но это все я узнал позднее.
Холодом, извечной сыростью камня, духом гнили пахнуло на меня во дворе. Есть ли тут где-нибудь жизнь? Мы миновали арку, вошли в следующий двор. Гудит мяч, — люди в голубоватых, застиранных халатах играют в волейбол; несет йодоформом. Санчасть. Рядом, в углу, у маленькой кирпичной пристройки толчется часовой. Верно, кладовая. На двери с замком дощечка: «Мин нет». А справа, в глубине двора, они, может, еще есть, — там ходят саперы, тычут в землю свои щупы. И какой-то штатский, коротенький, в помятой зеленой шляпе, увязался за офицерами, жестикулирует, зовет.
Я подошел.
— Его зовут Моргензанг, — сказал, смеясь, лейтенант, мой ровесник. — Утренняя песня, следовательно. Он хозяин кабачка.
— Какого кабачка?
— Вот же, — лейтенант задрал голову, — «Кровавый суд»! Придумал же!
«Blutgericht!» — блестели стальные буквы, прибитые прямо к стене.
— Тут в старину был зал суда, — продолжал лейтенант, и в голубых глазах его светилось насмешливое удивление. — И камера пыток. Давно, еще при рыцарях. Чудак же! Спрашивает, нельзя ли ему опять открыть свое заведение. Для наших офицеров. Конкурент военторгу! — Лейтенант расхохотался, довольный своей шуткой. — Он говорит, многие высокопоставленные лица посещали кабачок. Топоры, клещи там, железные прутья развешаны, кольца, куда пленников заковывали. Все подлинное. Очень, говорит; редкий локаль. Вот, хочет продемонстрировать.
Немец подбежал к нам:
— Нет мин, господа, уверяю вас! Я же был тут. Ой, вы бы видели маскарад! Фольксштурмовцы сперва храбрились, а потом сорвали с себя мундиры и драла. В музейных костюмах! В камзолах, в плащах времен Лютера. Бог мой! А я не подумал уходить. Зачем? Я вывесил скатерть, белую скатерть, и встретил русских здесь. Да, да, может ли капитан покинуть свой корабль? Нет, господа! Так и я!
— Порядок! Гут! — раздалось за стеной, внутри. Солдат-сапер спрыгнул с подоконника к нам. Моргензанг тотчас ринулся вперед.
В кабачке все побелело от осыпавшейся штукатурки — прилавок, круглые столики, пыточное кольцо, вбитое в стену. На полу валялись бутылки с этикетками французских, греческих вин. Моргензанг носился по залу, рылся в кладовых, гремя пустой посудой, и скорбно вздыхал.
— Ах, господа-офицеры, ничего нет, абсолютно ничего! Пустыня Сахара! — горевал он, вздымая руки. — Проклятые эсэсовцы! Все сожрали!
Войдя в азарт, он перечислял вина, которыми хотел бы нас угостить, токайское полувековой давности, лучший рейнвейн. Прищелкивая языком, Моргензанг рассказывал, какие блюда составляли гордость его предприятия. Прежде всего — фаршированный цыпленок! Тут Моргензанг молитвенно затих.
— Объедение! Чудо! — воскликнул он. — Цыплят я получал из Литвы, очаровательных цыплят.
Он поперхнулся и заговорил о датских сырах. Затем он перешел к отечественной кухне.
— Сырой фарш с луком вы ели? — спрашивал он. — У вас в России это не принято, кажется. Напрасно. В Германии модно! Некоторые даже требовали фарш с кровью, по древнегерманскому обычаю…
Лейтенанта это откровенно забавляло. Он был сильнее меня в немецком, то и дело принимался переводить, смеялся от души.
— Ох, потешный частник! — приговаривал он. — Гастрономическая песня. У меня уже живот подводит.
С трудом я прервал излияния Моргензанга, припер в угол и дал ему листок с рекламой выставки. Он вытер руки о плащ, осторожно взял листок за уголки и пошевелил белёсыми бровями.
— Да, выставка была. На втором этаже, в бывших королевских покоях. Роскошно! Великолепно!
Он прибавил, что пускали туда не всех, и он, Моргензанг, ни за что бы не попал, если бы не клиенты. Они устроили ему протекцию.
Я спросил, куда делась выставка. Оказывается, в сентябре, во время налета англичан, туда угодила зажигательная бомба. Часть вещей пострадала.
— Только часть, и не самая ценная, если верить слухам. После налета вещи упаковали и стащили вниз в подвал. Своды там знаете какие! Лучшего убежища не найти. Тевтонские рыцари, они, верно, предвидели авиацию, бомбы! Х-ха!
Накануне штурма города Моргензанг увидел во дворе замка ящики, груду ящиков. В них была отделка Янтарной комнаты — зеркала с прикрепленными к ним камнями. Как он узнал? Очень просто, ящики были помечены буквами «В» и «Z». Эсэсовцы подтвердили: да, это царская Янтарная комната. Ящики лежали прямо на асфальте, под дождем, и Моргензанг спросил себя, что же будет с царскими сокровищами дальше. Цари, вероятно, и вообразить не могли такое. Эсэсовцы успокоили его. Дождь не страшен, у ящиков двойные стенки с прокладками.
— Слава богу! Значит, все в сохранности. Сейчас ведь не делают таких изумительных вещей. Вообще все прекрасное — в прошлом. Увы, это так! Что дал нам прогресс? Бомбы! Бомбы!
— Э, да вы философ, — заметил лейтенант-сапер.
— О да, господа! Кенигсберг — город Канта. Мне передавали, ваши военные положили цветы на могилу Канта. О, это благородно! Здесь всегда была интеллектуальная атмосфера, пока не явились нацисты. Ах, вы бы видели, что творили эсэсовцы здесь, в моем кабачке! Варвары, настоящие варвары!
— Какие эсэсовцы? — спросил я.
Имен он не знает. Да разве упомнишь всех! Кабачок обслуживал военных. Он был открыт до последнего дня, несмотря на пожары, на бомбежки. Тут Моргензанг горделиво выпятил грудь. А эти эсэсовцы были последними посетителями. Выпили, съели все самое лучшее, потом переколотили бутылки, консервы забрали, сыр и масло облили керосином. Такой был чудесный круг сыра из Дании! И ничего не заплатили. И это наводило на размышления. Ведь жителей Кенигсберга уверяли, что город никогда не буден сдан, что Берлин посылает на выручку осажденным парашютные дивизии. Пока клиенты платили, еще можно было поверить.
— Шумели тут эсэсовцы, безобразничали и поглядывали в окна. Ждали машину. Вечером — уже стемнело — во двор вкатился грузовик с русскими пленными. С ними был обер-лейтенант, очень толстый, и переводчица. Русская фрейлейн, молодая, маленького роста.
— Катя! — вырвалось у меня.
Я стиснул плечо лейтенанта. Моргензанг начал старательно вспоминать, как выглядела русская фрейлейн. Да, синий берет, кожаная зеленоватая куртка.
Катя! Катя!
Как только появилась машина, все эсэсовцы высыпали во двор. Моргензанг вышел. Ему любопытна было, что же происходит? Пленные погрузили ящики. Моргензанг спросил одного офицера, куда их везут, тот ответил: «Туда, где их сам дьявол не отыщет». И они уехали.
— И переводчица тоже? — спросил я.
— Да, маленькая русская фрейлейн села в кабину вместе с обер-лейтенантом.
Моргензанг заметил и волнистые белые полосы на кузове — несмытую зимнюю маскировку. И шофера запомнил. Высокий, с тонкой шеей. Он очень уважал русскую фрейлейн.
— Да, глядел на нее, как мальчик на свою мать. Забавно! Он — верзила, а она — такая миниатюрная фрейлейн. Шофер помогал грузить, — все они очень спешили; и фрейлейн волновалась, все напоминала: «Осторожно, там стекло». Боялась, как бы не разбили.
Больше Моргензанг ничего не мог сказать нам. Он проводил меня до ворот и напоследок снова выразил свое самое заветное, самое искреннее желание — открыть кабачок «Кровавый суд» для русских офицеров.
Итак, накануне штурма Катя была жива. Что же случилось с ней потом?
Найти бы кого-нибудь из тех пленных! На окраинах Кенигсберга, как грибы разрослись бараки, обнесенные колючей проволокой. Узников гоняли на фабрики, на оборонные работы.
Вечером Бакулин выслушал мой доклад.
— Мы на верном пути, — сказал он. — Ты прав, надо поискать среди пленных. Они еще здесь, Идет процедура учета, репатриации. Терять времени нельзя.
Минул день, другой. След Кати снова оборвался. В одном лагере ее видели, — она приехала с обер-лейтенантом; им дали группу пленных. Они не вернулись в лагерь. Это было накануне штурма.
Итак, Катя была тогда жива. Взяв пленных, «оппель» Кайуса Фойгта прибыл в замок за янтарем. Оттуда Катя уехала. С Фойгтом, с обер-лейтенантом, — возможно, Бинеманом, помощником фон Шехта.
Куда?
4
На доклад к Бакулину я являлся каждый вечер.
— Как вы-то думаете, товарищ майор? — спрашивал я его с тревогой. — Жива она? Есть надежда?
— Данных нет, — отвечал он. — Надежду не теряй, Ширяев. Составил я вчера бумагу для начальства. О ней. Знаешь, рука не поднимается написать — «пропала без вести». Ну, никак… Достанем вести! Верно?
Однажды я застал у него незнакомого полковника — краснолицего, с острой бородкой, белой как снег. Оба рассматривали что-то, скрытое от меня бронзовым письменным прибором.
— Товарищ полковник, — сказал я, — разрешите обратиться к майору?
— Ради бога, голубчик, — протянул тот. — Зачем вы спрашиваете? Обращайтесь сколько вам угодно.
Я опешил.
— В армии спрашивают, — пояснил гостю Бакулин и улыбнулся мне. — Уставное правило. Ну, что у тебя?
Штатские манеры полковника смутили меня. Я молчал.
— Познакомьтесь, — сказал майор и обернулся к гостю. — Это Ширяев. Тот самый…
Я едва устоял на ногах — с таким жаром бросился ко мне этот диковинный полковник, схватил за плечи, отпустил, снова схватил и стал трясти.
— Ширяев? Нуте-ка, дайте полюбоваться на вас. Орел! Орел! Вы наградили его, товарищ Бакулин? Эх, дали бы мне право, я бы вам высший орден… Ну, молодец! Батальон в плен взял! Глазом не моргнул!
— Остатки батальона, — поправил я, не зная, куда деться от столь неумеренных похвал.
— А я Сторицын, — заявил он. — Сторицын. Ударение на первом слоге.
— Очень приятно, — промямлил я.
— Профессор Сторицын, — продолжал он. — И вот полковник, без году неделя. Командировали сюда, одели. Все честь отдают, а я не умею. Кланяюсь, знаете, как самый паршивый штафирка. Зрелище мерзкое. А?
— Звание присвоил министр, — веско произнес Бакулин. — Ну, что у тебя, Ширяев? Не стесняйся. Полковнику тоже интересно.
Сторицын сел. Пока я говорил, он кивал, вздыхал, и я почувствовал — история Кати Мищенко ему уже известна.
— Значит, нового ничего, — подвел итог Бакулин. — Теперь насчет дальнейшего.
Он подозвал меня, и я увидел то, что они разглядывали, когда я вошел. На столе лежал портрет. Портрет женщины в платке, написанный масляными красками на небольшом холсте, потемневший, местами в паутинке трещин. Что-то, заставило меня еще раз посмотреть на него.
— Венецианов, — сказал Бакулин. — Подлинный Венецианов из Минской галереи.
Я не слыхал о таком художнике.
— О дальнейшем, Ширяев. Порфирий Степанович прибыл к нам по распоряжению правительства, за музейным имуществом. Будешь ему помогать.
А как же розыск? Я испугался. Первая моя мысль была, не решил ли Бакулин снять меня с задания. Дни идут, а результатов никаких. Чего я добился? Вот сейчас он скажет, что я не справился, и дело поручат другому, а меня — под начало к этому профессору. Рыскать за спрятанными картинами, за всяким музейным добром!
— Ясно, — выдавил я.
Бакулин засмеялся.
— Что тебе ясно? Ну!
— Не сумел я… Отстраняете меня, выходит… Сожалею, товарищ майор.
— Ах так? — Он нахмурился. — Ничего ты не понял. Не разобрался ты, для чего находилась у немцев Катя Мищенко. Миссия ее тебе безразлична, а если так, то, может быть, тебя действительно следует сейчас же отстранить.
— Полноте! — всполошился Сторицын. — Такого молодца, и вдруг…
Недоставало мне его участия! Я помрачнел еще больше. Но лицо Бакулина уже потеплело.
— Отвык ты от мирной жизни, Ширяев, — начал он. — Забыл ее, что ли. Огрубел. Я до войны был следователем. Бывало, измучаешься дьявольски, вся душа, как бы выразиться, в мозолях от соприкосновения с разной слякотью. Выберешь свободный вечер — и в филармонию. Послушаешь Чайковского, и вроде вокруг тебя светлее стало. Вера в человека поднимается. Вот ты читал в газетах: гитлеровцы разорили домик Чайковского в Клину, новгородский кремль разрушили. А ты задумывался, почему? Да ведь они русскую нацию хотели убить. Что мы такое без русской национальной культуры, без книг Пушкина, без картин Репина, Сурикова! Без Венецианова, — он показал на портрет. — Или взять Янтарную комнату. Я повторяю, впечатление незабываемое. Стены в огне. Два века назад зажгли этот янтарный огонь, а он все горел, светил нам… Такие вещи цены не имеют, они дороже денег. Это культура наша. Она и в нас, понял?
— Браво, браво! — Сторицын захлопал мягкими ладонями. — Да что вы напустились на него! Понимает он, отлично понимает.
— Умом — может быть, а сердцем — еще нет. Катя Мищенко тоже Родину защищала. Не хуже нас с тобой. Так вот, надо завершать ее миссию. Искать то, что фон Шехт и прочие увезли в Германию, в Кенигсберг. Раскрыть все махинации, всю подноготную этого эйнзатцштаба. Без этого мы и о Кате вряд ли узнаём что-нибудь. Ясно тебе, Ширяев? Ясно, почему задание у тебя и у полковника, по существу, одно? Нам без него не обойтись, а ему — без нас.
Сейчас мне странно вспоминать, до чего же простые истины надо было мне втолковывать!
— Утром поедешь с полковником на высотку… На виллу фон Шехта, — закончил Бакулин. — Покажешь там все. А теперь ступай. Подумай как следует.
5
Как только мы двинулись к высотке, Сторицын начал проверять мои познания.
— Полный профан, — признался я. — Одного Айвазовского помню — «Девятый вал».
— А «Черное море»? Неужели не знаете? — изумился он. — Да ведь у нас никто, понимаете, ни один художник еще не сумел так выразить… огромность моря, силищу его… Вот Англия — остров, морская держава, а ведь и там мало кто мог… А труженик какой! Сколько картин написал! Сам он счет потерял. А когда подсчитали, уже после него, около шести тысяч получилось в итоге.
Я узнал, что Айвазовский писал не только пейзажи. У него есть и исторические картины. Славные сражения русского флота, Колумб на палубе своей каравеллы, серия картин о Пушкине…
Об Айвазовском я слушал с интересом. Потом Сторицын стал называть других художников. Жили они давным-давно, но Сторицын говорил о них, как о современниках. Так, будто он только что видел их.
— А Федотов, Федотов! Ну что за молодец, ей-богу! Служит в полку при Аракчееве, кругом рукоприкладство, муштра, а он примечает — и бац! Вот гляди, фанфарон, тупой экзекутор, какой ты есть! Полюбуйся на свой портрет! Или, скажем, «Смерть Фидельки». У барыни собачка сдохла, Фиделька. Переполох поднялся! Дворня, приживалки не знают, как и утешить барыню, носится вокруг… И видишь эту барыню насквозь. Видишь ее самодурство, капризы, видишь, как она дворовых лупит, хоть и не показано это на рисунке. Вы, милый, можете уйму книг прочесть о крепостничестве, о николаевской эпохе, и все-таки, чтобы наглядно себе все представить, вам понадобится Федотов.
Ну а взять Перова, Василия Григорьевича, «Суд Пугачева» тоже незнаком вам? Нет? Ну, когда увидите, поймете, сколько надо было мужества иметь — изобразить так Пугачева, бунтовщика… В царское-то время! Перов народного героя написал. А «Похороны крестьянина», «Тройка»! Трое ребят везут сади, а на них тяжеленная бочка с водой. Зима, гололедица… У Петрова каждая картина обвиняла, жгла угнетателей народа. И Венецианова не знаете?
— Нет, — вздохнул я, вспомнив картину в кабинете Бакулина.
— Тоже подвиг. Жизненный подвиг. Мог бы ведь вельмож писать, дворян, иметь большие деньги, а он с мольбертом — перед крепостной крестьянкой. Красоту простого человека передать стремился… И картин Шевченко не знаете?
Я пожал плечами.
Конечно, представить себе картины мне было трудно. Они, наверно, очень хорошие, думал я. И те, в подвале виллы, не хуже, должно быть. Спасла их Катя. Сторицын не говорил о ней, но я находил в его словах и похвалу Кате. Вот бы она слышала…
На холме в вилле расположились связисты. Сторицын произвел сенсацию. Держал он себя препотешно: поднося ладонь к козырьку, добродушно кивал, путал звания, одного младшего лейтенанта величал майором. Солдаты фыркали в кулак.
Мне было совсем не смешно. Хотелось поскорее оставить его одного с картинами и уехать.
Однако, когда мы распечатали дверь и вошли в низкий подвал, я помедлил. Здесь все так напоминало о Кате!
С луком в руке спешила за невидимым зверем Диана. Две поджарые борзые лизали ее голые икры. Так же пахло сыростью и красками. Я скользил лучом фонаря по ящикам. Они словно хранили секрет, касавшийся Кати…
Бойцы приволокли аккумулятор, наладили освещение, затем принялись распаковывать. Заскрипели доски. В открытом коробе сверкнул фарфор. Мы бережно вынимали позолоченные тарелки, блюдца и ставили на плащ-палатку — это поистине универсальное одеяние солдата, которое может стать и жильем, и постелью, и мешком, и ковром.
— Севр! — восклицал Сторицын. — Видите марку? Изделие севрского завода во Франции. А это наше, императорский завод. Теперь — имени Ломоносова в Ленинграде. Золотые сетки, гирлянды, завитки, фестончики — стиль рококо. Восемнадцатый век, время Екатерины. — Он взял обеими руками миску. — Суп для ее величества. Черепаховый суп или из фазана.
Он говорил без умолку. Он прочел нам лекцию о фарфоре, изображая в лицах то слугу, подающего на стол, то царицу, то сановного гостя.
Другой короб был набит фарфоровыми трубками. Трубки с портретами царей, королей, вельмож, трубки с пейзажами, со сценками сельской жизни, трубки с видами городов… Сторицын тотчас показал, как барин курил, развалившись в кресле, держа длинный чубук. Чашечка, вмещавшая до полуфунта табака, опиралась о пол.
В третьем коробе лежали обернутые соломой бокалы с гербами и вензелями. Сторицын рассказал о петровских ассамблеях, о кубке Большого Орла, который вручали опоздавшему. Нелегко ему приходилось. Извольте-ка выпить тысячу двести граммов вина, и к тому же крепкого!
Чего он только не знал, Сторицын!
Рассказывая, он успевал делать заметки, сообщал имена мастеров, происхождение вещей. Дворец в Петергофе, дворец в Пушкине, Ораниенбаум, Павловск…
Он увлек нас. Мы работали с жаром. Нам всем стало очень радостно. Удивительные вещи, возвращенные нам, отбитые у врага!
Сторицын велел уложить все и закрыть короба. Настала очередь картин.
Айвазовский, Федотов, Перов — возникали в памяти имена, слышанные от Сторицына. Мне вдруг захотелось увидеть на картине море. «Девятый вал» тому причиной или другое что, но в детстве я мечтал о море. За сочинение о море я получил пятерку. А увидеть море довелось только год назад, в Латвии. Оно было суровое, тусклое, совсем не такое, как на очень знакомой репродукции.
С сухим треском открылся фанерный щит. Сторицын вскрикнул. Мы все с недоумением уставились на картину.
Ничего похожего на эту картину — если ее вообще можно так назвать — мне не встречалось. На сером фоне, заляпанном бурыми пятнами, различалось нечто, напоминавшее дерево. Оно росло из земли, образовав внизу бугристый, желтовато-коричневый ствол, а дальше раскидывалось не ветвями, нет, — человеческими внутренностями.
— Фу, мерзость! — бросил один из солдат.
— Это уж не наше, — молвил Сторицын. — Ихнее, Модная манера на Западе. И возиться с такой живописью не будем. На свалку — и всё! Дальше!
На следующем холсте ничего нельзя было понять, — изломанные геометрические фигуры, плавающие не то в облаках, не то в волнах.
Да, таких картин не могло быть в наших музеях. Должно быть, фон Шехт и добыл их где-нибудь на Западе, Одно за другим возникали перед нами создания художников, наверное спятивших с ума.
Где же наши картины? Настоящие!
Их я так и не дождался. Бакулин приказал мне не задерживаться на вилле.
Час спустя я выкладывал майору новости.
— Дикая мазня, говоришь? — спросил он. — Ого, и ты сделаешься, пожалуй, знатоком искусства, — усмехнулся он. — Но странно! Катя не предупредила? Нет? Не все знала, возможно. А Сторицын там надолго засел? Отлично! А тебе я дам другое направление, дорогой мой Ширяев.
Я оживился.
— Побеседуешь с одним человеком. Помнишь венециановский портрет? Так вот, это он доставил нам. Художник, из пленных. Фамилия у него славянская — Крач, а по подданству бельгиец. Сперва-то он к коменданту города толкнулся с портретом. И с какими-то данными о фон Шехте. Ну, там и без того дела по горло. Разыскал я этого художника на эвакопункте…
— Разрешите ехать? — выпалил я.
— Куда? — Бакулин поднял брови. — Он здесь, в соседней комнате.
Я чуть не выбежал из кабинета. Бакулин погрузился в бумаги, у него было немало других дел.
В приемной, где сидел Крач, было еще несколько посетителей, но его я выделил сразу. Очень крупный, рыхлый, большелобый и совсем не похожий на пленного. Балахон лагерника, лопнувший на плече, он надел, видимо, недавно. У пленного не могло быть таких розовых щек, таких белых рук, явно незнакомых с физическим трудом.
— З очи в очи, — вымолвил он, и я не сразу понял его.
Он желал говорить с глазу на глаз. Я повел его во двор, к штабному автобусу, захваченному у немцев. Алоиз Крач с трудом втиснул туда свое большое, рыхлое, ослабевшее тело. Он несмело улыбнулся, опустил водянистые сонные глаза и сказал:
— Подполковник фон Шехт есть злочинец. Вы простите меня, я по-русски вельми плохо…
— Фон Шехт умер, — вставил я.
— Шкода! — Он выпрямился, сжал пухлые пальцы в кулак. — Шкода!
То, что фон Шехт избежал суда и казни, до крайности огорчило Алоиза.
Начав свою повесть, он успокоился, заговорил по-русски чище.
Родился он в Прешове. Отец — австриец, мать — словачка. Окончил русскую гимназию. В Прешовском крае давно, еще с прошлого века, стараниями просветителей-интеллигентов распространялась среди украинского и словацкого населения русская речь, русская культура.
Незадолго до войны отец умер и оставил Алоизу в наследство два обувных магазина. Но торговля не влекла его. С дипломом Венской художественной школы Алоиз бродил по свету, был в Италии, в Греции, во Франции. В Париже он женился на натурщице-бельгийке и осел в Брюсселе. Был призван в армию, угодил к немцам в плен. Долго мыкался по лагерям, потом его взял к себе подполковник фон Шехт.
Это было в 1944 году, летом. Из лагеря под Гамбургом Алоиза доставили в легковой машине в Берлин. Там в районе Панков, в унылом казарменном здании, он встретился с коллегами-художниками разных национальностей, собранными из концлагерей. Им объявили, что они могут заслужить милость и благоволение великой Германии. Потом их рассортировали. Алоиз Крач и его сосед по койке датчанин Ялмар Бэрк достались фон Шехту. Он отвез их в Пруссию, на виллу «Санкт-Маурициус».
Их хорошо одели, сытно накормили, отвели просторное, светлое ателье в мансарде, дали краски, кисти. Что ж, недурно! Правда, держали их на положении узников, за ворота виллы не выпускали, но с этим Алоиз примирился. Главное — уцелеть, пережить войну! А она шла к концу, успехи Советской Армии радовали Крача, хотя ему было решительно безразлично, кто победит, какой мир получит Европа. Лишь бы мир! Алоиз Крач сторонился политики, считал себя обитателем особой сферы, далекой от земной злобы дня. «Я на планете Искусства», — говорил он о себе. Нацисты, социалисты, коммунисты, — какое дело до них художнику! Картины его были беспредметны. Другие пытались изображать в неожиданных, вывернутых ракурсах явления и формы жизни, но он — Крач — не соглашался с ними. Нет, полное освобождение от земных пут, ничего реального, разумного! Истина для художника — его собственные видения! «Левее меня нет никого», — сказал он гордо журналисту перед открытием своей выставки в Париже. Она вызвала шум. С ним спорили. «Я так вижу», — отвечал он. Особенно поражало посетителей полотно, названное «Сад».
Тут Алоиз попросил у меня карандаш и на клочке бумаги вывел три треугольника: большой — острием вверх, поменьше — острием в сторону и еще маленький, равнобедренный треугольничек.
Я засмеялся. И это — сад? Не шутит ли художник? Тут мне вспомнились нелепые картины в подвале виллы фон Шехта.
— О, у вас, в Советском Союзе, отметают… отрицают, так? Но я видел ваше искусство. Подобно фотографии, да, да! Когда жил Рембрандт, не было фото. Нет! Теперь у нас аппараты: чик — готово. Художник должен тоже так? Нет!
Спорить я не решился, да и время не позволяло. Я спросил Алоиза, кто изобразил дерево с человеческими внутренностями вместо ветвей.
— То Ялмар. Он был немочный… больной человек. Он ничего иного не мог, — трупы, руины, руины, только руины. Я писал абстрактно.
— Это и требовал фон Шехт?
— Да. Я скажу…
В первый же день фон Шехт обошел с художниками комнаты виллы. Она вся была забита скульптурами, картинами, дорогим музейным фарфором. На многих вещах были инвентарные номера, таблички с надписями по-русски, по-польски, по-французски. Больше всего трофеев фон Шехт добыл в России.
Затем он усадил обоих в гостиной. Слуга принес кофе и ликеры. Фон Шехт разъяснил, чего ждет Германия от Крача и Бэрка.
Ценности, находящиеся на вилле, не принадлежат фон Шехту лично. Нет! Они — достояние Германии. Это дань слабых, низших народов немцам, нации господ. Он — фон Шехт — из патриотических побуждений превратил свою виллу в хранилище для некоторых, особо примечательных, произведений искусства и в мастерскую. Отдельные картины пострадали в военной обстановке и нуждаются в реставрации. Но это не всё.
Художникам поручается маскировка. Нет, не здания. Картин. Увы, война диктует свои законы. Ему — фон Шехту — претит самая мысль — замазывать шедевры знаменитых мастеров, К счастью, существуют краски специального состава, разработанные на предприятиях «Фарбениндустри», находка немецкого научного гения. Эти краски надежны, смыть их легко. И подлинник не потерпит никакого ущерба, — когда нужно будет, он вновь заблещет. Он возникнет подобно птице Феникс из пепла.
— Фон Шехт был образованный человек, — зло усмехнулся Крач. — Он имел в памяти античность. Греция, Рим…
Не сразу понял я, что Алоиз Крач, заблудившийся художник, обвинял не только фон Шехта, а судил еще и самого себя. Исповедовался, подводил итог прожитым: годам душевного одиночества.
— Никды… Никогда я не ставил вопрос, почему фон Шехт взял к себе именно пленных…
Вначале Крач наслаждался хорошей едой, чистой постелью, теплом, ванной — благами цивилизации, которых он был так долго лишен. Да, он замазывал старые картины. Но совесть его не тревожила. Он всегда верил, что абстрактное искусство вытеснит прежнее, классическое. И вот теперь он ниспровергает «кумиры из школьных хрестоматий», «гипноз банальности», «раскрашенные фотографии».
Фон Шехт подтрунивал над Алоизом. На рынке, бросил он как-то вскользь, Рембрандт стоит в сотни тысяч раз больше, чем упражнение абстракциониста. Однако бунтарство Крача нравилось хозяину. Нет, он не имел ничего против диковинных фигур без плоти, без смысла и цели, заслонявших творения живописцев прошлого. Фон Шехт требовал даже, чтобы художники ставили свои подписи. Плоха маскировка, если нарочитость ее обнаруживается с первого взгляда. Пусть работают с азартом, пусть утверждают самих себя!
Я слушал Крача затаив дыхание. Многое, когда он говорил о живописи, мне нелегко было усвоить, но я силился запечатлеть в уме каждое слово.
Так, значит, картины, распакованные там, в подвале, надо просто отмыть! Почему же Катя не сказала мне? Да, выходит, не знала. Ей, следовательно, доверяли не все…
Алоиз продолжал.
Иногда он испытывал злорадное торжество. Да, он должен в этом сознаться! Ощущение могущества, призрачного, замкнутого пределами мансарды, но все же острого. Без сострадания расправлялся он с амурами, с французскими маркизами, утопающими в пурпуре бархата и шелках, с напомаженными генералами, с напыщенными отпрысками королевских фамилий. Но одно полотно…
Это был женский портрет. Написал его столетие назад русский художник Венецианов. Алоиз никогда не слышал о нем. И не из тех это полотно, что запоминаются с первого взгляда… Портрет напомнил Алоизу его мать. Нет, не внешним сходством, чем-то другим, что заставило задрожать руку. Быть может, славянская кровь роднила его мать с женщиной на потемневшем полотне. Рисунок сжатых губ или выражение доброго, немного печального лица, озаренного справа неярким желтоватым светом, наверное свечой.
Алоиз снял портрет с мольберта, поставил к стене, за другие картины. Загрунтовал молодого лорда-охотника с поджарым легавым псом. Неделю спустя русская крестьянка, неведомая Алоизу и в то же время странно близкая, открылась снова.
И… на этот раз он тоже не смог положить мертвящие белила на это живое лицо. Он отставил портрет. Теперь он стоял, не загороженный ничем, постоянно на виду у Алоиза. Губы ее словно шевелились. Вот-вот заговорит! Наваждение какое-то исходило от портрета. Глядя на него, Алоиз не мог не думать о своей матери, о родном Прешове. Оживал в памяти ее голос. Бывало, Алоиз уверял себя и других, что для избранных на «планете Искусства» не имеют значения понятия «родина», «свой народ». А тут ему страстно захотелось в Словакию. Вернется ли он когда-нибудь на родину? Ведь могущество его — лишь воображаемое. На самом деле он узник, хоть не в арестантском рубище, а в костюме, и не за колючей проволокой, в бараке, а в комфортабельном загородном доме. Он пытался убедить себя, что ему дали свободу, — теперь иллюзия рассеивалась. И все это сделала с ним пожилая женщина на полотне русского мастера.
Фронт между тем приближался. Красные двигались к Одеру. Все чаще грохотали зенитки, багровело небо над городом. «У Германа, видать, нет больше самолетов», — говаривал садовник Ян, старик из онемеченного литовского племени куришей, обитающего на побережье. Германом называли в народе маршала Геринга. Фон Шехт торопил художников. А Крачу все тяжелее давалась работа. Что из того, что состав, изготовленный «Фарбениндустри», легко смывается! Наступает развязка войны, трагическая для Германии развязка, и может статься, некому будет снять камуфляж, восстановить картины. Теперь даже на амуров, на маркиз, на юных лордов не поднималась рука. Алоиза томил страх. Ему чудилось, он хоронит их навсегда. Им уже вовек не увидеть божьего дня.
— Але тен образ… Портрет я тот захранил.
Он вынул его из рамки, свернул, положил в укромное место. Фон Шехт не узнал. Когда к Кенигсбергу подступили русские, он редко показывался на вилле. Хозяйничал его помощник, обер-лейтенант Бинеман. Толстый, как Геринг. По его приказу вещи упаковали, приготовили к эвакуации. Но русские придвинулись еще ближе, виллу пришлось оставить. Там расположился немецкий батальон.
Крача и Берка поместили в лагерь для военнопленных. В особом бараке, со смертниками. Да, Алоиз и его товарищи по заключению были обречены. Они ведь имели дело с ценностями, грузили их, закапывали. Слишком много знали эти люди, чтобы их можно было оставить в живых.
Бедняга Ялмар — тот погиб на другой же день в сквере возле Академии художеств. Там рыли котлован. Разорвался снаряд…
Алоиз сжал пальцы и замолчал.
— У фон Шехта была переводчица, украинка, — сказал я. — Катя Мищенко.
— Слечно Катя!
Да, маленького роста, в зеленоватой кожаной куртке. Он видел ее всего два раза. Фон Шехт привез ее как-то осенью, показывал ей картины; она читала ему надписи. Алоиз заговорил было с ней по-русски, но фон Шехту это не понравилось, он под каким-то предлогом отослал его. Нет, Катя вряд ли знала о маскировке трофейных картин. В мансарде у художников она не была.
А вторая встреча с ней… О, она произошла при совершенно других обстоятельствах. Очень печальных. Накануне штурма Бинеман и слечно Катя приехали, как обычно, к воротам лагеря на грузовике.
— «Оппель» с белыми полосами на кузове? — спросил я.
Да, с белыми. На этот раз пленных повезли в Орденский замок за Янтарной комнатой. Алоиз слышал о ней раньше от фон Шехта, но никогда не видел. Ящики, помеченные буквами «В» и «Z», лежали во дворе. Катя очень волновалась из-за ящиков, напоминала: «Осторожно, там стекло». Янтарь ведь прикреплен к зеркалам.
«Да, все это так, — думал я. — Ту же сцену наблюдал Моргензанг, хозяин кабачка».
Когда покинули замок, начало темнеть. Катя и Бинеман сидели в кабине. Ехали долго, не меньше часа. Сбились с дороги. Алоиз слышал, как шофер открыл дверцу и окликнул прохожего: «Где улица Мольтке?» Бинеман выругал шофера. Нельзя, мол, так громко! Кто-то из эсэсовцев засмеялся и бросил: «Мертвые не болтают». У Алоиза мороз подрал по коже от этих слов.
Машина остановилась во дворе. Его с четырех сторон замыкали стены полуразрушенного нежилого дома. Бинеман развернул бумагу. У него был подробный план тайников.
Вырыли котлован. Слечно Катя сказала, что ящики надо опускать туда. Только осторожно! Работали в молчании. Один пленный подмигнул Алоизу, подзывая к себе, но едва открыл рот, как получил удар прикладом. «Мертвые не болтают», — отдавалось в мозгу Алоиза. К кому это относится — понять нетрудно.
Неужели конец? Очень хотелось Алоизу заговорить со слечно Катей. Ей-то наверняка известны намерения немцев! Улучив момент, тихо поздоровался, назвал себя. Она отпрянула. Не узнала или боялась чего-то…
Через минуту она опять была рядом. Протянула руку, чтобы поддержать ящик. «Так, так. Не бросайте!» — услышал Алоиз и вдруг ощутил в кармане что-то тяжелое. Когда Бинеман отвернулся, сунул руку. Пистолет. Русская слечно дала ему оружие.
— Я стыдился, господин офицер. Вельми! Слечно, такая статечная… Храбрая, да? А я, представьте себе, даже не умею стрелять.
С винтовкой он бы еще управился. А пистолета он и не держал ни разу. Очень, очень было стыдно. Не решился Алоиз и передать оружие товарищу.
Ящики засыпали землей, битым кирпичом, всяким хламом. Мотор «оппеля» затарахтел; пленные двинулись было к машине, но эсэсовцы загородили им путь. Бинеман и Катя уехали. Алоиз больше не видел слечно Катю.
Эсэсовцы построили пленных и повели под арку, в изрытый переулок, через сад, мимо покосившихся сторожек, смутно черневших в полумраке; через поваленные проволочные заборы, по аллее, на пустырь; мимо зениток, задравших к небу свои стволы; сквозь жесткий кустарник, куда-то за черту города, в глухую темень. «Теперь конец!» — подумал Алоиз. И его — художника, творца — расстреляют вместе с остальными. Вместе с каким-нибудь мужиком, башмачником, углекопом! Ноги его слабели, он отставал. В спину больно упиралось дуло автомата.
Конечно, его убили бы. Смерть шла позади, по пятам. Если бы не русские…
На пустыре стали рваться снаряды. Русские снаряды. Советская артиллерия открыла огонь по городу. Не молчала она и днем, а сейчас залпы слились в сплошной гул. Тот эсэсовец, который подталкивал Алоиза, залег, схватил его за балахон и потянул вниз. Алоиз вырвался. «Бежим!» — крикнул ему кто-то в самое ухо, и в тот же миг застрочил немецкий автомат. Кусты спасли его. Он наткнулся на завал из обрушившихся бетонных глыб, замер. Полоснул луч фонаря, визжа, защелкали над головой пули, посыпалась за ворот щебенка. Обозначилась щель между глыбами. Алоиз юркнул туда. Автоматы все еще беспорядочно строчили, потом все затопило оглушительным взрывом, Алоиз отдышался и побрел по узкому зигзагообразному проходу, натыкаясь на выступы, на торчащие концы порванной железной арматуры.
Ночь он провел в заброшенной прачечной. Утром в чьей-то квартире с выбитыми рамами нашел корку хлеба и пакет эрзац-чая из травы. Вспомнил про пистолет, выбросил, — плохо будет, если поймают с оружием. Прятался три дня, избегал людей, пока не увидел красный флаг на фабричной трубе.
Так закончил свой рассказ Алоиз Крач. Потом несмело поднял на меня глаза, спросил:
— А Катя, господин офицер? Она жива? Она с вами?
Я опустил глаза.
— Она жива? — повторил он. — Господин офицер, они имели цель, значит… уничтожить всех, кто знал…
— Она, наверное, жива, — ответил я. — Она должна быть жива. Мы найдем ее!
Не мог я сказать иначе.
6
Тревога за Катю после беседы с Алоизом Крачем усилилась.
«Девочка! Наивная девочка!» — твердил я про себя. Отдала свой пистолет, осталась без оружия. Понятно, пожалела обреченных, пыталась помочь, но ведь она же совсем не знала Крача. Под носом у эсэсовцев сунула ему пистолет в карман. И без всякой пользы! Стоило так рисковать из-за этого хлюпика, труса!
А между тем ей-то следовало быть крайне осторожной. Фон Шехт не все доверял ей. Маскировку картин от нее скрывали.
Фон Шехт испугался, когда она заговорила с художником. Почему? Разумеется, лишние свидетели ему нежелательны, будь то русские или немцы. Но фон Шехт мог иметь еще иные основания не доверять Кате. Она так неопытна в конспирации, что гитлеровцы дознались, кто она. Фон Шехт, Бинеман приглядывались к ней, играли, как кошка с мышью…
И опять на память пришел Кайус Фойгт, шофер. Нет, не мог я преодолеть инстинктивной, невольной враждебности к нему. Умом-то я сознавал — не все немцы фашисты. Но до сих пор для меня, фронтовика, все немцы были врагами. С какой стати я должен делать исключение для Кайуса Фойгта! Он был с ней на вилле при мне. Он получил самое наглядное доказательство связи переводчицы Мищенко с нами и не преминул выслужиться перед нацистами.
Фойгт выдал ее! Выдал!
Все это я высказал Бакулину. Он разубеждал меня. По его мнению, я сужу чересчур поспешно. Фон Шехт вряд ли разгадал ее. Нет! Не поехала бы она тогда на улицу Мольтке, к котловану. Не допустили бы Катю к тайнику. А что касается пистолета… Трудно упрекать ее. Поставим себя на ее место. Пленные закапывают ящики с ценностями. Надо запомнить место, передать нашим. Хорошо, если удастся дожить, встретить советские войска в Кенигсберге. А если нет? Кто укажет место? Пленных собираются расстрелять. Не попытаться ли спасти хоть одного? Авось он отобьется, убежит!
— Иной раз без оружия лучше, — сказал майор. — Риска меньше.
Трезвая логика Бакулина обычно покоряла меня. Но сейчас мне чудилось что-то нарочитое в его тоне. Не взялся ли утешать меня?
— Риска меньше? — отозвался я. — Значит, ей грозила опасность. Не отрицаете?
Нет, этого он не отрицал. Крач прав: тех, кто зарывал, прятал награбленные ценности, гитлеровцы уничтожали пленных и даже своих солдат. Факты установлены. Но похоже, Катя была очень уверена в себе. Очень!
Это «очень» несколько ободрило меня. Надежда была нужна мне, как воздух, как хлеб. И снова, в который уж раз, я говорил себе, что отчаиваться рано, что в Кенигсберге мы недавно: что Катя, может быть, ранена, находится где-нибудь у местных жителей, у друзей и почему-либо не может дать знать о себе. Или ведет поиск, сложный, тайный поиск, и нельзя ей открыть себя. Не пришло еще время!
Бакулин между тем обдумывал вслух показания Крача.
— Для нас он находка. Ах какой урок ему жизнь дала! Замечательно! Мы же из его рук Янтарную комнату получим. Удача, Ширяев, большая удача. Что с тобой?
Наверное, я побледнел. «На свалку», — вдруг вспомнились мне слова Сторицына.
— Товарищ майор, — пролепетал я. — Он же ничего не знает там… Он…
— Кто?
— Сторицын. Он выкинуть хотел картины…
— Что же ты молчал? Эх, голова! — Он подвинул мне полевой телефон. — Вызывай «Напильник», потом «Яхонт» проси…
Связисты на вилле не числились в нашей армии. Они прибыли из резерва главного командования, и дозвониться до них было мучительно трудно.
Я бросил трубку.
— Тише! — улыбнулся Бакулин. — Поезжай-ка, эта всего вернее. Вряд ли там выбросили картины, но…
«Что, если выбросили!» — волновался я. Накрапывал дождь. Мне представились картины, валяющиеся на свалке, мокнущие, испорченные.
Всю дорогу я торопил водителя. У моста через канал, как назло, сгустилась пробка. За городом, на перекрестке, пропускали колонну машин с лодками и бронетранспортеры, набитые моряками-десантниками. Часа два отняла эта поездка.
Не чуя под собой ног я влетел в подвал к Сторицыну и остановился, почти ослепленный.
Помещение сверкало огнями, как станция метро. Связисты подтянули десяток лампочек разных калибров и вдобавок повесили огромный, больничного типа, рефлектор. Сторицын буквально царил здесь. Вокруг него суетились солдаты, что-то сколачивали, что-то подавали. Сторицын сидел в знакомом резном кресле. Рядом, на полу, раскрытый чемоданчик профессора с «колдовскими снадобьями», как он говорил мне, смеясь, утром. Перед ним на столе — одно из творений. Алоиза Крача, зубчатые, паукообразные трещины разбегались по тусклым, смещенным поверхностям. В углу полотна белеет прижатый стеклом квадратик материи.
Вот солдат по знаку профессора сдвинул стекло, остальные настороженно загудели. Сторицын поднял материю кончиками пальцев — и словно свет дня прорезал сумрак. Открылась яркая голубизна солнечного летнего неба!
Секунду я глядел как завороженный в это внезапно открывшееся оконце, которое только что закрывал кусок фланели. Солдаты умолкли. Потом я заметил рядом с профессором, на табурете, открытый чемоданчик, а в нем склянки, сталь инструментов.
— Ну что, орел? — Сторицын откинулся в кресле и потер глаза, рак будто и его поразила эта яркая, чистая, освобожденная голубизна.
Мне нечего было сказать.
Так вот какие «колдовские снадобья» хранились в его чемоданчике! Значит, он предвидел!
Сторицын взял свежий квадратик фланели, смочил бесцветной жидкостью из пузырька и опустил на самую середину полотна. Солдат, истово помогавший ему, отрезал ножницами еще лоскут, еще… Теперь компрессы легли цепочкой через все полотно, по диагонали.
Что же скрыто под маскировкой? Все затаили дыхание, когда Сторицын взглянул на часы и торжественно, словно священнодействуя, начал снимать компрессы. В одном окошечке — листва дерева, серебрящаяся на ветру. В другом — большеухая голова ягненка. В третьем — зелень травы, желтоватый цветок с четырьмя лепестками вразлет.
— Пейзаж французской школы, — сказал Сторицын. — Автор пока неизвестен. — Он улыбнулся, окинув взглядом свою притихшую аудиторию. — Верхний слой недавний, сходит легко. На редкость легко. Верно, специальный состав какой-нибудь. В прежние времена контрабандисты тоже вот так замазывали картины.
И опять посыпались из него разные истории. Вспомнил живопись древнерусского художника Рублева: ее восстанавливали, преодолевая пять-шесть слоев краски. Тут не злой умысел, — старания иконописцев, которые силились обновить, омолодить творение славного мастера. Делали это часто неумело…
— Товарищ полковник, — проговорил я, когда он умолк, чтобы отдышаться. — Это все, — я показал на картины, — только начало. Мы и Янтарную комнату добудем.
И я рассказал ему про Алоиза Крача. Сторицын просиял.
— Да вы счастливый! — Он стиснул мои руки. — Браво! Везет мне с вами. Ну, с Янтарной подождем несколько деньков, все равно сейчас с транспортом сложно… Спасибо вам, спасибо, милый. — Он обнял меня, затем обернулся к солдатам. — Янтарная комната, друзья, находилась в Пушкине, под Ленинградом…
Он говорил, а передо мной, как на экране, пронеслась история Янтарной комнаты. Оказывается, янтари для нее были собраны давным-давно на берегу Балтийского моря литовцами и латышами. Не для себя, для ливонских псов-рыцарей, владевших Прибалтикой. Янтарь высоко ценился. Это древняя застывшая смола, наследство дремучих субтропических лесов, росших здесь десятки миллионов лет назад. Янтарь называли «солнечным камнем», «морским золотом».
Прусский король Фридрих I, взбалмошный, тщеславный, мечтавший состязаться в роскоши с королем Франции, любил все французское. К себе в Потсдам он выписал мастера — Готфрида Туссо — и поручил сделать для дворца янтарный кабинет.
Несколько лет трудился Туссо. Руководил работой видный немецкий архитектор Шлюттер. В 1709 году они закончили кабинет — пятьдесят пять квадратных метров мозаичных панно. Серебряная, фольга, подложенная под камни, усиливала их блеск. Панно укрепили, но, видимо, не рассчитали тяжести. Они обрушились. Король так разгневался, что велел запереть мастера Туссо в тюрьму, а Шлюттера выслал из Пруссии.
В 1716 году в Пруссию прибыло русское посольство во главе с императором Петром. Фридрих принял русских с большими почестями. Еще бы! Ведь Россия разгромила шведов, давних врагов Пруссии. И вот Фридрих показывает Петру свой дворец. Янтарного кабинета уже нет, он сложен, в ящики. Фридрих может только привести гостя в комнату, где были панно, но надо же похвастаться! Петр заинтересовался. Создателя кунсткамеры занимали всяческие редкости. И тут Фридрих совершил поступок, который до сих пор историки как следует не разгадали.
Он подарил янтари Петру.
Дело в том, что Фридрих был страшно скуп. Он никому не делал таких дорогих подарков. Значит, Петр очаровал его, или… По некоторым данным, можно предполагать, что у Фридриха из-за кабинета были неприятности. Он слишком погорячился со Шлюттером, с Туссо. Кроме них, некому было восстановить кабинет. Да и средств не хватало в казне…
В Санкт-Петербург кабинет был доставлен в 1717 году на подводах. Но Петр не собрался установить его во дворце. Надо же было отыскать мастеров! Погруженный в государственные заботы, Петр как будто забыл о прусском подарке. Вспомнила о нем много лет спустя императрица Елизавета.
Вот шагают по дороге из Петербурга гвардейцы, шагают, обливаясь потом, стиснув зубы от боли в затекших руках. У каждого — зеркало с янтарной мозаикой. Дорога булыжная, с колдобинами — не то что нынешнее шоссе, — и в телеге сокровище не довезти. До Царского Села двадцать пять верст. Там, во дворце, отведено помещение для Янтарного кабинета. Оно больше прежней комнаты, в Потсдаме. Как же быть? Янтарей не хватит! Но у зодчего Растрелли, направляющего перестройку дворца, уже есть проект Янтарной комнаты. Не только янтари будут украшать, ее, но зеркальные пилястры, мозаика из уральских камней, живопись на потолке. Великолепный замысел! У Растрелли хорошие помощники, русские умельцы Иван Копылов, Василий Кириков, Иван Богачев.
Разумеется, я не мог запомнить тогда все факты, все имена в рассказе Сторицына. Эти строки я пишу сейчас, порывшись в библиотеке. Но вот что засело в памяти: Янтарная комната — это наше русское достояние! И какое прекрасное! Кабинет прусского короля послужил только материалом для гениального Растрелли, — он создал совершенно новое произведение искусства.
Сторицын словно ввел нас в Янтарную комнату. Некоторые солдаты жмурились, до того выразительно описывал профессор блеск янтарей, их медовый огонь в сочетании с холодным сверканием зеркал, с сочными красками уральских камней…
Дослушав Сторицына, я уехал. Профессор решил остаться у связистов на два-три дня, проверить еще несколько картин и затем отправить все собрание полотен в Москву, для полной реставрации.
Я спешил в город. Поиск продолжался.
7
За северной окраиной Кенигсберга простиралось гладкое поле, кое-где поросшее можжевельником. Туда свезли захваченные у гитлеровцев автомашины.
Отсвечивая на солнце, длинными рядами стояли грузовики: «оппель» и «даймлер-бенц», верткие легковые «бе-эм-ве» мышиного или синеватого цвета, машины французских, итальянских марок, машины-радиостанции и машины-рестораны, автобусы. Тысячи автомашин. Они колесили по дорогам многих стран Европы, возили надменных завоевателей. И вот отъездились, кончили свою службу в гитлеровском вермахте, встали намертво, упершись в ограду кладбища.
У входа в караульню я застал черноволосого офицера, яростно чистившего пуговицы.
— Вы до старшины Лыткина дойдите, он у нас голова, — посоветовал он.
Тропинка вилась по берегу ручья к домику, который был когда-то, вероятно, целиком каменным. Снарядом снесло верх, зданьице надстроили досками, фанерой, листами железа. К домику примыкает загородка, составленная из всякого лома: тут и доски от кузова, дверца кабины, пружинный матрац и нечто вроде парниковой крышки. Там кудахчут куры, белесый, наголо обритый человек швыряет им зерно.
— Приблудные, — сказал он мне. — Зачахли без хозяина, бедняги. Слушаю вас.
«Оппель» с белыми разводами тут не один. Номер записан, как же! Однако проще всего прогуляться по автопарку.
Курочка взлетела ему на плечо; он погладил ее, сбросил, и мы пошли.
— Ох драндулет! — восклицал старшина. — Может, сам Гитлер катался! А эта таратайка? Вон колеса покорябаны! На мину наехала.
Их немало тут — раненых машин, наскочивших на мину, побитых осколками, продырявленных пулей партизана. Эмблемы на бортах — слоны, носороги, змеи, волки — напоминали о разгромленных немецких дивизиях. Лыткин развеселился; он посмеивался, постукивал палкой по радиаторам, по стеклам, сыпал прибаутками.
— Система Монти, день работает — два в ремонте. Хлипкие эти «бе-эм-вейки» последних выпусков, нитками сшиты. А эта! Бывшая роскошь… Марка «мерседес», а точнее — «Гитлер капут!». Поди, генералов возил, не ниже. Да-а — а, пропадай моя телега, все четыре колеса! Вон американец! Хау ду ю ду! В немецком плену побывал, никак…
Действительно, среди малолитражек высился громадный крытый «студебеккер». Немного подальше подъемный кран на колесах опустил свой журавлиный клюв над кузовом грузовика. Волнистые разводья…
Я бросился вперед. Да, сомнений нет, — «оппель»! Номер, пунктир пробоин на заднем борту… Я провел по ним рукой; крохотные лучинки впивались в кожу. Тот самый «оппель»! Он словно ждал меня здесь!
Меня отнесло в прошлое, в тот вечер, когда я провожал Катю за передний край. Так же подалась рукоятка дверцы, так же щелкнула… И матерчатая куколка в красных штанах, в клоунском колпачке была знакома мне. Ее, верно, повесил Кайус Фойгт, — на счастье, как принято у немцев.
Пустая кабина дохнула холодком, запахами кожи и машинного масла.
— «Оппель» грузовой у них — не ахти что, — тараторил Лыткин. — Вот «оппель-капитан», легковушка, — другой коленкор. Картинка!
Я не слушал его. Я смотрел на бурые пятна, расплывшиеся на темной обивке: одно — на спинке, другое — на сиденье. Потом я разглядел еще пятна — на резиновом рубчатом коврике, у рычагов.
Скованный ощущением невзгоды, я не двигался. Я не мог оторвать взгляда от этих пятен. Кровь! Я слишком часто видел ее, чтобы ошибиться.
— Нашлась машина?
Солнце било старшине в лицо, он щурился, сетка морщин дрожала у висков.
— Откуда здесь кровь? — спросил я.
— Немец тут лежал, — ответил он. — Мертвый. Его кто-то тесаком, говорят…
Морщинки застыли, улыбка на миг сползла с его лица. Должно быть, мой вид встревожил его.
— Кто вам сказал?
— Хлопцы. — Он попытался обрести прежний тон. — Хлопцы, которые машину на буксир зацепили, Говорят, здоровенного фрица из кабины выбросили, пудов на семь. Обер-лейтенанта… Хлопцы едва грыжу не заработала…
Я прервал его болтовню. Какие хлопцы, какой части?
Лыткин покрутил головой. Мало ли войск проходило тогда! Немцы только что сдали город. Кое-где еще постреливали. Пожары, взрывы, как в котле все кипело. Хлопцы хотели себе взять машину, а старшина с командой собирал брошенную автотехнику и наткнулся на них.
— Отдай, не греши, значит. Не положено! «Оппель» не старый еще, поездит. Кровью запачкан только. Некрасиво. Я велел моему фрицу подобрать…
Какому фрицу?
Меня интересовало все, каждая подробность, касающаяся этой машины.
— Каин, — старшина засмеялся. — По-ихнему Кайус, а по-нашему — то Каин. Каин Авеля убил.
— А фамилия?
— Да как его… фамилия, фамилия. — Он почесал темя. — Запамятовал. Пройдемте ко мне, записано ведь где-то… А вам зачем?
Последние слова он произнес после паузы, тихо и не очень решительно.
— Я из разведки, — сказал я.
Из разведки, — значит, задание специальное, секретное. Это он понимал. Любопытство разбирало его; он присмирел, стал меньше говорить, но больше ни о чем не спрашивал меня.
Я шагал, взволнованный догадками, нетерпением. Кто убитый обер-лейтенант? Бинеман? Да, толстяк Бинеман! Он и Фойгт были с Катей накануне штурма. Странно, что немец, работающий здесь, в автопарке, тоже Кайус. Совпадение, конечно. Зачем я спросил его фамилию? Наверняка она ничего не скажет мне.
Кто же убил Бинемана? Катя не могла бы ударить тесаком. Шофер Кайус? Однако ясно — была схватка…
Домик старшины, внешне такой жалкий, внутри поразил меня чистотой и уютом. Тикали ходики с кукушкой. Широкая белоснежная скатерть покрывала маленький столик; углы ее с шуршащей накрахмаленной бахромой свешивались до самого пола. За окном кудахтали куры, и казалось, глянешь туда и увидишь мирную сельскую улицу, «порядок» крепких, смолистых, бревенчатых изб.
Лыткин зашел за занавеску, вынес планшетку, высыпал из нее на стол бумаги, письма.
— Он здешний фриц, — приговаривал он, развертывая мятый лоскуток. — Вот адрес. Предместье Розенштадт, Шведенштрассе, то есть Шведская улица, восемнадцать, Кайус Фойгт.
— Фойгт!
Я, должно быть, вскрикнул. Лыткин испуганно уставился на меня. Невероятно! Кайус Фойгт здесь! Вот уж кого я меньше всего ожидал встретить! Кайус Фойгт! Неужели тот самый?! Не веря глазам, я схватил лоскуток и перечитал.
— Старшина! — выговорил я. — Он мне нужен. Немедленно.
«Он же шофер «оппеля», — чуть не прибавил я. — Того «оппеля». Он должен знать все: о Кате, об убитом Бинемане — словом, всё!» Но я сдержался.
— Извините, — сказал Лыткин. — Он дома сегодня.
Последние дни на автобазе проверяли инвентарь. Готовили отчет для начальства, днем и ночью корпели. Кайус Фойгт — прилежный, аккуратный немец, он вполне заслужил отдых.
Что ж, не беда. Пожалуй, там, в Розенштадте, еще удобнее будет беседовать с ним.
— Уезжаете? — протянул старшина огорченно. — Покушали бы сперва. А? Товарищ лейтенант, я мигом вам… Разносолов нет, однако яичницу — шнель фертиг. И стопочку. А?
— Спасибо, — сказал я. — В другой раз, непременно.
Я долго тряс его руку, преисполненный благодарности и симпатии к толковому и радушному старшине.
Нет, я не мог терять и секунды.
«Кайус Фойгт», «Кайус Фойгт» — стучало в мозгу, пока я бежал к «виллису». Водитель дал газ; прохладный ветер освежил меня. «Однофамилец, тезка», — сказал я себе. Я не решался верить удаче и все-таки радовался, торопил водителя.
Городом роз это предместье называли, по-видимому, в насмешку. Ветер с моря свободно гулял по унылым улицам поселка, кое-где шевелил дырявые рыбачьи сети, развешанные для просушки. Ни клумбы, ни деревца. Низенькие, с черными толевыми крышами домики жались к огромному десятиэтажному фабричному корпусу, словно искали защиты от непогоды. Трубы фабрики не дымили, в проломах молчали станки.
У заколоченной пивной крутил шарманку старик в шинели с чужого плеча. Я спросил дорогу. Он пожевал губами.
— Вам кого там?
Я сказал.
— Фрау Лизе вы застанете. — Старик повернул рукоятку, потом вздохнул. — Несчастная Лизе. У нее было пятеро детей, самая большая семья в Розенштадте, Бог мой, все пошло прахом. Подождите, господин офицер.
Шарманка скрипнула и вдруг лихо, в ритме кадрили, затянула песню о Стеньке Разине. Старик бешено крутил ручку, подмигивая мне, и притопывал.
По Шведской улице мы доехали до набережной Прегеля, еще студеного, брызгавшего штормовой пеной. Ветер дул с моря, навстречу реке. Низко, у самых окон дома Фойгтов, кружились, пищали чайки. Балтика много лет обдавала этот дом ветрами, дышала сыростью, свела с него все краски. Даже черепица на крыше, когда-то красная, стала желтоватой. Я позвонил; мне открыла пожилая женщина.
— Кайус сейчас будет, — сказала она, вытирая о передник жилистые руки. — Посидите.
Медленной, усталой походкой она прошла через кухню, открыла дверь в столовую.
Я сел. Со стены глядел на меня, улыбаясь, бородатый мужчина в сапогах выше колен, в кожаной фуражке. Что-то знакомое было в этой фуражке с витым ремешком, торчавшим вперед козырьком, острым, как лезвие. Моряк опирался грудью о штурвальное колесо. «Должно быть, муж фрау Лизе», — подумал я.
Я подумал еще, что в свой дом он, верно, входил согнувшись, — так тут тесно. Однако хозяева, рассчитав каждый дюйм, поместили здесь все самое нужное, без чего не обходится немецкая семья. Между буфетом и поставцом с посудой втиснулась ножная швейная машина под кисейным покрывалом. На кухне — неизменная шеренга баночек на полке с надписями: «мука», «сахар», «соль», «тмин».
И конечно — таблички с афоризмами. Опрятные, в черных рамочках под стеклом. Узорчатые строки готического письма напоминают о том, что утренние часы самые лучшие, — грех залеживаться в постели, что бережливость — мать богатства. Таблички советуют есть побольше капусты — это полезно для здоровья. Ни с кем не ссориться, никому не завидовать.
Вошла фрау Лизе с мокрой тряпкой, обтерла буфет, таблички.
— Кай уехал ловить рыбу, — сказала она. — Он должен сейчас вернуться.
Как тянуло меня расспросить ее о сыне! «Нет, не надо спешить», — приказал я себе.
— Раньше мы все были рыбаками, — молвила фрау Лизе. — Мой Курт тоже, — она показала на портрет. — Потом построили верфь. Розенштадт стал рабочим поселком. А сейчас все замерло, работы нет, люди вытащили старые снасти…
Рассказывала она без выражения, безучастно. И голос у нее был усталый, глухой.
— У вас была большая семья?
— Да. — Она не удивилась, не спросила, откуда мне это известно.
Два сына погибли на фронте. Один в Греции, другой в России. Моника, дочь, служила в ателье мод. В здание попала английская бомба, все разнесла. Остались два мальчика — Кай и Венцель. Венцеля, пожалуй, и считать нечего — не человек он.
— Фрау Лизе подошла к двери, толкнула ее, поманила меня пальцем.
Я увидел обои в голубых цветочках, неприбранную койку. Над ней нагнулся плечистый, всклокоченный юноша. Он не заметил нас. Руки его, большие, с длинными белыми пальцами, были в непрестанном, судорожном движении. На койке лежал ранец. Венцель укладывал в него вещи — мыльницу, зубную щетку, носовые платки, пачки сигарет. Потом он пробормотал что-то, опрокинул ранец и высыпал все на одеяло.
— Теперь опять будет укладывать, — произнесла фрау Лизе с какой-то тупой отрешенностью.
Она закрыла дверь.
В прошлом году весной Венцель приехал в отпуск. Вначале был весел, всем сообщал, как ему повезло, — рота попала под огонь «катюш», уцелело только шесть человек. Только об этом и говорил.
— А в последний день побывки стал надевать форму и… это и случилось. Ему кажется, он что-то забыл или потерял…
— Война кончается, — сказал я.
— Его трудно вылечить. Врач сказал, «катюши» ударили внезапно. И Венцель впервые столкнулся с ними, в том-то и дело. Да, в том-то все дело, — повторила фрау Лизе. — Это сильно действует на психику. Вот как повезло ему.
«Скоро мир, — подумал я. — Разрушенный город оживет, задымят заводы, а бедняга Венцель будет вот так каждый день собираться на фронт».
— Ваш Гитлер виноват, — сказал я со злостью. — Ему поклонитесь за это.
— Мы-то не звали Гитлера, — ответила она. — Партийным бонзам, которые отсиживались в тылу, тем он нравился. — Голос фрау Лизе стал громче. — А мы простые рабочие. Честные рабочие. Мой Курт был с Тельманом.
Теперь я понял, почему такой знакомой показалась мне фуражка Курта — кожаная, угловатая, с витым ремешком. Как у Тельмана на портрете…
Фрау Лизе вышла за водой. За окном пищали чайки, их тени носились по комнате.
Еще битый час сидел я в ожидании Кая, томимый нетерпением. Я хоть и решил не задавать вопросов, они все сами соскальзывали с языка, и я кое-что узнал о Кае. Ему двадцать пять лет. Шел по стопам отца, — плавал матросом на портовом буксире. Если бы не война, был бы теперь, наверно, рулевым. Увлекался радио, строил приемники. Слушал передачи из Москвы, вместе с отцом. В армии Кай служил шофером. Да, шофером на грузовике.
Слыхала ли фрау Лизе о фон Шехте? Нет. Может быть, Кай и называл его, она плохо помнит имена. Неладно с памятью.
«Он или не он? — гадал я. — Неужели тот самый Кайус Фойгт!» Я все еще не верил удаче. И, однако, я не очень удивился, когда передо мной выросла долговязая фигура в зеленом солдатском кителе. Он, он, и собственной персоной! Кай опустил корзину с уловом, выпрямился, едва не ударившись головой о притолоку, и узнал меня.
— Господин лейтенант! — воскликнул он, и лицо его осветилось радостью.
Разглядывая его, я чувствовал себя избранником Случая, счастливого Случая, сведшего меня со старшиной Лыткиным и теперь — с Кайусом Фойгтом, шофером «оппеля». Но я ошибся. Фойгт вовсе не случайно оказался под началом старшины на базе трофейных автомашин.
8
Когда ящики с янтарем, опущенные в котлован, засыпали, а землю заровняли, обер-лейтенант Бинеман поставил на своем плане синим карандашом птичку.
Пленных увели. Бинеман и Катя сели в кабину «оппеля» рядом с Каем. Стрелка бензоуказателя угрожающе кренилась. Машина пошла на заправку.
Бинеман сперва жадно курил, потом обратился к фрейлейн.
— Ловко вы ускользнули от красных, Кэтхен, — сказал он. — Судя по пробоинам в кузове, вас расстреливали чуть ли не в упор.
Кай насторожился. Не заподозрил ли Бинеман правду? Тогда беда! Но нет, слава богу! Обер-лейтенант говорил как будто без всякой задней мысли. И, пожалуй, он был даже особенно вежлив с фрейлейн. «Кэтхен», — повторял он.
Бинеман давно был неравнодушен к фрейлейн Катарине, и он — Кайус — к этому привык. Фрейлейн, — о, она умно играла свою роль! Бинеману она давала понять, что подполковник фон Шехт ухаживает за ней. И так она держала на расстоянии обоих. О, советские — удивительная нация! Сколько находчивости! Какая смелость у молоденькой девушки!
— Воображаю, как вы перепугались тогда, Кэтхен, — разглагольствовал Бинеман. — Вряд ли вы мечтаете о свиданий с соотечественниками, ха-ха!
Фрейлейн ответила что-то ему в тон. Обер-лейтенант придвинулся к ней.
— Вы беспечны, Кэтхен. На вашем месте я бы не задержался в Кенигсберге. Да, да, уж принял бы меры. Хорошенькая девушка всего может добиться. Вы же видите, Кэтхен, как складываются дела. Русские не сегодня-завтра будут здесь.
Кайус опять навострил уши. Явно неспроста завел Бинеман такую речь.
Фрейлейн Катарина вскинула на него глаза, — о, она поразительно умела это делать. Получалось совершенно по-детски.
— Я бы сию же минуту, — вздохнула она. — Но как? Из Кенигсберга и кошка не выскочит.
Бинеман засмеялся. Он как-то очень противно засмеялся, и Фойгт охотно заехал бы ему в жирную физиономию. Обер-лейтенант смеялся нагло, победоносно, выпятив живот, словно вот сейчас он скажет что-то такое, что покорит русскую фрейлейн и даст ему власть над ней.
— Кэтхен, — выдохнул Бинеман и взял ее руку. — Если вы доверитесь мне, я вам гарантирую…
— Что? — спросила она.
— Спасение. Сегодня же. Медлить нельзя, Кэтхен. Соглашайтесь.
При этом он мял ее руку, дышал ей в лицо. Он стал упрашивать фрейлейн Катарину бежать с ним, поселиться на Западе, там, где сейчас американцы и англичане. Каков! Он снял золотое кольцо и начал надевать ей, но куда там! Два таких пальчика, как у фрейлейн Катарины, могли войти в кольцо.
Но фрейлейн даже не улыбнулась, она кусала губы. Понятно, положение ее было не из легких. Просто взять да и отвергнуть план побега она не могла. Ей следовало вести свою роль до конца.
Наконец она освободила руку и сказала, что не верит Бинеману. Бежать немыслимо.
— Вы не знаете, Кэтхен. — Он ударил себя кулаком в грудь. — О, вы ничего не знаете! Немыслимо для воинской части, да, верно. Ее увидят с воздуха. Но два человека! Путь есть, клянусь вам!
И Бинеман стал объяснять. Кайус, слушая его, поглядел на фрейлейн и почесал ухо, что означало на языке жестов, выработанном ими, — «весьма сомнительно». Бинеман расписывал подземелья Кенигсберга. Правда, о них известно любому ребенку. В любом путеводителе можно прочитать, что еще в средние века подземные ходы соединяли Орденский замок с внешними укреплениями. Впоследствии сеть туннелей расширилась. Под городом возникли заводы вооружения, склады, квартиры. Есть постройки, уходящие в глубину на шесть-семь этажей. Но чтобы можно было подземными коридорами выбраться за черту города, — нет, об этом Кайус не слыхал!
— Мы и Фойгта захватим. — И Бинеман фамильярно хлопнул Кая по колену. — Фойгт хороший парень, он пригодится нам.
Затем Бинеман понизил голос. Кайус выключил мотор; машина катилась некоторое время по инерции, но все равно он разобрать ничего не смог, так как Бинеман перешел на шепот.
Фрейлейн Катарина вдруг свела брови. Обер-лейтенант, по-видимому, сообщил нечто важное для нее.
— Вы уверены? — спросила она резко.
Клянусь вам, — повторил Бинеман и снова зашептал.
Проклятье! Не уловить ни звука!
Весь остаток дороги до заправочной они беседовали шепотом, и до Кайуса долетали только отдельные слова. Раза два упоминался фон Щехт. Бинеман бранил фон Шехта. «Жулик», «обманщик» — вот выражения, слетавшие с уст обер-лейтенанта, и относились они, насколько Кайус мог догадаться, к покойному начальнику. Похоже, Бинеман проведал о каком-то преступлении фон Шехта.
Когда накачивали бензин, Бинеман взял фрейлейн за локоть. Щеки его пошли пятнами. Теперь он не шептал, но Кайус в это время стоял у колонки, слишком далеко. Потом Кайус вернулся на свое место, к рулю, как раз в тот момент, когда фрейлейн сказала обер-лейтенанту:
— Я согласна.
И руки не отняла…
Кайус Фойгт едва не лопнул от любопытства. Что же затеяла фрейлейн? Бинеман повеселел, иногда покровительственно трепал фрейлейн по плечу, и Фойгту сделалось страшно за нее.
Он выкатил «оппель» за ворота. Бинеман велел ехать на квартиру фон Шехта, и Кай переспросил:
— Куда?
Подполковник держал две квартиры в городе и, кроме того, холостяцкую комнату!
— На Кайзер-аллее, — сказал Бинеман.
Дом на Кайзер-аллее был известен Фойгту давно. В нем была кондитерская «Любимый марципан». По воскресеньям отец водил Кая в зоологический сад; они шли по Кайзер-аллее, и Кай получал марципан. Рядом с кондитерской свешивалась вывеска, очень занимавшая Кая. На длинной жестяной хоругви намалеван сказочный старик, темнокожий, с курчавой бородой и со шпагой, в золотом одеянии. «Клуб черноголовых» — гласила надпись. Собственно, клуб помещался в соседнем доме, очень старом, узком, словно сплющенном между двумя большими зданиями. Кай спросил отца, кто такие черноголовые. «Гнездо фашистов», — ответил отец. Гитлер тогда шел к власти; в клубе, как узнал Кай впоследствии, вооружались погромщики. Туда затаскивали честных людей, противившихся фашистской чуме, мучили их.
Еще в ту пору во главе клуба стоял Теодор фон Шехт. Он и жилье себе устроил в том же здании.
Фойгт остановил машину у подъезда. Катя и Бинеман сошли. Обер-лейтенант велел Кайусу ждать, и фрейлейн кивком подтвердила приказ. Такая досада! Фойгт беспокоился. Его тянуло пробраться следом, подслушать, а в случае нужды помочь фрейлейн.
Прошло минут двадцать. Кайус притопывал в кабине, чтобы согреться. Тревога его все росла. И вдруг…
Фронт загрохотал. Только что была глубочайшая тишина, казалось, война уснула и не пробудится долго-долго. И Кай уже успел привыкнуть к тишине. Может быть, поэтому ожившая канонада прозвучала так грозно. Но нет, ярость ее была и впрямь необычной. Русские явно пустили в ход все свои батареи, выстрелы слились в сплошной воющий гул. И «катюши» проснулись. Они то и дело вставляли в гомон орудий свое слово…
Начался штурм.
Где-то близко, за домами, взлетали бурные дымки разрывов. Что же не идут? Кайус уже собрался пойти на розыски, как вдруг из подъезда выбежал Бинеман. Да, именно выбежал. Без фуражки, задыхающийся.
В это время было совсем светло, и Фойгт увидел блестящий от пота лоб Бинемана, его блуждающие, злые глаза.
— Где фрейлейн? — спросил Фойгт, он сразу заподозрил недоброе.
Бинеман не ответил. Он рывком открыл дверцу, и его огромное тело вдавилось в сиденье. Правой рукой, скрытой от Кайуса, он шарил где-то. Чувства Фойгта обострились, он понял: Бинеман достает пистолет. Инстинктивно Кайус схватился за тесак. В ту же секунду в глаза блеснула сталь пистолета. Фойгт изловчился, сжал левой рукой запястье обер-лейтенанта, отвел, а правой выхватил тесак и ударил…
Солдат убил своего офицера. Немецкий солдат! Кай перестал даже слышать канонаду — так поразило его то, что произошло. Он ненавидел нацистов, он дружил с русской фрейлейн, но он никогда не думал, что сможет применить оружие против другого немца. Да еще офицера!
Несколько минут Кай стоял у кабины, возле мертвого Бинемана, в полнейшем смятении. Что же теперь будет? Надо бежать! Немедленно бежать!
А фрейлейн? Кай бросился в ворота, пересек пустынный двор, поднялся на третий этаж. Дверь была распахнута настежь. Никого! Кай обошел все комнаты, осмотрел все закоулки. Пусто! Похоже, и не было тут людей сейчас. Ни один стул не сдвинут, на всем слой пыли. В камине давно остывшая зола. Кай в отчаянии бродил по квартире, звал фрейлейн. В холодных, запущенных комнатах звенело эхо.
Что же с фрейлейн? Кай отправился к машине, потом вернулся в квартиру. Он решил ждать фрейлейн. Отсиживаться здесь, прятаться от своих и ждать, сколько бы ни пришлось.
Канонада между тем приблизилась. Днем она утихла и точно разломилась, в паузы втиснулась, рассыпалась пулеметная очередь. Русские в городе! Значит, он спасен теперь — солдат, убивший офицера. Скрываться больше незачем… Да, от немцев уже ни к чему. Теперь каждый заботится о своей шкуре. Кай подошел к окну. Во двор вбежали два немецких офицера-танкиста. Они сорвали с себя кители, запихали в чан с мусором и кинулись в подъезд.
Однако ведь и ему, Каю, не стоит попадаться на глаза русским. Еще в плен угодишь. Домой, домой. Снял в гардеробной штатский костюм, переоделся. Брюки не закрывали щиколоток, пиджак был тесен, под мышками трещало, — неважная маскировка! Еще день и ночь провел Кай в кабинете фон Шехта. Невдалеке на набережной заиграла музыка, потом басовитый голос, усиленный репродуктором, заговорил с акцентом:
— Внимание, внимание! Передатчик Советской Армии! Немцы! Мы несем вам мир!
У Кая все запело внутри, Он распахнул окно. Голос властно заполнил комнату.
— Мы несем вам мир! — повторил он. — Падение Кенигсберга — это начало падения Берлина.
Кай надел плащ фон Шехта. Пока длились бои в городе, Кай прятался в заброшенных квартирах и среди развалин. Потом осторожно, дворами, переулками двинулся на окраину города, в Розенштадт, к себе, У калитки он столкнулся с братом.
— Кончено, — сказал Кай. — Русские здесь.
Брат не понял его.
— Эшелон уходит, — пробормотал он, глядя куда-то мимо Кая. — А я вот… позабыл документы. Нельзя же без документов.
Кай влетел в дом. Кончено! Уж для него, во всяком случае, война прекратилась.
Все было бы хорошо, если бы не беда с фрейлейн. Когда он думал о ней, ему виделся Бинеман, выбегающий из ворот, растерзанный, почти безумный. С фрейлейн, наверное, случилась беда. Но, возможно, она спаслась от Бинемана и теперь в безопасности, среди своих. Спросить бы у русских! К первому встречному с таким делом не обратишься. Зайти разве к советскому коменданту? Но и тот вряд ли в курсе… Еще не так поймет Кайуса, будут неприятности.
Наконец пришло простое решение: если фрейлейн Катарина не пришла к своим, исчезла, то ее непременно будут разыскивать и постараются выследить и машину, и его — шофера Кайуса Фойгта. Надо пойти навстречу русским! Кайус явился в парк трофейных немецких автомобилей и предложил свои услуги старшине Лыткину. Очень обрадовался, увидев свой «оппель».
…Вот все, что я узнал от Кайуса Фойгта.
За точность изложения я не ручаюсь, — лет минуло много, некоторые детали, вероятно, забыты.
Все сказанное им слилось в одно — с Катей беда. Бинеман убил ее. Гитлеровцы уничтожили сохни пленных, закапывавших похищенные ценности. И Катя была опасна для банды фон Шехта, опасна, как свидетельница. Бинеман убил ее и хотел убрать Фойгта.
Я почувствовал боль и слабость. Ужасающую слабость. «Катя погибла, — сказал я себе, — и дальше искать бесполезно». Кай молча смотрел на меня.
— Значит, ее нет у вас? — проговорил он печально.
Однако признаков борьбы в квартире он не заметил. И Бинеман ведь не имел намерения убивать Катю, — напротив, он дорогой предлагал ей обручальное кольцо. Он открыл ей что-то, касавшееся фон Шехта. По всей видимости, она надеялась найти нечто важное там, в квартире фон Шехта.
— Она не пришла к нам, Кай, — сказал я. — Она была без оружия, вот что ужасно.
— Без оружия? — Он наморщил лоб. — Нет, почему — вы считаете?…
— Она же отдала свой «манлихер» Алоизу Крачу! Трусу, белоручке!
— У нас был еще пистолет, — сказал Кайус. — Такой же, «манлихер». Я поднял его под Варшавой на поле боя. Он не числился за мной, понимаете; я никому не докладывал… Он лежал в машине, под сиденьем. И я дал ей.
И она не воспользовалась? Мысли мои смешались.
— Я могу вам показать квартиру, — услышал я. — Вы посмотрите сами как следует. Могло статься, я не доглядел тогда… Пожалуйста, господин лейтенант.
— Нет, — сказал я. — Не господин. Товарищ лейтенант! Товарищ!
Я крепко пожал обе руки Кайусу Фойгту. Немцу, другу Кати, который действительно вышел ко мне навстречу. Настоящему товарищу.
9
— Здесь, — сказал Фойгт.
Серый пятиэтажный дом, опоясанный балконами. Бомбы почти не задели его. На балконах — в горшках и лотках — зеленеет салат. «Любимый марципан» — написано над пустыми окнами нижнего этажа. А вот «Клуб черноголовых». Золотой нимб святого Маврикия пробит пулей. Лепные фигуры всадников в шлемах украшают фасад. Над входом дата — 1562. Здание изъедено трещинами. Если бы не дома, подпирающие его с боков, оно, верно, рассыпалось бы в прах.
Напротив, за бульваром, превращенным в бурелом, — россыпи кирпича, опаленные стены. Чудом уцелевший квартал кругом охвачен «городом развалин», как прозвали немцы разрушенные центральные районы Кенигсберга. Где-то поет пила — режут дрова для железной печурки, затопленной в подвале, или мастерят подпорки для временного пристанища среди руин. Толстый старик едет на трехколесном велосипеде, везет остатки скарба — подушку, ночные туфли, расписанный незабудками кофейник.
Мостовая усеяна битыми пузырьками, картонными коробочками, имуществом аптеки, взлетевшей на воздух. Мы идем, с хрустом топча стекло. Железные ворота, ведущие во двор, перечеркнуты пулеметной очередью.
Фойгт в нерешительности остановился. Перед нами — лагерь беженцев. Шкафы, умывальники с фарфоровыми тазами, ширмы, гирлянды сохнущего белья. На складной кровати зашевелился человек с забинтованной шеей. Кай направился к нему. Больной сипло закашлял. Нет, он не знает фон Шехта. Только сегодня въехал сюда.
— Я полностью разбомблен, — простонал он и закрылся одеялом.
Тягучее, заунывное пиликанье губной гармошки неслось сверху, из окна. Музыка оборвалась, басовитый голос крикнул:
— Фон Шехт в шестнадцатой. Только нет его, давно нет, Сбежал, негодяй.
На нас смотрел, улыбаясь, плечистый мужчина в рабочей куртке. От гармошки, блестевшей на солнце, бежали по асфальту, по шкафам, по посуде веселые зайчики.
Конечно, не следовало так громко спрашивать дорогу и называть во всеуслышание это проклятое имя. Кай должен был сам как-нибудь вспомнить. Я должен был предостеречь его… Словом, я совершил оплошность…
Мы не сделали и десятка шагов к парадной, загороженной огромной вешалкой красного дерева, с оленьими рогами, как раздался негромкий, глухой звук. Не выстрел, скорее щелчок. Кай зашатался и упал навзничь. Я кинулся к нему, расстегнул куртку, увидел кровь.
Это было так неожиданно — кровь, нападение во дворе жилого дома, в покоренном и уже притихшем городе, что я с минуту топтался возле Кая, беспомощно озираясь.
Сбегались люди. Что-то блеснуло, ко мне сквозь толпу протолкался немец с губной гармошкой. Он вложил ее в карман; мы подхватили Кая и понесли к воротам. Водитель-сержант завидел нас из «виллиса» и поспешил на помощь.
— Везти нельзя, — сказал немец. — Надо скорее… Тут есть врач.
— Вы не видели, кто стрелял? — спросил я.
— Нет. Я ничего не слышал даже… Вижу — он упал. Проклятье! Неужели еще мало всего этого? — Он задыхался от гнева. — Стрельбы, мучений…
Не доходя до ворот, мы повернули к крыльцу. Крутая, узкая лестница привела нас под самый чердак.
«Augendiagnostik», — прочел я на двери. Открыл человек в халате не первой чистоты, рыжий, поджарый, в оббитом, словно обкусанном пенсне.
Кая уложили на кушетку. Кабинет был до странности пуст. Несколько пакетов с лекарствами в поставце. Никаких инструментов, если не считать лупы на столике у кресла, небольшой, цилиндрической лупы ботаника или часовщика. И еще удивило меня огромное, в красках, изображение человеческого глаза, прибитое к стене и наполовину задернутое марлевой занавеской. Признаюсь, я с некоторым недоверием следил, как Иеронимус Кимбл ощупывал Фойгта.
Раненый дернулся и провел пальцами по лицу, словно согнал что-то.
— Кимбл хороший врач, — промолвил немец, помогавший мне. — Он поглядит вам в глаза и сразу скажет, что у вас. Тут, по этому рисунку, — он потянулся к плакату и показал радужную оболочку, испещренную клеточками и точками, — все можно определить. Тут все отражается.
«Хиромант какой-то», — подумал я. Немец говорил раздельно, как на уроке.
— Кимбл учился в Бразилии, — прибавил он. — Глазных диагностиков всего одиннадцать. Во всем мире.
Кай запрокинул голову, скрипнул зубами и еще раз согнал что-то с лица.
— Он немец? — спросил Кимбл.
— Да, — ответил я.
Раненый затих. Кимбл сунул стетоскоп в карман и запахнул халат.
— Русский, немец, поляк — теперь это все равно, — проговорил он в сердцах. — Мертвые не имеют национальности. Они равны.
Кай лежал вытянувшись. Мой спутник тронул меня за рукав.
— Кимбл честный врач, — сказал он по слогам. — Клянусь, господин офицер.
— Кто его? — спросил врач.
— Соотечественник. — Немец скривил губы. — Тоже сын Германии. Вроде фон Шехта. Боже мой, когда же это кончится!
Он не отводил от меня прямого, скорбного взгляда. Кай умер? Я не хотел верить этому. Я ждал, что Кимбл тряхнет своей рыжей гривой и бросит, улыбаясь: «Отлежится», «Через недельку встанет» или что-нибудь в таком роде. И вдруг — умер! Убит вражеской пулей, И не вернется в свой Розенштадт. Убит в весну победы. Убит, когда все кругом взывает: довольно смертей! Когда земля, кажется, уже полна мертвецов. Не может принять их больше.
«Мертвые равны», — вспомнилось мне. Неправда! Фон Шехта тоже нет, но он умер иначе. Трупный яд останется после таких. А другие сгорают чистым огнем, освещая дорогу живым.
Тут я с болью, с ужасом поймал себя на том, что думаю так не только о Фойгте, но и о Кате, До сих пор я берег ее в своих мыслях живую, только живую. Янтарная комната, картины, экспонаты из музеев все это было для меня как бы вне войны. Смерть Кая словно толкнула меня обратно на передний край.
Точно в тумане замелькали передо мной санитары, натянувшийся холст носилок и наш эскулап, склонившийся над телом. «Ранение смертельное», — услышал я. Кая вынесли. Я спустился во двор.
Двор шумел. Немцы, собравшись в кучу, обсуждали происшедшее. Гельмут Шенеке — так звали моего нового знакомого — шагал рядом со мной, сунув жилистые руки в карманы комбинезона.
— Вы не знаете «черноголовых»? — басил он. — Шайка разбойников! Их надо выловить, господин офицер, всех до одного. Они погубили моего брата. Он сгинул, исчез там, в их логове. Да, люди пропадали бесследно. Это не легенда, господин офицер, это голая правда.
Вокруг нас тотчас образовалась толпа. Шенеке заговорил громче, он обращался теперь ко всем. Я почувствовал, что и мне надо что-то сказать.
— Убит честный немец, Кайус Фойгт, — сказал я. — Тот, кто убил его, — наш общий враг. И мы, советское командование, разыщем убийцу. Я буду рад, если вы окажете содействие.
Толпа одобрительно заволновалась.
Я кликнул автоматчиков, мы начали прочесывать дом.
10
Большой дом, перенаселенный, до отказа набитый беженцами. Чего только нет в нем! Две лавки — кондитерская, пивная, танцкласс, мастерские кустарей — портных, гравера, скорняка, модистки. Один портной, Назим-оглы, вывесил из окна флаг с полумесяцем; лет тридцать назад он эмигрировал из Турции, но подданство сохранил и нынче счел за благо отмежеваться от немцев. Дребезжит расстроенный рояль, стучил молоток, — кто-то чинит раму, поврежденную воздушной волной. В доме убаюкивают детей, жарят салаку, штопают носки.
Кто же стрелял в Кая Фойгта?
Я пытался представить себе, как бы поступил следователь. Бакулин, например. Прежде надо, очевидно, определить, откуда был произведен выстрел. Взять в расчет характер раны, место во дворе, где находился в тот момент бедняга Фойгт.
Вот-вот Бакулин явится сам. Но можно ли терять время! По моим соображениям, получалось, стреляли из окна третьего этажа. И возможно, из крайнего окна, у стыка с Домом «черноголовых».
Прихватив автоматчика, я понесся туда. «Теодор фон Шехт» — стояло на табличке. Дверь была незаперта.
Квартира фон Шехта! Все пути поиска свелись теперь к ней; здесь, в утро штурма, была Катя, А сегодня сюда прокрался убийца…
Из передней мы вошли в обширную столовую. Дневной свет свободно проникал в окна. Маскировочные шторы — скатанные, слипшиеся — были подняты очень давно. В них, значит, не было нужды. Никто не ночевал здесь. Пыль густо запорошила гигантский буфет с мрамором, с бронзовыми крылатыми львами, рояль в углу, этажерку для нот.
Запустение, холод, затхлый, нежилой дух… В спальне под картиной — котята, играющие с клубком ниток; черные котята, верно на счастье, — полосатые матрацы двух, кроватей, пустые тумбочки.
Узкая дверь под цвет розовых обоев ведет в гардеробную. Здесь Кайус Фойгт в утро штурма взял костюм фон Шехта и его плащ, переоделся. Да, вон в углу его солдатский китель, брюки. С тех пор, похоже, никто не тревожил гардеробную. На вешалках — вещи мужские и женские, поношенные, покинутые за ненадобностью.
Конечно, мы перевернули матрацы, обшарили все углы в спальне и в других комнатах. Никого! Преступник если и был здесь, то не оставил следа!
— Фон Шехт забросил эту квартиру давно, задолго до своей смерти, скорее всего перед войной. В кабинете, в ящиках стола, — ни единой бумажки. На столе телефонная книга 1939 года, медная коробка с крупинками трубочного табака. Я понюхал их. Они почти утратили запах.
В камине — слежавшаяся зола…
Кабинет примыкал к библиотеке. Дверь в нее была заперта: пришлось взломать ее. От стеллажей с книгами тянуло плесенью. Я снял одну книгу в переплете из свиной кожи. Руководство для шахматной игры, напечатанное в Амстердаме, в семнадцатом веке.
— Товарищ лейтенант! — услышал я.
Молодой автоматчик, разрумянившийся от усердия, протягивал мне какой-то предмет.
Берет. Обыкновенный синий берет. Я взял его. В глаза бросилась брошка, знакомая галалитовая брошка в виде листка. Кленовый листок!
— В спальне, товарищ лейтенант, — объяснял автоматчик. — Под зеркалом…
Впопыхах я и не заметил там зеркала. Берет лежал на полочке; в слое пыли отпечатался кружок. Но и под беретом тоже была пыль, — столько же пыли, и, значит, берет положен недавно. Ну, разумеется, — две недели назад, перед штурмом.
Катин берет!
— Я смотрю, женская вещь, — доносился до меня бойкий басок автоматчика. — Мужчине на голову не налезет…
— Катин берет!
Стремительные шаги звучали из парадной, на лестнице. Я вдруг сообразил — это Катя! Она вбегает сюда, живая, веселая, в своей зеленой курточке… Шаги пронеслись мимо. И вместе с ними мгновенно улетучилось видение.
Немного спустя лестница загудела, грохот кованых сапог вторгся в переднюю. Вошел Бакулин.
Наконец-то! Торопясь, глотая слова, я выложил ему все: сведения, данные Фойгтом, обстоятельства его гибели, результаты моих поисков. Бакулин спросил меня, откуда, по моему мнению, стрелял убийца.
— Из библиотеки, — сказал я.
— Показывайте. Ага, отсюда? — Он выглянул в окно. — И я так прикидываю, третий этаж. Высота сомнений не вызывает. Но ты все же не очень наблюдателен, Ширяев. Видишь, простыни висят? Попробуй прицелиться!
— Но может быть…
— Висят с утра, — усмехнулся Бакулин. — Эх, разведчик! Водой, что ли, освежись.
Значит, Бакулин уже действует. Уже опросил немцев во дворе. Тем лучше.
— Вот из окна левее, — продолжал он, — можно было… А отсюда стрелявший не мог вас видеть за простынями. А? Не так ли?
Жизнь во дворе между тем вернулась в свою колею. В кастрюлях булькали супы. Портной-турок, распахнув забитые фанерой окна, звал своих детей — Ганса и Мухамеда — обедать.
— Левее дом «черноголовых», — сказал я. — Заколоченный. Но надо заглянуть.
— Успеем. Я поставил солдата наблюдать. Кто взломал дверь?
— Мы.
— А парадная была отперта?
— Да. Еще Фойгт заходил…
— Понятно. Парадная — настежь, а библиотека — на замке. Достойно внимания…
— Ценные книги, — сказал я.
— Резонно. Допускаем.
Потом он долго осматривал спальню и зеркало с полочкой, где Катя оставила свой берет.
— Не видел зеркала? Пролетел мимо? Нет, следователя из тебя не выйдет. А вот она нашла зеркало. Волосы поправляла, наверное. О чем это говорит?
Зеркало — старинное, в овальной рамке красного дерева, с подставками для свечей по бокам — прибито над тумбочкой. Его затеняет бельевой шкаф, стоящий ближе к окну.
— Заметь, Ширяев, стекло протерто. И не наспех, посередине, а вся поверхность. Зеркало чистое. Стало быть, Мищенко была спокойна тогда. Опасности не ощущала. Фойгт ведь не обнаружил признаков борьбы? Он был прав.
— Так что же случилось с ней?
— Если бы я мог ответить, Ширяев! — вздохнул Бакулин. — В том-то и загвоздка.
Входная дверь скрипнула. Вошел лейтенант Чубатов из контрразведки — года на два моложе меня, белобровый, крепкозубый. Я недолюбливал его. Мне казалось, что Чубатов важничает.
Как я теперь понимаю, ему просто хотелось быть старше своего возраста. Тем более в тот день. Ему дали задание, которое, наверное, досталось бы офицеру более опытному, не будь мы в Кенигсберге, где чекисты и без того были заняты по горло.
Чубатов очень мало знал о Кате. Я заговорил о ней и, должно быть, увлекся.
— В каких вы отношениях с Мищенко? — спросил он.
Я смешался, и Бакулин ответил за меня:
— В служебных.
— Разрешите, товарищ майор, — тихо сказал Чубатов, — пусть лейтенант сам даст оценку.
— Майор вам сказал, — буркнул я.
Бакулин улыбался. Он видел то, чего я не мог заметить. Чубатов очень боялся ударить лицом в грязь. Бакулина он немного стеснялся. Оттого и слова произносил вымученные, казенные.
— Ширяев, мне думается, лицо не беспристрастное, — услышал я.
— Он справляется с делом, — возразил Бакулин добродушно, с усмешкой.
Что, выкусил? Я с торжеством взглянул на Чубатова.
Потом оба они вооружились лупами и принялись изучать пол. С полчаса длилось это. Бакулин выпрямился, и опустил на письменный стол бумажку. Белые кристаллы блестели на ней.
— Сода, — объявил он.
— С улицы нанесли, — вспомнил я. — Напротив же аптека была…
— Знаю, знаю, — улыбнулся Бакулин. — Сходи, Ширяев, достань нам соды с мостовой. В темпе! Одна нога здесь, другая там.
Я стремглав кинулся выполнять приказание. Но увы, — как ни старался, как ни искал, — соды обнаружить не мог. Под каблуками моими трещали битые пузырьки, картонные и жестяные коробки, остатки колб, пробирок, градусников. В яме застоялась лужица: вода в ней была малиновая. Точно так же выглядел раствор марганцовки, которым я полоскал рот в медсанбате, после того как мне выдернули зуб.
Сода тоже растворяется в воде, сообразил я. Позавчера был сильный дождь, соду смыло. Значит, не мы принесли соду на ногах в квартиру, а Катя, Бинеман или Кай. Бакулин это и хотел установить. Но для чего?
— Ни крупинки? — бросил Бакулин, завидев меня. — Так я и думал.
— Товарищ майор, — спросил я, — в библиотеке тоже сода на полу?
— Э, да он делает успехи. — Бакулин откинулся в кресле. — Ты понимаешь, Ширяев, Бинеман запер за собой дверь библиотеки. А парадную оставил открытой. Бинеману надо было создать впечатление, что он не был в библиотеке с Катей. Что его влекло сюда? Не книги же! Hy-ка, покажи нам, Ширяев, какие ты брал книги!
Я показал.
— Остальные стоят, как стояли месяцы, может, годы. Вон пылища на полках! А, кроме книг, что тут ценного? Ничего! Бинеман и Катя были здесь, мирно беседовали, а затем…
«Катя и Бинеман были здесь, — думал я. — Они мирно беседовали, а затем… Да, все к одному, библиотека где-то сообщается с домом «черноголовых».
Где?
Мы сняли книги с полок, потом отцепили стеллажи, Чубатов начал выстукивать стену, Бакулин закатал ковер, вынул лупу и опустился на колени.
Работали мы часа полтора. Бакулину пришла мысль, что след в библиотеку — ложный, подстроенный Бинеманом нарочно. Однако искомый ход, потайной выход оказался именно там. И не в стене, а в паркетном полу, под ковром. Только с помощью лупы удалось найти очертания люка.
Кликнули солдат с топорами; они выломали пол. Под ним оказались железные ступени.
Первыми сошли на лестницу два автоматчика, потом Бакулин, Чубатов и я. Ступени вели круто вниз, по узкому коридору. Он пробивал толщу могучей старинной стены.
Свет сочился из круглого проема амбразуры. Майор выпрямился, на ладони его блеснула маленькая медная гильза.
Да, убийца стрелял отсюда. Он, очевидно, тотчас ушел потом через комнаты фон Шехта.
Лучи фонарей скользили по гранитной кладке. Гранит был темно-серый, отесанный грубо, ударами тяжелого ручника! Белыми жилками выделялись пазы, и Бакулину вспомнилось давно читанное: в старину в раствор, скреплявший камни, добавляли для прочности яичный белок.
Кое-где рука средневекового камнетеса высекла крест или треугольник в лучах — символ божьего ока. А в одном месте луч выхватил надпись: «Gott mit uns», ныне в вермахте повторенную на солдатских пряжках.
Снизу, из самых недр дома «черноголовых», несся неясный гул. По мере спуска он звучал громче.
— Вода, — произнес один из автоматчиков. Лучи фонарей, впереди тонувшие в кромешной черноте, коснулись вскоре пенистой поверхности потока. Он несся в подземных гранитных берегах, плескался, обмывал ступени.
Моя ладонь легла на перильце. Оно вибрировало. От напора воды мелкая дрожь расходилась по металлу, отзывалась болью во всем моем существе.
Широкая каменная арка с крестом на вершине — вход в туннель — неустанно, с свистящим шумом втягивала буйную, непроницаемо темную воду.
11
Вода реки Прегель затопила подземелье Кенигсберга через несколько минут после того, как залпы наших орудий и «катюш» возвестили начало штурма. Приказ открыть шлюзы был составлен немецким командованием заранее. Он преследовал две цели — лишить наступающие советские войска подземных путей и скрыть, вывести из строя многочисленные сооружения: военные предприятия, жилые помещения, склады оружия и боеприпасов.
Я знал об атом, когда стоял над стремниной, сжимая перильце. Оно отдало свой холодок, сделалось горячим, намокло от пота, — я все смотрел в пенистые водовороты.
Дорога поиска оборвалась, потонула…
Вызвать водолазов! Я представил себе людей в скафандрах, спускающихся в поток, разыскивающих труп Кати. Я нагнулся, погрузил руку, — вода схватила ее словно ледяными зубами, отбросила. Нет, водолазы ни к чему. Я размял пальцы, онемевшие от холода. Если Катя попала сюда, ее отнесло течением далеко отсюда, бог весть куда.
Подавленные шли мы наверх. Низкий каменный свод словно ложился на плечи…
— Завтра осмотрим все подробнее, — сказал Бакулин, когда мы снова очутились в кабинете фон Шехта.
Но он не отпустил нас. Он размышлял вслух, взволнованный открытием. Когда же немцы затопили подземелье? В восемь часов пятнадцать минут, то есть четверть часа спустя после начала нашего артиллерийского наступления.
В это время Катя и Бинеман были в квартире фон Шехта, а Кайус Фойгт; ждал их на улице в своем «оппеле». Люк в полу, возможно, был открыт, Бинеман уловил шум хлынувшей в подвалы воды. Впрочем, он, как и многие офицеры штаба, наверняка знал о приказе.
Конечно, с началом штурма многое в положении всех троих — Бинемана, Фойгта и Кати — изменилось.
План побега из Кенигсберга рухнул. Что оставалось Бинеману — хищнику Бинеману, грабившему вместе с Фон Шехтом и присными оккупированные земли? Прятаться от возмездия, быстрее сменить личину, скрыться в городе.
Теперь Катя для него — враг. Она, советская девушка, служившая немцам, выдаст его, выдаст, чтобы облегчить собственную участь!
Катя тоже слышит канонаду. Чтобы скрыть радость, она идет в спальню, к зеркалу, снимает берет, поправляет перед зеркалом волосы. Привычные движения помогают прийти в себя. Бинеман зовет ее. Они оба спускаются в люк. Крови на лестнице нет. Катя сошла вниз, Бинеман немного отстал и…
Возможно, Катя сама, почувствовав угрозу со стороны Бинемана, ускорила шаг, решила оставить его позади. И вода, хлынувшая внезапно, унесла ее. Или Бинеман все же выстрелил в Катю, — там внизу, и вода смыла следы…
Бинеман поднимается, закрывает за собой люк, кладет на место ковер, запирает библиотеку. Одного свидетеля он устранил, но есть еще другой — Фойгт. И Бинеман возвращается к машине, чтобы расправиться с ним.
Знать бы, куда делось тело Бинемана! Верно, немцы или наши бросили в яму, забросали землей, битым кирпичом. Много таких могил.
Пистолет Бинемана мог бы открыть еще кое-какие подробности. Но вот что гораздо важнее — бумаги Бинемана.
У него был план! План тайников, куда гитлеровцы свозили музейные сокровища.
«Лежит, верно, вместе со своим хозяином», — подумал я, слушая Бакулина. Кто тогда, в разгар боев, стал бы обыскивать убитого, рыться в документах!
Потом Бакулин заговорил о новом поиске в связи с гибелью Фойгта. Я почти не слышал. Я думал только о Кате.
Что же, считать погибшей? Неужели Бакулин напишет эти страшные слова, как итог наших стараний, наших надежд?
Нет! А если она все-таки спаслась? На войне я видел не только смерть, не раз при мне в самом пекле боя, на земле, сплошь перепаханной рваным железом, держалась жизнь. Чудом ограждала она своих избранников. Я сам бывал у смерти в когтях. А взять семерку, знаменитую семерку разведчиков, о которой слава шла по всему фронту; всего семь человек, вооруженных гранатами, против железобетонного форта, считавшегося — как и все кольцо защиты Кенигсберга — неприступным. Огонь крепости, по логике вещей, должен был стереть в порошок храбрецов. Однако они нашли «мертвое» пространство, забрались на купол, и гранаты, связки гранат, брошенные в вентиляционные колодцы, вывели из строя немецкий гарнизон, ни много ни мало — девяносто штыков…
Раздумья мои прервал старшина из разведки. Он принес пулю, вынутую из тела Фойгта. Бакулин достал из кармана гимнастерки гильзу. Так и есть! Убийца стоял под люком, целил из амбразуры.
— Стрелок он отличный. — сказал майор. — На тридцать шагов, и наверняка насмерть. Из такого оружия к тому же… Маленький «манлихер» — это же старая система, невоенная даже…
— Товарищ майор, — вставил я. — Я не докладывал вам? У Мищенко, — при Чубатове мне почему-то трудно было сказать «Катя», — был как раз такой. Фойгт говорил…
— Вот как! Любопытно.
Тут Чубатов, до сих пор хранивший молчание, поднялся, с кресла.
— Неясность, товарищ майор. Эх, — он вздохнул и потер лоб. — Поведение Мищенко, понимаете…
Что он еще надумал! Слово «поведение» кольнуло меня. А Чубатов тер лоб, — как школьник, которого вот-вот вызовет педагог. И надо, стало быть, вспомнить все, что знаешь. Напускная солидность слетела с него.
— Поведение Кати ясное, — сказал я. Теперь я могу назвать ее по имени, мне стало легче с Чубатовым.
— Данных мало… Меня вот что смущает… Вы как условились с Мищенко? Проследить за имуществом, так? Которое самое ценное, верно? За Янтарной комнатой. И всё. Потом беречь себя и ждать наших. Верно, товарищ майор?
Чубатов перестал стесняться и заговорил проще. Куда же он клонит?
— На улице Мольтке она была; значит, задача выполнена. Местонахождение янтаря известно. Сама же присутствовала, когда зарывали ящики.
— Правильно, — кивнул Бакулин. Чубатов явно нравился ему, а я весь напрягся. — Ну, дальше-то что?
— Я из фактов исхожу, — сказал Чубатов и вопросительно поглядел на майора. — Дело свое она сделала. Так нет, вместо того чтобы отвязаться от своих начальников, она… Она дает себя увлечь сюда.
Никак он обвиняет Катю! В чем? Пусть выскажется до конца.
— Ну, и в этой же связи… — он опять потер лоб, — мы искали признаков борьбы, насилия. Их же нет…
Ах, вот в чем дело!
— Так, так, — выговорил я. — Дает себя увлечь, говорите… Складно у вас получается…
От ярости у меня онемели губы.
— Спокойнее, Ширяев, — сказал майор.
— Я спокойно… Глупость, вот что… Он считает, Мищенко убила Фойгта и сама с ними… Не смеет он так о Кате…
— Личные ваши чувства… — начал Чубатов, и тут я окончательно взорвался.
— Ложь! — крикнул я. — При чем тут личные?…
Я вскочил. Право, не знаю, зачем я вскочил с кресла. Должно быть, хотел убежать в другую комнату, не слышать Чубатова.
— Куда? — окликнул меня Бакулин и поднялся. — Стоять смирно! Черт знает что такое! Мальчишка! — Он перевел дух. — Сутки домашнего ареста!
12
Представляете себе, каково мне было! В самый разгар поиска меня обрекли на безделье, на горчайшее одиночество… Можно ли придумать более суровое наказание!
Теперь все кончено для меня. В глазах Бакулина я упал. Больше я ему, верно, не нужен. Какой от меня толк! «Эх, разведчик, водой, что ли, освежись!» — ожило в памяти. За мной и без того масса упущений, а тут еще нелепая стычка с Чубатовым. Скверно!
После, убийства Фойгта поиск стал сложнее. Словом, мне уже нет места.
В то же время я не переставал думать о Кате. Мысли мои о Чубатове, о Бакулине, о собственной жалкой судьбе вращались вокруг нее, как по орбите. Невзирая ни на что, я видел ее живой. Да, я верил в чудо.
Времени для размышлений у меня было достаточно. Читать разрешалось, но книга валилась из рук. С тоской я смотрел на улицу из своего номера в гостинице средней руки, где офицерам отвели жилье. Не раз, впав в отчаяние, я порывался бежать к Бакулину, умолять его о снисхождении. Нет, нельзя! Я убеждал себя снести кару безропотно и даже усилил ее — запретил себе курить: пачку сигарет смял и выбросил.
На улице возле булочной собирались немки, судачили о домашних своих делах. Не спеша, вразвалочку прошагали под окном два солдата. Один насвистывал. А ведь самое главное сейчас — это узнать, что с Катей. Эти солдаты, эти немки в коричневых пальто, с взбитыми, гвардейскими плечами понятия не имеют, что где-то, может быть очень близко, Катя. Лежит в бреду, у чужих, или томится в каменных стенах, ждет помощи.
Нет, надежду я берег. Я цеплялся за нее вопреки всему. Да, Фойгт, весьма вероятно, убит из Катиного «манлихера», отнятого у нее… Все равно это не значит, что она погибла.
А если она попала в воду? Тогда конец.
И всё-таки — нет, видел я ее живой.
Пока я томился под арестом, в доме на Кайзер-аллее происходили важные события.
Обследование дома «черноголовых» с утра возобновилось. Квартира фон Шехта стала командным пунктом операции. В полдень, когда Бакулин и Чубатов сидели в кабинете, отдыхали и курили, послышался страшный гвалт.
На самой середине двора бился человеческий сгусток. Он разрастался; к нему со всех концов, обрывая веревки с бельем, опрокидывая ведра, кувшины с водой, керосинки, сбегались немцы. Понять что-нибудь было невозможно. Чубатов выбежал на лестницу, уже гудевшую от топота.
Впереди поднимались трое: наш знакомый Шенеке и еще один мужчина в кителе железнодорожника вели под руки юнца лет семнадцати в кургузом рыжем пиджаке.
— Щенок! — раздавалось в толпе. — Теперь не уйдет.
— Мало им крови!
— Негодяи! Когда конец этому?
Бакулин поднял руку. Немцы утихли. Шенеке, держа перед собой в обеих руках фуражку, степенно выступил вперед.
— Он стрелял вчера, господа офицеры, — сказал Шенеке. — Он! Сам не отрицает.
— Немец в немца! — отозвался кто-то. — Бог мой, этого нам и недоставало. Только этого…
— Мир сошел с ума.
— Тихо! — произнес Шенеке командным тоном. — Дело было так, господа офицеры. Утром после завтрака, да, сразу после завтрака, мне говорят, что объявился какой-то молодчик, шныряет по квартирам и сеет панику. Будто в доме заложены мины замедленного действия и все мы должны в шесть часов вечера — да, точно в шесть часов — взлететь на воздух. Значит, через час. Ну, мы — я и Курт, — он указал на приземистого мужчину с квадратным подбородком, по виду тоже рабочего, — решили, что молодчик сам замешан в этой истории, коли болтает такое.
— So, so, — подтвердил Курт.
Юнец стоял перед Бакулиным нагло, выпятив живот, но видно было, что поза давалась ему нелегко, — он дергался, кривил губы; на лбу под жесткой белокурой кудряшкой блестел пот.
— Вы стреляли? — опросил его Бакулин.
— Я. — Он рывком откинул назад голову. — Я стрелял! Я… Я… Я не боюсь вас…
Толпа зашумела.
— Немец в немца, — повторил кто-то со скорбью. — О, боже!
— Он не немец! — выкрикнул юнец. — Предатель! Слышите вы? Вы тоже… Вы…
Он рванулся. Шенеке и еще двое схватили его. Он забарахтался и обмяк.
«Гитлеровский выкормыш, — подумал Бакулин. — Истерик. Отравлен с детства, А был бы красивым, здоровым парнем, если бы не нацисты».
— Ваше имя? — спросил майор.
Молодчик не ответил. Он шатайся как пьяный; его держали под мышки.
— Вернер Хаут, — сказал Шенеке. — Сынок хозяина аптеки. Разбитой аптеки в доме напротив. В бывшем доме, — добавил он методично. — Говори, Хаут! — Он тряхнул молодчика за плечо. — Говори, раз ты не боишься, ну! Он состоял в фольксштурме, господа офицеры; он из самых отпетых. Тут у него тетя, в тридцать седьмой квартире. Шарлотта Гармиш. У нее мы и взяли его.
Шум во дворе между тем не утихал. Высокий женский голос поднялся над гомоном и зазвенел:
— Ты можешь идти, Эрвин! Я никуда не пойду! Я устала, устала…
Скрипела передвигаемая мебель. Заплакал ребенок. Портной турок громко возглашал:
— Проклятье! Посчитались бы хоть с нами! В доме живут иностранцы!
В кабинет протолкался младший лейтенант, командир автоматчиков, красный, возбужденный:
— Товарищ майор! Немцам кто-то мозги задурил… Оцепление рвут… Бегут, барахло тащат…
— Спокойно! — сказал Бакулин. — Спокойно!
Он приказал офицеру вернуться, наладить проверку выселяющихся. Нет, держать людей силой нельзя. Но контроль не ослаблять!
Младший лейтенант ушел. К нему присоединился Чубатов. Бакулин оглядел немцев.
Лучше любого из них Бакулин знал, сколько смертей еще таит город. Что ни день, рвутся мины, вспыхивают пожары, как будто злобные невидимки задались целью довершить разрушение. Что, если Хаут прав? И этот дом тоже обречен?…
Бакулин раздумывал минуты две.
Это были трудные минуты. «Нет, — сказал он себе. — Никаких мин нет. Надо остановить панику. Во что бы то ни стало!»
— Мы никого не держим, — сказал Бакулин. — Но бежать из дома глупо. Я лично раньше шести не уйду отсюда.
Он вынул часы и положил на стол.
— Я остаюсь с вами, господин майор, — отчеканил Шенеке и неторопливо, по-прежнему держа перед собой фуражку, сел в кресло рядом с Бакулиным.
— Отлично, — молвил, майор. — Отлично. Мы побеседуем с Вернером Хаутом.
«Истерик, — еще раз подумал Бакулин, разглядывая молодчика. — Взвинчен, словно принял дозу наркотика. Вот он каков — убийца Фойгта! Для того и сочинил небылицу насчет мин, чтобы под шумок, пользуясь кутерьмой, выскользнуть из оцепленного дома. Хитрый, смелый ход, — даже, пожалуй, слишком смелый для него. Надо проверить, но не сейчас».
— Итак, ваше имя — Вернер Хаут? — спросил Бакулин. — Хорошо. Так и запишем. Член союза гитлеровской молодежи? Так?
— Хайль Гитлер! — выкрикнул Хауг. — Хайль!
Шенеке схватил его за полу пиджака и силой усадил. Бакулин усмехнулся:
— Ясно. Вы утверждаете, что дом минирован. Это ваши слова?
— Да. Вы… Вы все…
— Погибнем? В шесть часов? Хорошо, проверим. Нам спешить некуда.
— Я живу здесь все время, — вставил Шенеке. — Я знаю дом, как свою ладонь. Мин нет. Все старожилы скажут то же самое. А этот негодяй…
— Подождем, — сказал Бакулин.
Он следил за Хаутом. Предложил закурить. Пальцы Хаута дрожали, когда он зажигал спичку.
Часы фон Шехта — старинные часы — сыграли несколько тактов марша и гулко пробили шесть. Хаута, обмякшего, отупевшего, увели автоматчики.
Допросили его в тот же вечер в контрразведке, в присутствии Бакулина.
Хаут оправился, держал себя развязно. Да, состоял, в союзе гитлеровской молодежи… Да, и в фольксштурме; Был там командиром. Чубатов спрашивал не спеша, записывал аккуратно, четким, каллиграфическим почерком.
— Убил я! — вымолвил Хаут. — Что вам еще нужно? Можете расстрелять меня.
Тут он словно испугался собственного голоса и сжался. Это не укрылось от Бакулина.
— Одну минуту, лейтенант, — сказал он, — я задам вопрос. Скажите, Хаут, вам известно, кого вы убили? Кто он, как его звали?
— Я… Я… Он предатель…
— Его имя?…
— Не… Не помню…
— Не знаете?
Хаут молчал.
— Я понял вас, товарищ майор, — тихо сказал Чубатов и обмакнул перо. — Итак, Хаут, вы проникли в квартиру фон Шехта, в библиотеку, и выстрелили из окна.
— Да, из окна, — отозвался Хаут.
— Так, — перо Чубатова задержалось. — Однако стреляная гильза, свежая стреляная гильза лежала аз доме «черноголовых», под амбразурой.
— Неважно. — Хаут опустил голову. — Я убил! — выдохнул он с усилием. — Я!
В эту минуту в памяти Бакулила возник другой юнец — испитой, бледный до синевы, с пятном волчанки, залившей полщеки. Из шайки грабителей попался он один, остальные, в том числе старший, матерый рецидивист, скрылись. Арестованный не отпирался, напротив. Больной телесно и душевно, озлобленный против всего здорового, он со странным упрямством, вопреки всякой очевидности, брал всю вину на себя.
Вот и Вернер Хаут… Он исступленно твердит «Я убийца», но доказательств еще нет. Убить Фойгта мог только очень хороший стрелок, а этот… Слишком издерган. Сомнение появилось у Барулина с самого начала, при первом взгляде на Хаута. Теперь оно росло.
— Где ваше оружие?
Хаут смешался. Оружие? Оно у тети Гармиш, в тридцать седьмой квартире. В комоде.
Допрос прервали. Чубатов поехал к Шарлотте Гармиш. Оружие отыскали, но не в комоде под бельем, куда положил его Хаут. Шарлотта, желая помочь племяннику, переложила револьвер — старый, тяжелый маузер. Из него давно никто не стрелял. Тем временем лаборатория закончила исследование гильзы, найденной под амбразурой, подтвердила марку пистолета — «манлихер» старого образца.
Вечером допрос возобновился.
Хаут еще упорствовал. Но постепенно истина выходила наружу.
Отряд, в котором он состоял, разбежался в первый же день штурма Кенигсберга. Хаут решил действовать в одиночку, стать террористом, «вервольфом» — волком-оборотнем. Но не хватало выдержки, уменья. Пока Хаут прятался, пока обдумывал, как ему быть, во дворе произошло убийство. Застрелили немца, пришедшего вместе с советским офицером, помогавшего ему, — значит, «красного» немца. На Хаута снизошло откровение. Да, с ним бывает такое. Как у фюрера. Хаут почувствовал, — его час пробил. Он должен помочь неизвестному убийце: выжить русских, ведущих следствие, вызвать панику в доме, напугать.
Он колебался. Как бы самому не попасться! Рассказал выдуманную новость тетке Гармиш, та передала соседям. Слух растекся по дому, дошел до Шенеке. Он припер Хаута к стене. Хаут впал в ярость, нагрубил Шенеке, — и тут посетило Хаута второе откровение. О, он доведет дело до конца! Все равно теперь ему нечего терять. Он спасет убийцу, жертвуя собой. Германия ждет такого примера, он всколыхнет людей, разбудит силы для отпора большевикам. И он, Вернер Хаут, станет героем, как Хорст Вессель, отдавший жизнь за фюрера.
«Звереныш! — думал Бакулин. — Он не убивал, но ведь воспитан он для убийства. Другой совершил то, что он мечтал сделать сам. Нет, он не просто играл роль. Выпусти его — он завтра, пожалуй, убьет».
…Вот какие события случились, шока я отбывал срок наказания в номере гостиницы, сетовал, проклинал себя, думал о Кате.
Бакулина я увидел лишь наутро. Начал он с того, что прочел мне нотацию.
— Чубатов хороший офицер, умный, упорный. Правда, опыта еще не хватает. Он хотел разобраться получше… Он вовсе не обвиняет Катю. Он взвешивает все. А ты — сразу в бутылку. Глупо! Если я еще раз замечу…
Он постучал по столу.
— Слушаюсь! — гаркнул я.
«Спасибо», «рад слышать», — вот что меня тянуло ответить. Ибо угроза Бакулина означала, — я еще встречусь с Чубатовым. Поиск не закончен.
Потом майор рассказал про Хаута.
— Очень складно все получилось, — прибавил он. — Все немцы в доме уверены — убийца пойман. Тем лучше. Скорее достанем настоящего преступника.
Кто же он? Неужели нет никакого следа? Бакулин покачал головой. Не след, но существенный вывод — таков итог этих двух дней. Оружие убийства — «манлихер». И у Кати был «манлихер», — вероятно, тот же самый. Пистолет не очень совершенный. И вряд ли у убийцы не было другого оружия. Похоже, он нарочно воспользовался пистолетом Кати, чтобы бросить на нее тень. Какой еще вывод? До сих пор мы думали, что вместе с Катей в квартире был один Бинеман. Теперь нет такой уверенности. Вероятно, был кто-то третий. Этот третий завладел пистолетом Кати и убил Фойгта.
Бакулин разочаровал меня. Я ждал большего. Неведомый третий ведь не ждет нас. Ищи ветра в поле!
— Ну-с, ладно, — произнес Бакулин. — Приступай к делу. Профессора мы совсем забыли. Ступай к Сторицыну. Бери Алоиза Крача, поезжайте на улицу Мольтке. Пора откапывать царскосельский янтарь.
13
Сторицына я застал в гостинице. Он нежно обнял меня, расцеловал, потом заговорил о своих друзьях-связистах на вилле «Санкт-Маурициус». Один ефрейтор поразил профессора, — так рисует парень! Талант, несомненный талант! Ему надо учиться, и он — Сторицын — об этом позаботится. Что до картин, то они запакованы, готовы к отправке. И Диана, для нее связисты смастерили прочный ящик.
— Из дуба? — спросил я, вспомнив наставления Кати.
У эвакопункта, разместившегося в этажах замершей фабрики, к нам в «виллис» сел Алоиз Крач. Он расстался с балахоном лагерника; ему раздобыли синий в полоску костюм, шляпу, плащ. Вместе со свободой он обрел уверенность в себе. Теперь я легко представлял себе Крача на диспуте в кафе художников или на своей выставке, принимавшим гостей.
— Ну-с, милый мой, — обратился к нему Сторицын. — Скоро домой, да? Так как же, вы и в будущем намерены отстаивать хаос в живописи?
Он рвался спорить.
— О, нет, — Крач качал лохматой головой. — Я напишу картину… Война. Два коня встали на дыбы. Черный и красный…
Сторицын поморщился.
— Символ. Вы отметаете… Вы отрицаете символ? Почему? Я видел советские картины. Не все, еднак некоторые — фотография, цветная фотография.
И они заспорили. Сторицын пришел в ярость. Я никогда не слышал, чтобы с таким жаром говорили об искусстве, и испугался за Крача.
— Порфирий Степанович, — вмешался я, — вот вы все знаете…
— Смелое допущение. Ну!
— Почти все, — поправился я. — Фон Шехт состоял в странной организации…
— «Черноголовые»? — И Сторицын мгновенно забыл о начатом споре. — О Ганзейском союзе слыхали? Учили в школе? Вот-вот! Какие города входили? Бремен, Новгород, Любек… Еще? Общество «черноголовых» — немецкое. Принимались холостые купцы и служащие Ганзы, а проще сказать, головорезы, любители приключений…
— А святой Маврикий?…
— Патрон братства, африканец. Бог ему будто бы отломил кусок африканского материка, и Маврикий приплыл на нем в Европу, спасся от неверных. Словом, мореход.
Он добавил, что «черноголовые» грабили суда, разоряли Прибалтику, воевали при Иване Грозном с Россией вместе с ливонскими рыцарями; что в Таллине, в Риге «черноголовые» были в 1940 году распущены. Их дома были очагами фашизма.
Похоже, Сторицын и в самом деле все знал!
«Виллис» между тем оставил руины центра и катился мимо особняков, увешанных черными коврами плюща, под ветвями лип с набухшими почками.
Двор, где были преданы земле ящики с отделкой Янтарной комнаты, почти ничем не отличался от других дворов улицы Мольтке — прямой, длинный, застроенный в тридцатых годах унылыми, одинаковыми жилыми зданиями. К счастью, Алоиз Крач запомнил приметы: пролом в стене, повисшую пожарную лестницу, детский стульчик, выброшенный из дома силой взрыва.
Алоиз разгребал хлам, вымеривал котлован шагами. Я набрасывал в тетрадке план, а Сторицын, ликующий, разрумянившийся, расхаживал поодаль, на солнцепеке, постукивая тростью.
— Очень приятно, — донесся до меня его голос. — Сторицын! А вы? В погонах я нетверд, извините. Люди воевать кончают, а я вот только на днях стал военным…
— Старшина Лыткин, — раздалось в ответ.
Я обернулся. Да, Лыткин, старшина из автопарка, собственной персоной. Он одергивал гимнастерку и ел Сторицына глазами.
Я окликнул старшину. Он щелкнул каблуками, и козырнул мне. На редкость лихо у него это получалось. Локоть он не поднял, а, напротив, прижал к боку; рука двинулась прямо вверх, коснулась козырька фуражки и тотчас резко оторвалась, словно обжегшись.
— Мое хозяйство — вон оно, рядом, товарищ лейтенант, — сообщил он. — Тут гаражи должны быть, так я шурую. Нас запасные части лимитируют…
Сторицын, зачарованный, обошел бравого старшину кругом и хлопнул его по спине.
— Богатырь! Орел! — приговаривал он: — Полюбуйтесь на него, а? Хорош! Постойте, товарищ Лыткин. Ваше имя и отчество? Савелий Федорович? Задержу вас на минутку, извините… Вы бродите тут, глаз у вас зоркий. Видите, Савелий Федорович… Не откажите при случае оказать нам содействие.
И Сторицын, ухватив Лыткина за пуговицу, стал объяснять ему, кто мы и чем заняты.
— Здесь, — он топнул и поднял облако пыли, — Янтарная комната. Ну, не в полном смысле… Янтари, Ксаверий… Савелий Федорович, простите. Пуды янтаря из царского дворца. Немцы содрали…
— И гады же! — выдохнул Лыткин, не шелохнувшись, не меняя почтительной позы.
— Все стены в янтаре. Нигде в мире нет другой такой комнаты. Зеркала, а на них янтарь. Представляете, какой эффект?
— Так точно, — отозвался Лыткин. — Товарищ полковник, а мне бы прикомандироваться к вам, а? Я бы с великим удовольствием. Я десятником был на земляных работах. Пригодился бы.
Когда мы сели в «виллис» и отъехали и я оглянулся, он все еще стоял вытянувшись, в положении «смирно».
— Вам все внове, — сказал я Сторицыну, — и каждый человек в форме вам кажется героем. Но я бы поостерегся… Нужно ли делиться с посторонним?
— Бросьте, голубчик! — возмутился профессор. — Этакий детина! Вместо ваших модернистских закорючек. А что? — Он перестал смеяться и вздохнул. — Господин Крач, вы сами столько пережили… Неужели будете малевать символических коней или… сапоги всмятку, прошу прощения!
И они заспорили снова.
После обеда мы — я и Сторицын — отправились на улицу Мольтке во главе взвода солдат.
Нетерпение Сторицына передалось мне. Как хочется скорее раскопать этот унылый, замусоренный двор! Неужели сегодня мы добудем знаменитый янтарь? Я увижу его огонь!
Дома, замыкавшие двор, совсем недавно пострадали от пожара; это мешало Крачу отыскать место. Наконец заступы коснулись ящиков. Но янтаря в них не оказалось. Буквами «В» и «Z» был помечен каждый, но внутри — ничего, кроме посуды, фарфоровых сервизов с царскими вензелями.
Янтаря — ни кусочка!
Для Сторицына это было настоящим горем. Он посерел, осунулся — куда делась его обычная живость! И мне было чертовски досадно.
Мы схватили ложную приманку. Фон Шехт, грабитель фон Шехт, отвел нам глаза. Уж, верно, не во славу «великой Германии» он так старался! Он вел свою игру, маскируя картины, пряча янтарь. Эх, жаль, что нет в живых ни его, ни Бинемана!
А Катя узнала… Бинеман тогда, накануне штурма, раскрыл ей проделки фон Шехта. Конечно! Потому-то Катя и не считала свое дело завершенным, осталась с Бинеманом вместо того, чтобы покончить счеты с эйнзатцштабом и дождаться нас.
И тогда… Теперь насчет Кати ни у кого не может быть сомнений. Да, ящики с царской посудой, помеченные буквами, и объясняют поведение Кати.
Прекрасная находка! Сокрушаться незачем, вовсе незачем! Тусклый, синеватый фарфор, расписанный блеклыми сиреневыми цветами, — грубоватое изделие середины прошлого века, как сказал Сторицын, — показался мне поразительно красивым.
Бакулин понял меня.
— Ты прав, для нее это важно, — сказал он с теплотой. — Очень важно.
Сторицын бушевал. До сих пор я видел его неизменно веселым, добродушным. Старик преобразился.
— Напутали вы, голубчики, — твердил он. — А я?то на вас положился! Вот что, не дурит ли вам головы этот ваш художник, автор сапог всмятку? А? Как хотите, я без Янтарной комнаты не уеду. Не уеду!
Со стены на нас — разгоряченных, готовых поссориться — спокойно смотрела женщина в платке, хорошая, понимающая. Она смотрела из своего далекого, давно ушедшего мира, где ее увидел и запечатлел Венецианов.
Вам знаком этот портрет? Простое русское лицо. Лямки сарафана поверх полотняной, в мелкую сборку, рубахи. Крестьянка, должно быть, крепостная, в полутемной избе, в отблеске свечи или лучины. Но лицо словно светится само…
Я вспомнил рассказ Алоиза. Он обманывает нас? Нет. Сторицын ошибается. И женщина на портрете словно соглашалась со мной. Она стала как бы покровительницей нашего поиска.
— Задача наша усложнилась, — сказал Бакулин. — Ну, дадим мы вам людей, взрывчатку, — обернулся он к профессору, — где вы будете искать? В подземельях вода, надо откачивать. У нас нет даже плана подземного Кенигсберга. Уничтожен или увезен — черт его знает!
Сторицын подавленно молчал.
— Фон Шехт бестия, ловкая бестия. Вот, кстати, кое-какие данные о нем. — Майор раскрыл тетрадку. — Теодор фон Шехт, владелец антикварного магазина на улице Марии-Луизы, глава фирмы по скупке и продаже картин, скульптур и прочих произведений искусства. Фирма имела обширные связи с другими странами. Тут список клиентов: акционерное общество «Сфинкс» в Амстердаме, фирма «Чалмерс лимитед» в Нью-Йорке, магазин Туссье в Париже, магазин Ашхани в Каире… Кроме того, вот что любопытно, фон Шехт сам заядлый коллекционер. Главная страсть — янтарь. Его собрание янтарей занимало на вилле «Санкт-Маурициус» четыре комнаты, считалось самым богатым в мире.
— Фон Шехт, — произнес Сторицын. — Позвольте… Ну да, мне как-то до войны попался каталог его коллекции. Там был камень с ящерицей внутри. Янтарь — это же застывшая смола. Ящерица и угодила в нее.
Профессор отбушевал и сидел, тяжело дыша. Мне стало жаль его. Неудачу с Янтарной комнатой он переживал, как личное несчастье.
— Порфирий Степанович, — сказал я, — а книги вас интересуют? Есть библиотека фон Шехта…
Мне хотелось утешить его, и я попал в точку. Сторицын ожил. А когда я упомянул наставление к шахматной игре, обнаруженное мной там, он сжал мне локоть:
— Издание голландское? Какого года, не заметили? С гравюрами? Редкость! Иллюстрации там великолепные, школа Рембрандта, шахматные кони — как живые, не дерево — мясо, мускулы, понимаете?
Час спустя мы поднимались к знакомой квартире. Сторицын горел нетерпением. Новая тревога захватила его: целы ли книги? Вдруг пожар!
Нет, в доме на Кайзер-аллее все по-прежнему. Только табор беженцев во дворе сильно поредел, — многим отвели жилье. Из открытой двери с табличкой «Фон Шехт» пахло кухней, несся детский гомон.
В кабинете фон Шехта за письменным столом чинно, по ранжиру, сидели четверо детей и молча ели жидкий суп. Ложки поднимались все вдруг, как по команде.
Книга о шахматах не обманула ожиданий Сторицына. Да, очень редкое издание. Мы долго рылись в библиотеке. Мне запомнилась рукописная Библия в свиной коже с картинками. Лица у библейских персонажей были розовые и благополучные, — похоже, они только что выпили пива и вышли на воскресную прогулку.
Мелкая, бисерная запись кудрявилась на внутренней стороне переплета. Сторицын прочел вслух. Я уразумел лишь общий смысл текста на старогерманском языке: в 1431 году Отто Шехт во главе отряда «черноголовых» прошел по берегу Балтийского моря, подавил строптивых и доставил в Кенигсберг добычу — коней, сбрую, женщин и три мешка янтаря.
Семейство с традициями! Бандитизм в крови!
За строками вязи, выцветшей, порыжевшей, словно обрисовался внезапно свидетель. Литовец или латыш, разоренный захватчиками, обвиняющий и того Шехта — Отто, и нынешних его последователей.
Вошел пожилой немец, с черной повязкой на глазу. Он мял носовой платок.
— Извините, господа, я не помешал вам?
— Нет, нет, что вы! — Сторицын усадил его. — И вообще… Это мы у вас в гостях.
Я прошу совета, господа. Я вдовец. Я потерял все имущество. Неужели меня выселят с детьми?
— С какой стати? — удивился я.
— О, он воспитанный человек. Он даже не заикнулся. Но… надо же и ему жить. Он заявит свои права, и тогда… Тогда плохо.
Он вздохнул.
— Кто? — спросил я. — Кто заявит?
— Фон Шехт, — произнес немец, и я чуть не вскрикнул — так это было неожиданно.
Или я ослышался? Фон Шехт умер. Что за чепуха! Книги, сложенные у стеллажей, окно во двор, турецкий флаг на той стороне, где квартира портного, — все как бы заволокло туманом.
— Фон Шехт, Людвиг фон Шехт, — донеслось до меня. — Брат покойного…
Ах вот оно что! Да, конечно же, есть еще фон Шехты. А я так много думал об одном фон Шехте, о Теодоре, что забыл об остальных. Мы справлялись, и никого из родственников Теодора в Кенигсберге не оказалось.
Где же обретался до сих пор этот Людвиг фон Шехт? Кто он такой? Что его интересует здесь?
— Он и адрес оставил, — продолжал немец. — Ну, чтобы мы могли сообщить, если с книгами что случится.
Очень порядочный человек, профессор… Вам угодно адрес? Шлезвигерштрассе, семнадцать.
Мы простились с немцами. Дети игравшие в углу, вытянулись, как солдатики, и проводили нас глазами.
14
Да, Людвиг фон Шехт, профессор фон Шехт, — повторял Сторицын в машине. — Автор исследования о культе Тора и Одина у древних скандинавов. Я как-то не связывал его с грабителем, с Теодором. Выходит, из той же семейки? Что ж, бывает… Профессор, судя по книге, педант, книжный червяк. Солидный том, страниц много, скукота немыслимая.
Шлезвигерштрассе терялась среди садов, огородов, уже черневших возделанными грядками. За решетчатыми оградами желтели уютные, почти не тронутые войной особняки. Шагая по подушкам прошлогодних листьев, мы прошли к застекленной террасе, постучали. Вышла высокая, плоская немка в халате.
— Я экономка господина профессора, — сказала она церемонно. — Очень сожалею, очень! Господина профессора нет дома.
Мы помчались к Бакулину.
Майор достал из сейфа папку — знакомую мне синюю папку, отведенную для материалов об эйнзатцштабе, о Теодоре фон Шехте, о Бинемане, их родных и друзьях. Еще недавно она была тонкой, эта папка. Быстро она набирает вес!
— Людвиг фон Шехт, профессор, — сказал майор. — Родился в тысяча восемьсот девяносто пятом году. Член Прусского общества древностей, член Прусской археологической экспедиции. Масса титулов, все прусские, прусские. Коренной пруссак, одним словом. Холостяк, А вот что существенно: в сентябре-октябре тысяча девятьсот сорок четвертого года был главным хранителем в Орденском замке. Два месяца только, но все же…
— Здорово! — вырвалось у меня.
— Весьма, — улыбнулся Бакулин. — И раз уж ты проявил такую прыть, бросился к нему, не согласовав со мной, так и быть, придется его вызвать.
Щеки мои стали горячими. Опять я сделал не то! Однако Бакулин не очень сердит. Распекает он всегда на «вы».
— Не беда, Ширяев, — услышал я. — Все равно пора побеседовать с ним.
Сторицын между тем прочел список трудов Людвига фон Шехта и хлопнул себя по колену.
— Склероз! — воскликнул он. — Склероз! Вот же, вертелось в башке! «Происхождение легенды о Нибелунгах» — тоже его! А вы обратили внимание? — Он повернулся к Бакулину. — Две книги о янтаре: «История янтарного промысла в Пруссии» и «Походы за янтарем».
— Дался им янтарь! — сказал я.
Кажется, я собирался выложить еще какие-то соображения о янтаре и фон Шехтах, но в дверь постучали.
Вошел Алоиз Крач.
Теперь уже недавнего пленного Алоиза Крача, узника на вилле «Санкт-Маурициус», трудно было узнать; Крач подошел к нам размашистым, широким шагом. Он весь сиял.
— Домой? — И Бакулин протянул ему обе руки. — Ну, в добрый путь! Желаю вам счастья, успехов, больших, настоящих успехов.
«Домой!» Это волшебное слово на миг унесло меня далеко от Кенигсберга, дышавшего в окно гарью, дымом пожаров, далеко от войны. Наверное, не только я, мы все позавидовали Алоизу Крачу, уезжавшему в родной Прешов.
Алоиз жал нам руки. Потом он поднял голову, притих, глядя куда-то мимо нас. Я тоже посмотрел туда. На стене, над креслом Бакулина, по-прежнему висел портрет крестьянки. Из сумрака избы, из далекого века, живая, она взирала на Алоиза ласково, понимающе. Минуту-две Алоиз Крач не двигался и, казалось, не дышал, — он молча прощался с ней.
Затем дверь за ним мягко закрылась. Он ушел. Из моей жизни — навсегда.
— Задержать его нельзя было? — спросил я майора. Он поднял брови.
— Излишне, — ответил он, — пускай едет.
На следующий день к Бакулину явился Людвиг фон Шехт. Любопытство снедало меня, но увидеть его мне не пришлось: я был занят со Сторицыным. Мне сдавалось, Бакулин хотел беседовать с профессором наедине.
Вечером майор дал мне его показания.
Прочитав их, я понял, как нужен нам, как необходим для нашего поиска профессор Людвиг фон Шехт, член прусских научных обществ, автор исследований о культе Тора и Одина, о Нибелунгах, о янтаре.
Уроженец Кенигсберга, он жил здесь почти безвыездно. Даже надвигавшийся фронт не мог заставить его покинуть город. Слишком многое с ним связано! С 1936 года он читал лекции в университете — в родном университете, в котором когда-то учился сам вместе с братом Теодором. В юности они дружили. Общая корпорация, дуэли, пирушки, — о, эта студенческая романтика сохранилась в Кенигсберге, как нигде!
Впоследствии братья пошли разными путями. Теодор увлекся коммерцией. Людвига златой телец никогда не привлекал, его тянуло к книгам.
В 1941 году, когда началась война с Россией, Теодор написал Людвигу из Парижа: «Пробил счастливый для Германии час». Людвиг был иного мнения. «Боюсь, что это роковой час, — ответил он. — Опьяненные успехами на Западе, мы забыли о предостережениях Бисмарка, двинулись на русского колосса, который погубил Наполеона». Теодор не получил эти строки. Людвиг разорвал начатое письмо и послал другое, без всяких крамольных мыслей, краткое, с пожеланиями здоровья.
Впрочем, он — Людвиг — не политик! Нет! Он человек науки, исследователь средневековья. В споры на политические темы он вообще не вдается, просто он верит Бисмарку больше, чем фельдфебелю Гитлеру.
Осенью 1941 года с Теодором случилась неприятность — у него выкрали секретные документы. Вызволил, Теодора его друг, приближенный фюрера Альфред Розенберг. Благодаря ему Теодор избежал суда и очутился на новой должности, под начальством Розенберга, в его штабе.
Обо всем этом Людвиг узнал лишь летом 1943 года от помощника Теодора — Бинемана, доставившего, в Кенигсберг Янтарную комнату и другие трофеи из пригородных дворцов Ленинграда. Он — Людвиг — столь же слаб в стратегии, как и в политике, но у него сложилось впечатление, что битва под Сталинградом ускорила отправку царских сокровищ из России. Поражение подействовало угнетающе. Ожидались новые удары советских войск.
Бинеман не стеснялся перед Людвигом — бывшим своим учителем, и Людвигу открылась картина грабежа и всевозможных бесчинств оккупантов в России. Какое же страшное возмездие обрушится на Германию! Бинеман хвастался, как он в стенах древнего Софийского собора в Новгороде упражнялся в стрельбе из пистолета.
Сам Теодор появился в Кенигсберге летом 1944 года. Тогда Людвиг мало виделся с ним. Теодор находился большей частью на своей вилле. Стороной Людвигу стало известно: брат свез к себе в «Санкт-Маурициус» массу трофейного добра и держит там двух художников из военнопленных, бельгийца и датчанина, которые разбирают предметы искусства, реставрируют поврежденные картины и скульптуры.
Теодор — страстный коллекционер. Всё доходы от магазина он, бывало, тратил на пополнение своей галереи, собраний фарфора и янтаря. К янтарю у него особая, фамильная любовь.
Правда, он поступался своими сокровищами. Кусок янтаря с ящерицей — гвоздь коллекции — он подарил Розенбергу в знак благодарности за выручку. Герману Герингу преподнес картины Сезанна, Гогена, Дега, добытые во Франции. О, Теодор ловко умел заслужить расположение влиятельных лиц!
Людвига бог спас от излишних страстей. Не заразился он от брата и болезнью собирательства. Янтарной коллекцией брата пользовался для научной работы, и только! Ученый должен быть аскетом, — да, таково убеждение Людвига. Аскетом, бессребреником, ибо наука требует мученической преданности.
Второй раз Теодор приехал в Кенигсберг в октябре 1944 года, после серии ужасающих налетов английской авиации. У него было предписание Розенберга ознакомиться с состоянием трофейных ценностей, находившихся в городе, вывезти их или обеспечить сохранность.
Незадолго до этого Людвиг фон Шехт был назначен главным хранителем музея в Королевском замке, на место погибшего при бомбежке доктора Зигфрида Штаубена. В жизни Людвига наступили самые трудные дни. Он, соприкасавшийся только с книгами, манускриптами, оказался во главе обширного хозяйства, к тому же сильно пострадавшего от бомб. Было несколько прямых попаданий. Вскоре англичане напали снова. Второй этаж северной часта замка выгорел, уникальная Янтарная комната, увы, погибла в огне. О, эта невозвратимая утрата лежит и на его — Людвига — отвести! Будь он опытнее в практических делах, он успел бы укрыть наиболее ценные предметы.
Печальную весть принес Теодор. Людвиг не был свидетелем несчастья, он в то время заболел и отлеживался в убежище.
«Что ты намерен предпринять? — спросил Теодор. — Не вздумай сообщать в Имперскую канцелярию». Людвиг ответил, что именно это он и обязан сделать.
«Ты сошел с ума, — сказал Теодор. — Снимут голову не только тебе, но и мне. Я ведь тоже в ответе, раз меня послали сюда».
Янтарной комнатой интересовался сам Гитлер. Он хотел иметь ее у себя — в Имперской канцелярии, рядом со своим рабочим кабинетом. Об этом Людвиг слышал еще от доктора Штаубена. Коренной пруссак Штаубен, однако, несмотря на запросы Гитлера, под разными предлогами оттягивал отправку Янтарной комнаты, в Берлин. Как прусский патриот, Штаубен желал удержать ее в Кенигсберге.
Теодор сообщил в Имперскую канцелярию, что от бомбежки и пожара пострадала царская посуда и мебель, а Янтарная комната получила лишь небольшие повреждения, В настоящее время они исправляются, а затем янтарь будет отгружен.
В действительности посуда уцелела… Военнопленные запаковали ее в ящики, помеченные буквами «В» и «Z», и снесли в подвал замка. Работа производилась под руководством Теодора, тайно. Пленных потом, накануне прихода Советской Армии, расстреляли.
В ноябре Теодор уехал. Вернулся он в феврале 1945 года, когда фронт придвинулся к самому городу.
Службу в замке Людвиг прекратил в январе 1945 года по болезни. Бомбежки, лишения вконец подорвали его нервную систему. Последние месяцы братья почти не виделись. Отношения между ними были натянутые, холодные. Сразу после взятия Кенигсберга советскими войсками Людвиг перебрался в Инстербург, к престарелой тетке.
В Кенигсберг Людвиг прибыл с целью выхлопотать усиленный паек, на что ему дают право ученые заслуги, а также разыскать ценные вещи, принадлежавшие брату, и передать их под охрану новой власти.
Он — Людвиг — никогда не сочувствовал грабежу и готов оказать содействие советской военной администрации в меру своих сил.
Так закончил свои показания профессор Людвиг фон Шехт.
Одно как-то не укладывалось в моем представлении. Янтарная комната сгорела?
Нет, не верилось!
— Катя знала бы, — сказал я. — Такое трудно скрыть.
Майор кивнул. Конечно, данные о судьбе Янтарной комнаты нуждаются в проверке. И вообще нужно изучить этого фон Шехта как следует. Понятно, от дела его не отстранять. Выдать усиленный паек, зачислить к Сторицыну в штат экспедиции, — пусть помогает нам.
— Покамест он дичится, — сказал Бакулин. — Опасается подручных своего братца. Познакомься с ним. Постарайся выведать побольше о связях Теодора. Были же у него тут люди, кроме Бинемана!
«Конечно были, — ответил я мысленно. — Тот третий, который был с Катей и Бинеманом, а потом убил Кайуса Фойгта…»
— Словом, Людвиг для нас находка, — говорил майор. — Надо подойти к нему, найти ключ.
В тот вечер Бакулин долго не отпускал меня — снабжал советами, вспоминал случаи из своей практики следователя.
Утро выдалось сырое, туманное. Едкий дым от складов фирмы «АГФА» — они все еще горели — стлался по земле. От него слезились глаза, схватывал кашель. Очертания Королевского замка смутно выделялись на фоне свинцового неба. Репродуктор, прибитый к башне, сообщил сводку Советского Информбюро: наши воины завершали окружение Берлина.
С бьющимся сердцем поднимался я по крутой лестнице, выбитой посредине, покрытой слоем сажи, обуглившейся бумаги и соломы. На втором этаже гулял ветер, заносил в пустые окна брызги дождя, серую, смешанную с дымом муть. Обширное помещение, голое, пахнущее гарью, выглядело как огромная погасшая печь.
Там двигались два человека, медленно, словно по кладбищу: Сторицын — в фуражке, надвинутой на лоб, нахохлившийся, — и тот… Людвиг фон Шехт.
Высокий, сутулый, без шляпы. Волосы спадают тяжелой гривой, в них масляно проступает седина, и поэтому цвет у них какой-то неопределенный, грязный. Кургузый ватник туго сжимает плечи. Трость с набалдашником из слоновой кости и серебра, дорогая профессорская трость. Шагая, он высоко вскидывает руку с тростью.
Когда он повернулся ко мне, я увидел длинный, тонкогубый рот, словно рассекавший узкое лицо, — такой же, как у Теодора.
Все это я увидел, вернее вобрал в себя, жадно вобрал, стремясь с юношеским нетерпением сразу понять — кто он, Людвиг фон Шехт, враг или друг. Нет, ничего подозрительного не мог я уловить в его облике, в манере говорить, сдержанной и медлительной, — но ведь он был фон Шехт!
Много лет прошло, а он и теперь передо мной, в ватнике, с тростью…
Держите, Ширяев, — сказал Сторицын.
Он высыпал мне на ладонь горсть узорчатых пластинок. Они оплавились, огонь покоробил и свел как бы судорогой фигуры нимф и амуров, погнул гирлянды листьев, лишил блеска щиты, шлемы и мечи.
С Янтарной комнатой они не имеют ничего общего — это медные накладки, украшавшие мебель, старинную дворцовую мебель, сгоревшую здесь.
Где же признаки Янтарной комнаты?
Янтарь сгорает целиком, без следа. Даже лабораторный анализ пепла не принесет пользы. Единственное, что, остается от янтаря, погибшего в огне, — это запах, смолистый, церковный дух ладана. Но напрасно мы нюхаем пепел, запах давно выветрился. А скрепки, металлические скрепки от зеркальных панно — они — то должны были уцелеть! Почему же их нет?
Мы ворошим пепел. Сторицын рисует на листке блокнота скрепку, широкий крючок, загибами прижимавший зеркало к стене. Найти хотя бы один!
— Придется просеять пепел, — говорит Сторицын. — Поставим тут сито. Как на раскопках.
— Вы правы, коллега, — отвечает Людвиг фон Шехт. — Вы совершенно правы.
Низкий, хрипловатый голос его звучит спокойно. Конечно, нужно тщательно проверить. Сам он не был при пожаре, а Теодор мог обмануть…
Так запомнилось мне то утро в замке. В тот же день Сторицын попросил у Бакулина двух солдат. Они где-то раздобыли кроличий вольер, соорудили сито и принялись за дело. Я был с ними безотлучно.
Пожар в замке не коснулся Янтарной комнаты. Ее уже не было в зале выставки, когда туда угодила зажигательная бомба. Теодор обманул брата, или Людвиг сам скрывает правду…
Но нет, у меня не было оснований не верить Людвигу. Он сокрушался вместе со Сторицыным, порицал Теодора. Об умерших не говорят дурное, но факты вынуждают… — О, от Теодора всего можно было ожидать.
Где же Янтарная комната? Людвиг вспомнил: на Почтовой улице есть подвал, отведенный в свое время для музейных ценностей замка. В бытность Людвига главным хранителем туда успели, свезти немного, но, как знать, не воспользовался ли бункером Теодор?
Мы кинулись туда. Был мглистый вечер. Над входом в бункер мерцал Гамбринус, намалеванный светящимися красками. Он протягивал над руинами, над битым кирпичом кружку пива. Ничего, кроме полуподвальной угловой пивной, не сохранилось от здания, зато вглубь лестница уходила на три этажа.
Баррикады ящиков с пивом преграждали нам путь. Мы лезли по ним, раздирая шинели, а потом принялись ломать железную дверь, запертую на замок. Она впустила нас в обширное помещение, душное, сырое. Где-то звенела капель, по бетонному полу разъехались лужи. Сторицын поскользнулся и едва не упал, я вовремя схватил его за рукав. Железные койки в два этажа. Подсумки, ремни, пузырьки с ружейным маслом — давно брошенное солдатское добро. Еще дверь, тоже железная. Вошли. Фонари осветили стеллаж с рулонами.
Картины!
Они несколько утешили нас. Сторицын ликовал, шумно благодарил Людвига.
— Брюллов, Карл Брюллов, замечательный наш живописец, — объяснял мне Порфирий Степанович. — Сколько света, а! Гроздь винограда налита соком, солнцем, — сейчас брызнет из нее! Его «Итальянский полдень» знаете? Так это, очевидно, вариант. Впрочем, вы ведь полнейший неофит. «Последний день Помпеи» тоже небось не видели? Ох, Ширяев, попадите только ко мне после войны!..
Людвиг, снова поразмыслив, назвал еще один бункер. Но туда мы попали не сразу — вход завалило рухнувшей стеной кирки. Нам помогали саперы.
Замелькали горячие дни. Я и Сторицын — мы очутились во главе экспедиции. Да, целой экспедиции по розыскам Янтарной комнаты.
Энергичным помощником Сторицына стал… старшина Лыткин из автопарка. Добился-таки своего!
При переводе его к нам открылось прошлое старшины — отнюдь не безупречное. Два раза был осужден за растрату, в армию пошел из тюрьмы добровольно, чтобы смыть свою вину кровью.
Навыки десятника Лыткин приобрел в лагере, и они пригодились, — никто другой не умел так расставить людей, так наладить труд, когда надо было разбирать обломки, взрывать завалы, прокладывать лопатами путь в какой-нибудь бункер. Командовал он зычно, весело, с прибаутками:
— А ну — плечиком! А ну — пузиком! Эх, зеленая! Идет — идет, сама пойдет! Эх, милашка — семь пудов!
Наведавшийся как-то к нам Чубатов озабоченно сказал мне:
— Лексикон прошлого столетия! Откуда у него эти бурлацкие словечки?
— Не играет роли, — сказал я сухо.
С Людвигом фон Шехтом я свыкся. Работал он неплохо, держался просто, не заискивал. О научных своих работах говорил редко, а если спорил со Сторицыным, то очень деликатно.
— О, нет, я ничего не утверждаю, — говорил он. — Но социализм в Западной Европе? Это не умещается в наше сознание. Нет. Путь Америки нам ближе, по нашему складу, по духу. Мы слишком индивидуалистичны.
Мне он как-то сказал:
— У вас, русских, есть что-то от Востока. Коллективизм степей, полчищ Тамерлана и Чингисхана.
— Они, мне кажется, ближе к вашему Гитлеру, — сказал я. — А для нас всегда были врагами.
Сторицын был доволен. Его немецкий коллега, по-видимому, искренне переживал каждую нашу неудачу, вместе с нами ломал голову над загадкой Янтарной комнаты.
Как-то раз в одной из квартир Теодора фон Шехта мы обнаружили любопытные документы. Теодор вел дела с американской торговой фирмой.
Вот что ему писали:
«Ваше предложение заинтересовало нас. Но в силу того, что США являются союзниками России в этой войне, открытая закупка нами картин, названных Вами, в настоящее время затруднительна».
За точность текста не ручаюсь, но смысл был именно таков. Они, видите ли, стеснялись открыто принять картины, награбленные Теодором! И Теодор понял намек и привез к себе на виллу художников, замазывать картины. Их, стало быть, готовили к отправке за океан!
По совету Бакулина я рассказал Людвигу фон Шехту о событиях на Кайзер-аллее — о Кате Мищенко, пропавшей без вести, о Бинемане, об убийстве Кайуса Фойгта. Лицо Людвига выражало любопытство, даже некоторое недоверие.
— Несчастный Фойгт! — произнес он. — Да, я слышал кое-что, мне говорили. Это почти невероятно.
Знаете, у нас издавали детективные, романы, одна марка за книжку. Очень похоже!
Нет, тут он ничем не мог быть полезен.
В своих мечтах я представлял себе схватку, — да, смертельную схватку с врагом, с убийцей Фойгта, и непременно на пути к Янтарной комнате. Он стережет ее, он следит за нами исподтишка. Он постарается помешать нам, нанести удар, как только мы будем у цели. Но мы захватим его живьем, и тогда мы узнаем все. Разъяснится самое главное — судьба Кати.
Но Янтарная комната не давалась нам. Мы вламывались в подвалы, рыли землю, взрывали тонны кирпича, а она словно противилась нам и — будто заговоренный клад — все глубже уходила в недра.
15
Вскоре я начал еще один поиск. Свой, личный…
Однажды я ехал по «городу развалин». Машина сошла с израненного асфальта, зашуршала по дощатому настилу. Он навис над краем воронки, глубокой воронки от тяжелой бомбы. Внизу крутилась вода. Грязная, цвета ржавчины, с хлопьями нездоровой серой пены, она стремилась куда-то по подземному руслу. Взрыв обнажил его здесь.
Под кирпичной осыпью выступали бетонные берега потока. Из него, словно мачта потонувшего судна, торчала железная балка. Такой же поток там — под домом «черноголовых». Мне представилась арка, черное отверстие туннеля, поглощавшее воду. А что, если…
Машина оставила за собой настил, нас затрясло на выбоинах мостовой, но я не ощущал их. Догадка захватила меня. Дома вокруг того квартала на Кайзер-аллее снесены начисто. Воронок там много. Катю могло вынести в воронку.
Я не сказал никому — ни Сторицыну, ни Бакулину. Здание моей надежды было слишком зыбким.
Вечером я отправился на Кайзер-аллее. Долго я бродил среди руин, одолевал хребты битого камня, завалы железа, путаницу проволоки. Слушал, не шумит ли вода. Свистал ветер, перебирал смятые лоскуты кровли, рвал белую тряпку на шесте, воткнутом в блиндаж.
Дня два спустя я повторил попытку. На этот раз мне больше повезло: я набрел на воронку, залитую водой.
Это мог быть тот самый поток от дома «черноголовых». Рухнувшая кладка образовала рифы, вода пенилась, плескалась. Глухо стучала о кирпичи помятая каска, подхваченная течением.
Сумерки сгущались, вода темнела, но я не уходил. Стук словно прибивал меня к месту.
Неожиданно вплелся другой звук. Покатились, посыпались в воду обломки, потревоженные кем-то. Я вздрогнул, обернулся. На берегу, повыше того места, где я стоял, обрисовалась сгорбленная фигура.
— Русский офицер? Вы ищете что-нибудь?
Немец был очень стар. Голова его тряслась. Зачем он здесь, в «городе развалин»?
— Мы живем тут, — сказал он. — Хотите посмотреть? Пожалуйста!
Мы поднялись, вошли в траншею. Низенькая хромая старушка ковыляла у костра. В котелке что-то кипело.
— Каша, — сказал старик. — Ваша русская каша, — повторил он, выговаривая это слово старательно, с нежностью.
— Каша, — как эхо, откликнулась старушка. — Эти санитарки такие хорошие! Ваши санитарки… И красивые. О, вам хорошо, у вас красивые женщины. Правда, Франц?
Вчера санитарки уехали. Они квартировали тут недалеко, в бункере. Жаль, что их уже нет. Они угощали картофельным супом, хлебом и кашей, а одна принесла даже масла, — много, почти полстакана. Перед отъездом санитарки пришли проститься и подарили десять пакетов каши. Она называется — кон-цен-трат. Вкусная, с жиром, очень питательная.
Старушка подняла с земли стакан, всхлипнула и доказала, сколько в нем было масла.
— Не плачь, Герта, — сказал старик. — Вы простите ее. Она всегда плачет, о чем бы ни рассказывала. Плохое или хорошее — все равно плачет.
Давно ли они живут тут, в землянке? Оказывается, недели три. Да, они и во время штурма были тут. В первый же день сюда прорвались русские танки.
— Мы не высовывали носа, — говорил старик. — Один танкист открыл нашу дверь и спросил… Что он спросил, Герта?
— Откуда течет вода в воронку, — молвила старушка, помешала душистую гречу и облизнулась.
— И что вы ответили?
— Вода из Прегеля, пить ее нельзя. Бог знает, по каким трубам она идет.
— Больше он ни о чем не опрашивал?
— Нет.
— Лицо у танкиста было красное. Герта, — старик хихикнул, — решила, что у ваших такая кожа, Вы же красные, — он опять смущенно хихикнул. — Но я сказал: «Герта, ты наивный ребенок. Парень разгорячен, ему так жарко в башне танка, вот и все». А она… Это смешно, правда?
— Да, — ответил я, думая о своем.
Правильно ли он понял танкиста?
Вряд ли танкист собирался пить из ямы. Ясно же, вода грязная. Он сам видел. Но, может быть, было темно? Нет, светло, коли он заприметил землянку. Танкисты подобрали Катю! Да, подняли ее, раненую, и хотели разузнать…
Старик подтвердил: было светло. Я задал ему еще вопрос.
— Странно. — Он переглянулся с Гертой. — Я не слышал ни о какой фрейлейн, но… Странно, странно. — Он опять посмотрел на Герту и пожевал губами. — У нас нет надобности лгать, бог свидетель! — Старик заволновался. Я поспешил успокоить их.
— Я верю вам, — сказал я.
— Сущий ад, — проговорил старик. — Дома здесь разнесло еще осенью, а тут, когда вы пошли штурмом, все перепахало сызнова. Боже мой! Фрейлейн, возможно, пряталась в воронке, — ведь в воронке безопаснее. Хотя куда там! Один кирпич десять раз перевернется, пока не успокоится, — вот как теперь воюют. Мы не станем врать. Мы не высовывались, мы боялись. Я и тому господину так сказал.
— Какому господину?
Я шагнул к Францу и едва не опрокинул котелок с гречкой.
— Он не назвал себя. Когда он приходил последний раз, Герта? Позавчера? Нет, — он загнул пальцы, — три дня назад, во вторник. Зачем? Ах, вы не знаете его! Он спрашивал то же самое, насчет фрейлейн…
— Как он выглядел? — сыпал я вопросы. — Русский или немец?
— Немец, — сказал старик. — Он не дал нам своего имени и не велел зажигать коптилку. Было темно, как сейчас. Нет, еще темнее. Верно, Герта? Крупный мужчина, немец, вот все, что я могу вам…
— Каша! — вскричала Герта.
Старики бросились снимать котелок. Герта вытерла глаза тряпкой и кинула ее на табурет.
— Кон-цен-трат, — произнес старик. — О, она очень богата жиром, ваша русская каша!
— Куда он пошел от вас? — опросил я.
— Бог его ведает! — Старик достал носовой платок и обтер ложку.
Я простился.
Траншея вывела меня к воронке. Внизу, как черное чудовище, шевелилась, шипела вода. Я оглянулся. Если бы не отсвет догоревшего костра, я ни за что бы не нашел сейчас дорогу обратно, к землянке Франца и Герты.
Впереди по Кайзер-аллее катился грузовик, время от времени включая фары.
«Немец! — повторял я про себя. — Немец! Кого из немцев касается судьба Кати? Кайуса Фойгта нет в живых. Цель явно недобрая у этого немца, потому он и скрытничал. Кто же он? Это тот — третий! Убийца Фойгта! Катя опасна для него, потому-то он и явился ночью к старикам. Значит…»
Я чуть не закричал от радости. Значит, он сам не знает в точности, что с Катей. Он не видел ее мертвой. Она, верно, ускользнула от него…
Танкисты вытащили ее из воронки, в крови, без сознания, сдали в медсанбат. Оттуда Катю отправили в тыл, она долго не приходила в себя, но ее спасли. Конечно, спасли! Иначе быть не может!
Так я и скажу Бакулину: Катя спасена!
Майора я застал дома. Он читал. Лампа освещала заголовок: «Понятие виновности».
— Пора подзубрить, — сказал он, отодвигая книгу. — Скоро штатское надевать. Ну, что у тебя?
Я рассказал.
Мчась к нему, я рисовал себе, как он улыбнется, похвалит меня, скажет: «Весьма вероятно». Он любит это слова — «весьма». Наконец-то и я пригодился! Да, я сделал важное открытие, отрицать он не станет.
Слушал меня Бакулин внимательно. Но я не слышал от него «весьма вероятно». Он кивнул и точно забыл о моем существовании. Прикрыв глаза, он сидел некоторое время неподвижно, свет лампы падал на его усталое лицо.
— Что ж, так оно и выходит, — молвил он в ответ на какие-то свои мысли. — Весьма естественно. Дело идет к развязке.
16
Да, развязка близилась.
Сейчас мне кажется — я сам ощущал это в те дни. Утверждать не берусь. Но, разумеется, воображение рисовало мне картину последней схватки во всех подробностях. Погоня среди руин и в лабиринтах подземелья, ожесточенная перестрелка где-то в бункере, близ замурованной Янтарной комнаты, фигура врага, прижавшегося к стене, побежденного, с поднятыми руками…
Нет, не так все закончилось.
Видную роль в завершающие дни поиска неожиданно сыграл старшина Лыткин.
Я мало вам рассказывал о нем. Одно время он вызывал у меня чувство настороженности — очень уж он рвался к нам. Может, из корысти? Вскоре оно прошло. Сторицын — тот нахвалиться не мог Лыткиным: работяга, прекрасный организатор.
Однажды во время перекура Лыткин подсел ко мне. Он долго, старательно свертывал цигарку.
— Наше, солдатское, — сказал он. — Сигареты что, никакого впечатления! Мираж, по сути дела. Эх! — Он с наслаждением затянулся. — На гражданке что будем курить? Вопрос!
Глаза его смеялись.
— Не пропадем, — бросил я.
— Махры-то хватит, — согласился он. — Трава! А ремешок армейский не сниму. Пригодится.
— Зачем?
— Живот подтянуть потуже.
Веселость в глазах исчезла, ее как будто и не было никогда. Угрюмая тень набежала на лицо, оно обтянулось, отвердело.
— Для вас, может, кринки в чулане стоят… Добро пожаловать! За ложку — и к сметане!
— С чего вы взяли, старшина! — отрезал я. — Какая кринка? Пойду на свой завод и учиться буду.
— На кого же?
— Пока одни предположения, — ответил я нехотя. — Думаю, на следователя.
Да, я хотел пойти по стопам Бакулина. Из любви к нему его профессия увлекала меня. Сейчас смешно вспомнить…
— Работа пыльная, — сказал Лыткин. — Вся на нервах. А ставка? На восемьсот бумаг сядете. Я имею понятие, что значит следователь. Сталкивался.
— Деньги не решают, — сказал я.
— Да? — Он поглядел на меня не то с удивлением, не то с радостью. — Не решают, говорите? Вопрос! Человек, он ведь, черт его знает, какая скотина, — произнес он жестко. — Сколько ни дай, все ему мало!
— Кончай курить! — крикнул Сторицын совсем по-военному. Он стоял на горке битого кирпича, красной, умытой дождем, и оглядывал свое войско, вооруженное лопатами, кирками, — прямо командующий на наблюдательном пункте.
Лыткин с сожалением поднялся. Он явно хотел сказать мне что-то еще. Помедлил, потом разом выпрямился, поправил гимнастерку, лихо, обеими руками приладил на лысой голове фуражку.
— Кончай курить! — гаркнул он.
Разговор этот с Лыткиным вспомнился мне дня два спустя. Был в нашей группе сержант Володя Сатраки, грек, бывший сочинский парикмахер. Озорной, всегда с шутками, с анекдотами, неподражаемый имитатор. Где хохот — там Сатраки.
— Худо, хлопцы, худо! — донесся до меня однажды голос Лыткина. — Встали на путь разгильдяйства. Растопыренно работаем, нет этой… сконцентрированности. Я персонально тыкать пальцем не намерен… но…
В кругу солдат, стонавших от восторга, похаживал Сатраки. Он в точности копировал старшину.
Я двинулся туда, чтобы одернуть сержанта. Высмеивать старшего по званию в армии не положено. Но, признаться, сак не удержался, прыснул!
— Володя! — крикнул кто-то из солдат. — Ты покажи, как старшина с фрицем говорит!
Фрицем и еще, за вежливость, «гутен моргеном» звали Людвига фон Шехта. Странно, однако! При мне Лыткин ни разу, не говорил с Людвигом, если не считать неизменных, повторявшихся несчетно в течение дня «гутен морген», «гутен таг», которыми оба обменивались на ходу.
Когда Лыткину требовалась какая-нибудь справка от Людвига, старшина обычно обращался через Сторицына или через меня.
Сатраки между тем не заставил себя упрашивать. Немецкого он не знал, сыпал слова, лишь по звучанию напоминавшие немецкую речь, получалось бесподобно! Я не мог его остановить, не было сил.
Потом я отвел сержанта в сторону:
— Когда Лыткин говорил с немцем?
— Вчера. Похоже, они о чем-то условились. Старшина твердил: «Гут, гут».
Улучив момент, мы с сержантом осмотрели место встречи Лыткина и немца. Случай сохранил среди развалин клочок зелени — сгусток акаций, напоминание о погибшем здесь, под обломками, сквере.
Странно, очень странно! Что общего между ними! И тут ожили, разумеется, прежние мои подозрения. Слово за словом восстановил я в памяти недавнюю беседу мою с Лыткиным — о планах на будущее. «Человеку все мало», — повторялось в мозгу.
Вечером я явился к Бакулину.
Он и эту мою новость принял как должное. Нет, ничем его не удивишь!
— Ты что, серьезно следователем решил стать? Брось, брось! У тебя же, милый мой, все на лице написано. Выдержки никакой. Нет, нет, выкинь из головы!
Я молчал. До слез он расстроил меня. Взял, да и уничтожил одним махом Ширяева-следователя.
— А насчет Лыткина… Ну, беседовал с немцем! Это же не преступление! Что еще ты знаешь о нем? Ну, просился к Сторицыну. Тоже не грех. Русский человек любит поиск, ты заметил?
Майор раскрыл папку, полистал бумаги, потом закрыл, отодвинул.
— Три медали «За отвагу», один орден Красной Звезды. Бравый старшина! В тылах он недавно, после ранения, а так — всё на передовой. Положим, героем он не всегда был, как тебе известно.
Да, конечно, известно. Но это как-то не тревожило меня до сих пор. Все довоенное для меня как бы отрезано ножом войны. Начисто отрезано. К тому же натура моя попросту не ведала и не признавала жадности к деньгам, к приобретению добра. Ну, воровал он прежде! Но ведь воевал, через огонь прошел.
Сам я презирал и сейчас презираю всякую громоздкую собственность. Вы видите, как я живу? Жена говорит: «Ты не от мира сего, Леонид! Воют сосед дачу строит. Чем мы хуже?» Но я думаю: я как раз от нашего мира. «Наше» — всеобщее наше — оно и богаче и веселее липкого «моего». Не гнетет, не лезет тебе в душу.
— Я сам Лыткина отхлопотал, взял к нам, — сказал Бакулин. — Меня предостерегали. Запятнанный, мол. Анкета, что она, — гарантия от ошибок? Да не нужны мне такие гарантии! Проще всего, убоявшись ошибок, бумагами от жизни отгородиться. Да что толку! Изучать людей надо, Ширяев! Без предвзятости, душевно! Тем более в данной обстановке. Люди прикасаются к ценностям. А люди… они разные, Ширяев.
— Ясно! — сказал я.
Оберегать ценности, доверять и в то же время не забывать о контроле — об этом Бакулин напоминал не раз. Мне опять стало не по себе. Вот к чему свел наш разговор Бакулин. Или он не все открывает мне?
Майор еще раз посоветовал быть внимательнее к людям, узнать их получше, и отпустил меня.
Дня три я приглядывался к Лыткину, заговаривал с ним. Он отвечал односложно, отчужденно, словно боялся меня. Я мучился, строил догадки. Ведь быть в стороне я не привык, не такой характер. Наконец вечером, после работы, Лыткин подошел ко мне.
— Дело есть, лейтенант, — сказал он.
Произнес он эта слона как бы вскользь, с той грубоватой фамильярностью, которую иногда позволяет себе в отношении к офицерам бывалый старшина.
— Слушаю, — сказал я.
— Ужо, как стемнеет, — молвил он тихо, — ко мне приходите. На автобазу. Прошу вас.
Тотчас возникла в памяти хибарка за кладбищем — из кусков кровли, из старых досок; загородка для кур, белая несушка на плече у Лыткина.
— Очень нужно… Придете?
— Хорошо, — ответил я.
Хибарку я едва нашел в темноте. Штора светомаскировки плотно закрывала единственное оконце.
Ничего не изменилось внутри — те же рекламные плакаты: лампочки «Осрам», автомашины «мерседес» — и среди них пестрядь дорожных знаков, пособие для водителя в Германии. Откупоренная бутылка шнапса красовалась на столе. Старшина, видимо, уже хлебнул из нее. Он волновался. Со стуком положил вилки, взрезал банку со шпротами, неуклюже искромсав крышку.
— По маленькой, а? — Он поднял бутылку, поболтал. — Не желаете?
— После, — сказал я.
— Ладно. — Он отодвинул все локтем, сел рядом, подался ко мне.
Я ждал.
— Молодой, вы, — протянул он. — Молодо-ой. Не жили еще совсем, по сути. Вы простите.
— Пожалуйста, — сказал я.
— А я только вам хочу сказать. Вам первому. — Он утюжил кулаком клеенку на столе. — Почему? Сам не пойму. С вами вот легче как-то.
Некоторое время он молчал, словно поглощенный созерцанием узора на клеенке, потом встал, откинул занавеску, снял что-то с полки, звякнув посудой.
На столе заблестело кольцо. Гладкое, массивное кольцо, должно быть золотое. Мне хотелось слушать Лыткина, и я не мог понять, при чем тут кольцо.
Лыткин засмеялся, подбросил кольцо на ладони, подал мне:
— На, лейтенант, подержи!
Это еще что!
— Во сколько ценишь? — Он смеялся, совал мне кольцо. Кровь прилила к моим щекам. Я резко отвел его руку.
— Откуда у вас? — спросил я строго.
Он осекся.
— Простите, — выдавил он. — Вы решили — Лыткин вор. Да? Правильно? Нет, я не вор. Я был вором… Подождите, сейчас… Вот еще одна вещь.
Квадратная серая коробочка появилась на столе. Внутри на малиновом бархате переливался мелкими водянисто-светлыми камешками полумесяц. Голубые и желтые огоньки теплились в этих камешках.
— Тоже оттуда, — услышал я. — От Штабеля.
Несколько дней назад мы расчищали квартиру Штаубена, полуразрушенную, заваленную обломками, Штаубен — солдаты переиначили фамилию на «Штабель» — был одно время старшим хранителем музея в Орденском замке. Адрес нам Дал Людвиг фон Шехт. Он рассчитывал обнаружить трофейные ценности. Но мы напрасно трудились там, Штаубен жил скромно.
— Нет, Лыткин не вор, — повторил старшина. — Как вы прикажете, так и сделаю. Желаете, вам подарю, чтобы вам лучше устроиться на гражданке. А в чем дело! — Он повел плечом, увидев мой протестующий жест. — Вещи не наши, фрицевские, хозяин помре, как говорится… Находка, счастье! Не для меня только. Мне-то как раз и нельзя их иметь. Не поняли?
— Пока нет, — сказал я.
— Майор вам ничего обо мне?… — Хороший он мужик, Бакулин, а с вами легче мне. Не знаете, стало быть? Не знаете, как я в армию попал? Из тюрьмы! Я два раза сидел. — Он заговорил быстро, с гримасой, словно старался скорее выложить все, сбросить с языка эти нелегкие слова: — За растрату попал. В торговой сети я служил до войны, в Ростове. Была у меня фантазия — сто тысяч иметь. Вам смешно? Ни больше ни меньше — сто тысяч. Цифра очень веская. Сто тысяч. Дико для вас? Да?
Да, пожалуй, дико. Я никогда не мечтал иметь сто тысяч. На что мне столько!
— На войне все это вроде сошло. Война — она как баня. Пар у нее горячий, до костей прошибает. На автобазе я ни в чем не замечен, начальство мое вам подтвердит, если нужно. И вот — вышел же случай!..
«У него план тайников! — подумал я. — План, который был у Бинемана. Артиллеристы — те, что наткнулись на «оппель» с мертвым Бинеманом, — взяли его бумаги и вручили старшине…» Такая мысль и прежде приходила мне в голову. Но нет, все оказалось проще.
— Помните, встретил я вас и Порфирия Степановича на этой как ее… на улице Мольтке, что ли…
Лыткин не соврал тогда, он действительно ходил по дворам в поисках заброшенных гаражей, собирал запасные части. О сокровищах, скрытых в Кенигсберге, понятия не имел, пока не разговорился со Сторицыным. И тут неожиданно вернулась старая болезнь.
— Сосет и сосет, будто пьяницу к водке тянет. Миллионы лежат! Сам себя казню; есть же, размышляю, люди, которым это золото, допустим, или деньги — без вреда, занозой не впивается. Взять лейтенанта нашего! Тогда я нарочно с вами речь затеял, увериться хотел. Видишь, говорю я себе, не все такие, как ты. Не все!
Я слушал старшину потрясенный. Никогда еще взрослый человек, старше меня годами, не открывал мне так свою душу, с такой жестокой, режущей прямотой.
Вроде двое во мне. Один, ровно следователь, допрашивает — ты что замыслил? На прежнюю дорожку? И ведь обманываю себя, будто из чистого интереса к вам иду работать, а золото — разве только потрогаю его… А тут — вот это добро. Сперва колечко — бог его ведает, откуда оно выкатилось прямо мне под ноги. А подвеска эта… Ишь, играет, а? Фриц наш, «гутен морген», мне «берите» говорит. Нихт руссиш — не русское, мол, законный твой трофей. Мы вас, мол, разорили, так надо же вам поправить свои дела. Умеет подойти, гад! У Штабеля на квартире, может заметили, чудной такой комод стоит. Красное дерево. Ящички маленькие, с костяными пуговками. Он, фриц, мне и посоветовал в ящиках пошарить. Хвать — бриллианты! «Гутен морген» поглядел, говорит: «Вещь не музейная, возьмите себе. Я старый, мне не требуется». Принес я домой, любуюсь — какая благодать досталась! Ослепило меня. А немного погодя, как поостыл, напало на меня сомнение. Дом-то в прошлом году разбомбило! Теперь обратите внимание, коробка обшита дермантином, иначе сказать — чертовой кожей. Так!
Лыткин совал мне коробку. Я подержал ее. При чем тут дермантин?
— Поскольку я товаровед, вопрос для меня знакомый. Материал прочный, однако от сырости на нем непременно вскочит плесень. Шагрень — та гниет, а это от грибка страдает. Видите, царапины есть, запачкано, а плесень где? Хоть бы пятнышко! То-то и есть. Лежала вещь полгода в холоде, в сыром помещении? Нет!
Лыткин отшвырнул коробку. Теперь я понял. Людвиг подложил ему драгоценности.
— Так точно, — молвил старшина. — Подстроил. Иначе и быть не может. Потом я скумекал, ящички в комоде все заклинило, а этот один, с гостинцем для меня, как по маслу выехал. Значит, открывали недавно.
Какой-то частью сознания я все время ждал худого от Людвига фон Шехта. Людвиг… И все-таки это было неожиданно. Только вчера Людвиг отличился, помог найти иконы древнего письма, увезенные из Киева. Они лежали в порту, в пакгаузе, среди рулонов зеленою шинельного сукна. Одна — работы живописца Рублева. Людвиг фон Шехт, профессор, кабинетный ученый, буквоед и книжный червь, как его охарактеризовал Сторицын, тайком подкупает зачем-то Лыткина. И, быть может, чужим, краденым добром. Мне слышался ровный, спокойный голое Людвига: «Человек Запада индивидуалистичен…»
Так вот к какой практике он перешел от своих теорий!
— Сулил к десяти, — сказал Лыткин. — Скоро уж… Я потому и позвал вас.
— Он придет?
— Обещался.
— Когда? Сегодня условились?
— Поймать хотите, — произнес он с укоризной. — Э-эх, товарищ лейтенант! Я, простите, вокруг пальца вас обвел бы. Простите, — повторил он мягче. — Третьего дня условились. Вас, ровно, не видать было.
— Имеются данные, — сказал я сухо, задетый его словами. Мне следовало бы оставить, сейчас же оставить этот напускной тон дознания, не свойственный мне, ненужный. Лыткин не скрывал от меня ничего. И и чувствовал это, но из нелепого упрямства начал форменный допрос.
— Какая цель у немца? На что он рассчитывает? Имеете представление?
— Никак нет.
— Не намекал он вам?
— Никак нет.
Лыткин замкнулся. Он потемнел, руки его мяли клеенку.
— Коли не верите мне… Не знаю, как тогда… Арестуйте! — выкрикнул он. — Арестуйте! Обратно его за решетку, Лыткина! Пусть отсидит остаток, четыре года! Так его…
— Брось, старшина, — сказал я.
Мне стало неловко.
— Что ж, может, и правда, — молвил он тихо, в раздумье. — Недостоин я лучшего. Я спрашиваю себя: От кого ты берешь, Лыткин? Как же ты допускаешь такое? Люди с победой до дому, а ты под Гитлером окажешься! Людям праздник, салют из орудий, а тебе?
Он судорожно раскрыл футляр, сунул туда кольцо, нажал. Внутри что-то хрустнуло.
— На, лейтенант! Освободи меня! На, сдай куда следует…
— Хорошо, — сказал я и положил футляр в карман. Я не посмотрел, что там сломалось.
Зашипели на стене ходики, из оконца выглянула кукушка, нелепая, в зеленых пятнах и с красной головой, пискливо прокуковала. Половина десятого, через полчаса он явится…
— Не желаете ли? — Лыткин пододвинул мне рюмку. — Нет? Верно, нам-то, пожалуй, и не стоит. А вот его не мешает угостить, чтобы язык развязал.
Время шло медленно. Мы поглядывали на часы, отщипывали хлеб, жевали. Мучительно долго тянулись эти полчаса.
17
Мы прождали еще полчаса. Наконец тиканье ходиков сделалось совершенно невыносимым.
— Неладно, лейтенант, — сказал Лыткин. — Где он живет, вы знаете?
Я встал, надел плащ. Старшина снял с вешалки портупею с пистолетом, шинель.
— Вы оставайтесь, — сказал я.
Он смутился.
— Вдруг, он еще придет, — объяснил я. — Тогда вы… Вам тогда задание…
Задание столь деликатного свойства я давал впервые. Конечно, я с радостью доложил бы Бакулину или Чубатову. Но телефона под рукой нет. Решать надо самому. Разумеется, Лыткин должен быть здесь. Другого выхода нет. И опасаться нечего. Если Людвиг фон Шехт придет, он примет его, угостит, заставит выложить карты.
— Не спугните только, — напомнил я…
— Полный порядок, — бойко отозвался Лыткин. — Не сомневайтесь…
Лицо его просветлело. И у меня исчезли последние сомнения. Я сознавал теперь: ему можно верить. Ему обязательно необходимо верить, этому человеку, одолевшему врага в очень суровом сражении. Да, возможно, в самом трудном из всех, какие ему довелось пережить.
Я выбежал на шоссе. Попутная машина помчала меня на Шлезвигерштрассе.
«А что, если он скрылся!» Эта мысль мучила меня, торопила, не давала и минуты покоя. Да, заметил меня, понял, что дело проиграно, и исчез в Кенигсберге, в одном из его бесчисленных бункеров или среди руин «города развалин».
Было около полуночи, когда я поднялся на крыльцо особняка и позвонил. Мне открыл Чубатов. Я был слишком взволнован, чтобы чему-нибудь удивляться. Я готов был броситься на шею Чубатову, расцеловать его.
— Где Лыткин? — спросил он.
— У себя, — ответил я, переводя дух. — Ждет. Я велел ему…
— Сейчас это уже не суть важно.
«Не суть важно», «не суть важно», — повторялось во мне, пело во мне. Значит, Людвиг не ушел.
— Доложите майору, — сказал Чубатов.
Я вошел в комнату — высокую, пеструю от множества разных вещей, собранных здесь, как в магазине. За стеклами поставцов, на столиках, на тумбочках стояли вазы из фарфора и хрусталя. Одна ваза — на ней свирепо размахивал ятаганом японский самурай в золотой одежде — лежала на коленях у Бакулина. Он выгребал из нее письма, квитанции…
Бакулин улыбнулся, завидев меня. Лучше всяких, слов говорила эта улыбка, что все обошлось благополучно, Я должен был доложить, встать как следует и доложить, но слова не шли, что-то сдавило мне горло.
— Ох, я так боялся, — выдавил я наконец. — Так боялся, что Людвиг сбежит.
— Теперь не сбежит, — произнес майор. — Как ты сказал? Людвиг? Нет, не Людвиг.
— Много событий принес этот необыкновенный день, но оказалось, у него есть еще новость в запасе. Самая удивительная.
— Не Людвиг? — спросил я растерянно.
Какой-то предмет лежал на столе, обернутый клетчатым носовым платком Чубатова. Бакулин откинул уголок платка. Выглянул ствол пистолета.
— «Манлихер», — сказал майор и бережно закутал. — У разных людей побывал, однако отпечатки могут пригодиться. Вот этим, — он опустил сверток на кожаный бювар, — был убит Фойгт. Пистолет Кати, по-видимому. Нет, нет, Ширяев, — глаза Бакулина лучились, — профессор Людвиг фон Шехт не убивал. Он владел только пером. А главное, профессора давно нет в живых. Он умер на другой день после взятия Кенигсберга, в госпитале, от болезни сердца.
— Так кто же…
— Теодор, — услышал я. — Теодор фон Шехт.
У меня потемнело в глазах. Теодор! А Людвига, значит, нет, Людвиг — только его личина… Или я не понял Бакулина? Он, верно, хотел сказать что-то другое…
В отношении человека, называвшего себя Людвигом фон Шехтом, меня никогда не покидала настороженность, но такого поворота событий я не ожидал. Хотя бы уже потому, что этот человек казался мне, юноше, стариком. Он — седой, с гривой маслянисто-серых волос — Теодор фон Шехт! Он — убийца! Возможно ли?
Не вдруг узнал я от Бакулина, как выплыла наружу уловка подполковника из эйнзатцштаба.
Первое подозрение заронил Сторицын. Да, Сторицын! Он как-то пожаловался Бакулину: фон Шехт избегает разговора на научные темы, отделывается общими фразами. Странный ученый! Бакулин затребовал из библиотеки города труды Людвига фон Шехта. Отыскалась книжка, неизвестная Сторицыну, нацистская книжонка о германском национальном духе. Людвиг доказывал, что только германцы, высшая раса, могут создавать высшие ценности искусства. Может быть, фон Шехт просто боялся Сторицына, скрывал свое лицо фашиста?
Или…
Можно было бы отыскать людей, служивших при Людвиге в замке-музее. Но это было рискованно, Бакулин понимал, они могут предупредить фон Шехта, спугнуть. А сам фон Шехт отнюдь не стремился к таким встречам. Сторицын приметил и это.
Встречу с живым Теодором фон Шехтом Бакулин не исключал. «Кто убил Фойгта? — спрашивал он себя. — Кому он был опасен? Бинеман мертв. Точно ли умер фон Шехт? Не он ли — искомый третий?»
Оружие, гильза, найденная у амбразуры в доме «черноголовых», пуля, вынутая из тела Фойгта, — все бесспорно…
За фон Шехтом установили наблюдение.
— А сыграть роль брат-профессора ему было не так уж трудно, — сказал Бакулин. — Ученый-нацист и нацист-спекулянт, захватчик, — велика ли разница между ними? Две стороны одной сущности.
Притворно «помогая» нам, фон Шехт на деле хотел вымотать нас, заставить отказаться от розысков Янтарной комнаты, облюбованной им для своей коллекции.
— Понятно, он не надеялся, что его личина продержится долго. Намеревался бежать на Запад, к американцам. Уповал на то, что решать судьбы Германии — а в частности, и Кенигсберга — будут наши союзники. Но ему нужен был здесь свой человек. Он избрал Старшину Лыткина и обманулся.
Мне довелось быть на допросах фон Шехта. Он долго запирался. На вопросы о Кайусе Фойгте недоуменно пожимал плечами:
— Фойгт? Первый раз слышу.
— Ваш шофер.
— Недоразумение. Моего шофера звали Лютке, Альфонс Лютке.
— Марка машины?
— «Мерседес-бенц», легковая.
— А кто был на грузовой?
— У меня не было постоянной грузовой. Разные. И шоферы разные, имен я не помню.
— Имя Мищенко, Екатерины Мищенко вам знакомо?
— Нет.
— Ваша переводчица.
— Недоразумение. У меня переводчицей служила Клара Панке, немка из Поволжья.
Фон Шехта уличали свидетели, уличал «манлихер» с отпечатками его пальцев. Преступник изворачивался, запутывал следствие. Наконец он «вспомнил» Катю и Фойгта. Что с ними стало? Это ему неизвестно. Накануне штурма Кенигсберга он был нездоров, всеми делами ведал Бинеман.
Когда заходила речь о Янтарной комнате и других скрытых ценностях, фон Шехт отвечал либо односложными «не знаю», «не помню», либо молчал. Злобно молчал, сжав тонкие губы, вдавившись в кресло.
Однажды его прорвало.
— Не получите! — выкрикнул он. — Ни за что! В могилу я с собой не возьму… Но отдать вам? Знаете, чего я хотел превыше всех благ мира? Всегда хотел… Уничтожить вас. Вас и всех, кто с вами… О, я отдал бы все за это… За такое счастье… Все, до последнего пфеннига… Да, да, я убил Фойгта! Вот вам! Я убил!
— А что вы сделали с Мищенко? — спросил следователь. — Отвечайте!
Молодой следователь военного трибунала нервничал, курил папиросу за папиросой. Ему помогал, поддерживая спокойствием, опытом, Бакулин.
— Ее убил Бинеман, — выдавил фон Шехт. — Больше я ничего не скажу.
Суд приговорил Теодора фон Шехта к смертной казни. Его повесили.
Весть об этом догнала меня далеко к западу от Кенигсберга — в Бранденбурге. Там же я встретил и великий праздник Победы. С Бакулиным я расстался. Его назначили в другой немецкий город — в советскую комендатуру.
День Победы! Не было праздника радостнее для нас, переживших войну. Грохотом выстрелов огласился в тот день тихий немецкий пригород, где стояла наша воинская часть. Палили винтовки, пистолеты, палили вхолостую, в воздух, салютуя миру, сошедшему на землю. Земля пресытилась кровью, пресытилась железом, для мира надевала она свой весенний наряд.
Мои родные — отец, мать, сестренка, эвакуированные из Калуги на Урал, — остались живы. Но Катя! Надежды мои гасли, мне все труднее было верить в чудо.
И вдруг…
Было утро 12 мая. Забелели яблони, над ними гудели пчелы. Я сидел в саду с книгой, готовился к политзанятиям. За калиткой затормозил грузовик, с него соскочил незнакомый сержант и подал письмо.
— От лейтенанта Чубатова.
Я не спеша разорвал конверт. Что ему нужно от меня? Верно, справка какая-нибудь насчет Лыткина или… Не знаю, почему я подумал о Лыткине.
«Тов. лейтенант! Вам, наверно, будет интересно получить сведения о тов. Мищенко, и я воспользовался оказией, чтобы…»
Строки, написанные аккуратным чубатовским почерком, строго по линейке, затуманились, поплыли. Удержалась одна фраза на самой середине листка, подчеркнутая красным карандашом: «Врачи утверждают, что она будет жить».
Катя жива! Жива! Радость росла, распирала меня.
В конце письма Чубатов сообщил адрес госпиталя. В тот же вечер я принялся писать Кате.
Странные пути избирает юношеская любовь. Пока Катя была для меня где-то за гранью жизни и смерти, я не спрашивал себя, люблю ли я ее. Говоря с ней мысленно, я не произносил «люблю». Тогда она стояла выше этого земного чувства, зато теперь… какой-нибудь час раздумий и сомнений над листком бумаги — и я обнаружил, что влюблен в Катю бесповоротно!
Навсегда!
Я писал ей, писал полночи, рвал бумагу и снова брался за перо.
Катя ответила.
Я узнал наконец все. Катя рассказала мне, как Бинеман отвез ее на Кайзер-аллее, как открыл перед ней люк в библиотеке, показал путь к сокровищам, спрятанным фон Шехтом. Как появился перед ними фон Шехт, которого они — и Катя и Бинеман — считали умершим. А потом грянула канонада и привела обоих гитлеровцев в смятение, и фон Шехт, пошептавшись с обер-лейтенантом, отослал его, а сам предложил Кате спуститься в люк и пошел следом.
Когда лестница, пробитая в стене дома «черноголовых», осталась позади и Катя вошла в подземный коридор, воды еще не было. В какую сторону идти? Она оглянулась на фон Шехта, он держал пистолет. Катя выхватила свой, но фон Шехт выстрелил первый, попал ей в руку. Она выронила оружие, кинулась под свод коридора, побежала. Фон Шехт стрелял, ей обожгло плечо, бок. Ее фонарик выскользнул из пальцев, но не стук, а плеск донесся до ее слуха, он упал в воду.
Фон Шехт отстал. Катя все бежала, теряя последние силы, а вода настигала ее, — и вдруг свет, ослепительный свет дня ударил ей в лицо. Это последнее, что запомнилось ей.
Несколько часов спустя ее подобрали танкисты. Она попыталась сказать им о себе, но не успела даже назвать свое имя, — потеряла сознание. В медсанбате у нее началось заражение крови. Ее отправили в тыл.
Много ли было известно о ней людям, которые спасли ее в день штурма, и тем, кто лечил ее, отнял у смерти? Ее юность, ее мягкий, ласковый говор кубанской казачки и раны, четыре раны на теле, нанесенные врагом.
В ответ на мои пылкие чувства Катя писала:
«Я должна огорчить вас, Леонид, так как лгать я не умею. Вы казались мне замечательным человеком, настоящим героем, когда вы так храбро захватили врасплох немцев, и я ждала от вас еще подвига, — подвига доверия ко мне».
Вот и все. Я уже говорил, что испытанное мною в Кенигсберге в конце войны повлияло на всю мою жизнь. Нет, я не стал ни следователем, ни работником музея. Я — мастер Калужского турбозавода. Катя далеко. Вспышка любви к ней так же ушла в прошлое, как и моя юность. Но слова ее, простые хорошие слова о доверии, о подвиге доверия, — они всегда со мной.
Катя в Калининграде, работает в музее. Она не теряет надежды отыскать Янтарную комнату. Недавно она писала мне, что, возможно, потребуется и моя помощь.
Что ж, я готов!
ОТ АВТОРА
Кенигсберга — города-крепости, оплота прусской военщины — на карте больше нет. Есть советский город Калининград.
Поиски Янтарной комнаты продолжаются. Многие калининградцы — старые и молодые — мечтают разгадать тайну, вернуть Родине выдающийся шедевр искусства. Сильно препятствует вода, затопившая обширные подземелья. Откачать ее пока не удается. Планы катакомб гитлеровцами увезены или уничтожены.
Янтарная комната и другие ценности, спрятанные там в годы войны, еще ждут открывателей.
К ВАМ ИДЕТ ПОЧТАЛЬОН 1
Сюда, будьте любезны!
Да голову-то, голову нагните: хозяину шестой десяток идет, а дом старше.
Позвольте, я теперь полезу первый, а вы держитесь за меня. С улицы вы сюда как вступили, так, наверно, и ослепли, — правда? Правое перильце чуть отошло, а я всё никак не соберусь приколотить. Дом большой, хворый, тут хоть целый день молотком помахивай, всего не починишь.
Что, крутовато? Вы, небось, на пароходе намаялись, — по трапам вверх и вниз, — а тут опять физкультура и спорт. В городе лестницы посмирнее, да и вообще пути-дорожки там ровнее, чем у нас, всюду тебе замощено, везде лампочка Ильича светит. Хорошо бы и нам ее! У соседей есть, в Пахте, а мы не дожили до такой благодати. Говорят, в нашей речке воды мало.
Устали? Да, лестница для вашей комплекции тяжела. Тут во всех домах такие. Мы тут, в Курбатовке, все корабельщики. Рука корабельщика, она во всем видна. Строит он дом — и, глядишь, лестница ни дать ни взять — судовой трап, а проем в перекрытии узкий, на чердак мы с вами выбираемся словно из люка на палубу.
Сюда! Вторая дверь! Вот, будьте любезны, располагайтесь. Один приезжий, тоже из Чернолесска, всё охал да ахал. В городе бы такую комнату! В сельпо метр выпросил, измерил всю, потом спустился ко мне. «Счастливый вы, — говорит. — Знаете, какая там площадь?» — «Нет, — отвечаю я, — понятия даже не имею». — «У вас, — говорит, — двадцать четыре метра там, наверху, и всё это — излишки!» Что ж, так оно и есть. Пожалуй, у меня и внизу излишки, потому что живу я один, а во всем доме нас всего двое. Недаром Савва, наш председатель колхоза, всех командировочных ставит на квартиру ко мне. «Забирай, — говорит, — к себе, в свою гостиницу».
У меня тут, конечно, всё по-простому. Сами видите, какая гостиница. Пальто вешайте вот сюда, за печку. Портфель кладите.
И садитесь, покорно вас прошу. Нет, не на стул, — на диван, как положено гостю. Диван, правда, самодельный, жесткий — доски, накрытые половиком.
Да, дом большой, а жителей всего двое. Бывало, до войны, дом ульем гудел. Вон на стене, на карточках, сколько нас Мелентьевых, молодых и старых… Вы спросите, где они? Разлетелись кто куда, не подходит им, видишь, Курбатовка. Посередине на карточке, угадайте, кто? Не узнаёте меня? Где же! Двадцать лет прошло! Там я и Савва, наш председатель, в экспедиции, на борту ледокола «Садко». Лежбища морского зверя разведывали. Да, не всегда я был почтальоном. После войны пришлось, после ранения.
Нет, детей в доме нет. Я заметил, куда вы посмотрели. На Кольку, на игрушечного младенца. Это внучка мне подарила. «Тебе, — говорит, — дедушка, без меня будет скучно, так вот тебе мой Колька. Береги его, следи, чтобы не простудился, — он ведь голенький». Посадила младенца на комод, дала ему пучок ковыля.
Вы не в курсе — от природы ковыль такой желтый или красят его?
Прошлый год еще Костя гостил, племянник. Звал я его остаться. Где там! «У вас, — говорит, — на краю света, только Робинзону существовать». Вот как они рассуждают!
Не всякий у нас привыкнет, это верно. Сторонка студеная, иной раз и в июле голландку затопишь. Так ведь и здешние уроженцы и те норовят лыжню проложить отсюда!
Савва всё твердит: «Понимаешь ли ты, Евграф, что у тебя за должность! Сознаешь ли, сколь ответственную роль ты играешь в Курбатовке как почтальон? Не дай бог, залежится у тебя в сумке письмо. Что отсюда может быть? А то, что не получит человек письмо, затоскует, да и даст тягу. И так у нас людей не хватает, а если четкой почтовой связи не будет, ну тогда и вовсе беда».
Насчет моей роли Савва слегка перехватил. Не такая уж она выдающаяся. Не первый год хожу я с сумкой, но дом мой всё-таки пустеет. Как бы и Зина не улетела.
Это соседка ваша, — в комнате рядом. Тоже из. Чернолесска. Вы не беспокойтесь, она вам не помешает. Легкий она человек, легкий, как пташка. Шума от нее не больше, чем от ласточек, — вон там они свили себе гнездо на чердаке, под коньком. Встает она рано, но вас не разбудит, я думаю.
Ну, устраивайтесь. Отдыхайте. А я пойду. Пароход привез почту, до вечера ее надо разнести.
Холодно станет, затопить можно. Сумеете сами? Спички на полке, дрова на чердаке, как выйдете — налево. Июнь нынче не греет. А отчего? Полуночник дует, то есть северный ветер. Пока он не изойдет, тепла не жди.
Интересно всё же, кто вы будете? Я ведь всех знаю, кто у нас бывает. В сельпо ревизию наводит женщина — полная такая, в очках. Как везут ее в карбасе с парохода, по волнам-то, так она всё кричит: «Ой, девушки, хорошо как! Ой, славно бросает!» Морского, видать, племени. Из рыбаксоюза инструктор ездит к нам, так тот тощий, от табака весь пожелтел, против вас вдвое, я бы сказал, более мизерный.
Простите, не даю вам отдыхать. Пожалуйста, постель готова. Ложитесь. Время есть, впереди еще день целый.
Заведующая почту, верно, разобрала, так что я пойду. До скорого свидания!
2
Конечно, выговорить всё это приезжему человеку я бы постеснялся.
Правда, Савва, наш председатель, частенько шутит: «Тебе, Евграф, никак под язык репей засунули». Всё же сдержать себя, когда нужно, я могу. Тем более, товарища в море укачало, а тут уж не до разговоров. Нет, я не всё сказал ему, что думал. И уж, само собой, не допытывался, кто он и зачем.
Почта от меня — два шага. Прогончиком, мимо бани пройти — тут сразу и почта. Хотя и недолог путь, а меня не один раз остановили: всем любопытно, что за незнакомая личность пожаловала к нам в Курбатовку и поселилась у меня. Заведующая моя тоже, оказывается, гадает:
— Женатый или кавалер?
— В три обхвата боров, — сказал я. — Нет, Шура, кавалер из него такой же, как из меня.
Письма и газеты Шура рассортировала. Я сидел, а она надписывала извещения на посылки и на ценные пакеты.
Вдруг она изменилась в лице, и из рук ее выпало на стол закрытое письмо:
— Ой, Евграф Иванович…
— Ну, — говорю, — что у тебя, Шура? — И смотрю, почерк на конверте словно знакомый.
А она мне:
— От него, дядя Евграф, от него… Вот же…
И тычет пальцем в низ конверта, где обратный адрес.
Вот так фунт! От него, и правда, от него! От Алешки-матроса! Он самый, обожур ее, и пишет. Объявился!
Курлыкин А. П., Чернолесск, сплавная контора Северостроя — таков обратный адрес, и, значит, сомнения никакого нет — от него письмо, от Алешки-матроса.
— Оробела! — смеюсь я. — Читай! Почто? не читаешь, Шура, товарищ заведующая? Робкая же ты, оказывается.
А она:
— Боже упаси вскрывать, Евграф Иванович. Не мне ведь.
— Как не тебе? — спрашиваю. — Лизе, что ли? Или…
Лиза Гуляева тоже пострадала от него. Тоже жениться обещал. Есть еще Мотя Хомякова. У нас так и прозвали их — Алешкины вдовы.
Парень до бабьего пола охочий, а главное — настойчивый. Прошлым летом тут был, с бригадой плоты собирал из плавника. Летом наша молодежь вся на дальнем лове, а девки скучают…
Так думаю я, гляжу на конверт и вижу: в самом деле не Шуре письмо. И не Лизе. И вроде вообще некому это письмо получать.
— Совсем сдурел твой Алешка, — говорю, — от девок у него в голове помутилось. Кому пишет-то!
На конверте выведено:
«Курбатовка, Приморского района, директору разработок точильного камня».
А разработок у нас фактически нет. То есть, они должны быть. На бумаге-то они есть, и даже в областной газете было напечатано, будто у нас добывают точильный камень, или, по-нашему, пещуру.
— Наверно, Алешка из газеты и взял, — сказал я. — Вопрос, какое ему дело до камня. Человек он морской…
— Кто его ведает — морской или сухопутный, — молвила заведующая и отшвырнула письмо. — Он сам не знает, чего ему требуется.
— Несамостоятельный он, это верно, — согласился я. — «Я, говорит, — везде работник на все руки. Круглое катать, длинное — таскать». Я так думаю, Шура, заковычка у него вышла на сплаве: набедокурил, не за ту юбку ухватился… А что, был же случай, матрос капитанскую жену увел. До войны еще, на Мурманском берегу…
— Да ну его, — перебила Шура.
— Пропадет он через женщин, — сказал я. — Как говорил тралмейстер у нас на сейнере: «женщины что минное поле, — не предвидишь, где подорвешься». Балагур был. Нет, не знаю, придумать не могу, что у Алешки на уме. Выгнали, ну и ищет, куда податься. Вот, вот! — и я остановился на этой догадке. — Приедет, приедет камень ворочать.
— Нужен он мне! — молвила Шура, и на лбу ее, над курносым носом, вырезалась складка.
— Поглядим, нужен или нет, — сказал я посмеиваясь. — Так как же с письмом? Обратно ему отсылать за ненахождением адресата, что ли?
— Обратно, — молвила Шура, — И вообще, дядя Евграф, нечего ему тут делать.
Последние слова, однако, она произнесла не так твердо, чуть не с жалобой.
— Ладно, — говорю, — обратно так обратно, товарищ заведующая.
А самому себе я сказал: «Положим, Шура, иначе решить ты не имеешь права. А ну как я твое решение отменю и оставлю письмо у себя. И греха против службы тут не будет. Всё равно Алешки сейчас в конторе нет, время на сплаве самое горячее, а пока он бродит, может, у нас и начнут ломать пещуру и, значит, адресат появится. И Алешка сюда вернется. Ведь ясно же — письмо насчет работы, что? тут может быть другое! Я считаю, ему и надо вернуться».
— Верите или нет, Евграф Иванович, он мне не нужен. И Лизке не нужен.
«Ну, это еще мы посмотрим, — подумал я. Хотя, положим, девки у нас гордые, не городским чета».
Взвалил я сумку, набитую почтой, и отправился.
Так как мне всё равно идти тем же прогоном, мимо бани, то я не утерпел и зашел домой, проведать постояльца.
Он не ложился. Глядит в зеркало, скоблит бритвой седую щетину. Кофта на нем домашняя, полосатая, едва не лопается на животе.
— Как себя чувствуете? — спрашиваю.
— Получше, — говорит. — Спасибо. А вы как? Здо?рово нас подкидывало в лодке! Впрочем, на вас, как на аборигена, или, иными словами, как на местного уроженца, это, вероятно, не влияет.
— Истинно, — отвечаю. — Я коренной курбатовский. А вы издалека ли родом?
— Из-под Херсона.
Потом он сказал, что зовут его Григорий Казимирович Мелешко, а я ответил, что мне очень приятно познакомиться, и тоже назвал себя. И хотя на языке у меня вертелось совсем другое, я осведомился — не там ли, под Херсоном, растет трава ковыль и если да, то от природы она желтая или ее красят? Наверно, я бы еще долго так топтался на опушке, не осмеливаясь шагнуть в лес, да он сам помог мне:
— От природы белая, раз вам так нужно знать, да вы не стесняйтесь, пожалуйста. У вас ведь еще что-то на уме, не так ли, друг мой?
— Острый у вас глаз, — отозвался я с радостью. — Ничего особенного нет, и не в моих правилах мешаться в чужие дела. А только курбатовским любопытно, что за человек встал у меня на квартире. То есть вы.
— Я то есть? — прищурился он. — Человек как человек. Смотрю, как вы тут живете.
«Ну нет, — думаю, — уж коли мы данной материи коснулись, ты смешком от меня не отделаешься».
— Я извиняюсь, конечно, — начал я. — Я пойду сейчас по деревне с почтой, и меня любой и каждый спросит насчет вас. От кого же все новости получать, если не от меня. А тут, тем более, вы проживаете в моем доме. Что же, так и сообщать всем, что у вас такая должность — смотреть, как люди живут? Чудно как-то!
В самом деле, чудно. Много есть разных должностей: инструктор какой-нибудь, или, к примеру, председатель, или там секретарь, а то ревизор, бухгалтер, кассир. Или заготовитель, фининспектор, приемщик семги или другой рыбы. Сомневаюсь я, чтобы его послали в командировку просто так, смотреть, как живут люди, и ничего больше. Вряд ли где-нибудь платят за это деньги.
А он всё свое:
— Вы полагаете, это пустяковый вопрос — как живут люди? Правильно живут или нет? Сознают ли свою пользу?
— Истинно, — говорю. — Не то что пустяковый, а вопрос главнее главного.
— Ох, чуть не забыл! Поскольку вы идете с сумкой, у меня к вам просьба.
— Будьте любезны, — говорю.
— Тут должна быть гражданка Гуляева.
— Как не быть. Гуляевых у нас целый карбас наберется. Вам, может, Лизу Гуляеву? Или Настю Гуляеву, что на молочной ферме дояркой? А возможно, Манефу Васильевну Гуляеву, учительницу?
Он отмахнулся:
— Нет, нет, тут есть старушка Гуляева, товарища Гуляева мамаша.
— Бабка Парасковья! — спохватился я. — Есть, куда ей деться. Мимо нее я не пройду, будьте спокойны. Из окна непременно заметит, не пропустит.
— Отлично. Посылочка тут ей.
Поднялся, затопал ногами-коротышками в угол, к чемодану, наклонился сопя и достал сверток.
— Вот, — говорит, — от товарища Гуляева мамаше коробка конфет и, естественно, поклон.
— Давайте, — говорю, — передам.
И вот я шагаю по улице с сумкой да с конфетами под мышкой. Дом бабки Парасковьи неблизко. Сперва на левой стороне у реки Заманихи общественный амбар и пристань, потом, чуть подальше, сельпо. Это, можно выразиться, самый центр нашей Курбатовки, — как площадь Челюскинцев в Чернолесске. Отсюда мостки проложены вверх, но, однако же, намного от реки улица не отбегает, а вьется с ней как бы в упряжке. Вот слева дом капитана Гуляева, Никиты Харитоновича, пустой, заколоченный, в палисаднике — крапива и чертополох. Хозяева давно в отъезде. Дальше — клуб, на нем доска для афиш, сейчас на ней ничего понять нельзя, потому что старую афишу содрали, а новой картины еще нет. Потому на доске невесть что — одни лоскутки. Тут ружье торчит, там лошадиная голова из другой картины и еще велосипед из третьей, может, прошлогодней. Еще подальше, справа, дом Насти Гуляевой, — у нее в палисаднике стоит крест старый, весь белый от дождей. Это дед Гуляев поставил. Унесло его на льдине в море, он и обещал водрузить крест, если благополучно вернется. Ну, случай вышел не смертельный, прибило его к суше.
Еще шагов полсотни пройти — рыбозавод. Ворота сегодня на засове, потому на море пятые сутки взводень и на то?нях работы нет, семга в грубую погоду не ловится. За рыбозаводом улица поворачивает вправо и немного спустя упирается в лес.
Там, на краю, на холмике, живет в новом доме бабка Парасковья Гуляева. Дом, ни дать ни взять, — теремок из сказки сочинения Пушкина. Крылечко со столбиками резными, наличники на окнах, мезонин с фигурами, а уж конек на крыше — ну, чисто кружевной! Не то что в Курбатовке, а, почитай, во всех селениях на побережье нет дома пригожее! Загляденье! Строили его специально для покойной Авдотьи Гуляевой, сказительницы былин, а бабка Парасковья обитает тут сейчас как ее сестра и наследница всего имущества. Сказы она не складывает, — такой талант одной Авдотье достался, — но кое-что из старого помнит. Нет-нет, бывало, и споет про Илью Муромца.
В последнее время что-то замолчала. Не поет. Сердитая стала бабка.
Конечно, на пути к ней я заходил в разные дома, отдавал письма, рассказывал про своего постояльца. Странная вещь. — как он мне со смешком про себя говорил, так и я о нем. Ровно шалый ветер на меня пахнул. Приехал, говорю, поглазеть, как жизнь идет у нас, в Курбатовке. Такая у него должность. За одно это и жалованье дают.
Говорю, а сам смеюсь.
Бабка Парасковья, даром что наполовину ослепла, заметила это мое настроение.
— Ты, Евграф, весело шагаешь сегодня. Неужто мне от сынка несешь что?
Это она стук моих сапог по мосткам заслышала. Я подошел и положил ей коробку на подоконник.
— Точно так, — говорю, — Парасковья Степановна. От товарища Гуляева вам подарок.
Бабка, однако, сыновней посылочке не обрадовалась ничуть. Взяла сверток своими костлявыми руками, подержала и положила на стол. Я понял, в чем дело. Бабка ждет его самого к себе. И давно ждет.
— Товарищ Гуляев занят, — сказал я, чтобы ее успокоить. — Он приехать не может.
— И не написал ничего?
— Нет.
— Да ты разверни. Может, на посылке что написано, — сказала бабка и сунула мне сверток.
Я развернул.
— Ну! Читай! — приказывает.
— «Шоколадные конфеты, — прочел я. — Ассорти. Цена сорок восемь рублей». Самые дорогие.
Выслушав это, бабка не смягчилась, а, наоборот, взъелась еще пуще:
— Сорок восемь? Откупиться от матери надеется. Сорти, что ли, как оно? Я вот возьму, — и голос бабки совсем ожесточился, — в сортир это добро и выкину.
— Ну зачем же? — молвил я примирительно. — Конфеты высшего сорта, у нас в сельпо таких нет.
Не знаю, я ли на нее подействовал, но бабка намерение свое переменила.
— Забирай их, — говорит, — назад.
— То есть как?
— А так! Обратно ему отсылаю, — отрезала бабка. — Пускай сам ест.
Вот история! Еще одно обратное отправление! Ну, это я уж у себя не оставлю, придется и в самом деле отсылать. Мне-то как быть теперь? Легко сказать — отсылаю. Надо же запаковать по всем правилам, в полотно зашить или заколотить в ящик, написать адрес, всё как следует оформить. Бабка, небось, и не сумеет. А что если… Пароход еще на рейде. Груз сегодня в наш адрес большой, молодежная бригада еще часа три проканителится, не меньше. Слетаю-ка я на пароход! Посылка хотя без оформления, а всё-таки, если посмотреть серьезно, срочная и важная. Вручу капитану и попрошу его. Неужели не передаст!
Гуляева каждый знает. Иному даже лестно его навестить лично.
— Ладно, Парасковья Степановна, — сказал я. — Для вас я постараюсь.
И сразу, скорым шагом, на пристань.
Карбас только причалил. Девушки таскали в амбар мешки с мукой. И тут же Афонин — секретарь сельсовета. Его-то я издали и заслышал. Собой он не больно казист, в плечах узок, а пониже, откуда ноги растут, не по-мужски широк, — но горлом вышел богатырь.
— Давай живей! Судно задерживаем, некрасиво это! Языки дома чесать будете!
Всё точно так же шло бы и без него. Страсть любит он распоряжаться.
— Задохнешься, — сказал я. — Посиди.
На лбу пот выступил, китель ворсистого трофейного сукна, с не нашими пуговицами, расстегнут.
— Где же сидеть, — кричит, — за нашим народом если недоглядишь…
Всегда он так. Твердит, что он сейчас, поскольку председатель сельсовета в отпуске, один как есть в Курбатовке представляет советскую власть. И что с нами он отдыха не ведает. Я считаю — только горло у него должно уставать. Дела настоящего мы от него не видим пока что, а суеты-колготы — сверх всякой меры.
Однако постой, сегодня он мне как раз нужен. Спрошу-ка у него насчет Григория Казимировича, моего квартиранта.
— Лицо из областного центра, — сказал Афонин важно, — проверять нас.
— Что же проверять?
— Мало ли, вообще. Как мы тут дышим.
Сам приосанился и грудь свою куриную выпятил. И от этого не добьешься толку! Словно сговорился с Мелешко.
— Обыкновенно дышим, воздухом, — сказал я и отвернулся.
А он опять заорал:
— Шевелись, девчата! Ну, красавицы, ходу! Не допускайте простоя транспорта. Раз, два, взяли!
— Потаскал бы сам, — ответили ему с карбаса.
— Да он, Лиза, слабосильный.
— Сохнет! Через тебя, Дуська!
Лиза Гуляева оттолкнулась веслом от сваи, и карбас отплыл.
Вот она, наша гребная команда! Восемь на веслах, девятая на руле. Девки, женки молодые, — одна к одной, загляденье! Недаром пассажиры с парохода глаз не спускают с них, любуются нашей молодежной бригадой. А что, пожалуй, по всему побережью поискать таких! Да и в Чернолесске вряд ли отыщутся под стать. Другой бы на месте Алешки, поумнее, разве отстал бы от Лизы или от Шуры, заведующей нашей! Да ни за что!
Гляди в оба! Вот катится с моря вал. Тут он еще выше вздымает свой гребень, а под ним мелко. Тут пути для нас нет… Где крупнее волна, где меньше пены и брызг — туда и держит наш карбас.
Вал позади. Теперь море качает нас, одна волна передает другой. Вон и пароход обозначается в тумане. Уже можно прочитать надпись на борту: «Колгуев».
Посудина старая, ветеран прибрежья. Это его я высматривал, будучи мальчишкой, с крыши. Бывало, посинеешь от холода, а сидишь, хочется ведь первому крикнуть на всю улицу: ««Колгуев»! «Колгуев»!». Сколько раз я на нем был — не сосчитать. Был и пассажиром, был гостем в буфете. В Курбатовке ведь нет ни чайной, ни столовой, так как же не съездить на «Колгуев», коли есть лишние деньги. Во время войны «Колгуев» вез меня раненого, и фашистская бомба чуть не добила меня тут, не знаю, каким чудом я спасся. Всё, всё на пароходе знакомо, как в своем доме: вмятина на борту, заплатка на палубе, где осколок ударил, медная дощечка, приделанная к надстройке. На дощечке написано, что судно построено в 1898 году в Гамбурге. И вместо буквы «б» — мягкий знак. Видно, в те времена за границей никто не знал по-русски.
Только я взобрался по штормтрапу на борт, как передо мной, нежданно-негаданно, сам товарищ Гуляев, собственной персоной.
Вот так раз! Значит, он здесь! И не мог сойти с карбаса на берег навестить мать!
Да тот ли это Васька Гуляев, который, бывало, рядом со мной торчал на крыше, встречал «Колгуева»? С которым мы вместе ловили камбалу на ярус? Которого я в школе отстегал ремнем? Васька Гуляев, что, бывало, ходил за мной по пятам и слушал как старшего?
Тот самый. Ничуть не изменился за последние два года. Такой же плотный, щекастый и одет так же — во всё серое. И на голове серая шляпа. Облокотившись на поручни, держит у глаз фотоаппарат, хочет, по всей видимости, заснять нашу деревню.
— Данная деревня, Вась… Василий Поликарпович, — сказал я подходя, — есть Курбатовка.
— Ничего не выйдет. Туман проклятый, — отозвался он и опустил аппарат. — А, Пропеллер! Здоро?во!
В школе меня так прозвали — Пропеллер. Васька и пустил кличку, даром что меньше меня. Он, между прочим, любил про самолеты читать, всех знаменитых летчиков наизусть знал.
— Здравствуй и ты, — говорю, и подал ему сверток.
— Что это? — спрашивает.
— Ознакомься.
— В чем дело? — воскликнул он, развернув. — Я же просил…
— Возвращает она, — сказал я. — Требует, чтобы ты пожаловал лично.
Тем временем нас обступили пассажиры. Ваське, должно быть, сделалось неловко. Он стоял, перекладывая коробку из одной руки в другую, и конфеты внутри гремели.
— Ох, мамаша! — усмехнулся он. — Курьез, ей-богу! Непременно сейчас я ей нужен! А я не в состоянии.
— Отлично можно успеть, — сказал я. — Выгрузки тут до обеда хватит.
Он поглядел на меня, потом на море, как будто готов был согласиться. Но вдруг мотнул головой вбок, как прежде, в детстве, когда он не хотел слушать и напрашивался на ремень.
— Нет, тут со мной люди, понятно? Едем в Ненецкое устье, знамя вручать. Мамаше скажи — я к ней обратным рейсом. Как она, здорова?
— Здорова, — говорю. — Спасибо.
— Дом-то держится? Ремонтировать пора, наверное.
— Дом еще хороший. Счастливо доехать, — сказал я и повернулся.
— Постой! А коробку?
— Нет, — ответил я. — Не возьму. Ты уж сам отдашь ей, когда приедешь.
И с этими словами я ушел.
3
Дома поел ухи и отправился с почтой на выселки. Они от деревни километров шесть, на той стороне реки. Оттуда, налегке, с пустой сумкой завернул в правление.
Тут у нас по вечерам вроде клуба. Савва, председатель наш, сидит в своем кресле и чистит трубку, а на лавках, на сундуке с деньгами располагаются старики.
Разговор шел о Гуляеве. Ведь вот досадно: новость-то моя, а всё-таки кто-то уже принес ее сюда. Всегда так! Обгоняют меня мои новости, я шагом иду с сумкой, а они по деревне бегом несутся. Правда, я, пожалуй, сам виноват. Мне бы донести новость до правления, не рассыпав, а я не вытерплю, да нет-нет кому-нибудь и расскажу по пути.
В клубе у Саввы все уже знали — Гуляев скоро приедет к нам, на свидание с мамашей. Сошлись все на одном — надо его пристыдить. Я вызвался это сделать. Савва поцарапал гвоздем в трубке, подумал и сказал:
— А бабка Парасковья на что? Она сама возьмет его в оборот.
— Ухватом огреет, — захихикал Кузьмич — маленький, румяный, с бородкой на?косо.
Затем оказалось — Мелешко прислал не кто иной, как Гуляев, обследовать нас.
— Ну вот, наконец-то ясно! — не вытерпел я. — А то я, работник связи, и не имею представления, что за человек у меня на квартире встал.
— Тебе известия не на язык класть полагается, а в сумку, — ехидно вставил Кузьмич.
— Отцепись, — отвечаю. — Обследование, значит?
— А ты думал? — отозвался Савва. — Потому и не хотел Гуляев к нам ехать.
Правда, слыхал я, — в области нами недовольны. Началось из-за молочной фермы. Спустили нам план на восемьдесят коров, а где же нам этакое стадо содержать! Рук же не хватает! Основное наше орудие — не подойник, а сеть рыбацкая, верно? Прежде чем планы составлять, надо было с нами посоветоваться. Ну, мы и остались при пятидесяти коровах. Кланяться каждой бумажке мы не намерены.
Нет!
А Мелешко, стало быть, погнушался мной. Ниже себя считает довериться мне, почтальону простому, — бумажная душа!
Велик ли толк от его обследования, коли он от народа прячется!
Так я и сказал старикам, но Савва остановил меня:
— Погоди, Евграф, больно ты ершист. Эх, старцы! Тяжело нам оправдываться!
И он поднял со стола синий пакет со штемпелем Москвы.
Знакомый пакет. Я заметил его еще утром, когда принимал почту.
— Опять из треста абразивов, — сказал Савва. — А мы ни мычим, ни телимся. Из Москвы запросы, из области…
— Насчет пещуры? — спросил я.
Все только поглядели на меня, но ничего не ответили, как будто должно быть понятно само собой.
— Эх! — сказал я. — Дернуло кого-то в газету бухнуть.
— Тем лучше, печать подтянуться заставит, — молвил Кузьмич со своей всегдашней усмешкой. — И рыбу давай, и камень давай! Поворачивайся!
— Это еще не большая беда, старцы, что бухнули, — сказал Савва. — Думайте, думайте, как с пещурой быть. Миллионное дело! Миллионное, старцы. Сами не возьмем, соседи примутся.
— Нет, нет, ишь чего! — загалдели старики. — Самим надо, Савва.
— Думайте, думайте, старцы, — повторил Савва.
Да, задача не простая. Действительно, точильный камень в нашей местности имеется. Это испокон веков известно. В Зимних горах, километрах в пятидесяти от нас, его сколько угодно. Еще деды наши подбирали обломки у моря да в ущелье у Гагачьей реки и точили топоры, косы, долота. В большом масштабе пещура — так у нас называется этот камень — не добывалась. А теперь ее нужно много. Мы хоть и на краю России живем, а из газет и через радио знаем, какое строительство идет на Севере. Топоров немало звенит в лесу! Сейчас еще тот звон до нас не доносится, но скоро, надо полагать, просеки проложат и к нам. Конечно, чтобы точить такое множество топоров да пилы на лесопилках и прочий инструмент — пещуры требуется тонны и тонны.
Это всё понятно. Наш колхоз с великой радостью взялся бы ломать камень и поставлять его в город — были бы люди.
— Не знаю, старцы, не знаю, — сказал Савва, положил трубку и сплел свои длинные пальцы, — где народу взять на такое дело? Худо, старцы.
— Саввушка, — подал я голос. — Отыскать бы место, где Куликов камень брал.
— О чем и забота, — кивнул Савва.
— Ищи, — ехидно вставил Кузьмич. — Ты с сумкой ходишь, вот по дороге и поискал бы.
Ох, Кузьмич! Всегда он суется. Будто не знает, каково искать завод. Куликов — то был односельчанин наш, человек грамотный, до войны состоял в обществе краеведов. Какие травы у нас, звери, камни — до всего ему было дело. В городе, в музее висит клык мамонта, а под ним подпись — обнаружен, мол, сей драгоценный клык Николаем Куликовым близ деревни Курбатовки. Может, сто тысяч людей этот клык видели и подпись читали. Так вот, Николай ломал пещуру и, мало того, приноровился обрабатывать ее, делать точильные круги, бруски, словом, какие угодно изделия, да не вручную, а механическим способом. Было это давно, еще до колхозов. После он уехал с нашего побережья и с тех пор не показывался. Слышно, убит он на войне, и, стало быть, секрет пропал. Куда как был бы он нужен сейчас! Завод без Куликова заглох, — ведь тогда на камень сильного спроса не было. Теперь туда даже дороги никто не знает. А места там, в Зимних горах, опасные, глина ползет, наобум не суйся.
Конечно, искать надо. Так ведь туда впору целую ватагу снаряжать, в глушь такую. А людей где взять? Савва прав — нет у нас лишних людей.
Так я размышлял, а старики между тем гадали — как пробраться к заводу и осталось ли от него что-нибудь за столько-то лет.
— Старцы, — сказал я, — Арсений Куликов не укажет?
Арсений приходился Николаю двоюродным братом и на заводе, правда, не работал, но бывал там.
— Толковали с ним, — ответил Савва. — Не может он идти. Стар.
— А на тоне, семгу ловить, не стар? — молвил Кузьмич.
Тут я рассердился.
— Да что ты, Кузьмич, — говорю, — как муха кусачая! К чему твои смешки? По-твоему, Арсений не хочет показать, что ли?
А Кузьмич на это:
— А бог его знает, что у него на уме.
— Тьфу! — говорю.
— Ты потише, Евграф, — остановил меня Савва, видя, что я на Кузьмича взъелся и вот-вот произойдет шум.
Я помолчал, чтобы успокоиться, и сказал:
— Жаль мне Арсения, старцы. Всех собак вешают на него. Снасть море унесло — тоже он в ответе…
— Море, а может, и не море, — вставил Кузьмич.
— Полно тебе, — сказал я. — Арсений рыбак честный. Сети море поглотило, и нечего тень наводить на невинного.
Тут мы опять друг на друга оскалились. И клуб наш зашумел. Одни Кузьмича поддерживают, другие меня, словом, из-за Кузьмича получилось несогласие.
К я, конечно, не отступаюсь. Нет! Вряд ли кто у нас лучше меня знает Арсения. Стало быть, кому и заступиться за него! Честный он человек, это я голову на отсечение кладу, а невезучий какой-то, вот в чем беда. Не ленивый, нет! Работу всякую может. До войны в сельпо служил, при нем растрату учинили. Он только тем и виноват, что недосмотрел, но однако же пришлось с должностью распрощаться. А на войне к немцам в плен угодил. Да и много с ним случалось всякого. Говорят, коли есть где яма, туда непременно не кто иной, Куликов Арсений завалится. А отчего? Я и сам гадаю. Есть у него недоглядка какая-то, ребячья доверчивость ко всем — через это и страдает.
Положиться на такого человека, как он, не легко, это я понимаю. Тем более в деле общественном. Но я-то его знаю, и мне жаль его, вот как жаль!
— Как хотите, старцы, — говорю, — а с Арсением надо еще побеседовать. Позовем его на правление. Мне как раз завтра на Поползуху идти, могу передать.
Рыбачьи тони у нас все имеют названия. Поползуха, где ловит Куликов, самая дальняя.
— С тони срывать человека не будем, — сказал Савва. — Вдруг развёдрится. Потеряем рыбу. Ты сам поговори с Арсением.
— Я всего-навсего почтальон, — заметил я. — Поавторитетнее кого-нибудь.
— Ничего, хорош, — возразил председатель. — Ты только лишнего много не городи, Евграф, а прямо приступай к сути. А то ведь у тебя под языком-то репей.
Так и решили.
Встревожился я из-за невеселых наших дел сильно. Домой пришел рано, уху разогревать не стал, съел две ложки холодной и лег.
4
Миллионное дело! Вспомнились мне эти слова Саввы и сон отогнали. В самом деле, почему не миллионное?
Миллионное!
Так значит, если мы в добавление к рыбе, к зверю морскому еще и пещуру осилим, — колхоз наш станет миллионером. И, значит, незачем будет завидовать соседям — и у нас всё будет, да еще и получше. К пароходу не на гребках — на моторках выезжать будем. У нас тут мотоциклы или автомобили легковые не к месту — дорог-то по суше почти нет, ехать некуда. А вот моторное судно — первая необходимость. Потом надо будет клуб починить, ясли устроить. А электричество тогда уж непременно будет. Протянул руку, чик — и светло в избе.
Тут рука моя сама вылезла из-под одеяла и ткнулась в стену. Эх, вместо выключателя — голое дерево да пакля из паза торчит.
Пригласим в Курбатовку самых что ни есть лучших специалистов. Надо же, наконец, выбрать место для плотины на Заманихе.
Зина с ног сбилась. «Как, — говорит, — ни прикидывай — воды в Заманихе мало».
Тут я стал думать о Зине — квартирантке своей. Должно быть, спит. Устала, находилась за день в своих резиновых сапогах. Велики они ей, и шагает она — ну, словно девочка маленькая, надевшая шутки ради сапоги взрослого.
Трудно ей у нас. Реку измеряет, высчитывает скорость течения, на план всё заносит. Сколько тетрадок цифрами исписала!
Похоже, верно говорят — воды мало. Не первый раз изучают нашу речку. Так, может, силу прилива оседлать сумеем. Читал я…
И как не пожалели, загнали девчонку в такую глушь одну! Тоже и с дровами мается моя квартирантка. Надо бы сделать уважение, колотые дрова молодой специалистке доставить. Всё рук не хватает. Привезли ей бревно в три обхвата, сбросили, управляйся как умеешь! Я уж ей свои дрова подкидываю, так она не берет. Чуть не плачет, а тяпает тяжелым колуном, отламывает от бревна по кусочку.
Как-нибудь я найду напарника, распилю ей этот чурбан и наколю поленьев.
Савва говорит — непременно надо замуж ее выдать, за нашего, за курбатовского. Закрепить тут. Будет она у нас директором гидростанции, а муж помощником, вот славно! Но женихов у нас для Зины нет, мордой не вышли для такой невесты.
Афонин примазывался, да нет, и тут не клюнуло. Не любят его девки. Он и к Дусе Прохватиловой подкатился было, но и та дала ему от ворот поворот. С тех пор он еще пуще гребчихам досаждает.
В прошлом месяце Зине артист понравился, гипнотизер. В клубе у нас выступал. Боялся я, как бы чего дурного не вышло, да, слава богу, гипнотизер вскорости уехал.
Теперь за Зиной ухаживает Клюйков, наш радист. Мальчик скромный, молоденький — одногодки они с Зиной. Вечером зайдет за ней, и вот гуляют они взад и вперед по мосткам и молчат, потому очень стеснительный мальчик.
От кого ее надо беречь, так это от Алешки-матроса, если явится.
Уж теперь-то мы женим его! На Шуре или на Лизе.
…Когда лежишь в темноте, думы приходят разные, вперемежку печальные и веселые.
Савва, между прочим, любит сватать. Есть у него такая слабость. Меня и то как-то грозил женить. «И как тебе, — говорит, — Евграф, холодная уха не надоела!»
Постоялец, Мелешко этот, тоже заметил. Подивился на меня, что я уху не разогрел, и спросил, почему я не заведу хозяйку. А я ответил, что молочная уха и так годится. Она даже вкуснее — остывшая.
Нет, хозяйки пока не предвидится.
Тихо в доме. Иногда на чердаке, под крышей, защебечут ласточки. Да ветер с севера, с моря, вдруг разбежится и ударит в стену, а сухие бревна отзовутся стариковским скрипом. Зина, верно, второй сон видит, из комнаты Мелешко тоже ничего не слышно.
Потом опять вспомнил Алешку и его письмо. Хоть и решил я его отложить, а на душе всё-таки неспокойно. По правилам что полагается? Отослать обратно! Выходит, я нарушил… И тут па?ло мне — ведь Алешке надо ответить. Очень просто! Так и так, мол, письмо твое получено, распечатать его пока некому, но скоро адресат будет. Миллионное дело мы из своих рук не выпустим, приезжай! Приезжай! Про вдов, конечно, ни слова не напишу. Приезжай, и точка!
Правда, не только у меня, но, пожалуй, нигде не было случая, чтобы почтальон сам отвечал на письма. Ну да ведь на свете всякие чудеса бывают.
Наконец я уснул.
Мне привиделась гиря. Огромная, вся рыжая от ржавчины, вроде той, что валяется у меня на задворках, только гораздо больше. Будто она в доме, и доски под ней трещат и проламываются. Я очнулся. Кто-то поднимался по лестнице.
Кто же это? Неужели к Зине? Надо посмотреть. Но нет, гость, оказывается, не к Зине. К Мелешко! И я приподнялся.
Я не подслушивал. Нет у меня такого обыкновения. Но дом дряхлый, перекрытие в углу прохудилось. Звуки оттуда, сверху, хочешь не хочешь, а проникают и доходят до моих ушей.
Афонин!
Ну да — он! Хоть и старается он спрятать свой голосище, но напрасно. Не может он говорить шепотом. Горло у него устроено так, что вместо шепота получается совсем другое. Будто собака скулит.
Ночью пришел, тайком. А горло его выдало. Зачем он там? С чем пожаловал к Мелешко?
Тотчас мне представилась нескладная фигура Афонина, расстегнутый китель. Вспомнил я, как он бегал, вихлял у пристани, и мне, как тогда, стало смешно.
Только его и ждали! Ввалился ночью, мешает человеку спать, городит какую-нибудь несусветицу.
Чу, кто-то из двоих наверху, скорее всего Мелешко, прошагал по комнате, отодвинул стул, зашуршал бумагами в углу, и я услышал ясно:
— Обвинение безусловно серьезное.
Это сказал Мелешко. А дошли до меня его слова потому, что как раз в том месте в углу дыра.
Потом заскулил Афонин, и я не мог понять ничего. Нет, не подслушивал я! И всё-таки досада взяла — эх, подтолкнуть бы Афонина к углу! Однако голосище свой он не всегда сдерживал.
— Я сигнализировал насчет этого, — сказал Афонин.
Ишь ты! Всё свое «я» выпячивает. Я посмеивался про себя над Афониным и рисовал себе, как надоела Мелешко его нудная болтовня. Но через минуту охота шутить у меня пропала.
Афонин, должно быть, встал ближе к углу, и я понял, о чем он ведет речь. О том, что у нас в колхозе якобы есть темные элементы. Что Савва их не видит или не желает видеть, а они этим пользуются и разрушают наше хозяйство. Из-за них мы и пещуру не даем. И тут Афонин назвал Куликова. Возможно, не только его, но эту фамилию я хорошо расслышал, Афонин произнес ее два раза и потом что-то долго говорил тихо, постукивая о пол каблуком.
— Это ваше предположение, — громко сказал Мелешко, — на чем оно построено?
Опять Афонин заговорил.
— Савва не может обеспечить, — вдруг донеслось до меня. — Безрукость и бесхозяйственность…
Затем, немного погодя:
— Гуляев вправит им мозги…
И еще:
— На Куликова вы обратите внимание. Он не случайно…
Скулящий голос Афонина сочился сквозь потолок, через все его щели, лез в уши. И до того мне сделалось тошно, что я вскочил, надел ватник и вышел на воздух.
Ну, что ты там плетешь, про Куликова? Что — не случайно? Повторились в уме слова Кузьмича насчет Куликова — «не хочет». Не хочет показать дорогу к заводу? Глупости это, глупости! Ложь! Вот с чьего голоса Кузьмич поет!
Тут еще сети. Сети с Куликова спрашивают. На беднягу все шишки валятся…
Ветер освежил меня. Может, мне всё приснилось, так же, как гиря, проломившая пол. Уж очень несерьезно всё! Не ожидал я, что он так себя покажет, Афонин, суматошный, нелепый мужик. Мы смеялись над ним, а он вот, оказывается, каков! Нет, теперь не до смеха! Такую грязь принести в мой дом. Есть же люди! И что ему надо, какая корысть ему чернить честных людей!
Но, может, я слеп как крот и даже старого своего соседа Арсения Куликова толком не знаю?
Нет!
Правда — она не боится белого дня. Ее за пазухой, тайком, носить не нужно. А он как вор прокрался. Он выйдет, и я скажу ему. Хотя он не ко мне приходил, всё равно, я хозяин здесь. В моем доме должно быть чисто. Пусть забудет дорогу сюда.
Словом, я много хотел сказать ему. Складывая свою речь, я и не заметил, как он вышел.
Я догнал его на мостках.
— Постой, — сказал я, взяв его за локоть. — Ты зачем про Куликова? Врешь ведь подло.
Афонин вздрогнул и вырвался.
— Ты, почтальон! — заговорил он. — За дверью стоял? А тебе-то что надо? И ты туда же? Одна шайка-лейка? Ладно, приедет Гуляев… Расчехвостит вас…
Пока я собирался ответить, он завернул за угол палисадника и исчез.
5
Да, я так и не успел ответить ему.
Слова, которые я приготовил, остались при мне. К ним прибавились еще новые. Возвращаясь домой, я пробирал Афонина без пощады, только про себя. Даже не смутился, наглец! Ведь я, как вора, поймал его, накрыл его ночные козни, а ему — хоть бы что!
Бывают же люди!
Хотел я пойти к Мелешко, выложить всё ему, но не решился. Тоже скажет, что я подслушивал. И еще, может, что я всего-навсего почтальон и лезу куда не просят.
Вот кто мне нужен, так это Савва. Сейчас же нужен. Но не поднимать же его с постели!
Пришлось разговор с Саввой отложить на утро. Однако он встал раньше меня. А Савву если дома не застанешь спозаранку, ну, тогда запасайся терпением, бегай, ищи его по всей Курбатовке. Побывал я и в правлении, и на пристани, и на рыбозаводе, — не нашел нигде.
Нет, этак ног не хватит. Да и некогда, пора отправляться на тони.
И вот я снова шагаю с сумкой. Ветер свистит, заносит песком кладбище. А за кладбищем, за крестами, сразу море.
Здесь, по краю суши, идти легче. Песок плотный, гладкий, как панель в городе. Море не дает ему просохнуть, два раза в сутки накатывается на берег, заливает до самого пригорка с крестами.
Идти хорошо, нежарко. Чистые, прозрачные ручейки текут из леса, да так бойко шумят, так спешат, словно море только их и ждет, только и недостает ему этих капель воды. Перескочишь через ручей, потом, глядишь, надо шагать, а то и перелезать через бревна, позабытые приливом. Бог весть где оторвались они от плота, — море и взяло их. Носило, отмывало, по кусочку очищало от коры и здесь вернуло земле… Много и другого приносит прилив. Ноги вязнут в водорослях, запутавшихся, как трос у неумелого корабельщика, а то уходят вдруг в мягкую пену. Она лежит на песке ровно талый снег, ветер дует на нее, раскидывает по берегу хлопья.
Слева лес, справа море, и ни души кругом. Слышно только, как ступают по упругому песку мои подошвы да как ведут между собой беседу деревья да морские волны. Сегодня ветер с севера, море шумит громко, — и лесу трудно с ним спорить.
Бывает, на берег выходит из леса медведь. Сейчас он сытый, человека не тронет.
Сосны качаются, а шума не слышно, — у моря голос погромче…
Под шум моря мы родились и выросли. Люблю я слушать море. Всегда оно помогает моим мыслям и словно объясняет мне всё, что тревожит меня, смывает прочь всякий мусор и наталкивает на главное.
В мыслях у меня еще был Афонин, а тут, на берегу моря, я вдруг сказал себе:
«Не стоит он того, чтобы долго о нем думать. Ничтожный он человечишко, вот вроде той щепки, что болтается в за?води. Мечется она, толчется, а всё на одном месте: суша ее не берет, да и морю она не нужна.
Может, тот же Арсений утрет ему нос. Еще как! Услышит, какую напраслину на него возводят, соберется с силами и поведет нас в Зимние горы. Ничего удивительного.
Так или иначе, пещуру осилим. Быть не может, чтобы миллионы от нас ускользнули!»
Так сказал я себе, и на душе стало легче. Быстрее задвигались ноги. Вот и первая тоня. В хорошую погоду я застал бы рыбаков в лодке, выбирающих сеть, или на берегу, за разборкой и разделкой добычи. Сейчас промысла нет. Семга к берегу не идет, держится на глубине. Рыбаки, верно, в избушке, чинят снасть либо спят.
— Эй! — кричу я. — Почта! Почта!
Избушка в расщелине стоит, точно спряталась от ветра. Оттуда сбегает ко мне мальчуган в белой рубашке, принимает письма и газеты.
— Пиджак бы надел, — говорю, — простынешь.
Следующая тоня — Морозовка, в получасе ходьбы, потом через два часа Гусиная, а там Тимошкина, Лешачиха, Заручье. До Поползухи, где хозяином Арсений, добрался я вечером.
Над самым обрывом стоит его избушка. Деревья, сбегающие по откосу, хотят увлечь ее с собой, столкнуть, а она упирается, робко поглядывает на море двумя маленькими окошечками. Откос тут глинистый, Поползуху давно пора передвинуть на другое место. Сделали бы и нынче, да всё не хватает рук.
У крыльца, над столом для разделки рыбы, — седая голова Арсения. Он бросил молоток, подбежал, обнял меня, повел в дом.
— Ну, хохолок, — сказал я, — как живешь?
Когда-то волосы его были рыжеватые и топорщились, как петушиный хохол, а теперь он весь выцвел. Глаза были голубые, а сейчас водянистые и словно слезятся.
— Плохо, — отвечает. — Радио испортилось. На прошлой неделе, в среду, нет — в четверг, начали передавать об Антарктике — и на? тебе вот! Замолчало. В поселке Мирном, знаешь, шестьдесят четыре градуса мороза! И больше ничего не успело сказать, оборвалось что-то внутри.
Я положил на лавку газеты и спросил:
— А сам починить не можешь?
— Евграфушка, милый! Катушку надо перематывать! Я слепой как крот.
Золотой старик! Всё-то он умеет, одряхлел только. А хозяйство на тони ведет аккуратно. В избе культурно. Койка под чистым полотняным пологом, от комарья, в углу полочка, на ней вместо иконы будильник, стопка книг да лампа. С потолка свисает проволочный крюк, на него Арсений вешает котелок с ухой, чтобы не пачкать печной копотью стол. Койка пустая, на топчане тоже никого.
— Коротков где? — спросил я. — Письмо ему вот, из города.
— В деревню ушел. Не попадался тебе разве? Ох, не могу я с ним!
— Молчит всё?
— Пускай другого ученика дадут. Посуди сам, Евграфушка, радио немое, да еще и этот стоерос как воды в рот набрал. Голова лопается.
«Хорошо, что нет Короткова, — подумал я. — Как раз кстати. Наедине можно будет потолковать».
Однако помнил я, что у меня под языком репей, сдерживал себя, ждал удобного момента и терпеливо слушал Арсения, обрадовавшегося собеседнику.
— Ох, худо, худо без радио! — сетовал он. — Передача какая интересная была! Ловко там наши целый поселок сгрохали. А ветры там — на ногах не устоишь! У нас лютые ветры, а там еще пуще.
— Наивная же ты душа, Арсений, — не выдержал я. — Антарктики тебе только и не хватает!
Он заморгал и уставился на меня. Почуял, должно быть, скрытый смысл в моих словах. И тут мне уже ничего не оставалось, как выложить ему всё.
— Сидишь тут, — начал я, — не ведаешь, что Афонин про тебя плетет! Как имя твое треплет!
— Знаю, милый. Знаю. Злой он на меня, а за что? Ну чем я ему не по нраву?
— Плюнь, — сказал я. — Гром не из тучи, из навозной кучи. От тебя зависит заткнуть глотку Афонину.
Верно, он не понял, к чему я клоню.
— Нет уж, увольте. Дайте дожить тихо.
— Арсений, — сказал я, — ты сам постоять за себя должен. Не в Афонине дело. Одно к одному. Снасть, что в море на льдине унесло, три тысячи стоит.
— Всё равно, — сказал он, — повернешься — бьют и не повернешься — то же самое. Ну что я могу?
— Этак хуже бить будут, — молвил я в сердцах и потерял нить рассуждения. Арсений же вдруг замкнулся, морщины, игравшие на его лице, как пенка на молоке, застыли и словно врезались глубже.
— Обследование идет, Арсений, — строго проговорил я. — Мелешко приехал, товарищ из области. Афонин днем и ночью к нему бегает.
— А Савва что? — заговорил Арсений обиженно. — Савва не знает меня разве? Савва не знает — брал я когда чужое, губил общественное добро?
— Знает, Арсений, — сказал я. — Он меня и послал. Общество тебе верит, Арсений, ты не сомневайся. Я от Саввы, от всего правления к тебе. Первым делом ты должен написать объяснение насчет сетей, а я отнесу Мелешко.
Это я, положим, сказал ему по собственному почину. К слову пришлось.
— Вот тебе конверт и бумага, Арсений, пиши, — прибавил я.
Я подождал, пока он напишет, а потом завел речь о главном.
— Понатужился бы всё же, — начал я, — показал бы завод. С пещурой, понимаешь, вопрос не терпит, а дело миллионное…
Некоторое время он смотрел на свои ладони. Темные, жесткие — смола въелась.
— Арсений, — сказал я, — сам не пойдешь — другим дай напутствие.
Избушка тряслась от ветра, море шумело громче — надвигался прилив. Море подступало к нам, подхватывало плавник, клочки водорослей, сгустки пены, плескалось совсем близко, словно и его касался наш разговор.
— Вот что, Евграф, — молвил он, — коли веришь мне, я скажу. Нет туда дороги. Смотрел я.
— Ходил? Ходил, значит, в Зимние горы?
Он кивнул.
— А Савве сказал?
— Он не знает. Ему-то я согласия не дал идти, стар, говорю. Он с тем и ушел. А я дал мозгам движение. Погода, вишь, препятствует лову, дай оставлю тут Короткова, схожу, попробую, Евграф! С моря к заводу нельзя пройти, — разве если обсохнет после дождей. Реку завалило, нет по берегу пути, вовсе нет. Обвал. Река в Гусиное озеро течет. А через кручи, тебе самому понятно, как…
— Понятно. Гибель — через кручи идти.
— То-то и есть. А хоть ты и дойдешь до места, какой толк? Как ты вывезешь пещуру? Без реки-то.
— Эх, незадача! Надо же тому быть — лежат наши миллионы в таком проклятом месте, в Зимних горах! Арсений, — говорю, — неужели откажемся? Выход должен найтись.
У меня даже голос пресекся, — до того стало досадно.
— Сухой путь нужно найти.
— Бог с тобой, — испугался я. — В болоте завязнем.
Мы замолчали.
— Евграф, — сказал Арсений, — коли не веришь мне, сходи сам посмотри, завалило реку или нет.
— Ерунду ты болтаешь, Арсений, — ответил я твердо, — сущую ерунду. Даже слушать невозможно.
Мы поели ухи, выпили чаю и легли на топчан. Арсений заснул сразу, как младенец, мне даже смешно стало, до чего быстро он уснул. Щетинистую свою щеку на ладонь положил, — ну, чистое дитя!
Кроме нас в избе был будто еще третий. Не могу сказать, отчего мне так показалось. Наверно, оттого, что в другом углу белел полог от комаров, простыня, подтянутая бечевками с потолка, — ни дать ни взять лежит кто-то там, накрывшись простыней, и не спит, прислушивается к моему дыханию и думает.
Но там, конечно, никого не было. Какие комары в этакую стужу! Всех прибило.
За стеной море ворочалось. Прямо точно в стену бьет волна, — прилив идет.
Утром Арсений встал молчаливый, занятый какой-то мыслью. Я не спрашивал, — сам выложит.
— Евграф, — произнес он вдруг со вздохом, — и зачем я сказал тебе?
Я не понял.
— Ведь не поверят мне, что я был там, в горах. Не поверят. То отказывался, стар, вишь, а тут — реку заволокло, дороги нет. Не поверят мне, Евграф, Афонин особенно…
— Опять ты чепуху городишь, Арсений, — сказал я.
— Нет, ты погоди. А коли я недоглядел чего? Ведь едва добрел. Не те годы-то.
Очень мне стало жаль его, но я сказал строго:
— Ну, главное-то ты видел? Завалило реку?
— Завалило. Так ведь не поверят мне… Раз вором считают, так что уж… Не поверят, — упрямо повторил он и поник.
Локоть он поставил в лужицу пролитого чая и не отдернул.
«А он прав, — подумал я. — Афонин первый подымет крик — нельзя, мол, полагаться на старика, надо проверить… И Кузьмич подхватит. А Савва не сумеет их унять, мягок очень. Цыкнул бы на них…»
— Евграф, я тебе нарисую, где я ходил. У тебя ноги крепкие. А? Пойдешь, посмотришь.
— Обожди, — перебил я. — Во-первых, я еще не иду.
— Пойдешь, Евграф, — ответил он. — Вижу, тебе самому охота пойти. А про меня молчи, будто я и не был там вовсе. А? Ладно?
— Ладно, — сказал я. — Пускай так.
И тут же я рассердился на себя. Вот он — репей-то под языком. Не пойму, как вырвалось у меня! Да какое право я имею смолчать, раз меня Савва послал? Я поглядел на полог от комарья, словно и впрямь там лежал кто-то и слушал.
— Вот и хорошо, милый, выручишь, — обрадовался Арсений и поцеловал меня.
Ну как я теперь возьму свои слова назад! И я обещал ему, дал честное слово, что не скажу никому.
На прощание он нарисовал мне план своего похода, по памяти, чернильным карандашом, на листке, выдранном из школьной тетради.
6
Утром я надел сумку, поблагодарил за хлеб-соль и вышел.
Почту я ро?здал, остались только газеты да журнал «Знание — сила» для Самохвалова, нашего смолокура. Сумка легкая, зато дорога впереди длинная, безлюдная — сперва берегом, а потом лесом.
Впрочем, сегодня она покажется короче. Есть над чем поразмыслить.
Нет, Арсения мы в обиду не дадим.
Не впервой мне таскать заодно с почтой чужие заботы и тайны. Иной раз, по просьбе малограмотной старушки, прочтешь письмо вслух, а то и ответ напишешь, да тут же и положишь к себе в сумку. К примеру, бабка Татьяна, мать костромича Савельева. У нее сыновья и дочери по всему Советскому Союзу раскиданы: на Урале есть, на Кавказе, на Ангаре и в Москве даже. Так мы с ней читать письма прочь из дома выходили, во двор. Каждый ее к себе тянет, внуков нянчить, а она по доброте всем обещала приехать — ну и заварила кашу. Уж полгода здесь гостит, у сына, женатого на нашей курбатовской, а остальные дети, слышь, обижаются! Как им написать! Всегда бабка Татьяна со мной советуется. Не знает она, ехать ли ей отсюда, а если ехать, то в какую сторону.
Она, видишь, считает, коли я почтальон, значит должен ей всё объяснить по географии, где какой климат, какие люди, ну и насчет снабжения продуктами тоже.
Вот и Арсений доверился мне. Он может быть спокоен, тайну я не выдам, раз обещал. А письмо с объяснением насчет сетей я передам Мелешко, не задержу ни на минуту. На правах срочной корреспонденции.
Говоришь: «Сходи сам, если мне нет веры». Эх, Арсений, Арсений!
Я-то верю. А проверить, сам признаешь, надо. Теперь уж мне выпало идти, иначе некому. Сам на себя всё взял. Речного пути нет, так должен быть путь по суше. В чем и загвоздка! Хоть я тут и родился и вырос, а сомнение у меня большое — как туда добираться по суше. Болота же!
Вдруг за поворотом берега — буксирный пароход. Стоит на взбаламученной желтой воде совсем близко от суши, а на песке, на обломке плавника сидят трое. Что за публика? С какой целью? Буксир, наверное, прибыл из Чернолесска. Средней силы, обшарпанный, с желтой надстройкой и черной трубой, обведенной белой полоской, он лучше всего, пожалуй, годится вести плоты на реке или в прибрежной зоне. Для дальнего рейса он слабоват.
Я ускорил шаг. Буксир между тем засвистел и двинулся навстречу мне. Вскоре я прочел название над колесом: «Подснежник». Ветер трепал белье, развешанное на корме. А там, где стоял пароход, колыхался на волнах крошечный голубой катерок.
Никак плотовщики приехали, плавник собирать! Я подошел ближе и поздоровался. Приезжие ответили мне, и одного из них я узнал.
— Матрос! — крикнул я. — Алешка!
Он встал. Темные волосы его выбивались из-под фуражки. Он, Алешка, конечно он!
— Здравствуйте, дядя Евграф, — сказал он, потоптавшись, и протянул мне руку.
— Ей-богу, он! — кричу. — Чудеса! Я уж ответ тебе на твое письмо припас, а ты сам явился. Легок на помине, как сноп с овина.
— Прислали вот…
— А я уж подумал — сбежал ты со сплава, матрос. С чего, мыслю, камень понадобился… Попался ты! Проси пощады.
И я опять сгреб его и хотел напомнить про вдов. Письма его я больше не касался — видимо, было неудовольствие у него на работе и прошло. И нечего поминать это, тем более при его товарищах. Но, к моему удивлению, Алешка спросил:
— Давай, дядя Евграф. Что они мне пишут?
— Чудак, — говорю, — никаких разработок нет, и ответ от меня лично.
— Жаль, — говорит.
— Позволь, — говорю, — что ты в этом производстве понимаешь?
И вдруг я слышу:
— Дядя Евграф! Я же из каменотесов сам. У меня и отец и дед камень тесали. У нас вся деревня в Ярославской области, под Угличем, — каменотесы.
— Забирайте его, — подал голос один из сплавщиков, черноусый. — Забирайте да жените. Шалит много.
— Правильно! — кричу. — Правильно! Савва тебя не выпустит. Тебе которая больше нравится — Лиза Гуляева или Шура, заведующая наша?
Сказал я это и опять засмеялся, не хватало мне еще сватовством заниматься! Вот он — репей-то — под языком!
Алешка молчал. Ветер теребил его вихры.
— Шабаш! — молвил черноусый плотовщик. — Накиньте на него аркан. Кончилась, Ленька, твоя свобода.
Тут я познакомился с остальными двумя. Действительно, все из Чернолесска, от Северолеса, за плавником.
— А катеришко у вас ерундовый, — сказал я. — Не по здешней волне. Ну, прощайте, будь здоров, Алешка. Смотри, на свадьбу не забудь позвать!
Вот новость, Алешка вернулся! Большая новость, особенно для его вдов.
Вода убывает, море откатывается, открывает мне гладкую, чисто умытую дорогу. Упругий песок гудит и чуть не выталкивает ногу.
Потом лес принимает меня под свой кров.
Где-то здесь, в этих местах, есть будто бы Зосимова деревня. Основал ее святой Зосима. Живут там по справедливости, нет ни злобы, ни зависти, ни ссор. Туда путь только тот найдет, у кого душа чистая. Сказка, конечно! У нас в Курбатовке как завидят над лесом дымок, так говорят: в Зосимовой деревне печи затопили.
Глубже всех проник в глухомань Самохвалов, наш смолокур. Почти до самого Варегова болота прорубил он просеку.
У просеки этой я присел на опушке — передохнуть и пожевать хлеба с семгой. Потом обмахнул веткой пыль с сапог, ополоснул лицо водой из ключа. Так-то приличнее.
Здесь Самохвалов рубил лес лет шесть или семь тому назад, пни успели высохнуть, посереть. Кое-где они совсем исчезли в молодой поросли.
Тучи вдруг разорвались, выглянуло солнце, и сразу всё переменилось. На маленьких елочках, на кустах малины заиграли паутинки. Серые пни сделались чисто серебряные. Березы, даже самые дальние, за домом Самохвалова, забелели резко, теперь их все, сколько есть по опушке, можно пересчитать. А дом смолокура — на самой середине широкой просеки, сложенный из толстых бревен, необшитый, без наличников на окнах, — тоже весь серебряный.
Чу, дверь стукнула! И вон платок клетчатый над елочками плывет.
Плывет он над ельником, над пеньками, а мне вдруг вспомнилось, какие Анна прежде платки повязывала. Огнем горели! А в ушах сережки, — Самохвалов из заграничного рейса привез, молодую жену украсил. Звенели те сережки! Бывало, как зазвенит, стрельнет раскосыми глазами. Верно, ненецкая кровь в роду у нее была.
Теперь платок у тебя, Анна, простой, смирного цвета, бабий. Лет-то сколько прошло? Двадцать пять, или нет, двадцать шесть лет минуло с того дня, как она к моей жизни прикоснулась. Помню, Самохвалов привез ее из Ненецкого устья.
Бравый был парень Самохвалов тогда. Из-под козырька фуражки, украшенной якорем, вылезали кудри, точь-в-точь как у матроса Алешки. Плавал он на торговых судах, всё тело его разрисовано, на плечах и на груди сплетались змеи, а на руке, пониже локтя, парила птица и в клюве держала сердце, проткнутое стрелой.
Тогда моя Настасья была жива, и Анну я старался забыть. Да я видел ее редко. Я тоже плавал. На траулере в океане треску промышлял.
Анна подошла ближе, и солнце осветило ее теперь всю.
— Ты? Поздно ты сегодня!
— Замешкался, — сказал я, — на тоне у Куликова.
— Али с ним повадно?
— Дело у нас было, — ответил я.
Мы пошли рядом.
— Нету твоего? — спросил я.
— В деревне.
— Как рука у него?
— Так же, — сказала она.
Рука у Самохвалова висела плетью, когда он вернулся с фронта. Сейчас пальцы немного шевелятся. Фельдшерица наша впрыскивает ему новое лекарство, говорит, должно помочь. Но пока что работает Самохвалов одной левой.
— И долго ему лечиться? — спросил я.
— Кто его знает. Неизвестно.
— Ты не расстраивайся, — сказал я. — Незачем себя расстраивать.
— Жалко его, Евграфушка.
Мы сели на поляне, на нежарком припеке. Посреди поляны торчит старый черный пень. На нем нет следа пилы, — березу когда-то сломало бурей и она загнивает во мху, кора отстала и шуршит под головой, как набитая соломой подушка. А пень еще крепок. Нынче весной выросли на нем тоненькие побеги и оделись светло-зеленой листвой. И от корня побежали кверху опенки. В прошлый раз их было не больше полдюжины. Теперь эти грибы повзрослели, шляпки местами потрескались, ножки подогнулись. А маленьких стало больше, лезут они всё выше. Сейчас почти до самой вершины добежала цепочка малышей в желтых шапочках.
— Грибов много будет, — сказала Анна. — Говорят, урожай на них — к войне.
— Глупости, — сказал я.
— Хорошо, коли глупости, — согласилась она. — На болоте, на валу они шибко родятся. Хоть возами вывози.
Насчет вала я слыхал и собирался расспросить Самохвалова подробнее.
— Интересно, — сказал я. — Что за вал? Куда он может привести? Неужели до самых Зимних гор?
— До самых.
— Надо бы проверить.
— Зачем тебе?
— Как зачем? — отозвался я и приподнялся на локте. — Там, в горах, Куликов пещуру ломал. С моря ходу нет теперь, так, следовательно, отсюда надо. Москва камень требует. Может, мы миллионерами станем.
— Дай бог. Вал сухой, песок и камни. Ровно кто нарочно насыпал. Николай ног не замочил нигде.
— И далеко он был?
— До гор немного не дошел. Утверждает — идти свободно. Вал, как мостовая. Да ты что? Тебе-то нечего — помоложе тебя есть.
— Еще вопрос, — сказал я.
— Ишь ты, проворный какой! А сапоги вон — каши запросят скоро. Не ходил бы ты.
— Да ты что!
— Не ходи, — повторила она.
— Ты кто, Анна? — шутливо возмутился я. — Жена мне, что командуешь?
Она, жуя стебелек, с грустным смешком промолвила:
— Жалко тебя, лешего. Мотаешься ты, мотаешься на старости лет…
7
Шагая в Курбатовку, я обдумывал, как улучить время и наведаться в Зимние горы. Вал через болото, открытый мужем Анны, тянул меня к себе и тянул, так бы и двинулся туда сразу, не откладывая.
Завтра нельзя — «Колгуев» придет. С северного конца, из Ненецкого устья, почта хоть и невелика, а всё же есть, и мне надо быть на службе.
А вот потом попрошу у Шуры — заведующей нашей — два выходных подряд.
Есть пословица — дурная голова ногам покоя не дает. Может, моя и дурная. И права Анна — сапоги у меня на ногах каши просят, потому что у меня и так маршрут немалый, а я нет-нет да и сверх того отломаю конец. Так ведь не для себя же, для общества. Хотя, если по правде, то и для себя. Точильный камень, вполне вероятно, даст Курбатовке миллионы дохода.
Миллионы! В пути времени достаточно, чтобы представить себе нашу будущую, разбогатевшую Курбатовку. Да, тогда уж зажжется у нас лампочка Ильича! Не в обиду Зине, пригласим целую экспедицию изыскателей, покажем нашу реку таким специалистам, которые, может, станцию на Днепре строили. Не эту реку, так другую приспособим. Клуб приведем в надлежащий вид. Сейчас в нем обстановки, можно сказать, никакой нет — захудалая изба.
Тогда о нашей Курбатовке никто плохого не скажет. Напротив. Как начнем ломать пещуру да пустим в ход производство точил, — Вася Клюйков, наш радист, сразу напишет заметку. Он уже посылал в газеты материал о нашем колхозе и, бывает, печатают его, но только в Чернолесской «Северной волне». Не доросли мы, чтобы о нас центральная печать заговорила. Вот начнем точила сдавать — тогда другое дело. Не грех будет на весь Советский Союз протрубить.
Что же, я стану сапоги свои беречь и стоять в стороне? Ни в коем случае.
Так рассуждая, возвращался я вечером в деревню. И первый, кого я увидел, был Мелешко, мой постоялец. Сперва я не узнал его. На поверхности воды болталось что-то круглое, похожее на буй, к которому привязывают суда, но телесного цвета. Оказалось, что Мелешко плавает животом кверху.
Вот уж охота пуще неволи! Холодно ведь! Чудны?е эти приезжие, все норовят купаться, словно у нас тут курорт.
За штабелем плавника, укрывшись от ветра, сидел на корточках Афонин и держал мохнатую простыню.
— Ступай и ты, — сказал я, подходя. — Труса празднуешь? На твоем месте я бы первый полез — воду греть для начальства.
Тут Мелешко выбрался на берег — неуклюжий, толстый, в черных трусах. Афонин вскочил, подбежал к нему и подал простыню.
— Застыли вы, — сказал я.
Он ответил, что студеная вода ему нипочем, — организм нуждается в закалке. Афонин прыгал вокруг Мелешко, растиравшего себе плечи и живот, глядел на его белую, точно морозом схваченную кожу, вздрагивал.
— Ты бы спину ему потер, — посоветовал я.
— Вот это правильно! — весело откликнулся Мелешко. — Ценное предложение. Спина, между прочим, наиболее чувствительная к холоду часть нашего тела.
Афонин бросил на меня взгляд исподлобья и принялся усердно тереть. Мелешко быстро раскраснелся.
— Спасибо. Жарко, — засмеялся он.
— Одеться помоги, — молвил я Афонину.
— Нет, я сам, — и, держась на одной ноге, Мелешко вдел волосатую ногу в штанину. — Купаться, товарищи, следует именно в холодной воде. Северные жители недооценивают это. Я солнцем не злоупотребляю, загаром не увлекаюсь, ибо от него страдает нервная система.
Мне показалось, он прочел нам это вслух из отрывного календаря, где помещают указания врачей, правила готовки пищи и вообще всякую всячину.
— Нам купаться некогда, — заметил я.
— Пустяки. Обычная отговорка. Пятнадцать минут в день всегда можно выделить…
Он не договорил и замолчал, — может быть, до него дошел смысл моих слов. Так и надо. Был бы я обследователь, присланный из области, не стал бы я время терять на прогулки да купания, и еще в компании с Афониным. Выбрал дружка-приятеля!
Я смотрел на них и старался узнать, жаловался на меня Афонин или нет.
— А вы мне нужны, товарищ Мелентьев, — сказал Мелешко, застегнув пиджак. — Хочу прибегнуть к вашему жизненному опыту. Точнее, к вашим познаниям о местной природе, несомненно богатым.
«Ну и говорит!» — подумал я. Невольно я поглядел, нет ли у него в руках календаря или бумажки с конспектом речи, какая бывает у докладчиков. Однако то, что я ему понадобился, меня обрадовало. Уж, конечно, познаний у меня побольше, чем у Афонина.
— Извольте, — сказал я.
— Зимой, в результате морозов, у берегов образуется лед, так называемый припай. Так ведь?
— Истинно, — кивнул я.
— Весной его отжимает от берега. Вопрос в том, насколько внезапно это может произойти?
Ах, вот оно что! Снасть его заботит, проклятая снасть, которую Арсений упустил в море. Зачем только хитрит Мелешко! Ладно, я тоже не простак — Куликова не назову и вида не покажу, что его судьба меня касается.
— От ветра зависит, — ответил я. — Иной раз и оглянуться не успеешь. И не хочешь, а прозеваешь.
— А если хочешь, то тем более, — вставил Афонин, шевеля посиневшими губами.
Ведь продрог, продрог как собака, а не уходит! Не обойдемся без него! Непременно ему надо влезть в наш разговор!
— Нечего языком молоть зря, — оборвал я его. — Куликов мужик честный, не вор, не барышник. У нас на что дед Силантий был мудрец, сколь часто он зверобоев выручал, выводил на берег, а и тот ошибался…
Сказал и умолк. Эх, черт, помянул таки Куликова! Вот он, репей-то, под языком!
Афонин нагнул голову — словно боднуть собрался — и шагнул к Мелешко, волоча по песку простыню.
— Вот вам, пожалуйста, — проговорил он. — Все они тут друг за дружку.
— А ты за кого? — вырвалось у меня.
— За порядок в колхозе.
— А я, что, за беспорядок? А? За беспорядок?
Ужасное зло взяло меня. Тут бы мне, при обследователе, выложить всё, что я думаю об Афонине, но с губ моих срывались какие-то случайные и бессвязные слова. Не знаю, чем бы кончилось у нас, если бы не вмешался Мелешко.
— Не шумите, товарищи. Я очень благодарен вам, — тут он обернулся ко мне. — Мне, вероятно, и впредь потребуется совет старожила. Тогда еще потревожу вас, если разрешите.
— Да я всегда…
— Разумеется, товарищ Мелентьев, — вежливо остановил он меня. — Ах, что вы наделали с простыней, разбойник вы этакий! Дайте сюда!
Это уже Афонину. Мелешко взял у него простыню и начал сбивать с мокрого ворса песок. Похоже, он весь погрузился в это занятие и обо всем прочем забыл.
— Хуже, когда людей пачкают, — промолвил я в сердцах. — Кстати, письмецо вам.
Отдал ему пакет от Арсения, козырнул и ушел.
Я не оглянулся. Я шагал, отшвыривая куски плавника, теребя ремень сумки. Как раз теперь стали появляться в голове нужные слова, слова, которые я не успел сказать. Я шел, продолжая про себя перепалку с Афониным, и попадись мне сейчас навстречу Савва, наш председатель, ему тоже пришлось бы меня успокаивать. Но Савву и на этот раз не так легко было отыскать. Я уже остыл, когда увидел его возле клуба.
Он стоял в кольце подростков, и они в сравнении с его долговязой фигурой выглядели совсем детьми.
— Экое счастье целый день шарики гонять! — говорил он и разводил длинными ручищами. — А вон забор обвалился, что бы починить! Или мостики поправить! Неужели три месяца каникул на биллиарде просадить, будь он неладен! А? Да вы мозги вытряхнете, ребята! Одуреете. Ну как на собрание вас вытащим да проберем! Ведь стыд убьет.
— Хорошенько их поучи, Савва, — сказал я, подходя. — Построже.
— Издурачилась молодежь, — вздохнул он. — Ну, был у Куликова? Что он?
Мы спустились к реке и сели на доски, приготовленные для ремонта школы.
— Савва, — начал я, — дозволь мне сходить в Зимние горы.
И я стал толковать ему, какой маршрут я выбрал, да невзначай и сболтнул, что реку завалило.
— Завалило? — спросил Савва. — Откуда такие сведения?
— Арсений там был, — ответил я и спохватился. — Эх, мать честная, Савва! Опять репей под языком, правда твоя… Ну да, Арсений ходил и мне молчать велел. Я слово дал…
Тут я совсем смешался.
— Почему молчать! — спросил Савва, нахмурившись.
— Ясно почему, — сказал я. — Довели человека! Хорошее дело сделал, а скрывает, всё ему недоверие видится, страх имеет. Не тебя, Савва, Афонина опасается. «Не поверят, — говорит, — мне». Заладил — и баста. Я пожалел его. Прости, Савва, я решил — возьму на себя…
— Твоя забота маленькая, Евграф. А мне за всё отвечать.
— Ошибаешься ты, — прервал я, обидевшись. — Вовсе не маленькая забота. Один ты ответственный, что ли? Мы все ответственные.
— От меня-то почему хотел скрыть? — спросил он. — А, Евграф? Тебя же от общества послали. Эх, Евграф, Евграф! Репей ты весь, коли так. Дикий репей.
Не сразу я нашел слова для ответа, а он не отпускал мне плечо, всё крепче сжимал его и допрашивал:
— Зачем ты это взял на себя, Евграф? Какие у тебя причины? Я понять хочу. Может, думал, и я Арсению не поверю?
— Что ты, Саввушка, — сказал я. — Не думал я так вовсе.
— Не думал?
— Нет. Я решил сам в Зимние горы сходить, а потом уж… Потом всё сказать.
— Нет, погоди, — остановил он меня. — Всё же я не понял, отчего ты от меня таился. Ты Арсения послушал, зато меня обидел, вот ведь как вышло.
— Прости, Саввушка, — говорю. — А отчего? Тебе секрет этот труднее держать, ты на должности, ты обязан объявить всем. А так… Афонину ты силой не зажмешь рот, а следовало бы, олуху царя небесного… Мое положение другое, чувствуешь?
— Эка повернул, — молвил Савва. — А ты сообрази. Миллионное дело! Может оно на личных отношениях, как на волоске, висеть? Ты с обществом в прятки не играй.
— Хорошо, Савва, совет принимаю. Я и сам не хотел, да вишь… Теперь я так вопрос поставлю — ты мне доверяешь идти? Еще раз спрашиваю. Да? Ну и всё. И спорить нам не о чем. При коммунизме, как, по-твоему, будет существовать ответственность? Я не столь грамотен, а всё же разбираюсь. Властей не будет, суда не будет, и каждый, значит, перед всеми в ответе, а все каждого берегут, верно? Как жить, если людям не верить? Я Арсения ободрить хочу, Савва. Про него ведь бог весть что плетут…
— Думаешь, я не хочу? — спросил он и полез во внутренний карман своего пиджака, лацканы которого всегда торчат кончиками вперед. — Смотри, с какого года я в партии, — он раскрыл красную книжечку и показал мне. — Тридцать один год. Для спокойной жизни я вступил, что ли? Куда проще — все заботы свои в конверт да начальству. Начальство, мол, существует — ему и рассудить всё. Нет, Евграф, я риска не избегал. Случалось, ошибался, не без этого. Выговор был. Положился на одного, а он меня подвел. Но я считаю — ошибаться худо, но хуже во сто крат, опасаясь ошибки, ответственность на другого перекинуть. Что проку от такого чистенького!
Он сложил партийный билет, спрятал и спросил:
— Как же ты пойдешь?
— Через болото, Савва. Там вал есть, от Самохвалова.
— Да? Вопрос, куда еще выведет. А как в гору упрется, в оползень? Не лучше ли сначала проверить старый-то путь?
— Нет, — говорю, — Савва.
— Следовательно, проверять Арсения не станешь?
— Нет.
— А если правление постановит, тоже не станешь?
— Не стану, Савва. Дело миллионное, это верно, а ведь не от одних миллионов счастье. Еще важнее — человека не обижать.
— Вот ты опять недодумал, Евграф. Доверие, значит, без проверки? А Арсения как раз проверить надо. Пойми, он же слаб, он едва добрел и, может, рекой ошибся. Да мало ли что… Один человек ведь.
Я подумал и сказал:
— Ладно. Правда твоя. Я к морю выйду, коли сил хватит. Везде посмотрю. Видишь, он свой маршрут мне дал.
И я достал бумажку.
— Договорились. Действуй, Евграф. Взялся за гуж, так… На тебе всё.
— Спасибо, Савва, — сказал я. — Главное — человека не обижать.
И тут я вспомнил Афонина. Почему в нем злость такая? Что он за личность? Что ему нужно вообще? Мою схватку с Афониным я описал подробно.
— Загадка нехитрая, — сказал Савва. — Областное начальство нас не жалует, а он смотрит, откуда дует, да свой парусишко и подставляет.
И он прибавил, что, по всей видимости, Афонин метит в председатели сельсовета, поскольку Соколов заболел и из отпуска не вернется. Не исключено, нам кандидатуру Афонина порекомендуют сверху.
— Ну уж, шалишь, — воскликнул я. — Не выйдет! Не соберет он голосов.
— Его Гуляев выдвигает. Слыхал, наверное, они вместе в армии служили. Афонин был у Гуляева интендантом. По продовольственной, что ли, части.
— Ладно, — сказал я. — Вот приедет Васька, я потолкую с ним с глазу на глаз.
— Поругаетесь вы — и получится один пшик, — ухмыльнулся Савва. — А толковать с ним придется. Не только тебе. Тут к нему Мелешко с докладом… Гуляев, я подозреваю, рад будет виноватых найти, чтобы за наши прорехи самому не отвечать. Тяжело с ним.
— От Мелешко я не жду доброго, — сказал я. — Натура его бумажная. И что ему Афонин дался!
Тут я вспомнил вслух, как Мелешко купался, а Афонин ему прислуживал, и картина эта, возникшая передо мной, привела меня в такое раздражение, что я плюнул.
— Я всяких видал, — ответил Савва спокойно. — А Мелешко… Мужик он не ленивый, всю нашу отчетность прочитал.
— Весь он бумажный, — сказал я. — Как календарь. На каждый день листок готовый.
— А надо, ох как надо, чтобы Гуляев приехал! — молвил Савва, помолчав. — Тьма вопросов у нас. И насчет пещуры… Откуда руки взять? Значит, надо изменения в план вносить, в расстановку сил, понимаешь? Хорошо, что приедет. Пускай вникнет в наши дела, давно пора.
Я еще долго сидел с Саввой у реки. Много кусков коры оторвал он от доски и пустил по течению, — руки его всегда двигаются.
Не преминул я сообщить и о встрече с матросом Алешкой. В другое время Савва принял бы эту весть живо и наверняка стал бы рассуждать, как женить Алешку и оставить его у нас в колхозе. Но сейчас Алешка не очень-то заинтересовал Савву.
И то сказать, события у нас в Курбатовке такие, что и без Алешки есть о чем подумать.
8
К прибытию «Колгуева» курбатовцы, почитай, все на ногах, у пристани, где причаливают карбасы, а ребятишки — синие от холода, как когда-то мы с Васькой Гуляевым, — сидят на крыше. Но сегодня «Колгуев» особенно взбудоражил деревню. В толпе у пристани не было только бабки Парасковьи, должно быть, она решила дождаться сына в доме.
Что же до Афонина, то он, конечно, постарался прибыть на пристань раньше всех. Над горизонтом еще и дымок не заклубился, а он уже бегал на берегу и кричал, что карбас надо снаряжать немедленно и встретить товарища Гуляева в открытом море.
Дуся Прохватилова — ее окно как раз смотрит на пристань — пила чай. Афонин ее заприметил, кинулся к ней и начал торопить, да не на робкую напал. Дуся блюдце степенно осушила, поставила на стол, положила на перевернутую чашку огрызок сахара, потом показала Афонину язык и с треском захлопнула окно.
И правильно сделала! С какой стати непременно встречать в открытом море!
Афонин, понятно, взбесился и заорал еще громче, созывая молодежную бригаду, но это не привело ни к чему. Девушки взялись за весла, когда «Колгуев» бросил якорь в бухте. Афонин оттолкнул меня, с разбегу впрыгнул в карбас и как куль свалился на сиденье, злой донельзя и мокрый от пота.
— Распустились, — ворчал он сквозь зубы, с угрозой поглядывая на гребчих и особенно на Дусю. — Дисциплину черт съел! Полюбуется на вас Гуляев!
— А почто не любоваться, — отозвалась Дуся. — Мы не рябые.
— Позволяете себе, — не унимался Афонин. — Что хочу, то и делаю! Анархия полная.
— Хватит тебе, — вмешался я. — Карбас в положенное время вышел.
Но попробуй останови его! Он и так всегда привязывается к гребчихам, — с тех пор, говорят, как приударил за Дусей и та дала ему от ворот поворот. А сейчас Афонина ровно муха бешеная укусила.
Сегодня свара, пожалуй, некстати. И тут я сообразил, чем ее погасить.
— Слыхали, красавицы, — молвил я. — Матрос Алешка вернулся, плавник собирает.
— Нужен он нам! — бросила Лиза.
Значит, знают уже. Немудрено, Курбатовка невелика, новость, поди, в каждую дверь постучалась.
— Ишь ты! — сказал я. — Нет, он попался теперь. Мы его на какой-нибудь из вас женим, это факт, а не реклама!
— Куда его! Золото самоварное!
И Лиза упрямо повела плечом. Ох, гордые у нас девки! Шура, заведующая наша, тоже так… Я перевел взгляд на Афонина — он сидел, обдаваемый брызгами, ежился и ворчал.
— Проходимец, — донеслось до меня. — Морально разложившийся субъект. И его сюда, под одну кровлю! У преподобного Саввы всякой твари по паре.
Карбас между тем приближался к бару. С моря катились барашки и разбивались на отмелях. Лиза повернула руль, нос карбаса стал подаваться вправо, мы явно сползали с обычного курса.
— Лиза! — крикнул я.
— Сносит, дядя Евграф, — ответила она.
Не моргнула даже! Но я же видел, как она переложила руль! Или мне померещилось?
— Проскочим, — подала голос Дуся.
Правый проход мелок, а вода низкая. Однако Дуся и не помышляет выправить курс, она глядит на меня и лукаво посмеивается.
— Зубы скалить нечего, Авдотья, — строго сказал я. — Прихватит нас.
Дуся шепнула что-то белотелой, будто молоком умытой Нюре Панютиной, Нюра — Лизе. «Не первый раз они так перешептываются, — подумал я. — Что это они затеяли?»
— Где же прихватит, дядя Евграф, — заметила Лиза. — Налегке идем.
— Перышком плывем, — тоненько пропела Нюра.
Встречный ветер усилился. Бригада налегла на весла, брызги чаще стали влетать в карбас, и больше всего почему-то доставалось их Афонину. Он ругался и отряхивался. Китель его с начищенными пуговицами и выглаженный к приезду начальства намок и обвис.
Но я и вообразить не мог, что ожидало Афонина. Карбас коснулся дна. Правда, следующая волна тотчас подняла судно, но потом воровато выскользнула из-под него, и мы еще раз ударились килем о песок. У Нюры Панютиной весло чуть не выскочило из уключины, ведро сорвалось с места и, грохоча, налетело на мои ноги.
— Тьфу, лешачихи! — крикнул я, но, наверно, никто этого не расслышал. Пришла еще волна, но уже не могла подхватить нас, а только протащила карбас по дну. Песок держал нас, точно тысяча острых зубов, и с непривычки — от противного скрежета внизу — могло показаться, что карбас разламывается на части. Афонин побледнел. Вокруг нас пена, впереди морские волны, и хотя к нам они доходили уже ослабленные, подрезанные песчаными косами, всё же борта карбаса сотрясались от частых, сильных ударов.
Афонин, совсем белый, дрожащей рукой крутил пуговицу кителя. «Так и надо, — невольно подумал я, — давно пора тебе получить морское крещение!» Но он не выдержал его. Он вдруг встал, шагнул с карбаса в воду, туда, где открылась горбинка песка, и, подтягивая резиновые сапоги, побежал по отмели к близкому берегу.
Волны догоняли его, обдавали до пояса. На берегу он снова обрел голос. Он кричал что-то и размахивал кулаками, а мы уже снялись с мели и вышли в море.
Всё рассчитали, шельмы! Уперлись все разом веслами в дно, помогли волне, и песок только один раз прихватил нас слегка и освободил.
Всё произошло так быстро, что я не успел и слова выговорить. Гребчихи давились от хохота.
— Ой, дядя Евграф… — покатывалась Дуся. — Мы же его попугать хотели. Чуток попугать!
— Бесстыжие вы! Озорницы! — укорял их я, но, признаться, лишь для виду, — у меня самого всё внутри рвалось от смеха.
— А вы бы схватили его, дядя Евграф, — бойко вставила Лиза.
И верно, я бы мог ухватить Афонина за штаны и усадить, — стоило протянуть руку. Почему-то я не сделал этого. Ну, жалеть нечего. С одной стороны, это даже хорошо. Встречу Гуляева первый.
Разговоры смолкли — грести против ветра стало труднее. «Колгуев», окутанный дымкой тумана, стоял неподвижно, как будто на сваях, но, когда мы приблизились, я увидел, что и он качается, — медленно, неохотно поддается морю, а мелкая посудина, приткнувшаяся к его черному стальному боку, так и прыгает.
Под самым шторм-трапом занял место катер с маяка. Он принимал груз, пассажиров с парохода не выпускали. Я перебрался на катер, поймал стропы, и стрела подняла меня на палубу.
— Смотри, почтальон, — крикнул мне машинист с лебедки, — спущу я тебя когда-нибудь в трюм!
На белой стене надстройки блестела медная дощечка с мягким знаком вместо «б» в слове «Гамбург», она бросалась в глаза сразу, а под ней оказалась серая шляпа Гуляева, зажатого в толпе.
— Мое почтение, — сказал я, протиснувшись к нему. — К нам поедем? Милости просим!
Его толкали, он жался к стене.
— И канитель же тут с высадкой, — сказал он, сопя. — Безобразие!
— Маячный катер сунулся вперед всех, пройдоха, — ответил я. — Верных минут двадцать отнимет.
Гуляев хмыкнул и двинулся к открытой двери, ведущей в первый класс, я последовал за ним, хотя он и не звал меня.
«Васька! Да неужели ты не поедешь?» — так хочется сказать, но что-то мешает мне.
Вот он достает из кармана ключ, и качка не дает ему сразу попасть в скважину, а я еще не раскрыл рта. И тут я слышу:
— Заходи, Пропеллер.
Опять прозвище мое школьное вспомнил.
— Садись, — произнес он. Я сел и он тоже. Нас разделял столик, на нем лежал фотоаппарат, придавленный туго набитым портфелем. Скоро, наверное, бумаги в чемоданах будут носить, столько их развелось.
— Ну, как мамаша моя? — спросил он. — Очень на меня обиделась?
— Уж не без этого, — ответил я. — Конфетами бабку Парасковью не задобришь.
Кому-кому, а нам-то ее характер известен. Бывало, Ваську оттаскает за уши, да заодно и мне достанется.
— Как у тебя однажды ярус запутался! — молвил я, смеясь. — И она тебя… Или запамятовал?
На ярус — на бечевку, усаженную крючками, — мы ловили камбалу к обеду, я и Васька. И вместе в его доме снимали рыбу. Тут и свалялся Васькин ярус узлом. Но не за это поколотила его мать, а за то, что он, развязывая, потерял терпение и заревел. Будущий-то рыбак!
— Затрещина тебе и сегодня приготовлена, — пригрозил я шутя. — И горячая.
Он тоже развеселился. Нос у него поморщился, как у прежнего Васьки Гуляева, и мне показалось на миг, что мы снова мальчишки и держим совет, как избежать гнева бабки Парасковьи. Я показал на фотоаппарат и сказал:
— Ты ее на карточку, Василий. Она это любит. К сестре ее, к сказительнице, приезжали фотографы, так всё норовила ей под бок.
— Нет, эту машинку я спрячу. Ну ее! Жена пристала — заведи да заведи! Тот снимает, этот снимает, а ты чем хуже, говорит. С аппаратом, говорит, внешность более интеллигентная. Занятие интересное, но мне, сам можешь понять, уделять много времени некогда. Главное, Гуляевых чуть не половина деревни. Родня все! Прибегут сниматься…
— Не умеешь еще, что ли?
— Дело не в том, — сказал он, смутившись. — Мелешко работает?
— Работает.
— Ну вот!
Что-то он иначе повел речь! Ну ничего, по крайней мере откровенно.
— Я в отношении мамаши хотел тебя просить, Евграф. Предупреди ее, чтобы она не слишком… Я со следующим карбасом могу съехать, а ты сходи к ней. Понял? Сердита она на меня, так пусть не афиширует, понятно?
Чего тут не понять, всё ясно! Не затем ли он и позвал меня к себе в каюту. Эх, Васька, Васька! Плачет по тебе ремень, да вот беда — большой вырос, и еще областное учреждение представляешь.
— Предупредить можно, — сказал я. — Только напрасно это. Я так полагаю, мать именно при народе захочет тебя пристыдить. Если тебе неловко, если ты, Василий, своей семьи чуждаешься, тогда лучше и не заявляйся туда. Никто не неволит.
Такого ответа он, верно, не ждал. Ловко я подобрал слова!
— Нет, — сказал он. — Поеду.
Я и не сомневался, — отказаться ему нельзя. Я одобрил решение, а он вздохнул и молвил:
— Был бы я на твоей работе, почтальоном! Горя мало и воздух здоровый!
Я представил себе, как мы меняемся местами. Он надевает мою фуражку со значком связиста, мою ватную куртку, залатанную на плече. Да нет, не полезет она на него — раздобрел! Мне он отдает свое серое пальто, шляпу, свою квартиру в Чернолесске, приличная, должно быть, жилплощадь, или как это у них там, в городе, называется. И кабинет с телефонами, бумаг необозримые груды. Нет, обоим станет кисло!
— Эх, Пропеллер, — вырвалось у него. — Надо мной ведь тоже начальство есть. У вас плохо, а теребят ведь меня!
Говоря так, он обращал взор к выбеленной подволоке, то есть к потолку каюты, по которому скользили отсветы моря.
— Афонин тоже всё наверх глядит, — сказал я.
Я хотел добавить, что надо почаще смотреть вниз, на простых людей. Но в эту минуту постучала к нам коридорная. Выгрузка кончалась, пассажиров, едущих в Курбатовку, просят в карбас.
Гуляев встал, сунул фотоаппарат в портфель, и мы вышли вместе.
Трюм уже задраен. На люковой крышке водружен диван, должно быть купленный в Чернолесске. Владелец дивана, рябой парень в ушанке, сидит на нем, держа на коленях гармошку.
— Что ж, Афонин! — слышу я. — Чем он вам не угодил? Критика нам нужна.
Гуляев приосанился, расправил плечи, втиснулся в толчею, и на лице его снова нет ничего Васькиного. И я не отвечаю ему. Правда, я очень мало успел сказать тебе, Василий, но потом, в Курбатовке, мы продолжим разговор. Впрочем, ведь я не один! Найдутся и другие, чтобы потолковать с тобой о наших делах по совести и напрямик.
9
На берегу, у пристани, было черным-черно, — видать, вся деревня высыпала встречать Гуляева. Ребятишки оседлали перила на террасе сельпо, крышу бани и даже остов недостроенного бота, возвышавшегося над пристанью, будто скелет акулы. Но я и сейчас не мог отыскать среди курбатовцев бабку Парасковью. Нет и председателя нашего, Саввы.
Зато Афонин, конечно, тут как тут. После своей прогулки вброд он не просох, сапоги его громко чавкают, когда он рысцой трусит по сходням на бон.
— Здравия желаю, товарищ майор! — орет он, вытягиваясь перед Гуляевым.
— Привет, — отвечает Гуляев, — привет, товарищи! — и оглядывает Афонина со снисходительной усмешкой. — Гвардеец! Пуговицы сменил бы… Пуговицы короля Михая…
Это последнее, что до меня донеслось. Я прежде Гуляева спрыгнул с карбаса и спешу к Шуре — передать ей почту. А потом к бабке Парасковье! Нет, Гуляев не повторял своей просьбы предупредить ее, но надо же выяснить, почему она не показалась у пристани.
«Ох, почтальон Мелентьев! — говорю я себе. — Везде-то ты должен поспеть! Не про тебя ли поговорка — дурная голова ногам покоя не дает! Что тебе, больше других нужно?» Однако ноги мои не останавливаются, они сами несут меня задворками, кратчайшим путем, к дому бабки Парасковьи.
Бабка, конечно, вознамерилась проучить своего сынка, потому и дома осталась. Она сидит, верно, в красном углу под иконой древнего письма, в окружении отцов и дедов, корабельщиков из рода Гуляевых, чьи портреты развешаны по стенам, — сидит и вяжет цветные варежки. И правильно! Пускай Васька сам найдет дорогу к ней да попросит прощения. Нет, ему нечего гнушаться своей родни. У бабки, чуть поправее иконы, висит старинная картина под стеклом, называется она «Подвиг крестьянина Ивана Гуляева в 1855 году». В тот год англичане штурмовали Соловецкий монастырь, и одна военная ладья ихняя толкнулась было к нам, в устье Заманихи. А Иван Гуляев в лесу капканы ставил. Усмотрел он англичан с холма, да и начал палить из своего охотничьего ружья. Те подумали — засада, боя не приняли, поскольку их была всего горсточка, и убрались прочь. Потом Ивану прислали медаль, но ее присвоил себе волостной старшина, и она только после революции водворилась у Гуляевых. Лежит, верно, в жестянке из-под печенья, на бабкином комоде.
Всё это вихрем проносилось в уме, пока я спешил, и мне представлялось, как она вынимает медаль из этой коробки, вмещавшей когда-то соленое печенье фабрики Абрикосова и украшенной трехмачтовым парусником, и показывает сыну, как показывала прежде, лет тридцать назад, ему и мне.
Вот и околица деревни, а там и пригорок, ощетинившийся чашей пеньков, и дом. Вернее сказать, терем, где покойная Гуляева, сестра бабки, складывала свои былины. Что и говорить, славный род!
Перед входом, под резным навесом крыльца, что-то белело. Я вгляделся.
Вот так штука!
Бабки-то дома нет! Может, померещилось мне? Нет, к двери приставлены два весла, крест-накрест. Знак этот по всему побережью понятен. Если бы она ушла ненадолго, скажем, к овцам, в лес наломать веников, то выставила бы одно весло. А два весла — значит и ждать нечего. Вернется нескоро.
Я подбежал и на всякий случай дернул скобу. Нет, бабка еще и заперла дверь. Заглянул в окно. В избе пусто, на столе брошенное вязанье.
Ну и бабка! Верно, она крепко обиделась на сынка, раз выкинула такое!
Но где она? Не могла бабка уйти далеко. Верно, заперлась и сидит где-нибудь в доме, в задней комнатушке, за печью. Я побарабанил в окно, затянутое изнутри, потом кинулся к черному ходу. Заперто и здесь! «Ну, а ты чего суетишься, Евграф? — сказал я себе. — Тебе-то что нужно? Ступай-ка на почту, забирай письма, газеты…»
В это время, пока я топтался у черного хода, кто-то постучал в дом с другой стороны, сперва тихо, а потом сильнее.
Я завернул за угол. На крыльце стоял Афонин. Сверкая пуговицами короля Михая на ворсистом кителе, он раскачивался и молотил кулаками в дверь так, что гудел весь дом и дребезжали стекла. Я подошел, но он, занятый своей работой, не замечал меня.
— Потише! — окликнул его я.
— Спит она, что ли! — он отступил на шаг, тяжело дыша. — Куда она делась, почтальон? Черт ее задави! Гуляев приехал, а она…
— Парасковьи Степановны нет, — сказал я как можно спокойнее. — Видишь, весла! Нечего и грохотать зря. Гуляеву надо будет потерпеть да выпросить прощения у матери.
Афонин поглядел на весла. Вид у него был ошеломленный. Он сбежал с крыльца и уставился на меня. Сапоги его уже не чавкали, из широких раструбов пахло потом, и я отшатнулся.
— Дурака не валяй, почтальон, — бросил он. — Товарищу Гуляеву некогда. А ты чего потерял тут? А-а-а, понятно! — вдруг выпалил он и потемнел. — Сговорились! Понятно, всё понятно! Ишь, затеяли… Всё ясно, для чего ты тут околачивался. И тебя на свежую воду выведем! Ишь ты! Нашли темную старуху, из ума выжившую…
Остановить его я не мог. Он кричал как бешеный. Оба мы не заметили, как подошел Гуляев.
С ним был Савва, наш председатель, заведующий рыбозаводом Никандров, Мелешко и несколько стариков, в том числе Кузьмич, румяный, с косой бородкой да, как всегда, с ехидной ухмылкой.
— Нашли дуру, — бушевал Афонин. — Использовали как орудие! Да за это, знаешь ли ты… Где бабка? Зови ее. Я вправлю ей мозги, ведьме старой.
И тут он осекся. Кажется, Савва подал голос и остановил его. Афонин глотал воздух, рот его шевелился, как у рыбы, выброшенной из сети в лодку. А Гуляев смотрел на него, сжав тяжелые кулаки.
Однако Афонин овладел собой. Он с усилием подтянулся, выпятил куриную грудь и двинулся вперед.
— Разрешите доложить, — начал он, приближаясь к Гуляеву четким солдатским шагом. — Нездоровые настроения… Вот, извольте видеть, во что вылилось. Демонстрация против руководства. Факт налицо.
Гуляев молчал. Афонин ступил на корень, поскользнулся, походка его сделалась не столь уверенной. Но он всё-таки шел, смело шел на Гуляева. И тут Гуляев выставил вперед руку. Она была по-прежнему сжата в кулак, — похоже, что он сейчас ударит Афонина. Все притихли, слова Афонина, вылетавшие с какой-то отчаянной решимостью, раздавались как бы в пустоте.
— Я сигнализировал, — донеслось до меня. — У них тут шайка-лейка… Председатель и все в правлении… Сговорились все.
Афонин подошел еще ближе, — вот-вот он наткнется на вытянутую руку Гуляева. А Гуляев не отводит руку. Афонин говорит что-то, но то ли голос его упал или расстояние увеличилось, — я никак не могу разобрать, какую еще несусветицу он городит, чтобы спасти себя.
Гуляев разжал кулак и схватил Афонина за пуговицу. За самую верхнюю, у ворота. Оторвал ее, выпустил из пальцев и взялся за вторую.
Минуты две ничего не было слышно, кроме треска отрываемых пуговиц. Они падали и мерцали на тропе, пуговицы с гербом короля Михая, краса Афонина. Другой бы на его месте сгорел от стыда, исчез. След бы его простыл, только пуговицы бы и остались от него на истоптанной земле.
— Напрасно обижаете, товарищ Гуляев… — бормотал Афонин, рывками запахивая китель. Борта выскальзывали из его пальцев, открывали грязную майку.
— Уходи-ка ты лучше, — пробасил Савва. — Уходи да приведи себя в порядок.
— Ладно. Я уйду! — крикнул он с угрозой. — Но я докажу… Я, товарищ Гуляев, докажу…
И тут на рейде протяжно загудел «Колгуев», словно и он решил вмешаться. Над трубой взлетело белое облачко пара, растаяло, — пароход дал второй гудок.
Гуляев вытащил часы, а Кузьмич, сощурившись, протянул:
— Приглашают вас, Василий Поликарпович.
«Вредный твой язык! — чуть не произнес я. — На что ты подбиваешь Гуляева? Чтобы он, не получив материнского прощения, уехал?»
Гуляев вытащил часы, повертел их и сунул обратно. Вряд ли он рассчитывал остаться у нас. Следующий приход «Колгуева» через неделю! Но и уехать ему сейчас нельзя, никоим образом нельзя. И не отпустим мы его!
— Товарищ Гуляев погостит здесь, я считаю. Ему будет интересно со всех точек зрения.
Мелешко, сказавший это, словно поддержал меня, но тут же я уловил какую-то заднюю мысль в его словах. Что за человек Мелешко, всё-то он загадки ставит! А Савва, Савва почему молчит? Безразлично ему, что ли?
Но всё шло своим порядком, и только мое нетерпение не давало мне покоя.
— Ты, Василий Поликарпович, — начал Савва, по обыкновению своему дружески и вместе с тем твердо, — послушай, рыбаки что говорят. Товарищ Гуляев только на праздники приезжает! На готовый пирог!
Вот-вот! Правильно! Молодец Савва, выложил ему самое важное!
— Помочь съесть пирог нехитро, каждый сумеет, — продолжал он. — А вот испечь как? Ты в этом разберись! Всё мы с тобой бумажками перебрасывались, ты на меня в претензии, я на тебя… Давай, в конце концов, приведем нашу канитель к одному знаменателю.
Правильно! И я думал так, только не успел сказать! Теперь очередь за Гуляевым.
— Кстати, — молвил он, как бы отвечая на вызов, — насчет точильного камня как у вас? Меня Москва запрашивает, я обещал. И пока что я в дураках. Канитель от вас происходит.
Так я и знал — непременно подберет что-нибудь в пику Савве. Ну, ничего! Савву не так-то легко сбить с толку.
— Дадим камень, — коротко сказал Савва.
Толчком отдалось это в моем сердце, — так решительно он сказал. «Держись, Евграф, и от тебя кое-что зависит, — напомнил я себе. Чем еще закончится мой поход в Зимние горы! Но всё равно — дадим камень!»
А Гуляев не промолчит! Наткнулось долото на гвоздь! Верно, помянет молочную ферму, из-за которой ворох переписки накопился. Само собой, и на это Савва найдет ответ, ведь основная наша специальность рыбная ловля и зверобойный промысел. Возможная вещь, Гуляев заведет разговор и о пропаже снастей, об Арсении и вообще обо всем том, из-за чего прибыл к нам Мелешко. И откроется тут, перед домом бабки Парасковьи, диспут.
Однако я в мыслях унесся слишком далеко вперед. Ничего такого не произошло. Никакого диспута. Позади меня в замке звякнул ключ.
Все голоса смолкли, как только на крыльце показалась бабка Парасковья. Гуляев снял шляпу и, держа ее перед собой обеими руками, двинулся навстречу. Бабка спустилась на одну ступеньку и остановилась, а Гуляев приблизился к крыльцу и, прижав шляпу к животу, поклонился.
— Простите меня, мамаша, — сказал он.
Бабка глядела на него сверху вниз. На ней были новые полусапожки, голову она, как на праздник, украсила кокошником. Давно, с детских лет, не видел я бабку такой высокой. И к тому же, она стояла на крыльце, а Гуляев, согнутый в поклоне, еще был внизу, не решался без позволения матери поставить ногу на ступеньку. Гуляев ждал, бабка не двигалась, только искорки на кокошнике перебегали с одной тусклой старинной жемчужины на другую. Я посмотрел на Гуляева, лицо у него стало совсем как у прежнего Васьки, пойманного на шалости и заслужившего порку.
— Весла-то подыми, — промолвила бабка строго. — Поставь вон там, к стене, пока.
Оставив дверь открытой настежь, она ушла обратно в дом, а Гуляев положил шляпу на перильце и послушно подобрал весла. Потом он взял шляпу, решительно нахлобучил ее и переступил порог.
10
Ну и дела у нас в Курбатовке! Ну и дела! За один день сколько событий! Да я бы не поверил, честно говорю, не поверил, что один день может вместить столько всего, если бы не убедился сам. Ведь бывает — целый месяц минет и не оставит после себя ничего, ну решительно ничего выдающегося.
А тут — за один день…
И всё-таки, если разобраться, особенно радостного не случилось ничего. Афонин хоть и ушел тогда от дома бабки Парасковьи как побитая собака, но гнев Гуляева пройдет…
Одно хорошо — не отказался Гуляев от своей родни, остался у нас. По сути-то, мужик он неплохой. Вот беда — на должность в Облрыбаксоюзе недавно поставлен, не знает еще, как держаться.
Афонин и пользовался.
Неужели не убедился Гуляев, что? он за фрукт, Афонин! Ну как же доверять ему? Нет, ни в чем нельзя! Он и правду-то повернет криво!
Кстати вышло, что Гуляев здесь. Бабка Парасковья удержала его! Всё разрешится при нем и, я надеюсь, в лучшую сторону.
Так думал я, разнося письма. Конечно, не раз мысли мои обращались и к предстоящему походу в Зимние горы.
Домой я возвращался вечером. Солнце уже опустилось в море, вода потемнела, и ветер стал холоднее.
Не подозревал я, что день еще не отдал всего, что имел в запасе. Что еще одна новость стережет меня у моего дома, у самого входа.
— Дядя Евграф, — услышал я.
С завалинки поднялся парень в фуражке, сдвинутой на затылок, и я узнал матроса Алешку. Вот о ком я начисто забыл!
— Здоро?во, матрос, — сказал я. — Пришел всё-таки!
Оказывается, он еще вчера, с товарищами своими, стал тут на квартире у деда Игната, который карбасы мастерит. А утром был на пристани. Что же ему от меня нужно?
— Я к Зине, дядя Евграф, — ответил он. — Не знаете, когда она будет?
— Ну нет! — крикнул я. — Извини! Кукиш с маслом! Поворачивай, живо поворачивай отсюда!
Хватает нам и двух Алешкиных вдов. Девчонку смущает! Нет, я хоть и не отец, а не позволю! Ишь, проворный какой, уже высмотрел! Нет, не разрешаю! Точка! Распалился я, взял его за плечи и стал подталкивать, а он уперся. Так боролись мы некоторое время, пока я не устал.
— Не допущу всё равно, — молвил я и перевел дух. — Еще вдов кликну. Выцарапают они тебе глаза.
На это он преспокойно ответил, что вдов он видел и они даже здороваться с ним не желают.
— Так и надо, — сказал я. — Девки у нас самостоятельные. Погоди, они еще тебе покажут. А ты, значит, перестроился! Уже и Зина понравилась.
— Понравилась, дядя Евграф, — произнес Алешка, но другим голосом, без обычной своей лихости, а скорее с жалобой, как будто с ним приключилась нечаянная напасть.
— Очень понравилась? — спросил я.
— Ага.
— Ладно. Постой тут, — сказал я и вынес из сеней пилу и топор.
Не говоря ни слова, я подвожу его к тому толстому бревну, что лежит возле дома. Зина отколола от него совсем немного. Да и где ей с ним справиться! Давно я собирался найти напарника да разделать это бревно.
Пеняй на себя, Алешка! Сам напросился! Берись-ка за работу!
Думал я, что он сдрейфит, как увидит такую махину — в три обхвата. И действительно, сперва Алешка оторопел. Потом взял у меня пилу и повернул зубьями кверху.
— Не беспокойся! — сказал я.
Развод в порядке, придраться не к чему. Не зажмет. Был бы пильщик не ленив.
— Давай, дядя Евграф, — тряхнул кудрями Алешка и сбросил куртку.
Мы допилили до половины, и пилу всё-таки зажало. Алешка вытесал клин, загнал его в расщелину, и работа пошла легче. Однако пришлось вбить еще два клина, вот какой матерущий достался ствол!
Отрезали один кругляш, сели передохнуть.
— Ну и хворостина чертова, — бросил Алешка и провел ладонью по мокрому лбу.
— Еще три таких полешка отрежем, — напомнил я. — Колоть сейчас будешь или все сразу?
Он и тут не сробел, однако ответил, что переколет потом, чтобы меня не задерживать.
Неужели Зина не знает про его вдов? Знает, конечно, иначе и быть не может. А он не отстанет от нее, вон какой трудовой энтузиазм показывает! Ох, лучше бы сбежал!
Вообще я люблю, когда хорошо работают. Но тут Алешкино рвение стало раздражать меня.
— Всё чтобы было расколото! — сказал я сурово. — Бегать за девками вы все горазды, а вот…
— Порядок будет, дядя Евграф, — ответил Алешка послушно и швырнул окурок.
— Начали, — говорю я и протягиваю ему пилу. — Намнет тебе холку эта хворостина. Гляди, сучков сколько.
— Ерунда!
«Тьфу, чтоб тебя! — молвил я мысленно. — Настырный какой!» Мы отпилили еще кругляш, немного потоньше. На него хватило двух клиньев. Однако жару он нам задал, и я от усталости прямо свалился на ступеньку.
— Дядя Евграф, — сказал Алешка. — Интересовался я вашим камнем. Пробовал тесать.
У деда Игната, который Алешку на квартиру к себе пустил, точильных камней полон двор. Поэтому слова матроса меня не удивили.
— И удалось? — спрашиваю.
— Нет еще. Против нашего он мягче, а не дается.
— То-то, — бросил я. — Мастер нужен.
— Я в Армении служил, дядя Евграф. В пограничных войсках. Камень есть, туф называется. Из него что хочешь можно высечь, кисть винограда или, предположим, человека.
— Ну и что? — спросил я.
— Сноровка нужна, главное. Я видел. Инструмент у них специальный, вроде долота. Дядя Евграф, — вдруг оживился он, — я всё-таки перейду на каменную работу, ей-богу!
— Отстань ты, Алексей! — отмахнулся я. — Сам ты не ведаешь, что тебе нужно.
Всегда он так — попадется ему на глаза что-нибудь новое, загорится, да ненадолго.
— Я моряк случайный, — говорит.
— Море случайных не терпит, — возразил я. — С морем не играют, оно, брат, серьезное. Дело твое, Алексей. Тебе виднее, кто ты есть. Надо тебе к чему-нибудь одному прицепиться в жизни, а то что же… Кончай курить!
Как не противилось свилеватое дерево, мы осилили его, нарезали пять кругляшей. И Алешка уже начал колоть, но в это время показалась Зина. Она шла по улице со своей подругой, фельдшерицей Верой.
— Куда! Куда! — крикнул я, но Алешку словно ветром сдуло к ним.
Колун упал к моим ногам. А на мостках гудели Алешкины шаги, неслись вдогонку за стуком девичьих сапожек. Как его остановишь! Что я могу! Ну, не впущу я его в дом, так ведь найдет место… Размахнулся я колуном и со всей злостью хватил по кругляшу. Он уцелел, однако, и точно насмехался надо мной. Глазки-сучки, темные на белом срезе, как бы щурились.
Нет, не стану больше. Алешка докончит.
Я лег в постель и долго прислушивался — не возвращается ли Зина. Под утро, сквозь сон, доносились до меня какие-то удары, а когда я вышел, Алешка всё еще колол. Он, должно быть, не спал и был бледен, но трудился рьяно и даже не поглядел в мою сторону.
— Зина где?
— Дома.
— Вот что, Алексей, — сказал я, приблизившись вплотную. — Если обидишь ее, плохо тебе будет.
Не дожидаясь ответа, я ушел обратно к себе. Согрел самовар, достал из подполья соленой семги, — дорога предстоит длинная и заправиться надо как следует.
Пройду сперва по берегу, по тоням, раздам почту и, не доходя Поползухи, сверну к смолокурне. У Самохваловых заночую и с утра двинусь через болото. Потом — к морю, на Поползуху, к Арсению. С новостями.
А вдруг матрос Алешка и вправду приноровится к пещуре? Ну что ж, на то и молодые, чтобы нас, стариков, обгонять.
11
Я уже и сумку надел и только собрался уходить, как явился Мелешко — за горячей водой.
И, не глядя на часы, можно было сказать — минуло семь. Мелешко спускается ко мне за кипятком всегда в одно и то же время — минута в минуту. И всегда в жилете поверх сорочки, накрахмаленной точно к празднику. Наливая воду из самовара себе в стаканчик, он сообщает, что бреется ежедневно, и объясняет, почему. Не избежал я этой лекции и сегодня.
— Некоторые опасаются за кожу, — сказал Мелешко. — Но, я бы сказал, наоборот: волос за сутки не успевает сильно отрасти, и коже легче.
«Завел! — подумал я с досадой. Лучше бы поделился, о чем вчера с Гуляевым беседовал!» Я приготовился слушать наставление до конца, но Мелешко оставил начатую тему.
— В экспедицию, значит, собрались? — спросил он. — В Зимние горы?
Я, должно быть, вздрогнул. Кусок семги упал с вилки на стол. Ведь я думал, о походе моем никто, кроме меня и Саввы, не знает. Стало быть, Савва открыл ему! С какой стати? Я мог только гадать, много ли Савва сказал Мелешко, и поэтому от себя не прибавил ничего. Притворился, что рот у меня набит, и кивнул.
— Это хорошо, — сказал Мелешко. — Откладывать было бы нецелесообразно.
Я молчал.
— Очень хорошо, что вы идете, — закончил он.
— Извините, — молвил я. — Неясно.
Он стоял в жилете, скрестив на груди руки, и о чем-то размышлял. Мой ответ заставил его очнуться.
— Желаю вам благополучно дойти. Достигнуть вашей цели.
Он шагнул ко мне и пожал мне руку. Я смущенно поблагодарил.
Ему-то что? Чего он-то чает от моего похода? И почему сейчас самое время? В голове у меня поднялась сумятица и вид у меня, должно быть, был дурацкий, а он еще раз, без улыбки, но ободряюще, стиснул мою руку и слегка встряхнул:
— Видите, дело в том, что сегодня Афонин отправился с той же миссией в горы, к той мастерской.
К мастерской? Я прирос к полу. Ах вот как! Передумал я много за все эти дни, но чтобы там, в Зимних горах, встретиться с Афониным… Нет, это не приходило мне в голову. Что ему надо? Нужда должна быть крайняя пускаться одному, не зная как следует местности, в такую дорогу. Что ж, удивляться нечего. Для себя старается. Положение его пошатнулось, надеется поправить.
А Мелешко мне:
— Я приглядывался к Афонину. Опасаюсь — его информация может оказаться ненадежной. Он трусоват и невыдержан. Я пошел бы сам, но, к сожалению, подобные кроссы уже не по мне.
Вот тебе и отрывной календарь. Приглядывался! А я-то думал…
— Письмо Арсения Куликова, — спрашиваю, — вы читали?
— Разумеется. Меня оно вполне удовлетворило. Я сам пришел к тем же выводам. Куликова, по-моему, следует считать свободным от подозрений в каком-либо недобропорядочном умысле.
Минут пять я стоял, ликуя, глядя на дверь, закрывшуюся за Мелешко, а потом вышел и ноги сами понесли меня из деревни.
Вот и море. Огибая бугры, поросшие лесом, вьется узкий песчаный край суши, моя дорога. До чего же длинная она сегодня!
Ветер ночью стих. Волны всё еще плещут, несут свою палубную вахту, отмывают песок, но белых гребешков уже не видно, а вода из желтой сделалась свинцовой, потому что муть осела на дно. Но не было бы перемены к худшему! На небе, кое-где чистом, обозначились легкие, словно перекрученные облачка, в вышине столкнулись два ветра. Какой осилит? Конечно, вёдро будет непременно, не минет же лето без него, но перед тем, как установиться тихой погоде, ветер возьмет, свое сполна, отыграется штормом.
Ненадежное это затишье. А мне и так беспокойно. Незачем спешить, а спешу.
Ро?здал я на тонях почту и достиг смолокурни к вечеру. У Самохваловых я ночевал. Утром Анна сунула мне узелок с ватрушкой.
Самохвалов проводил меня до вала. Простился с ним, сел на пенек, перемотал портянки. Великое дело — перемотать в походе портянки!
Ну, давай, Евграф! Шагом марш! Не оглядывайся. Вся твоя надежда на ноги. Вспомни, как бывало в наступлении, на Псковском участке. Однажды вот через такое же болото пятьдесят километров за день прошли.
Здесь природа потрудилась, спасибо ей, соорудила, словно специально для меня, дорогу.
Вал сухой, порос жесткими травами, сосняком. Под сапогами песок скрипит. А местами вал тонет в трясине, заплывает черной грязью.
Еще часа три шел я по валу. Горы, вот они, за болотом сразу. Всегда в дымке, как в снегу, — оттого, верно, и названы Зимними. Конечно, если взять и поставить рядом гору Ай-Петри в Крыму, куда я лазал с экскурсией из санатория, то это не более как холмы. Но по нашим краям — горы. А подъем тут несравнимо тяжелее, местность что ни есть дикая. В ложбинах лесная чаща немыслимая — в ней только топор Николая Куликова и стучал. Бурелома там, гнили скопилось — страсть! Да еще завалы камня. Но главное препятствие — глина. Хорошо, дождей давно не было, а то нечего и соваться туда.
Николай водным путем к своей пещуре проник, а по суше, ох, намаешься!
Два пота с меня сошло, пока я на хребет взобрался. Глина хоть и застыла, пообсохла, а всё же скользкая она, всё, проклятая, норовит сбросить меня назад! Да, хуже болота такая суша! А что тут творится осенью или по весне, когда потоки глины свергаются с откосов!
Говорят, до войны один пастух забрел сюда и погиб, так и не нашли его. Не курбатовский, — из Пахты.
Повыше, на ветру, на солнечном припеке, глина тверже, трещины во все стороны разбегаются, как паучьи лапы. Торчат редкие сосны. За ними, далеко впереди, открылось море. Но не туда надо мне смотреть. Шагаю я, глядя всё время вниз, в излучину Гагачьей реки, шумящей слева, под обрывами. То и дело показывается сквозь заросли ее мутная густо-желтого цвета вода.
На ней, на реке Гагачьей, поставил Николай свой завод. Многое с тех пор изменилось. Говорят, там пожар лесной прошел, тому годов пятнадцать. Давно исчез пал, прикрылась его чернота новой зеленью, не сохранилось, поди, и уголька. Но вековой лес начал как бы мельчать. Я напрягал зрение, стараясь различить хоть обгорелый тычок, и наконец заметил не один такой ствол, а три, на поляне, среди кустов малины. Верно, тут, поблизости…
Но признаков постройки я пока не видел. Если огонь уничтожил, — печная кладка должна уцелеть.
Прошел я дальше по хребту, осматривая долину. Красная полоса глины пересекла лес, протянулась к реке, а за ней стеной стоят могучие деревья. Эти старше самого Николая, не то что его мастерской. Я уже стал спускаться, чтобы получше разведать местность, как вдруг в зелени хвои блеснула другая зелень, светлее и ярче. Она была почти белой, эта диковинная зелень, и я смотрел на нее, смотрел, и сердце у меня заколотилось в груди.
Нет, не хвоя это и не малинник, отливающий серебром. Мох! Ну да, мох на ветхой крыше, вот что это такое! Не помня себя, я сбежал вниз. Да, так и есть! Господи, да есть ли человек счастливее меня!
Не сгорел завод! Не сгорел!
Огонь немного не дошел до него. Метров тридцать. Глина спасла постройку, отразила пожар. Всё еще не веря удаче, я подошел и приложил руку к бревенчатой стене. Она покосилась, а с другого бока упала. Держится лишь половинка крыши, и то не сразу догадаешься, на чем. Облепили мастерскую кусты, раскудрявились кругом папоротники, сруб взяли штурмом жучки-древоточцы, просверлили бесчисленными своими ходами, а под нижним бревном вырыл нору какой-то зверь, должно быть, барсук. Немного осталось от строения, название одно — завод. Но суть-то разве в этом!
Под крышу я вошел прямо по бревнам, лежавшим на земле и оплетенным травой, по двери, соскочившей с ржавых петель. На дубовой, еще довольно крепкой оси — колесо с лезвием, тоже изъеденным ржой. Наверное, здесь Николай и его отец обкалывали пещуру, а там, у другого колеса, поменьше, пускали в окончательную отделку.
Впрочем, не знаток я техники, не по моей это части. Может, и не нужно это всё, устарело, и наладится производство другим каким-нибудь способом.
Невдалеке от строения увидел я и природную залежь пещуры, — она синела сквозь кустарник. И еще кое-где выпирали синие желваки камня, прорывая покров травы и валежника. Сколько ее тут — пещуры! Верно, тыщи и тыщи тонн, внукам и правнукам нашим не выбрать всю.
Тут я почувствовал, что очень утомился и хочу есть. Я сел, достал из сумки узелок и съел ватрушку, а потом вспомнил про Афонина.
Он еще не был здесь, это ясно. Я поднялся и еще раз осмотрел полосу глины. Следов, кроме моих, нет. Конечно, он движется с моря, если только не заблудился. А он, скорее всего, заблудится. И выйдет обратно к Курбатовке. Или выбьется из сил и застрянет в горах, а то еще утонет…
Вот бы попался он мне! Вдруг мне представилась наша встреча. Я к морю выхожу, к самому берегу, слышу, кричит кто-то. Ступил на край обрыва, гляжу — Афонин. Красный, задыхается, лезет наверх. Китель расстегнут и не блестит на нем уж ничего, — пуговиц короля Михая ведь нет. Лезет, ноги скользят, а сзади прилив настигает. «Эй, почтальон, помоги!» — «То-то, — говорю, — теперь занадобился тебе! Зачем сунулся сюда? Общественному делу помочь? Врешь! Оправдаться решил, прощение заслужить. А всё равно знаем мы, кто ты таков есть. Уж бог с тобой, живи. Вытащу тебя, так и быть».
И с этими словами я бы его, поганца, вызволил.
Так я рисовал себе нашу встречу и даже невольно прислушался, не кричит ли Афонин.
— Странно мне, — говорил я вслух, продолжая мысленный свой разговор с Афониным, — для чего такие, как ты, на свет родятся? Курица, бывает, снесет худое яйцо, болтун. Так оно мертвое. А ты вот живешь зачем-то.
В лесу я ночевал в шалаше из веток, на другой день вышел к тому месту, где побывал Арсений, и убедился — реку в самом деле завалило. К вечеру выбрался я к морю. Афонина не встретил.
Уже потом, на тонях, узнал я, что он шел сюда, да не дошел. Проплутал в лесу два дня, да и поворотил ни с чем. Не солоно хлебавши, как говорится. Людям на смех.
12
Сюда, будьте любезны!
Да голову-то берегите, голову! Дом ведь постарше хозяина, в землю уходит.
Осторожно! За правое перильце не хватайтесь — отошло. Всё никак не соберусь приколотить. Дом большой, постоянно рук требует, а мне хозяйством очень-то заниматься некогда. Что, крутовата лестница? Мы ведь, курбатовские, — корабельщики. Дома? строят у нас чисто пароходы. Лестница в виде трапа получается, проемы в перекрытии узкие, наподобие люка. Мелешко жил у меня, обследователь, так тот, как лез к себе, вовсе дыхания лишался.
Савва, председатель наш, говорит — вы писатель. Да? Бывало, к сказительнице Авдотье Гуляевой часто ездили из разных редакций, и тоже вот с машинками. А потом померла она — и перестали. Прошлый год хотел один побывать у нас, так Гуляев отговорил. Сказительницы покойной племянник. Он в Чернолесске, в Облрыбаксоюзе. Нечего, мол, в Курбатовке отображать, ничего передового там нет. С парохода к пристани на гребках повезут, моторными судами они не богаты. Электричества не имеют.
А вы у Гуляева были? И он сам посоветовал? Ну, значит, взгляд у него изменился.
Он тут гостил у нас, в июне. У мамаши своей. Надо думать, на пользу пошло. А нет, так придется бабке Парасковье опять его вызвать к себе.
Сейчас-то я смеюсь, а вот в ту пору дела у нас в Курбатовке закрутились! Ох, дела!
Вот, пожалуйста, ваша комната. Всё по-простому в моей гостинице. Машинку прямо сюда ставьте, на стол. Вы как, сразу печатаете или сперва от руки? Быстрее дело должно подвигаться с помощью техники, а? Всё же прежние писатели выпускали сочинений побольше, чем нынешние. Худо-бедно двенадцать томов, а то и двадцать четыре, как, например, Станюкович.
Соседи тут есть, за стенкой, но вас они не потревожат. Да они редко дома находятся. Зина и Алешка-матрос, молодожены. Эх, вот бы вам роман составить про них!
Вас, конечно, производственная сторона интересует. Так Зина — гидротехник. Алешка пещуру ломать начал, точильный камень, в Зимних горах он, с бригадой.
Савва, наш председатель, не нарадуется. Двух молодых специалистов Курбатовка приобрела. Ты, говорит, Евграф, смотри, не задерживай им почту, отыщи и вручи в тот же день, где бы они ни были.
Боится он, не улетели бы от нас. Молодежь ведь как рассуждает нынче! Костя, племянник мой, так высказывается — у вас, мол, в глуши только Робинзону существовать. Ведь что придумал! Пишет мне — продавай свой дом, перебирайся к нам в Чернолесск.
Это мне такое письмо! Курбатовскому почтальону! Да уж не касаясь всего прочего, про меня ведь недавно из Москвы по радио передавали. Клюйков, наш радист, дал заметку. Подробно всё указал, как у нас добычу этой пещуры восстанавливали. Ну и я там, значит, сыграл известную роль. А в Чернолесске кто я? Ноль! Нет, мне там делать нечего. Место мое здесь и нигде больше. Дерево старое, глубоко корнями ушло. Правда, живу я один, бобылем, но всё же населяется дом, веселее стало.
Ну, располагайтесь как вам удобнее. Вы отрицательное тоже пишете? Материалы у нас есть. Если всё описать…
Что, вы в курсе наших дел? Знаете, вы лучше поступить не могли, как ко мне на квартиру встать. Всё вам расскажу. Конечно, я не по бумажке действовал, а по-своему, как совесть велит, однако пришли мы в конце концов к одному результату, я и Мелешко.
Вот тут, за этим столом, он сидел за своими бумагами. Или брился. Я, говорит, без ежедневного бритья, без купания — не человек. Холод собачий, а он купается!
Как уезжал от нас, благодарил меня за содействие. Нет, хвастаться нам, по сути, еще нечем. Прорех в колхозе пока порядочно. Мостки на улице взять, в каком они состоянии? Стыдно! Клуб как сарай, никакой культурной обстановки. Дальние водоемы для рыбного промысла мы освоили не вполне, — тоже надо признать. Пещуру только начали ломать. Но и дурную славу распускать про нашу Курбатовку мы тоже не позволим. Афонин думал, тут, в медвежьем углу, всё можно!
Гуляев от него отрекся. Так ведь у него еще дружки есть. Дают ему характеристики: Афонин-де если и перегибает иногда, то это от горячности натуры.
Не застали вы его у нас. Поглядеть бы вам на этого типа! Ему должность в другом сельсовете предоставили. Снова, поди, горло дерет, командует. Выпячивает свое «я». Ну, дайте срок, своротит он себе шею. Чтобы у нас в стране подлый человек мог с пользой для дела управлять чем-либо, честными людьми руководить, нет, никогда я в это не поверю.
Дед Кузьмич, ехидный такой старикан у нас есть, надо мной посмеивается. Чего ты, говорит, Евграф, достиг? Всюду ты суешься, всегда тебе больше всех надо.
Но как, по-вашему, душевно поддержать человека — это пустяк? Один ведь он был, Арсений. Недаром Афонин на него, на беззащитного, навалился.
Не понимает Кузьмич. По каждому поводу у него смешки. Несолидные какие-то смешки. Вот тоже для вас тип. Я вам покажу его, низенький такой, бородка косая, румяный, и в некоторых словах первой буквы не признаёт. Вместо буфета говорит — уфет. А большим грамотеем себя считает, между прочим.
Разведка моя в Зимних горах тоже не пустяк. Реку расчистим, всё же водный путь способнее, и пойдет наша пещура по воде прямо до самого Чернолесска. И наследство Николая Куликова вот как пригодилось, хотя и устарело кое в чем, Алешка вон улучшения какие-то затеял.
Недавно Савва меня удивил. «Хотим, — говорит, — тебя выдвинуть, разработками нашими каменными заведовать будешь. Поди, устал с сумкой ходить». — «Нет, — отвечаю, — уволь. Не буду. Не с руки мне, пограмотней кого ставь и помоложе. Например, Алешку, чем плох?» — «Ладно, — говорит, — подумаем».
Вот оно как обернулось! Может, Алешка письмо, адресованное директору-то разработок, самому себе писал! А? Правда, в моей практике еще не было, чтобы человек себе же послал письмо, да ведь нынче и не такие чудеса случаются.
Заболтался я, извиняюсь. Вы, наверное, отдохнуть хотите. Располагайтесь, а я пойду.
В голландку я дров наложил. Спичку только чиркнуть. Труба вон там открывается. Нас единственно весной солнышко побаловало, а то всё дует и дует. Семужий промысел худой нынче был. Сентябрь у околицы, тепла не жди.
Всего вам хорошего пока. Мне еще почту надо разнести. Видите мою сумку? Лет ей уже немало, кожа вот потрескалась, ремень обтрепался, того и гляди, лопнет. И вместо застежки, видите, веревочка. Я уж сколько хожу с этой сумкой, а она еще до меня служила. Какая масса всего через нее прошла, это вы можете себе представить. И плохого и хорошего. Почтовая связь, она обязана всё препровождать по адресу. А знаете, когда плохое письмо человек получает, я тоже, откровенно сказать, переживаю.
Хороших-то писем побольше бы надо! Вот зайду сегодня к Клюйкову, сулил он заметку послать в Москву о том, как у нас на Гагачьей реке завал разгребают, дают ей ход в море, по прежнему руслу. Чтобы, следовательно, водой пещуру сплавлять. Где, скажу, заметка? Не тяни, давай мне в сумку!
Людям доброе слово, ох, как нужно! А если человек здесь, в нашей Курбатовке, славу и доверие заслужил, то ведь, пожалуй, на студеном здешнем побережье станет ему тепло. Не так ли?
Ну, я пошел. Пора мне. Уже, должно быть, бранят меня курбатовские: почтальона долго не слышно, заговорился со своим новым квартирантом. А Савва скажет: «У тебя, Евграф, под языком определенно репей».
В каждом доме ждут меня. Сегодня по деревне пройду, а завтра на то?ни. Открывайте двери, люди добрые, почтальон идет!
ШКИПЕР С «ОРИНОКО» 1
Откладывать больше не к чему. Всё равно ведь, — как ни раскидывай умом, как ни высчитывай, другого выхода нет. А раз нет, то незачем и тянуть с этим делом.
Он, бедняга, не знает, что? ему предстоит. Вот он стоит у причала и охорашивается на солнышке, — наш «Ориноко». Он ждет своего хозяина, а не знает, что хозяин давно уже порешил отдать его в чужие руки. Еще в прошлом месяце был у меня разговор с Бибером. Я спросил его, не возьмет ли он «Ориноко» в свою мастерскую. Но Бибер заломил такую цену за ремонт, что мне только одно и остается — продать бот. Биберу, верно, это и нужно было.
— Могу вам предложить другое, — сказал он, подвигая мне ящик с табаком. — Я куплю вашу посудину.
— Горький у вас табак, — ответил я. — Мой слаще, господин Бибер.
— Подумайте, господин Ларсен, — сказал он.
— Хорошо, я подумаю, — обещал я.
А думать, собственно, нечего. К кому пойдешь, кроме Бибера. Я бы, не мешкая долго, отвел бот, если бы не бабушка Марта. Запало ей в голову, что вот-вот вернется Аксель.
— Посмотри на его карточку, — говорит она. — Он смотрит как живой. Никогда он так не смотрел. Кажется мне почему-то, что он скоро будет дома.
И сегодня она уговаривала меня подождать. Но откладывать дольше я не могу.
— Идем, — сказал я ей. — Простись с ним, если хочешь.
И мы выходим. Солнце перевалило через хребет и залило всю бухту, но тепла от него нет. Студеная нынче весна, недобрая, — точь-в-точь как в первый день оккупации, когда немцы забрали Акселя. С тех пор не видим мы настоящего тепла. Солнце как будто подменили. Апрель на исходе, а оно всё не может обогреть нас.
На камнях, на мостках, переброшенных от одного гранитного желвака к другому, лежит ночная изморозь. Она тает медленно. Холодное солнце не скоро сгонит ее всю.
Бабушка Марта переступает следом за мной по качающимся, хлюпающим лодкам, она крепко держится за мой плащ. Я поднимаюсь на бот и даю ей руку.
— Это что? — спрашивает она, разогнувшись и подобрав с палубы стебелек морской травы. — Так вы с Эриком ухаживаете за кораблем? Не прибрали напоследок!
И как она разглядела крохотный стебелек! Дома без очков ни шагу, — а тут разглядела.
— Постыдился бы, Рагнар, — продолжает она отчитывать меня. — Что если господин Бибер сам пожалует? По кораблю судят и о хозяине. Воображаю, что внизу делается. Нет, не ходи за мной, — отмахнулась она. — Я сама. Ноги еще держат.
Она долго не выходила из трюма, и я не торопил ее. Я ведь знаю, зачем она туда полезла: просто ей хочется побыть одной, проститься с нашим «семейным ковчегом», как говорил Аксель. Я догадываюсь, что? видят сейчас старые глаза бабушки Марты. Нет, не сор на полу. Она видит себя молодой. Она видит, как ее муж, дедушка Карл, в своем синем свитере и войлочной шляпе, откинутой на самый затылок, сколачивает стапель, отбирает брусья для шпангоутов и по расположению сучков отличает доброе дерево от злого, приносящего беду. Как соскальзывает на воду новенький бот с надписью на борту — «Ориноко», а мы, ребята Сельдяной бухты, стоим на скалах и кричим от радости. Среди нас и хрупкая, тоненькая Хильда — дочь дедушки Карла и бабушки Марты, ставшая потом моей женой. И я вижу всё это сейчас, — только, конечно, не так ясно, как бабушка Марта. Я был тогда мальчишкой. Меня, помню, удивила надпись на борту. Что значит «Ориноко»? Никто в Сельдяной бухте не мог толком объяснить. И дедушка не знал. Он прочел это название на большом океанском пароходе и окрестил в честь него свою скорлупку.
Мы, ребята, гурьбой двинулись в соседнюю бухту, к учителю, — выяснять, что? же такое «Ориноко».
«Ориноко» служил нам долго. Когда немцы сожгли наш дом в Сельдяной бухте, мы перебрались в него все трое: я, бабушка и Эрик, мой младший сын. Немало жестоких штормов выдержали мы в нем на севере, у Птичьих островов, куда нас угнали немцы ловить треску и зубатку. На нем мы вернулись после войны в родную бухту, на нем и ушли из нее, побродив по голым скалам, погоревав над пожарищами.
Всему свой конец, как видно. Вот и последний рейс.
— С богом, Рагнар, — говорит бабушка Марта. — Не провожай меня, я одна сойду.
Лицо у нее строгое, как на молитве. Глядя прямо перед собой, она идет к берегу, твердо перешагивая с лодки на лодку. Они трутся бортами, скрипят и всхлипывают.
Теперь бабушка Марта на берегу и будет там до тех пор, пока не потеряет «Ориноко» из виду.
Вот я уже на середине бухты. Ветер тихонько подталкивает старый, залатанный парус, домики на берегу становятся всё меньше, а горы за ними всё выше. Но глаза бабушки Марты, верно, еще не оторвались от паруса.
Ветер слабеет. Такая печальная тишина вокруг, что больно сердцу. Даже чайки сегодня не хотят составить мне компанию, не хотят повеселить меня своими звонкими голосами. Чуют они — нечем поживиться на пустом судне. Подлетела одна, взмыла кверху над мачтой, блеснула белой грудкой и, не издав ни звука, словно испугавшись чего-то, кинулась в сторону.
Еще час ходу — и по левому борту раздвигается стена гор, открывается рыбная гавань с причалами, чащей мачт, рыбозаводом и конторой. Над крышей конторы серебряные буквы: «Генри Бибер и сыновья». У него два сына, и оба живы, здоровы.
Настоящее его имя, данное при рождении, — Хенрик, но оно ему, видно, не понравилось, и он выбрал себе другое, не наше — Генри. Мы все — и рыбаки, сдающие ему улов, и рабочие, матросы на судах Бибера — так и зовем его меж собой: Генри.
Вскоре «Ориноко» пришвартован к набережной; а я сижу в кабинете у Генри.
— Да, да, — говорит Генри, подвигая мне свой резной ящичек с табаком, — о мореходных качествах вашей посудины можете мне не рассказывать, господин Ларсен. Я знаю. Если бы не это, сильно сомневаюсь, что я смог бы купить «Ориноко», при всем желании пойти вам навстречу. Вы знаете, я недавно приобрел лесопилку, и мне не до новых покупок. Суда из вашей Сельдяной бухты вообще славятся, я знаю. Конечно, было бы жалко, если бы такой шедевр пошел на слом.
— Это точно, господин Бибер, — отвечаю я, польщенный похвалой, — у нас умели строить. Дедушка Карл работал без чертежей и нынешним дал бы два очка вперед.
Господин Бибер очень любезен со мной сегодня. Вот если бы он был так любезен, чтобы скостить хоть немного долг при расчете за «Ориноко».
Секретарша отстукала на машинке столбик цифр и, держа бумажку в вытянутых розовых пальчиках, протанцевала ко мне по паркету. Нет, ни одного эре не скинул Генри.
— Что ж, избавиться от долга это тоже кое-что значит, — сказал он. — Я особенно легко себя чувствую, когда мне удается сбросить с плеч долг. Не знаю, как вы, господин Ларсен, а я лично полагаю так.
Спорить бесполезно. Всё равно ведь больше не к кому пойти, кроме как к нему. Но всё-таки, — не всё будет, как ему угодно.
— Одного вы не учли, господин Бибер. Я сам доставил вам бот.
— Велико ли расстояние, господин Ларсен!
— И мне казалось, что небольшое, — говорю я как можно бесхитростней. — Две трубки — так мне всегда представлялось. А сегодня пять успел выкурить, пока добрался до вас. Три кроны надо положить за доставку.
— Довольно и двух, господин Ларсен.
Каков! Торгуется из-за кроны! Цепко держится Генри за свои деньги. Ну да и я могу постоять за себя. Нет, три кроны — и ни эре меньше.
— Виола, — позвал Генри и вздохнул. — Приплюсуйте три кроны. Поверьте, господин Ларсен, в моем хозяйстве не меньше трудностей, чем в вашем. Большое хозяйство — большая и тяжесть. Маленькое — и забот меньше.
— У меня теперь никакого нет, — сказал я.
Генри уже поглядывает на часы, вертится в своем плетеном креслице, поскрипывает кожаной курткой, заправленной в брюки, и всем своим видом показывает, как ему дорого время и до чего много у него забот. Теперь я должен встать и поблагодарить господина Бибера, как того требует вежливость, сказать спасибо за то, что он изволил купить бот и накинул три кроны за доставку; за то, что он избавил меня от хозяйства. И еще за то, что обещает дать мне место в своей флотилии. Значит, мне грех обижаться. Многим живется хуже. Немало хороших шкиперов, а того больше лоцманов и матросов ищут работы.
Язык мой поворачивается туго, но я выдавливаю слова благодарности господину Биберу.
Вот и всё. Шкипер Ларсен уже не хозяин на своем судне. Сегодня же слух об этом выкатится за ворота рыбной гавани, — а там долго ли ему обежать полдюжины улиц городка. Слух поднимется сперва по улице Лютера в гору, остановится возле кинотеатра «Одеон», возле кирки, пристанет по пути к почтальону Пелле, который рад разнести, кроме писем, еще свежую сплетню. Слух шмыгнет затем в харчевню «Веселый лосось». Словом, к вечеру все охотники почесать языки будут гадать — как могло случиться, что шкипер Ларсен продал свой знаменитый «Ориноко», избороздивший всё море от края до края? Неужели шкипер Ларсен так обеднел, что не мог наскрести сотню-другую крон на ремонт. И бог весть, что еще будут болтать пустомели. Так нет же, не очень-то они разойдутся. Прижму я им языки. Я сам найду дорогу к «Веселому лососю».
2
Давно я не был в «Веселом лососе». Иногда я, проходя мимо, видел через приоткрытую дверь старуху Энгберг, которая поджидала гостей, положив жирные локти на буфетную стойку. Но я не мог переступить порога ее заведения. Говорят, она выдала гестаповцам моего Акселя. Правда, никто не знал ничего определенного. Здесь и соврут, так не возьмут и эре. Такой уж здесь народ. Однако я не мог войти к старой, прости меня бог, ведьме, пока она была жива.
Старуха Энгберг умерла дня три назад. За стойкой теперь ее племянница. Черное теткино платье, надетое в знак траура и наспех подогнанное, висит на худеньких плечиках девчонки, как на вешалке.
Так вот какое оно, — самое шикарное заведение в городе! Бумажные занавески, бумажные линялые розы над буфетом. Не очень-то богато! Мы с Эриком заняли столик в углу, я подозвал девчонку и спросил, как ее зовут.
— Христина, к вашим услугам, — пропищала она и сделала неловкий книксен, словно споткнулась.
— Послушай, Христина, не слыхала ты — никто не поминал тут имя шкипера Ларсена?
— Нет, никто.
— Значит, никто не рассказывал, как Генри Бибер выпросил у Ларсена «Ориноко»? — спросил я нарочно громко, чтобы слышали другие посетители.
— Нет. Ой, это вы — шкипер Ларсен?
— Ну да. А что?
— Вы будете у нас свидетелем.
— Каким свидетелем? — удивился я.
— Вы не знаете разве? — тихо сказала она, теребя скатерть. — Послезавтра нас будут вводить в наследство, меня и Стига. Бургомистр вас назначил.
Нет, это новость для меня. Значит, не забывает меня доктор Арвид Скобе, земляк из Сельдяной бухты. Не отшибло у него память оттого, что стал главой города. Это хорошо! Вспомнил, стало быть, что есть шкипер Ларсен, когда потребовалось назначить свидетелей из числа уважаемых граждан города для передачи наследства старухи Энгберг.
— Должно быть, Пелле, почтальон, не донес еще письма, — сказал я девушке. — Вы со Стигом подготовьте всё, понятно? Список всех пожитков.
— Скорее бы! — вздохнула Христина. — Стиг сегодня пришел, полез в конторку и взял пять крон из выручки. Так нахально поступает!..
— Боцман Стиг деньги любит. Не терпится ему заполучить наследство.
— Я тоже наследница, — улыбнулась Христина и показала мелкие, ровные, остренькие зубки. И нос у неё острый, и плечики. Вся она остренькая.
— Много ли тебе нужно, пичужка! — засмеялся я. — Пиво у тебя хорошее?
— Солодовое только, — ответила она, посмотрела на Эрика и повторила: — Солодовое. Вам сейчас? Ах, вы друзей ждете? Пожалуйста. Ячменного пива вы теперь и в столице не найдете, — прибавила она тихо, словно доверяла нам тайну, известную ей одной. И опять стрельнула глазами в Эрика.
Ишь, хворостина, еще пялится на моего Эрика. Ладно, что он еще не понимает. Выглядит он заправским женихом, а ведь ему еще восемнадцати нет. Нечего ей глазеть на него. Богатая невеста! Нет, не надо нам добра старухи Энгберг.
Впрочем, Эрик и внимания не обращает на Христину. Он смотрит на дверь, откуда должны появиться мои гости, и ёрзает ногами под столом, — жмут новые башмаки.
Идут, идут наконец! Сапоги начищены, волосы приглажены. Вот какой народ у нас в Сельдяной бухте, молодец к молодцу, не чета городским! Верзила Микель — приемщик рыбы. Брат его Юхан — чуть пониже — вышагивает вслед за Микелем. А вот рыжеватый, плечистый, в сером пиджаке Нильс Эбергард, по прозвищу Летучий шкипер — бывший партизан, ускользавший из-под самого носа у немцев и нападавший на них там, где они меньше всего ждали этого.
Все — мои земляки, кроме одного, — лысого безбородого Эркко, родом с севера, круглого бобыля.
— Остренькая, — кликнул я Христину, завидев их. — Тащи пиво. Убери бумажные цветы. Ему, — я указал на Эрика, — тоже большую кружку.
И покраснел же Эрик! Даже руки у него сделались красные, — так показалось мне, — когда он здоровался с гостями.
— Ну, рассказывай, — молвил Летучий шкипер, садясь. — Тебя Бибер, слыхать, с почетом принимал сегодня. В кабинете? Да? Ты, верно, гостинцами завалил своих.
— Эрик, выставь-ка ноги из-под стола, — велел я. — Похвастай обновкой.
— Только и всего? — спросил Летучий шкипер. — Ловко! Обменял корабль на башмаки.
Все засмеялись. Но я решил доказать им, что и я умею постоять за себя, и сказал:
— Я тоже прижал Бибера!
— Интересно, — молвил Летучий шкипер. — Тише, мальчики, послушаем, как Рагнар прижал Бибера.
Я тут же выложил им, как мне удалось вытрясти три кроны за доставку «Ориноко». Шкипер, вместо того, чтобы оценить мою находчивость, покачал рыжей головой, и лицо его с огненными крапинками на белом лбу стало вдруг очень серьезным:
— Как же ты считаешь, кто кого больше прижал — ты его или он тебя?
Хромой Эркко фыркнул и засмеялся. Но, когда Эркко рассмеется первый, ему редко кто вторит, потому что смех у него невеселый. Эркко обыкновенно сразу же закашляется и начнет тяжело, с присвистом, дышать. И на этот раз смеялся он один. Отдышался и проговорил:
— Кричит заяц: я, мол, лису поймал. Ему зайчиха: тащи ее сюда! А он: нельзя, не пускает!
— Не пускает, — грустно повторили братья Микель и Юхан.
Что это они, никак вздумали жалеть меня? Не люблю я этого.
— Ничего, ребята, мореход Ларсен не пропадет, — сказал я громко, чтобы слышали все в зальце.
Но никто не поддержал меня, а Микель пошевелил губами и произнес:
— Скоро совсем негде будет ловить.
— Что значит негде? — удивился я. — Что ты говоришь, Микель?
Микель опять пошевелил толстыми, потрескавшимися губами, собираясь ответить, но Нильс опередил его: — Генри отдает остров Торн.
— Торн? Да вы шутите, ребята! Не может быть!
По их лицам, однако, видно было, что они не шутят. Остров Торн? Тогда либо я ничего не понимаю в промысле, либо Генри… Много ли у него таких угодий, как остров Торн, изрезанный заливчиками, удобными для нереста, окруженный банками, где рыба кормится водорослями! Нет, Генри плохой хозяин, если хочет расстаться с островом.
— Торн отойдет авиационной компании, — сказал Нильс. — Один представитель от нее приезжал, осмотрел место. Генри ждет другого, поважнее, чтобы ударить по рукам.
— Дурак будет Генри, если продаст, — сказал я. — Затеял тоже! На кой нам черт нужна тут авиация! К нам и так письма дойдут, — было бы кому писать.
— Тут другое, — молвил Нильс.
— Что же другое?
— Войной пахнет, вот что, — вставил Эркко, дернувшись вперед. — Или ты не знаешь, что? творится, Рагнар? В газетах давно пишут…
— Мало ли что пишут в газетах, ребята, — ответил я. — Про Олле писали, — в каком это году было, не помнишь, Микель? — будто он вытащил из лосося жемчужину. А он пуговицу нашел. Вот такую, — я обхватил пальцем медную пуговицу с якорем на своей куртке и показал им. — Вот чего сто?ят ваши газеты.
— Кто-кто, а Генри не стал бы горевать, начнись опять война, — сказал Нильс и выколотил трубку. — Напротив.
Нет, глупости! Я и слова не хочу слышать, — война. Разве второй Гитлер где-нибудь объявился? Три года прошло, как отвоевали, и что же — опять? Кто же, спрашивается, полезет воевать? Хоть я и не читаю газет, хоть память у меня и не приспособлена для политики, — политика вытряхивается из головы, как мелкая плотва сквозь сеть, — а всё-таки скажу, что неоткуда быть войне, и никто меня не переубедит. Я начал обдумывать, как бы похлеще ответить Нильсу, но в это время, слышу, Христина подъехала к моему Эрику:
— Я вас не видела.
— Мы не ходили сюда. А я вас тоже нигде не видел.
— Я нигде не бываю.
— Почему же вы нигде не бываете?
— Я всё на кухне. Меня тетя дома держала.
— А ну вас, — вмешался я. — Хватит жужжать над ухом. Справляй свое дело, девочка.
Так я и не ответил Нильсу.
Эркко, волнуемый какими-то своими мыслями, говорил, щелкая кривым ногтем по кружке:
— Богач та?к рассуждает: коли у тебя нет денег, значит, проживешь недолго. А коли недолго проживешь, то зачем тебе и деньги.
— Да ну вас к черту, ребята, — взмолился я. — Глядеть на вас тошно. Моряки мы или нет? Пей, Эркко, пей, шкипер, — я два раза поднял свою кружку. — И вы тоже, Микель, Юхан, поживей. Как говаривали прежде, — твое здоровье, мое здоровье, здоровье всех красивых девушек! Опорожним посуду и сыграем. Нас шестеро как раз. Ну, ребята! Ей-богу, не может же быть всё время плохо. Будет же, дьявол побери, когда-нибудь хорошо, а?
— Он прав, мальчики, — поддержал Летучий шкипер. — Давайте сыграем.
— Я капитан на этой стороне, — объявил я, вынув из кармана двадцать эре.
— У нас главным будет Нильс, — сказали братья Микель и Юхан и пересели на другую сторону стола.
И вот мы сидим друг против друга, — две команды. Я подбрасываю монетку; она падает гербом вниз. Нильс начинает. Я передаю ему монету и командую:
— Раз!
Летучий шкипер не спеша посапывает трубочкой, выталкивает маленькими облачками дым, лицо его спокойно, большой белый лоб не морщится, зато руки под столом беспокойные, быстрые.
— Два! — отсчитываю я.
Нильс уже вложил кому-то монету в ладонь. Он нарочно медлит немного, забавляясь нашим нетерпением, затем раздается резкий удар, — руки Летучего шкипера лежат на столе, и вслед за ними выбрасываются на стол руки игроков его команды. У кого под ладонью монета? Ручища Микеля лежит на скатерти словно чугунная плита. Небось, Микель расплющил монету, — так хватил по столу. Но почему мне сдается, что он прячет монету? Не оттого ли, что он не поднимает на меня глаз, взглядом боится выдать свою тайну? Я же знаю тебя, Микель, мой дорогой, — парень ты открытый, прямой, ничего ты не умеешь скрыть. Но и Юхан внушает мне подозрения: рука его очень крепко прилепилась к скатерти, мизинец оттопырился и вздрагивает, сто?ит мне прикоснуться к нему трубкой. Похоже — держит он монету, держит со страхом, боится выдать себя неосторожным движением. Мужик он не очень-то смелого десятка, — это верно. А шкипер — тот озорничает, делает вид, что монета у него, заглядывает себе под ладонь, подмигивает мне. Развеселился точь-в-точь, как Эрик, — даром, что на пятнадцать лет старше. Ну, меня не так-то легко сбить с толку. Я толкаю в бок подпрыгивающего на стуле Эрика:
— У кого она, как по-твоему?
— У вас, дядя Нильс, — говорит Эрик, не спуская глаз с Летучего шкипера.
Я не спешу. Мне хочется подразнить их:
— Ты, Нильс, можешь убрать руки; всё равно у тебя нет. А ты, Юхан? У тебя ведь тоже нет. Ты до того входишь в игру, что тебе и впрямь чудится монетка под ладонью. Снимай, снимай свои лапы. Давай мои двадцать эре, Микель!
— Из-под какой руки? — спрашивает Микель, не поднимая глаз.
— Из-под правой.
— Молодец, Рагнар! — крикнул Летучий шкипер.
Он повторил это, когда мы, сыграв несколько конов, вышли на улицу.
— Хорошо, если бы ты во всем так докапывался до правды, — прибавил он. — Не только в игре.
Что он хочет этим сказать. Я чувствую, он опять сворачивает на политику. Так пусть он не беспокоится за меня. Рагнар Ларсен хоть и не может похвастать ученостью, но кое-какая смекалка у него есть. В людях он мало-мальски разбирается. И уж во всяком случае он может постоять за себя.
— Много ты повидал, мореход Ларсен, да мало понял, — молвил Нильс тихо. — Ну ладно, прощай. Поработаешь с нами — поймешь кое-что.
3
Утром, выйдя из дому, я столкнулся с Пелле, почтальоном, и ухватил его за рукав куртки:
— Стой, Пелле, ты так и не скажешь мне ничего?
— А что вы хотите знать, господин Ларсен? Ах да — я и забыл! Есть новость для вас. Корова отелилась у фру Агаты.
— Вот видишь! Это очень важно для меня, Пелле. Значит, скоро можно будет опять брать молоко. Всё-таки на одно эре дешевле, чем у лавочника. А в газете о чем пишут? — спросил я, сообразив, что предстоит встретиться с образованными людьми.
— В столице автобус свалился с моста. К нам идет помощь из Америки. Пароходы с грузом. Дальше печать очень мелкая. А я, — он нагнул ко мне свою седую голову, — по секрету вам доверяю, адреса на конвертах уже с трудом разбираю. Вот в автобусе четырнадцать человек погибло. Это крупно напечатано.
Отпустив Пелле, я сообщил ему, что иду делить наследство старой Энгберг. Пусть знает, что шкипер Ларсен не последний человек в городе.
В «Веселом лососе» я застал чиновника из ратуши — горбуна с важным и строгим лицом, второго свидетеля — старого бухгалтера с лесопилки — и наследников.
Христина сидела, подобрав под стул ноги в потрепанных туфлях, то и дело натягивала на колени подол черного платья, поправляла обожженные щипцами желтые кудряшки и явно не знала, о чем говорить с комиссией.
Стиг — красный, в крахмальном воротничке, упиравшемся острыми концами в шею, потел от волнения и громко расхваливал пунш, которым угощала его при жизни старуха Энгберг.
— Христина знает рецепт, — хвастал он. — Сделай сегодня же, Христина, слышишь! Вам, господа, понравится. Просто чудо!
Улучив момент, когда Стиг переводил дух, чтобы снова заладить насчет пунша, я сказал:
— Слыхали? К нам пароходы идут из Америки.
Пусть знают, что шкипер Ларсен имеет представление о событиях.
— Помощь Европе, — кивнул чиновник. — В соответствии с планом Маршалла.
План Маршалла! Слыхал я о нем, да вот беда — не держатся у меня в памяти такие слова, хоть убей! Чтобы не оскандалиться, я перевел разговор на автобус, упавший в воду.
— Хотите анекдот? — откликнулся чиновник. — Двое едут в поезде. Один говорит: «Я всем своим состоянием обязан железнодорожному транспорту». Второй спрашивает: «У вас, очевидно, железнодорожные акции?» — «Нет, — отвечает тот, — мой дядя лишился жизни во время крушения и оставил мне свою усадьбу».
Он снисходительно оглядел нас, словно спрашивая: ну, каков анекдот? — но никто не смеялся. Горбун открыл рот, и мы все вежливо молчали, предоставляя господину чиновнику смеяться первому. А он, должно быть, и не собирался. Он посидел некоторое время с открытым ртом, закрыл его, не проронив ни звука, и припал к описи. Он дочитал ее до конца и объявил, что мы будем проверять наличие имущества.
— Тащи-ка нам чернила и перо, голубчик, — бросил он Стигу.
И повозились же мы! Накопилось же хлама у старой Энгберг! Через несколько минут наши руки стали черными, а в горле саднило от пыли. Она поднималась клубами, когда мы вытряхивали на пол добро из ящиков комода. Чего там только не было! Пряжки, пузырьки из-под лекарств, страусовые перья, груды ломаных ножей и вилок. Но не подумайте, что старая Энгберг была бедна! Нет, она боялась воров и хранила свои ценности в тайниках, а в комод, стоявший на виду, сваливала разное старье. Покончив с комодом, мы занялись шкатулками, кошельками, сумочками. От них пахло мышами, на коже зеленела плесень. Старуха Энгберг прятала их всюду — за портретом короля, под кроватью, в погребе. В одной коробке были негодные банковые билеты, затрепанные доне?льзя, с оторванными номерами, и тут же лежали брошки, золотые и серебряные кольца.
Из другого ящика вынули ожерелье из янтарей, очень крупных, и в самом большом камне, величиной с голубиное яйцо, застыл муравей, неведомо как попавший туда. Все подивились на муравья, а бухгалтер с лесопилки сообщил, что такие янтари с запекшимися в них насекомыми встречаются редко и потому дорогие. Я тоже взял ожерелье, чтобы поглядеть поближе, но тут истлевшая нить не выдержала и янтари брызнули на пол. Я извинился за свою неловкость и хотел подобрать, но Стиг первый ринулся за ними. Он поднимал их, ползая на четвереньках, и считал вслух.
Бухгалтер, слишком толстый, чтобы последовать его примеру, с тревогой следил за Стигом и повторял:
— Четыре, пять, шесть.
— Шестнадцать, — сказал Стиг, вставая, — одного не хватает.
— Нет ли щелей в полу? — забеспокоился бухгалтер.
— Наперечет знает тетушкины бусы, — усмехнулся я. — Когда же ты успел?
— Тетя часто надевала, — ответил Стиг, ничуть не смутившись. — Семнадцать камней, я хорошо помню.
И он не ошибся. Христина нашла янтарь под буфетом.
Разобрали и бумаги старой Энгберг. Всё время я ждал, что вот-вот разъяснится что-нибудь из ее прошлого, о котором ходит столько слухов. Но приходно-расходные книги, счета, квитанции ничего не открыли мне. А письма горбун откладывал в сторону.
— Я не имею указаний от бургомистра, господа. Личная корреспонденция будет просмотрена особо. Ввиду некоторых… э, ввиду некоторых обстоятельств.
— Правильно, — сказал я. — Вы уж повнимательней, пожалуйста.
— А разве я был невнимателен, господин Ларсен?
— Нет, нет, что вы! — поправился я. — Я ничего подобного не имел в виду. Простите, пожалуйста.
— Разумеется, он не имел в виду, — поспешил вставить Стиг, оглянулся на меня и покачал головой.
К вечеру проверили всё и поставили свои подписи под актом. Устали страшно. Стиг повел нас мыть руки, а потом усадил за стол, и Христина внесла пунш. Ничего особенного. Порядочная бурда.
— Н-да, — протянул Стиг. — Не совсем удачно. Знаете, ведь кроме всего прочего нужны еще умелые руки.
Христина жалобно посмотрела на него и покраснела, но Стиг обозлился еще пуще.
— Извольте вести дело с такими людьми, — произнес он, показав на нее пальцем.
Конечно, не следовало бы так стыдить девушку при посторонних. На месте чиновника я бы одернул Стига, вот что бы я сделал. А она, остренькая, не знала, куда ей деться.
— Эх, господа, — вздохнул Стиг, — разве это кафе, вообще! Это позор для города.
Стиг разошелся.
Никогда я не видел его таким самоуверенным. Скажи, какая важная фигура — совладелец кафе! Впрочем, в нашем городишке и Стиг, пожалуй, вылезет в тузы.
Горбун уже не называл Стига свысока «голубчик», — объемистая опись имущества, лежавшая теперь в портфеле, должно быть, придала вес боцману Лаурису. Горбун и бухгалтер с лесопилки обращались к нему всё более почтительно, и физиономия Стига лопалась от удовольствия. Он клялся, что город будет иметь настоящее кафе, такое, как в столице. Бывали ли господа в кафе «Континенталь»? Какая там прекрасная мебель из гнутых металлических трубок. Трубки и немного фанеры — вот и всё. Недорого, прочно и современно. Танцбан из пробки. Пробку добыть труднее, но он попытается.
При этом Стиг меня не удостаивал и взглядом, словно я перестал существовать. Он сверлил глазами чиновника, бухгалтера и говорил:
— Ручаюсь вам, господа: через три месяца вы не узнаете этого заведения. Готов спорить! Конечно, не обойтись без ссуды, я надеюсь заинтересовать денежных людей, и если бы вы, — он придвинулся к горбуну, — могли замолвить словечко кому-нибудь из них… При ваших связях… Да, вот я и говорю, господа. Ведь в нашем городишке мужчинам негде развлечься по-настоящему, не правда ли?
Стиг лукаво подмигнул, рассыпался мелким смешком и стукнул по столу недопитым стаканом.
Пришел твой час, боцман Лаурис! Ну что ж, я не против. Не знаю только, будет ли тебе на пользу наследство старухи Энгберг.
4
Недаром говорит пословица: то, что спрятано в снегу, весной выйдет наружу. Оказывается, старуха в самом деле якшалась с гитлеровцами. Весь город твердит об этом. Правда, я не очень-то верю здешним сплетникам, как бы они ни клялись, что передают сущую правду. Лгун на лгуне — вот что такое город. Не намерен я доверять во всем и газете, которую развернул передо мной почтальон Пелле. Но Пелле носит с собой не только газеты. Он всюду вхож и, человек солидный, разумный, умеет отличить истину от выдумки. И если вам случится заехать в наш городишко и до вас дойдет какой-нибудь слух, — Пелле, почтальон, в девяти случаях из десяти скажет вам, так это или не так.
— Бургомистр прочитал письма покойницы, — сообщил он. — Что он нашел, я в точности не знаю, но выходит, она военная преступница. Тут напечатана беседа с бургомистром. Печать мелкая…
Он начал было разбирать, но я отнял у него газету, — авось справлюсь побыстрее. Да, так и есть — военная преступница. Впрочем, не наверное. Печать, действительно, дьявольски мелкая. Арвид Скобе еще не ознакомился со всей пачкой писем и пока высказывает предварительное мнение. Если оно оправдается, тогда он поступит по закону. Собственность старухи — в пользу казны. При прежнем бургомистре этот закон не соблюдался, ну а он — Арвид Скобе — для того и выбран, чтобы отстаивать интересы демократии.
Я читал вслух, а Пелле слушал и сокрушенно вздыхал. Он жалел наследников. Мне так нисколько не жалко было их в ту минуту. Правильно, закон есть закон. Сразу видно — наш Арвид Скобе наведет порядок!
— Одно плохо, — сказал я почтальону, — сама-то она померла. Знали бы мы раньше, она бы ответила нам… Может быть, она и выдала моего Акселя, ты понимаешь, Пелле! И жила себе припеваючи, войну пережила, копила деньги. Эх, Пелле, Пелле! Понимаешь ли ты, Пелле!
И я стал рассказывать всё, что знал о судьбе Акселя. Забыл я, что Пелле не раз слышал это от меня.
…Аксель отвез в город рыбу, сдал ее и зашел в «Веселый лосось» выпить чашку кофе. Ввалился немецкий офицер. Известно, как поступали тогда наши в таких случаях. Поднялся один посетитель, расплатился и вышел. За ним другой. Никто не хотел оставаться под одной крышей с разбойником. И Аксель ушел, конечно. Через день его схватили. И других, которые были с ним в «Веселом лососе». Тот гитлеровец никого в городе не знал, — он только что прибыл со своей частью. Стало быть, не он указал гитлеровцам на Акселя. Потому-то и пало подозрение на старую Энгберг. Она-то знала, как Аксель относился к оккупантам, не раз слышала его откровенные речи с приятелями и поддакивала для вида, навалившись животом на стойку. Акселя немцы заперли в концлагерь, а потом увезли с партией заключенных в Германию.
— Я пойду к бургомистру, Пелле, — сказал я. — Давно я собирался навестить его, да не решался тревожить. А он меня звал. «Ты, Ларсен, заглядывай в любое время», — вот что он сказал мне, Пелле. Я задам ему вопрос: верно ли то, что напечатано тут, нет ли подробностей, важных для меня. Арвид не станет скрывать, — будь уверен, Пелле.
После ухода Пелле нежданно-негаданно явился боцман Лаурис. Одного взгляда на него было достаточно, чтобы определить: наследство не приносит ему радости! Какое там! Он весь посерел и обмяк, словно старый, замызганный парус в штилевую погоду.
— Не помешал? Ты один дома? — вымолвил он тихо. — Я на пару слов, Рагнар.
Бабушка Марта на кухне чистит картошку. Эрик ушел — его пригласили в кино. И представьте себе, кто пригласил, — Христина! Ведь у богатых наследников денег-то много, не то что у нас, простых рыбаков. Бойкие, чересчур бойкие девушки в городе. Не очень мне это нравится, ну да бог с ними. Пусть молодежь развлекается.
Всё это я сказал Стигу, так как видел, что он молчит и мнет в руках шляпу.
— Дура она, — выпалил он.
— Кто?
— Христина.
— А что случилось?
— Старуха велела ей бросить в плиту… лишние бумаги, а девчонка не послушалась. Забыла, говорит. Черт бы ее побрал.
— Положи шляпу, — посоветовал я. — Вещь дорогая всё-таки. Или ты решил швыряться деньгами?
— Не скаль зубы, Рагнар.
Обычно боцман болтает больше чем нужно. Но вот он сидит уже минут десять, а я всё не возьму в толк, что? его привело ко мне.
— Извини меня, Стиг, но я хотел еще сегодня навестить Скобе, нашего бургомистра, — сказал я. — Если я тебе нужен, то выкладывай.
— Правильно, Ларсен, правильно, — встрепенулся он и придвинулся ко мне. От него пахло кухней. — Ты же с ним запросто… Непременно сходи. И не теряй времени.
Кажется, я догадываюсь, зачем ты пришел, Стиг. Хочешь, чтобы я похлопотал за тебя.
— Идем, Рагнар, я провожу тебя, — сказал он и встал. — Я не стану тебя задерживать.
— Отлично, — ответил я, притворяясь, что ровно ничего не подозреваю. — Тебе полезно прогуляться, Стиг. Свежий воздух много значит вообще.
Я шагал по мосткам, а он семенил рядом, спотыкаясь об острые выступы скалы.
— Конечно, ты мог бы мне помочь, — произнес он, наконец, дотронувшись до моего рукава.
— Я? Право, не вижу…
— Было бы желание.
Наследник старухи Энгберг бежал за мной вприпрыжку, размахивая своей зеленой праздничной шляпой. Вскоре он устал, взобрался на мостки позади меня и, отдышавшись, сказал:
— С твоим мнением он считается, Рагнар. Ты мог бы убедить его, что наследники ведь ни при чем.
Он гудел мне прямо в затылок. А когда мостки кончились, он забежал вперед и заглянул мне в лицо:
— Ты бы мог сказать, Рагнар, что все такого мнения, — ну, шкиперы и матросня. Чем я виноват, посуди сам! А? Почему я должен страдать? Пусть он поймет, что ни к чему этот спектакль.
— Меня никто не уполномочил, Стиг. И потом — какой спектакль? Ничего не понятно.
— Ты и впрямь такой наивный, Рагнар? Не может быть, ты отлично понимаешь. Сядем, Рагнар, — он крепко стиснул мой локоть. — Сядем, прошу тебя.
Мы свернули в сквер, где стояли четыре скамейки, расположенные квадратом, и Стиг усадил меня. Мы были в центре города, против самых окон «Веселого лосося». До войны здесь гуляющие кормили голубей, мальчишки продавали пакеты с хлебными крошками.
— Войди в мое положение, Рагнар. Я столько ждал… Нет, я не могу, не могу я вернуться на траулер, — простонал он.
«Еще бы, — подумал я. — Ты считал бусы на шее старой Энгберг».
— Опять на эту проклятую работу! Нет, лучше головой в воду, Рагнар. Я думал, конец мучениям, всё в руках, понимаешь? И вдруг на? тебе! — он поднес ко мне кулак. — И главное, почему я должен отвечать? А? Нет, я в столицу поеду, к министру…
— К министру — это дело другое, — сказал я. — Вряд ли я сумею повлиять на Скобе. Закон есть закон. Об этом с ним лучше не спорить.
— Закон? — усмехнулся Стиг. — Закон? Ты ребенок, Рагнар. Скобе ставит спектакль. Что, Бибер не служил немцам? Или его управляющий? Или хозяин лесопилки? Все они ходили на задних лапках. Да, да, Рагнар! И никто их не трогает. Закон! Горбун тоже начал декламировать: закон, торжество демократии, — пока я не сунул ему в зубы полсотни. Обещал помочь. Но если бы и ты со своей стороны…
— Разогнать взяточников, вот что нужно, — перебил я. — Скобе и за них возьмется.
— Посмотрим.
— Ты не знаешь Скобе, боцман. Нашего Скобе из Сельдяной бухты.
— Твой Скобе рассуждает так: «Что такое Стиг Лаурис? Ерунда! Что я потеряю, если пущу его без гроша? Ничего. Зато шуму сколько! Эффект какой!» Чем не социалист Арвид Скобе!
— Глупости ты болтаешь, Стиг, — оборвал его я.
— Рагнар, — сказал он, колотя каблуком твердую, утоптанную землю. — В мое положение ты можешь войти или нет? Ты мог бы деликатно… Понимаешь, у прежнего бургомистра был пай в «Веселом лососе». Ну, понимаешь. И Скобе мог бы стать пайщиком… Конечно, я предоставил бы ему льготы… Да нет, шкипер, с тобой, видно, не договоришься, — закончил Стиг, потому что я встал.
Он тоже поднялся.
— Нет, боцман, не договоришься, — сказал я и пошел прочь.
Он не стал догонять меня.
5
В Сельдяной бухте дом Скобе стоял шагах в трехстах от моего. Сколько раз мы с Арвидом ходили на лов. Это бывало летом, когда он приезжал на каникулы.
Отец его — доктор Скобе — тоже был ученый человек. Но у него все книги помещались в одном шкафчике. Арвид заполнил книгами весь дом. Они лежали даже на кухне, на полке, где хозяйки обыкновенно выставляют медную посуду. Доктор Скобе накопил деньжонок и не пожалел их, чтобы дать Арвиду образование. Он выучился на адвоката и переехал в город. Когда вторглись немцы, он перебрался в Англию. Он служил в английском флоте. И, говорят, был в сражениях. А после войны вернулся. Конечно, такой человек, как Арвид Скобе, был бы и в столице не последним. Но нет, он не чета тем, которые готовы забыть родную сторону, уезжают и носа не кажут потом. Посмотрели бы вы, какой памятник воздвиг Арвид на могиле отца. До?ктора немцы расстреляли за то, что он лечил у себя раненого партизана. Арвид отыскал место, где зарыли доктора, перевез прах в город и похоронил. Все знают могилку доктора Скобе. И бабушка Марта не раз бывала там и каждый раз плакала, читая надпись на памятнике, которую составил Арвид.
Вот кто такой Арвид Скобе, глава здешних социалистов. Он не чета правым, которые прежде сидели в ратуше.
Бургомистр живет на улице Лютера. Надо пройти мимо кирки, мимо кинотеатра «Одеон», где намалеванный на полотне человек в широченной шляпе целится в проходящих из револьвера. Еще два квартала — и улица упирается в гору. Там поставил себе дом Арвид Скобе. Гора защищает от северного ветра, а это как раз то, что ему нужно. Он ведь большой любитель цветов. Прибежит домой хоть на час, выпьет кофе, — и немедленно возьмется за лопату, выйдет в палисадник и начнет ухаживать за своими клумбами.
Позади дома тоже есть клумбы. Там работают люди нанятые. Ну, а палисадник Арвид уж никому не доверит.
В палисаднике Арвид Скобе работает всегда сам. Каждый собственными глазами видит — наш бургомистр не белоручка.
Вот зеленая ограда, за ней красный дом с белыми ставнями. Дома или в ратуше, а я разыщу Арвида Скобе.
Как бы Арвид ни был занят, для меня у него, я думаю, найдется несколько минут.
Я не ошибся. Он даже обрадовался мне, ей-богу! Завидев меня, он опустил дернину с маргаритками, вытер руку о траву и протянул через ограду. Я ответил пожатием, но не очень сильным, чтобы локоть Арвида не накололся на острые балясины ограды.
Через минуту я был в палисаднике и подавал Арвиду нарезанные дернины, а он укладывал их и, не дав мне и слова вымолвить о цели моего прихода, справлялся о моем здоровье, о здоровье бабушки Марты, Эрика.
— И Эрика не забыли! — вырвалось у меня.
— Мой дорогой Ларсен, — улыбнулся он. — Я перестал бы уважать себя, если бы забыл своих односельчан. Давайте-ка вон ту, большую. Мы поместим ее в центре клумбы, как вы находите? — спросил он, принимая от меня дернину. — Примерьте-ка, у вас глазомер лучше. Эх, Ларсен, — он потрепал меня по пояснице тыльной стороной ладони, чтобы не испачкать. — Сельдяная бухта — ведь это наша молодость, не правда ли?
Вон он какой — наш Арвид! Нет, боцман Лаурис, видно, совсем потерял голову из-за наследства, если мог приравнять нашего Скобе к какому-нибудь белоручке.
— Ты не представляешь, Ларсен, как меня интересует всё, что касается твоего семейства. Кстати, об Эрике. Он ведь получил место? Он у Бибера на засолке, я слышал. Для начала и это не плохо. Тебе подходящее дело труднее найти — по нынешним-то временам. Но ты не унывай, Ларсен, образуется.
Тут бы мне и начать о себе, да и завести речь о бумагах старухи Энгберг. Но Арвид продолжал:
— Я ведь еще что-то слышал про Эрика. Выскочило из головы. Нет, вот что: будто он подружился с этим… ну, как его — с Летучим шкипером. Что — вы не знали? Нет, я, собственно, ничего против не имею. Но, может быть, юноше рано заниматься политикой, О боже мой, Ларсен, это тяжелый труд — политика.
— Поспорили мы как-то с Летучим шкипером, — сказал я.
— Да? И ты принимаешь участие в дебатах?
Я промолчал и подумал, что теперь мне уж и вовсе не пристало лезть со своими заботами. На внимание Арвида ко мне я должен, как воспитанный человек, ответить тем же.
— Мы-то, в общем, скрипим, но держимся, — начал я, — а вот вы, наверное, свалитесь в постель, если не наденете сейчас же пиджак. Ну-с, надевайте, — прибавил я тоном старшего и снял с ограды темно-синий пиджак в полоску.
Арвид, смеясь, отскочил, но я изловчился и набросил ему пиджак на плечи.
Прошел бы сейчас по улице Пелле, почтальон, — завтра к обеду весь город знал бы, что шкипер Ларсен запросто бывает у бургомистра. Но по мосткам тротуара шагали два мальчугана — и больше никого не было видно. Мальчуганы шагали по другой стороне улицы, насвистывали и даже не глядели в нашу сторону.
Закончив клумбу, мы с Арвидом мыли руки, поливая друг другу из кувшина, а потом Арвид повел меня в дом. Два рыжих щенка катались на ковре, Арвид выпихнул их за дверь, позвонил. Вошла экономка. Он велел ей вычистить ковер и сварить кофе.
Я спросил, как поживает супруга — фру Елена.
— К сожалению, отсутствует, так что, боюсь, ты останешься недоволен угощением. Она уже девятый месяц в Дегерупе, у матери.
— Девятый, — сказал я и подмигнул. — Верно, приедет не одна, а с сыном или с дочкой? А?
Он засмеялся:
— Вы, моряки, догадливый народ.
Мы сидим за длинным узким столом и ждем кофе. Разговор оборвался. Арвид барабанит по столу костлявыми пальцами и смотрит на меня. За дверью царапаются и скулят щенки. Как полагается гостю, только что севшему за стол, я помолчу еще чуточку и начну о самом важном для меня.
Пока, чтобы сделать приятное хозяину, обернусь к стене и полюбуюсь на морского офицера Арвида Скобе, снятого на набережной, на фоне корабля, в компании с англичанами. Я уже видел эту фотографию раза два, но было бы неучтиво не обратить на нее внимание снова, тем более, что Арвид увеличил ее и она теперь вставлена в дорогую раму под стекло и занимает целый простенок.
Тем временем Арвид снял со спинки стула подтяжки и вышел. Слышно было, как он хлестал щенков и заталкивал их куда-то, — должно быть, в следующую комнату.
Он вернется, и я начну.
Долго объяснять, конечно, не будет нужды. Он поймет сразу, — и он не скроет от меня, если выяснилось что-нибудь об Акселе.
— Нет, нет, — услышал я наконец. — Ничего такого, что прямо касалось бы Акселя. Но вообще она, может быть, и замешана. Покойная владелица кафе была связана с оккупантами. Она, видимо, рассчитывала на их возвращение, так как держала у себя документы явно обличающего свойства.
Значит, недаром говорили: она выдала Акселя! Знал бы я, когда она была жива…
— Старая ведьма умерла, и теперь с нее взятки гладки, — сказал я, положив на скатерть кулаки. — Что теперь можно сделать? Не вызовешь ее на суд с кладбища.
Я думал вслух, глядя на свои кулаки, совсем черные на скатерти Арвида, и, забывшись, отпустил словечко, неуместное в присутствии бургомистра.
— Извините, что я грубо выразился, — сказал я. — Но что же это, господин Скобе? Покойница Энгберг жила себе припеваючи, копила деньги и при фашистах и после… А мой Аксель…
— Успокойся, Ларсен, — остановил меня Арвид.
— Да, верно, верно, — и я убрал кулаки со стола. — Вы уж извините, господин Скобе. Но я должен знать всё об Акселе. Не должен человек исчезать как дым. Нельзя этого допустить. И если его нет на свете, я должен знать, почему его нет, господин Скобе.
— Понимаю тебя, Ларсен, — проговорил он, пристально посмотрев на меня. — Судьба Акселя мне тоже не безразлична, можешь быть уверен. У меня лично составилось мнение… Мне не хочется огорчать тебя, но мне кажется, тебе следует приготовиться к самому худшему. Аксель попал к русским.
— Не может быть, господин Скобе, — сказал я.
— На твоем месте, Ларсен, я не стал бы утверждать в такой категорической форме.
— Русские не стали бы его держать, — сказал я. — Он был бы давно дома, господин Скобе. Господи, неужели вы серьезно думаете?
— Совершенно серьезно, Ларсен. Я сам боготворил русских! — воскликнул он, вскочил и начал ходить по комнате, размахивая подтяжками. — Но факты есть факты. Давай будем трезвыми людьми. Ты ведь не коммунист, не Летучий шкипер какой-нибудь. Ему партия приказала хвалить Россию, вот он и старается. Если русские такие, как расписывает вам Нильс, то почему же они держат в Сибири невинных людей? Эх, Ларсен, как будто один твой Аксель был на Зандкугеле.
— Нет, конечно, — сказал я и встал. — У вас есть новые факты, господин Скобе?
— Сядь! — бросил он и тоже сел, положив подтяжки на стол. — Факты пока те же, хорошо известные и тебе. Но надо делать выводы, Ларсен. В декабре сорок четвертого года Аксель был жив и находился на Зандкугеле. Я помню, как видишь.
Верно. Я получил тогда весть от Акселя через матроса немца. Аксель был в двести шестом лагере. Небольшая группа заключенных — в том числе Аксель — помещалась на мысу Зандкугель, близ Штеттина. Там были еще французы, голландцы, греки. Их там заставляли строить укрепления. Господи, да неужели я еще не сделал всех выводов? Я перебирал всё это в голове сотни раз. Да какое сотни — тысячи, миллионы раз. Да, в те места пришли русские четыре месяца спустя. Но, видно, Акселя там уже не было, ему не довелось дождаться русских, — вот как я думал.
Потом я же писал в столицу, там наводили справки. Мне сообщили, что Аксель и в России не значится. Нигде не значится. Что я мог сделать?
— Да, сейчас его в России, возможно, и нет. Но он мог быть. Мне тяжело говорить, Рагнар, но Сибирь… Нужно быть очень крепким человеком, чтобы выдержать там. Ты одного еще не знаешь, очевидно. В Америке есть организация, специально занятая розысками пропавших без вести. Насчет двести шестого лагеря есть данные. Всех заключенных немцы угнали на запад, всех, кроме группы на Зандкугеле. Она вся попала к русским, Ларсен. Так вот, Ларсен, — ни один из них не вернулся. Сюда должен приехать представитель этой американской организации. Ты встретишься с ним, поговоришь сам.
Вот что сказал мне Арвид Скобе!
Шатаясь, как больной, шел я от Арвида. Дома я сказал Эрику:
— Я видел Арвида Скобе. Он считает, что тебе еще рано заниматься политикой.
Больше я ничего не сказал.
«Аксель, Аксель, — твердил я про себя, глядя на его карточку, — не ты ли уверял, что у нас одна надежда на русских. Что же это происходит на свете!»
Слышу слова Акселя:
«Русские воюют не только за себя, папа. И за нас тоже. Наши партизаны не могут сами прогнать немцев, но зато мы сковываем несколько немецких дивизий. Мы помогаем русским, папа».
Аксель сам готовился уйти в горы, в отряд сопротивления. Он не успел, попал из-за пустяка в когти гестапо.
Все эти годы я думал: «Дожил бы Аксель до прихода русских, был бы дома… Значит, не дожил или увезли его фашисты куда-нибудь…» Так я размышлял всё это время. А теперь не знаю, что и подумать. Нет, моего ума, видно, не хватит, чтобы понять, что же делается в мире.
Но я пока что никому ничего не скажу. Ни фру Агате, никому. Приедет представитель. Может быть, выяснится всё до конца.
6
Уже июнь на дворе, а всё нет настоящего тепла. Скалы холодные, словно вчера с них сошел снег. И хотя теперь светло почти круглые сутки, солнце совсем не такое приветливое, как бывало.
Видно, мы никогда не отогреемся после той студеной весны, когда немцы забрали Акселя. И после той зимы, там, на севере, у Птичьих островов, куда немцы водили нас под конвоем ловить треску, где простудилась и умерла Хильда.
И в комнате нет спасенья от стужи. Дом ведь не такой, как у нас, в Сельдяной бухте. Стены тонкие, печка, против нашей, игрушечная. Ветер без труда пробивается в жиденькую городскую постройку, спозаранку выгоняет тепло из-под одеяла. Правда, жаловаться грешно. Кабы не Арвид Скобе, который помог своему земляку отыскать квартиру, ютились бы мы где-нибудь в сарае или в землянке.
Бабушка Марта уже давно встала. Она сидит у окна в ватной кофте и вяжет носок. После того, как мы расстались с «Ориноко», она очень осунулась, ослабела, и я начинаю бояться за нее. Завидев, как я выхожу из-за перегородки, бабушка Марта знаком подзывает меня.
— Ты слышишь? — спрашивает она.
— Что?
— Встань здесь, — она указывает мне место рядом с собой. — Слышишь теперь?
— Ничего я не понимаю, бабушка, — говорю я.
— Кончили сейчас, — тихо произносит она. — А как ясно было слышно! Колокол нашей кирки, Рагнар.
Нашей? В Сельдяной бухте? Бедная, бедная бабушка Марта, — ей мерещится бог знает что!
— Немыслимые вещи ты говоришь, — объясняю я ей. — Во-первых, до нашей бухты больше тридцати километров. Какой ветер принесет звон через такую даль? И звонить там некому. Или ты забыла, что от кирки нашей остался один мертвый кирпичный остов, лестницы все сгорели, обрушились. Только птица может подняться на звонницу.
— Я слышала, — упрямо твердит бабушка. — Я всегда узнаю колокол нашей кирки.
Плоха, совсем стала плоха бабушка Марта.
— Что ж, может быть, ты и права, — отвечаю я.
Я бужу Эрика, и мы идем в рыбную гавань. Это не близко. На набережной нас обгоняет красный почтовый автобус с ящичком для писем на кузове, — тот же самый автобус, который делал остановку у нас в деревне. По праздникам я ездил на нем в город за покупками.
Эрик поднял было руку, но я удержал его. Нет, мы не можем тратиться на билеты, ведь очень может быть, мы и сегодня проходим напрасно. Эрику — тому еще удается иногда заработать. Управляющий ставит его на засолку или на весы. Для меня вот уже вторую неделю ничего не находится. Не станет же мореход Ларсен таскать мешки с солью! Что люди тогда скажут!
— Папа, Нильс, знаешь, что? говорит? — сказал Эрик. — Он говорит: в следующий раз бургомистру Скобе не поверят. Он ведь обещал всем работу, когда были выборы.
— Нильсу вынь да положь, — ответил я. — Не всё сразу делается.
Потом я напомнил мальчишке, что ему незачем вмешиваться, когда взрослые беседуют между собой.
— Я не вмешивался, — возразил Эрик. — Дядя Нильс нам говорил — мне, Альберту, длинному Хансу.
— Напрасно Нильс отвлекает вас от дела. Меньше болтайте там. Перело?жите соли в рыбу, вам тогда покажут! Тоже нашлись политики!
Потеряет место Эрик, — как мы тогда будем жить? Подумал он об этом? «И я опять начал наставлять его уму-разуму.
Да, и на этот раз не оказалось работы для меня.
— Парень пусть остается на всякий случай, — сказал управляющий.
Про меня — ни звука. Словно я уже не гожусь ни на что. Словно я способен только провожать Эрика до ворот.
— Видно, мне надо ждать, пока починят «Ориноко», — сказал я. — Да и то, как знать, будет ли он плавать. Хозяин продает остров Торн, верно или нет?
— Простите, мне некогда, господин Ларсен, — сказал управляющий. — Ну, а ты ступай в посолочную, Берт.
— Я Эрик, а не Берт, — поправил Эрик.
— Ты потише, — заметил я. — Повежливей.
Хорошо, что хоть его взяли. Спасибо и на том, Генри! Я пробился сквозь толпу, собравшуюся у ворот в ожидании работы, и двинулся в обратный путь.
По тропинке, вытоптанной в камнях, я поднялся на холм. Позади меня, на дне впадины, лежала рыбная гавань с белым зданием конторы и серыми крышами цехов, которые разрослись вокруг нее, как грибы вокруг березового пня. А впереди — тоже впадина, но пошире, и в ней город. Когда я добрался до самой вершины холма, город открылся мне весь, и первое, что я увидел, был пароход, бросивший якорь в заливе. Событие редкое у нас. Городишко, правда, числится портовым, но посудите сами, — разве здесь порт? Один-единственный кран торчит на гранитных плитах. А волнорез? Лучше и не спрашивайте. Вместо него — две продолговатые скалы, показывающиеся из воды. Одна — широкая, напоминающая грудь человека, другая поменьше, с зазубриной вроде рта, с бугорком вроде носа, — ни дать ни взять лицо. Будто каменный великан свалился в воду. «Пьяный Матрос» — так зовутся эти скалы. Они-то и служат здесь волнорезом.
Пароход большой, больше любого из домов на берегу. «Пьяный Матрос» почти весь скрыт за пароходом, видна только часть головы.
Флаг на таком расстоянии нельзя рассмотреть. Но, верно, судно из-за границы. Откуда же? И что на нем?
Пойду мимо — узнаю. Нет, не подумайте, что шкипер Ларсен, как мальчишка, спешит поглазеть на иностранный пароход.
Не оттого быстрей задвигались ноги. Три года назад, как кончилась война, стали говорить в народе, что вот-вот придет транспорт из Германии, привезет наших — угнанных немцами. Правда, с течением времени всё реже рисовалась мне эта картина, — и всё же сердце не на месте.
Через час ходьбы я свернул с главной улицы влево, в узенький переулок. В конце его зеленела ограда порта и маячил солдат с винтовкой.
Видно, не простое торговое судно прибыло к нам, раз выставили охрану с оружием!
Солдат лениво прохаживался и поглядывал в небо. Он следил за голубями пастора Визелиуса, кружившимися над переулком. Козырнул мне и сказал:
— Здравствуйте, дядя Рагнар!
Никак Вилли! Ну да, Вилли, сын Гуннара из Фламмеля, маленькой деревушки по соседству с нашей Сельдяной бухтой. С Гуннаром мы ловили лососей у Белых порогов.
— Ого, как ты вырос, Вилли! — сказал я и пощупал его плечи. — Здоровый парень, весь в отца!
— Вы не трогайте меня, дядя Рагнар, — сказал он и отступил на шаг. — Не велено, потому что я на службе, дядя Рагнар, вот в чем суть.
— И форма идет тебе, — сказал я. — Она очень неплохо сидит на тебе. Что за коробка там пристала к нашим камням, Вилли? Откуда ее принесло?
— Из Америки, дядя Рагнар, — сообщил Вилли, оправил френч и сделал еще шаг назад.
— Хватит тебе пятиться! Не бойся ты меня, дурень! Так из Америки, значит?
Тут вспомнил я разговоры насчет американской помощи. Интересно, что это за помощь. Конечно, если там фрукты в банках да хлопковое масло, то радоваться нечему. Банки нашему брату не по карману, масло из хлопка дешевое, да горькое, тощее, — только от бедности его в рот класть. Китовый жир, который мы добывали до войны, не объеденье, но всё лучше этого. Мне сдается, богом положено из хлопка делать одежду для человека, но отнюдь не еду.
Вилли не сразу сказал, с чем явился американец на этот раз. Завел меня за киоск, чтобы сержант не увидел, потоптался на месте, передвинул прикладом винтовки щепочки на земле и, собравшись с духом, вымолвил:
— Товар секретный, дядя Рагнар.
— Да ну? — удивился я. — Мне-то ты можешь сказать.
Да тебе и самому не терпится выложить секрет, губошлеп ты этакий. Ты побаиваешься, ты с опаской поглядываешь на меня.
— Не беспокойся, не выдам, — прибавил я. — Нечего тебе играть со мной в прятки, Вилли. Не говори — очень мне нужно. Я схожу к доктору Скобе и узнаю у него всё. Для шкипера Ларсена нет секретов здесь, Вилли, имей в виду, телячья ты голова.
— Ладно, дядя Рагнар, вам, пожалуй, можно, — решился он наконец, приблизился ко мне и задышал мне в щеку. — Бомбы привезли.
Тут я сам отскочил от него. Целый пароходище! Что мы тут будем делать с ними? Не дай боже они взорвутся, тогда и бревна не останется от нашего городишки.
Но Вилли сказал, что здесь они не будут лежать, — их отвезут на аэродром в Роммендаль.
Тоже не легче. Роммендаль рядом.
— Ты сам-то видел их? — спросил я.
— Нет. Но это точно. Нам объявили, когда наряжали сюда.
— Послушай-ка, Вилли…
Я хотел узнать, не объявили ли им еще чего-нибудь. Я хотел прямо спросить — что там слышно, у военных? Но тут же я подумал: вот и опростоволосится шкипер Ларсен, если заведет речь о политике. Сразу и обнаружится, что он не читает газет. Платит крону в месяц почтальону Пелле за пересказ новостей, а тот разбирает только крупную печать. Желторотый Вилли и тот будет смеяться надо мной. Поэтому я спросил парня:
— Послушай, а как кормят вас?
— Больше всё клецками, дядя Рагнар. И к завтраку, и на обед.
— И то неплохо по нынешним временам, — сказал я. — Прибавку, верно, дают.
— Редко.
А впрочем, почему бы не поинтересоваться? Ведь военным сообщают и такое, чего нет в газетах. Вилли помялся, посмотрел по сторонам и ткнул нос в мое ухо:
— В Роммендаль прилетят американские самолеты. Осенью. На маневры.
Что ж, маневры — это еще не война. Значит, ничего особенного не стряслось. Но, конечно, было бы лучше, если бы эти бомбы отвезли куда-нибудь подальше. Неужели нет другого места!
— Это секрет, дядя Рагнар!
— Не беспокойся, Вилли. Прощай. Дядя Рагнар, братец, хранит секреты даже тогда, когда его об этом не просят.
Зачем я сказал это? Сам не знаю.
7
Подумайте, пока я добирался до дому, новость успела обежать весь город. Длинные у нее ноги! Представьте себе, даже бабушка Марта знала, что в порту стоит пароход с бомбами, — ей сказала фру Агата, заносившая молоко. Разумеется, она всполошилась и напугала бабушку Марту. А ей нельзя волноваться.
— Бомбы отсюда увезут, — сказал я ей.
— Все говорят, опять война будет. С кем же война, Рагнар? Опять немцы?
— Мало ли что болтают, — отмахнулся я. — Как тебе объяснить… Наше правительство, на всякий случай, купило оружие в Америке. А американцы рады всучить свой товар — бомбы или хлопковое масло. Привезли этакий ворох. Да ты не бойся, их сегодня же отправят отсюда.
Успокоившись немного, бабушка Марта сказала, что фру Агата не только принесла молоко, но помогла в стирке и поэтому придет к нам обедать.
— С бельем мне не справиться, — пожаловалась она. — Силенки-то еще есть, а пальцы не те. Ты не ругайся, Рагнар.
Я не против того, чтобы вдова Агата бывала у нас. Мне нравится слушать, как Агата гремит корытом на кухне или рубит щавель так, что дом дрожит. Она обыкновенно подпевает себе во время работы, как, бывало, покойница Хильда. Голос у Агаты чуточку похожий.
Но только голос. Поэтому, когда она выходит из кухни и открывает дверь в комнату, я смотрю куда-нибудь в сторону.
Эрик к обеду не явился, и мы сели без него. Агата внесла миску с супом, поставила и побежала назад за крышкой. Сразу-то не сообразила накрыть!
Нет в ней, как я посмотрю, расторопности и обращения настоящего нет. Села обедать в чужом доме и чуть не первая схватилась за ложку. А еще городская! У нас так заведено: хозяин раз пять хлебнет, а уж потом гость пригубит ложку. А чего сто?ит усадить гостя! Ведь если он человек воспитанный, он ни за что не послушает первого приглашения, он убежит на улицу, спрячется где-нибудь за пристройками или на огороде, а хозяева добрых четверть часа кличут его и ищут.
Корзины с рыбой она могла бы таскать, это верно: плечи, как у мужика.
— Куда же Эрик пропал? — спохватилась бабушка.
Фру Агата, очистив тарелку, ни с того ни с сего объявила, что она вчера видела Эрика.
— Он был с девушкой.
— Эрик? — спросил я. — Вы не путаете, милостивая фру Агата? Эрик еще мальчик.
— Я тоже нахожу, что он мальчик, — сказала она и улыбнулась неизвестно чему.
И тут она меня ошарашила: Эрик стоял вчера вечером у «Веселого лосося» с Христиной! Еще не легче. Ох, остренькая подъехала-таки к парню!
Фру вставила несколько слов насчет состояния Христины.
— Еще неизвестно, как обернется дело с наследством, — сказал я. — Впрочем, меня не касается. Я не собираюсь женить Эрика.
— Вы правы, — согласилась она. — Всё равно ведь возьмут в солдаты. Время такое…
— Да бросьте вы, — рассердился я. — С ума все посходили из-за парохода.
— Мне больше некого провожать на фронт… А всё же страшно, — тихо сказала Агата.
Картошку с рыбой мы доели молча.
— Какая Христина? — вдруг подала голос бабушка. — Дочка Олле? За ручьем? Нет, что я, — поправила она себя, — та ведь вышла за лесоруба Андерса.
После обеда я сказал Агате, что время уже летнее, не грех скинуть еще одно эре за молоко. Агата, держа в охапке посуду, остановилась в дверях.
— Что ж, ради вас, — молвила она. — Ради вас можно…
Ступайте, ступайте мыть посуду, фру Агата, и спойте что-нибудь. Всё равно что, — например, ту плясовую, под которую я, бывало, кружился вокруг Хильды. Хильда держала в руках шест с шапкой на конце, и парни, кружась, выкидывая перед Хильдой коленца, подпрыгивая, старались сбить шапку. Я сбил ее и получил право весь остаток вечера танцевать с Хильдой. Вы напевали про себя эту плясовую, фру Агата, спойте ее еще раз и не показывайтесь сюда. Сделайте и это ради меня, раз вы так хорошо ко мне относитесь.
Конечно, я не сказал этого. Я только подумал. Фру Агата не пела, я слышал лишь грохот посуды.
Из окна видно было, как она шла к себе по дощечкам, перекинутым через каменные желваки. Дощечки прогибались и жалобно скрипели под ее крепким шагом.
Эрик не явился и через час и через два.
— Я дойду до «Веселого лосося», — сказал я бабушке. — Если мальчишка там, притащу за ухо.
Не пришлось мне, однако, дойти до харчевни. Еще по дороге заметил я, что люди оживлены больше обычного, что на углах, у кирки, возле кинотеатра собрались кучками женщины и громко судачат. Вскоре я встретил знакомого матроса.
— В порту забастовка! — крикнул он, переводя дух. — Все рыбники там…
Ну и денек сегодня! В самом деле, все с ума посходили, — ничего другого не скажешь. Пока я спешил к порту, мне попались навстречу еще знакомые, и каждый добавлял какую-нибудь подробность. Представьте, что учинилось в порту! Грузчики отказались работать. Мы, мол, согласны что угодно выгружать, но не бомбы. Пусть американцы везут их обратно. Так и сказали директору порта. Тот позвонил Генри Биберу. Порт ведь тоже его предприятие. Так и получилось, что поиски Эрика привели меня в порт, к тому же проклятому пароходу.
Вообразите себе: и рабочие из рыбной гавани не захотели выгружать. Что сделалось с народом! Когда я прибежал в порт, кран стоял неподвижно и царила полная тишина. Ворота распахнуты, на створке кусок фанеры, и на нем наспех выведено мазутом:
«Срочно требуются грузчики».
У ворот внутри прохаживался, похлестывая прутиком по голенищам коротких сапожек, конторщик Борг — прыщавый малый в клетчатых шароварах.
— Эрик здесь? — спросил я его.
— Да. Стойте, Ларсен! Вот что, забирайте его отсюда. Дружеский совет… Не случилось бы беды с юнцом. Вызвали полицию. Парни и сами не работают, и других решили не допускать. А мне велено тут нанимать людей, — он пожал плечами. — Дурацкое положение.
По узкому проулку между складами я вышел к причалам. Прямо передо мной выросла громада океанского парохода, от черного борта его, вздымавшегося к небесам, легла на плиты набережной, на штабели бревен темная тень. И первый, кого я увидел сидящим на бревне, был Нильс — Летучий шкипер. Он посапывал своей трубочкой как ни в чем не бывало, а с ним сидели братья Микель и Юхан, рассказывали ему что-то и посмеивались, как будто ничего не случилось. Я подошел к Нильсу и сказал ему прямо:
— Ты главный заводила. Я так и знал.
— Присядь, шкипер, — ответил он. — Не расстраивайся.
— Я пришел не для того, чтобы лясы точить с вами, — ответил я. — Я за Эриком. А вы, ребята, если не имели дела с полицией, так будете иметь. Борг сказал…
— Мы слыхали, можешь не повторять, что? сообщил тебе Борг, — прервал Нильс. — Красиво будет, если Скобе через три недели после выборов позовет на помощь полицейских, а? После болтовни о демократии! После всей фарисейской болтовни! — Нильс свел брови и стукнул каблуком. — Я всё же думаю, он не решится сразу. Сперва сам пожалует к нам.
Брови его разошлись, он смотрел на меня посмеиваясь, и с таким же выражением глядели на меня братья Микель и Юхан.
— Мне некогда спорить, — сказал я. — Где Эрик?
Я думал, он начнет ругаться. Ничуть не бывало. Не торопясь поднялся, стряхнул пыль с брюк.
— Побудьте тут, — велел он Микелю и Юхану. — Я — на третий пикет.
Ясно — командиром у них!
— Эрик сам решит, — повернулся Нильс ко мне. — Я удерживать не стану.
— Покамест я решаю, — ответил я.
На это он ничего не сказал. Меня так и подмывало вымолвить ему пару крутых словечек, но он шагал так невозмутимо, словно на прогулке, и я не вдруг приготовил эти слова. А когда приготовил, было уже поздно, — дорожка среди штабелей вывела нас к крану, стоявшему на ржавых, поросших травой рельсах. Кругом сидели на траве рабочие из рыбной гавани — человек десять, и среди них Эрик.
Эрик, завидев меня, встал. У меня, должно быть, вид был далеко не любезный, потому что еще двое парней вскочили с земли и один взял его под руку.
— Идем домой, — приказал я.
Что же он ответил мне, как бы вы думали? Ведь не послушался! Да, да — вообразите себе! Он, изволите видеть, не может оставить товарищей. Товарищи для него важнее! Он заявил, что должен охранять порт. Как будто он хозяин! Так меня поразило это, что и передать не могу.
— Хорошо, оставайся, — только и мог я сказать. — И можешь вообще не показываться домой.
После этого я повернулся и, не говоря ни слова никому, двинулся прочь. А что я должен был сказать? Пусть живет как знает, если он умнее отца.
Целую ночь я не спал и ждал, что залает собака инженера Зайделя, живущего наискосок. Дорога от порта к нашему дому как раз мимо него. Ночью эта собачонка непременно тявкает на прохожих.
Несколько раз она поднимала лай, и я спускался вниз отпирать дверь. Уж коли я всё равно не сплю, так отчего же не выйти. Фру Гортензия, супруга таможенного чиновника, живущая в нижнем этаже, терпеть не может, когда ночью топчутся на ступеньках у парадной. Неделю будет ворчать. Так что лучше сойти и поскорее впустить человека.
Однако ночью прохожие шли мимо. Утром фру Агата принесла вместе с молоком новости: в порту был Скобе, уговаривал рабочих; многие послушались, и пароход разгружается.
После кофе явился Нильс.
Глаза его не смеялись, как обычно, в них были тревожные искорки. «Случилось что-нибудь с мальчишкой», — мелькнуло в уме. Я не поздоровался с ним, не кивнул даже, — ждал, что он скажет.
— Эрик у меня, — сказал он.
Я и тут не смог ничего произнести. Стало легче дышать, и я сделал большой глоток воздуха.
— Вам надо помириться, — сказал Нильс.
Меня всего передернуло. Сам же виноват и, извольте радоваться, советует мириться. Начни он как-нибудь иначе, я бы, возможно, попросил его сесть и рассказал бы ему самое важное, то, что узнал от Скобе, и заставил бы Нильса задуматься над своими поступками. Я доказал бы ему, что сейчас самое лучшее, что можно сделать, это держаться в стороне от политики, раз в мире всё перевернулось и нельзя понять, где друг, а где враг.
— Знаешь что, Нильс, — сказал я, стараясь не кричать. — Лучше тебе уйти.
8
Боже мой, что с ним стало! Как он помолодел, мой «Ориноко»! Да нет же, он и в ранние свои годы не выглядел таким новеньким и щеголеватым, как теперь. Я даже глазам не поверил сперва, честное слово! Чей это голубой ботик у причала, раскрашенный, как прогулочная яхта, подумал я. Что-то он незнаком мне. Должно быть, Генри Бибер ошибся, послав меня на второй причал, — принимать корабль, вышедший из ремонта. Никакого «Ориноко» я здесь не вижу, — так говорил я себе, пробираясь между бочками с соленой салакой, треской и бутылями с рыбьим жиром. И вдруг… Да неужели это он, мой «Ориноко»!
— «Ориноко» ваш готов, — сообщил мне сегодня Бибер. — Так как по всей вероятности никто не сумеет плавать на нем лучше вас, то я и поручу его вам.
На этот раз Генри принял меня не в кабинете, а в маленькой комнатке за кабинетом. Она вся обита коврами, а в углу небольшой столик с медной дужкой, вделанной в крышку. Генри потянул дужку кверху, крышка стола раскрылась, распахнулась двумя половинками, а изнутри поднялись графинчики и стопки из матового стекла. Генри налил мне и себе какой-то зеленоватой диковины, пахнущей мятными каплями, и мы выпили.
Я ждал, что скажет Генри. Порция с наперсток величиной не затуманила мне мозги, и я мог рассуждать трезво, — неспроста же позвал меня сюда Генри. С ним ухо надо держать востро.
Он налил мне еще, и тут я окончательно решил, что дело нечисто.
— Как семейство ваше? — спросил он.
— Благодарю вас, по-прежнему, — ответил я.
— Сынок ваш дома?
— Нет, — ответил я осторожно. — Гостит у знакомых.
— Для юноши в таком нежном возрасте, — проговорил Бибер, вытирая платком губы, — крайне необходимо твердое руководство со стороны отца. Только оно способно уберечь от случайных и опасных знакомств.
Ах, вот он куда гнет! Ну, у меня нет охоты отдавать ему отчет в своих личных делах. И я, не вдаваясь в эту материю, вежливо согласился, что отец, действительно, много значит для ребенка, тем более, что бабушка Марта стала плоха.
Тут Генри зачем-то поинтересовался, сколько лет бабушке Марте. Видимо, он еще не дошел до сути и заходит издалека. Что ж, и я за словом в карман не полезу. Извольте слушать, коли так, господин Бибер. Бабушка Марта, к сожалению, стала заговариваться. Вообразила, что Эрик ночует у невесты — у дочки Олле, который жил в Сельдяной бухте. Бабушка всё беспокоится, как бы Эрик не поскользнулся и не расшибся, прыгая через ручей, и твердит, что ему надо идти через мостик. От него прямо к амбару тропинка. Это она помнит — бабушка Марта! Действительно, у Олле за ручьем, на выступе скалы стоял большой старинный амбар с резными столбиками и наружной лесенкой, прямо к чердачку. Внизу, как водится, хранилось зерно, вяленая рыба, сухие лепешки под потолком, надетые на брус. А на чердачке в теплые летние ночи спала дочка Олле — Христина. Не троюродная сестра боцмана Лауриса, а дочка Олле, что вышла за лесоруба Андерса.
Всё это я выкладывал Биберу и, посмеиваясь про себя, видел, как он ёрзает от нетерпения на табуретке. «Теперь я довел его, — решил я. — Раскроет карты».
И действительно, он прервал меня и сказал, поматывая головой, будто разбрасывая слова по всем углам комнаты:
— У меня есть для вас предложение, господин Ларсен. Оно встретит, как мне представляется, ваше полное одобрение. Не желаете ли взять ваше «Ориноко» в аренду? С вашим искусством вы сможете, не сомневаюсь, выкупить его с течением времени в собственность.
«Ага, вот в чем дело, — подумал я. — Бибер учел свою выгоду. Что ж, предложение как будто, сто?ящее, но нет ли какого подвоха».
— Прежде всего я хотел бы осмотреть судно, — ответил я Биберу.
И вот я стою на набережной, у мастерской, а передо мной мой переродившийся «Ориноко». Выходит, мы снова будем вместе, дружище! Снова будешь носить меня!
Но я должен проверить, не обманчива ли твоя новая наружность, не намерен ли Генри надуть меня, сбыть с рук корабль, залатанный кое-как, на живую нитку, не скрывается ли под слоем краски какой изъян. Прежде чем я не сделаю на нем несколько кругов по заливу, я не отвечу Биберу ни «да», ни «нет».
Вот идет по настилу старый Эркко. Он сгорбился, втянул лысую голову в плечи, что-то шепчет про себя.
— Эй, Эркко, — крикнул я.
Он кивнул мне и не остановился.
— Что с тобой, Эркко, — удержал его я. — Да ты спишь на ходу, парень! Полюбуйся-ка на эту посудину, — сказал я, указывая на «Ориноко». — Узнаёшь ее?
Но Эркко, обычно разговорчивый, молча щурил на солнце свои подслеповатые глаза, приоткрыв их, и покачивал головой, словно вид «Ориноко» был ему неприятен. Потоптавшись, звякнув носками пыльных ботинок о банки с тресковым жиром, он двинулся дальше.
— Да что с тобой, Эркко! — крикнул я и взял его за локоть.
— Не кричи так, шкипер, — проговорил он и высвободился. Но я загородил ему путь:
— Очнись же, слушай! Я с делом к тебе. Если ты свободен, помог бы мне… Надо испытать корабль, понимаешь. Я встану на руль, ты к мотору.
— Нет, Ларсен, нет, — он растерянно заморгал и отвернулся, — Некогда мне…
— Врешь ты, Эркко. Ненадолго ведь. Понимаешь, я спасаюсь, нет ли какой каверзы. Генри возвращает мне бот. Но надо всё проверить сперва. Ему ведь палец в рот не клади…
— Ты выслужил, Ларсен, — тихо ответил Эркко, не глядя на меня.
— Как выслужил? Кому? Да что ты мелешь, Эркко, с ума ты сошел! — крикнул я, но он быстро пошел прочь, перешагивая через банки. Я сделал шаг, другой, чтобы догнать его, но он уже исчез за углом склада.
Ну и бог с ним. Не стану упрашивать его. Очень он мне нужен!
Я постоял некоторое время и подождал, — не покажется ли этот старый болтун. Конечно, искать его я не намерен. Но если он еще раз пройдет мимо причалов, я ему скажу. Я скажу: «Дурак ты, Эркко, неужели ты воображаешь, что я собирался увести Эрика ради Генри или кого-нибудь другого?» Но Эркко не показался.
В конторе мне дали матроса, и я вывел «Ориноко» из рыбной гавани. Я покружил по заливу, затем вышел в море и взял влево, пока не послышался шум падающей воды и не блеснули «пять сестер» — пять каскадов, свергающихся с высокой, почти отвесной горы. Нет, Генри не подвел меня как будто. В корпусе никакой течи. Вот руль перекладывается не очень легко. Но это пустяк. Словом, только бы радоваться мне, если бы в ушах не звучали слова Эркко: «Ты выслужил, выслужил, выслужил». Ведь вот же, привяжется какая-нибудь ерунда и не отогнать ее!
В конторе я сказал, что подпишу договор на аренду «Ориноко», но сперва пусть мне подгонят штурвал получше и положат на борт еще один слой краски.
Из конторы я пошел в посолочную, где работает Эрик, и отыскал мастера.
— Бибер отдал мне «Ориноко» в аренду, — сказал я. — Сообразил, что кроме меня некому поручить такой корабль.
— Поздравляю, шкипер, — и толстяк мастер прижал меня к своему животу. — Поздравляю.
— Передай моему Эрику, Бенгт. Только осторожно, — не от меня, понимаешь?
Ясно. Мальчишка обрадуется, со всех ног кинется домой. Еще бы! Плавать на своем судне.
— Мы умнее были в его годы, Бенгт. Занимались своим делом, не лезли в политику.
— Истинно, Рагнар. Нильса уволили, ты слышал? И еще пятнадцать человек. У меня, слава богу, никого.
Толстяк комкал фартук, лоб блестел от пота.
— Ты мокрый, бедняга, — засмеялся я.
— Не заварилось бы снова, — охнул он. — Хожу и срываю, — он протянул мне горсть бумажек. — Сердце болит за них, дураков. Работали бы смирно. Почитай, что? твой Эрик расклеил у нас тут…
— Не интересуюсь, — ответил я, отводя его руку. — Я добываю кусок хлеба для семьи, вот и всё. По нынешним временам и это не легкое дело, Бенгт. Вот Нильс не понимает меня, и Эркко тоже. Многие не понимают меня, Бенгт, а дело ведь простое…
Я еще долго распространялся в таком духе, держа Бенгта за пуговицу комбинезона. Освободившись от меня, он пожелал мне счастливого промысла на «Ориноко».
— Я завтра приду за ним, — сказал я. — Штурвал заедает, и краски на борту маловато. Заставил сделать. Бибер не должен забывать, что имеет дело со шкипером Ларсеном. А шкипер Ларсен звезд не хватает, правда, но провести себя не даст, — а?
Говорил я с Бенгтом, а обращался к Нильсу, к Эркко, к братьям Микелю и Юхану. И, закончив свою речь, я продолжал ее мысленно, шагая вдоль шеренги бутылей с рыбьим жиром и оглядываясь по сторонам, — не покажется ли опять Эркко.
9
«Ориноко» у нас, и всё было бы хорошо, если бы не эта заваруха.
Видели вы что-нибудь подобное? Ведь не явился мальчишка! Он боится меня, вот в чем дело. Или Бенгт не исполнил моей просьбы? Да нет, не может этого быть, — Бенгт сделает, если обещал. Да и, небось, всему городу уже известно, что шкипер Ларсен привел «Ориноко» обратно. Меня уже не один встречный спрашивал — каков промысел? А какой может быть промысел, если бот стоит у причала. Или прикажете мне брать на борт чужого человека? С какой стати! При взрослом-то сыне! Но вот уже потерян один день по милости Эрика, негодяя мальчишки. А тут еще Агата со своей болтовней. Она видела Эрика и прибежала доложить мне.
— Он изменился, господин Ларсен, — сказала она. — Он смотрит как-то по-другому. Знаете, ведь бывают такие дни, когда мальчики вдруг становятся мужчинами. Он делается всё больше похож на своего брата.
Я оборвал ее и спросил, где она видела Эрика. В сквере у «Веселого лосося». Они так мило беседовали, — Эрик и Христина.
— Чему вы улыбаетесь, фру Агата? — вскипел я. — Он бегает за девчонками, шляется черт знает где, а отец сидит на берегу, сидит как… как…
Я так и не сумел подобрать подходящего слова, до того обозлился. Между тем Агата, как ни в чем не бывало, продолжала:
— Вы и оглянуться не успеете, как ваш Эрик раздобудет молодую хозяйку для вашего дома. И тогда, — она опустила голову, — я вам буду совсем не нужна.
— Я ему покажу хозяйку! — сказал я. — Я возьму его за шиворот и притащу домой.
Чего же ждать?
Салака, небось, уже пошла. Конечно, больших косяков еще нет, и другой рыбак зря будет мочить сети. Надобно знать банки за маяком Ялмарен, песчаные банки, покрытые водорослями до того густо, что они кажутся зелеными подушками. На тех банках уже, наверное, есть рыба. А шкипер Ларсен всегда выходил первый. На салаку, или на треску, или на камбалу — всегда первый, черт побери! Люди, верно, в толк не возьмут, почему такой неповоротливый нынче шкипер Ларсен, почему он не спешит выйти в море. А кое-кто, может, уже подсмеивается: одряхлел, мол, Ларсен, не совладал с желторотым юнцом.
А тут опять Агата:
— Она с коготками птичка — Христина. Она поженит Эрика на себе, господин Ларсен.
— Простите меня, фру Агата, — ответил я. — Удивительно устроена у вас голова. Всё, что происходит на свете, вы сводите к свадьбе.
С этими словами я ушел, велев ей покормить бабушку Марту и самой поесть супа, что остался от обеда.
До Нильса путь не близкий. Он живет на самом краю города, за лесопилкой. Дом, где Нильс снимает комнату, торчит на скале, на самом ветру, и туда от мостовой надобно карабкаться по деревянным, зеленым от времени ступенькам, числом не менее полусотни.
Я застал одну Асту — жену Нильса, пеленавшую ребенка. Эрик на собрании, а Нильс трудно сказать где. Ему за вечер надо побывать по крайней мере в трех местах.
— Недаром он «летучий шкипер», господин Ларсен, — прибавила Аста. — Уж такой он есть. Придет поздно.
Каждое слово она растягивает, как будто я глухой. Все так говорят там — на Синих горах. Нильсу, видите ли, не нашлось невесты в Сельдяной бухте, привез с Синих гор. И не удосужился даже приучить ее говорить по-человечески. Вы думаете, фру Аста, очень красиво — раскатывать каждое слово, как тесто для ватрушек. А то, что вы держите у себя лоботряса, сбежавшего из дому, — это тоже в порядке вещей, по-вашему, фру Аста? Вам даже весело, сдается мне.
Так я думал, глядя в смеющиеся глаза Асты. Она радуется безобразию, вместо того чтобы прогнать мальчишку к отцу. Дать хорошего пинка и прогнать.
— Я пришел за Эриком, — сказал я.
Она что-то ответила, но в эту минуту, как назло, заорал ребенок.
— Что вы сказали, фру Аста? — спросил я немного погодя.
— Садитесь, садитесь, шкипер, вот о чем я вас прошу, — она повернулась ко мне, и глаза ее так же беззаботно смеялись. Господи, что за странное существо! Все они на один лад — там, на Синих горах. Как говорится, пока не обожжет, не поймут, что загорелось.
— Отдохните, ведь небось без ног остались, взбираясь на наш небоскреб? Вы давно у нас были? В прошлом году? Мы всё в той же хибарке, как видите. Хотелось бы устроиться получше, да не выходит.
«Никак вы пытаетесь успокоить меня, фру Аста? — подумал я. — Напрасно. Лучше договаривайте, кто вас просил взять еще квартиранта, коли самим тесно. Ведь никто не просил! Эрик, верно, валяется на полу. Так ему и надо, пусть почувствует, каково в людях».
У одной стены — кровати Нильса и Асты, у окна — письменный стол, у другой стены — два шкафа с книгами и между ними места только-только хватило для детской кроватки. А книжки у Нильса потрепанные, видать, куплены по дешевке, — не то, что у Скобе. У одной корешок отрывается.
— Эрик спит на кухне, — сообщила Аста. — Тише ты, — цыкнула она на хнычущего младенца. — Для Эрика у нас есть складная кровать.
— Очень вам благодарен, — сказал я.
— Ох, как вы злы на нас, шкипер, — вдруг задорно вымолвила она. — Ведь злы — верно? Молодой человек ваш тоже с характером. Он уверяет, что вы сами отказали ему от дома. Так или нет? Дождитесь его, поладите, может. Или прогуляйтесь, — собрание у них на каменоломне.
— Дожидаться его тут — много чести, фру Аста, — отвечал я, немного смущенный ее прямотой. — До свиданья.
— Дорогу найдете? Тропинка за углом.
Она проводила меня и показала тропинку. Выщербленная каблуками рабочих ботинок, она тянулась темной полоской по скалистому холму вверх, к карьеру, где рвут гранит.
Положим, рвут его редко. В летнее время, да еще вечером, там нет работающих, — одни гуляющие. Есть же любители карабкаться на верхотуру специально для того, чтобы поглядеть на город! И добро бы еще на весь город, а то на одну рыбную гавань Бибера. Остальное скрыто за скалами. Конечно, отваживается на этот подъем только молодежь. Говорят, еще прежний владелец лесопилки лазал, чтобы похудеть.
Вот, наконец, карьер, ведущий в сарай с оцинкованной крышей. Ворота настежь, слышен визгливый голос, выкрикивающий что-то. Я остановился у сосны, прилепившейся к косогору. Побуду здесь, пока они галдят, а потом заберу Эрика. Заберу без лишнего скандала.
Впрочем, может быть, его еще нет там. Собрание только что началось, видимо. То и дело сверху, с откоса, черного от шапок можжевельника, сбегают опоздавшие. И конечно, парень не упускает случая поддержать девицу за талию или облапить и снять с уступа.
Между тем становилось темно. Можжевеловые кусты слились в одну темную гущу, и никто не показывался оттуда. Ветер колотил по крыше сарая, лез ко мне за ворот. Ноги у меня застыли, и торчать под сосной стало уже невтерпеж. Я приблизился, не торопясь, к воротам и заглянул внутрь. Вот сколько их набралось, бездельников! Полный сарай! Интересно, кто им разрешил пользоваться помещением? Сожгут — кто будет отвечать? Вот один дымит сигареткой! А стены, скамейки, пол — всё деревянное, долго ли до беды. Нет здесь хозяина, вот что плохо.
Арвид Скобе обещал, что каменная гимназия, взорванная немцами, будет восстановлена. Давно пора! Вот этим юнцам, которые приходят сюда тискать девчонок да трепать языком, было бы особенно полезно потрудиться на каменоломне.
Я вошел. Никто не оглянулся в мою сторону, до того всех захватил оратор — белобрысый, курносый мальчонка, которому, верно, нет еще и шестнадцати лет. Над ним, привязанный проволокой к балке, висел фонарь «Летучая мышь». Я подтянулся на носках, и тут взгляд мой упал на Эрика. Он сидел согнувшись и подперев голову руками. Лица его я не мог видеть.
— Ну, погоди же!
Свет фонаря не достигал моего закоулка. Скамейка последнего ряда, у самой стенки, под огнетушителем, была в темноте. Я сел. Теперь голова оратора исчезла за спиной высокой, плечистой девицы, стоявшей впереди меня, и единственное, что я мог разглядеть отчетливо, был листок на ветке, которую она держала в зубах, — неподвижный светло-зеленый листок с прожилками.
Смысл того, о чем разглагольствовал курносый мальчонка, не сразу дошел до меня, — присутствие Эрика в каких-нибудь двадцати шагах не давало мне покоя. Курносый умолк, на смену ему выскочил другой, побасовитей. Он назвал имя Гейнца Янзе, как будто знакомое мне. Кто же такой Гейнц Янзе? Не тот ли боцман голландец с траулера «Генриетта»? Басок называет его почему-то преступником. Вот так раз! За что юнец обозлился на голландца? Ты, милый мой, лоботрясничал, вот тебе и влетело от боцмана. И поделом! Однако нет, тут другое. Юнец не из команды траулера. Он засольщик, если верить тому, что? он говорит. Тогда какое же он имеет право судить моряков? Его ли ума дело? Ага, он был вместе с Нильсом в тот день в порту. Тоже не хотел разгружать пароход. Значит, и этому Нильс свернул мозги!
Я приподнялся. Желтый огонь фонаря отсвечивает на приглаженных волосах коренастого парня в кожаной куртке. Ровесник Эрику.
— Теперь мы знаем, кто? такой Янзе, — сказал парень. — Знаем, зачем его держат у нас. Гитлеровский убийца Янзе нужен тут как штрейкбрехер, как соглядатай. Мы потребуем, чтобы его убрали.
— Правильно, правильно! — загалдели все, как будто припомаженный парень всё так толково объяснил, что ничего непонятного не осталось.
Следующим выступил, вообразите себе, Эрик. Уж его-то я меньше всего ожидал услышать. При первых звуках его голоса я вскочил, — он ли? Не чудится ли мне? Дома иной раз двух слов не выдавит за день. Мне показалось даже, что это вовсе не Эрик, а похожий на него, только немного повыше.
— Товарищ Нильс Эбергард просил передать… — начал Эрик, запнулся, поднял глаза к фонарю и замигал. Новый горе-оратор! — Просил передать так: партийная организация имеет все данные о прошлом Янзе.
Ишь, слова-то какие произносит! А с каких пор, хочу я спросить, ты стал вмешиваться в дела взрослых? Всё Нильс намутил! Они словно повторяют за ним урок. Эбергард считает, Эбергард предлагает, — то и дело мелькает в речи Эрика. Надо, дескать, всему городу сообщить про голландца, настроить всех, а затем идти к бургомистру с требованием: уволить голландца, выгнать его из города. Но и этого мало. Добиться, чтобы правительство запретило Янзе пребывать в нашей стране.
Растолкать бы всех, взять мальчишку за ухо и вывести. Но тут я перестал понимать смысл речи Эрика, потому что совсем недалеко от меня кто-то сказал соседу:
— Говорят, он ушел от отца.
— Да. И хорошо сделал.
Это обо мне. Обо мне и Эрике! И вдруг всё словно перевернулось. То, о чем я начал догадываться с той минуты, как услышал здесь Эрика, обрисовалось отчетливо. Я напрасно стою здесь и жду.
«Ушел» — это слово стеной встало между мной и Эриком. Глупо было думать, что он боится меня и из-за этого не вернулся домой. Хватит считать его ребенком, которого надо заставлять или уговаривать. Нет, он не ребенок, и я не подойду первый к нему. Он ушел, он заодно с Нильсом и другими. И с Эркко. Он хочет жить по-своему. Пусть попробует.
«Что ты притащился, старый дурак, — сказал я себе с досадой. — Сматывай-ка удочки, пока тебя не подняли на? смех».
Кажется, никто не заметил, как я попятился, стараясь не шуметь, и шагнул к двери.
10
Я свернул с тропы, чтобы никому не лезть на глаза. Под ногами зашумела каменистая осыпь, кое-где скрепленная колючим кустарником. Впереди, в полумраке, обозначился дом Нильса, обращенный ко мне безглазыми задворками.
Надо бы сказать Асте: незачем давать мерзавцу складную кровать. Пусть валяется на полу.
Но я, конечно, не зашел. Я взял в сторону от дома Нильса. Вдруг послышались голоса Нильса и Асты. Я остановился. Аста давала мужу поручение — посмотреть мимоходом, не отвязалась ли коза. Ответа его я не разобрал. Затем Аста сказала, что скоро заберет козу в стойло.
Да что я хожу и подслушиваю чужие разговоры! Какое мне дело до них всех!
Я двинулся дальше. Нильс, по-видимому забегавший домой перекусить, пошел своей дорогой. Я мог бы окликнуть его. Но к чему? О чем мне толковать с Нильсом?
Фигура Нильса удалялась. Я еще раз подумал, что с Нильсом у меня не может быть общего языка. И в этот момент, словно нарочно, словно издеваясь надо мной, запиликала губная гармошка Нильса. Сам он давно исчез за косогором, а гармошка разливалась, разливалась без удержу.
Проклятая гармошка! Я готов был заткнуть уши, чтобы не слышать ее. Она преследовала меня. Был как раз тот час затишья, какой обычно бывает вечером, когда ветер делает передышку, прежде чем задуть с новой силой.
Я ускорил шаг, расстояние между нами быстро увеличивалось, но от музыки Нильса решительно невозможно было отвязаться. Без работы остался, а играет! И чего он радуется!
Нильс где-то в темноте поднимался в гору по крутой тропе, которую выбили в камне каблуки с гвоздями, и швырял оттуда свою бесшабашную плясовую. Она неслась за мной по деревянному тротуару, кружилась по улице, как бешеная, обегала столбы, цеплялась за палисадники, колола меня и дразнила.
Кажется, до самого дома проводила она меня.
Бабушке Марте я объявил, что Эрик нанялся на траулер — промышлять у Птичьих островов.
— У Птичьих? — она приподнялась на постели, глаза ее блуждали. — Господи, там же немцы.
— Опомнись, какие теперь немцы. Мальчишке полезно… побыть одному. Ему хорошо заплатят.
Успокоившись, она спросила, как я управлюсь без Эрика. Я уверил ее, что это нетрудно.
— Возьму на бот Агату, — сказал я. — Она рыбачила с мужем, не впервой ей. Вообще, свет клином не сошелся на Эрике. Плавать со мной всегда охотники найдутся. Одно беспокоит, не вывесили бы завтра «штаны».
Штаны — так зовется в просторечье сигнал шторма, флажок с двумя язычками, запрещающий выход в море. Я еще некоторое время распространялся об этом, доказывая бабушке Марте и себе, что другой заботы у меня нет.
Ветер опять разошелся. Всю ночь он наскакивал на наш дом и молотил по крыше — чертов ветер. А внизу гремела посудой прислуга таможенного чиновника. Удивительное дело, сколько там успевают напачкать посуды за день. Задремал я только под утро, и то ненадолго. Почудилось — кто-то прошел за ширму, где уголок Эрика. Такой у нас дом — весь он набит стуками, шорохом, скрипом, и вся эта путаница шумов собирается к твоему изголовью. Однако когда я поднялся, то первым долгом заглянул за ширму.
Там было пусто. Слепило солнце. Я сел на койку Эрика и положил ладони на одеяло. Набежало облако и затенило комнату, погас переплет окон, отброшенный на стену и койку, но ворсистое сукно хранило тепло.
«Нет у тебя больше семьи», — сказал я себе. Мне представилось, что Эрик завтра или послезавтра заявится и потребует, чтобы я его выделил. Потребует долю имущества: свои резиновые сапоги, которые он так еще и не удосужился залатать, денег или… ну не знаю, что еще. Я позабыл на минуту, что мы не в Сельдяной бухте и никакого имущества, собственно, нет. Но Эрик, пришедший за своей долей, обрисовался передо мной очень ясно, и злость снова поднималась во мне, а сонливость пропадала. Черта с два ты проживешь на кухне у Нильса! Умолять будешь меня, в ногах будешь валяться!
Я решил не терять из-за него ни минуты. Пусть висят «штаны» на мачте у порта — я всё равно пойду в море. Я прошмыгну так, что никто не заметит и не успеет помешать.
Если за маяком Ялмарен разбушевались волны, то есть же тихие заливчики у острова Торн. Найду, куда опустить сеть.
Во всяком случае, я не могу сидеть на месте. Пусть там, в порту, вывешивают, что? хотят.
Я выпил кружку кофе и снял уже зюйдвестку с гвоздя, как постучал Пелле-почтальон.
— Заходи, — сказал я, впуская его в комнату. — Только потише, бабушка Марта спит.
Сейчас он спросит: неужели я всё еще не помирился с Эриком. И я отвечу, что молодым людям полезно бывает пожить самостоятельно. Я давно приготовил такой ответ. Но тут мне пришло в голову — в городе, может быть, стало известно, что я вчера искал Эрика и лазал на карьер. Значит, нужен какой-то другой ответ. Однако Пелле, слава богу, не проявил любопытства.
Он вытащил, из сумки газету. Водя пальцем по строчкам, покашливая, Пелле прочел:
— «Двое подростков совершили не лишенное приключений путешествие в чужом автомобиле от южной набережной до северной окраины столицы, где они вошли в резкое соприкосновение со столбом. Радость оптовика Хенриксена, обретшего машину, была омрачена печальным ее видом».
— Черт с ним, с видом, — сказал я. — Нынче подростки на всё способны. Нет ли поважнее новостей?
— Что вас интересует, господин Ларсен?
— Ты, наверно, в курсе, Пелле. Что за история с Гейнцем Янзе, с голландцем?
— Утверждать затрудняюсь, — ответил Пелле, пощипав щетинку на подбородке. — Коммунисты говорят, он служил у немцев в офицерах, был с ними в Эстонии. Утопил в проруби женщину, которая помогала партизанам. А горбун из ратуши уверяет, что это всё враки.
— И я тоже считаю, — сказал я. — Наш бургомистр не стал бы давать приют в городе нацисту. Наш Скобе не меньше нас с тобой ненавидит коричневую сволочь. А коммунисты на голландца злы, потому что он взялся работать в порту, а они не хотели, вот и всё. Так что всё ясно.
— А давно он здесь?
— Голландец? Понятия не имею.
— С прошлого года, как будто, — сказал Пелле. — Черт его знает, откуда он взялся.
— Во всяком случае, власти знают — откуда, — заявил я. — Был бы он нацист, несдобровать бы ему. Скобе строг к таким.
Наконец Пелле попрощался. Я вышел вместе с ним. «Штанов» на мачте не было, но бухта хмурилась.
11
Как я и ожидал, Агата согласилась сразу. Она сказала, что всегда рада помочь мне. Это чистая правда. Я видел, как заблестели ее глаза, а концы платка разлетелись в стороны. Она побежала давать наставления дочке.
И непогодь вам нипочем, фру Агата. И хозяйство вы готовы доверить десятилетней дочке, лишь бы помочь мне на промысле. Значит, не так еще стар шкипер Ларсен? Так, что ли, фру Агата? Держу пари, сегодня же кумушки начнут судачить, что шкипер Ларсен неспроста взял вдову Агату на свою посудину.
Так думал я, пока Агата разговаривала с Минной и одевалась. Не очень-то быстро она покончила со сборами. Пришлось поторопить ее.
Ветер благоприятствовал, я решил беречь горючее и поднял парус.
Огромный кошель древесины лежал на поверхности бухты. Извольте обходить.
— Эй, вы, — крикнул я плотовщикам, — какого дьявола раскатали свои палки? Подвязать нечем?
— Ах, господин Ларсен, — улыбнулась Агата. — Бабушка Марта вам задала бы.
— Да, она посулила бы мне гвоздик в язык на том свете. Им там не напасти гвоздей, а?
Выкурив полтрубки, я велел ей убавить парус: мы выходили из бухты, и море задышало нам в лицо.
В тихие дни, в самые тихие штилевые дни, которые, однако, не часты у нас, остров с маяком Ялмарен отсюда бывает виден. И другие острова, цепочкой тянущиеся от него к острову Торн. И даже Торн можно разглядеть вдали, вернее, не самый Торн, а отражение его в воздухе. Остров тогда висит в небе, и под ним деревья, вершинами вниз. Но так бывает в очень ясную погоду. Я не помню, когда последний раз видел остров Торн лесом вниз.
Сейчас горизонт в тумане — в грязном, нехорошем тумане. Агата закрепила парус, она раскраснелась от натуги, но улыбка не сошла с ее лица. Нас слегка подбрасывает: «Ориноко» короткими ударами рубит волну. Фру Агата делает вид, что для нее возиться с парусом в качку — самое привычное дело. Хорошо, фру Агата, посмотрим, какой у вас будет вид, когда мы очутимся в открытом море. Вот тогда и выяснится, можно ли вам доверить парус.
Но шторм, верно, натешился где-нибудь в иных краях и добежал к нам уставший и ленивый. Рваные клочья серой мути неслись по небу, но выше обозначился слой белых облачков — плотный и неподвижный.
Ветер слабел, чайки без страха лезли в воду. Мы обогнули маяк Ялмарен и взяли влево.
Впереди чернели, там и сям, камни, опоясанные кушаками пены. Это самое опасное место у нашего побережья. Здесь не зевай, не выпускай штурвала, не сбейся с узкого фарватера…
Каменные банки, высовывающие из-под воды свои угловатые башни, напугают, не допустят новичка, но я-то с ними в ладу. Между ними и ищи салаку. Конечно, другой проплутает целый день без толку, — рыба сама не поплывет к нему.
Когда мы расставили ловушки, солнце уже отмерило без малого половину своего пути.
Я положил за лучшее двинуться к маяку, отдохнуть, под вечер выбрать, что попадет в ловушки, и поставить их опять — на ночь.
Ялмарен — местечко довольно-таки унылое. Издали оно вырисовывается нагромождением серых и лиловых скал. Ни одного кустика нет на этом клочке суши. Вся зелень — пятна лишая на граните да водоросли, которые плотно оплели обломки скал у воды. На возвышенной западной оконечности островка, над обрывом, торчит маяк, выкрашенный в два цвета, кольцами, и на нем каждые пятнадцать секунд вспыхивает огонь ацетиленового фонаря. По краям островка видны, когда подплывешь поближе, лачуги из плавуна, настроенные рыбаками. Ведь дикий Петер — так прозвали смотрителя маяка — никого не пускает к себе.
Одну из таких хижин я и облюбовал. По привычке, я громко попросил разрешения войти, прежде чем открыл скрипучую дверцу, висевшую на двух полосках жести.
Дверцей хлопал ветер, показывая, что внутри пусто, но уж так повелось у нас — рыбак или охотник, набредший на заброшенную хибарку, непременно попросит позволения войти. Старики говорят, что иначе томты — маленькие человечки — смертельно обидятся. И они, говорят, найдут способ отомстить — перевернут котелок с варевом, стащат ложку или хлеб. Вообще, много рассказывают всякого.
Поесть я мог бы и не сходя с бота, но фру Агата совсем сплоховала от качки и ее никак нельзя было оставить без берега. Однако она еще пыталась изображать любезную хозяйку.
— Достаточно ли я посолила, господин Ларсен? — спрашивала она. — Вы ведь любите соленое.
Ничего, есть можно…
— В последнее время, — сказал я, обсасывая хребет трески, — часто приходится чересчур солоно.
Но мне вовсе не хотелось говорить об Эрике, и мы доели суп молча.
Я открыл дверцу, чтобы выбросить кость, и увидел дикого Петера. Он шел стирать. Корзину с бельем он держал обеими руками, прижав к животу. Петер курил сигаретку, и мне показалось, что пепел ее падает в корзину. Завидев меня, он остановился, но не поздоровался. Это меня не удивило: дикий Петер ни с кем не здоровается.
Он постоял, сося свою сигаретку, и, наконец, спросил, привезли ли в город кофе.
— Нет, — ответил я, — пьем ячменное пока.
— А мыло привезли?
— Да, это есть, — сказал я. — Никак ты в город собрался?
— Юсси поедет, — промолвил дикий Петер и пошел, не торопясь, дальше.
— Он с войны не бывал в городе, — сказала Агата. — Ужасно! Как сыч в дупле. Без женщины! Боже мой, как только Юсси не сбежит от него.
Не все же бегут от отцов. Вы, фру Агата, чуть пришли в себя и затрещали! Юсси держится даже за такого отца, как дикий Петер. Не спорю, быть с таким под одной кровлей — радость небольшая. Грязища у них, верно, невообразимая.
Я не сказал это Агате, а лишь подумал. И мы продолжали молчать, — ведь история дикого Петера достаточно хорошо известна, чтобы о ней нужно было вспоминать вслух. Во время оккупации наши партизаны послали просьбу Петеру: погасить маяк на одну ночь. Они намеревались зажечь фонарь в другом месте и посадить на банку немецкий транспорт. Петер не сделал этого. Он объяснил после, что был болен и не мог влезть наверх, но все решили, что он побоялся. Не знаю, как оно было, утверждать не берусь. Но с тех пор Петер замкнулся на своем маяке, перестал показываться в городе и сделался диким Петером. И не здоровается ни с кем, так как ему могут не ответить.
— Ну, чем мы займемся теперь, фру Агата? — спросил я. — Как вы полагаете? А не заготовить ли нам камней для грузил… а? Жаль было бы уйти без них, не правда ли?
У нас, на городском берегу, подходящие камешки почитай что все выбраны, а здесь их масса, да и время свободное есть. Не сидеть же сложа руки!
На первый взгляд, что? может быть проще — собирать камни для грузил. Но вы дайте мне такой, чтобы он был не слишком тяжел — а то ведь и сеть не вытянешь со дна — и не очень легок. Легкий тоже не годится: сеть сдвинет течением — и тогда ищи ее! И форму камня надо принять в расчет. Посмотрим, как вы сумеете, фру Агата.
Мы носили камни в кучку, и я, приближаясь к ней, чуть ли не каждый раз замечал неладное. Так и есть, разве городским вдомёк, какое должно быть грузило.
Сперва я просто отшвыривал ногой негодные камни. Они отлетали у меня всё дальше и дальше, потому что я начал терять терпение.
Я отнял у Агаты камень, который она преспокойно несла, чтобы поместить в куче. Правда, он был нельзя сказать, чтобы чрезмерно тяжел, но и не очень легок, а с одной стороны сколот и заострен.
— Поражаюсь, фру Агата, как вы рыбачили? — говорю я. — Неужели я привяжу такую штуку? Она прорежет бечевки, испортит мне снасть, фру Агата.
Вот какова помощь от городских! Нет, на них никогда нельзя положиться. Что-нибудь да неладно.
А она, может быть, воображает, что может сравниться с моей Хильдой? С досады я, размахнувшись, запустил камень изо всех сил. Раза два он подпрыгнул на воде и впился во встречную волну.
Мы перенесли камни на бот и покинули остров. Вынули ловушки — добыча оказалась небогатая. То ли холодная весна виновата, то ли другая причина, но салака ныне запаздывает.
Дотемна мы снова установили сети и повернули к дому. Ветер упал, легкая зыбь катилась по морю. Мы еще не достигли ворот в бухту, как впереди вынырнула темная точка. Она быстро увеличивалась и приняла вид моторной лодки. Еще немного, и я узнал ее — лодка Арвида Скобе.
«Куда это отправился бургомистр? — подумал я. — Что за прогулки, на ночь глядя!»
Но не Скобе сидел за рулем. Лодка пронеслась невдалеке от нас, и я различил человеческую фигуру ростом поменьше Арвида. Кто же? Никак Лаурис, боцман Стиг Лаурис! Да, его брезентовая куртка, приплюснутая, нахлобученная кепка. Как он оказался в лодке бургомистра?
Я проводил ее глазами, пока она не скрылась из виду. Она шла прямо к маяку Ялмарен.
12
О встрече со Стигом я передал Пелле-почтальону, и он сказал, что я не ошибся: Стиг еще третьего дня хвалился — Арвид Скобе доверил-де ему свою моторку для важных поручений.
Может, Стиг выпросил лодку, чтобы похвалиться перед людьми? Не представляю, какую пользу Скобе извлечет из Стига. А пустить пыль в глаза боцман любит. Пелле тоже не смог придумать, на что может бургомистру понадобиться Стиг.
Газеты в сумке Пелле лежали нетронутые, но он не разделался еще с городскими новостями. Он заговорил об Эрике, которого видел на улице вместе с Христиной, но я остановил его. Хватит с меня Эрика и Христины! Не интересуюсь. Пелле смутился, заморгал подслеповатыми глазами, потерял нить новостей и осведомился, как идет промысел.
— Салакой нынче не разживешься, — сказал я. — Это разве лето! Каких-нибудь две недели теплых. Попробую передвинуть ловушки поближе к острову Торн, там дно помягче и морская трава гуще. А кстати, Бибер всё еще приторговывает Торн?
— К сожалению, да, — сказал Пелле. — Остров осматривали какие-то господа из Америки.
— И тут американцы, черт бы их взял. Лезут в каждую щель.
— Они остановились в «Веселом лососе», во втором этаже, — там Стиг принимает постояльцев. В этом заведении такое творится! Матросня ихняя набивается туда, нарежется, а потом зазывает девиц, — хэй, кам алонг, только и слышишь.
— Зато Стиг, верно, на седьмом небе, — сказал я. — Помощник-то бургомистра.
Неужели Стиг втерся к Скобе? Нет. Думается мне, Арвид нашел бы человека более солидного, если бы встретилась необходимость послать нарочного на судне. Мой «Ориноко» хоть и не так быстроходен, как его моторка, но куда надежнее.
— Да, — сказал я, — городишко захудалый, крошечный, шляпой накроешь, а поди ж ты, сколько всяких событий. Голова кругом!
Когда Пелле, наконец, добрался до газет, я увидел у него на носу очки.
— Подарок фру Агаты, — заявил он с торжеством. — Остались от покойного мужа.
— И подошли?
— Очень хорошо. Даже слишком резко всё показывают. Если долго носишь — глаза устают.
— То-то и есть, — сказал я. — Посоветовался бы с врачом сперва.
Но Пелле замотал головой:
— Нет, что вы, я не так богат. Уж как-нибудь обойдусь без врачей. Грабят они нашего брата. Не знаю, как благодарить фру Агату за ее милость. Теперь я любой адрес прочту, самый корявый. Спасибо ей. Это, говорит, тебе, Пелле, ко дню рождения.
Вот как? Я и позабыл. Оказывается, послезавтра Пелле стукнет шестьдесят лет.
— Поздравляю, дорогой, — сказал я. — Возраст пустяковый, в сущности. Ты еще молодой парень, Пелле, коли разобраться по-настоящему. Всего на пять лет старше меня. Не смейся. А знаешь, мне сдается, ты нравишься Агате.
Сам не знаю, зачем я брякнул это. Пелле сконфузился, снял очки и начал протирать их платком. Лицо его порозовело, отчего седые брови стали еще светлее.
Тут пришло мне на ум, что здешние языки Агату, верно, выдали замуж за меня, и я подкинул углей в топку.
— Не всё же ей одинокой жить. А женщина она разумная, работящая. Домик свой. Хоть неказист, а всё-таки свой. И корова. Корова — это нынче капитал, Пелле. Она дает литров шесть молока, а иной раз и больше, было бы корма вдоволь. Да нет же, Пелле, я вовсе не смеюсь, с чего ты взял!
Теперь если до ушей Пелле дойдет какая-нибудь глупость про меня и Агату, он сумеет разъяснить истинное положение вещей.
Всё еще красный, Пелле встал и надел сумку. Он и так задержался у меня, и я на этот раз так и не узнал, кого обокрали вчера в столице, кого убили и кого переехало поездом или чем-нибудь еще.
На другое утро Пелле, завернув на нашу улицу, первым долгом постучался не ко мне, как обычно бывало, а к фру Агате. Не знаю, что подействовало на Пелле, — подарок ее или, может, мои слова нечаянно попали в точку. Так или иначе, когда я подошел к домику Агаты, чтобы забрать ее на лов, Пелле уже сидел там за палисадником и рассказывал что-то Минне — дочке Агаты. До меня донеслось:
— Да, и под водой есть люди, Минна. У них там деревни, поля. Бот дяди Рагнара часто проплывает над этими полями и приносит обрывок соломы на носу.
Невольно я остановился. Ту же самую сказку я слышал от дедушки Карла, когда был мальчиком, и сам передал ее Акселю и Эрику. И давно ли это было? Эрик спрашивал, помню, — разве к судну прилипает не та солома, что падает с крестьянских лодок и плавает у берегов? Нет, отвечал я, совсем не та. И он верил. Он допытывался — как попасть в подводную страну. И я отвечал: надо быть хорошим, честным человеком. Тогда прилетит к тебе птица с невиданным оперением и укажет путь. Она является обычно в самый отчаянный шторм, когда мачта трещит, и кажется, нет спасения. Да, в эту самую минуту и взмывает над кораблем чудесная птица — ты узнаешь ее сразу по яркому оперению, — и тут уж не зевай, не выпускай ее из виду, следуй за ней. И Эрик ждал эту птицу, как ждал когда-то я в мои юные годы. От отца к сыну передается у нас сказка о подводной стране, где колосятся золотые нивы, где нет войн, где господствует правда.
Да, было время, когда мальчишка во всем верил мне. Прошло это время и больше не вернется.
13
У острова Торн мы наловили ненамного больше, чем у маяка. Вся флотилия Бибера промышляет на угодьях вокруг Торна; где помельче, там торчат ловушки, а мористее — шныряют траулеры, волочат за собой свои сетевые мешки и обшаривают ими дно во всех направлениях. Однако косяков салаки всё еще нет. Приемщикам Бибера мы сдаем камбалу, стремигу, мелкую селедку, треску, всего понемножку. И приемщики каждый раз заявляют, что товар мелкий, пойдет третьим сортом, — значит, за самую низкую цену.
— Плохо здесь стало, — сказал я приемщику. — Совсем плохо. Надо подаваться куда-нибудь.
Отпрошусь у Бибера на север, на Птичьи острова, например. Там всё попривольнее. Бабушку Марту оставлю на попечении Агаты, она не откажется присмотреть. Подберу команду, — настоящих матросов. В самом деле, что? меня держит здесь? Свет клином сошелся, что ли, на этом городишке.
Размышляя об этом, я приводил в порядок бот. Агата сошла на берег навестить родственницу. Я собрался было плыть домой, когда на палубу вошел незнакомый человек, увешанный кожаными сумками.
— Я Джон Сомс. Здравствуйте, — выпалил он.
— Здравствуйте, — ответил я, с любопытством разглядывая его. Иностранец, а по-нашему говорит довольно сносно. В двух его сумках — фотографические аппараты, а в третьей — бинокль. Костюм просторный, даже мешковатый, как будто не надет, а наброшен на него, крахмальный воротничок закреплен концами на затылке, отчего кажется, что господин Сомс вытягивает шею из фарфоровой миски.
Он порылся в бумажнике, извлек карточку с золотыми уголками и протянул мне.
«Джон Арчибалд Марвин Сомс, Нью-Йорк», — вот что я прочел на карточке. Там было написано еще что-то, но я не понял.
— О’кей, — сказал я. — Что ж вы хотите?
По правде сказать, мне не очень-то понравились такие манеры — вламываться без приглашения на чужое судно и тыкать в нос карточками. Не мог мистер Сомс подождать меня на берегу!
Начал он с восторгов по поводу моего корабля. Какой ход! Всё восхитило иностранца, даже окраска корпуса, — того же цвета, что море. Корабль буквально сливается с волнами, делается невидимым. Чудо!
Затем Сомс пожелал узнать, к какой церкви я принадлежу. Я сказал. Тогда он спросил, откуда я родом.
— Да зачем же вам всё это нужно? — удивился я.
— О, просто любопытно. Вы знаменитый шкипер Ларсен. Мне очень любопытно. Вас хвалил мистер Скобе.
Что ж, пусть спрашивает, если так. Должно быть, репортер.
— Я из Сельдяной бухты, мистер, — сказал я.
— Прошу вас, не имеете ли сведений, бывали ли в Сельдяной бухте мормоны?
— Мормоны? Кто они такие?
— Это… это церковь.
— На эту тему лучше всего было бы побеседовать с бабушкой Мартой, с моей тещей. Послушайте, вот занятная история для вашей газеты.
И я рассказал ему, какую штуку выкинули у нас, когда нашу церковь построили и пригласили художника, чтобы расписать ее. Художник собирался изобразить двенадцать апостолов, как полагается. Так нет, женщины вмешались. Пускай будет одиннадцать. Не хотим Иуду-предателя! Пастор уговаривал их: всюду, мол, двенадцать. Нет, они стоят на своем: нам, мол, до других дела нет, а мы Иуду всё равно замажем. Все прихожане поддержали. Так что наша церковь, мистер, единственная в стране. Без Иуды. Жаль, она разрушена, а то стоило бы съездить.
— О, она очень… много разрушена?
— Фото для газеты не получится. Одна звонница едва держится. Колокол, правда, уцелел.
Но оказалось, что он вовсе не репортер, а секретарь знаменитого проповедника. И проповедник этот будет на днях здесь.
На прощанье мистер Сомс дал мне еще четвертушку картона, — на этот раз не визитную карточку, а билет на выступление преподобного Джемса Харта, назначенное в нашем городе на воскресенье. Он прибавил еще, что можно являться и без билетов, и сказал:
— Приходите обязательно. Вам будет интересно.
Странный какой-то: разыскал меня только для того, чтобы вручить билет на проповедь. И почему он знает, будет мне интересно или нет?
14
День рождения Пелле-почтальона прошел великолепно. Сам бургомистр прокатил его в своей машине.
Видели бы вы, что? это за машина! Темно-синяя, сверкает вся, внутри чего только нет, даже зажигалка и пепельница, но Арвид сам читает газеты и получше меня знает, сколько развелось любителей чужих машин. Так вот Пелле, подавая бургомистру почту, не удержался похвастаться очками — подарком Агаты по случаю дня рождения. Арвид велел ему подождать, допил кофе, посадил в свою машину и провез целый квартал по дороге к ратуше. Мало того, Арвид останавливал машину раза три и ждал, пока Пелле отнесет в дом письма и газеты.
Понятно, тотчас весь город узнал, как бургомистр поздравил почтальона.
Но вскоре на беднягу Пелле свалилась большая беда. Очки подвели его. А ведь я предупреждал: не следовало носить их, не посоветовавшись с врачом. Сэкономил Пелле десяток крон, а потерять может очень много. Не подходят ему эти очки. Глаза от них разболелись и зрение стало еще хуже. И на другое утро после дня рождения Пелле напутал — вручил письмо не тому, кому оно было адресовано.
Как назло, чужое письмо досталось не кому иному, как Стигу Лаурису. Конечно, будь он прежним боцманом Лаурисом, он, самое большое, поворчал бы на Пелле, и уж во всяком случае не стал бы затевать скандала. Но теперешний Лаурис, хозяин «Веселого лосося», не только прочел нотацию несчастному Пелле, но погрозился сообщить директору почты.
— Тогда конец, — сказал мне расстроенный Пелле. — Директор давно подозревает, что у меня неладно с глазами, хоть я и уверяю его, что вижу прекрасно. Как получит жалобу — сразу устроит мне проверку. И вон со службы.
Напрасно я старался успокоить его. Пелле, чуть не плача, твердил:
— Выгонят меня. Непременно выгонят.
— Да брось ты стонать, — сказал я. — Стиг забыл про тебя, я уверен.
Однако я вовсе не был уверен. Очень просто, и нажалуется. Нарочно нанесет визит на почту, будет возмущаться и всячески разыгрывать из себя важную персону.
— Выкинут вон и даже обрадуются, — упрямо молвил Пелле. — Возьмут другого, помоложе.
— Обратишься к Скобе, — сказал я.
Пелле помолчал. Он, наверно, вспомнил мягкие бархатные подушки в машине бургомистра. Но через минуту белесые брови Пелле сдвинулись, и он проговорил:
— Улле, наш бывший сторож, ходил в ратушу.
— Ну и что же?
— Скобе не принял его. Советник муниципалитета, — знаешь, горбун…
— Надо было к самому Скобе, — перебил я.
— Не пускали к нему. А советник отказал. Очень, мол, сожалею, но государство не может держать на работе инвалидов. Мол, у государства и так не хватает на всё. Улле набрался смелости и заявил, что за двадцатидвухлетнюю службу казна могла бы помочь ему полечиться. Так нет, видите ли, в казне на это нет ни одного эре. Положение в мире очень напряженное, начал объяснять горбун. Это значит — Россия хочет на нас напасть. Так они всегда говорят, чуть рабочий человек попросит поддержки.
Что я мог ответить Пелле? Я начал было о том, какая сложная штука политика и как трудно, не имея надлежащего образования, в ней разбираться. Но Пелле покачал своей лысой головой.
— Одно я скажу, Ларсен, — проговорил он, — в России человека не выбрасывают за ворота, как собаку. В России тебя лечат, если ты болен, и ничего не берут за это. Врач приходит к тебе и, если нужно, кладет тебя в больницу. И тебе дадут самые дорогие лекарства, чтобы тебя спасти.
— Самые дорогие? — удивился я. — Откуда ты знаешь, Пелле? Это Нильс рассказывает всякие чудеса про Россию, но на то он и красный.
— Нет, Рагнар. Мне сказал сын пастора Визелиуса — Конрад, который кончает в этом году университет. Он был в России.
Никогда я не видел почтальона Пелле таким взволнованным. Я не мог успокоить его, как ни пытался.
15
Мистер Арчибалд — нет, вылетела у меня из головы вереница имен этого чудака, увешанного сумками, — выбрал для выступления преподобного Харта сквер против «Веселого лосося». С вечера там застучали топоры. Не знаю, по какому праву, но Сомс довольно решительно хозяйничал в сквере. Скамейки на площадке, где гуляющие прежде кормили голубей, он передвинул, наставил еще скамеек, а на самом газоне воздвиг кафедру. Рядом с ней сколотили еще зачем-то арку с перекладиной, выкрасили белой краской и навешали разноцветных лампочек, хотя белые ночи еще не кончились. Видно, мормонам просто некуда девать деньги.
Арка тоже стояла на газоне. И как это Арвид Скобе, с его страстью к зеленым насаждениям, спокойно смотрит на такое разоренье в городском сквере!
Сомсу мало показалось флажков на кафедре, он прикрепил еще несколько дюжин к стволам деревьев и под каждым флажком прибил плакат с духовными стихами или с видом города Солт Лейк в штате Юга. Из «Веселого лосося» вынесли столы и разложили на них для продажи разный товар: книжки, зубочистки, жевательные резинки и прочее. Так что сквер наш запестрел, как ярмарка. Портили впечатление только черные дыры в окнах соседних домов — след дебоша, устроенного матросами с американского парохода.
Утром на перекладине под аркой повис колокол. Как вы думаете, что? это был за колокол? Наш, из Сельдяной бухты, с нашей церкви! Ума не приложу, как Сомс достал его. Было шесть часов утра, когда он начал трезвонить и поднимать всех с постели, — это в воскресенье-то. Не дал людям поспать. Некоторые, говорят, спросонок выскочили в одном белье, решили — пожар.
Звонари, нанятые Сомсом, по очереди раскачивали язык колокола, — набат гремел непрерывно часа полтора, пока сквер не заполнился.
За кафедрой полукругом разместился хор. В толпе говорили, что хор не наш — столичный, прибыл сегодня поездом. Верно, и это обошлось мормонам недешево. Толпа напирала, чтобы получше разглядеть певчих и Сомса, и я очень скоро потерял бабушку Марту. Меня отнесло в сторону, к столику с молитвенниками, и я едва не опрокинул его. Сомс подал знак, хор затянул гимн. Слова гимна были наши, но звучал он не по-нашему и так странно, что и слова родного языка нельзя было как следует разобрать; ясно слышался лишь припев — «ух», «ух». Под это уханье и поднялся на кафедру преподобный Харт — толстый, краснолицый. Он положил руки на край кафедры, пошевелил пальцами, разбрасывая искорки золота от своих колец, потом застыл и поднял глаза кверху. Я невольно сделал то же самое и увидел зеленый шпиль кирки, на котором сидела ворона. Преподобный постоял в таком положении минут пять; хор не пел, и колокол не звонил. Наконец в толпе не выдержали молчания и начали шептаться, и тогда преподобный, видимо, сообразил, что пора начинать.
Он произнес длинную фразу на английском языке, и тотчас визгливый голос перевел ее:
— Дорогие братья и сестры, святые последнего дня послали меня сюда сообщить истину, начертанную на серебряных скрижалях.
Я подтянулся на носках, чтобы выяснить — откуда же исходит голосок, и увидел горбуна из ратуши. Он стоял у самой кафедры и был такой важный, что, казалось, лопнет от важности.
Послушаем, что? там начертано, на скрижалях. Всё у них либо серебряное, либо золотое.
Однако из следующей фразы я узнал очень немного. Выходило, что скрижали были найдены на какой-то горе в Америке. А затем выяснилось, что надпись на них удалось прочитать лишь с помощью двух ангелов. Стало быть, сейчас истина доходит к нам уже в третьем переводе.
Толпа колыхалась, задние нажимали на передних, и меня отодвинули к дереву с плакатом. На нем было нарисовано здание с башенками, а под ним чернел столбик цифр. Оказывается, это и есть храм мормонов в Солт Лейк Сити, высотой в 118 футов и вмещающий 9000 человек. Да, дела у них идут не плохо, по всему видно. Что ж, истина на скрижалях, может, кой-чего и сто?ит, но я не большой охотник вникать в церковные вопросы, — тут уж я уступаю место бабушке Марте.
Один раз ее клетчатый платок мелькнул справа от меня, вокруг нее кучкой сгрудились старухи и шушукались о чем-то. А слева, у самого края сквера, стояли на скамейках члены нашего магистрата — Генри Бибер, начальник полиции и другие видные люди города. В этой группе, ближе всех к вытоптанному газону с кафедрой, был Арвид Скобе. Не ожидал я, что он заметит меня, но он — представьте — заметил, кивнул мне и, мало того, слез со своей скамейки, подошел и при всех поздоровался со мной за руку.
— Преподобный мистер Джемс Харт, — сказал Арвид, — и есть то лицо, о котором я говорил. Мормоны заботятся о жертвах войны.
— Это он — представитель? — воскликнул я.
— Тише, Ларсен. У него есть сведения. Он, вероятно, коснется в речи…
Хорошо, значит, надо будет отыскать его после проповеди. Вряд ли он коснется сейчас. Сомневаюсь, что он уделит время для этого, — он и до истины на скрижалях еще не дошел по-настоящему. Всё же я стал внимательнее прислушиваться к скрипучему, срывающемуся голосу горбуна. Но тут проповедник умолк, взялся за веревку колокола и ударил несколько раз, а потом опять застыл, поднял глаза и предложил помолиться за людей из Сельдяной бухты, погибших и лишившихся крова.
Хор запел заунывный гимн, и я начал было подтягивать, но не мог разобрать слов.
Затем мистер Харт сказал, что нужно помолиться за Акселя Ларсена. Я даже не сразу понял, о ком он говорит, до того это было неожиданно. Но горбун повторил имя громко. Действительно, называли моего Акселя, и снова пел хор, а потом преподобный назвал еще имена, незнакомые мне, и объявил, что все эти люди погибают в Сибири, у русских.
— На скрижалях сказано: печатью мрака отмечены все красные! — выкрикнул он. — Прокляты те, у кого красная кожа, но еще ужаснее те, у кого красная душа. Они сотрут ваши жилища с лица земли.
Хор пел теперь тихо, не заглушая Харта, а он приходил в ярость, сжимал свои кулаки и кричал всё громче. Он твердил, что наш город будет уничтожен, как Сельдяная бухта, если сюда придут красные, а они, по его мнению, непременно придут, если не вмешается Америка.
Но теперь я слушал не так внимательно. Одна мысль засела у меня в голове — откуда ему известно про Акселя? После проповеди мистер Харт будет отвечать на вопросы, — так сказано в пригласительном билете. Непременно спрошу его. И я начал складывать в уме подходящие слова. «Господин Харт», — я так обращусь к нему. Нет, лучше: «Господин проповедник». Еще лучше звучало бы: «Господин епископ», — но кто их знает, есть ли у мормонов епископы. Во всяком случае, подойти нужно тонко, а то еще обидится за то, что я требую объяснений. «Господин проповедник, я отец Акселя Ларсена», — так я начну.
Пока я обдумывал, Харт кончил говорить. И я не успел выложить приготовленный вопрос, — меня опередил Нильс Эбергард. Я узнал его по голосу, повернулся вправо и увидел его — он стоял на скамейке не очень далеко от меня.
«Без Нильса не обойдется, — подумал я с досадой. — Начнет заступаться за своих, схватится с Хартом насчет политики».
— Интересно, ваше преподобие, — начал Нильс, — ваша церковь, верно, не мало средств затрачивает на нас, а? Приехать из Америки сто?ит не дешево, правда? А кроме вас, я полагаю, еще ездят проповедники?
Лицо Нильса было серьезно. Куда он клонит? Зачем ему понадобилось знать всё это? Но мистер Харт не удивился. Он первый раз видел этого моряка в синей куртке и в фуражке с флажком и не усмотрел никакого подвоха. Напротив — мистер Харт даже обрадовался.
— Миллионы, — объявил он и потряс руками. — Миллионы отдает наша церковь.
«Будет теперь хвастать», — подумал я. И действительно, преподобный довольно долго рассказывал, сколько миссионеров посылают мормоны в Европу. Они-де ничего не жалеют для спасения душ.
Но Нильс не унялся.
— Понятно, — сказал он. — И как же вы надеетесь вернуть эти деньги?
Тут мистер Харт произнес еще несколько фраз о спасении душ. В тоне его послышалось нетерпение. Однако Нильс не отвязался. Что ему еще нужно, — не возьму в толк.
— Поясню вопрос, — сказал он громко. — Что вы от нас хотите получить за ваши проповеди, за ваши книжки, которые вы раздаете почти даром? За ваши бомбы? Какую прибыль, мистер Харт? Я знаю, какую.
Что же это! Выходит, мы пришли слушать Нильса! Арвид Скобе хочет остановить его, и правильно делает. Но я не мог разобрать, что? крикнул Скобе, так как Нильс заговорил еще громче:
— Вам нужно, чтобы мы воевали за вас, вот что.
— Ловко, Нильс, — раздалось в толпе.
Но Харт тоже не остался в долгу. Обозлился он, видно, здо?рово, и я сказал себе, что теперь мне не скоро представится возможность обратиться с моим делом. Всё испортила политика! Люди от нее теряют рассудок и становятся бешеными. Мистер Харт сперва попытался было нас уверить, что он будет молиться за Нильса и упросит бога, чтобы он как-нибудь просветил заблудшего. Но про себя преподобный, небось, думает, как бы вцепиться Нильсу в волосы. Очень уж скоро мистер Харт оставил молитвы и начал сыпать угрозами.
— Красные ничему не верят. Они пожалеют об этом. Скрижали предписывают нам быть твердыми. Святые последнего дня благословляют нас на битву, на битву! — завопил Харт и часто-часто застучал пухлым кулаком по кафедре. — Красные должны погибнуть!
Толпа загудела, и кто-то рядом со мной бросил:
— Вот так проповедник!
— Постыдился бы он, — отозвался другой.
Я ничего не сказал. Я был слишком подавлен, сбит с толку, чтобы сказать что-нибудь. И вдруг над головами протянулась рука, жилистая, старческая рука, и, перекрывая вопли мистера Харта, ропот толпы, подвыванье хора, раздалось:
— Антихрист!
Крикнула одна из женщин, окружавших бабушку Марту. Это я успел заметить. Мистер Харт запнулся, народ зашумел и расступился, и женщины двинулись к кафедре. Они шли, придерживая длинные платья, и повторяли:
— Антихрист! Антихрист!
Бабушка Марта с ними. Не обойдется без нее! Надо увести ее, нельзя ей волноваться. Я стал проталкиваться, стараясь не потерять из виду клетчатый платок бабушки Марты. Но я скоро застрял. Прямо передо мной возвышался мистер Харт, на лице его выступили пунцовые пятна. Мистер Харт смотрел на горбуна, и кулаки его были по-прежнему сжаты. Арвид Скобе куда-то исчез. Горбун растерянно озирался, должно быть он искал бургомистра. К кафедре выдвинулись полицейские, но старухи уже выстроились перед кафедрой и запели.
Мистер Харт оправился и попытался было заговорить, но старухи пели дружно, и мормон осекся, а в толпе пробежал одобрительный смех. Полицейские переминались на месте, и вид у них был преглупый. Вскоре клетчатый платок бабушки Марты скрылся, потому что ее загородили десятки людей, вышедших из рядов слушателей на газон, к кафедре. И теперь пели уже не церковный гимн, начатый старухами, а что-то совсем другое, светское, и мистер Харт напрасно старался прервать их.
Наконец мистер Харт повернулся к публике задом и пошел прочь из сквера, а горбун побежал следом. Публика смеялась, певцы, притопывая, выводили:
И в рай матроса не берут,
И в пекло не пускают.
С певцами был Нильс. Он улыбался, держа в руке свою губную гармошку. Он помахивал ею в такт песне, подбрасывал на ладони.
Через несколько минут я шагал к дому, держа под руку бабушку Марту. Кто-то подошел и поддержал ее с другой стороны, и я увидел Нильса. И откуда-то вынырнули братья Микель и Юхан.
— Спасибо, мальчики, — только и успел сказать я им, потому что в эту минуту бабушка Марта вдруг оступилась и стала падать.
16
Ноги у бабушки Марты подкашивались, вести ее было всё труднее.
— Давайте понесем ее, — предложил Нильс.
Мы перенесли ее через улицу и положили на траву под окнами адвоката Сильверсмида. Микель упрекал меня:
— Зачем пустили старуху?
Фру Сильверсмид выбежала, поглядела на нас, но в дом не пригласила, а велела горничной последить, чтобы мы не помяли цветы. Нильс попросил девчонку принести нашатырного спирта. Он дал понюхать бабушке Марте, она открыла глаза, приподнялась и сказала, что пойдет сама.
Но встать на ноги она не могла, и мы понесли ее. Временами она переставала узнавать нас и звала Хильду.
Мы уложили бабушку Марту в постель и молча постояли около нее, и Нильс сказал, что теперь самое главное — покой. Потом мы, стараясь не стучать каблуками, отошли от задремавшей бабушки Марты, и я сказал:
— Она сдала в последний месяц, очень сдала.
— Не надо было выпускать ее, — повторил Микель.
Он никак не может сократить свой голосище, упрятать его в шепот, и ему велят молчать. Всё это доносится до меня словно сквозь туман.
— Видите как, мальчики, — сказал я. — Я рассчитывал, что лучше будем жить, а оно вот как получается. Рассыпалась семья. Эрик ушел из дому… Сегодня ему следовало быть здесь. Сегодня, по крайней мере.
При этом я посмотрел на Нильса. Он шагнул ко мне и проговорил тихо:
— Эрик не у меня, Рагнар. Он на острове Торн. Тебе разве не передали?… Бибер послал туда людей, хочет выловить всё напоследок, перед тем как сбыть остров с рук. Рыбаки там днюют и ночуют, Бибер с них пять потов согнал. Поверь мне, Рагнар, я-то меньше всего хотел отнимать у тебя сына.
— Я не обижаюсь, Нильс. Он не ребенок, сам решает, как ему жить. Нечего нам ссориться из-за него.
И тут наши руки встретились. Встретились и соединились в крепком пожатии.
— А кто собирается отнять наших сыновей, ты видел, — продолжал Нильс.
— Здо?рово ты всыпал мистеру Харту, — сказал я. — Поделом ему.
— Когда старушка очнется, — вставил Юхан, — ты ей скажешь, что это всё вранье — насчет Акселя. Понял? Про Сибирь и прочее. Вранье.
— Не знаю, мальчики. У меня голова раскалывается, — признался я. — Скобе всё же считает…
— Скобе из того же гнезда птица, — проговорил Нильс жестко.
На этот раз я не защищаю Арвида. У меня просто нет сил для этого.
— Из России же ясно сообщили — Акселя у них нет. Не было его в лагере, когда пришли русские. Ты не веришь? Веришь бургомистру? Слушай, Рагнар, что случилось с Акселем, в конце концов выяснится. Человек не может пропасть, как иголка. Не от Скобе и не от Харта ты дождешься правды. Но правда выйдет наружу. Она не только тебе нужна.
Они все протянули ко мне руки, что-то сдавило мне горло, и я сказал:
— Спасибо, мальчики. Вы настоящие земляки. Спасибо, что не забыли в тяжелую минуту.
Вместе с ними я выхожу на улицу. Рассы?палась, рассы?палась семья, — стучит в голове.
— Значит, Эрик на Торне, — сказал я. — Стало быть, один грех долой. Я так и объяснял бабушке Марте: Эрик в отъезде, на дальнем промысле.
— Никак ты отпеваешь ее? Брось, — ответил Нильс. — Поживет еще старушка. Главное — покой для нее. Помни.
Мы остановились у шоссе, и Микель прогудел, что семья у меня еще наладится, только бы не было войны. И все согласились с ним.
— Представляете, друзья, какая будет радость, когда люди избавятся от войн, — молвил Нильс. — Какая великая радость! Я думаю, в каждой стране устроят праздник мира.
И Нильс рассказал нам, как видится ему это торжество. У нас отведут для этого широкую, красивую долину, хотя бы Роммендаль, где сейчас аэродром. На поездах, на машинах приедут гости из-за границы. Сойдутся финны и немцы, поляки и французы. Приедут русские. Когда все выйдут на поле и поднимут свои знамёна, поле как бы покроется цветами. Праздник начнется, может быть, без всяких речей, а так, что все сто тысяч умолкнут на несколько минут и будут стоять молча, держа свои знамёна. Это минуты молчания в честь тех, которые погибли, отстаивая мир. И каждый подумает о близких, которых он потерял, о тех морях огня, которые пришлось пройти, чтобы завоевать этот праздник.
— Во?йны сами не исчезнут, — закончил Нильс. — Надо связать руки тем, кто их затевает.
В могучем своем кулаке он сжимал трубку, ветер выдувал из нее искры, они вылетали и чертили тоненькие огненные ниточки в спускающихся сумерках.
Нильс умеет говорить, — этого у него не отнимешь. Один Арвид Скобе найдет, что? возразить Нильсу.
Что же до меня, то я еще тверже скажу себе: «Заботься о своей семье, Ларсен, и не ссорься с земляками. Не так уж много нас уцелело, — рыбаков из Сельдяной бухты».
К вечеру бабушке Марте стало лучше.
— Никуда я не гожусь, Рагнар, — сказала она, приоткрыв глаза.
Я пообещал ей, что она скоро поправится, но она не обратила внимания на эти слова. Она думала о чем-то своем. Я поправил ей подушку и хотел уйти, но она удержала меня.
— Рагнар, — прошептала она. — Женись на Агате.
Что? Не ослышался ли я?
— Женись на Агате, — повторила она.
По правде сказать, я очень удивился. Я почему-то не ожидал, что бабушка Марта, мать Хильды, скажет такое. И тут я даже обиделся.
— Глупости, — ответил я.
Бабушка Марта произнесла несколько слов, но очень тихо, и я наклонился к ней.
— Агата будет работать, — проговорила она. — Агата здоровая.
— Да нет, что ты, — вырвалось у меня. — Ничего подобного! Какая от нее помощь. Видела бы ты, каких она грузил мне набрала, — вдруг вспомнил я вслух. — С голову! Здоровая, а что проку. Нет, с Хильдой ей никогда не сравняться. Нет, нет.
— Как хочешь, — вздохнула бабушка Марта.
После ужина она попыталась ходить, и я уложил ее чуть не силой. Я оставил около нее Агату и вышел из дому.
17
Первым, кого я увидел в «Веселом лососе», был мистер Сомс — Арчибалд или как его там дальше. За широкими спинами матросни, плотно сомкнувшимися вокруг него, видна была только голова мистера Сомса и тарелочка, которую он держал в руке, а на тарелочке что-то каталось и дребезжало. За прилавком стоял, облокотившись, Стиг Лаурис. Он тоже, не шевелясь, следил за предметом на тарелке.
— Каково? А? — шепнул мне Стиг. — Уже две минуты лишних. Пари было на десять минут…
Прыщеватый, совсем еще зеленый паренек сидел среди матросов, окружавших Сомса. Раскрыв рот, паренек глазел то на Сомса, то на моряков с американского парохода, занявших соседний столик. По их примеру этот сосунок расположился, вытянув ноги, на двух стульях.
— А ну-ка! — одернул я его, вынул стул из-под его ног и сел. Тут тарелка в руке Сомса дрогнула, монета съехала с ободка и упала.
Сомс повернулся в мою сторону, но не узнал меня. Янки с парохода затопали и засвистели, прыщеватый юнга тоже вложил два пальца в рот, чтобы свистнуть, но не сумел и выдавил короткий мышиный писк. Сомс потряс тарелкой и сказал:
— Теперь деньги.
Янки вынули бумажники. Собрав деньги, Сомс пересчитал их вслух. К нему уже подскочил Стиг. Сомс остановил на мне свой взгляд.
— А, шкипер, — проговорил он.
— У меня к вам дело, мистер, — начал я.
— И у меня тоже, шкипер, — ответил он. — Я хотел вас видеть. Счастливо, ребята, — обратился он к матросне, поднимаясь из-за стола. — Ко мне пришли.
«Какое же у него-то ко мне дело? — думал я, следуя за ним по скрипучей деревянной лестнице во второй этаж, где Стиг устроил номера для приезжающих. — Скорее всего, он просто рад отделаться от компании. Матросня, небось, рассчитывала на совместную выпивку с выигрыша».
Но он, оказывается, не пьет. Ему нельзя. Сообщив мне об этом, Сомс прибавил, что городишко у нас мерзкий, тоскливый, и ви?ски был бы утешением.
Конечно, я сам не очень высокого мнения о нашем городе, но поддакивать мистеру Сомсу не стал. Кто его просил к нам? Сидел бы себе в Нью-Йорке или в Солт Лейк Сити.
В номере пахло кислым. На тумбочке, у кровати, зеленели пузырьки с лекарствами. Сомс поглядел на часы, накапал на ложку какого-то снадобья и проглотил.
— У меня язва желудка, шкипер, — объяснил он. — Так что я трезвенник. Сода без ви?ски.
— Где ваш Харт? — спросил я.
— Он уехал. А что случилось, шкипер? Почему ты сегодня такой колючий?
— Я должен знать, откуда у вас сведения о моем сыне, мистер Сомс, — сказал я прямо.
Он усадил меня, поставил бутылку с содовой водой и начал уверять, что Харт не ошибся и вообще — если мормоны возьмутся за поиски, то уж добьются. Потом Сомс вдруг помрачнел и выпалил:
— У вас полно красных, шкипер.
— Я не красный, — произнес я довольно громко. — Я не хочу, чтобы имя моего Акселя трепали зря, вот что.
— Понятно, шкипер, — согласился он. — Я считаю, мы договоримся. Самое главное, — ты не красный. Ты прав, зря болтать не следует. Я тоже так смотрю на это. Надо иметь документ.
— Верно, мистер Сомс, — сказал я. — Харт надолго уехал?
Он не ответил. Он продолжал твердить, как важно иметь документ на руках, а затем вильнул в сторону и поинтересовался, много ли я зарабатываю.
— Неважно, я слышал? С таким кораблем, как у тебя? Досадно, шкипер. Корабль замечательный.
— Так Харт…
— С Хартом я берусь всё устроить, — объявил он и понизил голос.
— Спасибо, мистер Сомс, — сказал я. — Но…
Я хотел спросить прямо, что? он намерен устроить, но вот черт! Он перебил меня и ни с того ни с сего похвалил меня за то, что я не красный.
— Ты не давайся красным, шкипер. А прижать Харта нужно. Но мы это сами сделаем.
Он достал из шкафа еще бутылку, но на этот раз не с водой. Налил мне и себе.
— Одну рюмочку можно, шкипер. Ради знакомства.
— На вашем месте я не стал бы, — сказал я. — Раз нельзя, так нельзя. Хуже будет.
— Бросим через забор, — ухмыльнулся он и выпил.
Я зажал стопку в кулаке и поднес ко рту, но оттуда так потянуло аптекой, что тотчас отставил. Не раз я пробовал виски, а тут почему-то восстала душа против этого иностранного зелья, приправленного бог знает чем. Однако я не разжал руки, и Сомс ничего не заметил. Он еще пуще принялся хвалить меня и ругать красных. По всему видать, крепко поддел их Нильс.
Арчибалд говорил всё быстрее, изо рта его стали выскакивать и английские слова вперемешку с нашими. Ему стало жарко, он отцепил воротничок и бросил его на кровать, расстегнул рубашку, обнажив тонкую шею с острым кадыком. Мистер Арчибалд Сомс обмяк с одной стопки, как бывает только с горчайшими пропойцами. Он облизал губы, тихо рассмеялся и отодвинул бутылку:
— Больше нельзя, шкипер.
— Ни в коем случае, — сказал я и унес питье на подоконник. — Мы должны говорить о деле, мистер Сомс.
Знал бы я, что его так быстро разберет! Какой теперь толк от него. Но я не спешил уходить, я вслушивался в его речь с некоторой надеждой, — авось не совсем перестанет соображать, вдруг удастся узнать что-нибудь.
— У Харта есть деньги, — сказал он., — Если ты будешь доказывать своим, что Харт врет, тебе от этого легче не станет. Только красным поможешь.
Я ждал, что? будет дальше.
— Ты упрямый парень, капитан. Эта история с пленными из двести шестого лагеря — главный его козырь. Он не отвертится, если его как следует прижать. Будь спокоен. Поверещит, конечно, но ускользнуть не удастся. Пятьсот легко можно взять, а то и тысячу. Разумеется, он попросит у тебя гарантию, — ну, что ты, дескать, благодаришь преподобного Харта за трогательную проповедь о твоем сыне и проклинаешь красных. Несколько строк. Что с тобой, шкипер?
Не знаю, как я не ударил его. Не помню, как я сумел удержаться, чтобы не разбить эту подлую рожу. Я только схватил его повыше локтя и крепко сжал.
— Не смейте трогать моего Акселя, — сказал я. — Не смейте трогать! Слышите!
«Жаль, что Харт уехал, — думал я, спускаясь с лестницы. — Я бы поговорил с ним. Проклятые проходимцы! И зачем власти пускают таких сюда. Я бы и на пушечный выстрел не дал подойти к нашей земле».
В зале горланили янки. Стиг стоял у их столика с полотенцем и подносом.
Я вышел на улицу, сделал несколько глотков прохладного воздуха и вдруг понял — нет у Харта никаких сведений об Акселе. Им нечем доказать, решительно нечем — вот в чем дело. Поэтому-то они суют мне свои деньги. И Аксель, может быть, жив. Они выдумали насчет Сибири, насчет русских, — это ведь для них козырь. Козырь для них, и больше ничего. Непременно надо рассказать Арвиду. Пусть знает, кого он принял в своем городе.
Но где же правда об Акселе? Неужели я никогда не найду ее! Ей-богу, все точно сговорились, чтобы спрятать от меня правду.
18
В сквере ветер шевелил мормонские плакаты, сыпал песок на скамейки. Я сорвал один плакат, скомкал и сунул в мусорный ящик. Я собирался проделать то же с остальными, как услышал:
— Дядя Рагнар!
— Остренькая! — вырвалось у меня. — Ты почему здесь?
Христина зябко ёжилась, на ней была легкая кофточка с рукавами до локтей.
— Там пьяные, дядя Рагнар. Я боюсь.
— Ты что? К себе в дом боишься? — удивился я. — Сама хозяйка — и боится.
— Я не буду жить там, дядя Рагнар.
— Ты с ума сошла, девочка!
Но нет, она, оказывается, решила твердо. Она больше ни за что не вернется к Стигу.
— Стиг нехороший, дядя Рагнар.
Ей трудно было говорить. Дрожа от холода, она стояла передо мной и никак не могла выговорить, что? же у них там произошло. Но в конце концов я понял.
В дополнение к ви?ски и закускам, к своему ячменному кофе, он и ее хотел пустить в продажу. Свою троюродную сестру! Каков негодяй! Ну и дела творятся в городе! Когда буду у Арвида, обязательно скажу ему обо всем. Девчонка выбежала из «Веселого лосося» в чем была и теперь хочет взять свои вещи. Но она боится войти, пока там галдят янки.
— Что ж, так и будешь сидеть, девочка? — сказал я. — Замерзнешь ведь.
Не думал я, что придется еще раз навестить заведение Стига Лауриса. Но не оставлять же девчонку на улице. Я ввел ее туда и прямо предложил Стигу выдать вещи.
Он заартачился, но я пригрозил полицией. Так как он и после этого еще пытался спорить, я пообещал ославить его на весь город. Тогда Стиг, ворча, пропустил ее за прилавок, она шмыгнула в свою каморку и через несколько минут вышла в тоненьком пальтишке, с чемоданом и свертком, из которого торчали щипцы для завивки.
— Это всё, что у тебя есть? — спросил я. — Плоховато. Но ты не огорчайся.
— Я в суд подам. Стиг выделит мне мою часть.
Мы стояли теперь на панели. Ветер поднимал песок, невидимый в темноте, он лез в глаза и за воротник.
Какой же негодяй этот Стиг Лаурис! Еще нос задирает перед порядочными людьми. Что выдумал! Будто он доверенное лицо у самого бургомистра, у доктора Скобе!
И я спросил Христину, правда ли, что Стиг выполняет поручения бургомистра.
Нет, этого она не знает. Стиг ездил куда-то в моторке бургомистра, — это верно. И потом ходил очень довольный. Купил сахар у спекулянта и принимал этот товар, добытый на черном рынке, не в задней комнате, как бывало обычно прежде, а у прилавка. Христина заметила ему, что так поступать неосторожно. На это Стиг заявил: «Всё равно, в случае чего есть кому выручить».
— Ладно, — сказал я. — Рано или поздно Скобе поймет, с кем имеет дело. Ну, где же ты устроилась, девочка?
— Пока нигде.
— Вот так раз! Куда же ты пойдешь?
— У меня есть подруги, дядя Рагнар. Я сейчас к Инге Бергваль. А если у нее не найдется места, то к Эльзе… Вы не беспокойтесь, дядя Рагнар. Большое вам спасибо.
Мы прошли квартал, и у меня вдруг появилась мысль. Сперва эта мысль показалась мне очень странной, и я тотчас отбросил ее, но она вернулась. Я опять отогнал ее, но назойливая мысль снова начала донимать меня. Поэтому я прошагал с Христиной еще квартал по направлению к Инге Бергваль. И лишь у дома пастора, немного не доходя до угла, я сказал:
— Вот что, остренькая, давай-ка чемодан. Идем к нам.
Она даже перепугалась:
— Что вы, дядя Рагнар. Зачем…
Чемодан я отнял и сказал:
— Комната Эрика свободна. Нечего тебе искать пристанище, на ночь глядя.
Я всё время смотрел ей в лицо и увидел, как она густо покраснела.
— Переночуешь у нас, а там видно будет, — продолжал я. — Не спорь, девочка. Пошли.
Конечно, я выговорил не всё, о чем думал. Но зачем же выкладывать всё сразу, если есть возможность повременить и тщательно взвесить всё.
— В комнате Эрика, — сказал я, — тебе будет удобно. Правда, это скорее загородка, а не комната в полном значении, но ты спокойно выспишься. Поняла?
Краснея от смущения, она шла за мной. Я привел ее в загородку Эрика, показал его койку:
— Располагайся здесь, девочка.
Я покормил ее. Потом она вымыла посуду и стала прибирать на кухне: сменила бумагу на полке и вычистила ножи, хотя никто не указывал ей, что нужно делать.
Я зашел к ней, когда она вынимала вещи из чемодана. Бывают женщины, у которых аккуратности хватает только на кухню. Нет, ты покажи мне, как ты обращаешься со своими вещами! Христина бережно расправляла каждую тряпку, и, что больше всего понравилось мне, она и второпях не забыла захватить вешалки, складные фанерные вешалки для платья. И через несколько минут загородку Эрика нельзя было узнать — там и сям голубели, розовели, синели, желтели юбчонки и блузки.
— Надо, чтобы всё отвиселось, дядя Рагнар, — сказала она. — Я, конечно, завтра разыщу Ингу Бергваль, а пока пусть повисит.
На это я ничего не ответил. В ее быстрых руках появилась вдруг коробочка, а из нее брызнуло искрами — там лежало ожерелье из крупных янтарей. Какова остренькая! Сумела прихватить и это!
Тут я почувствовал досаду. В моем доме, во всяком случае, не место для добра старой Энгберг, пусть для самой малой частицы ее добра. Между тем Христина расправила ожерелье и поднесла к лампочке.
— Смотрите, дядя Рагнар, там муравей внутри. Ах да, ведь вы видели уже… Я готова целый час рассматривать. Ведь он жил тысячи лет назад, этот муравей. Смотрите, он весь целый — и лапки, и головка.
«Ветер у тебя в голове, девочка, — подумал я. — Игрушки на уме».
Я ушел — мне не хотелось любоваться янтарем. Муравей! Подумаешь, диковинка — муравей! Черт с ним, когда бы он ни жил. Муравей как муравей.
Наутро Христина еще раз решительно заявила, что она отправится к Инге Бергваль, так как не хочет нас больше стеснять. Ничего не поделаешь, придется ей сказать всё. Конечно, следовало бы еще обмозговать, присмотреться к человеку, чтобы потом не каяться. Но Христина уже стояла в пыльничке, с чемоданом и прощалась. «Нет, откладывать, пожалуй, не сто?ит», — решил я.
Однако я не начал с главного.
— Постой, девочка, — сказал я. — Приедет Эрик, где он будет тебя искать?
— Эрик найдет меня, — выпалила она и смутилась. — Если меня пустит Инга, то я у Инги… Инга живет на Горной улице, за лесопилкой. А если у Эльзы, тогда, значит, я возле бойни.
— Значит, Эрик везде найдет тебя?
— Мне кажется, найдет, дядя Рагнар, — сказала она, осмелев и подняв на меня глаза.
— Он может задержаться. Бибер загонит его куда-нибудь к черту на рога, понимаешь? В общем, всяко бывает. А ты, девочка, — ты будешь его ждать?
— Я буду, дядя Рагнар, — ответила она уже без всякого смущения, а скорее с вызовом, и замолчала, ожидая, что дальше последует от дяди Рагнара, который, как ей должно быть известно, не очень-то радовался ее знакомству с Эриком.
И вот сейчас дядя Рагнар скажет ей такое, чего она никак не ожидает.
— Вот что, остренькая, — слышу я свой голос, — раз так, то нечего тебе уходить. Оставайся у нас.
Она, действительно, удивилась, — так удивилась, что даже не поняла меня.
— Оставайся у нас, — повторил я. — Невесте сам бог разрешает жить в доме жениха. Или ты не хочешь?
Она ничего не могла ответить. Вернее, она ответила, только не словами. По тому, как загорелись ее глаза, по румянцу, проступившему на щеках, по всему видно было, — она, конечно, хочет остаться. Еще бы! Но через секунду глаза ее потухли, и она проговорила:
— Вы… серьезно, дядя Рагнар?
Она еще не верит. Да мне и самому кажется необычайным, как это я сосватал Эрика… Разумеется, не так это всё делается. Спешить не следовало бы. Но одно я знаю: теперь-то Эрик не минует отцовского дома. И, возможно, снова наладится семья. Конечно, они не сразу поженятся, молоды еще. Христине только восемнадцать. Но ведь бывает, невеста несколько лет до брака находится под одной кровлей с женихом и работает в хозяйстве как свой человек. Теперь Эрик не променяет свой дом на походную койку у Нильса, станет заботиться о своем гнезде.
Бабушка Марта отнеслась к появлению Христины спокойно. Агата сделала вид, что это ее нисколько не касается, но не выдержала и шепнула мне:
— Привели молодую хозяйку?
Да, привел. И что же, фру Агата? Вы хотите сказать — вы больше не нужны? Ошибаетесь.
— Христина поступает на работу, — сказал я, — в швейную мастерскую к Блиссу, так что без вашей помощи мы не обойдемся, фру Агата.
«Что я могу вам еще сказать, фру Агата? — продолжаю я про себя. — Не надеетесь же вы закрепить за собой место в моем доме. Я вам не давал повода, фру Агата, а если и дал какой-нибудь ничтожный повод — прошу извинить. Настанет время, вероятно, когда нам не потребуется посторонний человек в доме. Что еще вам сказать? Если мне тогда случится проходить мимо вашего дома и до меня донесется ваш голос, похожий временами на голос Хильды, я постою и послушаю, фру Агата, но только так, чтобы вы меня не заметили. Вот и всё».
19
— Не слышно, мистера Харта еще не выгнали из нашей страны? — спросил я почтальона Пелле.
— Напротив, — сообщил он, — в газетах пишут — он в столице выступает. Даже кто-то из министров присутствовал на проповеди. Кто его выгонит, коли он сам чувствует себя хозяином.
Пелле уже не носит очков, на переносице — след от дужки, но в облике скромного, тихого, незлобивого Пелле есть что-то новое.
— Ты уж слишком, Пелле, — остановил его я. — Какой он хозяин! Он не в Америке.
Я ожидал, что Пелле, как обычно, согласится со мной. Но он усмехнулся и спросил, знаю ли я, как вел себя Харт с Арвидом Скобе.
— Харт орал на бургомистра, словно на своего слугу-негра, — сообщил он.
— Не может быть, — сказал я. — Кто распускает такие слухи, Пелле? Скобе не позволит с собой так обращаться.
— Не позволит? Секретарь в ратуше может подтвердить, какой шум поднял американец.
— Ты ничего не говорил тогда, Пелле, — заметил я.
И тут Пелле разошелся. Прежний тихий Пелле исчез окончательно.
— Да, не рассказывал. Вы всё думаете, я разносил по дворам все, решительно все городские новости? Как бы не так! Прежде чем пустить в ход язык, я соображал — о чем можно болтать, а что лучше оставить при себе. Я боялся потерять службу. Ну, а теперь я ее уже потерял. Вчера директор предупредил… Последние дни таскаю сумку. Значит, бояться больше некого. Свободно могу выложить всё, что знаю.
А знает Пелле-почтальон много. Недаром он столько лет ходил по городу, стучал в каждую дверь. Да, Харт пришел к Скобе и устроил скандал. В городе слишком много красных — вот что вывело Харта из себя. Что? именно американец требовал предпринять, секретарь не расслышал, потому что Скобе закрыл плотнее дверь в кабинет, но, во всяком случае, скандалил Харт долго. И Скобе не осадил его. Ничуть. Скобе проводил его из ратуши с поклоном, как будто не он, Скобе, а мистер Харт — бургомистр в городе. Но это не всё, что может рассказать Пелле-почтальон, — хотя бы про того же Скобе. Почему Скобе утвердил Стига Лауриса в наследстве, хоть это имущество военной преступницы? Бургомистр получил пай в «Веселом лососе» — вот в чем дело. За деньги поступился законом. А известен ли такой факт: голландец Гейнц Янзе исчез. Да, голландец — нацист, бежавший с советской территории, когда русские войска громили гитлеровцев. Предположим, шкипер уже слышал, что этого проходимца нет в городе. Но — истинная подоплека? Скобе на людях хватается за голову — проглядел, мол, нациста. Надо было, дескать, давно проверить личность подозрительного голландца. Правильно сделали рабочие, обратили внимание, — но слишком поздно, к сожалению. А ведь на самом-то деле не кто иной, как Скобе, взял Гейнца Янзе под покровительство. Да, снабдил деньгами и отправил куда-то. Теперь Скобе может сколько угодно бить себя в грудь — проглядел, дескать, проглядел. Впрочем, Скобе спрятал голландца не только для того, чтобы вольготно было изображать из себя антифашиста. Есть и другая причина. Кто объяснил ее Пелле-почтальону? Оказывается, Нильс Эбергард…
В этом месте я прервал Пелле:
— Выходит, ты занимаешься политикой, — сказал я. — Понятия не имел.
Представьте, что ответил на это Пелле. Он сказал, что политика бывает разная, что ему по душе политика Нильса. До сих пор Пелле никому не признавался в этом и опасался подолгу задерживаться у Нильса. Почтальон совал письмо, газету, козырял и спешил дальше, чтобы директор почты, упаси бог, не обвинил Пелле в сочувствии к красным. Директор не терпит у себя красных.
— А теперь мне всё равно, — упрямо твердил Пелле. — Мне нет дела до директора. Вчера я зашел к Нильсу, отдал газету и спросил: зачем нашему бургомистру нужны такие, как Стиг Лаурис или гитлеровец Янзе. Нильс растолковал мне, очень ясно всё растолковал.
— Бог с ней, с политикой, — прервал я его. — Какая бы она ни была, не увлекайся ею, Пелле. Хватит нам с тобою своих дел.
Но Пелле покачал своей седой головой и продолжал, а я всё-таки слушал его.
— Кто доверяет Скобе, тот в руках у Харта, — с этим поневоле согласишься, шкипер.
— И это слова Нильса? — спросил я.
— Да.
— Повтори-ка. Что-то я не понял.
Хотя Пелле и повторил, я всё-таки не мог уразуметь, к чему Нильс так выразился. И Пелле не сумел мне объяснить. Кончилось тем, что я рассердился и сказал:
— Чушь какая, Пелле! Я в руках у Харта? Да с чего он взял — Нильс. Нет, Харт не станет трогать меня своими грязными лапами. Я кое-что расскажу бургомистру про Харта и про Сомса. Наш Арвид Скобе перестанет церемониться с ними, будь уверен. А тебе, Пелле, незачем передавать всякую глупость.
Когда он ушел, я пожалел, что так обрезал его. Пускай бы выговорился. Он потерял работу, бедняга Пелле. И когда! В тот самый момент, когда собирался пристроиться к Агате. Теперь-то, конечно, ей мало проку от него. Вот Пелле и зол на весь свет, да еще стакнулся с Нильсом, а тот рад подлить масла в огонь. Нет, Пелле сейчас в таком состоянии, что верить его новостям никак нельзя. Всё, что я услышал от него насчет Скобе, насчет Гейнца Янзе, либо преувеличение, либо выдумка. Так я убеждал себя; но всё же новости Пелле не выходили из головы, и особенно цепко держалась одна фраза: «Кто доверяет Скобе, тот в руках у Харта». Глупость, явная глупость! А всё-таки интересно, что? Нильс хотел этим сказать?
Пелле между тем двигается широким шагом по мосткам. Из-под фуражки, сдвинутой на затылок, выбиваются серебряные кустики волос, голова Пелле покачивается, левая рука обнимает сумку, правая взлетает кверху, — видно, Пелле еще не кончил свою речь.
20
К Скобе я так и не собрался. По горло было работы. Раз Бибер продает остров Торн, надо хоть напоследок попользоваться тамошними угодьями. Бибер нагнал туда, считай, всех своих рыбаков, принял обратно Нильса и других, уволенных после забастовки в порту, и велел брать подряд всю рыбу — пускай самую мелкую, — выскрести всё дно, не упустить ни камбалы, которая лежит там, подкарауливая добычу своими выпуклыми глазами, ни скользкого, увертливого угря. У острова Торн и для Пелле нашлась бы работа, но человек он к рыбацкому делу непривычный, да и нельзя ему оторваться от города — хлопочет о месте ночного сторожа на лесном складе.
Салака пошла густо, и мы с Агатой едва успевали поворачиваться. Эх, кабы Бибер отложил продажу хотя бы до декабря. Салаки одной сколько можно было бы взять! А там, может быть, и селедка пожалует.
Однажды я, оставив «Ориноко» у пристани, направлялся домой и на шоссе, огибавшем бухту, увидел машину. Она была большая, блестящей темно-синей окраски, с громадными фарами, с толстыми, глубоко вызубренными покрышками, еще не обтершимися на наших камнях. Та самая, что купил Скобе! Только я подумал это, как дверца открылась, и из машины вышел сам бургомистр.
На нем был желтый дорожный плащ. Скобе, должно быть, куда-то спешил, потому что не выключил мотор.
— Иди сюда, шкипер! — кричал Арвид. — Иди.
Взяв за руку, он без разговоров втащил меня в машину и усадил на пружинящие подушки.
— Какова вещица? — спросил он. — Я два года откладывал деньги, шкипер. Мудрая пословица есть у англичан: «Я не так богат, чтобы покупать дешевые вещи».
Он тронулся с места, меня, как мяч, откинуло на задние подушки. Со всех сторон ко мне тянулись сверкающие серебром ручки, держатель спичек, радиоприемник и разные другие устройства, и я, очутившись в такой роскоши, подумал: «Всё-таки богат ты стал, Арвид!»
— Сколько же вы дали, господин доктор? — спросил я.
— За машину? А как ты думаешь?
— Право, не знаю, почем они. Насчет цен на салаку или, например, на селедку, на камбалу, — это мы соображаем, господин доктор, — сказал я.
— Ну, прикинь, прикинь, — дразнил он меня.
— Тысяч десять, не меньше.
— Побольше, — сказал доктор Скобе и усмехнулся. — Двенадцать тысяч.
Ого, порядочный куш! Я даже тронуть боюсь своими грубыми, грязными рыбацкими руками обивку твоей машины, доктор Скобе! Как бы не испачкать. И лучше уж не прибедняйся, не доказывай, что у тебя не хватает богатства на дешевые вещи.
— Конечно, не легко было, ты сам понимаешь, — продолжал он. — Я урезывал во всем. Я отложил ремонт дома. Все свои сбережения вбил в эту игрушку, Рагнар.
Он еще долго разглагольствовал в таком духе, — то словно оправдывался передо мной, то принимался хвалить покупку. Ему, наверное, хотелось, чтобы я похвалил ее. Изредка он поворачивался ко мне, но большей частью я видел только его спину и затылок, розовый затылок и волосы, уже отсвечивавшие сединой. Игрушки ему нужны — бургомистру Скобе! Вот мы сидим с ним в одной машине — и, странное дело, расстояние между нами как будто увеличивается. Дорого?й ли автомобиль причина этого или то, что я слышал про бургомистра от Пелле-почтальона, а может быть, то и другое вместе, но я не спешу выкладывать ему свои заботы. Что если Арвиду Скобе уже не интересны они? Что если он, как и многие другие господа, сулившие нам всякие блага перед выборами, отвернулся от нас, простых людей, и якшается с жуликами вроде Стига Лауриса, Харта, Сомса?
Но нет, не должно этого быть. Надо предостеречь его. Надо открыть ему глаза.
И я начал рассказывать, как навестил Сомса в «Веселом лососе» и почему у меня нет доверия к Харту.
— Да, Сомс нечестный субъект, — согласился Арвид, выслушав меня. — Возмутительно! Ты прав, таким у нас не место.
— Конечно, господин доктор. Разные проходимцы получают кров и пищу в нашем городе. Надо принять меры. Надо вывести их на свежую воду.
— Однако ты рассуждаешь нелогично, шкипер, — произнес он вдруг. — Допустим, у Харта нет на руках письменных доказательств. Значит ли это, что их вообще нет?
Что я мог возразить? Пожалуй, ничего. Я не ответил, а Скобе говорил:
— Эх, Рагнар, Рагнар. Я понимаю, в сознании плохо укладывается: как случилось, что русские, наши недавние союзники… Но ведь ты сам их даже не видел, не правда ли?
И опять мне нечего было спорить, — действительно, в нашей стороне русских войск не было.
— Я видел, — сказал Скобе и помолчал.
— И что же, господин доктор?
— Впрочем, это не имеет значения, — произнес он глубокомысленным тоном.
Не довольно ли о политике? Но он стал меня убеждать, что наше государство не зря-де закупает снаряды в Америке. Что мы-де маленькая страна и русские-де грозят нам, а вот Америка берется нас защищать. Всё это я уже слыхал.
— Насколько мне кажется, — вставил я, — янки сами не прочь повоевать.
— Ты судишь по Харту, — улыбнулся Скобе и, придерживая одной рукой руль, другой протянул мне портсигар. — Не все такие, как Харт. В правительстве Америки наши друзья, они помогают нам.
«Нильс сумел бы ответить, — подумал я. — Ну а я не желаю знать никакой политики. Правду об Акселе — вот что я хочу знать».
Между тем Скобе не умолкал. Он обещал мне еще раз запросить об Акселе американские власти в Германии, а затем снова накинулся на русских.
— О политике я не берусь толковать с вами, господин доктор, — остановил я его. — Материя сложная и не для моей старой головы.
Но он не унимался.
— Будем надеяться, что Аксель жив, — продолжал он. — Но кто может вернуть его нам, Рагнар? Пока что я не вижу… Русские добром не отдадут его, Рагнар. Да, ты прав, сложная штука политика. У нас с тобой будет разговор не о политике, Рагнар, а о практическом деле.
Что ж, посмотрим. Но Скобе не спешил объяснить мне, что? у него за дело ко мне.
Мы поднялись в гору. Под нами был не только город, с его красными крышами, но и каменоломня была тоже далеко внизу, бухта стала небольшим язычком воды, и цвет ее, чем выше мы поднимались, делался светлее. Машина Арвида неслась вперед, со свистом разрезая воздух, Арвид нагнулся над рулем и то и дело давал гудки. То были особые гудки, не такие, как у других машин. Должно быть, так гудят очень дорогие машины. И Арвиду, верно, нравился звук рожка, и он нажимал его даже тогда, когда на дороге не было ни прохожего, ни коровы. Настойчиво и долго гудел Арвид на поворотах, гудел на перевалах, где дорога словно упирается в небо и ты готовишься слететь во весь опор по крутому скату в долину. Но Скобе жалеет свою машину, он спускает ее осторожно, на тормозах, — и я упираюсь руками и коленями в переднее кресло.
Временами, где дорога полегче, он возобновлял разговор. Его интересовали мои семейные дела и успехи на промысле. Что Христина перебралась к нам, он, оказывается, уже знает. Ладит ли она с бабушкой Мартой? Помогает ли по хозяйству? Показывался ли Эрик?
— Нет, он не был, — сказал я. — Бибер, видимо, не отпускает его с лова. А там, на промысле, он мне не попадался.
Мой ответ понравился Арвиду.
— Правильно, Рагнар, — похвалил он. — Эрик сам прибежит к отцу, прощения будет просить.
— Не знаю, — сказал я.
И этот мой ответ понравился Скобе, он ободряюще улыбнулся мне.
Город уже скрылся за перевалом, а Скобе мчал меня всё дальше. Поднялся каменный хребет и волной двинулся нам навстречу. Приближаясь, он вырастал и всё яснее показывал нам свои расщелины и осыпи. Вот мы въехали в его тень. Солнце ушло за гребень хребта, и весь он был черен, только на вершинах его играло дневное сияние. Дорога вонзилась в хребет и рассекла его, а за ним открылась широкая-широкая долина. Справа ее подковой охватывали горы, а слева лежало море — очень светлое, спокойное и пустынное. Ни парохода, ни кошеля бревен, ни лодки — ничего не видно на поверхности. Точки рифов, выступающие кое-где, иной мог бы принять издали за лодки, но только не я. Я-то знаю эти камни наперечет.
Я скажу вам, что? за скалами, на берегу реки, отсюда невидимой: там звонница полуразрушенной церкви, и вон торчит острие шпиля. И темные, обгорелые квадраты фундаментов, трубы — остатки домов.
Это Сельдяная бухта. А долина называется Роммендаль. В числе тех слов, которые нельзя произнести без отвращения, — таких, как «фашист», «свастика», — есть и «Роммендаль». Немецкий аэродром Роммендаль. Конечно, до войны это название означало совсем другое. Оно вызывало часто веселую улыбку, — да, улыбку, потому что трудно было отыскать во всей провинции более красивую долину. Недаром молодежь стекалась сюда в праздничные дни — жечь костры и плясать в белые летние ночи, в теплые ночи, когда серебряное зеркальце озера Роммен до утра остается чистым, свободным от малейшего пятнышка тумана. У самого озера стояла деревня Роммен, и жители ее считались счастливцами: ведь горы поблизости невысокие, и поэтому солнце туда входило раньше, чем в другие долины, и уходило позже. Немцы снесли дома, а землю разровняли, утрамбовали для своих самолетов. Никогда я не забуду, как выли немецкие самолеты. Они разлетались каждое утро, как коршуны из гнезда, и носились над горами, высматривая партизан. Эрик, помню, допытывался у взрослых: можно ли подбить бомбардировщик из охотничьего ружья, спрятанного у нас под амбаром, и в какое место надо угодить зарядом крупной дроби. Нередко до нашей Сельдяной бухты доносился грохот фашистских бомб, рвавшихся в горах.
Плуг до сих пор не переворачивает землю в Роммендале. На аэродром везут бомбы. Нет деревни Роммен, нет и нашей Сельдяной бухты. Долина мертва, безлюдна. Жизнь не вернулась сюда. Или, действительно, дело идет к новой войне?
В памяти возникла обрюзгшая физиономия мистера Харта. Мне стало не по себе. И, странное дело, я вдруг почувствовал досаду на Арвида Скобе, припавшего к рулю. Зачем он завез меня сюда? Что ему от меня нужно?
Он повернул назад, и каменная волна снова загородила долину.
Вблизи города он убавил скорость и сказал, что у острова Торн лов на днях прекращается, — там будет запретная зона. Я ответил, что мне это известно. Скобе пожал плечами:
— Суровая необходимость заставляет, Рагнар. Жестокая, суровая необходимость.
Я молчал. Я не знал, что он приступает к самой сути.
— Бибер намерен наладить дальние промыслы. Отказаться от Торна и не получить ничего взамен — это же катастрофа. Катастрофа для тысячи людей.
— Что верно, то верно, — отозвался я. — Я, откровенно говоря, подумывал — не связать ли мне пожитки и не поискать ли удачи в другом месте.
— Подожди. Для тебя есть одна работа.
— Серьезно, господин доктор? Кому же понадобился старик Ларсен, интересно!
Скобе повел машину еще медленнее. Значит, мы доехали до самого главного, решил я.
— Ты ведь плавал однажды с научной экспедицией, Рагнар. В каком это было году?
— В тридцать пятом, — сказал я.
Мы избороздили тогда всё море — я, профессор Бамберг и два его помощника. Мой «Ориноко» они превратили в лабораторию, заставили разной стеклянной посудой, микроскопами. Я был капитаном экспедиции и еще тралмейстером, — мы приладили небольшой трал, чтобы доставать нужные профессору образцы рыб и прочих тварей. Жаль, ему мало выдали денег на экспедицию и он не успел изучить все места нереста и нагула. Если теперь решено продолжить то, что тогда начали, что ж, в добрый час, я готов. Наш Генри Бибер, верно, побогаче того столичного института, где служил профессор Бамберг. Захочет, так доведет экспедицию до конца.
— Бибер ассигнует крупные средства, — сказал Арвид. — Дело будет поставлено солидно. Рыбакам тесно, Рагнар, необходимы новые угодья.
Мы двигались по городской улице, прохожие останавливались, завидев машину бургомистра, и провожали ее глазами.
— Коли действовать, так сейчас же. Осень на носу, — сказал я. — Пока дни не слишком укоротились, море не очень злое, и начали бы. Какие планы у Бибера? Ему ведь не всегда можно верить, господин доктор, сколько лет он собирается поставить новые машины на своем консервном заводе.
Но Арвид заверил меня, что на этот раз Бибер не намерен бросать слова на ветер.
— Экспедиция состоится. Мы с Бибером обдумали этот вопрос и пришли к одному: лучшего корабля, чем твой, для нее нет. И лучшего шкипера нет.
Вот что сказал Арвид Скобе! Однако я решил еще раз прощупать почву и возразил:
— Неужели нет у Бибера моряка помоложе? Будто он без меня не обойдется!
И еще раз Арвид сказал то, что мне хотелось. Нет, Бибер рассчитывает только на меня. Кому же еще можно доверить «Ориноко»! На днях Бибер пригласит меня заключать контракт и, вероятно, познакомит с главой экспедиции. Бибер не станет откладывать.
Вот что я услышал от Арвида Скобе! Выходит, он не забыл еще своих земляков. Чего же он тянул, почему не выложил сразу, как только взял меня к себе в машину! Каково! Я раскачивался на подушках и улыбался прохожим, и день стал как будто яснее, и улицы чище, и всё в городе словно прибрали к празднику.
— Ну, спасибо вам, господин Скобе. И не только от меня, от всех рыбаков спасибо. Я догадываюсь, что это вы подали мысль Биберу, а? Сам-то он не любит расставаться с деньгами. Признайтесь! Угадал?
Скобе только опустил глаза:
— Я считал своим долгом, Рагнар…
Он довез меня до своего дома и предложил зайти выпить кофе, но я отказался. И так достаточно он потратил времени со мной. На прощанье я сказал:
— Бибера вы всё-таки поторопите, господин доктор.
Через два дня — вот как скоро! — Бибер прислал за мной конторщика Борга, да, именно конторщика, а не какого-нибудь мальчишку-рассыльного. Принял меня Генри Бибер в той самой задней комнате, за кабинетом, где я уже был однажды, и всё произошло в точности так, как предупредил Скобе.
Бибер тут же представил меня ученому, с которым мне предстояло плавать. Звали его Карлсоном, — фамилия самая обыкновенная, да и наружность в том же роде. Решительно ничего ученого не было на вид в Карлсоне. «Бьюсь об заклад, что он не профессор, а чином пониже», — подумал я. Возрастом не дотянул еще до профессора. Лицо моложавое, помятое, словно ученый Карлсон только что встал с постели и не умылся. Фигура крупная, но не сильная, рыхлая. Похоже, синий костюм Карлсона подбит толстым слоем ваты и скрывает куда более щуплого господина.
Говорил, главным образом, Бибер. Карлсон погрузился в глубокое кресло, вяло чистил ногти на толстых, коротких пальцах и изредка вставлял пару слов. Хотел я спросить его, жив ли профессор Бамберг, но не решился сразу: уж очень необщительным показался мне мой будущий начальник.
Бибер между тем говорил за двоих, вертясь на стуле и поскрипывая своей кожаной курточкой:
— Идея экспедиции? Она не нова, шкипер. Еще когда мы ремонтировали ваш «Ориноко», план был, в общих чертах, ясен. Из предосторожности я не изложил вам… Теперь необходимые суммы имеются, надо действовать.
«Болтун, — подумал я. — Еще станешь уверять, что эту твоя собственная идея! Давай-ка лучше покажи, сколько тебе не жалко отпустить из того несгораемого шкафа, что стоит в углу».
Не прошло пяти минут, как выяснилось и это. Контракт составлен на год, мне Генри дает тысячу крон в месяц, в виде аванса я могу получить две тысячи, а то и три. Сегодня же, сразу! Я не верил своим ушам. Два раза я перечитал контракт — сличал слова Бибера с тем, что написано на бумаге.
Никаких расхождений я не обнаружил. На всякий случай я заявил, что для начала хватит и двух тысяч.
— Воля ваша, шкипер. Повторяю, можете взять три. Я знаком с вами не первый год, шкипер.
Он открыл дверцу сейфа, вынул три тысячи банкнотами и выжидательно смотрел на меня.
Почему я отказался? Три так три. Тем лучше! Но шкипер Ларсен — хозяин своему слову.
— Нет, господин Бибер, — сказал я. — Довольно двух. Одну кладите обратно.
Я отвел глаза от денег и услышал, как щелкнул замок сейфа. А через минуту я ощутил тяжесть двух плотных пачек во внутреннем кармане моего воскресного пиджака и уже не жалел, что не взял больше. Был бы больше обязан Биберу, только и всего.
Никогда, никогда у меня не было таких средств. Профессор Бамберг — тот заплатил мне всего восемьсот при окончательном расчете. На месяц приходилось триста. Нынешнее предприятие, как видно, покрепче. Деньги прибавили мне решимости, и я спросил-таки Карлсона, что ему известно про Бамберга.
— Бамберг? — переспросил он.
— Ну да, профессор Бамберг.
— Есть такой, — кивнул он. — В последние годы я потерял его из виду.
— Я полагал, вы в одном институте.
— Нет, в разных.
Ему явно не доставляло удовольствия отвечать мне. Но я не смутился, однако.
— А вы из какого, позвольте узнать?
— Из института ихтиологии, — сказал он. — У вас больше нет вопросов, шкипер?
«Эге, характер не из легких», — подумал я. Только я успел расписаться под договором, как Карлсон уже повысил тон. Но я не испугался. Ничуть!
— Имею еще несколько вопросов, — проговорил я твердо. — Задержу вас немного. Но раз вы меня наняли не в матросы, а капитанствовать…
И я стал выяснять подробности маршрута и распорядка работ на корабле; и Карлсон вынужден был на всё дать мне ответ.
Немного спустя я вышел из ворот рыбной гавани. Вот ты и дождался, шкипер Ларсен! Вот и привалила удача! Помнишь, Нильс Эбергард, помните, братья Микель и Юхан и старик Эркко, не говорил ли я вам — будет же когда-нибудь хорошо! Не может же быть всё время плохо!
21
— Входи, — сказал я, впуская Эрика. — Вспомнил, слава богу, что у тебя есть дом.
Больше я ничего не сказал ему. Я дал ему дорогу, он прошел в комнату и увидел Христину, накрывавшую на стол.
Не знаю, как они встретились. Во всяком случае, до меня ни звука не донеслось оттуда. Там было тихо, совсем тихо, и я решил заглянуть туда, выяснить, что? же такое происходит. Я приоткрыл дверь. Эрик и Христина стояли друг против друга, она держала его руку в своих руках. Я тихо прикрыл дверь и сказал себе, что всё как будто в порядке.
Затем я пошел на кухню, где хлопотали бабушка Марта и Агата, и сказал:
— Явился наш пропащий.
Через несколько минут мы все сели обедать. Эрика и Христину я поместил рядом. Оба они были розовые от смущения, в особенности Эрик. Высокий, плечистый рыбак, который только что прибыл с промысла и проговорил по-взрослому: «Здравствуй, отец», — он теперь снова стал подростком. Щеки его горят, он украдкой бросает взгляды на Христину, а на меня и вовсе не решается поднять глаза. Зато остренькая не теряется: она уже осваивается со своим положением члена семьи и, я слышу, шепчет Эрику: «Не кроши хлеб». Правильно, остренькая! Что до меня, то я держусь так, словно ничего между нами не случилось, а если и было что, то заслонилось другими событиями. И не желая замечать румянца на его лице и даже на руках, я спрашиваю Эрика:
— Ты знал, что она здесь?
Кивком я показываю на Христину. Агата улыбается и тоже смотрит на нее, а бабушка Марта — та, как мы сели, умиленно переводит взгляд с Эрика на Христину, потом опять на Эрика. Пока он собирался ответить, остренькая подала голос:
— Знал. Передал кто-то.
Еще бы. Обежав город, слух прыгнул в какую-нибудь посудину, отправлявшуюся на промысел, и живо отыскал Эрика. Что ж, только дурной человек откажется сообщить добрую весть. И вот ты опять дома, Эрик. И вряд ли ты теперь захочешь поменять свой дом на кухню Нильса. Нет, этого не будет. Я уверен, что этого не будет, и потому, как ты, верно, догадался, готов простить тебе всё прежнее. Теперь-то я, кажется, могу быть спокоен за семью. Остренькая сумеет удержать жениха, а кроме того, есть новости, которые еще не дошли до тебя. Но я поберегу их, послушаю сперва тебя.
— Похвастайся заработком, — предлагаю я Эрику.
И тут он впервые вскинул на меня глаза. Лицо его вдруг помрачнело.
— Выдали последнюю получку, — промолвил он зло, и Эрик-подросток снова исчез.
— Вот как, — отозвался я. — По-моему, ты ошибаешься, это не последняя твоя получка у Бибера.
Я и сам когда-то считал — туго будет нам, если Бибер продаст остров Торн. Конечно, Эрику и всем другим невесело было поворачивать домой в самый разгар лова. А ведь на самом деле Бибер вовсе не собирается сокращать производство. Наступит временная заминка, а потом отыщутся новые угодья, ближние и дальние. Но всё это я скажу потом. Интересно, что? еще привез Эрик.
— Конторщик Борг, который выдавал нам деньги, сказал, что я больше не потребуюсь.
— Мало ли что говорит Борг.
— И то милость, — хмуро усмехнулся Эрик. — Со мной могли поступить, как с Нильсом, как с Микелем и Юханом.
— Как же поступили с ними?
Теперь Эрик глядел на меня в упор, и его лицо выражало удивление:
— Я думал, тебе известно. Их арестовали.
— Что? — крикнул я и со стуком положил ложку. — Что вы там наделали? А?
Оказывается, когда прибыли военные и объявили, что район отныне запретный, Нильс и его друзья стали протестовать. Они вывесили красные флаги на мачтах, и то же самое сделали рыбаки на многих других ботах. На острове Ялмарен, у маяка, устроили митинг. С флагами пошли в гавань Бибера и хотели маршировать в город, но вмешалась полиция.
И Эрик участвовал в этом деле, оказывается. Пожалели юнца, а то бы и он сидел в тюрьме.
— Чего вы надеялись добиться? — спросил я. — Головы у вас есть? Соображаете вы или нет?
С каждым вопросом я повышал голос. Еще немного, и я, может быть, разрушил бы то, что строил. Хорошо, что я всё время не выпускал из виду Эрика. Лицо его словно твердело. И когда я остановился, чтобы перевести дыхание, мне вдруг показалось: Аксель сидит передо мной, Аксель!
Не знаю, как это получилось. Никогда у Эрика не было большого сходства со старшим братом. Лишь иногда появлялось что-то, напоминавшее Акселя. И вот сейчас…
Это помогло мне прийти в себя. Зачем кричать? Ничего, кроме плохого, это не даст. Не для того мы встретились, чтобы поссориться еще раз. Без крика, спокойно я докажу ему, кто из нас прав.
— Чего достиг твой Нильс со своей пропагандой? — спросил я гораздо тише. — Пока вы устраивали демонстрации, твой отец добывал удачу и для семьи, и для всех рыбаков.
Словом, то, что я откладывал до послеобеденного кофе, пришлось выложить немедля. И тут я почувствовал себя еще увереннее.
— В сущности, Нильс такой же мальчишка, как ты, — сказал я. — Вы ломитесь в открытые ворота. Вчера я подписал контракт у Бибера.
Я хотел сперва рассказать об экспедиции, о пользе, которую она принесет, а потом, в подтверждение, упомянуть и об авансе. Но иначе рассудила бабушка Марта.
— У Рагнара две тысячи, — выпалила она. — Рагнар, кто тебе дал столько денег?
Из всего, о чем я говорил, она уразумела, должно быть, только «контракт» и вспомнила две тысячи. Еще вчера вечером я пересчитывал при ней бумажки и напугал ее до полусмерти. «Рагнар, — спросила она, — что ты сделал, откуда у тебя такие деньги?» Я пытался растолковать ей, но толстая, невиданная пачка кредиток потрясла бабушку Марту, — она не могла успокоиться. И то правда, легко ли поверить, что две тысячи достались честно! Не следовало показывать ей. И сейчас она перебила меня совсем некстати. В голосе ее звучал тот же испуг, и Эрик, Христина, Агата — все встревожились и воззрились на меня. На них эти две тысячи упали неожиданно. Они и не подозревали до сих пор, что у меня есть солидная сумма денег. Я ведь почти ничего не потратил из них. На столе у нас та же салака с картошкой, потому что не в моих правилах разбазаривать задаток, не принявшись за работу.
— Больно щедрый Бибер, — сказала Агата.
Я хотел было намекнуть Агате, что ей следовало бы выслушать всё до конца, а потом уже выражать свое мнение, да и то в последнюю очередь, но в это время Эрик протянул:
— Да-а, странно.
— Ничуть не странно, — отрезал я. — Известно, что у Бибера каждый медяк гвоздем прибит. Так уж если он так раскошелился на экспедицию, стало быть, нацелился на большие барыши.
Но хотя я постарался растолковать им так, чтобы всё, решительно всё, стало ясно, Эрик сидел, по-прежнему уставившись в тарелку, и брови его были сдвинуты. Когда я кончил, он проговорил:
— Обещать они мастера.
Христина подалась к Эрику, погладила его руку, лежащую на скатерти.
— Помолчи, — шепнула она.
Но рука Эрика упрямо сжалась в кулак:
— Смотри, чтобы не обманули тебя, отец.
Несколько мгновений я заставлял себя молчать, чтобы избежать скандала.
— Повторяешь вслед за Нильсом, — сказал я наконец, отодвинул ложку, и она со звоном ударилась о солонку. — Хватит! Довольно политики вашей. Никакой политики, чья бы она ни была — Нильса, или Скобе, или Бибера. Один черт! Тут не политика, а выгодное дело — выгодное дело и для Бибера, и для всего города. А что отец выкупит бот в собственность, что своя снасть у нас будет, — тебе наплевать?!
— Ты не в курсе, отец, — сказал Эрик. — Предприятие Бибера на три четверти американское. Он, по сути, приказчик у янки. А им не рыба нужна здесь.
Нет, не так прошел обед, как я рисовал себе. Настроение у всех упало, как ни старались Христина и Агата поднять его своей болтовней. Христина, — та принялась рассказывать про своего хозяина, толстяка Блисса, владельца швейной мастерской. Когда поднимаешься к нему на второй этаж, то прежде всего попадаешь в переднюю. Из нее ведут две двери — одна в кабинет самого Блисса, где он принимает заказчиков, другая в помещение, где работают девушки. Эта дверь отчаянно скрипит. Христина взяла да и смазала ее машинным маслом. Входит Блисс к мастерицам и спрашивает — кто это сделал? Христина ему откровенно, не чуя беды, — я! Толстяк чуть не уволил ее. Дверь-то у него скрипит со дня основания предприятия. Она всем режет слух, и даже некоторые клиенты жаловались; Блисс ни за что не позволяет смазывать. Скрипит, — зато ни одна работница не выйдет из мастерской неслышно, не прогуляет, не обманет хозяина. Толстый, красноносый Блисс, с очками, сдвинутыми на мягкий, постоянно потный лоб, следит неотступно.
Мы посмеялись над хитростью Блисса и опять умолкли. И стали с нетерпением поглядывать на бабушку Марту.
Бабушка Марта пила кофе. Все уже кончили и перевернули чашки, а бабушка Марта всё еще пила. Она делала это так же истово, как молилась. Вот она положила в рот маленький кусочек сахара и степенно поднесла к губам свою чашку из толстого фаянса, расписанную синими цветами. Чуть приоткрыв губы, бабушка Марта отпивает кофе редкими глотками. Сахар она удерживает при этом кончиком языка, кофе проходит через сахар и становится сладким. Эта манера пить кофе давно вышла из моды и многим кажется смешной — во всяком случае, в городе. В городе у человека никогда не бывает времени, чтобы посидеть за столом лишних пять или десять минут. Однако из уважения к бабушке Марте никто не встает с места.
«Вечером мы все соберемся к ужину, и тогда авось будет повеселее, — подумал я. — Спорить с Эриком я больше не буду — он убедится и сам. И вообще ни звука о политике! Теперь вся семья собралась под одной крышей, — сказал я себе, — надо ее беречь. Это самое главное».
Но не так-то легко отделаться от политики. Вот уже, кажется, выбросил ее из головы, — она снова тут как тут. Как только бабушка Марта перевернула чашку и мы поднялись, я прошел за перегородку к Эрику и спросил:
— Вы соображали или нет, прежде чем лезть на рожон? Чего вы хотели добиться? Нильс сидит, Аста одна с ребенком. Достукались!
— Не все еще с нами, отец, — ответил Эрик. — Некоторые еще верят Скобе. Нильс пошел за нас в тюрьму, а Скобе раскатывает на машине да стрижет купоны со своих акций.
Мальчишка целит в меня. Острый у него язычок! Мне представилась редкостная машина Скобе, за которую он заплатил двенадцать тысяч. Первый раз в жизни я не нашелся, что? возразить Эрику.
— Много ты понимаешь! — сказал я. — Вот что, пользы мало чесать языком, для тебя есть работа.
И я сказал, что надо поставить трал на «Ориноко». И это еще не всё. Надо вытащить из сарайчика нашу старую ручную лебедку. Конечно, она пришла в ветхость. Попробуй, запусти ее — она заскрипит, как дверь у толстяка Блисса, а затем развалится к черту. Надо починить. И начать надо не мешкая, — каждую минуту можно ждать сигнала от Карлсона.
— Папа, ты не знаешь…
— Ну, что?
— Я не хотел сразу… Мне утром надо было быть на сборном пункте. Начинаются маневры и, видишь ли, допризывников тоже ставят под ружье на это время.
Как громом, ошеломила меня эта новость. Мальчишку под ружье! Наденут военную форму! Господи, вот еще беда! Наш Эрик — в казарме. Никогда не было в нашей семье военных. Избавил бог от военной службы и отца, и деда.
Первые минуты я ничего не мог выговорить. Сумерки, клубившиеся в комнате, словно стали сразу гуще. В них маячил Эрик — высокий, взрослый парень, похожий на Акселя.
— Утром? — сказал я наконец. — Господи, не обойдутся без тебя! Не говори бабушке Марте, — она умрет, если узнает.
22
Вот и попробуй удержать семью под одной крышей. Нет, никак не выходит. Теперь вмешались маневры. До сих пор в нашей местности никто и понятия не имел о них. Если их где-нибудь и устраивали, то сгоняли одних солдат. А теперь, видите ли, мало оказалось солдат, вызвали и зеленых юнцов вроде Эрика и, можете представить, даже девчонок. Да, я собственными глазами видел их: в юбках защитного цвета и в шапочках пирожком.
Говорят, к маневрам войск решили приурочить сборы допризывников и женских команд, чтобы получше их обучить. Маневры, говорят, будут похожи на настоящее сражение.
Кое-кому это нравится. Сын адвоката, сын владельца бойни Сандеберга и еще несколько лоботрясов промаршировали по улице Лютера на сборный пункт, горланя фашистскую песню. Полицейский не утихомирил их. Молодчики безобразничают уже не первый раз: еще в то воскресенье, когда Харт мутил горожанам головы в сквере, молодой Улоф Сандеберг швырнул камень в окно Нильса.
Вот что делается у нас в городе! Неужели и в других местах то же самое? Если так, то, значит, нигде нет спокойной жизни.
Так размышлял я, орудуя молотком и клещами во дворе. Я приводил в порядок лебедку трала. Иногда над головой с гулом проносились самолеты.
С тех пор как опять начал действовать аэродром Роммендаль, их шум нередко слышится в небе, а в дни маневров они стали летать еще назойливей.
Однажды ночью я проснулся от ужасающего грохота. За окном полыхало зарево, где-то рвались бомбы. Первая мысль, возникшая в мозгу, была: война! Сон слетел мгновенно, я подбежал к окну. Пристань, вода залива, темные горы, всё — то возникало, облитое кроваво-красным светом, то проглатывалось темнотой. Грохот шел со стороны острова Торн, шел медленно, далеко отставая от вспышек огня, и, проложив себе путь под морским дном, с силой ударял в берег, отчего наш дом вздрагивал.
Я погнал спать Христину и бабушку Марту, которая уже связала в узелок вещи и собиралась бежать в укрытие, но сам долго стоял у окна.
Давно уже ходили слухи, что остров Торн превратят в площадку для бомбежек. Летчики будут тренироваться, сбрасывая бомбы на остров Торн, кормивший сотни рыбаков. Но кто мог предположить, что начнут именно ночью. Кому пришло в голову будоражить народ! Почему непременно ночью?
Когда же они угомонятся? Но вспышки над Торном следовали одна за другой с неутихающей яростью, американские бомбы терзали и терзали нашу землю. Те самые бомбы, которые доставили к нам в начале лета, бомбы, которые у нас не хотели выгружать.
Проклятые бомбы! Они еще лежали в трюме парохода, бросившего якорь в порту, — и уже поссорили меня с Нильсом, разлучили с Эриком. Теперь эти бомбы рвутся на острове Торн.
Они падают далеко от меня, на пустую землю, и это не война, а только маневры — пусть так. Всё равно каждый удар болью отдается в сердце. Я вижу Акселя, Хильду, вижу гибель Сельдяной бухты, вижу с небывалой отчетливостью, — их словно освещают сполохи огня, бушующего на острове Торн. Неужели после всего, что вытерпели люди, после такой крови, таких мучений, — снова война? А ведь мы уже поверили в то, что тишина будет долгой. Проклятые бомбы! Они бьют и бьют по острову, и всё, что занимало меня в последние дни — контракт с Бибером, деньги, — вдруг показалось мне неверным и хрупким. В одну ночь всё это может быть сметено. Все наши заботы и мы сами, весь наш городишко.
Кому же это нужно, боже мой! Скобе говорит — виноваты русские; Нильс — что затевают войну американцы. В самом деле, у американцев, видно, немало охотников воевать. Но как разобраться в этом до конца? Как и прежде, я твержу себе: «Не ломай голову, Рагнар Ларсен, политика — не твоего ума дело, предоставь ее другим». Но это не приносит мне спокойствия сейчас, когда языки огня с острова Торн, кажется, охватывают дом, в котором я живу.
Не раз мои мысли обращались к Эрику. Где-то он теперь? Тоже, верно, не спит. Говорят, они должны устроить высадку десанта на остров.
Это еще всего-навсего игра, но и то страшно за Эрика. Не перестреляли бы мальчишки друг друга в темноте. Господи, неужели мне доведется провожать его на войну! Прошлая война отняла жену и старшего сына, а теперь хотят забрать у меня младшего.
Чем больше думал я об этом, тем страшнее становилось. Мысли начали путаться, и я словно попал в водоворот. Человек выбивается из сил, разгребает воду, старается выплыть, а в воде будто сотни невидимых рук хватают его и тянут, тянут в пучину. Беспомощно барахтается человек, ищет опоры. Скверное положение! Вот и мне теперь нужна опора. Еще недавно я бы, пожалуй, пошел к Скобе и спросил его: «Что же это делается на свете, будет ли у нас спокойная жизнь?» Но нет, послушаешь Арвида Скобе — и станет еще тревожнее на душе. Опять примется бранить русских. К кому же тогда? К Нильсу? Нильс воображает, что можно что-то сделать. Но что? Он пробовал, — чего достиг? Сидит в тюрьме.
Словом, я так много думал в ту ночь, что голова у меня разболелась и я почти не спал. Голова раскалывалась, как после попойки, когда утром я принялся за работу.
А как назло, дела еще было немало. Карлсон прислал распоряжение с посыльным: подать бот под погрузку к старой лесопилке, километров за двенадцать от города; срок — послезавтра.
Трал и лебедка почти готовы. Я установил их до обеда, а затем стал прибирать судно.
Когда я спустился в кубрик, то мне подумалось, что на стенке, над койкой Эрика, чего-то не хватает. Одно время здесь висели открытки Эрика. Он снял их перед тем как бот отошел к Биберу, и теперь стенка над койкой голая. Правда, чем меньше на судне лишних предметов, тем лучше, но теперь я почему-то не мог отделаться от ощущения пустоты в кубрике.
Если бы Эрик был со мной, он отыскал бы свои открытки и прикрепил бы их на прежнее место. Непременно!
На открытках, на фотографиях, вырезанных из журналов и наклеенных на картон, изображены страны, в которых Эрик мечтал побывать, когда станет взрослым моряком. Есть тут и тропические пальмы, и египетские пирамиды. Но главное место в уголке Эрика было отведено Советскому Союзу. Юсси Коринк, знакомый матрос с торгового парохода, ходивший в позапрошлом году в Ленинград, привез Эрику пять русских открыток.
«Почему бы не восстановить уголок Эрика, — подумал я. — Только вот вопрос — куда засунул Эрик свои сокровища? Скорее всего, в тумбочку. Если там нет, значит, в отведенном ему ящике комода».
Искать пришлось недолго. Хуже обстояло дело с кнопками — их я должен был пойти купить в лавочку в четырех кварталах от нас. Но надо же привести кубрик в божеский вид. Сперва я поместил было в центре египетские пирамиды, но они оказались явно не к месту. Нет уж, чем мудрить, лучше сделать так, как было у Эрика. А ка?к было — я помню прекрасно. В центре — Москва. Чем плох этот вид на Кремль, снятый с большой высоты, должно быть, с воздуха. Справа от Кремля я приколол вид московской площади с Мавзолеем Ленина, слева — улицу Ленинграда. Внизу поместил еще две русские открытки: на одной — собор в Ленинграде, а на другой — цветы. Да, обыкновенные полевые цветы. Не знаю, чем привлекла Юсси эта открытка. Должно быть, его поразило, что в России те же самые цветы, что у нас, есть даже иван-да-марья, который, говорят, бережет от дурного глаза. По бокам я прикрепил остальное: пирамиды, рощу финиковых пальм, набережную в Шанхае.
Я вдавливал кнопки, выравнивал открытки, и всё время у меня было такое чувство, словно Эрик стоит рядом и помогает мне.
23
В дни маневров что-то стряслось с диким Петером — смотрителем маяка Ялмарен.
Правда, люди и раньше стали замечать за ним некоторые странности. Когда на остров Торн и прилегающие к нему угодья явилась военная охрана и многие рыбаки, вытесненные оттуда, сделали остановку у маяка, дикий Петер обнаружил необычайный интерес к ним. Говорят, он ходил от одной группы моряков к другой и слушал. Давно он не видел на своем острове такой массы народа, и ему, верно, хотелось выяснить, что же привело их и почему они все так взбудоражены. Вот дикий Петер и вышагивал неторопливо по берегу, где разом заполнились все хижины и заполыхали костры; не здороваясь, задерживал свой взгляд на рыбаке, который разговаривал громче других. Внимание дикого Петера было мало кому приятно, нередко рыбаки умолкали при нем и к тому же иной раз грубовато спрашивали, что ему нужно. Всё это Петер, однако, сносил терпеливо. Передают, что под конец кто-то сжалился над ним, пригласил в хижину и даже попотчевал ухой.
Так или иначе, дикого Петера ввели в курс событий. А катера? с солдатами, шнырявшие мимо маяка, полеты разведчиков и, наконец, ночное нападение бомбардировщиков на остров Торн дополнили рассказы рыбаков.
Если оно в городе всех всполошило, то легко представить, что почувствовал дикий Петер в своей башне. Ведь он-то находился почти у самой мишени! Маяк, верно, покачивало, как дерево от порывов ветра, осыпалась штукатурка со старых, прокоптелых сводов. Если бы дикий Петер не был уже в какой-то мере подготовлен к происходящему, он, наверно, умер бы от страха.
Однако дикий Петер не умер, а, напротив, двигался в тот день с небывалой живостью. Чуть ли не у каждого рыбака, причалившего к маяку, Петер спрашивал: где шкипер Рагнар Ларсен, когда можно ждать его на Ялмарене.
Одним из этих рыбаков был старый Эркко. Только я улегся в постель, как он предстал передо мною, словно привидение, — скрюченный, в сером плаще с очень короткими рукавами, из которых вылезали худые, костлявые руки.
— Непременно побывай у дикого Петера, — сказал он. — Он очень хочет с тобой встретиться.
— Дикий Петер? — удивился я. — Никогда у меня с ним не было дел.
— Это ничего не значит, Рагнар, — умоляюще проговорил Эркко и оперся о спинку кровати.
Он тяжело дышал. «Должно быть, он спешил», — подумал я. И тут я понял, почему он спешил ко мне.
— Неужели насчет Акселя? — спросил я и спустил ноги с кровати.
— Кто его ведает. Мне сдается вот что: совесть у него пробудилась. Мы это заметили еще знаешь когда? У нас митинг был на Ялмарене…
— Слыхал, — вставил я. — Подвели Нильса под арест, вместо того, чтобы поспокойнее…
— Ты бы слышал, как Нильс говорил там, — продолжал Эркко, не обращая внимания на мои слова. — Эх, как он замечательно говорил! Как Скобе, заодно с американцами, обманывает народ, как настраивает против русских, в войну тянет нас. И смотрим — Петер стоит поодаль, глядит в сторону, как будто ему безразлично, но уши навострил всё же. Стоял до самого конца, пока все не разошлись.
— Ну и что с этого? — спросил я.
— Он очень встревожился тогда, как узнал, что опять пахнет войной. А тут еще бомбы! Я так понимаю — заговорила совесть, решился человек облегчить ее, хочет открыться тебе в чем-то. Он ведь при немцах еще служил на маяке. Рыбаки сразу так и решили: верно, знает что-нибудь про Акселя. Воля твоя, Рагнар, а я бы съездил к Петеру.
— Поеду, не уговаривай, — согласился я. — Слушай, Нильса навещать можно?
— Нет, пока не разрешают.
— Когда увидишь его, передай привет от меня. И скажи, нечего было шуметь, народ без работы не останется. Скажи, Ларсен уехал в экспедицию, добывать новые места для промыслов.
Я решил заехать на Ялмарен по дороге к старой лесопилке, и потому вышел в путь пораньше.
Дикий Петер ждал меня на берегу. Очевидно, он заметил «Ориноко» издали и вышел встречать. Высокая фигура дикого Петера неподвижно торчала среди зеленых, окутанных водорослями валунов. Рыжая куртка дикого Петера была на этот раз застегнута на все пуговицы и туго перетянута пояском. Сигаретка, зажатая в зубах, не дымилась. Он вынул ее изо рта и, против обыкновения, первый поздоровался со мной.
Потом он сунул сигаретку обратно в рот и с вызовом посмотрел на меня.
— Здравствуйте, господин смотритель, — ответил я.
Молча он повернул ко мне свою широкую спину и начал подниматься по откосу, усыпанному валунами. Я шел за ним и ждал, что он скажет. Но я слышал только хруст ракушек под нашими подошвами да шорох задетого сапогом можжевелового куста.
— Господин шкипер, — сказал он наконец. — У вас был сын по имени Аксель?
Ему что-то известно про Акселя! Да, это ясно. Я подумал, что в свое время дикий Петер услужил немцам тем, что отказался помочь нашим партизанам. Не от немцев ли дошло что-нибудь до Петера? Что могли гитлеровцы, контролировавшие маяк, рассказать Петеру, кроме того, что Аксель арестован и отправлен в концлагерь? Все эти мысли в один миг пронеслись в мозгу и, конечно, не породили доверия к дикому Петеру. Я ответил сухо и коротко:
— Совершенно верно.
— Я не из простого любопытства, господин шкипер, — сказал он.
— Хорошо. Что же вы хотите?
— Вашего сына держали в Штеттине? — спросил он. — Это верно, господин шкипер?
«А ты что делал в это время? — подумал я. — Подмигивал немцам своим фонарем?»
— В Штеттине, — кивнул я. — Но пока я, признаться, не понимаю, смотритель, почему вас это интересует?…
— А бежал он из Киля… — произнес дикий Петер тихо, как бы про себя.
— Что? Не понимаю. Как — бежал? Куда? Аксель бежал из лагеря? Понятия не имею. Стойте, объясните мне, что всё это значит, — сказал я и вытянул руку так, что он натолкнулся на нее, как на шлагбаум. — Когда Аксель бежал? Вы это всё — серьезно? Какого же черта вы молчали!
И тут я допустил неосторожность. Я забылся и вслух назвал его диким Петером.
Он отступил от меня на шаг и не сказал ни слова. Но в его глазах, красных от бессонницы, не было злости. Я не прочел в них решительно ничего. Он как будто весь ушел в себя, и я испугался: как теперь заставить его говорить?
— Я и теперь мог бы молчать, — проговорил он. — Бургомистр велел мне молчать.
Его лицо вдруг искривилось, и он выругался. Меня или бургомистра бранил дикий Петер — было неясно.
— Молчать о чем?
— Бургомистр прислал ко мне боцмана Лауриса, — сказал Петер, не обратив внимания на мой вопрос. — Бургомистр требует, чтобы я молчал.
Я вспомнил странную поездку Стига на маяк. Еще секунду назад мне казалось, что дикий Петер, может быть, просто-напросто не в своем уме и плетет что попало. Но Лаурис в самом деле хвастался какими-то поручениями доктора Скобе. При чем же тут Аксель? Ну, ладно, держись теперь, Петер. От меня не отделаешься. Я всё из тебя выжму, решил я. Если уж начал, — договаривай, дикий Петер.
Я еще не домыслил до конца, каким способом буду выжимать правду из Петера, как услышал:
— Всё равно меня здесь не будет. Пусть другие хоронят утопленников. С меня хватит.
Дикий Петер смотрел куда-то мимо меня. Он разговаривал теперь сам с собой, по привычке, укоренившейся за долгие годы одинокой жизни на маяке. Затем он двинулся дальше, и я последовал за ним, пытаясь уловить смысл отрывочных фраз, которые он бросал.
Перевалив через пригорок с чахлыми кустиками, прибитыми ветром к земле, мы спустились к берегу и шли по песчаной полосе, размытой приливами. Остров заканчивался здесь длинной косой, уходившей в открытое море. На ней лежали, распластав свои лапы, водоросли, принесенные волной, одни еще свежие, темно-зеленые, издававшие сырой сладковатый запах, другие пожелтевшие, обсохшие на солнце, рассыпавшиеся в труху. Но не только морская зелень скапливалась на косе, — сюда устремлялись сильные течения из водных пространств, и поэтому нет на острове лучшего места для сбора плавника. Остатки разбитых штормом кошелей леса, бочонок, скатившийся с палубы, поплавок от сети — всё это собиралось здесь, годное либо для костра, либо для постройки хижины. Иногда сюда заносило и утопленников, и Петеру приходилось рыть для них могилы. Коса постепенно погружалась в море, и острие ее указывало на остров Торн, видневшийся на горизонте.
Дикий Петер подвел меня к камню, лежавшему шагах в десяти от границы прилива, на возвышенности. Я думал, что Петер собирается сесть на эту глыбу синеватого гранита, усадить меня и выговориться. Но он остановился и сказал:
— Я должен был давно дать вам знать, шкипер. Я виноват перед вами.
В тоне дикого Петера было что-то совсем необычное, и я насторожился.
— Он здесь, — сказал Петер.
— Кто?
— Аксель Ларсен, — промолвил он.
Не помню, что я ответил. Кажется, я крикнул ему, что он лжет. Ноги мои вдруг ослабели, я, шатаясь, подступил к нему, схватил его за плечи, а он сжал мои руки. Он сжимал их всё сильнее и сильнее, — хватка у дикого Петера медвежья. Но я не выпускал его.
Если бы я мог привести в порядок то, что мелькало у меня в сознании в эти минуты, получилось бы вот что. Аксель, быть может, в самом деле бежал из лагеря, немцы его поймали на пути и убили тут, на острове. И дикий Петер был здесь в то время. И, возможно, не без участия дикого Петера гитлеровцы расправились с Акселем.
Физиономия Петера с глубоко запавшими, красными глазами стала мне ненавистной, и это чувство росло по мере того, как пальцы его впивались в кисти моих рук. Потом мы оба оттолкнулись друг от друга.
Холодный ветер обдавал меня, но дышать было нечем, совершенно нечем.
— Вы спятили, черт вас возьми, — проворчал он, и я понял, что мысли свои я в волнении произносил вслух. — Это было после оккупации.
Не сразу пришел я в себя. Не сразу вернулась ко мне способность трезво, хладнокровно воспринимать человеческую речь. Мы долго стояли у камня, мы долго шагали по песку, по звенящей гальке, по скрипучей жесткой траве, долго сидели на ржавом якоре, вросшем в берег, потом на груде плавника, — ибо невозможно было покорно и скоро взять на веру то, что говорил дикий Петер.
Если верить дикому Петеру, в самом конце войны, в апреле, к острову Ялмарен принесло изуродованную ладью и полумертвого человека, цеплявшегося за нее. Он назвал себя Акселем Ларсеном, сыном шкипера Рагнара из Сельдяной бухты. Несколько часов спустя Аксель умер. Петеру он успел сказать всего несколько слов. Из них можно было понять, что, когда русские подошли к Штеттину, гитлеровцы перегнали заключенных на запад, и они попали к американцам. Вместо того чтобы отпустить Акселя сейчас же на родину, они заперли его в свой лагерь для перемещенных. Оттуда Аксель бежал, в него стреляли… Больше ничего он не смог сказать. У него было заражение крови от раны, и спасти его не было никакой возможности, — по крайней мере, так уверяет Петер.
Петер похоронил его, положил на том месте камень и никому ничего не сказал. Гитлеровцев на острове уже не было, они удрали с нашей земли, и не они помешали Петеру подать мне весть.
Однако он боялся. Не так-то легко взрослому мужчине сознаться в своей трусости, но он сознался, и от этого я почувствовал доверие к нему.
Он жил под проклятием страха. Он трепетал перед немцами, — и оттого не решился выполнить задание партизан. Обманув их, он стал бояться не только оккупантов, но и своих соотечественников. Его презирали, — он забился в свою нору, озлобился.
Пока Аксель еще дышал, Петер не мог его оставить. А потом он побоялся сказать. Он решил, что ему могут не поверить и, мало того, заподозрят дурное.
Недавно ему еще прибавили страха. Прибыл Стиг Лаурис — посланец бургомистра, велел ни в коем случае не разглашать, ка?к погиб Аксель, и ссылался на государственные соображения. Дескать, случай этот — если он получит широкую огласку — подорвет симпатии к союзникам. Ка?к дознался бургомистр, — дикий Петер может только догадываться. Не иначе, как через пастора Визелиуса, которому Петер открылся на исповеди.
— Хотят воевать с русскими, — сказал Петер. — Вот к чему всё идет. Как разделали остров Торн! Я думал, наш Ялмарен расколется и пойдет ко дну. Опять будут утопленники, — он дернулся и с ужасом посмотрел на меня. — Их негде больше закапывать, шкипер! И так везде… Под каждым камнем. Тут кладбище, — он стукнул каблуком в сухую землю. — Крестов нет только. На камнях ничего не написано. Лежат так. Я уйду отсюда, шкипер. Я сказал вам всё…
С усилием произнося слова, дикий Петер шевелил пальцами, точно развязывал невидимые узлы — тугие, намокшие узлы — жилистыми, заскорузлыми пальцами.
— Я сказал вам всё — повторил он, — чтобы не считали меня… — он запнулся, с напряжением развязывая новый узел, самый непослушный. — У Петера есть еще совесть. Пусть от вас это пойдет дальше, пусть выгонят меня отсюда… Что еще сделает со мной бургомистр? — выкрикнул он и рванул ворот рубашки. — Что?
— Не беспокойся, — сказал я, не чувствуя к дикому Петеру ни ненависти, ни недоверия. — Больше ничего не сделает.
Так вот она — правда об Акселе. Она должна была выйти наружу, и я знал, что она будет суровой: к тому, что его нет в живых, я приготовился давно. Но как неожиданно она открылась — правда об Акселе! И как страшна она, как грозна для тех, кому я еще недавно верил!
24
Как в тумане, двигались передо мной люди с ящиками и тюками, складывали их на палубе, распаковывали, раскуривали потухавшие на ветру сигареты. Меня то и дело звали в кубрик, на мостик или на пристань, я что-то объяснял им, показывал. Размахивая руками, носился Карлсон и покрикивал на рабочих. Он был чем-то очень обеспокоен, и до меня не сразу дошло, что в багаже есть стеклянная посуда и Карлсон боится, как бы ее не переколотили.
Всё, всё было словно в тумане.
Не могу сказать, как долго шла погрузка. Час, а может быть, два, три. Иногда мне казалось, что я всё еще иду вслед за диким Петером по песчаной косе острова Ялмарен или сижу у могилы Акселя.
Вдруг наступила тишина. Прекратился грохот ящиков, стук каблуков. Рабочие схлынули куда-то. Карлсон жал мою руку своей мягкой, потной рукой и говорил:
— Отлично, шкипер! Как вы догадались? Отлично! На исследовательском судне должен быть трал. Я позабыл вас предупредить, а вы сами… Всё в порядке, шкипер. А выставка внизу, очевидно, забава вашего мальчика?
— Так точно, господин Карлсон, — ответил я.
— Вообще, на таком судне не должно быть ничего лишнего, шкипер.
В другой раз я, может быть, спросил бы Карлсона, откуда ему известно про Эрика. Но я ничего не сказал и не удивился.
Карлсон заявил, что он отлучится часа на два по делам, и повернулся, чтобы уйти. Я удержал его, мне нужно было знать, когда мы выходим и куда. Однако он торопился и ничего не объяснил мне, только бросил:
— Ждите меня, шкипер. На судно никого не пускайте.
Но я опять остановил его.
— Извините меня, господин Карлсон, — сказал я. — Но если придет ваш лаборант? Как его зовут? Не было бы каких недоразумений.
— Ничего, не беспокойся, шкипер, — проговорил Карлсон и дернулся от нетерпения.
Он запахнул плащ и рысцой сбежал со сходен. Со мной на «Ориноко» остался только моторист — низенький человечек в кепке, надвинутой на лоб.
— Эй, шкипер, — крикнул он, высунувшись из люка, — подсоби-ка мне.
Теперь я мог разглядеть его получше. Очень бледная, нездоровая кожа на лице, резкие складки на лбу делали его старше своих лет. На самом деле ему не больше тридцати. И никто не дал ему права обращаться ко мне как к равному.
— Прежде всего напомните мне, как вас зовут, — сказал я с ударением на «вы». — Познакомили нас в такой суматохе… Ханс, если не ошибаюсь?
— Да, Ханс Тинг, — ответил человечек угрюмо, не поднимая глаз.
— Откуда вы родом?
— Из Сулидена.
Так я и думал. Неотесанный, грубый народ в Сулидене. До сих пор не научились произносить простое слово — «вы». Тычут всех подряд. Ну, поблажки не дам. Пусть попробует еще раз.
Я нагнулся. Возле мотора лежали запасные части, доставленные Карлсоном, в том числе даже ходовой винт. Я поднял винт, ощутил его тяжесть, и снова возник передо мною камень на пустынной косе, у маяка. Камень на том месте, где похоронен Аксель.
Ханс из Сулидена заставил меня очнуться. Молча он взял у меня винт, приставил к стенке, и я закрепил его. С полчаса мы закрепляли крупные детали, и моторист всё это время не издал ни звука. Затем он сказал:
— С остальными я сам управлюсь.
Но я не ушел. Руки требовали работы. Они не хотели отдыхать, ни за что не хотели. Однако какой запас деталей мы берем в плавание! Карлсон позаботился обо всем. Такого набора хватит на целый год. Похоже — Карлсон неплохой хозяин, только уж больно суетлив, убежал и не сказал ничего. А я спрашивал у него то, что шкипер обязан знать наперед. Если переход предстоит дальний, значит, надо иметь побольше пресной воды. И задраить надо везде поплотнее.
Последние соображения я выговорил вслух, и моторист тихо, как бы про себя, отозвался:
— Вопросов он не любит.
— Да, верно. Всякие бывают люди, — сказал я. — Всякие люди, всякие.
Конец фразы я почти выкрикнул. Мне представились Арвид Скобе, Стиг Лаурис, Харт. Кулаки у меня сжались. И тут я увидел глаза Ханса из Сулидена, — темно-серые, глубоко запавшие. В них светился испуг.
— Карлсон не любит вопросов? — переспросил я. — Вы давно с ним?
— Нет, недавно.
Глаза Ханса из Сулидена исчезли под опущенными веками, лицо его приняло прежнее замкнутое, равнодушное, сонное выражение.
— Кто он такой? Лиценциат или профессор? Вряд ли дорос до профессора.
Моторист, вместо ответа, усмехнулся и начал вытирать руки. Вытирал он долго, с усилием, словно пытался открутить себе пальцы. Улыбка застыла на его губах.
— Что смеетесь? — сказал я. — Конечно, я сам не очень-то сведущ в науке. Может, он написал уйму книг. Не спорю.
— Вы что, первый раз у него?
— С ним не приходилось. А вообще я плавал с экспедициями.
— Значит, имеете понятие.
— Да.
— Не меньше, чем я, разбираетесь, — сказал моторист с непонятным укором, точно я расспрашиваю его о том, что мне самому великолепно должно быть известно.
Попробуй выжать из него что-нибудь! Продолжать этот никчемный разговор у меня не было никакой охоты, и я поднялся в рубку покурить.
Не знаю, сколько я просидел там, наедине со своими мыслями. Стемнело, когда явился Карлсон.
Он позвал меня в кубрик и развернул карту. Пятерня его задержалась у Хагена — километрах в пятидесяти от нас, к югу. Там мы примем на борт лаборанта. Оттуда наш маршрут протянется еще дальше к юго-востоку.
Подвинув мне карту, Карлсон скинул пиджак и велел подать стакан воды.
Он мог отлично сам налить себе воды, для этого нужно было встать и сделать шаг к баку, стоящему в углу. Или Карлсон считает, что шкипер будет и лакеем для него? Но я решил простить ему бестактность для первого раза.
Он сунул в рот пальцы, вынул челюсть и опустил ее в стакан. Лицо Карлсона обмякло, щеки провалились. Пробормотав что-то, он повернулся к стенке и скоро захрапел.
Там, где он провел своей пятерней, я должен теперь проложить курс, — мимо зубчатых берегов, вдоль узких проливов, среди множества островов и банок, где, бывало, профессор Бамберг ночь не спал, разбирая живность, захваченную тралом, и разглядывая в микроскоп крохотных рачков. На тех банках — на пути к Хагену — всегда кормится сельдь, и странно, что с нами не будет лаборанта в это время.
Однако я недолго раздумывал, что? за человек лежит около меня в кубрике «Ориноко», выставив из-под одеяла ногу в синем носке. Способность ясно воспринимать окружающее не вернулась ко мне. Я не покидал Ялмарена, песчаной, исхлестанной приливами косы с могильным камнем.
Вышли мы в море на рассвете. Часов в девять мы были на тех самых рыбных местах, которые так интересовали профессора Бамберга. Карлсон еще спал, ящик с приборами, корзина со стеклянной посудой оставались нераспакованными. Я спрашивал себя, не разбудить ли Карлсона, но вскоре он появился на палубе. Он стоял, запрятав руки в карманы, и зевал. Бот слегка качнуло, и Карлсон уцепился за такелаж и выругался, да, выругался, и не по-нашему, а точно так, как выражаются пьяные американские матросы в заведении Стига Лауриса.
Я решил всё же напомнить ему, какие золотые места мы проезжаем, и в ответ услышал:
— Да, да, Ларсен. Ты хочешь, чтобы всё было так, как при твоем профессоре, как его… Не беспокойся, успеем расставить банки и склянки.
Не понял я его. О себе я пекусь, что ли? Но по всему видно было, что за разъяснениями к Карлсону нет смысла обращаться. Морская поездка плохо повлияла на него. Вчера он держал себя более солидно.
Улучив удобную минуту, я вызвал в рубку моториста Ханса из Сулидена.
— Слушайте, Ханс, — начал я. — Вы плавали с ним однажды, с Карлсоном. Сдается мне — не очень он похож на ученого. Как вы находите, а?
— Как тебе сказать, шкипер, — промолвил он нехотя. — Ты тоже имел дело с такими… экспедициями. Что же тебя удивляет, в таком случае?
Он опять тыкал меня, но теперь, после ругани Карлсона, «ты» в устах Ханса показалось мне уже не столь обидным.
— Вот что, Ханс, нечего играть со мной в прятки, — отозвался я. — Я плавал с профессором, с умнейшим человеком. Не чета этому Карлсону.
— Я не спорю. Может, профессор по-настоящему занимался наукой.
— Чудак, спорить нечего. Разумеется, по-настоящему. Да вот, на тех отмелях…
И я стал вспоминать вслух, как мы ходили с тралом, измеряли температуру воды на разных глубинах, как Бамберг определял возраст рыб по кольцам на чешуе — словно по срезу дерева, и вообще, как много интересного я узнавал каждый день.
— Нет, тут совсем другое, — сказал Ханс, помедлив. — Во-первых, он вовсе не занимается рыбой.
— Как так?
— Он из фирмы «Атлантик компани». Американская фирма. И сам он ихний подданный, только в прошлом году приехал к нам.
— Ханс, так что же это! — крикнул я и схватил его за плечи: — И тут янки!
— Тише, тише шкипер, — проговорил он пятясь. — Что с тобой?
— Американская фирма? Не рыбная? Не наша? Так какая же, Ханс? Чем они занимаются?
— Мое дело маленькое, шкипер, — ответил Ханс, помедлив. — Мотористу ведь не докладывают — куда и зачем. Они глубины меряют, поднимают со дна ил и прочее, — это я видел. Но рыба им ни к чему. Разве к завтраку…
Я не спрашивал Ханса больше. Ясно одно — и тут обман. Раз им понадобилось врать насчет разведки рыбных мест, стало быть, прячут недоброе дело.
Сказав себе это, я не почувствовал удивления. Напротив, я как будто ожидал чего-нибудь в таком роде. Всё шло к этому. Теперь мне странно, как я не догадался раньше, когда получал бот из ремонта или когда сидел в машине Скобе, или когда ставил свою подпись под контрактом. Две тысячи! Да, прав Эрик — такие деньги не достались бы честным путем. Смотри теперь, Рагнар Ларсен, к кому ты нанялся, куда завела тебя твоя дурацкая доверчивость.
Длинный гвоздь торчал из стенки, вбитый для того, чтобы вешать плащ. Я протянул руку, крепко, со злостью схватил гвоздь и вытащил его. Затем я согнул его пополам. Острый край шляпки больно впился в ладонь, но я всё-таки согнул его, а затем стал разгибать. Приложив его к стенке, я стал бить кулаком, пока толстый железный гвоздь не выпрямился. Тогда я вогнал его в дерево ударами кулака.
После этого я вынул платок и вытер кровь, выступившую на руке, Ханс смотрел на меня и молчал.
— Черт их ведает, — заговорил он тихо. — Я понятия не имею. Тебе Карлсон сплел про научную экспедицию, а мне он ровно ничего не сообщил. Конечно, мое дело маленькое. Аванс получил, и помалкивай.
Последние фразы он произнес с некоторой обидой. С обидой на то, что его, моториста, держат в неведении.
— Хорошее дело незачем скрывать, Ханс из Сулидена, — сказал я. — А они скрывают. Понял? Друзья наши! — вспомнил я вслух слова Скобе. — Избави бог от таких друзей.
Я выразился бы покрепче, да не знал — можно ли вполне довериться Хансу. Нет, лучше сперва размыслить про себя. Что же ты намерен делать, Рагнар Ларсен?
Служить американцам ты не станешь, это ясно, как дважды два четыре. Ты не позволишь Карлсону командовать собой — мистеру Карлсону, прибывшему ловить рыбку в мутной воде. Нет, ты бросишь ему в физиономию деньги и уйдешь. Вот уже чернеет вдали мыс Хаген с полосатым маяком, за мысом через полчаса откроется город Хаген. Там ты и распрощаешься с проклятым янки. Но тут во мне заговорил другой голос.
Не слишком ли просто получается у тебя, Рагнар Ларсен, сказал этот голос; вернуть деньги не штука, тем более, что они у тебя почти все целы. Но этого, пожалуй, мало. Карлсон наймет другого шкипера, только и всего. И будет командовать на твоем корабле, поганить его. И будет творить свои темные дела. Можешь ли ты расстаться с ним так мирно? Подумай над этим вопросом, — он ведь касается не одного тебя.
И тут первый голос — прежнего Ларсена — умолк во мне. И я сказал себе, что прежде всего выясню, с какой целью пожаловал в наше море мистер Карлсон — непрошеный гость. Разберусь до конца, в какую паутину меня запутали. А там будет виднее, как поступить.
Пытливо, настороженно поглядывает на меня Ханс из Сулидена. Но подожди, Ханс, я еще слишком мало знаком с тобой. Ты хочешь, чтобы я открыл тебе, что? бродит в моей голове? Нет, рановато, пожалуй. И я сказал нарочно:
— Ничего не попишешь, Ханс. Авансы мы с тобой взяли, значит, Карлсон над нами хозяин.
Около полудня мы встали на якорь в Хагене. На судно вошел долговязый мужчина в сером плаще, доходившем до колен. Я сразу же узнал этого человека. Передо мной был Гейнц Янзе, бывший боцман с биберовского траулера, нацист Гейнц Янзе.
25
Смотри, Ларсен! Вот до какого позора ты дожил. Они расположились на твоем корабле, как у себя дома. Куда ни глянешь в кубрике, всюду их бутылки, банки из-под консервов, набитые вонючими окурками. Раскидали свои лезвия для бритья, кисточки с запекшимся мылом, пропотевшие воротнички. Янзе лежит в одном белье, свесив с койки босые ноги, — он выпил, и ему жарко. Как они пакостят всё, к чему прикасаются. Ждут, верно, что я буду убирать за ними.
Карлсон сидит в расстегнутой рубашке и покрывает листок тетрадки столбиками цифр.
— Я потревожу вас, господин Карлсон, — начал я. — Прошу вас ответить мне. Не привык я работать в потемках. Если я взялся за какую-нибудь работу, господин Карлсон, то я должен знать, в чем ее смысл.
— Ах вот как, шкипер, — говорит Карлсон, отрываясь от тетрадки. — Тебе не терпится, чтобы всё было, как у твоего профессора… как его… Не беспокойся, шкипер. Завтра же расставим приборы.
Дряблые губы Карлсона изображают что-то похожее на усмешку. Он издевается надо мной.
«Руки назад, Ларсен, — приказываю я себе. Немедленно назад, за спину, чтобы не видно было, как хочется тебе двинуть в морду того и другого. Господи, как трудно сдержаться! Но это необходимо».
— Прошу вас разъяснить мне характер работы, — говорю я раздельно — Иначе, господин Карлсон, я не смогу вам быть полезен.
Карлсон опешил. Правда, он пытался скрыть это, выпрямился и даже застегнул рубашку на все пуговицы, но я отлично заметил, что он смутился и обдумывает, как быть со мной. Прогнать шкипера Ларсена на берег он, как видно, не склонен. Янзе, приподнявшись на койке, пробормотал:
— Ему не нравится наша компания.
— Помолчи, — бросил ему Карлсон и ударил носком ботинка в голую ступню. — Мы с вами, господин Ларсен, — сказал он, поворачиваясь ко мне, — не будем ссориться.
«Эге, да он сбавил тон, — подумал я. — Ладно, посмотрим, что дальше…».
— Согласен с вами, — сказал Карлсон еще тверже. — Не будем играть в прятки. Вы ведь не красный, — так меня уверяли. Если так, то вы должны понять. Да, Ларсен, вы поймете, что наша работа поважнее, чем рыскать за селедкой. Америка выступит, наконец, против большевиков. У вас как будто нет оснований симпатизировать русским, не так ли, Ларсен? Меня уверяли, что вы надежный человек. Вот некоторым вашим знакомым я бы не доверял, — например бывшему почтальону Пелле. Я потому вам и не сказал всего тогда, — в кабинете у Бибера. Одно слово, оброненное при Пелле или при вашем мальчике, может наделать кучу неприятностей. Суть в том, Ларсен, что наша работа — запомните это хорошенько — совершенно секретная. Специальность нашей фирмы — морские сооружения: портовые устройства, доки, укрытия для кораблей. У вас тут в бухтах, среди островов, замечательные места имеются. Подводную лодку, торпедный катер можно держать наготове так, что пройдете мимо — и ничего не заподозрите. Надобно обследовать эти места, прощупать удобные фарватеры. Понятно вам?
— Еще бы не понятно, — сказал я как можно хладнокровней. — Все говорят, что будет война. Ничего секретного, по моему разумению, тут нет.
Пусть они думают, что перед ними прежний Ларсен. Прежний растяпа Ларсен. Буду держаться этой роли до поры до времени, чтобы выведать побольше.
— Конечно, для нас с вами это не секрет, — согласился Карлсон. — Но для людей недальновидных… Могут пойти кривотолки среди рыбаков. Тем более, что работать мы будем как раз в промысловых районах.
«И это понятно, — подумал я. — Понятно, зачем мы должны выдавать себя за научную экспедицию. Честным рыбакам вы боитесь сказать, господин Карлсон, чем вы заняты. Мало вам острова Торн. Вам нужны еще острова. Вы отнимаете наш хлеб, мистер Карлсон. И что вы даете взамен? Войну».
— Повторяю, — продолжал между тем Карлсон, — язык держать за зубами! Вы не прогадаете, если зарекомендуете себя у нас соответствующим образом, шкипер. На оплату вы пожаловаться не можете. А нам нужен такой человек, как вы. И судно такого типа, мелкосидящее, устойчивое судно, да еще опытный моряк за штурвалом… В здешних фарватерах сам дьявол хвост потеряет.
«А мы разве просили вас лезть сюда, господин Карлсон?» — подумал я. Но сказал так:
— Передо мной теперь всё раскрылось; благодарю вас. Я вижу теперь, что? представляет собой ваша фирма.
— Вопросов нет больше?
— Никак нет, господин Карлсон.
Некоторое время он смотрел на меня своими водянистыми глазами, а затем кивнул:
— Ступай.
Господи, сколько надо сил, чтобы сдержать себя!
Я возвращаюсь в рубку. Здесь мне легче дышать. Легче, потому что моя рука на штурвале.
Я не боюсь вас, Карлсон. Я сильнее вас — я веду корабль. Вы воображаете, что я в вашей шайке. Не стану разубеждать вас пока. А откровенность ваша мне как нельзя более кстати, — сейчас уже более отчетливо рисуется в голове, как надо действовать.
Мы выходим из Хагена. Из воды торчат скалы, изъеденные дождями и ветром, похожие на гнилые зубы. Ветер налетает короткими порывами, сбивает пену с острых, злых волн, не дает им донести ее, швырнуть в борт судна.
Линия горизонта еще резкая, небо над ней почти везде чистое, только в одном месте выползают маленькие облачка и мчатся навстречу. Плотные, с рваными краями, они несут весть о перемене погоды. Что ж, не беда. Штормы в августе хоть свирепы, но коротки. Они не расстроят моих намерений.
— Шкипер, — шепчет моторист Ханс, втиснувшийся ко мне. — Слушай, какая история: Карлсон вызвал меня…
Оказывается, Карлсон велел мотористу наблюдать за мной, доносить о моих настроениях.
— Не удивляюсь, — сказал я. — Им каждый честный человек страшен. О чем еще с тобой толковали?
— Больше ни о чем. Да, когда я вошел, они спорили, и Карлсон здорово наседал на длинного. «Вы, — говорит, — будете кричать «хайль» президенту Трумэну». Кто этот длинный? Немец, что ли?
— Голландец, как будто. Значения не имеет. Думаешь, он Голландию свою не продаст Трумэну? Продаст в любой момент.
Я рассказал мотористу всё, что знал о Янзе. О его похождениях в качестве штрейкбрехера, о том, как он, сидя в «Веселом лососе», грозился, что еще побывает в России и отомстит русским. И как он удрал из города, когда люди разобрались, что? он за птица.
— А теперь его наняли американцы, — сказал я. — И выходит, как ни поверни, с какой стороны ни посмотри, — кто русским враг, тот и нам враг.
Нелегко далась мне эта истина. Но теперь я уразумел ее. Чем больше я размышляю о том, что? произошло со мной, тем глубже она вбивается в голову. Да, у нас, простых людей, и у русских враги одни и те же. Я не попал бы в ловушку к Карлсону, если бы знал это раньше. Но уж теперь я чувствую, как эта истина впитывается в самую кровь мою, бежит по жилам, входит в мускулы, становится как бы частью моего существа.
Однако для Ханса из Сулидена вывод мой оказался не таким ясным. Он пожал плечами:
— Я плохо разбираюсь в политике, шкипер.
— И я тоже, — ответил я. — Но политика бывает разная, хорошая и плохая.
Так произнес я, сам того не ожидая, слова Нильса. Ну да, слова Нильса, дошедшие ко мне через Пелле-почтальона.
Однако не слишком ли я разоткровенничался с Хансом из Сулидена.
— Задраить как следует люк, — говорю я ему, — закрепить жестянки с горючим, а то море начнет нас бросать, они слетят и покатятся тебе под ноги.
И вот я опять один в рубке. Темнеет быстро. В последних отблесках солнца, потонувшего на западе, летят и летят облачка. Они несутся по чистому, холодеющему небу как стайка буревестников. Их становится всё больше, и, наверное, они затянут до рассвета весь небосвод. Проплыл мимо, перерезав мне путь, торговый пароход — глыба с редкими светляками. Видно, как ветер рвет его флаг, на котором уже нельзя различить цвета. Дым плотной, тяжелой гущей выливается из-трубы, спадает со спардека, с кормы и стелется над самой водой. Это верный признак шторма: отяжелевший, придавленный к воде дым. В сыром воздухе тускнеет блеск маяков, они тоже предупреждают меня о наступающей буре.
Бот движется в небольшом пространстве света, отбрасываемого фонарем. Смутно видно, как нос раскалывает вал, выбегающий из тьмы, гонит перед собой волну, как она сталкивается с новым валом, — и тогда две волны, налетев друг на друга, в ярости лезут кверху и кончают свою борьбу на палубе «Ориноко», в обвале кипящей, сплетающейся пены.
Черна ночь, но вдали мерцает крохотный огонек. Я веду бот на него: огонек делается больше, ярче. Я приближаюсь к нему до тех пор, пока справа, из-за острова, не вынырнет другой маяк, — и тут не зевай, немедля перекладывай руль, бери вправо. Наперекор ночи, бесконечной чередой развертываются путеводные огни. Они словно висят в густой мгле. Вот маяк Слите, загорающийся лениво, медленно — два раза в минуту. Вот деловитый Йоран, отсчитывающий короткие вспышки каждые десять секунд, а там резвая Уктуна, которая сыплет своими искорками почти без передышки. Выходите, показывайте мне дорогу! Ваш язык давно понятен мне, я заучил его наизусть. «Не подходи ко мне, — тревожится Уктуна, — здесь Кошачьи рифы, погубившие не одно судно». Но я вижу ясно. Я иду к маяку Онгеруд, выросшему слева, на лесистом мысу, и Кошачьи рифы — острые каменные когти — остались позади.
Пролив расширяется, острова с огнями маяков отодвигаются в сторону, и курс теперь прямой. Но зато еще крепче ветер на просторе. Всё сильнее колотит он в стекло рубки, гнет мачту, натягивает такелаж. Всю ночь «Ориноко» пробивается сквозь жестокий шторм.
Янзе, зеленый от качки и от выпитого виски, окликает меня сзади. Ноги плохо держат его, он обеими руками вцепился в дверь.
— Шкипер, ч-черт тебя подери, — мямлит он. — Куда нас несет? Нельзя встать где-нибудь, переждать? Слышишь ты, шкипер?
— Никак нет, господин Янзе, — отвечаю я, сдерживая злость, поднявшуюся во мне при виде этой рожи. — Негде бросить якорь. Ни одной удобной гавани. Надо потерпеть.
Вслед за ним показывается Карлсон. Он пытается повысить голос, но только шипенье вырывается из его помятых губ. И для него ответ у меня тот же. Нет, «Ориноко» не сойдет с курса.
Скрипя всеми своими суставами, взбирается бот на хребты моря, — то нос вздыблен к небу, и вода каскадами бежит по палубе к корме, то взлетает корма, и винт начинает вдруг вертеться вхолостую. Кто увидите берега топовый огонь рыболовного бота, тот, верно, подумает: «С ума сошел рыбак, что? он болтается в море в этакую непогодь, давно пора ему быть дома». Тревожно перемигиваясь, провожают меня далекие маяки. Пусть как следует потреплет шторм непрошеных гостей, расположившихся на моем корабле, пусть вытрясет из них душу, — попеняют на себя, что сунулись к нам. А для «Ориноко» не опасен короткий августовский шторм. Утром он утихомирится. Мы тогда будем опять в крае островов. Карлсон отметил их кружком на карте, он намерен начать там свои промеры, — но не все сложится по его желанию. Именно там, в рыбацком крае, где идет промысел селедки и трески, поговорю я с мистером Карлсоном начистоту. И при свидетелях.
Задувай же, ветер, громозди волны — всё равно ты не заставишь меня сойти с курса, спрятаться под защиту бухты. Не будет для меня покоя, пока я не сделаю того, что велит моя совесть.
26
— Тихий ход, Ханс!
Отдав команду, я переложил руль. Бот качнуло на невысокой, голубой волне, и переговорная трубка вдавилась мне в подбородок. Я увидел вдали косогор, покрытый пятнами зелени, и между ними в одном месте — деревянный домик с оцинкованной крышей. С косогора волнами сползал утренний туман. Всё это я увидел, потому что зрение у меня в эту минуту обострилось до крайности.
Косогор только что был по левому борту, но теперь суша стеной выросла впереди.
Передо мной, метров трехсот не доходя до берега, беснуются буруны. Здесь каменная банка. Взгляд едва прощупывает ее сквозь пену. Вон рыбацкий бот обходит камни. Но я не поворачиваю штурвал. Прямо на камни веду я «Ориноко».
Ветер встречный, с суши, как я и ожидал. Ветер — союзник мой: он не толкает меня в корму, чтобы с силой бросить на камни, а, напротив, дует в лицо, и, значит, я могу всецело положиться на руль и мотор.
— Самый тихий ход, Ханс, самый тихий!
Прямо на камни, на гряды гранита, исхлестанные бурунами, веду я свой бот. Ну, держись, «Ориноко»! Не подведи меня. Ты молодцом выдержал ночное испытание — должен вынести и это. Я верю в тебя, мой корабль.
Вот уже близко! Можно пересчитать, сколько блестящих, округленных прибоем вершин высовывает из воды каменная банка. Раскачивается бревно, измочаленное прошедшим штормом. Держись, «Ориноко!» Покажи, сколько у тебя осталось сил. Не выпуская штурвала, я одной рукой хватаю переговорную трубку, подтягиваюсь к ней и кричу:
— Самый тихий ход, Ханс! Самый тихий, и всё будет в порядке. Слушай меня, Ханс!
Еще миг — и «Ориноко» коснулся дна. Киль, скрежеща, проехал по камням, но не остановился: мутная волна подхватила его, пронесла немного дальше. Она несла его, как мне показалось, очень медленно. Я успел заметить, что из расщепленного бревна торчит загнутый гвоздь, а рядом, на той же волне, лежит обруч от бочонка. И тут раздался второй удар о днище.
Корпус «Ориноко» трещит, как скорлупа, — так стиснули его каменные клещи. Он еще сопротивляется, бедняга «Ориноко», рвется вперед, но клещи сжимаются, и весь корпус корабля стонет от боли. Сзади накатываются валы, молотят в корму. Но вот корабль затих, перестал стонать, и волны, плещущие в корму, не колеблют его больше. Всё в порядке, старина! Кажется, я рассчитал удачно. Теперь стой, спокойно стой на месте, верный мой «Ориноко». Ты увидишь, как сойдутся сюда со всех сторон рыбацкие суда, — к нам на помощь. У меня лежит на полке, над штурвалом, сигнальный флаг бедствия, но разворачивать его, верно, не придется, рыбаки и так увидят, что мы попали на камни, и соберутся все, сколько их есть в этой бухте: ведь каждому лестно подать руку помощи Рагнару Ларсену и его славному «Ориноко».
Вот уже один — тот, что при мне обходил банку, — направляется сюда. Идут, идут сюда! Нужды нет, что я встречаюсь с ними впервые в жизни, — они такие же рыбаки, как и я, и мы поймем друг друга.
Смертельно бледный Карлсон вылез из кубрика. Не сразу сообразил я, что он надевает на себя спасательные пояса, — все четыре сразу. Пояса, запасенные на весь экипаж. Карлсон с бранью оттолкнул нациста, цеплявшегося сзади. Янзе отшатнулся, — Карлсон двинул его ногой в живот.
— Тихо! — заорал я. — Эй, вы — Атлантик компани! Тихо! Расшумелись тут!
Это отрезвило их.
— Бросьте их, — приказал я Карлсону, указывая на пояса. — Не валяйте дурака.
Неплохо, если бы он прыгнул с борта на камни. Туда и дорога. Но, значит, не догорела ваша свеча, мистер Карлсон, ваша паршивая сальная свечка.
Пояса падали на палубу. Он отвязывал их с трудом, а последний так и не мог отвязать. Пальцы его дрожали, как у вора, пойманного с поличным. А Янзе визгливо засмеялся и сел на палубу, поджав длинные ноги.
Идут рыбаки, идут на выручку. На первом боте уже разматывают трос и хотят кинуть мне конец. А вот еще бот и еще. Знаками я даю понять бородатому шкиперу с концом троса в руке, чтобы он подошел еще ближе, — пока позволяет глубина. Сложив ладони рупором, я зову их всех:
— Ближе ко мне, братцы! Ближе!
Сейчас я скажу им. Конечно, если бы здесь был Нильс Эбергард, он сумел бы куда лучше произнести речь. Не мастер я говорить и многого еще не понимаю в том, что происходит вокруг, но главное, кажется, понял. Не нужно только спешить, — вон еще три судна подплывают сюда. Мачта за мачтой вырастают передо мной. Небось, диву даются рыбаки, ка?к могло случиться, что Рагнар Ларсен угодил на банку среди бела дня. Сейчас я скажу вам. Вы поймете, друзья, что у меня не было другого способа собрать вас, собрать без помех со стороны моих пассажиров, и начать с вами беседу. Вы поймете и другое: уж если Рагнар Ларсен не пожалел свой знаменитый бот, чтобы созвать людей, значит, причина очень серьезная. Вы узна?ете, кто эти два дрожащие, жалкие существа у меня на палубе, узна?ете, что? им нужно здесь и кто? их послал. Вы узна?ете всё.
Слушайте меня, друзья! Выходите из кубриков, из моторных отсеков! Нас много, и если мы все будем действовать дружно, то сможем постоять за себя, защитить свою родную страну, свой хлеб насущный, своих сыновей.
1
Складывать манатки (нем.).
(обратно)2
Не имею понятия! (Нем.).
(обратно)3
Проклятье! (Нем.).
(обратно)4
Внимание! Внимание! (Нем.).
(обратно)5
Внимание, внимание! Говорит передатчик Красной Армии! (Нем.).
(обратно)6
Грандиозно! Будьте спокойны (нем.).
(обратно)7
Есть, есть.
(обратно)8
С холодным задом (нем.).
(обратно)9
Трофейный немец (нем.).
(обратно)10
Опять началось!.. (Нем.).
(обратно)11
Да, господин старший лейтенант! (Нем.).
(обратно)
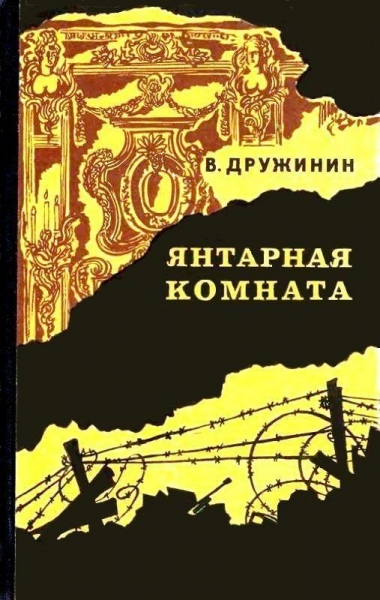


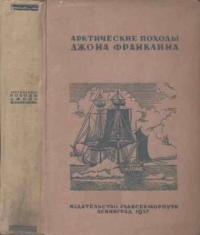
Комментарии к книге «Янтарная комната и другие повести», Владимир Николаевич Дружинин
Всего 0 комментариев