Лазарь Иосифович Лагин Остров Разочарования
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ Пролог
Достоверно известно, что в первый вторник января 1619 года из Плимута вышла на поиски царства Эльдорадо и золотого города Маноа экспедиция, состоявшая из трех кораблей и двух ботов. Возглавлял ее некий Джошуа Пентикост, врач и магистр наук, сухонький, чрезвычайно жилистый человечек, железного здоровья и несокрушимого упорства. Без малого восемнадцать лет обивал он пороги министерских канцелярий и влиятельных особ, покуда в возрасте за сорок не получил, наконец, долгожданного разрешения и средств. В выданном по сему случаю специальном королевском рескрипте эсквайру Джошуа Пентикосту разрешалось «в ущерб и поношение испанскому королю открывать и подчинять британской короне языческие страны, еще не включенные во владения какого-либо христианского монарха, защищать эти страны и изгонять каждого, кто попытается поселиться ближе чем в двухстах лигах от места, избранного для основания колонии».
Первые пятнадцать дней похода прошли благополучно. На шестнадцатые сутки поднялась сильная буря, корабли Пентикоста потеряли друг друга и больше никогда уже не встретились. Оба бота и один корабль опрокинулись и пошли ко дну. Новенький, только что со стапелей, двухмачтовый бриг «Царица Савская» с перебитыми снастями и полузатопленным трюмом кое-как добрался до португальских берегов, чтобы все же пойти ко дну в каких-нибудь двенадцати кабельтовых от суши.
Что же касается флагманского корабля, носившего название «Апостол», то он после еще трех недель пути, полного неслыханных треволнений и тягот, отдал якоря в тихой пристани испанского острова святой Изабеллы, затерявшегося в знойных просторах Атлантики. Пентикост предусмотрительно скрыл истинные цели своей экспедиции. Он заявил, что направляется в одно из американских владений Англии, и был чрезвычайно радушно принят губернатором острова и всей тамошней испанской колонией, изнывавшей от жары и скуки. Ему было дано много полезных сведений и советов, которые отважный путешественник принял с изъявлениями самой сердечной благодарности. Более месяца потребовалось на ремонт корабля, изрядно потрепанного жестокими бурями. Наконец, пополнив свои запасы провианта и питьевой воды, «Апостол» собрался в дальнейший путь. По этому случаю гостеприимный губернатор дал прощальный ужин, затянувшийся далеко за полночь. Когда пир пришел к концу, Джошуа Пентикост и его спутники, которым предстоящий поход не позволял излишествовать в потреблении вина, благоговейно преклонили колена и вознесли горячие молитвы к небу, густо усеянному ослепительными южными звездами. Помолившись, они с просветленными лицами вскочили на ноги, зарезали губернатора и его идальго, валявшихся мертвецки пьяными на своих роскошных ложах, вырезали их семьи и челядь, сожгли дотла город Сан-Хуан и подняли над его дымящимися развалинами гордый флаг своей родины.
Три дня продолжалась охота за остатками местного гарнизона. Убедившись, что испанцы уничтожены все до единого, Джошуа Пентикост снова преклонил колена, вознес благодарение всевышнему и приказал поднимать паруса на «Апостоле», обильно отягощенном трофеями. На острове святой Изабеллы, переименованном в честь покойной королевы-девственницы Елизаветы Английской в остров Непорочной девы, Пентикост оставил гарнизон под командованием своего старшего помощника Джемса Брауна.
Браун принялся за выполнение губернаторских обязанностей с редкостным рвением и знанием дела. Первым делом он властью, данной ему от бога, короля и Джошуа Пентикоста, обратил население острова из католичества, в котором оно, само того не подозревая, пребывало, в блаженное лоно англиканской церкви. Не усмотрев при Завершении этого таинства на лицах обращенных должного трепета и одухотворенности, он тут же, на берегу веселой голубой речушки, приказал повесить нескольких туземцев, чтобы доказать, что новая власть не собирается шутить я ждет от местного населения добросовестного понимания обстановки и простодушной радости в сочетании с беспрекословной покорностью.
После того как эта убедительная экзекуция была благополучно приведена в исполнение, Браун выступил перед туземцами с речью, в которой разъяснил разнообразные и в высшей степени лестные обязанности, налагаемые на них пребыванием под высоким и христианнейшим покровительством британской короны.
Голые слушатели внимали речи нового губернатора с неподдельным желанием понять ее и сделать для себя надлежащие выводы, что было в высшей степени нелегкой задачей, так как речь была, конечно, произнесена на английском языке, звуками которого аборигены острова наслаждались впервые в жизни. Отчаявшись понять что-либо из слов Брауна, но правильно подозревая, что они вряд ли сулят им райскую жизнь, простодушные туземцы воспользовались ближайшей попойкой нового гарнизона, чтобы отправить его догонять души своих предшественников. После этого они снова впали в язычество и жили в полном довольстве и покое около трех с половиной лет, пока из Испании не пришли корабли за очередной партией жемчуга, пряностей и прочих даров благодатного юга.
За это время туземцы по случаю счастливого избавления от покровительства двух великих христианских наций воздвигли из искусно сплетенных прутьев красного, черного и сандалового дерева храм богини земных блаженств, который бесспорно считался бы одним из прекраснейших образцов мировой архитектуры, если бы сохранился до нашего времени. Еще далеко от берега испанцы завидели высившийся на горизонте силуэт этого храма и справедливо заподозрили неладное. Сойдя на остров, они утвердились в худших опасениях. А узнав, что туземцы и не подумали защитить своими телами испанский гарнизон от ножей и шпаг экспедиции Пентикоста, вновь прибывшие испанцы преклонили колена в горячей молитве, после чего предали огню и мечу четырнадцать близлежащих деревень со всем их населением от мала до велика, сожгли до основания храм богини земных блаженств, воздвигли на его месте величественную церковь Страстей господних и тюрьму с крепкими решетками, искусно изготовленными туземцами же из прутьев железного дерева. Всех оставшихся в живых туземцев без излишних проволочек вернули в материнское лоно святой и равноапостольной римско-католической церкви, обложив их данью, вдвое большей против прежней, ибо казна испанского короля никак не должна была страдать от уменьшения числа налогоплательщиков.
(Так как нам в дальнейшем больше не придется упоминать об этом острове, нужно напоследок указать, что он дважды после описанных выше событий переходил из попечения испанской короны под просвещенное покровительство британской, покуда не перешел в цепкие лапы США при обстоятельствах, сходных с обстоятельствами захвата ими Филиппин).
25 ноября 1897 года весь остров, за исключением кучки помещиков и их прихвостней, группировавшихся вокруг «нейтрального» плантатора Хуана Гомеса де Кордова, поднялся с оружием в руках против испанских поработителей. Утром следующего дня президент США собрал у себя в Белом доме корреспондентов и сообщил, что после молитв, вознесенных к престолу всевышнего как им персонально, так и ближайшими экономическими и военными советниками, он убедился, что не имеет права не вмешиваться в события, развернувшиеся на многострадальном острове Изабеллы. Посему он и приказал коммодору Скотту М. Фьюит немедленно следовать туда во главе отряда военных кораблей и помочь восставшим против тиранов. 3 декабря того же года коммодор Фьюит, захвативший важнейшие правительственные здания, банки, почту, телеграф, вокзал и порт только что освобожденного повстанцами Сан-Хуана, пригласил к себе на. борт флагманского корабля вождя повстанцев Луиса Магасо. Распив с ним бокал шампанского по случаю победы над испанскими тиранами, коммодор предложил Магасо немедленно распустить по домам его добровольцев и принести присягу созданному его, коммодора Фьюита, попечением «революционному правительству», возглавляемому «старым борцом за свободу» доном Хуаном Гомесом де Кордова. Так как Магасо отказался, то и был спустя четверть часа расстрелян как опасный для цивилизации элемент, после чего де Кордова послал в Вашингтон ходатайство о принятии острова под высокую руку США. Вашингтон без промедления ответил согласием. Спустя восемь лет и пять месяцев вице-адмирал Фьюит счел возможным отменить военное положение и передать управление островом Изабеллы в руки американской гражданской администрации.)
Но вернемся к Пентикосту. Переслав с первым встречным английским судном всеподданнейший доклад об обогащении британского королевства новым заморским владением, он направил свой путь к берегам Южной Америки и спустя некоторое время отдал якорь в устье Ориноко. Именно на этой реке, где-то сразу за Гвианой, раскинулась, по сведениям Джошуа Пентикоста, страна, о которой он мечтал вот уже скоро двадцать лет.
«Апостол» был слишком велик и громоздок, чтобы подниматься на нем по Ориноко. Пентикост оставил его на якоре, а сам с тридцатью семью матросами отправился вверх по реке.
В письме к Джемсу Брауну, которое по причинам, приведенным выше, не дошло до адресата и поэтому сохранилось для потомства в отделе — старинных рукописей Британского музея, Пентикост так описывал тяготы этого похода:
«Я погрузил в старый галеас, построенный наподобие галеры, тридцать семь человек и шестимесячный запас продовольствия для них. Люди были вынуждены лежать на голых досках под дождем и палящим солнцем без всякого навеса. Здесь же варили пищу и здесь же были свалены все вещи, нужные в дороге. Еда, состоявшая 6ольшей частью из рыбы, казалась тошнотворной в нестерпимую жару и среди одуряющего запаха испарений от мокрой одежды большого количества людей, набитых, как сельди в бочку. Я ручаюсь, что в Англии никогда не было тюрьмы более отвратительной и нестерпимой».
Галеас тащили на бечеве индейцы, согнанные для этой цели из попутных деревень. Их подгоняли, еле волоча ноги от усталости, люди Пентикоста, вооруженные тяжелыми мушкетами. Стоило конвоирам зазеваться, как индейцы разбегались и неуклюжую посудину уносило вниз по течению. Горе было беглецам, которых удавалось настигнуть. Они принимали смерть в пытках, которые не снились даже жертвам Пизарро и Кортеса. Но зато те из них, которых погоня миновала, разносили далеко по долине Ориноко весть о желтоволосых белых, которые сеют на своем пути ужас, мучения и гибель. Все чаще на пути Пентикоста попадались деревни, совсем недавно брошенные населением. Мужчины и женщины, старики и дети убегали в сырую темень густых тропических лесов, чтобы переждать, пока Рыжебородая смерть минует их деревню. Потом они возвращались домой и находили вместо хижин пепел и груды дымящихся головешек.
Так Джошуа Пентикост прошел вверх по могучей реке свыше пятисот пятидесяти миль, но не обнаружил никаких признаков царства Эльдорадо. Тогда он спустился вниз по реке, чтобы, взяв с собою три с лишним десятка других солдат и матросов, снова пуститься после трехдневной передышки в путь по одному из многочисленных, не обследованных еще рукавов необозримой дельты Ориноко. Но, и следуя по этому рукаву, он не обнаружил ничего, что подало бы ему хоть тень надежды. Он снова вернулся к устью и, сменив экипаж галеаса, снова поднялся вверх по новому рукаву, и опять безрезультатно. К тому времени, когда Пентикост решил отправляться вверх по пятому рукаву, он потерял уже около половины своих людей. Многих свели в могилу неизвестные европейцам болезни, свирепствовавшие в этих местах. Еще больше теряла экспедиция от дезертирства.
Два с лишним года продолжались мучительные поиски легендарного царства. За это время сам Пентикост перехворал всеми мыслимыми и немыслимыми тропическими болезнями, но походы экспедиции не прекращались. Отощавший, как скелет, с буйно разросшейся рыжей бородой и шевелюрой, которые пылали вокруг его землистого лица, словно вырвавшийся наружу пламень алчности и стяжательства, лежал Джошуа Пентикост на небольшом возвышении, устроенном на носу галеаса, и между приступами лихорадочного забытья принимал доклады и отдавал приказания. Его ненавидели, его проклинали, его боялись, но так велика была сила его убежденности в реальности и близости Эльдорадо и города Маноа, что люди впадали в отчаяние при мысли, что он может умереть, не доведя своей экспедиции до долгожданной цели. Ему верили без тени сомнения и подчинялись, как признанному пророку богатства и славы.
Он поднялся по реке в пятый раз и в пятый раз вернулся ни с чем, чтобы сразу приступить к обследованию шестого и последнего из обследованных им рукавов. И тут ему, наконец, как будто улыбнулось счастье. На третий день похода к Пентикосту, лежавшему пластом на своем обычном месте, на носу галеаса, привели только что пойманного индейца, у которого уши и ноздри были проткнуты не костяными палочками, а замысловато изогнутыми золотыми трубочками. Это было первое золото, обнаруженное экспедицией за долгие месяцы странствований по болотистым берегам Ориноко!
В одно мгновение Пентикост преобразился. Лицо его сначала смертельно побледнело и вслед за тем стало пунцовым от страшного возбуждения. Словно кто-то вдохнул в больного свежие силы. С неожиданной энергией одержимого он вскочил на ноги. Два матроса, взяв его под руки, помогли ему добраться до борта, и он крикнул конвоирам, чтобы галеас немедленно причалили к берегу. Но голос его был так слаб, что солдатам пришлось повторить его приказание, и громкое, веселое эхо их зычных голосов еще долго победно отдавалось на утренних просторах великой реки. Через полчаса воспрянувшие духом солдаты и матросы окружили деревню, в которой проживал пойманный индеец. Постепенно сужая круг, они согнали жителей деревни на широкую поляну, обычно служившую для праздничных сборищ. Здесь сам Пентикост осмотрел туземцев, еще не понимавших, чего от них хотят. Результаты осмотра превзошли самые пылкие ожидания: у всех, не исключая малых детей, поблескивали на шее и в ушах украшения из золотых трубочек.
Теперь уже не только Пентикост, но и самые недоверчивые из его спутников не сомневались, что они если еще и не достигли самого царства Эльдорадо, то уж, во всяком случае, находятся совсем недалеко от его границ.
— Старейшину ко мне! — приказал Пентикост.
Из толпы вышел высокий, очень худой старик с умными, широко расставленными глазами под мохнатыми седыми бровями. Он вышел спокойно, не спеша, пытаясь угадать по лицу рыжебородого белого свою судьбу. Молча и с достоинством поклонился он незваному страшному гостю и стал ждать вопросов.
— Эльдорадо? — спросил его Пентикост, обводя широким жестом окрестности. — 'Это Эльдорадо?
Но волшебное слово не произвело на старика никакого впечатления. Ясно было, что он его Никогда не слыхал. Он молча отрицательно мотнул головой.
— Маноа? — спросил его тогда Пентикост, но и это слово ничего не говорило старейшине деревни.
Тогда Пентикост приступил к более подробному допросу. Для Этой цели он возил с собой переводчика из местных индейцев, кое-как изъяснявшегося по-испански. Правда, Пентикост не знал ни одного испанского слова, но он был врач, магистр наук и отлично знал латынь — мать всех романских языков. Так они и изъяснялись с переводчиком: один на языке Сервантеса, другой на языке Горация и Овидия Назона, и хотя и с немалыми трудностями, но все же понимали друг друга.
— Спроси, где они достают золото! — приказал Пентикост переводчику.
Услышав обращенный к нему вопрос, старейшина изменился в лице. Теперь он уже знал свою судьбу.
Его допрашивали свыше двух часов, но не добились от него ни звука. Он не мог сказать правду и не хотел лгать.
Отшвырнув в сторону его истерзанный труп, приступили к допросу остальных мужчин. К вечеру в деревне не осталось ни одного живого мужчины, только женщины и дети, которые беззвучно плакали, наблюдая, как молча умирали их отцы, мужья, деды, братья и сыновья.
Достойно отметить, что, не желая обагрять свои руки в невинной христианской крови, Пентикост на сей раз решил не обращать собранных им на лужайке язычников в христианство, хотя поблизости протекала прекрасная река, которая как бы самой природой была предназначена для совершения волнующего таинства массового крещения.
Покончив с допросом мужчин, Пентикост окончательно убедился, что он никогда еще не был так близок к заветной цели.
Короткие вечерние сумерки сменились густым тропическим мраком. Пентикост приказал развести костер. Когда первые, робкие еще языки пламени лизнули душную черноту ночи, женщины всполошились и, дрожа от страха, прижали к себе своих ребятишек. Это обстоятельство не ускользнуло от зорких глаз Пентикоста и навело его на блистательное решение. Вместо того, чтобы начать при свете костра допрашивать женщин, он приказал выхватить у первой попавшейся ее ребенка. Это сэкономило Пентикосту время и сразу принесло успех. Молодая мать, обезумев при мысли о том, что сейчас грозит ее сыну, оттолкнула удерживавшую ее старуху, выбежала из толпы, упала перед Пентикостом на колени и, целуя его ботфорты, что-то ему прокричала.
— Она говорит, она сказать, где они достать золото, — быстро перевел переводчик.
— Давно бы так! — удовлетворенно промолвил Пентикост и не смог удержаться от судорожного смеха. Вот оно, вот оно наконец то счастливое, единственное и неповторимое мгновение, ради которого он восемнадцать лет унижался в министерских канцеляриях, ради которого он вступал в сражения с ураганами Атлантики, ради которого он два с лишним года кочует по этой проклятой богом реке! Он хохотал, задыхаясь от недостатка воздуха, откинувшись на живот стоявшего вплотную за его спиной матроса, как на спинку кресла.
А индианка, устрашенная смехом Пентикоста, продолжала плакать и что-то выкрикивать.
— Она сказать, ей жалко-жалко сын; он сегодня уже нет иметь папаша, — пояснил переводчик.
— Отдайте ей ее щенка! — сказал Пентикост сквозь все еще душивший его смех.
Индианка схватила своего сынишку, прижала к груди и стала осыпать поцелуями его бесстрастное медно-красное личико, ручки, ножки, худенькую шейку, на которую смешной косичкой спускались реденькие прямые волосы, черные и жесткие. Безумный порыв материнской нежности напугал ребенка. Впервые за этот страшный день он заплакал, и его тоненький детский плач словно проколол еле державшуюся плотину человеческого горя. Поляна, чуть освещенная зловещими отблесками костра, вдруг огласилась воплями и рыданиями осиротевших женщин и детей. Они стояли, окруженные солдатами, между опушкой леса и крайними хижинами деревни, их не было видно, и казалось, что не люди, а сама природа кричала, охваченная неизбывным ужасом, который распространял вокруг себя этот маленький авангардный отряд кровавой армии британских колонизаторов. Это был страшный, непередаваемый, душу выматывающий стон, и от него невольно содрогнулись даже закаленные в жестокостях конквистадоры с «Апостола».
— Прекратить! — истерически крикнул побледневший Пентикост. — Немедленно прекратить этот проклятый дикарский вой!
Переводчик сломя голову кинулся к женщинам. Они замолчали и зажали рты ребятишкам. Теперь в наступившей тяжелой тишине снова слышался лишь тоненький плач того мальчика, который начал первым. Молодая индианка лихорадочно уговаривала его:
— Не плачь, сынок! Ну, не плачь же! Не серди белого господина. А то белый господин велит бросить тебя в костер… Ты ведь не хочешь, чтобы тебя бросили в костер?.. Ну, будь умницей! Ну, перестань!
Пентикосту надоело. Он сказал переводчику:
— Пусть она нас ведет туда, где они добывают золото. Индианка поняла, что непосредственная опасность для ее сына
миновала. Возбуждение, придававшее ей силы, оставило ее. У нее подкосились ноги. Она опустилась на траву, не выпуская ребенка из своих объятий, и что-то бормотала голосом, обесцвеченным усталостью.
— Она сказать, это далеко, — пояснил переводчик. — Она сказать, это надо находить завтра утром.
Спустя несколько часов она повела англичан к заветному месту. Они шли вниз по реке, с трудом пробиваясь сквозь первозданную чащу. Обессилевшего Пентикоста несли на носилках, и людям, несшим его, пришлось много раз смениться, прежде чем они наконец достигли конца пути. Уже давно перевалило за полдень. Тени от деревьев ложились на мутноватые волны реки длинным лакированным частоколом.
Индианка остановилась под сенью могучего, разбитого молнией дерева. Неподалеку догнивал наполовину вытянутый на берег индийский челнок. В нем мирно зеленела заплесневевшая вода. Заслышав хруст приближающихся шагов, из челнока звучно шлепнулись в реку несколько тучных лягушек.
— Вот здесь, — сказала индианка, трепеща всем телом. Копать пришлось совсем недолго. Под тонким слоем рассохшейся рыхлой земли солдаты обнаружили пустой голубенький сундучок, а под ним обернутый в кору труп мужчины в полуистлевшей матросской одежде. В трупе опознали марсового матроса, дезертировавшего с «Апостола» перед пятым походом по Ориноко.
— Она говорить, — снова пояснил переводчик, — она дает сказал переводчик, — Она сказать, они его не убивать. Они его находить мертвец уже шесть лун обратно.
Лица белых при этих словах наполнились такой яростью, что индианка, почти теряя сознание от страха, снова бросилась в ноги Пентикосту.
— Она говорить, они достать золото из этот красивый ящик, — клятву — они его находить мертвец. Она просит не убивать ее племя. Они нет виноваты. Они его только закопать, а золото они взять.
Трудно понять, как истощенный болезнью Пентикост вынес страшный удар, но он его вынес.
У Пентикоста была очень цепкая память авантюриста, он сразу опознал этот голубенький сундучок, окованный для прочности самодельными железными угольниками, и, конечно, никак уж не мог забыть, что его владелец захватил с собою с корабля свою долю испанских трофеев в виде полновесных золотых дублонов. Покуда люди Пентикоста, поспорив между собой о том, кому из их друзей мог принадлежать этот сундучок, принялись дальше разрывать яму, Пентикоста уже стал подтачивать червячок сомнения. Когда на поверхность вытащили тело сбежавшего матроса, у Пентикоста еще теплилась слабая надежда. Он приказал рыть дальше. Но сколько ни рыли, больше ничего не обнаружили. Не стоило труда убедиться, что беглец умер не насильственной смертью, а от какой-то изнурительной болезни. Это был скелет, туго обтянутый почерневшей кожей.
Теперь Пентикосту стало ясно, почему мужчины той несчастной деревни предпочли смерть прямому ответу на его вопрос. Они боялись, что их заподозрят в убийстве беглого матроса и в наказание за преступление, которого они не совершали, уничтожат все население деревни. И они поэтому решили ценой собственной жизни спасти хотя бы женщин и детей.
Между тем молодая индианка, полная самых мрачных опасений, продолжала ползать у ног Пентикоста, повторяя, что они не виноваты, что они не убивали этого бедного белого.
Она хватала Пентикоста за ноги, целовала его сапоги, порыжевшие от времени и непогод, а он сидел на борту полусгнившего челнока и с непонятным для него самого спокойствием думал о том, что вот, кажется, и все. Двадцать с лишним лет жизни затрачены впустую. Впервые за этот очень долгий срок он усомнился в словах бродячего солдата Ораса, хотя тот клятвенно уверял его, что собственными глазами видел золотой город Маноа и страну Эльдорадо и что находятся они в Южной Америке, сразу за Гвианой.
Чтобы окончательно удостовериться в правильности своих печальных выводов, он приказал вытащить золотые, украшения из ушей индианки. Молодая женщина решила, что сейчас ее будут убивать. Она стала бешено сопротивляться. Она вырывалась из рук, кусалась, царапалась, билась головой в животы солдат с силой, которую ей придавало отчаяние. Чтоб не терять зря времени, ее убили. Только тогда удалось выдернуть из ее ушей и ноздрей причудливо изогнутые золотые трубочки. Пентикост каждую из них прикинул на ладони: они были приблизительно одинакового веса. Он приказал разогнуть их и на внутренней стороне каждой из них увидел расплющенную ударами каменного топора и казавшуюся от этого еще более ехидной иезуитскую физиономию Филиппа Второго.
Значит, действительно все было кончено. Стоило потратить, столько времени, здоровья и жизней, чтобы в конечном счете на пороге старости обнаружить в ушах и ноздрях сотни индейцев несколько сотен украденных у тебя же испанских дублонов, варварски искореженных деревенским ювелиром.
Теперь уже было подлинным безумием продолжать поиски Эльдорадо. На исходе были продовольствие, медикаменты, одежда, здоровье и терпенье участников экспедиции. А главное, у Пентикоста, а следовательно, и у его людей, не осталось веры в реальность цели, к которой они столько лет стремились.
Но еще большим безумием было возвращаться в Англию, не повергнув к стопам короля давно обещанную страну Эльдорадо. Пентикост был не первым из путешественников-неудачников, и он знал, что и его и его спутников ждет в лучшем случае нищета, а в худшем тюрьма и даже виселица. Между тем в их распоряжении был хорошо оснащенный корабль и на нем достаточное количество дублонов и драгоценностей, чтобы в любом месте земного шара, кроме Англии и Испании, начать новую жизнь.
Все эти мысли промелькнули в голове Пентикоста, пока еще не успел остынуть труп молодой индианки. Пентикост принимал решения быстро и никогда их не перерешал.
— Джентльмены! — обратился он к своим спутникам, мрачно ожидавшим, что скажет их обанкротившийся предводитель. — Джентльмены, я слишком уважаю вас и вы слишком мне дороги, чтобы я позволил себе утаивать от вас правду, пусть даже и самую горькую…
Утром следующего дня они в последний раз спустились на галеасе вниз по реке, пересели на «Апостол», с ближайшим приливом убрали якоря и легли курсом на североамериканские колонии. Люди Пентикоста так измучились за тридцать месяцев бесплодных, изнурительных поисков Эльдорадо, что не было среди них человека, который не радовался бы, что они наконец кончились. Что же касается самого Пентикоста, то ему просто неинтересно, да и некогда было заниматься воспоминаниями. Теперь им владели другие замыслы, если и не такие головокружительные, как поиски Эльдорадо, то во. всяком случае обещавшие вполне реальные и очень крупные доходы. И уточнение этих замыслов отняло у него все время, пока в конце сентября тысяча шестьсот двадцать первого года, сырым, туманным утром их корабль не встал на якорь у невысокого берега земли, которая вскоре была названа по имени Джошуа Пентикоста Джошуалендом. Она раскинулась цветущей долиной где-то между нынешними городами Ричмондом и Филадельфией, к северо-востоку от тех мест, где лет через двенадцать — тринадцать была организована колония Мериленд.
Никого не заинтересовали семьдесят три измученных переселенца, высадившихся с корабля «Пилигрим», как сейчас благоразумно был переименован старый «Апостол». Они никого не заинтересовали по той простой причине, что на двадцать миль кругом не было ни единой христианской души. А спустя пять лет они уже были старожилами и самыми уважаемыми людьми в Джошуаленде. Население росло со все возрастающей быстротой. Все чаще и чаще швартовались у дощатой пристани Хэппитауна корабли, привозившие людей, которые в первую очередь мечтали о земле, а во вторую — о том, чтобы к ним не приставали с дурацкими расспросами насчет их прошлой жизни. Землю они добывали, с боями отнимая ее у индейцев, с расспросами к ним никто не приставал, и климат здесь был как раз такой, какой нужен для того, чтобы выращивать табак, и весьма выгодно выращивать, если нашлись бы люди, согласные за дешевую плату с утра и до ночи гнуть спину на чужих плантациях, сажать, окучивать, полоть и убирать липкие и острые табачные листы, сушить, прессовать в тюки чужой табак и грузить его на чужие корабли. Но как раз таких-то людей и не хватало. Вернее, не хватало таких людей среди белых. Земли было сколько угодно. Надо было только перестрелять население двух-трех индейских деревушек, и земли становилось хоть завались и почти даром. И жалко было смотреть, как пропадала такая благодатная земля только из-за того, что спрос на белых рабов всегда перекрывал предложение.
К этому времени достопочтенному Джошуа Сквирсу — так назывался теперь Пентикост, скрывавшийся от гнева своего всемилостивейшего короля, — судье, врачу и богатейшему и именитейшему землевладельцу Джошуаленда, минуло сорок девять лет. Он уже давно оправился от перенесенных болезней, но не растолстел от спокойной и сытой жизни, был по-прежнему сух и жилист и с одинаковой энергией и упорством занимался как своими судейскими и врачебными обязанностями, хлопотами по своим обширным латифундиям, по возглавляемой им компании торгового и пассажирского судоходства, связывавшей постоянными рейсами берега нескольких английских колоний, так и по своим чисто семейным делам. Ибо достопочтенный Джошуа Сквирс вот уже три с половиной года был счастливо женат на молоденькой сестре одного небогатого переселенца из Глазго и теперь был отцом трех огненно-рыжих здоровяков, ползавших, бегавших, шнырявших и шумевших в просторном бревенчатом доме своего отца.
Его доля в трофеях, ниспосланных всевышним на острове святой Изабеллы, составляла внушительную сумму — двадцать семь тысяч фунтов стерлингов. Десять тысяч из них он вложил в судоходную компанию, и они давали, благодарение господу, немалый доход. Остальные семнадцать тысяч пошли на учреждение банкирской конторы, первой в Джошуаленде, и дела ее тоже не оставляли желать лучшего. Через три года не было человека на сто миль в округе, который не задолжал бы такую сумму, которая держала его на крепкой привязи к банкирской конторе «Джошуа Сквирс и сыновья». Время от времени, когда проценты по долгу достигали достаточно внушительных размеров и должник полностью созревал для банкротства, к нему приходил сам достопочтенный Джошуа Сквирс собственной персоной (это были еще добрые, старые времена, когда все делалось демократично, по-семейному, без посредников и судебных, исполнителей), призывал благословение божие на своего неисправного должника, изгонял его из больше не принадлежавшего ему дома и сам вступал во владение всей его движимой и недвижимой собственностью. Внезапно в расцвете сил умер его совладелец по судоходной компании. Сквирс предъявил векселя покойного на сумму, значительно превышавшую его долю в компании, и стал ее единственным владельцем. Но его великодушие было столь велико, что он не выгнал на улицу семью покойного и не востребовал с нее остаточную разницу по векселям, больше того, он стал из личных средств выплачивать ей пенсию в размере трех фунтов и десяти шиллингов в месяц, хотя никто, кроме него, не знал, что векселя были им подделаны в ту самую ночь, когда умер его компаньон, в перерывах между утешением рыдавшей вдовы и хлопотами по организации похорон, достойных такого именитого покойника. Он шел по дорогам богатства, почета и могущества по трупам соседей, добрых знакомых и друзей. Его слава распространилась далеко за пределы Джошуаленда. Его имя было достаточно известно в Вирджинии, Массачусетсе и даже в голландской фактории Новый Амстердам, которая через тридцать восемь лет стала английским городком Нью-Йорком. О Джошуа Сквирсе говорили, как о человеке суровой и праведной жизни, пуритане из Саутгемптона, те самые «отцы пилигримы», которые, прибыв в Америку на корабле «Майский цветок», основали благословенную господом колонию Нью-Плимут. Он быстро стал одним из виднейших аристократов кошелька в колониях, якобы не признававших аристократов по рождению.
Не следует только думать, что финансовое и политическое могущество банкирского дома «Джошуа Сквирс и сыновья» и после того, как он лишился рачительного руководства своего основателя, всегда развивалось по восходящей прямой. Уже в восьмидесятых годах восемнадцатого века в итоге бурного хозяйствования трех подряд поколений руководителей это была всего лишь одна из многих тысяч заурядных провинциальных банкирских контор, богатство которой состояло не столько в материальных ценностях, сколько в традициях. Только скопидомская изворотливость и осторожность второго отца этой фирмы — Урии Дональда Сквирса — удержали ее на поверхности в дни страшных кризисов тысяча восемьсот девятнадцатого и тысяча восемьсот тридцать седьмого годов. Былое величие вернула этому старинному банкирскому дому обильная военными заказами и покладистыми и высокопарными взяточниками гражданская война тысяча восемьсот шестьдесят первого — шестьдесят пятого годов. В это славное четырехлетие фирма «Сквирс и сыновья» положила немало усилий на алтарь свободы, беззаветно снабжая федеральную армию гнилым обмундированием и сеном, которое лошади все же могли есть, если они были не очень привередливы и очень голодны. Сразу после победы над южанами Сквирсы приняли совместно с гульдами, морганами и вандербильдами энергичное участие в том грандиозном разбое и расхищении государственных земель и средств, которое в официальной американской истории иначе не называется, как великой эпохой железнодорожного строительства. К тем же не так уж отдаленным временам относится и первая взятка, данная президентом банкирского дома «Джошуа Сквирс и сыновья» не какому-нибудь замухрышке приемщику обмундирования, а председателям разных комиссий конгресса Соединенных Штатов и даже вице-президенту республики. С тех лет Сквирсы твердо и навсегда встали в первые ряды признанных американских патриотов, ревнителей демократии, а с начала текущего века и борцов против «опасных заокеанских радикалов».
Но Пентикоста — мы будем называть мистера Джошуа его настоящей фамилией — продолжал терзать неугомонный бес стяжательства. Он совсем забросил свою богатую библиотеку, он не находил времени для того, чтобы насладиться чтением своих любимцев — Шекспира и Бена Джонсона — и обогатиться знаниями из новых научных книг, которые ему аккуратно доставляли из Англии и Голландии. Он держал в трепете и пренебрежении свою молодую и безропотную жену, которой бедные женщины завидовали, а богатые — сочувствовали. Даже с сыновьями — его гордостью и надеждой — он видался только ранним утром, за завтраком, да по воскресным и праздничным дням в церкви, построенной, кстати сказать, его попечением.
С некоторых пор Пентикоста серьезно огорчали дела на его обширнейших плантациях. И не то чтобы они приносили убыток или недостаточно значительную прибыль. Они давали прибыль, о которой другие плантаторы могли только мечтать. Но его смущала цена, по которой ему приходилось приобретать негров. Рыночная цена невольника казалась Пентикосту не по-божески высокой, но он ничего не мог поделать, потому что спрос на «черный товар» рос с каждым днем, а предложение было сравнительно ничтожно.
И вот Джошуа Пентикост как-то бессонной ночью подсчитал, что каждый негр будет обходиться ему по крайней мере в семь раз дешевле, если он будет их добывать не у работорговцев, а непосредственно в Африке.
Эта мысль не давала ему покоя, покуда он не снарядил два корабля из числа принадлежавших ему восьми и не отправился добывать себе негров для своих плантаций, так сказать, «из первых рук». Сам Пентикост пошел на «Пилигриме», с которым у него было связано столько воспоминаний.
Он без приключений достиг африканского берега, разгромил, не потеряв ни одного человека, восемь прибрежных деревень, уничтожил стариков, грудных детей и больных, на которых не было смысла тратить драгоценный тоннаж, и около восьмидесяти воинов, пытавшихся оказать сопротивление. Остальных же пленников, в количестве семисот с лишним человек, погрузили на корабли, и отплыли в обратный путь. По дороге шестьдесят восемь негров задохнулись в ужасающей духоте и смраде битком набитых трюмов, около ста человек умерло от разных болезней, и все же те, которые были живыми доставлены на плантации Джошуа Пентикоста, обошлись ему на круг в четырнадцать раз дешевле средней рыночной цены по которой продавался в Джошуаленде самый хворый негр.
Проследив за тем, чтобы его новые рабы были обращены в лоно христианской церкви, Джошуа Пентикост собрался в следующую экспедицию, теперь уже добывать негров на продажу.
На этот раз он снарядил в Африку не два, а пять кораблей, и снова сам отправился на «Пилигриме». Ему понравились такие поездки. Он приказал перенести из дому в свою каюту несколько сот отборных книг и большую часть пути проводил в глубоком кресле за чтением любимых авторов.
Именно к этим отдаленным временам восходит зарождение в Джошуаленде мощной железоделательной промышленности, которая и по наши дни является предметом особой гордости патриотов этого старинного штата. Работорговля, которую Пентикост поставил на широкую ногу, требовала не только развернутого и интенсивного судостроения. Возник все возраставший спрос на оковы, цепи, замки для цепей, ибо только должным образом закованный невольник занимал меньше места на корабле, не слонялся по нему без дела, не мог взбунтоваться или, чего доброго, броситься за борт, чтобы покончить с собой. Кандалы, цепи, замки и клейма стали и на плантациях не менее насущным инвентарем, чем бич надсмотрщика и утренняя и вечерняя молитвы. Они не были вечными, они ломались, ржавели, изнашивались, разбалтывались, выходили из строя и требовали замены. Бронзовый и новокаменный века царили тогда в Африке, и поистине страшен был переход десятков и сотен тысяч несчастных африканцев в век железный.
Пентикост раньше многих других сообразил, какие выгоды сулит эта новая отрасль промышленности, и он приобрел решающие паи во всех трех предприятиях, которые стали заниматься в Хэппитауне производством цепей.
Пентикосту сопутствовала удача: он привез из второго африканского рейса около трех с половиной тысяч невольников, выбросив акулам не больше восьмисот покойников. Это был вполне терпимый процент потерь, особенно если учесть, что значительная часть рабов была заготовлена Пентикостом у нескольких негритянских царьков за два ящика стеклянных бус, медную трубу и ржавую кавалерийскую саблю. Остальные невольники обошлись только в стоимость трех десятков ружейных залпов по непокорным деревням, после которых оставшиеся в живых негры вместе с их непрактичными царьками были с веревками на шее приведены на берег и рассованы по корабельным трюмам. Трюмы были теперь специально переоборудованы. Их разрезали на восемь этажей сплошные нары, на которых можно было сидеть, только согнувшись в три погибели, а лежать — вплотную один к другому. Зато количество мест на кораблях увеличилось без малого в пять' раз‹ Конечно, кое-что приходилось тратить в пути на питание невольников, но это были уже такие пустяки, на которые не стоило обращать внимания.
Выгодно распродав эту партию рабов, Пентикост, не медля, снова направился к африканскому берегу. Сахарные и табачные плантации предъявляли неограниченный спрос на негров, и было попросту грешно упускать из рук такую выгодную отрасль торговли. Теперь уже все восемь кораблей Пентикоста были переоборудованы для перевозки рабов. Пентикост видел себя в ближайшем будущем одним из богатейших граждан североамериканских колоний, и действительно богатство его росло день ото дня, как снежный ком. Но этого никак нельзя было сказать о богатствах его капитанов, их помощников и матросов, которые делили со своим хозяином только тяготы, но никак не прибыли изнурительных африканских походов.
Так получилось, что в то время, как Джошуа Пентикост в своей каюте наслаждался общением с Шекспиром, римскими и греческими классиками, на «Пилигриме» зрело недовольство.
Примерно на половине обратного пути разыгрался шторм, и «Пилигрим» потерял из виду остальные корабли. Команда усмотрела в Этом добрый знак и ближайшей ночью выбросила за борт капитана и нескольких неугодных ей матросов. Вслед за тем бунтовщики вор- вались в каюту Пентикоста и связали его раньше, нежели он спросонок успел разобраться, что произошло.
Помощник капитана, возглавлявший бунт, приказал положить корабль на курс, который предохранил бы его от встречи с остальными судами экспедиции. Надо было создать у них представление, что «Пилигрим» затонул. Конечно, проще всего было бы на всякий случай выбросить за борт и самого Пентикоста, но никто не мог решиться на убийство человека такой праведной жизни.
Девять суток рыскал «Пилигрим» по океану, удаляясь все дальше и южнее от обычных торговых путей в поисках подходящего места, где можно было бы без помех и свидетелей высадить пленного хозяина.
На десятые сутки с фок-мачты заметили небольшой гористый остров, не обозначенный на карте. В те далекие времена такие острова были частым явлением.
Все же, опасаясь наткнуться на обитаемую землю, «Пилигрим» остановился кабельтовых в восьми от берега, выслал разведку на шлюпке, а сам лег в дрейф.
Разведка добросовестно обследовала остров. На нем было много зелени, несколько пальмовых рощ, речушки с прохладной и вкусной водой. С юга и востока его окаймлял довольно высокий горный кряж, защищавший от холодных ветров, дувших с юга, и знойных сухих ветров, дувших из центральноафриканских пустынь.
В долине, образованной этим полукольцом, подходившим вплотную к берегу, судя по всему, царил ровный, нежаркий климат, росла густая и сочная трава, которой хватило бы на круглогодовой выпас сотен голов крупного рогатого скота. На внутренних склонах гор там и сям мелькали белыми ватными комочками никем не пуганные горные козы. Но нигде — ни на берегу, ни в долине, ни на горных склонах — не замечено было никаких признаков человека.,
Разведке так понравилось на острове, что снова возник вопрос: а не убить ли все-таки мистера Пентикоста? Ну, в самом деле, что за жизнь для такого просвещенного человека на необитаемом острове, вдали от общества и деятельности, к которой он так привык? Право же, уж лучше смерть. А остров хорошо было бы оставить за собой в качестве базы на тот случай, если бы, распродав негров, команда вдруг собрались заниматься морским разбоем.
Около суток жизнь Пентикоста висела на волоске, пока не взяла верх точка зрения тех, кто после продажи и корабля и негров хотел вернуться на родину и вести образ жизни, достойный богатого и уважаемого английского джентльмена.
Ранним утром двенадцатого марта тысяча шестьсот двадцать седьмого года Пентикоста разбудили, умыли, в последний раз побрили, накормили вкусным и питательным завтраком, который он, однако, проглотил без особого аппетита, и высадили на берег.
Занимавшаяся заря едва успела позолотить вершины гор. Весь остров еще был окутан сероватой предрассветной мглой. Было не холодно, но сыро. Поэтому связанного по рукам и ногам Пентикоста, из уважения к его возрасту и высокому общественному положению, не швырнули на гравий, а довольно бережно усадили на одну из девяти бочек, которые заспанные и злые с перепоя матросы выкатили из шлюпки на берег. В четырех бочках было продовольствие, в четырех порох, в одной ром. Вслед за этим вынесли на берег и положили около молчавшего Пентикоста два мушкета, два пистолета, несколько ножей, топор, пилу, два ящика гвоздей, кой-какую домашнюю утварь и вернулись на корабль за его библиотекой, которая уже была заблаговременно упакована. Благополучно выгрузив книги, матросы совершили еще один рейс на «Пилигрим» и возвратились с тридцатью четырьмя неграми и негритянками, состояние которых было настолько тяжелым, что не было никакой надежды довезти их живыми до порта назначения. Их вывели связанными одной веревкой, которая в данном случае, казалось, не столько удерживала их от побега или сопротивления, сколько от того, чтобы они не попадали от слабости в воду.
— Мы оставляем этих негров с вами в вашем полном распоряжении, сэр, — сказал помощник капитана Пентикосту. — Мы оставляем их для того, чтобы вам не пришлось скучать без общества и чтобы вы могли пользоваться услугами этих невольников так, как вы заслуживаете этого, сэр, принимая во внимание ваши высокие и разнообразные достоинства. Мы надеемся, сэр, что вы благосклонно оцените наше лояльное отношение к вашей глубокоуважаемой особе.
— Мерзавец! — процедил сквозь зубы Джошуа Пентикост.
Как деловой человек, он понимал, что никакие уговоры, упрашивания, обещания или угрозы не спасут его. Бунтовщики не хуже его знали, что стоило ему вернуться домой, и все его клятвенные обещания потеряли бы всякую цену, а они — головы. Поэтому Пентикост не тратил излишней энергии на разговоры. Что же касается слова «мерзавец», то оно вырвалось у него только потому, что он, как большинство лицемеров, не переваривал, когда лицемерие обращалось на него самого.
Но помощник капитана обиделся. Видно было, что, даже вопреки настроению большинства команды, он старался оставить о себе у Пентикоста по возможности выгодное воспоминание.
Он огорченно откашлялся и сказал:
— Очень возможно, сэр, что вам следовало бы еще раз подумать, прежде чем так категорически осудить вашего покорнейшего слугу. Конечно, я преступил бы границы истины, если бы попытался утверждать, что комбинация с кораблем и вами, сэр, разрешена к нашему обоюдному удовольствию. Но согласитесь, сэр, так почти не бывает в наши трудные дни. С другой стороны, вы не можете не согласиться, что ответственность, которую я несу перед моими коллегами, не позволяет мне достаточно глубоко принимать к сердцу большинство ваших законных или, во всяком случае, вполне понятных претензий. Увы, сэр, обстоятельства сплошь и рядом вынуждают нас поступать далеко не так, как нам бы хотелось. Но мы были бы счастливы, сэр, если бы вы оказали должное чудесной природе этого острова и согласились с нами, что если жизнь в раю наших прародителей Адама и Евы и была, возможно, в отдельных частностях более привлекательна, чем та, которая вам здесь предстоит, то, во всяком случае, не настолько, чтобы из-за этого могли возникнуть сколько-нибудь серьезные споры между такими деловыми людьми, как мы с вами. Мы молим бога, сэр, чтобы вам здесь жилось так хорошо, как мы вам, сэр, ото всей души желаем! Прощайте, сэр!
Искренне растроганный своей прекрасной речью, помощник капитана, мечтавший о парламентской карьере, вернулся на корабль и велел поднять якорь. Не прошло и часа, как мачты «Пилигрима» навсегда скрылись за горизонтом. А достопочтенный Джошуа Пентикост остался один с тремя десятками полумертвых негров на необитаемом острове, затерявшемся в пустынных просторах южной Атлантики, вдали от обычных торговых путей. Он понимал — и не ошибся в этом, — что ему никогда не выбраться с этого клочка земли, который он про себя уже успел назвать островом Разочарования, ибо все его надежды, все мечты его жизни превратились в прах и тлен, лишь только он узнал, что его высадят на берег в этих местах, забытых богом и людьми.
Пентикосту тогда еще не было полных пятидесяти двух лет. Он был по-прежнему здоров, жилист и полон сил. Он знал много способов, как зарабатывать большие деньги, но здесь, на острове Разочарования, деньги зарабатывать было негде и не к чему. Остаток своей жизни эсквайру Джошуа Пентикосту, врачу, магистру наук, мореходу, конквистадору, судье, миссионеру, банкиру, подделывателю векселей, судовладельцу, рабовладельцу и работорговцу, предстояло провести в обстановке, в которой деньги значили не больше, чем прибрежный песок.
I
Вечером 3 июня 1944 года британский конвой, шедший из Персидского залива в составе девятнадцати транспортов и пятнадцати эскортных кораблей, подвергся в Атлантическом океане нападению нескольких немецких подводных лодок. Атака была отбита ценою потери одного транспорта, носившего название «Айрон буль». Две торпеды очень точно врезались в его машинное отделение, он переломился пополам, как сухая щепка, и обе половинки ушли ко дну раньше, чем экипаж успел предпринять что-нибудь для своего спасения.
Что касается остальных кораблей, то им было не до спасения тех немногих «счастливцев», которых чудовищной силой сдвоенной взрывной волны забросило с палубы погибшего транспорта достаточно далеко от засосавшей его гигантской воронки. В это время поверхность океана, покрытого невысокими трехбалльными волнами, бороздили сразу в нескольких направлениях зловещие бурунчики новых залпов фашистских торпед. Капитаны транспортов были заняты уклонением от торпед, а эскортные корабли с лихорадочной поспешностью сбрасывали на подводные лодки длинные очереди глубинных бомб. От множества взрывов океан вздымался нежно розовевшей на закатном солнце смерчеподобной колоннадой из воды и пены, а мощные гидравлические удары, сотрясая корпуса транспортов и фрегатов, оглушали и топили тех немногих спасшихся с «Айрон буля», которые еще держались на воде.
Вскоре в двух Местах вспучились и лопнули огромные пузыри, затем всплыли на поверхность большие масляные пятна, а чуть спустя — обломки скамьи, кормовой флаг со свастикой и несколько матросских бескозырок с немецкими надписями.
В докладе, посланном командиром конвоя в Королевское британское адмиралтейство, было сообщено о потоплении двух вражеских подводных кораблей и гибели королевского военного транспорта «Айрон буль» со всем его экипажем и немногочисленными пассажирами.
Среди траурных извещений, разосланных в связи с этим соответствующим отделом адмиралтейства, пять заслуживают нашего особого внимания.
Два из них были направлены английским адресатам: одно в Ливерпуль, семье майора Эрнеста Цератода, бывшего секретаря местного отделения тред-юниона транспортников и неквалифицированных рабочих, второе — в Лондон, Ист-Энд, вдове Сэмюэля Смита, кочегара с «Айрон буля». Другие два извещения первым попутным самолетом перебросили через океан в Соединенные Штаты, в Филадельфию, штат Пенсильвания, семье капитана санитарной службы Роберта Фламмери, одного из отпрысков старинного и прославленного банкирского дома «Джошуа Сквирс и сыновья», и в Буффало, штат Нью-Йорк, матери военного корреспондента газеты «Буффало дейли войс» Джона Бойнтона Мообса.
Пятое траурное извещение было послано в Главный морской штаб Советского Союза, откуда его переотправили с выражением соболезнования в Москву на Малую Бронную улицу, семье капитан-лейтенанта Константина Егорычева. Спустя некоторое время оно вернулось в Главный штаб за ненахождением адресатов: отец Константина Егорычева, старший сержант Василий Кузьмич Егорычев, пал смертью храбрых при освобождении Севастополя, а младший брат, Сергей Васильевич, уже два месяца как воевал где-то на Первом Украинском фронте.
Будем справедливы: никаких оснований для того, чтобы сомневаться в гибели перечисленных выше двух американцев, двух англичан и советского военного моряка у офицера, составлявшего доклад в адмиралтейство, не могло быть. И. все же по счастливой случайности никто из них не погиб. Их спасло то, что в роковой для «Айрон буля» час они по разным причинам оказались на полуюте.
Мистер Цератод обязан был своим спасением в первую очередь морской болезни. В тот памятный вечер разгуливался шторм, и Эрнест Цератод, сорокатрехлетний рыжеватый невысокий толстяк, весь день терзавшийся мучительнейшими приступами мореной болезни, выполз наверх отдышаться на свежем воздухе. Он тяжело облокотился на отсыревшие, скользкие перила и с тоской взирал на не обещавшие ничего хорошего сизые тучи, кое-где по краям подцвеченные багровыми лучами заходящего солнца. Мистер Цератод снял фуражку, доверчиво подставил лысеющую голову ветру, но и это не принесло облегчения. От теплого, сырого ветра было ощущение, как от согревающего компресса.
В отдалении бесшумно шныряли почерневшие силуэтики эскортных кораблей, похожих на стайку шустрых и беззаботных нырков. Впереди и позади «Айрон буля», чуть заметно дымя, тяжело покачивались неповоротливые, пыхтящие туши транспортов. Они старательно соблюдали установленную инструкцией дистанцию, и казалось, что все они, и «Айрон буль» в том числе, стоят на месте, уныло и безнадежно переваливаясь в бортовой и килевой качке. В снастях с возраставшей силой гудел ветер. Все, все предвещало шторм и новые мучения исстрадавшемуся мистеру Цератоду. Поэтому его небритое (впервые за многие годы!) и позеленевшее лицо в золотых, очень толстых очках не выразило и тени улыбки, когда его окликнул мистер Фламмери — его сосед по кают-компании.
— Алло, мистер Цератод! — сострадательно приветствовал он бедного майора.
— Алло, мистер Фламмери! — промычал ему в ответ Цератод.
— Ну и погодка, сэр!
Цератод только безнадежно махнул рукой, и его тут же стало корежить в новом приступе.
— Постарайтесь не выпасть за борт, — посоветовал ему мистер Фламмери. — Вы слишком перегибаетесь через перила. И взовите к господу. Он нам защита и утешение во всех горестях и страданиях., Ужасная болезнь, Джонни!
Последняя фраза мистера Фламмери была обращена к его молодому спутнику Джону Бойнтону Мообсу.
На почтительном лице репортера не отразилось ни признака сочувствия Цератоду. Он весело крикнул:
— Алло, Цератод, ваши очки могут шлепнуться в воду! Цератод, не оборачиваясь, похлопал себя по боковому карману, давая понять, что у него там имеется запасная пара.
На этом Мообс почел свой долг милосердия выполненным и стал издевательски насвистывать «Царствуй, Британия, над морями!» Он не любил англичан и не находил нужным скрывать это.
Тут же неподалеку дышал свежим воздухом подвахтенный кочегар Сэмюэль Смит. Высунувшись по грудь и опершись о высокий комингс люка, ведущего в кубрик котельной команды, он стоял на невидимом с палубы трапе и лениво; перебрасывался словами с лысым крепышом-матросом в черном, лоснящемся от машинного масла комбинезоне.
Матрос кивнул на Цератода, маявшегося у поручней:
— Второй час отрабатывает у борта. Работяга! Смита огорчила непочтительность собеседника.
— Возьми глаза в руки! Да ты знаешь, кто это?
— Твой молочный брат? Гофмаршал королевского двора? Изобретатель радара?
— Чудак, это Цератод, мистер Эрнест Цератод!
— Тот самый Цератод?
— Ну да. Виднейший деятель нашего профсоюза. Пусть только завтра мы придем к власти — и он сразу министр… В крайнем случае, парламентский заместитель министра…
— Мы? — иронически переспросил лысый. — Кто это «мы»?
— Рабочая партия, вот кто!
— А я думал «мы» — это такие, как мы с тобой. А это — Цератод.
— И Цератод тоже, — запальчиво промолвил Смит. — А что? Заходил к нам в кубрик, разговаривал запросто. Свой парень.
— Вот ты бы с ним и поговорил насчет сверхурочных. Форменный ведь грабеж.
— Говорил. Он сказал, что пока консерваторы у власти, союз бессилен. Надо, чтобы все голосовали за лейбористов. Установится рабочее правительство, тогда все пойдет совсем по-иному, по-нашему.
— Слепой лошади что кивнуть, что подмигнуть — все едино, — сказал лысый матрос.
— Что вы за народ — коммунисты! Против капиталистов, а дай вам мистера Бевина, так вы бы и ему голову отгрызли… — рассердился кочегар.
— Вы еще наплачетесь с этим Бевином.
— Эй, парень, ты забываешь, что я член лейбористской партии!
— Ты, забываешь, что мистер Бевин и Цератод тоже члены твоей партии.
— Ты хотел бы, конечно… — начал с наивозможнейшей язвительностью кочегар, но лысый матрос перебил его:
— Я хотел бы, конечно, чтобы решали в вашей партии такие люди, как ты, а не Бевин или твой Цератод, вот что я хотел бы, дурья твоя голова.
— Ну да, — лукаво подмигнул Смит, — поссорить, значит, руководство партии и ее массы. Так, что ли? Не выйдет, дружочек!..
— Тьфу! — огорчился лысый матрос, совсем уже было собрался уйти, но, сделав несколько шагов, вернулся. — Да пойми же ты, человече, что совсем одно дело ты, рабочий, — ты понимаешь, ра-бо-чий! — и совсем другое дело эти правые деятели, которые…
В нескольких шагах от споривших моряков прогуливались по мокрой палубе известный уже нам Мообс и офицер советского военно-морского флота Константин Егорычев.
Тут следует отметить, что из пассажиров «Айрон буля» Мообс жаловал своими симпатиями только двух человек. Первым был, конечно, мистер Фламмери. Джону Бойнтону Мообсу кружило голову общество мистера Фламмери. Ему льстило и сулило всяческие блага по возвращении в Штаты неожиданное знакомство с одним из представителей могущественных «шестидесяти семейств», и на все время совместного пребывания на борту столь счастливо сведшего их «Айрон буля» он превратился в самого приятного, преданного и безропотного спутника мистера Фламмери.
А кроме мистера Фламмери, ему нравился молодой советский моряк, капитан-лейтенант Егорычев, направлявшийся вместе со своим начальником, капитаном второго ранга Коршуновым, в служебную командировку в один из восточных портов Соединенных Штатов. Это чувство было совершенно бескорыстно. Ему был по душе Этот немногословный, но веселый русский, со светлой юношеской бородкой, широкоплечий, всегда подтянутый, неплохо говоривший по-английски, правда, с дьявольски смешным акцентом. На его синем кителе поблескивали три ордена и две медали.
Сказать по совести, Егорычеву во время этой поездки было совсем не так весело, как казалось благодушному молодому американцу. В самом деле, три года мечтать о том, чтобы принять участие в штурме западного побережья Черного моря и быть вынужденным отправиться в заграничную командировку как раз тогда, когда на сухопутном фронте развернулись бои под Яссами, а черноморские корабли вот-вот двинутся громить с моря Антонеску и Цанкова! Обидно, очень обидно! Он до сих пор никак не мог с этим примириться и еще только за минуту до появления на палубе «Айрон буля» получил очередную порцию отеческого внушения от капитана второго ранга, который тоже был далеко не в восторге от командировки в Америку в такую замечательную боевую пору.
— Разрешите идти, товарищ капитан второго ранга? — спросил немыслимо официальным тоном Егорычев. (Обычно он обращался к своему начальнику по имени и отчеству, а тот звал его попросту Костя.)
— Идите, — сказал капитан второго ранга. — И чтобы с этими нездоровыми настроениями раз и навсегда было покончено.
Егорычев сделал строго по форме поворот налево кругом и, печатая шаг, покинул каюту. В таких случаях (а такие случаи имели место почти после каждой очередной сводки Совинформбюро) он с горя разыскивал Мообса и заводил с ним для практики в английском языке длиннейшие беседы. Говорил главным образом Мообс, а Егорычев позволял себе только время от времени вставлять короткие реплики, неизменно приводившие репортера в самое веселое настроение. Впрочем, Мообса смешило и произношение мистера Цератода.
Поэтому в данном случае вопрос Егорычева его рассмешил вдвойне.
— А вам не кажется, — спросил он Мообса, — что Фламмери заметно пополнел после обеда?
— Тсс! — зашикал Мообс, давясь от смеха. — Молчок! — Он прошептал Егорычеву на ухо: — Это на случай подводных лодок… Пробковый жилет под китель — и ты непотопляем, как кит. Капитан ему сказал, что сумерки — самое удобное время для атак подводных лодок… А вы как полагаете?
— Капитан прав, — сказал Егорычев.
— Да, кстати, — дотронулся Мообс до медалей Егорычева, — я вас давно хотел спросить, Егорычев: эти медали, конечно золотые?
— Латунные.
Это разочаровало Мообса.
— За оборону Севастополя и Одессы я бы давал золотые. — Спасибо, мистер Мообс, на добром слове.
— Скуповато ваше правительство, простите за прямоту.
— В нашей стране металл в правительственной награде роли не играет.
— Слишком мало золота? — понимающе подмигнул Мообс.
— Слишком много героев. Мообс рассмеялся.
— Агитатор! Вы и в Америку едете агитировать? Он шутливо погрозил Егорычеву пальцем. Егорычев улыбнулся.
— В командировке агитировать?! Господь с вами, мистер Мообс! — Еще вопрос можно? — спросил Мообс.
Егорычев молча кивнул.
— Старина, давайте на чистоту. Вы это прикидываетесь только или вам в самом деле безразлично, что вот тут, рядом с нами, на этом ржавом железном корыте, находится сам мистер Фламмери? Роберт Фламмери из банкирского дома «Джошуа Сквирс и сыновья»! Роберт Фламмери из «Аноним дайнемит корпорейшн оф Филадельфия»!.. Роберт Фламмери из… Егорычев улыбнулся.
— В самом деле безразлично.
— Один из богатейших людей Америки!.. Ему ничего не стоило бы откупить весь наш конвой, и меня, и вас со всеми потрохами!..
— И меня тоже? — снова улыбнулся Егорычев.
— Если, конечно, ему это заблагорассудится.
Егорычев не стал спорить. Промолчав несколько мгновений, он спросил:
— А вы, кажется, не прочь, чтобы он вас купил?
— Мечтаю! — пылко ответил репортер. — Я был бы счастливейшим из американских журналистов. Моя карьера была бы обеспечена на всю жизнь!.. Я бы купался в долларах… Меня бы разрывали на части всякие газеты, агентства, журналы, радиовещательные компании!.. Меня бы…
Егорычев слушал Мообса, и ему было чуть-чуть скучновато, потому что, когда бы этот веснушчатый американский репортер ни начинал с ним разговор, он в конце концов обязательно переводил его на то, как хорошо было бы отхватить какой-нибудь большой куш, Заработать кучу долларов, разбогатеть. Куда интересней было бы послушать, о чем там, у люка, ведущего в кубрик котельной команды, так бурно спорят двое подвахтенных матросов — один лысый, а другой коренастый, черноусый.
Тогда еще Егорычев не знал, что этого черноусого звали Смит, Сэмюэль Смит.
Смит уже не опирался о комингс, он выбрался на палубу и вразвалочку, мелкими шажками расхаживал около грот-мачты, сопровождаемый своим лысым оппонентом. Неподалеку тихо о чем-то разговаривали, облокотясь о поручни машинного люка, несколько подвахтенных матросов.
И вдруг Смит встрепенулся, лицо его исказилось ужасом, он широко раскрыл рот (возможно, он закричал, но Егорычев его крика не услышал) и стал с отчаянной торопливостью расшнуровывать свои ботинки. В другое время было бы очень забавно видеть, как этот здоровый усатый дядя, согнувшись в три погибели, чтобы удобней было расшнуровывать ботинки, бочком и как-то по-лягушачьи подпрыгивал все ближе и ближе к борту.
Матросы, стоявшие около машинного люка, не стали терять время на то, чтобы разуться. Они метнулись к борту и почти одновременно с разгона шлепнулись в воду.
«Торпеда! — обожгла Егорычева мысль. — А Михал Никитич в каюте!.."
Он бросился сломя голову по скользкой палубе к трапу, ведшему в жилые помещения, но не успел сделать и пяти шагов…
Так он по сей день и не может вспомнить, услышал ли он взрывы. Он только помнит, что какая-то свирепая сила вдруг взметнула его вверх и далеко в сторону от парохода и зашвырнула глубоко под воду. А когда Егорычев, вдоволь наглотавшись отвратительной теплой солено-горькой влаги, вынырнул наконец на поверхность, он успел заметить, как под воду, задрав высоко в небо все еще вертевшиеся могучие винты, ушла кормовая, половина «Айрон буля». Носовая пошла ко дну еще раньше.
Солнце, словно дожидавшееся этого зрелища, немедленно вслед За этим быстро упало за горизонт.
Минут через двадцать все покрылось душной и влажной тьмой тропической ненастной ночи. Но до этого Егорычев имел возможность увидеть длинную и извилистую цепочку отчаянно дымивших транспортов, набиравших скорость и уходивших противолодочным зигзагом, неясные контуры эскортных кораблей, уже почти сливавшиеся с почерневшим океаном, мохнатые конусы воды над местами взрывов глубинных бомб и кое-где одинокие черные точки, подымавшиеся и опускавшиеся на окровавленных закатом волнах, как портовые буи. Это были головы людей, пытавшихся вплавь нагнать быстро уходивший конвой. После каждого взрыва этих точек становилось все меньше и меньше. Егорычев понял, что их глушит и топит гидравлическими ударами взрывов, и поплыл в обратную сторону. Сквозь грохот глубинных бомб и нараставший вой ветра до него долетали предсмертные крики, ему не давали покоя мысли о Михал Никитиче, которого уже не было в живых и который, быть может, был бы сейчас рядом с ним, если бы, вместо того чтобы по-мальчишески обижаться, Егорычев догадался пригласить его подняться с ним на палубу и прогуляться.
Егорычев плыл экономно, стараясь не выбиваться из сил, хотя, казалось бы, экономить их было уже не к чему. Не все ли в конце концов равно, уйдешь ли ты на дно несколько раньше или позже? Через минуту-две надвинется ночь, а самая близкая земля в сотнях миль.
И вот все захлестнуло кромешным, стонущим мраком. Тяжело и грозно раскачивается под Егорычевым шипящая черная бездна. Соленые брызги обжигают глаза. Он их крепко закрывает: все равно ничего не видно. Одежда набухла, ботинки оттягивают ноги, словно они из чугуна. Егорычев — неплохой пловец. Он мог бы, пожалуй, как-нибудь освободиться от кителя, но на кителе его боевые награды, и нет в мире опасности, которая заставила бы Егорычева с ними расстаться. Вообще надо трезво смотреть на вещи: даже раздевшись донага и при самой экономной трате сил ему, скорее всего, не продержаться до рассвета. Да и чем ему, собственно, полегчает, когда взойдет солнце? Однако Егорычев никак не собирается сдаваться. Он не цепляется за жизнь, он за нее борется — упорно, расчетливо, используя малейший шанс.
Удивительное дело: никогда человеческая мысль и память не работают с такой необычайной, поистине стереоскопической четкостью, как в те считанные мгновения, которые отделяют гибнущего человека от конца его жизненного пути. Стоило Егорычеву зажмурить глаза, как перед ним стремительно пронеслась вся его жизнь.
…Мама утром ведет его за ручку в детский сад в Большой Козихинский переулок… Отец впервые показывает ему громыхающую, огромную, как пароход, ротационную машину, на которой отец работает печатником… Вот восьмилетний Костя с первой своей похвальной грамотой, бережно свернутой в трубочку и перевязанной бечевкой от завтрака, возвращается из школы и, переходя улицу Горького (тогда она еще называлась Тверской) у Старо-Пименовского переулка, чуть не попадает под трамвай (тогда еще по улице Горького ходили трамваи)… Первые зимние каникулы у деда Леши, недалеко от Клина, под Москвой. Снег, играющий голубыми, желтыми, красными, фиолетовыми, оранжевыми, зелеными искорками. Реденькая березовая рощица в ясном морозном воздухе точно в хрустале. Темно-синий сосновый бор в просветах между далекими косогорами, как «море-окиян» из бабкиной сказки. Дед встречает Замерзшего Костю на пороге, веселый, сухонький, в ловко подшитых валеночках, покашливает в кулачок. Он до революции в Клину стекло дул на стекольном заводе и с той поры кашлял. Дед подмаргивает хитро-прехитро, низко кланяется внучку: «Пламенный привет ровеснику Октября! Просим вашу милость щец похлебать!» Ученик фабзавуча Костя Егорычев получает первую удовлетворительную отметку за самостоятельно изготовленную деталь… Студент первого курса архитектурного института Константин Егорычев впервые рисует обнаженную натуру. Ему неловко и перед нею и перед своими сокурсниками и, особенно, сокурсницами… Низенький широкоплечий капитан третьего ранга докладывает комсомольцам института о наборе в военно-морские училища… Веселая, с песнями поездка в Севастополь. С ним Витя Сеновалов, незабвенный его «корешок»… Первые минуты в Севастополе… Ясная свежесть сентябрьского черноморского утра. С вокзальной площади, если задрать голову, видно, как высоко наверху, по крутому подъему, вырубленному в скале, неторопливо карабкается в гору, цепляясь за провод смешным допотопным роликом, крошечный зеленый трамвайчик…
Огромная волна покрывает Егорычева с головой. Несколькими сильными рывками он выталкивает себя на поверхность, отряхивается, отплевывается.
…Командира роты морской пехоты старшего лейтенанта Егорычева принимают в партию в воронке от тысячекилограммовой бомбы на передовых, под Меккензиевыми горами… Он произносит речь над могилой Вити Сеновалова… Первое ранение… Первая встреча с Зоей в госпитале. Она дежурная сестра в его палате… Штурман быстроходного тральщика «Глеб Хмельницкий» старший лейтенант Егорычев бежит по разоренной улице Фрунзе, сворачивает направо, к Артиллерийской бухте. Школа, в которой теперь размещен госпиталь. Две забинтованные фигуры лежат неподвижно, лицами кверху на белых, крашенных масляной краской койках и беседуют, не. видя друг друга. Одна из них Зоя. Вся в бинтах, только голова и левая рука не забинтованы. От повышенной температуры румянец во всю щеку…
Непередаваемая нежность охватывает Егорычева. Он пытается произнести вслух; «Зоя! Зоенька!» Его рот захлестывает горько-соленой, тугой, как резина, массой воды. Он яростно отплевывается, кашляет, переводит дыхание. Ему хочется продолжить воспоминания о своей трудной, суровой и чистой севастопольской любви, но в это время что-то тяжелое с силой ударяет Егорычева по голове. Огненные круги вспыхивают в его крепко зажмуренных глазах. На мгновение он уходит под воду, всплывает наверх и снова ударяется, очевидно, о тот же самый предмет. Он инстинктивно пытается оттолкнуть от себя это таинственное нечто, и его руки упираются в толстую рею, обвитую обрывками каната. Они скользят по его ногам, как щупальца страшного и неведомого морского чудовища.
«Спасен! Спасен!..» Егорычев обеими руками обхватывает скользкое, гладко обтесанное бревно и замирает в сладостном чувстве безопасности. Он отдыхает. Через него переваливают чуть видные пенистые гребни невидимых волн, но сейчас это его нисколько не интересует. Он отдыхает. Потом ему приходит в голову, что где-нибудь поблизости, возможно, плавает еще какой-нибудь несчастный, спасшийся с,"Айрон буля». И вдруг это Михал Никитич?! Он прекрасно отдает себе отчет, что этого не может быть, что Михал Никитич никак не мог спастись, и все же кричит в темноту: «Михал Никитич!.. Михал Ни-ки-ти-ич!»
Он прислушивается и, конечно, не слышит никакого ответа.
«Михал Ни-ки-ти-ич!» — продолжает, несмотря на это, кричать Егорычев. Он кричит до хрипоты, то и дело отплевываясь от воды, Забивающей ему рот. «Михал Ники-и-и-и-тич! Гей, гей, ге-э-э-эй!»
Он замолкает на секунду, чтобы отдышаться и набрать воздуха в легкие, и в это мгновение ему сквозь вой ветра и шипенье волн чудится что-то, напоминающее эхо: «Ге-ге-ге-э-эй!..»
Это невероятно: эхо в открытом океане? Егорычев замирает, прислушиваясь к ревущей темноте. И он слышит голос, очень тонкий и в то же время приглушенный, словно кто-то кричит через подушку: «Ге-ге-ге-ээй!.. Хел-ло-о-о-о! Хел-ло-о-о-о!»
Он не сразу определяет, откуда доносится этот голос. Потом их становится два. Он плывет по направлению этих голосов, продолжая кричать «гей-гей», чтобы дать разрядку страшному, нечеловеческому напряжению воли, в котором он томился еще минуту тому назад, и чтобы не потеряться в непроглядном пекле, кипевшем вокруг него.
Вскоре слышится слабый, какой-то ненастоящий плеск весел, потом показывается, вернее угадывается во мраке, колышущийся темный край довольно высокого спасательного плота, с него свешивается чуть различимая рука, схватывает его за мокрые волосы, а незнакомый сипловатый голос произносит:
— Цепляйтесь за бортовой леер!.. Через несколько секунд Егорычева, внезапно потерявшего силы, втащили на плот.
II
На плоту, рассчитанном на одиннадцать человек, Егорычев нашел только четверых; Цератода, Фламмери, Мообса и того самого черноусого кочегара, который так забавно, по-лягушечьи подпрыгивал каких-нибудь двадцать минут тому назад к борту парохода, пытаясь на скаку расшнуровать ботинки. Неужто в самом деле, не прошло и получаса с тех пор, как они беззаботно разгуливали по прочной и просторной палубе «Айрон буля»? Казалось, что это было страшно давно, много-много лет тому назад, может быть даже в другом столетии.
Пока Мообс и Смит вытаскивали Егорычева из воды, он успел удивиться, как это им удалось раздобыть спасательный плот? Отвязали его от снастей, на которых он был подвешен на транспорте? На это ни у кого не хватило бы времени. Очевидно, Он был неплотно закреплен и его легко оторвало и забросило далеко от гибнущего судна той же самой взрывной волной, которая обеспечила его четырьмя пассажирами. Утром Егорычев увидел обрывки кормового и носового фалиней и удостоверился, что догадка его была правильной.
Но мысли о происхождении спасательного плота заняли у Егорычева ровно столько времени, сколько потребовалось для того, чтобы Мообс и Смит вытащили Егорычева на плот и усадили на дощатый настил, имевший в середине продолговатое четырехугольное углубление. В этом углублении плескалась вода. Под нею Егорычев с удовольствием нащупал ногами двустворчатую дверцу, за которой, как ему было известно, в водонепроницаемой каморке хранился анкерок с питьевой водой и аварийный запас продуктов. Этот сколоченный из пустых бочек, обшитых досками, плот не радовал глаз изяществом форм и особенными удобствами, но обладал поистине бесценным достоинством: на какую бы из своих сторон он ни шлепнулся в воду, он одинаково пригоден для использования. С обеих его сторон — верхней и нижней — были одинаковые сиденья, одинаковые углубления посередине и одинаковая двустворчатая дверца, открывавшая доступ к каморке с водой и продуктами. Соответственно были плотно закреплены с обеих сторон по полтора комплекта весел.
— Кто-то стонет? — спросил Егорычев, тщетно пытаясь вглядеться в темноту.
— Мистер Цератод, — неприлично весело ответил ему репортер.
— Ранен?
— Морская болезнь. От этого еще никто не умирал… Даже англичане.
Конечно, Мообс не блистал познаниями ни в какой области человеческого знания, кроме футбола и бокса, но и он не мог не знать, что за англичанами идет слава хороших мореходов. Однако Мообс, как мы уже знаем, не жаловал англичан.
— Пусть он приляжет, — сказал Егорычев. — И пусть вдыхает с себя воздух, когда плот подымается на волне. Ему будет легче.
— Он опасается, что его смоет волной.
— Можно его привязать.
— Я не хочу, чтобы меня привязывали! — закричал Цератод неожиданно тонким фальцетом. — А вдруг плот перевернется?..
Мообс презрительно фыркнул, но в это мгновенье, как бы доказывая основательность опасений Цератода, плот вдруг круто накренило.
— Вот видите! — донесся из темноты мстительный голос Цератода. — Вот видите!..
Вынырнула из-за тяжелых туч иссиня — белая луна, мазнула по гребням огромных пенистых ухабов мертвенной, ртутного цвета дорожкой, протянувшейся от плота до недалекого, зазубренного, как пила, горизонта. Она осветила плот, от которого на воду легла жирная черная тень, осветила Цератода во всей его неприглядности, согнувшегося в три погибели и вцепившегося мертвой хваткой в мокрые поперечные рейки обшивки, мистера Фламмери, который безопасности ради устроился прямо в воде, плескавшейся над двустворчатой дверцей, за которой хранился неприкосновенный запас, кочегара Смита, напряженно застывшего за рулевым веслом, Егорычева и Мообса, изо всех сил работавших веслами, чтобы удержаться против волны.
И еще она осветила черную, блестящую, словно отполированную, почти отвесную стену гигантской волны, готовой вот-вот обрушиться на плот, подмять его под себя, раздавить, раскрошить, превратить в щепы и насмерть захлестнуть его пассажиров. Это было так страшно, что все, кроме Егорычева и Смита, невольно зажмурили глаза в ожидании неминуемой гибели и раскрыли их только тогда, когда, вопреки, казалось, всем законам физики, плот непонятным образом взмыл на вершину этой (а может быть, другой) чудовищной водной громады, высоко над черной бездной, где уже закипала и в несколько секунд выросла, шипя и звеня, другая, еще более высокая и страшная стена, тяжело надвигавшаяся на хрупкое человеческое сооружение из железных бочек, обшитых досками.
Но черная стена снова провалилась куда-то вниз, обдав плот ливнем липко-соленых брызг, плот вертелся, кружился, подпрыгивал, как пробка, пытался встать на дыбы, чтобы освободиться от направляющих усилий своих пассажиров.
Потом луна так же внезапно исчезла, как и появилась. Ее словно задуло ветром, и стало еще темнее, чем до ее появления.
— Сейчас бы вина немного, — мечтательно проворчал Смит. — Продрог как собака…
Цератоду, понятно, было не до вина, но остальные согласились, чтостаканчик винца действительно сейчас никак бы не помешал. Правда, мистер Фламмери выразил свое мнение несколько более сдержанно и менее определенно, нежели Мообс и Егорычев, но если учесть возраст почтенного капитана (как-никак, сорок восемь лет) я его твердые религиозные воззрения, в этом не было ничего удивительного.
В общем обменялись несколькими скупыми фразами и надолго замолкли, размышляя каждый о своем, невеселом. Первая радость спасения уже давно прошла, все понимали, что скитания по безбрежным и безлюдным просторам южной Атлантики могут затянуться надолго и, если даже их и не смоет в океан какая-нибудь шальная волна, не обязательно закончатся встречей с кораблем или высадкой на берег.
Их глаза понемногу привыкли к мраку, окружавшему их со всех сторон. Уже больше не чудилось, что плот странно взвешен в фантастической черной бездне. Теперь на фоне все же более светлого неба различались быстро движущиеся бесконечные шеренги темных и тяжелых, словно из свинца литых, высоких волн, против горизонта просматривались мрачные силуэты товарищей по плоту, да И плот уже виднелся, как нечто отдельное от бушевавшей вокруг него свирепой стихии, и даже иногда видно было, правда не очень ясно, как на него тяжело шлепались пенистые черные языки и, шипя, скатывались обратно в океан.
Незадолго до рассвета мистер Фламмери вдруг с неожиданной энергией поднялся из углубления, в котором он до того недвижно пребывал, уселся на сиденье напротив Егорычева и хриплым, но громким голосом сообщил:
— Псалом восемьдесят шестой. Молитва Давидова.
После этого он мокрыми ладонями пригладил свои мокрые волосы, встал на ноги, для пущей устойчивости несколько согнул колени и широко раскинул руки, откашлялся и начал:
— «Прислони, господи, ухо твое и услышь меня, потому что я беден и нищ…»
Он всхлипнул, звучно высморкался.
— «Прислони ухо твое к воплю моему, потому что пресытилась бедствиями душа моя и жизнь моя дошла до преисподней… Я сравнялся с отходящим в могилу…» О да, сэр, я сравнялся с отходящим в могилу… Внимание, леди и джентльмены! Вифлеемские стальные упали на четыре пункта!.. Поезд на Бостон отправляется через три минуты!.. Аллилуйя, канашки!..
— Он сошел с ума! — воскликнул Егорычев. — Мистер Цератод, удержите его, он хочет броситься в воду!..
Но мистер Фламмери опередил струсившего Цератода. Он сделал два шага вперед, упал на колени перед пустым сиденьем направо от почтительно посторонившегося Смита, и его стало тошнить.
Так спутники мистера Фламмери узнали, что у него хранилась в заднем кармане брюк объемистая плоская фляжка коньяку и что он, утаив ее от своих товарищей по несчастью, вылакал до дна, не оставив им ни капли.
Освободившись от поглощенного спиртного, мистер Фламмери снова плюхнулся в углубление между сиденьями и моментально заснул.
Вскоре ночь почти без промежуточных этапов сменилась пасмурным днем. Небо по-прежнему было покрыто низкими тучами. Стало еще труднее держать плот против волны. У Мообса вышибло весло из рук, и оно мгновенно исчезло в неразберихе воды и пены. Пришлось выдать ему запасное. Можно было бы, конечно, изготовить из трех весел водяной якорь, который при менее бурной погоде прекрасно держал бы плот против волны. Но Егорычев не решился рисковать. Водяной якорь почти наверное оторвало бы, и тогда они остались бы без весел.
Пока Цератод и Фламмери еще не были в состояния заменить гребущих, Егорычев решил обходиться без рулевого. Он предложил Смиту отдохнуть.
Ни Смит, ни Мообс не усмотрели ничего удивительного в том, что Егорычев отдает распоряжения. Как-то само собою получилось, что уже ночью все признали авторитет Егорычева, как единственного среди них знакомого с искусством кораблевождения, и вручили свою судьбу в его руки.
Есть никому не хотелось, но жажда людей, вдоволь наглотавшихся солено-горькой воды, с каждым часом становилась все нестерпимей.
Смит поднял храпевшего мистера Фламмери с его мокрого ложа, прислонил к осунувшемуся и пожелтевшему Цератоду, снял со своей ноги ботинок, который ему там, на транспорте, так и не удалось расшнуровать, вычерпал им воду, закрывавшую доступ к неприкосновенному запасу, распахнул заветную дверцу и извлек из каморы анкерок с пресной водой и несколько пакетов с сухим молоком и пеммиканом. Воды в бочонке было литров тридцать. Таким образом запас на каждого составлял шесть литров. Егорычев предложил пока выдавать по пол-литра в день на человека.
— Пока? — спросил, поморщившись, Мообс. — А после этого «пока», дорогой Егорычев?
— Если через трое суток нас никто не подберет, придется уменьшить рацион.
— Вы напрасно огорчаетесь, сэр, — попытался кочегар утешить Мообса: — пол-литра — это больше двух стаканов. Не всякое кораблекрушение обеспечивает такую норму воды.
— А представьте себе, Мообс, — добавил Егорычев, — что нас спаслось бы не пятеро, а десять — пятнадцать человек… Итак, эти пол-литра мы будем получать по два раза в день, утром и вечером равными порциями.
Не так-то легко было убедить измученных жаждой людей, чтобы они раньше поели пеммикана. Пить до пеммикана было бессмысленной тратой драгоценной влаги. После полубанки этого сытного, но приторно сладкого месива из протертых орехов пить захотелось бы еще больше. Через силу поев пеммикана и проглотив по нескольку таблеток сухого молока, каждый насладился своей порцией воды. Разбудили Фламмери, но тот, промычав что-то нечленораздельное, тут же снова захрапел. Его окатили забортной водой и, когда он кое-как очухался, заставили проглотить его порцию пеммикана и влили в него стакан питьевой воды. От воды он окончательно при- шел в себя и сообщил, что ему хочется еще пить. Узнав, что вторая порция будет выдана только вечером, он собрался было снова спать, но Смит, по приказанию Егорычева, не без некоторого трепета, но с истинным удовольствием растормошил мистера Фламмери: нужно было на первое время сменить у весел хотя бы Мообса.
Фламмери обиженно заявил, что он чувствует себя усталым, укоризненно взглянул на смутившегося Мообса, и тот вдруг сообщил, что с удовольствием погребет за больного мистера Фламмери.
— Можете, Джонни, считать, что пятьсот долларов уже у вас в кармане, — благосклонно кивнул ему мистер Фламмери, улегся на прежнем месте и тут же уснул.
Мообс бросил быстрый взгляд на Егорычева и испытал живейшую потребность оправдаться перед ним.
— Вы понимаете, Егорычев, — сказал он, — этому человеку раз плюнуть обеспечить мне в Штатах головокружительную карьеру…
Егорычев промолчал.
Что же касается Цератода, то он, состроив язвительную улыбочку, протянул:
— Трогательно видеть такую самоотверженную помощь почти незнакомому человеку!
Цератод знал, что за него никто не сядет за весла. Поэтому он был искренне раздражен.
— Но-но, сэр! — сердито огрызнулся Мообс. — Я свободный американский гражданин: хочу — помогаю мистеру Фламмери, не хочу — не помогаю… Это мое частное дело… Человек не совсем здоров, и мой долг христианина…
— За головокружительную карьеру? — очень обидно осклабился Цератод. — За пятьсот долларов и головокружительную карьеру? Почему бы вам не погрести за Смита? Бедняга все время за веслом.
Мообс в сердцах плюнул.
— Спасибо вам, мистер Цератод, — растроганно промолвил Смит. — Я еще не так устал! Вы настоящий парень, мистер Цератод…
— Отдыхайте! — сказал ему Егорычев. — Я погребу за вас.
— Я еще не так устал! — повторил Смит.
— Ладно, ладно! Отдавайте весло — и спать!
— Раз вам приказывают спать, дружище Смит, — начал Цератод с благодушной строгостью, — надо подчиняться. Дисциплина в данных условиях…
Но что представляет собой дисциплина в данных условиях, наш кочегар уже не слышал. Отдав весло Егорычеву, он растянулся рядом с Фламмери и тотчас же уснул. Его густые черные усы каждый раз, когда на его широкое лицо падали брызги, подергивались, точно его кусали мухи…
Вечером Мообс захотел поделиться с мистером Фламмери своей порцией воды, но тут Егорычев вмешался самым решительным образом.
— Ваше запрещение обойдется мне ровно в тысячу долларов, — пробурчал Мообс. — Учтите, Егорычев, я совсем не миллионер. И я еще пока очень слабенький, начинающий журналист, без имени и покровителей…
— Мне кажется, Мообс, что вы выбрали самое неудачное место для торговли водой, — спокойно возразил ему Егорычев. — Вода, которую мне доверили распределять, в продажу ни в коем случае не поступает. И потом, — добавил он вполголоса, сделав небольшую паузу, — напрасно вы, дружок, так уверены, что вам обязательно придется получать деньги с мистера Фламмери… И вообще с кого бы то ни было…
— Вы думаете?.. — начал упавшим голосом Мообс.
— Я еще пока не имею оснований делать окончательные выводы. Эта проклятая сплошная облачность, черт бы ее побрал!..
— Значит, вы полагаете…
— Я пытаюсь вспомнить карту Атлантики, и мне почему-то кажется, что мы сейчас где-то посередине между Африкой и Южной Америкой, далеко в стороне от торговых путей…
— И вы думаете…
— Повторяю, пока что нет ни малейшей возможности ориентироваться. А если даже… Впрочем, унывать пока нечего.
— Джонни! — позвал Фламмери репортера. — Вы не подмените меня хотя бы па полчасика? Я страшно устал.
— Я еле держусь на ногах, сэр! — отвечал Мообс с неожиданным ожесточением. — Я почти сутки проторчал за веслами, сэр!
И завалился спать.
Под утро разразилась гроза. Казалось, будто где-то наверху кто-то с чудовищным грохотом то и дело опрокидывает бочки необъятной величины и из них ровными тяжелыми потоками хлещет немыслимое количество теплой воды. Гроза прогремела над плотом, промочив всех до костей, зацепилась молниями за тучи и умчалась па север, легко утащив их за собой. Во воем его праздничном великолепии раскрылось глубокое темно-синее небо, усеянное ярчайшими мохнатыми звездами непривычных созвездий южного полушария.
Ветер несколько утихомирился, волна уменьшилась.
К вечеру, для того чтобы держаться против волны, уже достаточно было одного рулевого весла. Солнце немилосердно припекало. Пришлось изготовить себе из нижних сорочек несуразные, но довольно практичные чалмы. Выглядели в них наши путешественники достаточно смешно и доставили друг другу несколько веселых минут.
Особенно (об этом, конечно, никто не решился заявить вслух) был забавен мистер Фламмери. Сняв с себя китель и сорочку, он все же не рискнул расстаться со спасательным жилетом, который накануне не дал ему уйти на дно.
Так он и сидел, обливаясь потом, туго затянутый в капковый жилет с болтавшимися бантиками тесемок.
Заметив, что Мообс под влиянием печальных мыслей отбивается от рук и грозит целиком выйти из его подчинения, Фламмери как бы между прочим посоветовал ему:
— Запоминайте, Джонни, все, что с нами сейчас происходит. Вы парень толковый. Напишете потом книжку, а я берусь ее протолкнуть. Дело пахнет десятками тысяч долларов я нешуточной славой. Это я вам гарантирую. Только не забывайте, мой мальчик, что у вас голова на плечах не только для отращивания пышной шевелюры.
Этими словами он надолго вернул себе чистую и нежную привязанность веснушчатого репортера, физиономия которого под беспощадными лучами тропического солнца стала цвета спелой моркови.
Час за часом проходил в томительном и мрачном молчании. Люди молча орудовали веслами, молча принимали пищу, молча спали, а если не спалось, молча сидели, размышляя каждый о своем.
Несколько раз Егорычев пытался заговорить с Мообсом о том, как за эти дни могло сложиться положение там, далеко, за многие тысячи миль, на фронтах войны.
Мообс отмалчивался. Потом его точно прорвало:
— Я маленький человек, Егорычев! Оставьте меня в покое с вашей войной! С меня ее хватит… Не все ли мне равно, что произойдет с миром, если не сегодня-завтра я смогу составить завтрак какой-нибудь чертовой акуле или осьминогу!
— Что вы, Мообс! — опешил Егорычев. — Почему моявойна?.. Вспомните беседы в каюте на «Айрон буле». Идеи, которые вы тогда высказывали…
— Не было бесед!.. Не было каюты!.. Не было у меня идей!.. И «Айрон буля» тоже не было!.. — истерически закричал Мообс, потрясая своими могучими кулаками боксера. — Были и пока — слышите, пока! — существуют только пять беспомощных козявок, которых мотает на деревянном курятнике по этому ухабистому, будь он трижды проклят, океану!.. Поймите это, наконец, чудак вы этакий!..
— Джонни прав, — поддержал его мистер Фламмери. — Я бы, со своей стороны, порекомендовал почаще возносить молитвы к господу нашему, ибо судьбы наши в его руках.
Сэмюэль Смит мрачно орудовал рулевым веслом. Он не считал себя вправе вмешиваться в беседу столь высокопоставленных джентльменов, но у него было свое мнение о том, кто прав в этом споре.
— Оставим войну нашим главнокомандующим, — примирительно Заметил Цератод. — У нас сейчас имеются заботы поважней…
(Тут самое время сказать, что не совсем обычная фамилия «Цератод» имеет непосредственное отношение к ихтиологии, или, что то же самое, науке о рыбах. Цератодом называется представитель одного из двух до сих пор сохранившихся семейств подкласса двоякодышащих рыб, являющийся по некоторым своим признакам переходным к вышестоящему классу амфибий.
Цератоды — обитатели пресных, обычно замкнутых водоемов, жизнь в которых благодаря интенсивному процессу гниения была бы невозможна, если бы у цератода под влиянием борьбы за существование не выработались органы для воздушного дыхания. Заслуживает внимания, что цератоды почти целиком сохраняют при этом жаберный аппарат. Плавательный пузырь превращается у них в легкое только с одной стороны.
И, наконец, достойно подчеркнуть, что двоякодышащие рыбы относятся к разряду архаических, быстро вымирающих пород и окончательно исчезнут, лишь только лишатся своей обычной, то есть гниющей, питательной среды.)
В седьмом часу наступила ночь. Все, кроме Егорычева, легли спать. Мистер Фламмери, позевывая и потягиваясь, посоветовал Егорычеву вместо суетных земных дел уделить хоть некоторое время мыслям о господе.
— И вообще, сэр, ставьте всегда господа между собой и своими помыслами и страданиями. Уверяю вас, это смягчает душу… Испытаннейшее средство!..
А Смит дожидался, пока остальные уснут, чтобы что-то сказать Егорычеву, но, покосившись в их сторону, воздержался, ограничившись только словами:
— Желаю вам доброй ночи, сэр!.. Был бы рад часочка через два-три подменить вас.
— Спасибо, дружище, — ответил ему Егорычев.
Вскоре над океаном поднялась? луна и напомнила Егорычеву Черное море и блаженное время довоенных летних учений и родную бригаду катеров-охотников, которая, может быть, в этот самый час участвует в долгожданных боевых операциях у западных берегов. Ему стало обидно и грустно при мысли, что в дни этих боев у берегов противника он вынужден скитаться на каком-то дурацком плоту в тысячах миль от своих боевых друзей, от родины, от близких… Где сейчас его жена 3оя? Вспоминает ли о нем? Здорова ли? Где Сережа? Отец небось воюет, отвоевывает для сынка главную базу — Севастополь. А его сынок вместо боя трюхается за тридевять земель на плоту со скоростью четыре узла в год… Михал Никитича жалко, ох, как жалко! Какой человек был!..
Волна пошла смирная, не мешала думать. Вот Егорычев и думал, не переставая по старой своей морской привычке внимательно следить за горизонтом.
Занятно все-таки получилось. Мальчишкой увлекался приключенческими книжками, мечтал попасть в кораблекрушение и обязательно где-нибудь в тропиках — и вот тебе, пожалуйста, кораблекрушение и именно в тропиках. Подрос немного, прочитал кучу книг об Америке и Англии — и вот, пожалуйста, он на плоту с живыми англичанами и американцами. Изучал историю партии и никогда не предполагал, что придется столкнуться носом к носу с самым настоящим миллионером и с самым стопроцентным правым тред-юнионистом.
А между тем вот они перед ним прикорнули на плоту — натуральный американский миллионер (кажется, даже миллиардер) и живой правый тред-юнионист. Преспокойно похрапывают. Во всем положились на него…
Потом Егорычев пытается представить себе, что сейчас, в настоящую минуту делают его отец, Зоя. брат Сережа, товарищи по дивизиону и морской пехоте… На Черном море сейчас утро, скоро подъем флага. Вспоминают ли о нем в этих родных и таких далеких краях? Вспоминают, конечно, вспоминают и, наверно, думают, что он уже где-то в американских водах, а то и в самой Америке… А он вот где… И ничего кругом не видать, кроме чужих волн и холодной лунной дорожки в пустынном и жарком океане…
По-прежнему уныло, беспросветно чист единственный, освещенный луной, видимый отрезок горизонта…
И вдруг внимание Егорычева привлекло неподвижное черное пятнышко, четко выделявшееся на самом краю ослепительной лунной дорожки.
Несколько минут он вглядывался в эту точку, боясь поверить мелькнувшей догадке и не решаясь будить своих спутников. Наконец он все же осторожно растолкал Смита.
— Я сейчас, сэр… Прелестная ночь!..
— Посмотрите-ка, старина, в ту сторону! — тихо сказал ему Егорычев. — Вон туда, в самый конец лунной дорожки…
Смит долго, невыносимо долго смотрел в указанном направлении, потом обернулся к Егорычеву и нерешительно промолвил:
— Какое-то черное пятнышко… Если я только не ошибаюсь.
— Что это, по-вашему?
— Сомневаюсь, чтобы это был корабль, мистер Егорычев… Оно не движется.
— А вдруг это… земля?
— Боюсь ошибиться, но очень может быть…
— Будим?
— Будим, мистер Егорычев!..
Спустя минуту все были на ногах и усердно гребли к этой заветной точке. Им везло: ветер был попутный. Через некоторое время стало ясно, что это действительно земля, только не материк, а остров.
III
В ночь на 6 июня 1944 года, в тот самый час, когда соединенная армада военных кораблей, транспортов и десантных барж начала под прикрытием губительного огневого вала и тысяч бомбардировщиков и истребителей высаживать на французский берег первые эшелоны вооруженного до зубов англо-американского десанта, в нескольких тысячах миль к югу, на прибрежную гальку затерявшегося в океане клочка скалистой суши, выбросило высоким штормовым накатом небольшой деревянный плот с известными уже нам пятью пассажирами.
Не теряя ни секунды, они соскочили на берег. Надо было ухватиться за бортовые леера и, воспользовавшись накатом, вытащить плот подальше от воды. Но Цератод спрыгнул так неудачно, что чуть было не захлебнулся. Пришлось Егорычеву вытаскивать обеспамятевшего с перепугу майора, пробираясь по шею в свирепо шипевшей черной воде. Откатывавшаяся волна поволокла их с собою назад, в океан, и они оба погибли бы, если бы Мообс, оставив плот, не бросился им на подмогу. А Смиту с Фламмери не по силам было вдвоем удержать плот. Они выпустили из рук мокрые леера, и его тотчас же утащило в бушующий мрак, подняло на новый, еще более высокий вал и снова швырнуло на берег, но уже не на гальку, а на острые каменные глыбы, торчащие из воды, как клыки фантастического морского зверя. Раздался треск, и плота не стало. Только невидимые в ночной тьме пустые железные бочки, освободившись от дощатой обшивки, стали через правильные промежутки времени с пушечным грохотом ударяться о невидимые камни.
Разведали местность. Выяснили (для этого потребовалось очень немного времени), что они находятся на небольшом каменистом пляже, с обеих сторон прижатом к океану высокой скалой, кое-где поросшей колючим кустарником. Пока они решали, оставаться ли здесь до рассвета или пробираться вдоль берега по узенькой полоске гальки, огибавшей скалу справа, неожиданно начался прилив и первым делом затопил именно эту полоску гальки.
Скорее всего, судьба этих пяти человек, а вместе с нею и дальнейший ход нашего повествования повернулись бы совсем по-иному, если бы эта ничтожная полоска гальки была чуть повыше над уровнем моря или значительно шире. Но океанский прилив, стремительно закрывший эту единственную лазейку из создавшейся мышеловки, в несколько минут затопил и весь остальной пляж и погнал наших героев наверх по узкой и довольно крутой расселине, скупо поросшей кустарником.
Положение было не из приятных. Приходилось пробираться в темноте, почти ощупью, цепляясь друг за друга и за жестоко царапавшие кусты. Расселина могла предательски подвести на самый край пропасти, размокшие и разбухшие подошвы скользили по грунту, как по гладкому льду, и ничего не стоило сорваться вниз, в бурлящую пучину. Поэтому, добравшись до сравнительно просторного уступа, решили больше не рисковать и переждать здесь до утра.
С первыми лучами солнца определилась обстановка. Спускаться вниз не имело смысла: они находились примерно На половине пути. К тому же неизвестно еще было, куда могла завести их тропочка, огибавшая справа подошву скалы. Она свободно могла завести в тупик, и тогда следующий прилив стал бы последним в их жизни, а расселина оказалась совсем не такой крутой и страшной, какой она представлялась ночью. Решили продолжать подъем. Тем более, что сверху легче и проще разобраться в общей топографии острова.
Пошли легко и весело, взбодренные нежной прохладой блистательного и безмятежного тропического утра.
После непрерывного ада последних трех суток им казалось, что они попали в сказку, в сладкий детский сон, в рай. Утихомирившийся океан несказанно светлой и ясной синевы, усеянный мириадами прытких солнечных зайчиков, ласково и бесшумно колыхался далеко-далеко внизу. Над ними, как холка огромного, добродушного допотопного чудовища, курчавились по самому краю вершины деревья, отягощенные обильной и необыкновенно сочной зеленой листвой, которая издали казалась тяжелой, как плоды. А всю эту волшебную панораму венчал, придавая ей праздничную стереоскопичность, сияющий, начисто вымытый прошедшими ливнями купол неба, еще не успевший побелеть от надвигавшегося полдневного зноя.
Оставалось до конца подъема шагов пятьсот — шестьсот, когда Мообс неожиданно сделал исключительно важное открытие.
— Джентльмены! — вскричал он и бросился пожимать руки всем по очереди. — Ах, боже мой, джентльмены!.. Мистер Фламмери!.. Посмотрите вон туда!.. Да нет, не туда, а левее! Вы видите?.. Убейте меня, если это не антенна!..
Метрах в двадцати левее наших путников тоненькой зеленоватой змейкой раскачивался на слабом утреннем бризе длинный, с зеленой прозрачной хлорвиниловой изоляцией провод, свободно свисавший откуда-то сверху.
Мистер Цератод внимательно посмотрел в указанном направлении, снял очки, тщательно протер их, надел, снова посмотрел.
— Я, конечно, слишком слаб в радиотехнике, чтобы высказаться так категорично, как наш юный друг, но это, вне сомнений, металлическая проволока. И или я ничего не понимаю, или через полчаса-час мы с вами наконец позавтракаем по-человечески, без пеммикана и молочных таблеток.
— Тем более, что весь пеммикан и все таблетки пошли на угощение местным рыбкам, — восторженно подхватил Мообс. — И никогда еще мне не было так жаль рыбок, а вам, мистер Фламмери? Вы что скажете по этому случаю?
— Я скажу псалом сто седьмой, мой дорогой друг. Либер квинтус, то есть книга пятая Псалмов царя Давида, — благочестиво ответствовал мистер Фламмери и начал: — Славьте господа, потому что он… потому что он… Прости меня, господи, но я так волнуюсь… И я кое-что позабыл… М-м-м… Да скажут… м-м-м… которых он избавил от рук врага… М-м-м… Терпя голод и жажду (тут Мообс совсем некстати вспомнил, как мистера Фламмери тошнило на плоту после целой фляги коньяку)… М-м-м… Тьфу, черт, ну и память!.. М-м-м… Но воззвали они… м-м-м… и он повел их на прямую дорогу (кажется, так, господи?), чтобы они пришли в населенный город… Что это с вами, мистер Егорычев? У вас такой вид, словно вы проглотили что-то очень горькое.
— Не знаю, как насчет населенного города, — мрачно отозвался Егорычев, — но за избавление из рук врага вы, кажется, несколько поспешили похвалить вашего господа.
В руках у него желтел потрепанный, видимо не раз побывавший под дождем, клочок бумаги.
Робинзон Крузо, неожиданно обнаруживший на мокром песке след чьей-то босой ноги, вряд ли испытал большее волнение, нежели Егорычев, нашедший на колючках кустарника этот ветхий обрывок старой газеты.
— Не вашего господа, а нашего господа, — кротко возразил ему Фламмери. — Господь у нас у всех один, и этим мы, белые, отличаемся от гнусных цветных язычников, которые поклоняются множеству самодельных богов. Что это у вас за бумажка? Вы взираете на нее, словно это бомба.
— Весточка от мистера Гитлера, — кисло сострил Егорычев, несколько помедлил и добавил:- «Фелькишер беобахтер»… И за довольно свежее число…
— Вы шутите! — Цератод выхватил бумажку из рук Егорычева, впился в нее близорукими глазками, поднеся почти к самому своему облупившемуся носу, затем молча передал ее Мообсу, тот — Фламмери, а Фламмери — Смиту.
Нет, Егорычев не шутил. Это был действительно обрывок официоза национал-социалистической партии Германии, газеты «Фелькишер беобахтер» от девятого апреля тысяча девятьсот сорок четвертого года.
IV
— Мы погибли! — пробормотал Мообс. — На острове немцы. Это ясно…
— Нет, почему же погибли? — твердо возразил ему Цератод. — Нужно только действовать без паники, решительно, с умом, взвесив каждый шаг.
— Совершенно верно! — в один голос поддержали Цератода Егорычев и Фламмери. Егорычев даже почувствовал нечто вроде угрызений совести: он не ожидал такого хладнокровия со стороны Этого толстого и рыхлого джентльмена.
— Нужно только не раздражать немцев бесполезными и безрассудными выходками, — продолжал Цератод, бросив выразительный взгляд в сторону Егорычева. — Из любого носового платка может получиться вполне приличный белый флаг. Если кто-нибудь опасается, что платка мало, я могу предложить для этой цели свою сорочку, и… — тут он окинул всех высокомерным взглядом, — и я беру на себя переговоры с этими тропическими немцами, если будет решено, что всем сразу показываться опасно… Потрудитесь не перебивать меня, капитан-лейтенант Егорычев! Как старший по чину, я всем дам возможность высказаться. Ваше мнение, капитан Фламмери?
— Я передаю свою судьбу в руки божьи, майор Цератод.
— Я не сомневался в вашем благоразумии, сэр.
— Я буду молить господа, чтобы он смягчил сердца наших заблудших братьев и склонил их к нашим страданиям, — дополнил капитан санитарной службы свою мысль.
— Вы хотели что-то сказать, капитан-лейтенант? — обратился Цератод к Егорычеву. В голосе его слышался начальственный металл.
— Прежде всего я предложил бы залечь в кустах. А то заблудшие братья мистера Фламмери могут заметить нас и, упорствуя в своих заблуждениях, зашвырять сверху гранатами.
Предложение это было принято и выполнено с похвальной быстротой.
— Во-вторых, — промолвил Егорычев, изо всех сил стараясь сдержать кипевшую в нем ярость, — не понимаю, Почему нам сдаваться в плен?
— У вас имеется другой выход? Более безопасный? — ядовито осведомился мистер Фламмери.
— Более достойный. Единственно достойный. Фламмери хмыкнул:
— Нас тут трое офицеров, — продолжал Егорычев, — и мы обязаны принимать решение, как должно солдатам воюющей армии. Да, я думаю, что и Мообс…
— Я не офицер! — быстро ввернул Мообс. — Настоятельно подчеркиваю, я даже не военнослужащий. Прошу считать меня самым банальным человеком, потерпевшим кораблекрушение, и только.
Смит мрачно молчал, теребя свои густые черные усы, покрытые легким налетом морской соли.
— Хорошо, — согласился Егорычев, — будем считать мистера Мообса самым банальным человеком. Что касается мистера Смита…
— Я, конечно, не офицер, джентльмены, — медленно отозвался кочегар, — но, с вашего позволения, я хотел бы, чтобы меня считали солдатом, то есть, вернее, военным матросом. У меня имеются кое-какие счеты с Адольфом Гитлером. Видите ли, я родом из Ковентри, — подчеркнул он, обращаясь специально к Цератоду не то с извинением, не то с укором. — А семья моя проживает в Лондоне…
Егорычев дружески улыбнулся замолкнувшему кочегару.
— Итак, нас четверо солдат, и мы, на мой взгляд, не имеем никакого права забывать об этом, куда бы мы ни попали. По крайней мере, меня так учили в моей стране. Мы четыре солдата союзных армий, попавшие на территорию, занятую фашистами, и мы обязаны сражаться. Конечно, еще трудно определить, в какую форму должны вылиться наши боевые действия. Нам неизвестно, каков гитлеровский гарнизон этого острова и как он на нем дислоцирован…
— Вот именно, — язвительно заметил мистер Цератод.
— Но не думаю, — продолжал Егорычев, — чтобы этот гарнизон был очень велик. До войны Германия никаких колоний ни на материке, ни на островах не имела. Еще несколько дней тому назад ни британскому, ни американскому штабам ничего не было известно о захвате какого-либо из островов Атлантического океана немецким десантом. Полагаю поэтому, что эти гитлеровцы были заброшены сюда сравнительно недавно, а следовательно, и в сравнительно небольшом числе.
— Это «следовательно» попросту великолепно! — воскликнул Цератод. — Простите, капитан-лейтенант, если я не ошибаюсь, я вас, кажется, перебил…
— Вы не ошиблись, — невозмутимо ответил Егорычев, поражаясь своей выдержке. — Вам правильно кажется. — Он понимал, что именно сейчас, больше чем когда бы то ни было, от него требовалось хладнокровие и спокойствие. Рассчитывать он мог, очевидно, только на Смита. Впервые со времени гибели «Айрон буля» Егорычеву открылась возможность снова включиться в войну с фашистами. И не для того, чтобы пасть с честью (об этом он сейчас уже не думал), а для того, чтобы нанести ничего не подозревающему врагу ощутительный, а при удаче и непоправимый ущерб на этом маленьком, но, очевидно, совсем не ничтожном участке войны. В самом деле, если отбросить маловероятное предположение, что и немцы попали сюда после кораблекрушения, то они высажены так далеко от основных театров военных действий с какой-то важной боевой задачей. Помешать им выполнить эту задачу, а при удаче и начисто сорвать ее выполнение — ради такого дела стоит рискнуть жизнью, а в крайнем случае и потерять ее с честью.
— Напрасно мистер Цератод так иронически настроен, — сказал Егорычев. — Немцев не могли сюда доставить ни на корабле — фашистские корабли давно уже не осмеливаются показываться в Этих водах, ни на транспортном самолете — его бы где-нибудь на пути обязательно сбили союзные истребители. Следовательно, остается только один возможный способ доставки в эти места людей: на подводной лодке, то есть на судне со сравнительно ограниченным тоннажем. Этих десантников, конечно, надо было обеспечить и продовольствием, и оружием, и кое-каким необходимым оборудованием. Следовательно, подчеркиваю я вопреки недоверчивому настроению мистера Цератода, фашистам пришлось ограничиться наименьшим числом высаживаемых людей.
— Немцы, значит, бесспорно вооружены, — снисходительно согласился с ним Цератод. — А мы? Не укажет ли нам мистер Егорычев, каким оружием располагаем мы?..
Егорычев молча поднял с земли и подбросил на ладони увесистый, с острыми краями камень.
— Для раннего палеолита вполне терпимое оружие! — иронически похвалил камень мистер Цератод. — В детстве я тоже считал камни серьезным, даже грозным средством наступления и обороны… Итак, — резко продолжал он, — как старший по чину, считаю обсуждение законченным. Нам остается только поздравить капитан-лейтенанта Егорычева с речью, которую мы все готовы признать интересной как по форме, так и по содержанию, но, к сожалению, совершенно не соответствующей серьезности положения, в котором мы очутились и которое властно диктует единственный выход, гарантирующий нам жизнь и свидание с близкими хоть в отдаленном будущем.
— Постойте! — остановил Егорычев Цератода, видя, что тот уже снимает с себя сорочку, чтобы мастерить из нее белый флаг. — Постойте, как я об этом раньше не подумал! Почему это мы так уверены, что эту чертову газету уронил именно германский солдат? В здешних водах, очевидно, разбросаны аргентинские и бразильские острова и островочки. И Аргентина и Бразилия поддерживают дипломатические отношения с Германией. В них живет уйма натурализовавшихся немцев. Представьте себе, какая это будет сенсация, если в южноамериканских, а потом в североамериканских газетах появятся скандально приукрашенные описания того, как два американца и два англичанина с белым флагом из нижней сорочки пришли сдаваться в плен какому-нибудь наимирнейшему аргентинскому или бразильскому телеграфисту.
— Что вы хотите этим сказать? — спросил Фламмери. — Лучше закидать этого наимирнейшего телеграфиста камнями?
— Надо кому-нибудь из нас отправиться в разведку. Кстати говоря, не думайте, что и сдаться в плен можно без предварительной разведки. Если там, наверху, гитлеровцы, вас укокошат прежде, нежели вы успеете хоть разок махнуть своей уважаемой сорочкой. Но и разведка сама по себе вещь небезопасная, и пускать в нее человека без серьезного военного опыта почти то же самое, что убийство. Хорошо, если бы это взял на себя наш старший боевой товарищ, майор Цератод.
Цератод сделал вид, будто не заметил в этих словах никакого подвоха.
— Я был бы счастлив, но, увы, как раз военного опыта у меня и нет. И потом, какой же я разведчик! Шесть диоптрий в правом глазу, шесть и три четверти — в левом и совершенно невозможный астигматизм.
— Тогда, может быть, капитан Фламмери?..
— Капитан санитарной службы, сэр, — смиренно поправил его Фламмери. — Военная специальность — распределение заказов на медикаменты, кредитование трестов медицинского оборудования, улаживание недоразумений между этими трестами и армейским управлением санитарной службы.
— Оказывается, из трех присутствующих здесь союзных офицеров только я и воевал, — с возможной учтивостью отметил Егорычев. — Значит, мне и в разведку идти. Смит, вы не составите мне компанию?
— С удовольствием, сэр.
— Я только прошу остающихся вести себя как можно тише.
— Можете быть на этот счет совершенно спокойны, — поспешно заверил его Фламмери.
— А мистер Егорычев должен нам, со своей стороны, обещать, что он не позволит себе пускаться там, наверху, в какие бы то ни было донкихотские авантюры, которые могут плохо кончиться не только для него, но, в конечном счете, и для нас, — потребовал Цератод.
— Ничего похожего на донкихотство! — обещал Егорычев, и они со Смитом осторожно поползли вверх по расселине, залитой яркими, но еще прохладными косыми лучами восходившего солнца.
— По-пластунски, Смит, по-пластунски! — прошептал Егорычев кочегару.
V
Сказал Егорычев Смиту «по-пластунски» — и самому смешно стало: откуда английскому торговому моряку знать русский военный прием! Он показал, как подтягиваться на локтях, прижимаясь к земле. Ничего, ползет! Пыхтит; обливается с непривычки потом, но не жалуется. Молодец кочегар! Морская косточка!
Поворот… Еще поворот… Они ползли, замирая, лишь только зашуршит, покатившись вниз, камешек, случайно задетый локтем.
Трава, на которую они смотрели сейчас снизу, с земли, походила на таинственный, могучий и небывалый лес, камешки — на крутые и недоступные скалы, крошечный, шириною в карандаш ручеек — на бурную реку… «Так, верно, и наши приключения на этом неизвестном острове, — подумал Егорычев, — похожи, если близко присмотреться, на какие-то несоизмеримо большие события, происходящие сейчас в мире»:
Поворот, еще поворот… Подъем кончился. Перед ними обрывистый край лужайки, обрамленной деревьями, и у самой расселины кто-то спиной к ним то приседает на корточки, то вытягивается и очень старательно расправляет плечи, приседает, вытягивается, приседает, вытягивается…
«Батюшки, — весело удивился Егорычев, — никак человек утреннюю гимнастику делает!»
В каких-нибудь двух шагах от них приседал и вытягивался, глубоко дыша, коренастый мужчина. Затылок коричневый, в розовых морщинах, волосы ежиком, густо поперченные сединой. Сзади его мясистая шея до смешного напоминала хорошо пропеченный кулич, скупо припудренный сверху сахарной пудрой. Кто этот человек? А вдруг и в самом деле какой-нибудь мирный аргентинец Или бразилец?
Они залегли, припав к росистой траве.
Утреннюю тишину прорезал чей-то высокий голос оттуда, с лужайки:
— Курт!
Кулич вскочил, как ванька-встанька, вытянулся во фрунт. Плотный пожилой детина в нижней сорочке и черных эсэсовских брюках. Короткие сапоги туго набиты мясом.
— Я здесь, господин майор!
— Воды! Умываться! Живо!..
— Слушаюсь, господин майор!
Курт рысью кинулся куда-то в чащу по слабо протоптанной тропинке.
Из-за деревьев показался сам господин майор. Чисто выбритый, в черных эсэсовских бриджах, белоснежной сорочке и щегольских сапогах. Волосы расчесаны на прямой пробор от лба до затылка. Линия пробора широкая, синеватая, как сабельный шрам.
Немного погодя из-за деревьев возник Курт с ведром воды, полотенцем через плечо и голубенькой пластмассовой мыльницей.
Майор умылся и величаво удалился, а Курт, потирая руки, вернулся на прежнее место, на обрывистый край расселины, и стал истово продолжать утреннюю зарядку.
— Хватайте его за ноги! — прошелестел Егорычев на ухо Смиту. — Хватайте и рваните вниз. А я ему заткну глотку.
Смит побледнел, но послушно рванул эсэсовца за ноги, да так, что оба они чуть не покатились вниз по расселине.
— Держите его покрепче! — шепнул Егорычев и стал засовывать в рот ошалевшему эсэсовцу свой все еще не высохший носовой платок.
Любо было смотреть на физиономию их пленника. Сначала она изображала только тупое удивление. Потом удивление сменилось смятением, а смятение — ужасом. Словом, он смотрел на Егорычева именно так, как должен смотреть эсэсовец, уже сталкивавшийся когда-нибудь с советским моряком.
— Хальт! — прошептал ему Егорычев. — Швайген!.. Понимаешь?..
Нелегко было разжать ему зубы. Пришлось прищемить его большие, мясистые, обильно украшенные седыми волосками ноздри. Он терпел до последней возможности, наконец раскрыл свою пасть, но, прежде чем Егорычев успел заткнуть ее, крикнул:
— Черные комиссары!..
«Был, был, голубчик, на советском фронте! Помнишь советских моряков!»-злорадно подумал Егорычев.
Больше Курт не кричал. Потому что раньше, чем Егорычеву удалось запихнуть ему в рот платок, Смит тяжелой своей кочегарской дланью так стукнул его по затылку, что их «язык» на добрые полчаса лишился языка.
Тут, конечно, надо было бы его связать, но нечем было, да и некогда. На крик Курта с противоположной стороны лужайки, с тропинки, которая вела вглубь острова, появился другой военный. Он обливался потом в черном эсэсовском мундире с ефрейторскими погонами. На плече у него висел автомат.
Ефрейтор шел прямо на разведчиков. Они притаились за большим камнем. Не дойдя каких-нибудь пяти шагов, ефрейтор остановился, снял фуражку и стал вытирать рукавом вспотевший лоб. Ефрейтор был высок и по крайней мере на десять килограммов тяжелее Егорычева. Волосы у него были очень светлые, почти белые, и розовая кожа просвечивала сквозь них, как у молочного поросенка.
— Я здесь, господин фельдфебель! — крикнул он, озираясь по сторонам. — Вы меня звали? (Как потом выяснилось, его фамилия была Шварц, что в переводе на русский означает «черный».) Где вы, господин фельдфебель? Я жду ваших приказаний!
Великая вещь внезапность! Этот верзила был так безмятежно спокоен, так уверен, что никаких посторонних здесь быть не может, что даже не счел нужным взять в руки автомат. Прямо не часовой, а радость разведчика! Егорычев не мог оторвать глаз от его автомата.
Шварц еще маленько потоптался на месте, недоуменно хлопая реденькими белыми ресничками, потом глубоко вздохнул, сетуя, очевидно, на трудности службы, пожал плечами и отправился восвояси. Но его никак нельзя было упускать: господин ефрейтор буквально просился в плен. Грех было не использовать возможности вывести из строя еще одну гитлеровскую душу. И потом, кто знает, скоро ли представится еще такой удобный случай раздобыть оружие.
— Прилягте на него, — кивнул Егорычев Смиту на фельдфебеля, валявшегося без сознания с кляпом во рту. — Отдохните. И не дай вам бог упустить его.
Кочегар послушно взгромоздился на бездыханного фельдфебеля, а Егорычев пополз наперерез ефрейтору, беззаботно шагавшему вразвалочку, насвистывая какую-то чепуху.
То ли потому, что ему когда-то приходилось бывать в подобных переделках, то ли потому, что восклицание фельдфебеля все же несколько вывело его из созерцательного состояния, но пришлось с ним не в пример труднее, чем с фельдфебелем.
Когда Егорычев накинулся на него сзади и вцепился руками в его потную розовую шею, поросшую беленькими волосиками, он ахнул, быстро и так сильно рванул в сторону, что Егорычеву пришлось разжать пальцы и применить немалые усилия, чтобы устоять на ногах. Он обернул к Егорычеву удивленное ярко — розовое лицо с очень тоненькими, почти незаметными губами, побледнел и стал бестолково шарить дрожащей рукой в поисках приклада автомата. Егорычева спасли, а Шварца погубили именно эти две-три секунды замешательства. На стороне ефрейтора был автомат, которым он так и не успел воспользоваться, бесспорно большая физическая сила, более длинные руки с более увесистыми кулаками. На стороне Егорычева была внезапность. Кроме того, он знал, что поставлена на карту жизнь всей группы, что в случае неудачи он лишится если и не жизни, то уж во всяком случае возможности сорвать выполнение врагом какой-то очень важной военной задачи. Но главное было, конечно, то, что Егорычев прекрасно разбирался в обстановке, а Шварцу еще нужно было привыкнуть к мысли, что вдруг и неведомо откуда здесь появился советский моряк.
Пока он осмысливал создавшееся положение, Егорычев вышиб из его рук автомат, и они стали кататься, вцепившись друг в друга, по траве на самом краю обрыва.
Автомат валялся совсем рядом, но оба они сознавали, что до него не дотянуться, что возьмет его в руки только тот из них, кто останется жив. Это была драка безоружных людей насмерть. Они душили друг друга, кусались, колотили друг друга кулаками, ногами, локтями, головами, царапались и катались, катались по самой кромке пропасти. И при этом ни слова, ни проклятия даже. Только тяжелое сопенье трудно дышащих людей и грозное, негромкое рычание. Ясно, почему не подавал голоса Егорычев. Но почему не крикнул «на помощь» ефрейтор Шварц? Возможно, он боялся отвлечься от борьбы даже на ничтожнейшую долю секунды. А может быть, он от ужаса лишился речи. Это тоже вполне вероятно. Ведь он только спасал свою шкуру.
Егорычев так и по сей день не может припомнить, как все это произошло под конец. Он помнит только, что ефрейтор изловчился и со страшной силой ударил его головой в живот. На мгновение у Егорычева помутилось сознание. И именно в этот момент он что-то такое сделал, что навсегда исчезло из его памяти. Раздался пронзительный и высокий, почти женский вопль, и он смутно, словно сквозь марлю, увидел, как что-то громоздкое, черное, тяжелое метнулось в сторону и провалилось в пропасть. Егорычев стремительно подтянулся к обрыву и еще успел заметить (так высок был обрыв!), как что-то маленькое, продолговатое, черное бесшумно и очень мягко кануло в синюю гладь океана.
С четверть часа, а может быть меньше минуты, Егорычев отдыхал.
Из полузабытья его вывел знакомый, теперь уже встревоженный голос майора.
Майор стоял неподалеку. Егорычев различил сквозь кусты его очень прямые ноги в черных бриджах и ослепительных сапогах. Он стоял у какого-то темного провала (Егорычев не сразу догадался, что это вход в пещеру) и громким капризным тенором требовал разъяснений от фельдфебеля:
— Курт! Курт! В чем дело? Кто это кричал?.. Курт, дубина, где вы?..
Он не мог видеть Егорычева, пока оставался на месте, а Егорычев лежал, прильнув к траве, по которой словно катком прошлись. Как пригодился бы ему сейчас автомат! И он был тут же рядом, шагах в трех, не больше, но был не более доступен, чем если бы он валялся на Луне, на самом донышке какого-нибудь лунного цирка.
— Ку-у-урт!.. Ну куда же запропастилась эта старая крыса? Ефрейтор Шварц, подойдите сюда! Вы но видали господина фельдфебеля? Это вы, Шварц?.,
Он подался в сторону, откуда послышался какой-то шорох.
Егорычев воспользовался этим обстоятельством, чтобы добраться до автомата. Кого еще там несет нелегкая? Неужели еще какого-нибудь эсэсовца?
Нет, это Смит, заслышав вопль погибшего ефрейтора, спешил на помощь.
Тогда Егорычев вскочил на ноги и тихо, чтобы не привлекать постороннего внимания (кто его знает, сколько еще кругом шляется гитлеровцев), скомандовал:
— Хенде хох, герр майор!
Меньше всего мы настаиваем на том, что эта фраза была произнесена на отличном немецком языке. Даже когда Егорычев в сравнительно спокойном состоянии сдавал в школе экзамены по немецкому языку, его произношение оставляло желать лучшего.
Майор стремительно обернулся, его роскошная линия пробора из синеватой стала совсем белой. Он выпучил глаза, как-то странно всхлипнул и с кошачьей прытью метнулся в пещеру.
Нельзя было ни в коем случае допустить, чтобы он в ней заперся. Он мог из нее удобно отстреливаться, поднять каким-нибудь специальным сигналом на ноги всю эсэсовскую — свору, рассеянную, очевидно, по острову. И главное, он мог успеть, пока будут ломиться в запертые двери, уничтожить какие-то очень важные документы, приборы, оборудование.
Теперь уже Егорычев не сомневался, что там, в пещере, можно будет обнаружить не только оружие и домашнюю утварь. Судя по всему, гарнизон на острове состоял из одних эсэсовцев, и это, конечно, было неспроста.
Егорычев рванулся за майором и изо всех сил навалился на полузакрытую дверь.
— Хенде хох! — заорал он, позабыв о всякой предосторожности. — Хенде хох, ферфлюхтер хунд!
Подоспел Смит. Тоже навалился на дверь.
Конечно, они сильно рисковали. Если бы у майора в кармане оказался пистолет, ему ничего не стоило перестрелять их из-за двери, как куропаток. Но до последней минуты он настолько был уверен в своей полнейшей безопасности, что не считал нужным обременять себя ношением личного оружия.
Выдержать напор двух здоровых и плотных мужчин было ему не по силам. Дверь сразу подалась, майор оставил ее, чтобы кинуться за пистолетом. Егорычев со Смитом почти упали в пещеру и остановились на ее пороге, ослепленные после яркого утреннего солнца царившим в ней мраком.
Майор оказался неважным стрелком.
Пока он без толку разряжал свой пистолет, глаза наших разведчиков привыкли к сумраку пещеры. Эсэсовец (теперь он был уже в форменном кителе, застегнутом на все пуговицы) стоял, пригнувшись, опершись о прислоненный к стене стол, на котором смутно поблескивала портативная приемно-передаточная рация, и пытался перезарядить пистолет. Руки не очень слушались его, а оружие — это известно любому солдату — любит, чтобы его заряжали спокойно, методично.
Егорычев еще раз крикнул: «Хенде хох!» Ему ничего не стоило изрешетить эсэсовца автоматной очередью, но жалко было портить рацию. К тому же майор бесспорно знал куда больше своего фельдфебеля.
Тем временем эсэсовец справился наконец с капризной обоймой, всунул пистолет и нажал собачку.
Почти одновременно раздались три выстрела, хруст разбитого стекла, звучное проклятие из уст кочегара Смита и полный бессильной злобы стон майора, который больше уже не мог стрелять. Автоматная пуля пробила ему правую руку чуть ниже локтя.
Смит явно не имел достаточного опыта в швырянии табуреток. Он метил в майора, а попал в рацию.
— Вас не задело, Смит? — спросил Егорычев кочегара.
— Благодарю вас, сэр, все в полном порядке. А вас?
— Полный порядок, дружище. Вы подоспели как раз вовремя.
И тут раскисший было майор тоже подал голос. Это был радостно-удивленный голос. Он осведомился на чистом английском языке:
— Прошу прощения, джентльмены, вы англичане?
— А вам какое дело! — пробурчал Смит. Он нагнулся и поднял с земляного пола пещеры пистолет, выпавший из руки майора.
А тот, бережно поддерживая левой рукой правую, продолжал:
— Прошу прощения, джентльмены, но мне сначала почему-то показалось, что вы русские. Если бы я знал, что вы англичане…
— Тогда?
— Тогда я, конечно, не стал бы рисковать вашими и моей жизнями… Джентльмены, я ваш пленник! Майор барон фон Фремденгут.
Смит рассмеялся:
— Боже мой, как торжественно! Да вы и без вашего разрешения наш пленник.
Черный китель майора разительно подчеркивал бледность его длинного холеного лица с маленькими усиками а ля фюрер и выдающимся вперед крупным, чисто выскобленным подбородком с ямочкой посередине.
— Немцы могут договориться с западным миром, — повторил он сподобием радушия. — Это не только мое мнение. И это не только мнение моего фюрера.
— Ах ты, фашистская гадина! — возмутился Смит. — Кто тебе сказал такую мерзость?
— Спокойно, Смит! — остановил Егорычев кочегара. — Не будем опускаться до дискуссии с эсэсовцем.
— Уверяю вас, джентльмены, — добросовестно настаивал на своем майор Фремденгут. — Уверяю вас, мне сейчас не до выдумок. И он с удовольствием повторил:
— Подумать только, что я вас принял за русских!
— Чего вы там скрываетесь в углу, словно мышь! Подойдите-ка поближе! — приказал Егорычев барону.
Тот подчинился. Теперь, когда он был в каком-нибудь шаге от раскрытых дверей и его освещало косыми лучами утреннего солнца, Егорычев увидел на его кителе три длинные колодки орденских ленточек. Над колодками распластал свои злые крылья стервятника серебряный эсэсовский значок с мертвой головой, а на верхнем кармане был прикреплен большой бронзовый жетон, при виде которого у Егорычева от возбуждения мурашки побежали по спине. Он был ему знаком, очень знаком. Жетон имел форму щита. Стилизованный гитлеровский орел, словно дрессированный хищник, уселся на кружок со свастикой. А под кружком отштампована карта Крымского полуострова и цифры по бокам: «1941–1942».
Итак, перед Егорычевым был один из его противников по Севастопольской обороне, один из офицеров генерала фон Манштейна.
— Смит, — сказал он очень спокойным голосом, — мы стоим против света, и майор фон Фремденгут видит только наши силуэты. Будьте так добры, старина, возьмите фонарик, который лежит вон на том столике, и посветите господину майору войск СС.
Смит зажег фонарик, и майор увидел на кителе Егорычева позеленевшую за время их скитаний на плоту бронзовую медаль: «За оборону Севастополя». Фремденгут помертвел. Нижняя челюсть отвалилась у него, как у удавленника.
— Русский!.. Моряк!.. Севастополец!.. Майн готт!..
— Ну вот мы и познакомились, — сказал Егорычев. — А теперь, — обратился он к Смиту, — захватите-ка отсюда какую-нибудь подходящую бечевочку, чтобы связать фельдфебеля, и зовите сюда наших друзей. А я пока присмотрю за майором…
VI
— Садитесь!
Майор сел на краешек аккуратно застланной койки. — Рассказывайте! — приказал Егорычев.
— О чем?
— Как велик ваш гарнизон? Фремденгут промолчал.
— Отвечайте!
— Не буду. — Глупо!
Фремденгут глянул на Егорычева с кривой усмешкой.
— Советую вам поторопиться, — сказал Егорычев. Майор продолжал насмешливо улыбаться.
— И не думайте только врать, — предупредил его Егорычев. — Я проверю у Курта.
— Вы полагаете, он более правдив?
— Во всяком случае, не менее труслив.
— У меня здесь две неполные роты.
— Неправда.
— Если вы сами знаете, чего вы спрашиваете?
— Не ваше дело. Вы знали ефрейтора Шварца?
— Да, знаю.
— Нет, знали. Это его автомат.
— А где Шварц?
— На дне морском.
— Он свалился с обрыва?
— Я его сбросил с обрыва.
— Значит, это он кричал?
— Он. Так как же?
— Я же сказал: неполные две роты.
— Врете… И я хотел бы поставить вас в известность, господин майор, что у Меккензиевых гор… Вы знаете, это под Севастополем?..
— Знаю.
— Под Меккензиевыми горами эсэсовцы в сорок втором году, двадцать шестого июня, замучили насмерть моего тяжело раненного друга Виктора Сеновалова… Правда, я и до этого не испытывал пламенной симпатии к эсэсовцам… Словом, будете откровенны — вам же лучше будет… Ну, поторапливайтесь, а не то автомат может сам выстрелить.
— Нас было четверо. Если вы действительно утопили Шварца, нас осталось трое: я, фельдфебель Курт Кумахер и ефрейтор Альберих Сморке.
— Проверю. — Пожалуйста. Я сказал правду.
— Где сейчас ефрейтор Сморке?
— Ушел за водой и продуктами.
— Куда?
— На остров.
— Там у вас склад?'
— Склад у нас здесь. Он ушел к туземцам.
— Значит, тут имеется туземное население?
— И прелюбопытное.
— Вымениваете у них бананы за медные пуговицы?
— За железные.
— А если они не захотят?
— Они захотят. У ефрейтора с собой автомат.
— Когда вы высадились на остров?
— На какой остров? — На этот остров.
— Два с половиной года — тому назад.
— И все время живете здесь, в этой пещере?
— Все время.
— Неправда.
— Правда.
— Вот этот жетон, за крымскую кампанию, вам прислали сюда по радио?
— Простите, я оговорился. Мы высадились двенадцать дней тому назад.
— С подводной лодки?
— Курт вам уже рассказывал?
— Откуда прибыла лодка?
— Из Картахены.
— Цель высадки?
— Изучить и нанести на карту этот остров. Он не отмечен ни на одной карте Атлантики.
— Вы топограф?
— Да. То есть нет. Я не топограф. Топографом был Шварц.
— Один Шварц?
— Увы!
— Где инструменты?
— Какие инструменты?
— Геодезические.
— Бедняга их всегда носил при себе. Это был топограф-энтузиаст.
— Зачем вы врете? Скажите, с каким заданием вас высадили на остров?
— Не скажу.
— Заставлю.
— Я не имею права.
— Смешно: эсэсовец говорит о праве.
— Хорошо. Я не хочу сказать.
— Вот это честнее сказано. Но не более благоразумно. Мы обыщем вас, мы обыщем пещеру и, конечно, найдем вполне достаточное количество документов и материалов. Но тогда уже пеняйте на себя... И, ради вашего вечного блаженства, не делайте таких резких движений. Я могу нечаянно выстрелить.
— Вы ничего в них не поймете.
— В движениях?
— В документах.
— У нас хватит времени разобраться даже в шифровках. - Немецких?
— Курт поможет.
— Курт мерзавец!
— Конечно. Иначе он не служил бы в СС.
— Вы хотите меня оскорбить?
— Нет. Я уточняю свое отношение к СС.
— Вы меня убьете?
— Это зависит от вас.
— Я хочу поговорить с вашим старшим начальником.
— Я старший начальник. Молчание..
— Ну, может быть, хватит? — Убивайте! — истерически всхлипнул Фремденгут. — Я давал клятву своему фюреру.
— Я вас освобождаю от этой клятвы.
— Кто вы такой, чтобы освобождать людей от присяги?
— Я — капитан-лейтенант Рабоче — Крестьянского Красного Флота. Вам этого мало? Я представитель передового человечества, черт возьми!
— Я плюю на передовое человечество. Это все красивые слова.
— Хорошо. Перейдем к некрасивым. Вы женаты?
— Да. Какое это имеет отношение?..
— Самое непосредственное. Адрес я узнаю из документов. При первой возможности я сообщу вашей вдове, что муж ее умер, как идиот. Все! Теперь я считаю до десяти.
Егорычев понимал: нельзя было давать майору опомниться. Он начал считать:
— Раз, два, три, четыре, пять.
Когда он дошел до девяти и взвел курок, Фремденгут снова' всхлипнул, отчаянно махнул здоровой рукой:
— Хорошо. Только вы должны мне обещать, что в Германии никто об этом не узнает.
— Обещаю.
— Слово советского, офицера? — Слово советского офицера.
— Разрешите мне перевязать руку.
— Перевязывайте.
— Благодарю вас, господин капитан-лейтенант.
— Не стоит благодарности. Перевязывайте и отвечайте на вопросы. Вам это не будет трудно?
— Нисколько, господин капитан-лейтенант.
— Ваша фамилия и имя?
— Барон Вальтер фон Фремденгут.
— Постоянное место жительства?
— Город Кельн.
— Кадровый офицер?
— Что вы, господин капитан-лейтенант! Я из запаса!
— Давно в армии?
— С сентября тысяча девятьсот сорок первого года.
— Занятие до армии?
— Инженер, деятель промышленности.
— Точнее?
— Я помогаю отцу. Мой отец — деятель промышленности.
— Точнее!
— Мой отец — вице-президент одной акционерной компании.
— Еще точнее! Какой именно компании?
— Не компании ли «Динамит Акциенгезельшафт»? — раздался из-за спины Егорычева заинтересованный голос подоспевшего мистера Фламмери. — Господин фон Фремденгут, если я не
ослышался? Вы не имеете отношения к барону Иоганну-Вольфгангу фон Фремденгуту?
— Это мой отец, — ответил осторожно, подумав, майор Фремденгут.
— Вам знакома фамилия Фламмери?
— «Аноним дайнемит корпорейшн оф Филадельфия»? Фламмери из дома Сквирсов?
— Ну конечно!.. Боже мой, какая удивительная встреча! Воистину пути господни неисповедимы! — воскликнул мистер Фламмери. — Встретить в таком заброшенном уголке земли стариннейшего корреспондента нашей фирмы!.. Вашу руку, дорогой друг!
— Простите, мистер Фламмери, — остановил его Егорычев. — У нас сейчас с майором чрезвычайно важный разговор. Он должен сообщить мне…
— Я ничего не скажу! — надменно процедил сквозь зубы майор фон Фремденгут. — Я передумал… Если вам угодно, можете меня расстреливать…
VII
— Мистер Фламмери, — кротко промолвил Егорычев, — я прошу вас выйти со мной на несколько минут. Нам нужно кое о чем посоветоваться со всей нашей группой.
— Да что вы, мистер Егорычев, мы все отлично уместимся в Этой пещере, — возразил Фламмери, не понимая или делая вид, что не понимает, чего от него хочет Егорычев. — Нас пятеро да два представителя немецкой армии. Прекрасно уместимся. И вообще я дьявольски устал. Мне хочется присесть на хотя бы отдаленное подобие стула. И потом — вам не кажется, что уже пора завтракать?
Егорычева передернуло от досады. Немцы должны были думать, что пленившие их — только небольшая часть высадившихся на остров союзных сил. Неужели Фламмери не может постичь такой простейшей военной хитрости?
Майор угадал мысли Егорычева и ехидно ухмыльнулся.
— Мистер Фламмери, — повторил Егорычев еще более кротко, — я вас настоятельно прошу выйти со мною. Нашей группе необходимо немедленно обсудить один очень важный вопрос.
— Уж не думаете ли вы командовать мною, молодой человек? — сварливо поднял голову Фламмери. Он был невыносимо смешон в своем капковом спасательном жилете с болтавшимися тесемками. Его китель погиб вместе с плотом. На загорелых дочерна щеках выросла за время скитаний на плоту густая седая щетина, и лицо его теперь напоминало фотографический негатив: обычно светлые части лица были темны, а волосы, борода, усы и брови выделялись светлыми пятнами. — Вы, кажется, начинаете себе слишком много позволять, то-ва-рич Егорычев!
Слово «товарищ», он для вящей язвительности произнес по-русски.
— Я вас очень прошу, мистер Фламмери. В противном случае… в противном случае я должен буду немедленно расстрелять майора войск СС барона фон Фремденгута, как представляющего для нашей группы непосредственную опасность.
— О господи! Какой-то сумасшедший! — раздраженно фыркнул мистер Фламмери, но все же довольно поспешно покинул пещеру, приветливо помахав на прощание Фремденгуту.
— Смит! — крикнул Егорычев, не спуская глаз с майора. Послышались шаги.
— Я здесь, мистер Егорычев.
— Где тот пленный? — тихо спросил Егорычев.
— Я его связал и уложил для сохранности в холодок под кустик. Он себя там должен прекрасно чувствовать, — так же тихо ответил кочегар.
— Сопротивлялся?
— Что вы, мистер Егорычев! Он совсем ручной. Он только сказал, чтобы его не убивали, потому что он многосемейный и что он с наслаждением расскажет все, что от него потребуют.
— Скажите, какая приятная встреча! Ну, пускай его пока полежит. А вас я попрошу присесть на эту койку и постеречь майора, пока я потолкую с нашими друзьями. Выньте пистолет и следите, чтобы господин майор не делал лишних движений. Это для него страшно вредно. Это для него грозит смертью. Я ему так прямо и сказал.
— Понятно, господин капитан-лейтенант.
— А табуретками в него не швыряйтесь. Вы еще не достигли нужной меткости в швырянии табуретками.
— Слушаюсь, сэр, — ухмыльнулся в усы кочегар. — Так и быть, не буду швыряться.
— Вы меня очень обяжете, — улыбнулся Егорычев и вышел на воздух.
На подсохшей травке, под сенью очень раскидистого дерева, несколько походившего на магнолию, сидели Мообс и Фламмери. Цератод лежал на спине, закинув руки за голову. Лицо его было мрачно. В толстых очках, как в глазке фотоаппарата, красиво отражались чуть выпуклая панорама лужайки, и деревья, и кустарник, и высокое, быстро белевшее небо. Цератод, закрыв глаза, задумался, по-видимому, о чем-то значительном. Заслышав шаги Егорычева, он на мгновение приподнял веки, глянул на него со скорбным презрением и снова опустил их.
Возможно, что при других обстоятельствах Мообс выразил бы Егорычеву свое восхищение. Но Фламмери был в ярости, и Мообс поэтому только скользнул взором по этому отчаянному русскому И вплотную занялся тщательным разглядыванием свежесорванного цветка.
Роберт Фламмери пылал негодованием.
— Может быть, вы нам разъясните, сэр, — почти закричал он, — с чего это вы взяли, что имеете право нами командовать?
— Прежде всего, не надо кричать, — сказал Егорычев. — В пещере все слышно. А он знает английский язык.
— Не учите меня, как обращаться со своим голосом! — продолжал кричать Фламмери. — Если у меня возникнет сомнение, как мне поступить, я обращусь с молитвой к господу, и он, а не вы, вразумит меня.
— Успокойтесь, мистер Фламмери. Я не собираюсь обучать вас, как обращаться со своим голосом. Но мне кажется, что я вам мог бы кое-что преподать о том, как нужно воевать.
— Воевать, воевать!.. При чем здесь воевать?.. Тьфу! Не смейте закрывать мне рот!
— Не надо кричать, мистер Фламмери. Вы ведете себя сейчас, как истеричная дама или…
— Сэр! — воскликнул шокированный Фламмери. — Вы забываетесь, сэр!
— Ради бога без крика! Кое-кто из их компании еще на свободе. Зачем кричать? Зачем показывать или рассказывать пленным, что нас мало, что мы недостаточно дружны между собой? Зачем было вмешиваться во время допроса пленного? Этот майор чуть было уже не рассказал об их боевой задаче…
— Я плюю сейчас на любую боевую задачу! — перебил его Фламмери. — Я уже не так молод, чтобы играть в солдатики. Какая к черту боевая задача на этом острове, за тысячу миль от фронта!
— О боевой задаче, поставленной перед его группой, — спокойно продолжал Егорычев.
— Я не любопытен.
— Напрасно. Если немецкое командование считает необходимым специально высадить группу эсэсовцев, то есть особо проверенных и доверенных гитлеровцев, на остров, не обозначенный ни на одной карте мира.
При последних словах физиономии слушателей заметно вытянулись.
— И если во главе такой группы из нескольких человек поставлен старший офицер — майор, и не безродный служака, а сын крупного и влиятельного промышленника, то, мне кажется, задание, порученное такой группе, заслуживает самого пристального внимания.
— Бесспорно, — подал голос Цератод и перевернулся со спины на живот. — Бесспорно. Но при одном условии.
— При каком?
— Если бы мы имели возможность сообщить нашему командованию то, что нам удастся разузнать.
— Во-первых, нам, быть может, удастся здесь, на месте, сорвать выполнение этой задачи. Во-вторых, вы действительно уверены, мистер Цератод, что мы не сможем поставить в известность наше командование?
— Уверен. Смит сказал, что рация разбита.
— Ее можно будет легко исправить.
— Сомневаюсь. Кто ее будет исправлять? Я, вы, Мообс, мистер Фламмери или Смит?
— Нужно будет заставить их радиста. — А если он не захочет?
— Захочет.
— Боюсь, сэр, что в оценке создавшегося положения мы с вами несколько расходимся. Насколько я понимаю, вы считаете, что взяли этих немцев в плен, что они ваши пленные?
— Наши пленные, — поправил его Егорычев. — Мы взяли их вместе с мистером Смитом.
— Чрезвычайно сожалею, что его нет сейчас среди нас и что я лишен вследствие этого возможности выразить и ему свое глубокое возмущение по поводу вашей необдуманной и в высшей степени губительной акции, — сказал Цератод.
— Я вас не совсем понимаю, — сказал Егорычев.
— Еще большой вопрос, кто здесь пленные, — пояснил свою мысль Цератод. — Скорее всего, все-таки не немцы у нас, а мы у немцев. Рассудите сами: мы на острове, известном только германскому командованию. Надежд на то, что сюда придет наш корабль, все равно какой — надводный, подводный или воздушный, нет ровным счетом никаких. Зато более чем вероятно, что спустя какое-то время сюда снова придет немецкая подводная лодка.
— Вот это-то нам и надлежит выяснить в первую очередь, у Фремденгута, — сказал Егорычев. — И в зависимости от того, что он скажет, мы и будем разрабатывать наши дальнейшие планы. Давайте пока на этом и договоримся.
— Боюсь, что другого выхода покамест не видно, — со вздохом согласился Цератод. — Ваше мнение, джентльмены?
— Увы! — ответил мистер Фламмери и за себя и за Мообса. — Мы должны молить господа, чтобы немцы не припомнили нам зла, которое вы со Смитом учинили, ослепленные своим воинственным безумием.
— Значит, все в порядке, — сказал Егорычев. — Я вас только очень прошу не заговаривать с пленными, пока я не покончу с их допросом. Это необходимо в интересах нашего общего дела… и нашего благополучия….
— А как насчет завтрака? — осведомился Мообс, завершив, наконец, изучение цветка.
— В самом деле, не пора ли подумать о завтраке? — поддержал его Фламмери. — Кстати, узнаем, чем кормит своих солдат мистер Адольф Гитлер.
— Сейчас будет произведена надлежащая разведка, — обрадовался Егорычев перемене разговора. — Одну минутку!
В кустах, добросовестно связанный Смитом по рукам и ногам, покоился в прохладе фельдфебель Курт Кумахер. Он дышал ровно и глубоко, у него были закрыты глаза. Но он не спал. Судя по веревке, он не предпринимал никаких попыток к бегству. Курт Кумахер наслаждался состоянием «вне войны».
— Я вам не рекомендую кричать, — посоветовал ему Егорычев, вытаскивая кляп из его рта.
— Прошу прощения, господин капитан-лейтенант, — ответствовал фельдфебель на очень дурном английском языке. — Нельзя ли говорить мне хоть несколько медленней? Я чрезвычайно слаб в английском.
— Как вы себя чувствуете? — спросил Егорычев.
— Благодарю вас, господин капитан-лейтенант, — с готовностью отвечал Кумахер, — сравнительно неплохо. Но, конечно, я рассчитываю, что вы не будете держать меня в таком положении весь день.
— Это будет зависеть от того, как вы себя будете вести.
— Благодарю вас, господин капитан-лейтенант. Я буду стараться.
— Где у вас хранится продовольствие?
— Кроме скоропортящегося, в пещере, — ответствовал фельдфебель.
— А скоропортящееся?
— За скоропортящимся мы ходим вниз, в деревню, к туземцам.
— Сейчас кто-нибудь ушел туда?
— Так точно, господин капитан-лейтенант. Ушел ефрейтор Сморке.
— Сколько немцев на острове? Только не дай вам бог соврать!
— Господин капитан-лейтенант! — воскликнул фельдфебель с дрожью в голосе. — Я бы никогда не простил себе, если бы позволил себе обмануть такого глубокоуважаемого человека, как вы. Нас на острове четыре человека: господин майор барон фон Фремденгут, я, ефрейтор Альберих Сморке и ефрейтор Бернгард Шварц.
— И всё?
— Так точно, господин капитан-лейтенант, все. Осмелюсь, доложить, — тут Курт Кумахер счел целесообразным перейти на доверительный шепот, — ефрейтор Шварц в настоящее время должен находиться где-то поблизости. Он вооружен. У него автомат. Сообщаю в интересах вашей безопасности. Чрезвычайно опасный тип. Фанатик! Он, наверное, где-то скрывается.
— Знаю.
— О, вы знаете про ефрейтора Шварца и знаете, что он скрывается?!
— Я знаю, где он скрывается.
— Осмелюсь осведомиться — тут поблизости? — Нет, значительно ниже.
— У туземцев, в долине?
— Еще ниже.
— Неужели на берегу?
— Еще ниже.
— Майн готт! — изменился в лице фельдфебель. — Он… он утонул?
— Возможно, что он еще раньше умер от разрыва сердца. Когда падаешь с такой высоты…
— В глубине души он мне всегда претил, — заявил Кумахер, дробно щелкая зубами, — как бывшему социал-демократу…
Этот угодливый и старательный фельдфебель войск СС был предельно омерзителен.
— Надеюсь, что вы будете вести себя благоразумно, — сказал Егорычев.
— Можете не сомневаться, господин капитан-лейтенант! Клянусь вам всем, что для меня свято!
«Немногим же ты клянешься!»-подумал Егорычев.
— В тактических целях я решился одиннадцать лет тому назад вступить в партию национал-социалистов, — лепетал между тем Кумахер, умильно заглядывая ему в глаза. — Но в глубине души, о, в глубине души я всегда оставался… О, если бы вы знали, глубокоуважаемый господин капитан-лейтенант, как мне бесконечно дороги лучезарные идеалы социализма!..
— Прекратите вашу болтовню! — резко оборвал его Егорычев. — Не смейте говорить о социализме!
— Слушаюсь, господин капитан-лейтенант! — струхнул Кумахер. — Не будет ли еще каких-нибудь ваших приказаний?
— Когда вас высадили на этот остров?
— Двадцать второго мая сего года, господин капитан-лейтенант.
— С какой задачей?
— Не смею отвечать, не испросив раньше вашего обещания.
— Какого обещания?
— Не выдавать меня. Никто не должен знать о том, что это сказал вам именно я. В противном случае меня убьют. Все равно, здесь или в Германии, сейчас или после войны. И всю мою семью убьют: и мою дорогую маму, и мою милую жену, и моих нежно любимых детей… О, если бы вы видели моих детей! Это сущие ангелы!.. — Курт Кумахер растроганно зашмыгал носом. — Я осмеливаюсь просить вашего обещания, господин капитан-лейтенант..
— Хорошо, обещаю. Вам достаточно?
— О господин капитан-лейтенант! Слово советского офицера, да еще моряка! Оно должно расцениваться на караты, как самые драгоценные алмазы.
— Ладно. Говорите.
— Но я, конечно, далеко не все знаю.
— Рассказывайте, что знаете.
— Только прошу учесть, господин капитан-лейтенант, нам, то есть мне, Шварцу и Сморке, просто сказали: «Для выполнения важнейшего боевого задания». Но у меня имеется один приятель в штабе. Он сказал мне, конечно под строжайшим секретом, что все это связано с каким-то новым усовершенствованным оружием. Так вот, нас в связи с этим оружием сюда и забросили.
— Что вы будете делать?
— Этого я не знаю. Мне сказано только, что в день и час, который известен господину майору, я должен буду принять приказ из штаба.
— Вы радист?
— Так точно, господин капитан-лейтенант.
— Ваша довоенная специальность?
— Ремонт патефонов, радиоприемников, велосипедов, мотоциклов, швейных, счетных и пишущих машин. Собственная мастерская в Кельне. Фирма «Эрих Кумахер и сын». Сын — это мой незабвенный отец. Я — внук. Фирма существует с 1892 года. Масса благодарственных отзывов.
— Значит, вы земляки с вашим майором?
— О, да вы уже и это знаете! У вас светлая голова, господин капитан-лейтенант!
— Не паясничайте!
— Слушаюсь, господин капитан-лейтенант.
— Подумайте получше, фельдфебель Кумахер, все ли вы рассказали. Пока что вы не сообщили ничего нового.
— Все, — ответил Кумахер и преданно улыбнулся.
— Попробую вам на минутку поверить. Давайте в таком случае вспомним, какой багаж перебросили с вами на остров.
— Перечислять всё?
— Всё.
— Слушаюсь. Значит, так: четыре автомата, один станковый пулемет, — стал быстро вспоминать фельдфебель, старательно закатив глаза, — три ящика патронов, два ящика гранат, ящик пехотных мин, оборудование портативной радиостанции с генератором, настройки, постельные принадлежности на четверых, посуда кухонная и столовая, походная аптечка, две бочки керосина, запас продовольствия с расчетом на пополнение его за счет местного населения… кое-какая дрянь для меновой торговли.
— И всё?
— Как будто всё.
— Припомните.
— Были еще два ящика со всякой чепухой для местных дикарей, но они утонули при выгрузке.
— Как же это вы так? Ай-ай-ай!
— Мы не были виноваты, господин капитан-лейтенант. Мы еще были тогда на борту подводной лодки. Эти ящики уронили в воду матросы, сошедшие с первой шлюпки. Господин майор барон фон Фремденгут был с ними. Так что и ругать ему было некого.
— Так и не вытащили?
— Никак нет. Там порядочная глубина. К тому же их, вероятно, сразу уволокло накатом. Ефрейтор Шварц пробовал нырять в том районе. Он говорил, что ящиков уже там не видать.
— Словом, погоняли вас, и все впустую.
— Никак нет, господин капитан-лейтенант. Господин майор сразу понял, что поиски бесполезны, и не настаивал.
— Та-ак. Ну что ж. Скажите, фельдфебель, если я вас сейчас развяжу, вы будете вести себя благоразумно?
— О, господин капитан-лейтенант! — расхныкался Кумахер от полноты чувств.
— Собственно говоря, это более чем в ваших интересах. Это и в интересах вашего обильного семейства… И не сметь без моего разрешения вступать в разговоры с вашим майором.
— Слушаюсь, господин капитан-лейтенант.
Егорычев развязал Кумахера. Тот встал, с облегчением потянулся, расправил мясистые плечи и вытянул руки по швам.
— Жду ваших приказаний, господин капитан-лейтенант.
— Пора завтракать.
Они нырнули в полумрак пещеры, где усталый Смит караулил прилегшего на койку майора Фремденгута, открыли дверь, ведшую в казарму для нижних чинов. Там в глубокой нише были аккуратными штабелями сложены цинковые и фанерные ящики с провиантом.
Немного погодя Кумахер, изнемогавший от трудолюбия и преданности, расстелил в тени под деревом свежую скатерть и расставил на ней тарелки, чашки и четыре прибора. Затем он вскрыл две банки сгущенного молока, четыре пакета печенья и стал на двух коробках сухого спирта готовить кофе и разогревать самую настоящую американскую свиную тушенку.
— Боже милосердный! — трагически воскликнул Мообс, и лицо его выразило глубочайшее отвращение. — Боже праведный, тебе угодно продолжить наши испытания и на суше!
В этот день ему суждено было сделать два сенсационных открытия. На рассвете он первый увидел зеленую проволоку, действительно оказавшуюся антенной эсэсовской рации. Сейчас он первый обратил внимание на то, что их собираются кормить американскими консервами. Этикетки на банках и пакетах подтвердили это со всей своей кричащей убедительностью.
— Фельдфебель Кумахер, — обратился Егорычев к угодливо суетившемуся пленному, — откуда у вас американские продукты?
— Подарок его высокопревосходительства фельдмаршала Роммеля, господин капитан-лейтенант.
Наступило неловкое молчание.
VIII
Старинная головоломка: ехал мужик, а с ним волк, коза и капуста. Надо им через реку переправляться, а с собою в лодку можно взять только или волка, или козу, или капусту. Как же мужику умудриться, чтобы не оставлять наедине ни волка с козой, ни козу с капустой?
А вот другая, самая современная задача: в силу стечения военных обстоятельств на одном острове оказались два англичанина, два американца, советский моряк и три эсэсовца, из которых один — матерый гитлеровец — ранен, но легко, другой, хоть и прикидывается образцовым военнопленным, безусловно укусит при первой представившейся возможности, третий, кстати сказать, недурно вооруженный, где-то пропадает и с минуты на минуту может нагрянуть. Советскому моряку надлежит в обстановке неприязни со стороны трех из его четырех спутников (ладно, не неприязни, а досадного непонимания) накормить всю перечисленную выше ораву и себя в том числе, тщательно обыскать пещеру, разведать обстановку на острове, принять меры для поимки оставшегося на воле эсэсовца и закончить допрос пленных с таким расчетом, чтобы:
а) ни в коем случае не оставлять майора эсэсовца с глазу на глаз с его фельдфебелем без присмотра упомянутого советского моряка или англичанина-кочегара, дабы не дать им договориться;
б) ни в коем случае не оставлять этих эсэсовцев с американцами без собственного присмотра (Смит, к сожалению, для них не авторитетен), дабы не дать им столковаться в ущерб общему делу союзников, и
в) даже в его, упомянутого советского моряка, присутствии ни в коем случае не допускать посторонних разговоров его союзников с пленными, по меньшей мере до завершения допроса.
Первую головоломку — с козой, волком и капустой — можно было решать и не решать. Вторую решать было необходимо в самом срочном порядке.
А тут еще Фламмери вносит предложение, чтобы майор фон Фремденгут был приглашен к завтраку.
Основание: «Наши фирмы больше полувека находятся в самых тесных деловых связях. Мне будет в высшей степени неудобно встретиться с мистером Фремденгутом после войны, если мы его сейчас не пригласим к нашему столу».
Егорычев говорит:
— Возражаю. Пока что у нас война. Он только что взят в плен с оружием, из которого он в нас стрелял.
Фламмери:
— Не надо забывать, что он офицер и из очень приличной фамилии. Мы должны соблюдать правила вежливости.
Егорычев:
— Не надо забывать, что он эсэсовец.
Фламмери:
— Мы не на митинге, сэр!
Егорычев:
— Но и не на бирже!
Тогда Фламмери вдруг вспоминает, что он военнослужащий. Он апеллирует к Цератоду:
— Сэр, я обращаюсь к вам, как к старшему среди нас, офицеров союзных войск. Ваше слово решающее.
«Ну, — подумал Егорычев, — кажется, заваривается нешуточная дискуссия. Будь что будет, но уступать в таком вопросе ни в коем случае нельзя».
Однако до сражения дело не дошло. Цератод сказал, что он считает «несвоевременным» завтрак с майором Фремденгутом. Оппортунист оппортунистом и остается. «Несвоевременным» — значит, мистеру Фламмери дается понять, что может наступить такой момент, когда его предложение окажется «своевременным». А с другой стороны, мистер Егорычев, конечно, не будет придираться к тонкостям формулировок: «несвоевременным» — значит, предложение мистера Фламмери пока что по боку. А там еще когда оно будет «своевременным»!
Фламмери обиделся, надулся, а у Егорычева точно гора с плеч свалилась.
Завтрак прошел очень быстро и в полном молчании.
Потом Егорычев сменил Смита, чтобы дать и ему возможность подкрепиться.
«Хороший парень! — подумал Егорычев, провожая Смита глазами. — Без него я бы пропал с этими высокопарными трусами. Но полно, трусами ли? Что-то я, поразмыслив, помаленьку прихожу к убеждению, что дело здесь не в трусости. Для них троих это не война не на живот, а на смерть с коричневой чумой, с угрозой свободе всего человечества, а самая обыкновенная война. Более крупная, более кровавая, с более внушительными ставками, с более головокружительными перспективами выигрыша и проигрыша, но и только. Ради обыкновенной войны за передел или сохранение сфер влияния и колоний действительно нет расчета рисковать головой без самой крайней необходимости. Зато там, где дело будет идти об их личной судьбе, личном благополучии, непосредственной угрозе их жизням и жизням близких им людей, они будут защищаться яростно и до последнего издыхания. Уже не говоря об угрозе революции в США и Англии. Тут и Цератод и Фламмери будут кидаться в самый огонь. Смит — совсем другое дело. Он настоящий антифашист. И боец он хороший, храбрый, дисциплинированный. Фламмери, хоть и потрясает его своим богатством, влиять на него не сможет. Но Цератод для него «свой человек», профсоюзный деятель, член одного с ним союза. Недаром же Смита лет двадцать муштровали всяческие цератоды. Что ж, объявляется негласная война за храбрую и честную пролетарскую душу кочегара Сэмюэля Смита!»
Часы показывали десять минут девятого, когда Смит снова сменил Егорычева в пещере. Кумахеру Егорычев приказал посидеть там же, рядышком с майором, но ни в коем случае не обмениваться с ним ни единым словом. Смиту он дал автомат Фремденгута, а сам с автоматами Шварца и Кумахера вышел к остальным своим спутникам.
— Джентльмены, — сказал он, — предварительный и самый беглый допрос обоих эсэсовцев подтвердил мои догадки. Нет никаких сомнений, что если на остров прибудут дополнительные контингенты неприятельских войск, мы будем немедленно уничтожены, прежде всего в интересах полнейшего соблюдения военной тайны. Это,
конечно, никак не значит, что нас не попытаются прикончить и наличные эсэсовцы, если только к тому представится хоть малейшая возможность. И уверяю вас, мистер Фламмери, уж они-то не посчитаются с тем, что ваши фирмы больше полувека поддерживают теснейшие деловые связи по части торговли взрывчатыми веществами. Я пока еще очень немного знаю. Для того чтобы узнать больше, мне требуется ваше обещание, что вы впредь до моей санкции не будете вступать с пленными ни в какие переговоры. Поверьте моему слову, я нисколько не преувеличиваю.
Его слова, кажется, произвели впечатление.
— С минуты на минуту, — продолжал он, — может вернуться четвертый эсэсовец. Он ушел вниз за провизией и водой. Он вооружен. Ясно, что на свободе его нельзя оставлять. Его нужно как можно скорее поймать. Поймать его можно только, если захватить врасплох.
IX
Лужайка, ставшая местом описанных выше событий, завершала собой северную часть острова, охватившего зеленым полукольцом просторную и глубокую бухту бирюзовой синевы. Его берега, покрытые светло-серым гравием до наиболее высокой линии прилива, дальше почти сразу переходили в гористый, обильно поросший лесом амфитеатр, напоминая гигантскую полуразбитую миску, из которой чудом не выплескивалась вода. Оба рога этого растянувшегося километров на пятнадцать каменистого полумесяца обрывались высокими и крутыми мысами.
Сама по себе площадка Северного мыса была невелика — не более трех-четырех тысяч квадратных метров. Если бы не покрывавшая ее густая трава, пестревшая диковинными и очень пышными цветами, и если бы не обрамлявшие ее кустарники и деревья неизвестных Егорычеву пород, он сказал бы, что она напоминает ему площадку на балаклавской скале перед знаменитой генуэзской башней, на которой ему пришлось повоевать ранней весной памятного тысяча девятьсот сорок второго года. Только та площадка была больше вытянута в длину и значительно менее уютна, возможно потому, что на нее ежедневно падало в среднем двести — триста фашистских снарядов и мин. Здесь же царила блаженная тишина, не нарушаемая, а как бы еще более подчеркиваемая пением птиц и домовитым треском цикад.
В Балаклаве, как и во всем Севастопольском укрепленном районе, птиц весной тысяча девятьсот сорок второго года не было. Их разогнала война.
С точки зрения безопасности площадка, на юго-восточной окраине которой залегли в засаде Егорычев и Мообс, удовлетворяла самым придирчивым требованиям. С юга, запада и северо-востока ее ограничивали отвесные обрывы, с севера — крутая скала с единственной известной уже нам расселиной, через которую открывался весьма сомнительный доступ на площадку, да и то с внешней стороны острова, с моря. Дорога к ней из расселины в значительной своей части просматривалась сверху. Достаточно было одного человека с автоматом, чтобы накрепко запереть этот проход. Собственно, не требовалось никакого оружия. Стоило только вовремя столкнуть несколько камней в расселину, и они сами, со все возрастающей скоростью и силой, покатятся вниз, давя и сметая все на своем пути.
Егорычеву стало даже несколько не по себе при мысли, что случилось бы с ним и его спутниками, если бы Кумахер на секунду отвлекся от своей зарядки и прислушался к движению по расселине. Камней под рукой у него было более чем довольно для того, чтобы от всех пятерых осталось только мокрое место.
Только с юго-восточной стороны лужайки убегала вниз по сравнительно неширокой перемычке узкая и извилистая тропинка, петлявшая среди залитой солнцем густой тропической чащи, пока где-то далеко внизу, сразу за речонкой, походившей издали на металлический браслет для часов, окончательно не пропадала среди деревьев.
По ней и должно было ждать возвращавшегося ефрейтора Сморке. Сомнительно, чтобы туда, в долину, донеслись негромкие звуки пистолетной стрельбы в полузакрытой пещере. Вряд ли он мог слышать и предсмертный вопль своего коллеги Шварца, который и падал-то к тому же не в сторону долины, а с внешнего, обращенного в океан обрыва.
Скорей бы уж он возвращался, этот последний представитель разгромленного эсэсовского гарнизона!
Теперь, когда так удачно и относительно легко были обезврежены первые три эсэсовца Егорычев не сомневался, что и с четвертым все обойдется вполне благополучно.
Не спугнуть бы его только раньше времени. Нужно будет, пожалуй, пропустить его вперед и взять в клещи.
Егорычев быстро переполз тропинку, чтобы — поделиться с Мообсом дополнительными соображениями.
— Мообс, — шепнул он американцу, лежавшему на животе, — Мообс!
Ответа не было.
Егорычев подполз поближе и услышал мерное посапывание, перемежавшееся легким храпом.
Мообс спал!
Спору нет, после нескольких суток скитаний на плоту, после последней, весьма неудобно проведенной ночи и недавнего сытного завтрака очень опасно было неподвижно улечься на мягкой травке в тени, пусть даже и с автоматом в руках. Это было понятно, но непростительно.
Егорычеву пришлось сделать над собой усилие, чтобы не стукнуть американца прикладом в спину. Мообс мог еще, чего доброго, спросонок заорать на всю округу. Кроме того, вообще не стоило обострять отношения с этим парнем, и так уже плясавшим под дудку мистера Фламмери.
Он тихо дотронулся до плеча спавшего репортера, тот словно в насмешку захрапел во все тяжкие.
Тогда Егорычев сильно дернул его за руку.
— Что такое?.. В чем дело?.. Где я?.. — забормотал Мообс, встрепенувшись. — Ах, это вы, Егорычев?.. Вы меня дьявольски напугали… Вы его поймали?..
И смех и грех! Эти люди никак всерьез решили, что за его спиной можно спокойно вздремнуть даже во время боевой операции. Оно, конечно, лестно, да не очень удобно.
— Слушайте, Мообс, — сказал он, стараясь сохранить самую дружескую интонацию, — я сам устал до невозможности, но подумайте хоть на минутку, что получится, если мы с вами проспим этого прохвоста.
— А какой шикарный сон мне только что приснился! — бормотал между тем Мообс, зевая и потягиваясь. — Ну ладно, ладно! — сказал он, увидев, что Егорычев приготовился не на шутку рассердиться. — Я поступил, как свинья… Вы мне хотели что-то сказать?
— Я хотел бы сказать, что на фронте вам за сон на посту пришлось бы в лучшем случае прогуляться в штрафной батальон. Но сейчас некогда воспитывать из вас солдата.
— И бесполезно, — с готовностью добавил репортер, продолжая щуриться, зевать и потягиваться.
— Не будем сейчас об этом спорить. Важно не упустить вашего эсэсовца. Давайте сделаем так. Я поднимусь несколько выше. Вы его пропустите вперед. Когда он будет выше вас шагов на пять, выскакивайте на дорожку и кричите: «Хенде хох!» Он кинется вперед, а за поворотом я его встречу… Только, ради бога, не спите! Знаете что, лучше вам, пожалуй, присесть.
— Зачем? — горячо возразил Мообс. — Лежа я буду Менее заметен… А то нечаянно вспугнешь его…
Прошло еще двадцать томительных минут. Солнце било Егорычеву в глаза, пригревало, размаривало. Стрекотание цикад убаюкивало, вгоняло в сон. Егорычев несколько раз поймал себя на том, что его глаза начинали слипаться. В таких самых крайних случаях Егорычев, чтобы развлечься, принимался за расчесывание своей бородки. Этот процесс еще не успел стать для него привычным делом и поэтому даже забавлял его. Тем более, что после перерыва в несколько дней его по-юношески курчавящуюся бородку не так уж легко было расчесывать, приходилось и подергать расческой. Те, кто, подобно Егорычеву, отпускал себе на фронте бороду, могут подтвердить, что уход за нею иногда связан и с неприятными ощущениями, которые прекрасно разгоняют сон.
Егорычев уже извлек на свет божий расческу, когда за поворотом, пониже того места, где залег Мообс, послышались мягкие, почти неразличимые шаги. Кто-то, тяжело дыша, подымался по крутой тропинке.
Сейчас Сморке (Егорычев не сомневался, что это именно он) появится из-за поворота. Чего там ждет Мообс? Почему он молчит? Неужели снова заснул?
Выработанный Егорычевым план летел к черту. Клещи не получались. Надо было немедленно принимать новое решение.
С тылу Сморке никто дороги не преграждал. Но пропускать его вперед и отрезать ему путь к отступлению было в высшей степени рискованно. Чего доброго, прорвется вооруженный на лужайку и пристрелит Цератода и Фламмери, прежде чем они очухаются. Смит, услышав так близко от пещеры стрельбу, может растеряться, на него, конечно, сразу накинутся оба пленных. Тогда все пиши пропало.
Что же там случилось с Мообсом?
Но было уж не до Мообса. Вот сквозь редкий кустарник показались чьи-то ноги. Но это не ноги Сморке. Это босые, черные ноги. Еще одна пара черных босых ног. Сейчас показались к владельцы Этих ног — два идущих гуськом, один от другого метрах в трех, голых негра в серовато-белых плотных трусах. Они держат на плечах концы бамбуковой жерди. На жерди висят несколько гроздей бананов, шесть кокосовых орехов, два больших алюминиевых бидона, очевидно с водой, и белоснежная, с шелковистой шерстью козья тушка. А вот и сапоги ефрейтора Сморке. Сразу за вторым негром устало шагает невысокий черноволосый эсэсовец с тоненькими, вытянутыми в струнку над самой губой, франтоватыми усиками. Китель его расстегнут. Из-под кителя виднеется сорочка с серыми подтеками пота. Автомат висит у него на шее. Он ковыряется в своих очень белых и ровных, скорее всего искусственных зубах и между делом лениво подстегивает негра тоненьким бамбуковым прутиком. При каждом ударе по спине негра проходит волна, как у загнанной лошади. Тощее и смуглое лицо ефрейтора, украшенное изящными золотыми очками самого модного фасона, выражает скуку. Ясно, что он ничего не подозревает.
Прошла еще минута тягостного ожидания. Мообс по-прежнему не подавал никаких признаков жизни. Ефрейтор был уже не более как в пяти шагах. Его лицо было покрыто мелкими бисеринками пота, поблескивавшими на солнце, но ему, очевидно, было лень вытереть их. Ему теперь стало лень даже возиться с прутиком. Он швырнул его в кусты и чуть не попал в Егорычева. Теперь ефрейтор обе руки держал на автомате, холодно поблескивавшем вороненой сталью. Сморке опирался на него, как на перила.
— Хальт! — закричал Егорычев не своим голосом, прорываясь сквозь кусты на тропинку. — Хенде хох!..
— А-а-а-а! — пронзительно заверещал эсэсовец и пулей кинулся назад, вниз по тропинке. Руки он с перепугу по-прежнему продолжал держать на висевшем автомате, как на перилах.
— Стреляю!.. Стой!.. — кричал уже по-русски Егорычев и, так как ефрейтор и не думал останавливаться, выпустил ему вслед длинную очередь.
В это время и снизу, оттуда, где находился Мообс, тоже раздалось «хенде хох!», и Егорычев наконец увидел репортера. Тот возник из кустов, как игрушечный чертик из коробочки, но, несмотря на то что осатаневший от неожиданности ефрейтор уже не мог остановиться и бежал, грузно топая сапогами, прямо на него, почему-то не стрелял. Вместо того чтобы использовать автомат по его прямому назначению, Мообс схватил его за ствол и замахнулся им, как дубиной. Теперь уже Егорычеву нельзя было стрелять: ничего не стоило вместо эсэсовца попасть в Мообса. Американец, невольно отшатнувшийся от мчавшегося на него Сморке, попытался ударить его прикладом, не тот по-заячьи метнулся в сторону и скрылся за поворотом.
— Стреляйте!.. Стреляйте же в него!.. — крикнул, не помня себя от возмущения, Егорычев, но репортер только махнул обескуражено рукой.
Проклиная на чем свет стоит и этого проклятого эсэсовца, и всю гитлеровскую банду, и эту несчастную мямлю, и эту идиотскую тропинку, которая, знай себе, вьется, что твой штопор, Егорычев кинулся догонять немца. Но было уже поздно. Топот ефрейторских сапог становился все менее слышен, а вскоре и вовсе затих.
Так ли далеко успел убежать ефрейтор Сморке, или, придя в себя, залег на обочине тропинки, решив из дичи превратиться в охотника, Егорычев уяснить себе не мог. Во всяком случае, продолжать погоню было не только бессмысленно, но и опасно.
Ефрейтор Сморке был упущен, и трудно было преувеличить неприятные последствия, которые могли от этого произойти.
С каким удовольствием отдубасил бы Егорычев этого веснушчатого растяпу, который имеет еще наглость сердито смотреть на него, по-прежнему продолжая держать автомат за ствол, словно веник!
— Вы понимаете, что вы наделали? Почему вы не стреляли? Проспали?..
— Он не взводился, — раздраженно отвечал Мообс. — Сколько я ни пытался взвести его, он не взводился. Я пробовал нажимать на курок — он не стрелял. Вы мне подсунули негодный автомат…
— Вы шутите! — опешил Егорычев. — А ну, давайте его сюда. Он разрядил автомат, быстро проверил спусковой механизм.
— Абсолютно исправный автомат.
— Из него нельзя было выжать ни единого выстрела.
— Конечно… а как же иначе? Раз он оставался на предохранителе…
Мообс разинул рот, потом побагровел от смущения.
— Фу, какая нелепость! Вы должны извинить меня, Егорычев… Я здорово волновался… Можно сказать, первый бой — и такой позор!
Егорычев кинул быстрый взгляд на подавленного своим ничтожеством репортера.
— А чего вы там промешкали в кустах? Почему вы не крикнули ему «хенде хох!» тогда, когда полагалось?
— Я решил, что будет лучше, если я раньше выстрелю в воздух…
— Ну?..
— А потом, смотрю, автомат не стреляет, а этот немец уже бежит обратно.
— Ну? — лицо Егорычева мало-помалу расплывалось в широкой улыбке.
— Я и выбежал ему навстречу… Я собирался стукнуть его прикладом, а он…
И Мообс удрученно махнул рукой.
— Слушайте, Мообс, — сказал ему тогда Егорычев не без уважения. — Эсэсовца мы упустили, и это, конечно, чрезвычайно грустно. Но ведь вы действительно впервые в жизни участвуете в боевой операции. У меня это как-то вылетело из памяти… Знаете, старина, выскочить на вооруженного противника, имея в руках заведомо не стреляющий автомат, — для этого требуется мужество… Из вас мог бы получиться настоящий солдат… если бы вы этого захотели.
Он пожал руку растерявшемуся репортеру.
— Поздравляю с боевым крещением!
Мообс исподлобья посмотрел на Егорычева: не шутит ли этот непонятный русский? Нет, по всей видимости, Егорычев говорил вполне серьезно. Тогда Мообс повеселел и из состояния крайнего самоунижения стремительно перешел в состояние столь же крайнего самодовольства.
— А ведь верно, для начала не так уж плохо?
— Пошли обратно, — сказал Егорычев.
— Пошли, — бодро отозвался репортер.
За поворотом они наткнулись на негров, о которых совсем было забыли в переполохе. Бросив свою кладь, негры лежали ничком, уткнувшись в траву и зажав уши пальцами. Они все еще не могли прийти в себя от выстрелов и с ужасом ждали продолжения стрельбы.
— А ну, вставай, ребятки! — благожелательно промолвил Егорычев по-русски, рассудив, что к ним можно с одинаковым успехом обращаться на любом из европейских языков.
Негры оставались недвижимы и безгласны.
Егорычев присел на корточки и похлопал одного из них по плечу.
— Вставай, вставай, браток! Нечего трусить…
Негр продолжал молчать, стараясь еще глубже спрятать лицо в траве.
Мообс брезгливо смотрел на островитян.
— Вы не умеете обращаться с цветными, — заметил он Егорычеву тоном более опытного и решительного человека. — Посмотрите, как они у меня сейчас заговорят.
И он размахнулся, чтобы пнуть ногой ближайшего негра.
Лицо Мообса, еще только что добродушное и полумальчишеское, теперь было жестоким, злым и гадливым.
Но Егорычев изо всей силы стукнул Мообса по ноге.
— Вы что, с ума сошли?!
Репортер охнул от боли и насупился, как мальчишка, которому не дали ответить урок в тот единственный раз. когда он его знал на пятерку.
— Ну, чего же ты, парень? — еще ласковей обратился Егорычев к негру по-русски. — Вставай!.. Никто тебя не укусит…
— Милорд! — неожиданно ответствовал негр по-английски, все еще не решаясь оторваться от земли и глянуть на говорившего с ним. — О сэр, не извергайте на нас смертоносного огня из вашего мушкета!
— Ого, — поразился Егорычев, — да ты разговариваешь по-английски почище меня! Как тебя зовут, дружище?
— Меня зовут Гамлет, сэр, — отвечал негр, все еще не решаясь подняться.
— Его зовут Гамлет, милорд, — подтвердил второй негр, тоже не меняя своего положения.
— А ну, вставай, Гамлет, принц датский! — весело промолвил Егорычев и попытался приподнять его.
Подбодренные дружелюбной интонацией этих слов, негры наконец подняли свои головы. Oни увидели улыбающееся лицо Егорычева, и их физиономии, с которых еще не успело сойти выражение простодушного испуга, вдруг выразили поистине священный ужас, тотчас же сменившийся радостью, восторгом, блаженством, экстазом.
Они вскочили на ноги, словно их подбросила какая-то невидимая пружина, и с торжествующими криками: «Белый с желтой бородой! О, белый с желтой бородой!», стремглав бросились вниз по тропинке.
X
— Вы поняли что-нибудь? — спросил Егорычев.
— По совести говоря, ничего, — честно сознался Мообс. — Кажется, они испугались вашей бороды.
— Не думаю. Скорее, она их обрадовала. В первый раз встречаю людей, кроме меня самого, которым моя борода так искренне понравилась… Да, вы заметили, они говорят по-английски?
— Ничего удивительного. Все негры у нас, в Штатах, говорят по-английски.
— Одно дело — в Америке… Но здесь ведь не Америка… Голые, бесспорные дикари, а говорят по-английски на острове, не обозначенном на карте!.. Удивительно!.. Голого дикаря зовут Гамлетом! И потом вам, Мообс, не странно, что на этом острове оказались именно негры? Скорее здесь можно было бы ожидать индейцев. Ведь мы ближе к Южной Америке, чем к Африке…
— Ну, это уже философия. По-моему, нам нужно поскорее возвращаться наверх. Там, безусловно, беспокоятся. Особенно после вашей стрельбы и наших криков.
— Ваша правда, Мообс, — согласился Егорычев. — Пошли! Они подобрали брошенную неграми кладь и спустя несколько минут уже были на лужайке.
Фламмери и Цератод осторожно вышли им навстречу из-за дальних деревьев.
— Ну что, вы его убили? — спросил Цератод, автоматически впадая в начальственный тон.
— Он выскользнул из рук, как угорь, — сказал Егорычев. Мообс понурил голову. Вот сейчас станет всеобщим достоянием злосчастная история с предохранителем. Но Егорычев не обмолвился об этом ни единым словом.
Предоставив Мообсу рассказывать о том, как удалось ускользнуть последнему оставшемуся на воле эсэсовцу, Егорычев заглянул в пещеру к Смиту. Оба эсэсовца спали или прикидывались спящими. Кочегар сидел в дверях на деревянном ящике и боролся с дремотой.
— Ну как, — встрепенулся он, завидев Егорычева, — поймали?
— Тссс! Не будем будить пленных! — подмигнул Егорычев, присел на краешек ящика и шепотом, на ухо, поведал Смиту, как обстоят дела. Но о промахе репортера он и ему ничего не сказал.
— Вам придется еще немного покараулить, — добавил он напоследок. — Сейчас я уложу нашего репортера отдыхать, а через часок он вас сменит.
— Невредно было бы подежурить и этому мистеру Фламмери, — высказал свое мнение кочегар. — А то как бы он не разжирел от безделья.
— Ему, может быть, было бы и невредно. Но нам, нашему общему делу, это, пожалуй, могло бы повредить.
Для полной ясности Егорычев мотнул головой в сторону пленных и выразительно пожал своей правой рукой левую.
— Понимаю, — сказал кочегар, тщательно обдумав слова Егорычева. — Это мне тоже приходило в голову.
— То-то же! — развел Егорычев руками и вышел из пещеры. У выхода его перехватил Мообс.
— Егорычев! — патетически обратился к нему репортер. — Благодарю вас от всего сердца. Вы настоящий джентльмен, и я вас еще больше полюбил!
— Ложитесь отдыхать, старина, — деловито промолвил Егорычев, который терпеть не мог приподнятых интонаций. — Через час вам придется сменить Смита.
— Не грех было бы заставить и мистера Цератода включиться в это дело, — заметил Мообс, движимый не столько чувством справедливости, сколько неприязнью к англичанам.
— Стоит ли? Мы еще успеем нагрузить его работой. Дела хватит на всех.
— Но это я так, между прочим, — поправился репортер. — А вообще, я буду счастлив оказать вам эту услугу.
— Не мне, а нам. В том числе и самому себе. Только одно условие, Мообс: не давать этим эсэсовцам переговариваться ни с вами, ни между собой. И чтобы они ни в коем случае не подымались со своих мест. Вы понимаете, почему?
— Вы, кажется, считаете меня ребенком, Егорычев!
— Упаси меня бог от такого мнения! И пока вы на вахте, не допускайте в пещеру никого, кроме меня и Смита. Ясно?
Мообс утвердительно мотнул головой.
— Даже Фламмери.
— Даже Фламмери? — кисло переспросил репортер.
— Даже Фламмери. Обещаете?
— Обещаю.
— Потом я вам объясню причину. Сейчас ложитесь спать. А я спешу.
— С удовольствием. Только меня нужно разбудить. Вряд ли я сам так скоро проснусь.
— Разбудим.
В Мообсе вдруг заговорил товарищ:
— А может быть, лучше бы вам сейчас прилечь? Ведь вы больше всех нас устали.
— Мне еще рано, — ответил Егорычев и направился к Фламмери и Цератоду. — Ложитесь, ложитесь, не теряйте драгоценного времени!
Мообс не стал терять времени. Через минуту его бодрый храп разнесся по всей лужайке.
Фламмери и Цератод встретили Егорычева с озабоченными лицами.
Цератод величественным жестом пригласил его сесть. Егорычев сел и только сейчас по-настоящему почувствовал, как он устал.
«Неужели они хоть из вежливости не предложат мне отдохнуть?»-подумал он с любопытством.
Но у них ничего подобного и в мыслях не было.
Впрочем, Егорычев ни за что не согласился бы сейчас прилечь. Он уже заранее решил, что позволит себе прикорнуть только тогда, когда хотя бы важнейшие, самые неотложные дела будут улажены. А дела было еще непочатый край. Надо было решить, что предпринимать с оставшимся на свободе эсэсовцем, тщательно обыскать пещеру и ее окрестности, собрать в одно место все оружие, все документы, все оборудование и продовольствие, продумать, как изолировать пленных (об этом придется отдельно посоветоваться со Смитом), разработать систему вахт, попробовать еще сегодня приступить к ремонту рации и еще многое, многое другое.
А после всего этого еще оставался допрос майора Фремденгута, чтобы выяснить задачу, поставленную перед здешними эсэсовцами.
— Мистер Егорычев, — обратился к нашему герою Цератод, многозначительно подчеркивая каждое слово. — Поскольку именно в результате вашего неуважения к воле большинства (чему я, впрочем, принимая во внимание ваше специфическое воспитание, нисколько не удивляюсь) мы оказались сейчас в таком беспримерном тупике, мы с мистером Фламмери были бы в высшей степени рады услышать из ваших уст соображения по поводу создавшегося положения.
— Неужели вы, господин майор, все еще сомневаетесь, что нас прикончили бы в первый же день, если бы мы, позабыв о своем воинском долге, сдались в плен этим профессиональным убийцам? — отвечал ему Егорычев вопросом на вопрос, правильно поняв, о каком тупике идет речь.
— Мы не на митинге, где надо запугивать простачков, — насупился Цератод. — Я был бы вам, мистер Егорычев, крайне признателен, если бы вы отказались при беседе с нами от излишних агитационных интонаций и грубо прямолинейных суждений о нацизме.
Егорычеву некогда было пускаться в дискуссии е Цератодом. Но, Заметив, что Фламмери пытается подать реплику, он счел нужным уточнить свою мысль.
— Не думайте только, капитан Фламмери, что для вас они сделали бы исключение. У них здесь для этого слишком серьезное и засекреченное задание.
— Я позволю себе иметь на этот счет свое мнение, — процедил сквозь зубы капитан санитарной службы.
— А я рад за вас, что вам не пришлось проверить его на практике.
Затем, не дав обоим джентльменам времени для продолжения бесполезных препирательств, Егорычев изложил перед ними свой план действий.
Ясно было, что ефрейтор Сморке если и задумает в целях уяснения обстановки пробираться сюда, на площадку, то, конечно, не рискнет проделать это в светлое время суток. Следовательно, до вечера можно считать себя обеспеченным от этой заботы. Представляет ли Сморке опасность? Бесспорно. Но ее не следует преувеличивать. Во-первых, у него только один путь на площадку — сравнительно узкая перемычка, которую легко можно держать под Контролем. Во-вторых, у него мало патронов — всего одна обойма. С каждым его выстрелом он становится безопасней. Значит, надо что-нибудь такое придумать, чтоб заставить его поскорее израсходовать весь свой боезапас. Егорычев берет решение этой задачи на себя. Хотя, конечно, он был бы счастлив, если бы у уважаемых господ офицеров оказались по этому вопросу какие-нибудь предложения.
У уважаемых господ офицеров по этому вопросу никаких предложений не оказалось.
— Во всяком случае, — продолжал Егорычев, выждав немножко для приличия, — если нам до вечера не удастся поймать или ликвидировать ефрейтора Сморке (при слове «ликвидировать» майор Цератод поморщился), надо будет заминировать тропинку. Мин достаточно — целый ящик.
— Хотел бы я иметь ваш оптимизм, — пробурчал Цератод.
— Уверяю вас, он основан на самом трезвом учете обстоятельств. Кстати, прошу вспомнить, вчера в это время мы и мечтать не смели, что сегодня будем не только живы, но и сыты и на довольно приятном кусочке земли.
— Вот именно, Кусочке! — фыркнул капитан Фламмери. — Вас не устраивают размеры острова, капитан?
— Нет, что вы! Я в восторге.
— И, конечно, — продолжал Егорычев, пропуская мимо ушей язвительное пофыркиванье обоих джентльменов, — нужно будет сделать все, чтобы поскорее починить рацию.
— А вы умеете, господин капитан-лейтенант, ремонтировать радиоаппаратуру?
— Не очень, господин майор. В основном надежда на пленного фельдфебеля Кумахера.
— Слабая надежда.
— Мы уже с ним об этом договорились. Оба джентльмена были приятно удивлены.
— Если только, — уточнил Егорычев, — пленные не будут иметь оснований сомневаться в нашем единстве.
— Боже, какие красивые слова! — пробормотал Фламмери.
— Красивые — и только? О необходимости единства среди союзников неоднократно и весьма убедительно говорил не кто иной, как ваш президент, мистер Фламмери.
— Очень может быть. Я никогда не был поклонником мистера Франклина Рузвельта.
— И все же он ваш президент и ваш главнокомандующий, мистер капитан Фламмери.
— Наш дом с ним не считался и в Штатах. Тем меньше у меня оснований и охоты считаться с его благоглупостями здесь, на острове.
— Если пленные заметят разлад между нами, они не будут нам подчиняться и будут нам всячески ставить палки в колеса. Поймите, мы можем починить рацию и попробовать связаться с Европой или уж, во всяком случае, с Южной Америкой.
— Если мне не изменяет память, вы недавно заявляли, что вам даже не известны координаты острова? — учтиво осведомился Цератод и прикрыл ладошкой невольный зевок.
— Не только мне, но и майору Фремденгуту.
— Куда же вы, простите, будете вызывать помощь?
— Нас запеленгуют. Это сравнительно несложно. При теперешнем состоянии радиотехники…
— Согласитесь, это одинаково несложно и для наших и для немцев.
— Но немцам значительно сложнее добраться сюда.
— Вы так полагаете?
— Я в этом убежден. Я не сомневаюсь, что Гитлеру уже сейчас не до этого острова.
— Вы имеете основания так судить? — спросил Фламмери.
— Да. Положение на советском фронте становится все хуже и хуже для Гитлера.
— Попробуем согласиться с вами. Но послать подкрепление сюда, на остров, он не сможет только при одном условии — при условии, если ему запрут выход в Атлантику.
— Вы полагаете, что эта перспектива нереальна?
— Она реальна только в одном случае — в случае открытия второго фронта.
— А разве оно невозможно?
— Возможно… Когда вы и немцы расколотите друг друга до полного истощения…
— Не раньше, мистер Фламмери?
— Раньше нет никакого расчета, мистер Егорычев. — Тут Фламмери спохватился, что, пожалуй, слишком разоткровенничался. — Да полно, мистер Егорычев! Ведь мы не в клубе! Оставим споры на отвлеченные темы до более счастливых времен.
— Что ж, — сказал Егорычев, — мы дойдем туда, куда будет нужно.
— Джентльмены! — укоризненно промолвил Цератод. — Разговор начался по поводу единодушия…
— Хорошо, — сказал Егорычев. — Будем считать, что насчет единодушия мы договорились. По крайней мере, о единодушии в присутствии пленных.
— Конечно, если вы, мистер Егорычев, не будете злоупотреблять нашей лояльностью, — ласково улыбнулся Цератод. — Лично мне кажется.
— Прошу прощения, — перебил его Фламмери, — вы ничего не слышите, джентльмены?
Снизу, из долины, доносился отдаленный гул, который можно было бы назвать набатом, если бы существовали деревянные колокола. Звонко и часто били во что-то, напоминавшее огромный ксилофон.
В деревне происходило что-то необычное.
— Уж не связан ли этот прелестный концерт с нашим прибытием на остров? — озабоченно промолвил Фламмери. — Это очень похоже на боевую тревогу.
— Не думаю, — сказал Цератод. — Никакого движения со стороны деревни не видно.
Словно в опровержение его слов из-за деревьев, плотным кольцом окружавших деревню, стали показываться еле заметные кучки туземцев. Кучки росли, пока, наконец, не слились в толпу. Потоптавшись некоторое время на месте, она двинулась по направлению к северной оконечности острова.
— Будет правильным, если мы примем некоторые меры предосторожности, — сказал Егорычев, и оба его собеседника с ним сразу согласились.
Он вынес из пещеры пулемет, роздал обоим джентльменам автоматы, на которые господа офицеры посмотрели не без опаски, напомнил, как с ними обращаться.
— Стрелять только по моему приказанию. Не думаю, чтобы они шли с дурными намерениями… Но, конечно, осторожность никогда не мешает.
Толпа быстро приближалась. Она была уже метрах в восьмистах от речки. Вместе с безоружными мужчинами, мерно бившими в длинные деревянные барабаны, шли женщины и дети. Они пели с веселыми лицами довольно печальную песню и хлопали в такт ладошами.
— Могу поклясться, что я когда-то слышал нечто подобное, — задумчиво протянул Цератод, вслушиваясь в приближавшуюся мелодию.
— И я тоже, — сказал мистер Фламмери. — Но где?.. И когда?.. Тра-та-та-та-а-рам, тра-та-та-та-а-рам, — стал он невольно подтягивать. И вспомнил. — Боже, да ведь это четырнадцатый псалом!.. Ну конечно, четырнадцатый псалом! Но как они перевирают мотив! Язычники нечестивые! Линчевать их за это мало!
— В самом деле, псалом, — не сразу согласился с ним Цератод. — Они идут к нам с пением псалмов. Это вполне мирная демонстрация.
— Ну, это еще как сказать, — усмехнулся Фламмери. — Можно прийти с псалмами на устах и с мечом под плащом.
— Люди на низшей ступени цивилизации никогда до этого не додумаются, — строго возразил Цератод. — Впрочем, минут через двадцать мы с вами сможем это проверить на деле…
Не прекращая петь и бить в барабаны, толпа стала вброд, с камешка на камешек, перебираться через речку.
Но когда уже, по крайней мере, треть толпы благополучно переправилась и потянулась вверх по тропинке, то и дело пропадая за крутыми поворотами, шествие вдруг остановилось. Люди, приставив ладони козырьками к глазам, стали смотреть в сторону деревни, а потом с криками бросились обратно. Только теперь наблюдавшие с площадки отвлеклись от живописного зрелища торжественной процессии и заметили над деревней высокую и все более темневшую стену дыма, выплескивавшегося через живую пальмовую ограду. Деревня горела.
— Смотрите, смотрите! — воскликнул Фламмери, протягивая Егорычеву бинокль Фремденгута. — Да не туда! Вон туда смотрите!
Из густой чащи, скрывавшей на юго-западном склоне котловины горное селение, высыпало и помчалось в сторону горевшей деревни около сотни мужчин, размахивавших каменными топорами и еще какими-то длинными жердями, которые на таком далеком расстоянии можно было с одинаковой степенью достоверности принять и за копья и за какое-нибудь другое, неизвестное еще европейцам оружие. Они бежали с необыкновенной легкостью, перепрыгивая через встречавшиеся препятствия с изяществом и стремительностью коренных горцев, и что-то кричали.
— Они бегут грабить горящую деревню! — жарко проговорил Фламмери, почему-то переходя на шепот. — Боже мой, всюду войны, всюду войны!
В этом восклицании можно было расслышать не только лицемерную горечь за печальную судьбу человечества, но и плохо скрытое удовлетворение человека, который заполучил последнее недостававшее звено для того, чтобы окончательно утвердиться в выведенном им и жизненно ему необходимом законе.
— Положение довольно типическое, — согласился с мистером Фламмери Цератод, тщательно рассмотрев в бинокль обе группы, изо всех сил бежавшие к горевшей деревне. — Человек человеку — волк. Всюду одно и то же… Люди бегут воспользоваться бедой своих соседей! Так было, так будет, пока существует человечество.
У Егорычева было что возразить обоим джентльменам, но он решил промолчать.
— Давайте сюда бинокль! — все тем же жарким шепотом проговорил Фламмери, буквально вырывая его из рук Цератода. Он испытывал азарт и восторг, которые до того переживал только однажды, в Мексику, во время боя быков, наблюдая, тоже в безопасности, как отчаявшееся и полное предсмертной ярости животное подняло на рога незадачливого тореадора и тут же упало, насмерть пораженное подоспевшим пикадором. — Они уже приближаются!.. Сейчас начнется бой дикарей!.. О, киношники дали бы сто тысяч долларов за такие первоклассные кадры!
Но вопреки столь уверенным предсказаниям мистера Фламмери никакого боя не произошло. Вбежав в горящую деревню почти одновременно с северной и южной ее окраин, островитяне исчезли из поля наблюдения.
— Бой у горящих хижин! — с чувством произнес Фламмери. — Дикари, пронзенные копьями и разбивающие друг дружке черепа!.. Джентльмены, я отдал бы две недели своей жизни, чтобы полюбоваться таким аттракционом! А вы? — обратился он к Егорычеву, который за все время пожара не проронил ни слова. — Неужели вам не хотелось бы хоть на несколько минут очутиться в этой деревне?
— Очень! — сказал Егорычев. — Кстати, почему это вы уверены, что те, с топорами, побежали грабить горящую деревню, а не помогать тушить пожар?
— Вы не знаете дикарей, сэр, — осклабился мистер Фламмери.
— А мне кажется, что вы не знаете людей, — холодно возразил Егорычев.
Трудно было найти более подходящий момент для того, чтобы доказать островитянам свое доброе отношение, чем именно сейчас. Для этого нужно было бы только принять участие в тушении пожара. Но деликатное положение «мужик, волк, коза и капуста» все еще не было разрешено, и ни Егорычеву, ни Смиту ни в коем случае нельзя было еще отлучаться с площадки. Впрочем, через несколько минут Егорычев получил возможность убедиться, что он не успел бы добежать и до подножия перемычки, как пожар пошел на убыль. Сначала исчезли бледные языки пламени, потом взметнулось над пальмами несколько густых шапок дыма (это, очевидно, обрушились горевшие хижины), и, медленно растаяв на фоне белого, раскаленного полуденным солнцем неба, они превратились немного погодя в тоненькие струйки дыма. Минут через десять ничего, кроме обуглившихся крон нескольких пальм, не говорило о несчастье, поразившем деревню. А еще через четверть часа на южной ее окраине показались кучки усталых людей, медленно направлявшихся в сторону горной деревушки. Пройдя примерно полпути, они останавливались, делились на две группки, из которых одна, большая, продолжала свой путь в горы, а другая, состоявшая, очевидно, из провожающих, спешила обратно к пожарищу, где погорельцев ждали неотложные дела.
Егорычев насмешливо глянул на Фламмери и Цератода. Цератод хладнокровно протирал толстые стекла своих очков, предоставляя мистеру Фламмери исключительное право на предстоящий обмен мнениями.
— Итак, — не удержался Егорычев, — я не знаю дикарей?
— Мне остается только вознести славу всевышнему! — набожно ответил капитан санитарной службы и возвел к побелевшим небесам маленькие злые глазки цвета очень жидкого какао с молоком.
XI
Вот что произошло в деревне незадолго до того, как вышедшая из нее торжественная процессия повернула обратно при столь драматических обстоятельствах.
Старуха Китти убаюкивала в душном полумраке хижины раскапризничавшегося годовалого внучонка. Его разбудил грохот барабанов и звон деревянных колоколов. Однако по мере того, как праздничная процессия удалялась от деревни, мальчик постепенно успокаивался и вскоре бесспорно заснул бы крепким сном вполне здорового ребенка. Поэтому старуха в предвкушении близкого отдыха была настроена в высшей степени благодушно.
Она устало раскачивала тяжелую, украшенную замысловатой резьбой люльку, в которой проводило первый год своей жизни вот уже пятое поколение ее семейства. Люлька была подвешена к высокому коньку крыши. Старуха вполголоса напевала нежную, древнюю колыбельную песню, ровно ничем не отличаясь в этом отношении от всех матерей и бабок всех времен, всех стран и всех народов.
По мере того как мальчик засыпал, и песня становилась все медленней и тише. Наконец наступил долгожданный миг, когда даже самая ласковая и тихая песня могла только ненароком разбудить ребенка. Старуха перестала петь и удовлетворенно прислушалась к его ровному и мерному дыханию.
И вот как раз в это самое время ее острый слух человека, прожившего всю свою жизнь в тесном общении с природой, вдруг уловил слабый хруст чьих-то осторожных шагов. Сразу вслед за этим старуха, сторожко застывшая над люлькой, заключила по внезапно наступившей почти полной темноте, что кто-то, тихо сопя от напряжения, пробирается в хижину через высокий порог входного отверстия, служившего одновременно и дверью, и окном, а в холодные ночи и дымоходной трубой.
Китти правильно учла, что глазам неизвестного гостя потребуется еще некоторое время, чтобы после дневного света освоиться с темнотой, дарившей в хижине. Она осторожно повернулась лицом к вошедшему и убедилась в самых худших своих опасениях. От двери, балансируя обеими руками, чтобы не оступиться впотьмах, и высоко поднимая длинные ноги во франтовских сапогах, направлялся в глубину хижины тот самый злой и наглый белый, который уже не раз приходил сверху, из Священной пещеры, за провизией. В правой его руке старуха Браун различила автомат. Она знала, что это то же самое, что и легендарные мушкеты легендарного белого Джошуа, о которых самые удивительные истории передавались на острове из рода в род вот уже сотни лет, но что это еще страшнее, чем те мушкеты, ибо оно не только извергает огонь и смерть, но и делает это с гораздо большей быстротой и щедростью. Старуха собственными глазами видела, как на другой день после появления первых белых на острове (они вышли из чрева огромной черной рыбы, которая к вечеру ушла под воду и больше уже не появлялась) один белый, с красным лицом и белыми волосами, уложил из этого мушкета двух жителей деревни, которые не хотели нести наверх, к Священной пещере, продукты, обмененные у островитян. Старуха Браун вместе со всеми остальными обитателями деревни потом тщательно рассматривала убитых и не увидела на них никаких следов, хоть сколько-нибудь напоминавших обычную смертельную рану, нанесенную копьем или каменным топором. Только по нескольку маленьких дырочек в груди каждого из них. Это было удивительно и еще более страшно.
Теперь, когда ефрейтор Сморке осторожно продвигался внутрь хижины, старуха решила бороться за жизнь внучонка до последней капли крови.
Что касается ефрейтора Сморке, то очень может быть, что он сейчас и не собирался пускать в ход оружие. Неожиданное и необъяснимое появление на острове союзнических сил привело его в состояние полнейшего смятения. Как и все люди его морального и политического облика, он обмяк, лишь только потерял уверенность в полнейшей безнаказанности, и из всесильного эсэсовца превратился в преследуемого зайца. Он еще не имел времени продумать создавшееся положение до конца, но, будучи от природы человеком неглупым, понимал, что оно далеко от идеального и что единственное, что ему остается, — это стараться как можно меньше напоминать и там, наверху, и здесь, внизу, о своем существовании.
Поэтому, несмотря на аппетит, разыгравшийся у него (он наспех и кое-как позавтракал на заре, отправляясь в долину за провизией), ефрейтор Сморке был достаточно благоразумен, чтобы не переть на рожон, не появляться в деревне на людях, а постараться выждать более благоприятную обстановку. Судьба ему как будто решила благоприятствовать: по неизвестному ефрейтору Сморке поводу все население деревни — по крайней мере так ему показалось — неожиданно собралось за околицей и с духовными песнопениями и барабанным боем отправилось к северной окраине острова. У него хватило выдержки переждать в кустах, покуда последние ряды процессии оказались по меньшей мере в километре от деревни. Только тогда он решился осторожно высунуть из-за толстой, как рекламная тумба, пальмы свою подергивающуюся в нервном тике смуглую физиономию в модных золотых очках и с тоненькими, в ниточку, усиками над самой кромкой тонкой и синеватой верхней губы. Он тщательно вслушался в тишину и не услышал ничего, что нарушило бы его уверенность в том, что деревня совершенно пуста.
Несмотря на это, он все же принял все меры, чтобы его продвижение по пустынной, дремлющей в полуденном зное деревенской площади осталось по возможности бесшумным. Без труда нашел он интересовавшую его хижину. Он выбрал сейчас эту хижину потому, что утром, когда его глаза освоились с царившей в ней темнотой, он приметил полку с некоторыми запасами вяленого козьего мяса и несколькими кокосами, а на голой, сколоченной из бамбуковых палок высокой скамье смутно белели козьи шкуры, которые в зависимости от обстоятельств могли служить и плащами и одеялами. Надо помнить, что ефрейтору Сморке, человеку деликатного воспитания и нежного сложения, избалованному привольной жизнью в оккупированных странах, предстояло в дальнейшем ночевать в лесу, имея над собой вместо крыши темно-синее небо, очень красивое и поэтичное, но никак не защищавшее от ночных туманов.
Трудно сказать, почему он решил, что и бабка с грудным младенцем тоже ушла с процессией. Может быть, его обманула тишина в хижине, возможно, его ввело в заблуждение то, что среди ушедших он видел многих женщин с ребятами на руках. Наконец не исключено, что ефрейтор Сморке, как бывалый солдат гитлеровской гвардии, попросту привык не считаться в покоренных странах с такими мелкими деталями, как старухи и сосунки.
Как бы то ни было, но он решительно перешагнул через высокий порог входа, нырнул в черную глубину хижины и довольно решительно направился в тот ее угол, где ему запомнилась заветная полка и скамья с козьими шкурами.
Люлька с ребенком и старуха находились примерно на полпути от входа. Сморке, широко расставив руки, в одной из которых на светлом фоне двери ясно вырисовывался автомат, шел, таким образом, прямо на люльку.
То, что произошло дальше, потребовало не больше полутора-двух минут. Старуха молча бросилась на ефрейтора и вцепилась в руку, державшую автомат. Перепугавшийся Сморке резко метнулся в сторону, старуха выпустила его руку и, падая, ударилась о колыбельку. Мальчик проснулся и залился во всю мочь своих здоровых легких. Старуха легко вскочила на ноги и все так же молча снова кинулась на эсэсовца. Но тот уже успел привыкнуть к темноте. Он увидел, что имеет дело всего-навсего с дряхлой старухой. Чтобы отвязаться, он ударил ее прикладом по голове. Он не собирался убивать ее, но удар пришелся прямо по виску, чернокожая Китти Браун упала мертвой. Ребенок продолжал кричать. Это навело ефрейтора на мысль, что если в деревне оставался еще кто-нибудь, то детский плач может привлечь его внимание… Затем он без труда разыскал провизию, завернул ее в две козьи шкуры и направился к выходу. Он ожесточенно чертыхался. Он был страшно зол на себя. Уже спустя несколько секунд он понял, что не надо было ему в его нынешнем положении убивать этих двух чернокожих. У самого порога его осенила мысль, показавшаяся ему в тот момент спасительной. Он вернулся к убитым, положил их на бамбуковую скамью, прикрыл тростниковыми циновками, а на циновки вылил из своей вместительной зажигалки весь наличный запас бензина. Слабо блеснула искра, и хижина вспыхнула, точно она была сооружена из пороха.
Теперь Сморке несколько успокоился, полагая, что огонь скроет следы его преступления. Он выскочил из горящей хижины, помчался напрямик к лесу и так спешил, что позабыл об осторожности. Топот его обутых ног привлек внимание одного старика, который по болезни не смог принять участие в торжественной процессии и отлеживался дома на козьих шкурах. Старика заинтересовало непривычное звучание шагов. Он кое-как дополз до порога своего жилища и успел увидеть пробегавшего мимо белого, который спустя мгновение скрылся в лесу.
XII
В тот день, как и следовало ожидать, островитяне больше не появлялись у подножия перемычки. Подождав для предосторожности около часу и оставив мистера Фламмери на охране подступов к площадке, Егорычев с мистером Цератодом вернулся к пещере. Он разбудил Мообса, безропотно сменившего Смита, но Смита не отпустил, а вместе с ним, Цератодом и проявившим редкостное трудолюбие фельдфебелем Куртом Кумахером перетащил из заднего помещения пещеры в переднее, основное, все, кроме постельных принадлежностей на двоих, тщательно обыскал его и превратил в место временного заключения обоих эсэсовцев. Затем он запер их там на самодельный засов и предупредил, что при первой попытке к бегству они будут связаны по рукам и ногам, а при второй расстреляны.
Конечно, не совсем целесообразно было оставлять их наедине, не завершив предварительно их допроса, но еще менее целесообразно было бы тратить значительную часть сил на то, чтобы караулить пленных. Тем более, что Егорычев рассчитывал при обыске основного помещения пещеры обнаружить материалы, которые облегчат ему допрос.
Именно во время перебазирования склада продуктов Мообс, кося тревожно глазом и на Егорычева и на Фламмери, позволил себе перекинуться вполголоса несколькими знаменательными словами со Смитом.
— По секрету сказать, дружище Смит, лихо у вас с ним получилось, я имею в виду — сегодня утром у вас с Егорычевым…
— По секрету? — удивился кочегар.
— Вы справились с этими гуннами, как заправские парни. Вы мне оба здорово понравились.
— По секрету? — повторил кочегар.
— Ну да. Дело есть дело, ничего не поделаешь. — Тут Мообс спохватился: — Но, старина, я полагаюсь на вашу скромность… Если старикашка…
— Кто?
— Ну, мой мистер Фламмери. Так вот, если старикашка узнает, что я симпатизирую Егорычеву, мне крышка. Вся моя карьера побоку…
— Понятно, — простодушно согласился Смит. — Он вас может… Я так полагаю, ему ничего не стоит сделать вас каким-нибудь директором завода или даже капитаном порта…
— Писателем! — возбужденно поправил его репортер. — Ему ничего не стоило сделать меня писателем. Он мне велел записывать, все, что произойдет с нами здесь, на острове, а потом я накропаю книжечку и старикашка протолкнет ее большим тиражом. Вы понимаете, что это значит?.. Это громаднейшая куча долларов!
— Куча долларов — это совсем неплохо, — простодушно вздохнул кочегар.
— И вы могли бы, Сэм, получить от этой кучи свою маленькую кучку…
— Ну, какой из меня писатель!
— Писать буду я, — с жаром объяснил ему Мообс. — Ваше дело только помогать мне.
— Какой из кочегара помощник писателю! Как из пива шампанское.
— Вы будете только мне рассказывать, как он, — Мообс заговорщически приглушил голос, — вас агитирует.
— Кто меня агитирует? — не понял Смит.
— Ну, конечно, не ваш гусак Цератод.
— Слушайте, Мообс, — рассердился Смит, — насчет мистера Цератода я бы вам посоветовал полегче… Так это, значит, вы насчет Егорычева?
— Ну да, бестолковая вы голова! Как только он вас поагитирует…
— Не агитирует он меня, — сказал Смит.
— Словом, в случае чего, сразу ко мне.
— И совсем он, по-моему, не плохой парень, этот Егорычев, — сказал Смит.
— Поверьте, дружище, он и мне самому нравится… Но это надо в себе перебороть… Эти коммунисты, скажу я вам…
Они кряхтя подняли очень тяжелый ящик, кажется, со сгущенным молоком. Егорычев поспешил к ним на помощь, и разговор так и остался незавершенным.
Обследование основного помещения заняло около пяти часов, с коротким перерывом на обед. После обеда Смит прилег на часок-другой, но Егорычев не будил его до позднего вечера. Несколько позже Смита выбыл из строя Мообс. Он нашел в чемоданах Кумахера и Сморке уйму порнографических открыток и углубился в их восторженное созерцание со всей страстью молодого американского шалопая. Что же касается Цератода, то он сослался на свою близорукость и на покалывания в сердце, не позволявшие ему без риска для жизни нагибаться и перетаскивать даже малейшие тяжести. А так как Егорычев имел серьезные основания сомневаться, что оба они, и Цератод и Мообс, проявили бы при обследовании помещения и документов эсэсовцев должную старательность и бдительность, то он с легким сердцем согласился взять на себя весь этот немалый и кропотливый труд.
Тут время сказать хоть несколько слов о том, как выглядело помещение, которое ему предстояло обследовать.
Это была довольно высокая, в среднем в полтора человеческих роста, и почти квадратная пещера, площадью около семидесяти квадратных метров, с плотно укатанным земляным полом и довольно гладкими базальтовыми стенами, отполированными не столько человеческими руками, сколько временем. В ее задней стене, над столиком, на котором молчаливым укором безмятежно похрапывавшему Смиту стояла рация, темнела закопченная, неглубокая, узкая и высокая ниша, в которой раньше, очевидно, возжигались островитянами самодельные свечи во славу божию. Егорычев обшарил нишу в тайной надежде, что именно здесь он вдруг найдет самые важные и самые тайные документы, но ничего, кроме двух ящиков с сигарами, не нашел. Он даже выстучал стенки ниши сантиметр за сантиметром, но они всюду звучали совершенно одинаково. Тогда он приступил к выстукиванию стен всего помещения — и с теми же неутешительными результатами. Он тщательно обследовал столы, койки, постельные принадлежности, чемоданы, ящики, даже банки с сахаром и солью, провожаемый время от времени ироническими взглядами Цератода, который чувствовал себя так неважно, что вскоре прилег на кровать и теперь геройски боролся с приятной послеобеденной дремотой. ,
Вопреки ожиданиям Егорычева бумаг оказалось сравнительно немного и ни одна из них не представляла особого интереса, если не считать разве конверта с выписками из служебных аттестаций, в разное время выданных майору барону Фремденгуту его командованием. В этих документах удостоверялось, что майор барон фон Фремденгут во время ответственных операций во Франции, Норвегии, Польше и на юге Советского Союза показал себя безгранично преданным фюреру офицером СС, проявив примерную твердость, решительность и беспощадность как в борьбе против партизан, так и в «массовых очистительных акциях» в Варшаве, Керчи и в Бабьем Яру под Киевом.
Так как Егорычев и до обнаружения этих зловещих аттестаций не ошибался в майоре Фремденгуте, то он ограничился лишь тем, что спрятал их во внутреннем кармане своего кителя и продолжал поиски. К половине десятого он вынужден был признать себя побежденным: никаких намеков на истинную задачу, поставленную немецким командованием перед эсэсовской группой майора Фремденгута, ему нигде раскопать не удалось.
В последний час поисков он был в пещере единственным бодрствовавшим человеком. За стеной оба пленных давно уже перестали ворочаться и вполголоса переговариваться. Давно храпел Мообс. Не удержался и тихо засопел бравый майор Цератод. Время от времени он что-то сердито выкрикивал.
Цератоду как раз свилось предвыборное выступление и что все идет в высшей степени благополучно. И вдруг неведомо откуда появляется Фламмери и выступает против кандидатуры Цератода. Фламмери говорит, что лично ему и представляемому им американскому банкирскому дому «Джошуа Сквирс и сыновья» была бы более угодна другая кандидатура в английскую палату общин. Почему? Потому, что достопочтенный мистер/Цератод, видите ли, ярый социалист и возражал на острове Разочарования против того, чтобы пригласить к столу вполне достойного джентльмена — майора барона фон Фремденгута, с которым банкирский дом «Джошуа Сквирс и сыновья» связан давнишними и сердечными деловыми связями. Мистер Цератод во сне пытался спорить с мистером Фламмери, опровергнуть его необоснованные обвинения, доказать, что он никак не ярый социалист, пытался даже перейти от обороны в наступление. Но во сне ему изменили память и увертливость, обычно заменявшие ему наяву ум и убеждения. Это страшно злило мистера Цератода, он бормотал сквозь сон не очень членораздельные ругательства и сжимал в кулаки свои пухлые и гладкие руки.
А в это время мистер Фламмери, не подозревавший, что он в столь мрачном свете снится своему рассудительному коллеге по необыкновенным приключениям, мужественно бодрствовал на посту, охраняя подступы к площадке. Время от времени где-нибудь поблизости раздавался чуть слышный треск, легкое шуршание. Мягко шелестели над его головой невидимые кроны могучих деревьев. Неприкаянными душами грешников метались во мраке стремительные и бесшумные летучие мыши, — словом, будь мистер Фламмери трусом, ему было бы от чего испугаться. Но обычные ночные шорохи и шумы не лишали его спокойствия. Сейчас, когда его благополучие, а возможно и жизнь зависели исключительно от его собственного мужества, капитан санитарной службы Роберт Д. Фламмери был невозмутим и бесстрашен, как тигр. И уж, конечно, он ни за что не уснул бы на посту, даже если бы и не успел заблаговременно хорошенько выспаться.
До него долетало задумчивое посапывание тяжелых, но уже умиротворенных волн. Где-то за многие тысячи километров к северу, на далеком, одетом в железобетон и гранит берегу реки Делавар светился сейчас тысячами электрических огней город Филадельфия — столица династии Сквирсов. И Фламмери думал, что, конечно, совершенно зря он пошел в армию: не менее выгодно и несравнимо безопасней можно было бы делать большой бизнес, не влезая в военный мундир, а оставаясь в привычном своем филадельфийском кабинете.
И еще одна мысль нарушала душевный покой капитана Фламмери. Это никак не была мысль об опасностях, которым он еще может в дальнейшем подвергнуться на этом чертовом острове. Капитан Фламмери не сомневался, что какая бы судьба не постигла их группу, для него, Фламмери, все обойдется благополучно. Даже в самом худшем случае, — если, вопреки заверениям этого мальчишки Егорычева, Гитлеру заблагорассудится и удастся подбросить на остров более или менее значительные эсэсовские подкрепления, — Фремденгут никогда не решится упустить такой благоприятный случай упрочить без каких бы то ни было затрат дружеские связи его фирмы с могучим банкирским домом Сквирсов. В крайнем случае ему придется просидеть в комфортабельном плену до конца войны.
Фламмери не сомневался и в том, что, несмотря на некоторые попытки со стороны Цератода проводить самостоятельную линию, он все же в такой мере не имеет ничего общего с коммунизмом, что в конце концов у него с Фламмери (Мообс сам собою подразумевался) не могут не наладиться самые деловые, а следовательно, и единственно нормальные отношения.
Даже Егорычев не внушал капитану Фламмери никаких опасений. Зеленый юнец! Славянский дикарь из украинских степей! Он еще понятия не имеет, что значит железная логика и неукротимая воля прямого потомка двенадцати поколений американских банкиров!
Капитана Фламмери ни на минуту не посетила и мысль о том, что происходит на фронтах мировой войны. Она его в настоящий момент интересовала не больше, чем кочегар Смит. Его волновало другое: как скоро прибудет в Филадельфию официальное извещение о его мнимой гибели и как скоро после получения этого прискорбного извещения будут введены во владение его законные наследники.
Он знал, как нелегко будет даже ему потом, по возвращении на родину, восстановить свои права на средства и имущество, уже поделенные между наследниками. Во всяком случае, он прекрасно представлял себе, как сам поступил бы, окажись он на их месте, какими изощреннейшими юридическими крючьями он цеплялся бы за ускользавшие из его рук богатства. И это, конечно, не могло не терзать его исстрадавшуюся душу.
Томимый этими невеселыми размышлениями, он бросал рассеянные взгляды на черную котловину острова, отделенную от более светлого ночного неба высоко, на уровне пятисот — шестисот метров, зазубренной чертой лесистого горизонта.
Взошла луна и осветила мирную красоту бухты, и светлую полосу прибрежной гальки, и деревню, в которой произошел пожар, и ту, другую деревню, и окружавший их лес, в котором, словно медлительные светлячки, мелькало много факелов (Фламмери скуки ради стал их подсчитывать, насчитал восемьдесят семь, сбился и махнул рукой на это бесполезное и ненужное занятие). В движении этих огненных точек можно было усмотреть некоторую закономерность: они перемещались широким полукольцом с юга на северо-запад. Несколько раз кольцо смыкалось. Будь у мистера Фламмери более острый слух, он бы, пожалуй, мог в это время различить дробный и частый металлический треск, похожий на то, как если бы на железном противне подбрасывали горох. В таком случае ему стала бы понятна причина, по которой огненный полукруг, совсем было сомкнувшийся, каждый раз снова растягивался в полукольцо и продолжал свое движение на северо-запад. Но так как мистер Фламмери этого треска не расслышал, то и остался в полном убеждении, что стал случайным свидетелем ночной охоты дикарей на какое-то крупное лесное животное, очевидно что-то вроде кабана. Он даже подумал, что надо будет завтра постараться выменять у них хоть часть этого кабана на немецкие ленты, побрякушки и тому подобный мусор.
Потом факелы разделились на две неравные группы. Одна вернулась в ближнюю деревню, другая — в горную. (Как выяснилось впоследствии, первая деревня называлась Новым Вифлеемом, а вторая, горная — Доброй Надеждой.) Снова стало совсем тихо. Снова стало слышно мерное и могучее дыхание океана, словно где-то неподалеку расположилось на ночлег какое-то огромное сказочное животное.
Фламмери стал подумывать о том, что пора бы его, пожалуй, сменить.
И, словно услышав эти мысли, из теплого мрака возник Егорычев, еле волочивший ноги от усталости, и сладко позевывавший Цератод с автоматом на плече.
Егорычев нес в руках, словно горку посуды, три пехотные мины, под мышкой у него был зажат топор, который должен был заменить собой лопату.
— А может быть, и не стоит минировать тропинку? — подумал ой вслух.
— По-моему, не стоит, — сказал Цератод, продолжая потягиваться и немилосердно зевая. — Прибежит какая-нибудь шальная собачонка, подорвется, а осколки — в разные стороны. И надо экономить мины…
— Главное, — многозначительно подчеркнул Егорычев, — это держать под прицелом тропинку. Если внимательно следить за нею, тогда, пожалуй, можно было бы и не минировать…
Он боялся, что с раннего утра вдруг заберутся на площадку самые любопытные островитяне и подорвутся на минах раньше, чем их смогут остановить. И еще большой вопрос, захотят ли дозорные- следующим за Цератодом должен был стать на вахту Мообс — останавливать их. А вдруг они решат, что для острастки остальных невредно будет, если подорвутся несколько чернокожих? Нет, спокойнее все-таки будет не минировать.
— Я не меньше вашего, сэр, заинтересован в своей безопасности, — счел нужным обидеться Цератод. — И я был бы рад, если бы вы учли, что мне уже давно минуло десять лет.
— Ну, значит, не будем минировать, — сказал Егорычев, почувствовав облегчение при мысли, что ему не придется возиться с минированием. — Желаю вам, майор, спокойной вахты. В четыре часа вас сменит Мообс.
— Спокойной ночи! — отвечал Цератод.
— Спокойной ночи, Цератод! — сказал ему Фламмери. — Вы не заметите, как пролетит время. Ночь совершенно прелестна… Я хотел бы обратить ваше внимание на местные звезды. Они очень хороши… Вам, бесспорно, доставит удовольствие их рассматривать.
— Благодарю вас, сэр, — отвечал Цератод и пожал ему руку. — Спокойной ночи, сэр.
Затем оба они — Егорычев и Фламмери — исчезли во мраке, под черною сенью деревьев, как оперные духи. Впереди шел Егорычев с минами и топором, позади твердой поступью шагал капитан Фламмери с автоматом в руке.
— По-моему, — начал он, раздеваясь, — по-моему, негры сегодня вечером охотились на какого-то крупного зверя. Если это был кабан, то нам есть прямой расчет попробовать завтра.
Но Егорычев его уже не слушал. Он заснул, лишь только растянулся на койке.
Так закончился первый день пребывания на острове капитан-лейтенанта Константина Егорычева и его четырех спутников.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ I
Как всегда бывало с ним при ночевке на новом месте, Егорычев проснулся очень рано. Было еще совсем темно. Тихо, стараясь не разбудить Смита, Цератода и Фламмери, Егорычев приоткрыл наружную дверь пещеры, и на него пахнуло нежной и пряной свежестью предутреннего затишья. Черные громады деревьев не шелестели ни единым листиком. Был тот короткий рубеж тропической ночи, когда летучие мыши уже улеглись спать, а птицы еще не проснулись. Снизу, из густого мрака, доносилось ровное дыхание прибоя, сопровождавшееся через равные промежутки времени какими-то странными, не то бренчащими, не то дребезжащими, но бесспорно металлическими звуками.
Егорычев прислушался. Звуки эти прилетали из-под самого подножия скалы, примерно с того места пляжа, на которое прошлой ночью выбросило накатом их плот. Егорычев осторожно подошел к самому обрыву и снова прислушался: ну, конечно, это лениво бренчали выбрасываемые прибоем на гальку и обратно уносимые бочки от разбитого плота.
«Как это я упустил из виду бочки! — подумал Егорычев. — Их может унести в открытое море. Нужно будет сегодня же выловить их и спрятать в укромном месте. Кто знает, удастся ли выбраться отсюда без плота…»
Еще вчера, перед тем как ложиться спать, Егорычев поймал себя на том, что не сделал кое-что задуманное еще днем, но забытое за обилием навалившихся на него забот. Он разыскал среди бумаг Фремденгута отличную новую записную книжку в кожаном переплете и решил каждое утро заносить в нее план на день. Сейчас, собравшись записать насчет бочек, Егорычев обнаружил, что забыл Записную книжку под подушкой. Он не спеша пересек площадку, осторожно, на цыпочках, прошел пещеру, зажег добротный электрический фонарь в деревянном футляре, уселся на койке, сделал в записной книжке несколько заметок, в том числе и насчет бочек, прислушался, не слышно ли чего за перегородкой. За перегородкой ничего не было слышно: пленные еще не проснулись. Егорычев на цыпочках вышел из пещеры и направился к Мообсу, несшему вахту у спуска в долину.
Пока Егорычев провозился в пещере, на площадке наступил день. Запели самые жизнерадостные и не ленивые птицы. Первое дуновение ветерка шевельнуло сонную, сыроватую еще листву. Внизу, в долине, мрак быстро отступал, оставляя плацдарм густому и текучему, как сметана, туману. Потом, когда солнце перевалило наконец через высокие и лесистые восточные склоны острова, посветлела и вскоре стала совсем голубой зеркальная гладь бухты. А затем, от берега к вершинам склонов, стал быстро таять и туман, постепенно открывая солнцу черные лодки на оранжевом берегу, тоненькую сиреневую ниточку дорожки, ведшей от этих лодок к Новому Вифлеему, зарумянившиеся верхушки деревьев, кусочки серовато-желтых высоких крыш из пальмовых листьев в просветах между светло-зелеными пальмами, окружающими деревню. Наконец зыбким жемчужным столбиком возник первый дымок очага, и день наступил на всем острове.
Мообс встретил Егорычева позевывая, но вполне благожелательно.
— Хотите спать? — спросил Егорычев.
— Ни в коем случае! — весело отвечал репортер. Никто не мог бы поручиться, что он не вздремнул, оставшись один ночью на вахте. Но не пойман — не вор. Как бы то ни было, он был исключительно свеж, весел и полон сил. — Спать ни в коем случае, но умоюсь я с удовольствием. Вода в пещере?
— На камне, справа от входа, — рассеянно промолвил Егорычев, но тут же спохватился. — Только постарайтесь, дружище, поэкономней тратить ее. Покуда мы не обезвредим третьего эсэсовца, ходить вниз по воду будет небезопасно. Он может перестрелять нас из-за любого куста, как… — он хотел сказать «как куропаток», но забыл, как по-английски «куропатки», — как попугаев.
— Господи, когда же наконец кончатся эти постоянные ограничения! — капризно воскликнул репортер. Как избалованный ребенок, впервые к собственному удивлению честно приготовивший урок, он считал себя сейчас, после двукратного дежурства, вправе покапризничать.
Поймав недоуменный взгляд Егорычева, он благоразумно сменил тон.
— Как же вы думаете, Егорычев, выйти из этого положения? — озабоченно осведомился он, отдаваясь, как и Фламмери и Цератод, при малейшем затруднении на полное усмотрение Егорычева.
— А вы как думаете? — рассердился Егорычев. — Вы, кажется, всерьез все решили, что я к вам нанялся в няньки! Будьте любезны сами пошевелить мозгами! Мне интересно, что вы предложите.
— Что же я могу предложить? — сокрушенно вздохнул Мообс. — Я впервые в жизни в такой ситуации.
— А я что, каждый день попадаю на такие острова?! — взъелся было Егорычев, но не выдержал и фыркнул. Его рассмешило собственное восклицание. — Да ну, чего вы пригорюнились, Мообс? Ничего, что-нибудь придумаем, раз вы действительно впервые попадаете на такой остров. Знаете что, пойдите поспите, пока все встанут. Потом будем все умываться.
Мообс передал Егорычеву автомат, приветливо помахал ему рукой и, насвистывая, пошел вразвалочку, довольной и неторопливой походкой человека, честно и до конца выполнившего тяжелый и опасный долг.
Егорычев зевнул, присел под дерево на камешек, принесенный сюда привыкшим к комфорту мистером Фламмери, оперся о еще не согревшийся на утреннем солнце ствол и стал любоваться нарядной и удивительно мирной панорамой острова.
И вдруг вдали, внизу, в лесу, чуть поближе деревни, послышался сухой и частый треск, словно кто-то крутнул деревянную трещотку. Егорычев насторожился. Конечно, очень может быть, что у здешних жителей трещотка применяется в качестве оркестрового или сольного инструмента. Но нет, слишком много раз пришлось Егорычеву слышать такой треск за последние три года. Подозрительный звук снова повторился, и теперь Егорычев ясно определил, что это автоматная очередь. Кто-то выпускал из автомата то длинные, то короткие очереди. Только один человек там, внизу, имел автомат и умел им пользоваться — ефрейтор Сморке. Что он, нападал или отстреливался?
Егорычев прислушался. Выстрелы становились все громче и явственней: Сморке приближался к подножию перемычки. Очереди сменились одиночными выстрелами. Сморке, очевидно, экономил патроны.
Уже у самого подножия снова раздалась длинная очередь, и больше не стало слышно автомата. Зато вскоре стали слышны крики запыхавшихся людей. Они что-то кричали, но что именно, Егорычеву еще трудно было разобрать.
Прошло минут пять, и он услышал топот бегущих ног, потом из-за кустов, внизу, на поворотах тропинки, несколько раз мелькнуло искаженное страхом смуглое лицо с усиками ниточкой и в модных золотых очках. За ним, отстав шагов на двести, бежали, размахивая копьями и каменными топорами, человек десять негров. Вот из-за последнего поворота возник запыхавшийся ефрейтор Сморке, вспотевший, растрепанный, оборванный, босой, с автоматом в правой руке и скатанными козьими шкурками под мышкой левой. Был он в таком виде и страшен, и жалок, и смешон.
— Сдаюсь! Сдаюсь! Сдаюсь! — прохрипел он, судорожно переводя дыхание, бросил к ногам Егорычева автомат и шкуры и ринулся дальше, к пещере, прятаться от приближавшихся островитян.
— Хальт! — крикнул ему вслед Егорычев. — Назад! Цурюк! Их верде шиссен! — И он многозначительно щелкнул затвором автомата.
Именно этот сухой металлический звук, а не окрик Егорычева заставил Сморке остановиться. Но никакая сила, казалось, не смогла бы заставить его вернуться туда, где вот-вот должны были показаться его преследователи.
На шум из пещеры выскочили с автоматами в руках полуодетый Смит и Мообс, который только что, не раздеваясь, прилег отдохнуть.
— Покараульте его где-нибудь подальше от дорожки! — обратился Егорычев к Смиту. — А вы, Мообс, поскорее ко мне!
— Вот он! Вот он! — послышались возбужденные голоса, но выскочили на лужайку только известный уже нам Гамлет Браун и вместе с ним мальчик лет двенадцати, в воинственном азарте размахивавший не по росту большим копьем.
Вся одежда этого мальчика, если ее можно было назвать таким ответственным словом, состояла из очень экономной повязки на бедрах, браслета из травы, зеленевшего повыше правого локтя, и желтенького перышка, воткнутого в щегольски взбитую шевелюру. Но будь он даже одет в полную парадную форму Итонского колледжа (цилиндр, визитка, лакированные туфли), колледжа, где воспитывается цвет английской аристократии и где чувство самоуважения является чуть ли не главным предметом преподавания, он вряд ли мог бы вести себя при этом с большим достоинством.
Остальные преследователи Сморке не решились выбежать на лужайку. Они задержались за поворотом на тропинке. Их вспотевшие и возбужденные лица то возникали, то снова скрывались за кустами. Они с большой опаской поглядывали в сторону пещеры. У Гамлета и мальчика лица полны были отчаянной решимости. Видно, и им было несколько не по себе, но они крепились. Однако и они нет-нет да и бросали тревожный взгляд на захлопнутую дверь пещеры.
С тропинки из-за кустов послышался тревожный голос молодой женщины:
— Они тебя убьют, Гамлет, миленький мой!.. Эти чернокожие белые!.. Гамлет!..
Но Гамлет никак не откликнулся на эти слова. Он только досадливо от них отмахнулся, снова и снова окидывая лужайку настороженным взглядом. Затем его лицо понемногу расплылось в довольной улыбке. — Ага! — торжествующе воскликнул мальчик, заметив эту улыбку. — А что я тебе говорил?! Я тебе говорил, что они убили тех чернокожих белых!.. Ага!.. Я все видел еще утром, а ты мне не верил!.. Ага!..
Плача от страха за себя и мужа, молодая женщина отчаянным напряжением воли заставила себя показаться на лужайке. Она бросилась к Гамлету и попыталась заслонить его собой от опасности.
— Не убивайте его! Он такой добрый!..
А в это время мальчик, обращаясь к тем, кто еще скрывался за поворотом тропинки, кричал во всю силу своих молодых легких:
— Сюда!.. Все сюда!.. Не бойтесь!.. Я вам говорил, что эти новые белые поубивали тех чернокожих белых… Когда Боб Смит говорит, надо ему верить!..
— Успокойтесь, барышня, — сказал Егорычев молодой негритянке, — никто его не собирается убивать, вашего Гамлета.
На это Гамлет с большой, теплотой и нежностью ответил за нее:
— Это моя жена. Ее зовут Мэри. Это моя жена, сэр. Постепенно один за другим показались на лужайке и остальные преследователи. Их было человек шесть.
— Вот он! Вот он, убийца, поджигатель! — закричали островитяне, завидев Сморке.
Они хотели кинуться к нему, но Егорычев мигнул Мообсу, и они оба с автоматами в руках встали поперек дороги.
— Стойте, друзья! — сказал им Егорычев. — Прежде всего объясните, в чем дело. Что вы имеете против этого человека?
Увидев, что его преследователи задержаны Егорычевым и Мообсом, Сморке воспрянул духом, к нему сразу вернулись наглость и самодовольство. Бросая на негров уничтожающие взгляды, он занялся приведением в порядок своего истерзанного обмундирования. Ноги его были окровавлены. Сапоги свои он, надо полагать, в спешке забыл где-нибудь в лесу, когда внезапно обнаружил, что попал в облаву.
— О белый человек с рыжей бородой! — воскликнул один из негров, в котором Егорычев признал вчерашнего Гамлета.
Все они, словно по команде, запели, нестерпимо фальшивя, какое-то религиозное песнопение.
(Несколько позже, когда Егорычев поближе познакомился с островитянами, его поразило, что светские, бесспорно негритянские песни они поют на редкость чисто и музыкально, а фальшивят, и притом немилосердно, когда приступают к пению старинных религиозных гимнов и псалмов английского или американского происхождения. Потребовалась находка одного очень важного документа, о котором речь будет ниже, и дополнительные умозаключения, чтобы Егорычев смог наконец прийти к парадоксальному выводу, что именно благодаря своей превосходной музыкальности и очень тонкому слуху островитяне и могли петь, так возмутительно фальшивя. Но об этом позже.)
— Вы с ума сошли! — растерялся Егорычев, уловив в их обращении к нему неприкрытый религиозный восторг. — Немедленно прекратите петь и объясните, почему вы гонитесь за этим человеком.
Островитяне послушно замолчали.
— О белый юноша с желтой бородой! — воскликнул Гамлет. — Этот белый человек с круглыми глазами (подразумевались очки Сморке) вчера убил старую женщину и ее внука и сжег ее дом и еще три дома, а сегодня, когда мы его разыскивали в лесу, он убил Майкла Блэка и Сэма Черча. Мы пришли сюда, чтобы взять его и совершить правосудие.
— Гоните их в шею! — посоветовал Мообс Егорычеву. — Они себе слишком много позволяют, эти черномазые.
— Смит! — повысил голос Егорычев, подчеркнуто оставив без внимания слова репортера. — Смит, подведите-ка сюда, пожалуйста, этого молодчика!
Смиту далеко не сразу удалось побудить Сморке приблизиться к островитянам даже под прикрытием трех автоматов. Но ладонь кочегара была настолько внушительна и тяжела, что стоило ефрейтору почувствовать ее на своем плече, как он, понурив голову, подчинился. Теперь его отделял от преследователей только заслон из трех человек, — правда, вооруженных и белых. Последнему обстоятельству Сморке придавал решающее значение.
— Чего вы дрожите? — обратился к нему Егорычев по-немецки. — Если вы не чувствуете за собой вины, вам нечего бояться… Вы меня поняли? — переспросил он, не совсем уверенный в своем немецком произношении.
— Так точно! Понял, господин капитан-лейтенант! — ответил дребезжащим голосом ефрейтор Сморке, выпрямился в струнку, вытянул руки по швам и даже попытался стукнуть босыми пятками.
Все это в сочетании с подобострастной улыбочкой и трусливо бегающими глазками было настолько нелепо, противно и смешно, что Егорычев, несмотря на серьезность момента, не смог удержаться от брезгливой улыбки. Угодливая физиономия эсэсовца особенно проигрывала при сравнении с полными достоинства простодушными лицами негров, пришедших сюда за справедливостью.
Но ефрейтор Сморке, поймав взгляд Егорычева, скользнувший по их лицам, решил, что брезгливая улыбка господина капитан-лейтенанта относится не к нему, а к неграм. Он вдруг осклабился и понимающе подмигнул Егорычеву, как своему парню. В этом заблуждении его укрепляло и бесспорно презрительное отношение к островитянам со стороны Мообса.
Егорычев официальным тоном осведомился у Смита и Мообса, понимают ли они по-немецки. Получив утвердительный ответ, он обратился к Сморке:
— Правду ли говорит этот человек, что вы убили старуху, мальчика, сожгли несколько домов в их деревне, а сегодня успели убить еще двух местных жителей? — Они слишком много себе позволяют, эти черномазые, господин капитан-лейтенант, — доверительно ответил ефрейтор. — С вашего позволения, господин капитан-лейтенант, эта старуха на меня напала.
— Напала?! Где, в лесу, на улице?..
— Никак нет, господин капитан-лейтенант, она напала на меня в своей халупе. Стал бы я в противном случае марать о них руки! Я взял бы, что мне нужно, и мирно ушел бы, никого не тронув. Но она нахально напала на меня.
— А ребенок?
— Что ребенок? — с готовностью осведомился Сморке.
— Ребенок тоже на вас напал?
Сморке пытливо всмотрелся в холодное, но подергивающееся от негодования лицо Егорычева, решил, что господин капитан-лейтенант изволит шутить, и счел целесообразным хихикнуть.
— Он обладал слишком громким голосом, чтобы счастливо прожить на этом свете, господин капитан-лейтенант! И потом я опасался, что бабка будет без него скучать в аду…
Мообса вполне устроил этот юмор. Он ухмыльнулся, но поймал на себе удивленный взгляд Егорычева и поспешил придать своей физиономии самое сосредоточенное выражение.
Сморке заметил ухмылку на лице Мообса, совсем развеселился и решил удариться в теорию:
— Они осмелились гоняться за белыми, за представителем северной расы, и потеряли всего двух человек! По-моему, они должны быть счастливы, что так дешево отделались. Говорю вам, как ариец арийцу. Если позволить этим…
— Внимание! — перебил его Егорычев, снова переходя на английский язык и обращаясь к неграм, Смиту и Мообсу. — Как представитель союзного командования подвожу итоги судебному следствию. Установлено мною и подтверждено признаниями самого подсудимого, что им действительно совершены преступления, вменяемые ему в вину представителями потерпевшего населения. Ефрейтор Сморке, если оставить в стороне многочисленные преступления, совершенные им в качестве ефрейтора войск СС во время текущей войны на европейском театре военных действий, меньше чем за сутки убил четверых обитателей этого острова, в том числе старуху и ребенка, и сжег три дома в их деревне…
Он остановился, чтобы перевести дыхание. Он очень волновался. Сердце билось в груди быстро и четко, словно кто-то изнутри с силой выстукивал грудную клетку молоточком.
Сморке растерянно смотрел прямо в рот Егорычеву, ожидая, когда же господин капитан-лейтенант улыбнется, хлопнет его по плечу, скажет, что все это с его стороны веселая шутка, и прогонит этих зарвавшихся негров доброй автоматной очередью. Но мало-помалу мысль, что он сам себя потопил, что он совершил только что страшную и последнюю в его жизни глупость, стала с беспощадной уверенностью утверждаться в его сознании. И все же он продолжал стоять, вытянув руки по швам, стараясь убедить себя, что все кончится хорошо, что не может быть, чтобы все кончилось плохо, что если расово неполноценные начнут себе слишком многое позволять, то что же тогда будет с культурой и цивилизацией?
— Принимая во внимание, — продолжал Егорычев, овладев наконец своим дыханием, — что взаимоотношения между людьми, вне зависимости от их цвета кожи, должны основываться исключительно на полном взаимном уважении, и в первую очередь на полном уважении к жизни, достоинству и достоянию друг друга, я, как представитель союзного командования, передаю арестованного ефрейтора войск СС Альбериха Сморке («Ведь ваше имя действительно Альберих, я не ошибаюсь?» — «Так точно, господин капитан-лейтенант, Альберих!» — тупо ответствовал ефрейтор)… передаю арестованного Альбериха Сморке в руки представителей местного населения для принятия ими тех мер, которые они сочтут необходимым принять на основании местных законов и обычаев. Приговор окончательный и немедленно приводится в исполнение. Мистер Сэмюэль Смит, будьте любезны передать осужденного эсэсовского убийцу, грабителя и поджигателя Альбериха Сморке в руки представителей местного населения.
Негры выслушали приговор Сморке молча, одобрительно покачивая головой, причмокивая губами. Но они и не подумали благодарить Егорычева; Разве благодарят человека за то, что он не пошел против своей совести, что он поступил правильно?
Несколько мгновений после вынесения приговора Сморке простоял в состоянии полнейшего оцепенения. Сэмюэль Смит взял его легонько за плечо и подтолкнул навстречу островитянам.
— А а-а! — заверещал вдруг Сморке каким-то заячьим голосом. — А-а-а-а! Спасите!.. Я больше не буду… Спасите!
Он стал вырываться из рук Смита, и тому пришлось легонько, стукнуть его своим пудовым кулаком, чтобы восстановить дисциплину.
Тогда Сморке сразу обмяк и, не сопротивляясь, разрешил островитянам связать себя по рукам и ногам длинными сыромятными ремнями. Но когда его, уже связанного, взвалили к себе на спины двое дюжих негров, он снова стал кричать и извиваться и укусил одного из них в шею с такой силой, что негр застонал от боли, а челюсти ефрейтора Сморке, о которых мы уже имели случай сказать, что они были искусственного происхождения, треснули и переломились пополам, как бы подчеркивая этим обстоятельством, что больше ими их обладателю пользоваться уже не придется.
Негры понесли Сморке не к тропинке, ведущей в деревню, а к обрыву на противоположной стороне площадки. Потом, значительно позже, Егорычев узнал, что именно здесь, на северной обочине площадки, ровно в двухстах пятидесяти шагах от северо-западной оконечности пещеры, было постоянное, освященное трехсотлетним обычаем место казней на острове. Предания сохранили память о четырех казнях за эти три столетия. Казнь ефрейтора войск СС Альбериха Сморке должна была стать пятой по счету.
Пока Сморке, продолжавшего извиваться и кричать (он теперь кричал голосом сильным и зычным, словно выпь), держали в двух шагах от обрыва, Гамлет Браун, взволнованный и торжествующий, выкрикнул несколько фраз:
— Мы не звали тебя к себе, на остров Разочарования (так Егорычев и его спутники узнали наконец название острова, на котором они находились). Ты пришел незваный… Ты убил старую Китти и ее внука, и Майкла Блэка, и Сэма Черча, которые тебе не сделали ничего дурного. Ты сжег мой дом и еще два дома… Человечество не может тебе простить этого. Иди в море; из которого ты к нам прибыл!.. [Любопытно отметить, что, как и обитатели многих других более или менее изолированных островов — от самого глухого из архипелага Новой Гвинеи и до самого оживленного из Британских островов, население острова Разочарования было твердо убеждено, что именно оно и только оно представляет собою то, что можно было в этом мире назвать человечеством. Для жителей острова Разочарования может, правда, служить извиняющим обстоятельством, что, столетиями отрезанные от всего остального мира и ничего не знавшие о его существовании, кроме подернутых густой дымкой времени неясных легенд, они искренне считали свой остров единственной реальной населенной частью мира, а следовательно, и ее центром. (Л. Л.)]
— Аминь! — набожно заключили негры, истово раскачали онемевшего от ужаса убийцу и швырнули его с обрыва.
Таким необычным путем покончил свои счеты с жизнью ефрейтор Альберих Мариа Сморке, бывший кельнер в офицерском публичном доме при дивизии СС «Мертвая голова».
Все это, с момента появления Сморке на внутренней стороне площадки и до исчезновения его за обрывом на противоположной, внешней стороне, вряд ли заняло больше времени, чем нужно, чтобы прочесть описание этих событий. Поэтому Цератод и Фламмери, проснувшиеся при первых воплях Сморке и одевшиеся с наибольшей доступной им поспешностью, все же выскочили из пещеры лишь тогда, когда Сморке уже лежал на дне океана.
Фламмери, показавшийся раньше своего достойного коллеги, не произвел на негров особенного впечатления. Это был для них всего лишь один новый белый. Но Цератод чем-то поразил их воображение.
Они удалились в сторону и о чем-то оживленно зашептались. Минуты через три они вернулись, из их рядов выступил Гамлет Браун, видимо ходивший у них в вожаках, робко откашлялся и обратился сразу и к Егорычеву и к стоявшему рядом с ним Цератоду, обросшему густой и довольно длинной рыжей щетиной:
— О достойнейшие милорды с желтыми бородами! У нас возникло сомнение. Скажите нам, кто из вас двоих прибыл сюда с Луны?
— То есть как это с Луны? — растерялся Егорычев. И тут на Цератода напало вдохновение.
— Это я прибыл с Луны! — сказал он и скрестил руки на груди. Он скрестил руки не так, как это делал Наполеон Бонапарт, а так, как скрещивают руки на картинках в душеспасительных книгах древнехристианские святители.
Негры благоговейно упали на колени:
— Аллилуйя, аллилуйя, Христос вернулся на землю! Дождались-таки второго пришествия!.. Дождались!..
II
Как и накануне, когда они впервые увидели рыжеватую бородку Егорычева, негры тотчас же вскочили на ноги и, обмениваясь на ходу ликующими восклицаниями, стремглав бросились по тропинке вниз, в деревню.
Пока они добежали туда, пока они сообщили односельчанам о желтобородом человеке, о котором достоверно известно, что он спустился на остров Разочарования с Луны (он сам об этом сказал!), пока утихомирились и вошли в более или менее нормальное русло восторги островитян по этому поводу, пока неистовый рев труб и Звонкая трескотня барабанов собирали народ на новое торжественное шествие и пока эта процессия с барабанным боем дошла наконец до площадки перед пещерой, Егорычев в присутствии Смита и Мообса имел неприятный разговор с Фламмери и Цератодом.
Речь шла о казни ефрейтора Сморке.
Мистер Фламмери, получив краткую информацию о случившемся из уст Мообса, заявил в самой решительной форме протест.
— Я не могу себе точно представить, какое было бы мое мнение, — сказал он, опираясь на явное сочувствие Цератода, — но я вынужден самым резким образом протестовать против того, что вопрос о выдаче этого несчастного десятку озверелых дикарей был решен без тщательного, спокойного и всестороннего рассмотрения этого вопроса всеми нами коллегиально и на единственно возможных демократических основах.
Еще до того как капитан санитарной службы раскрыл рот, Егорычев знал, что тот скажет и что тот думает. Больше того, он знал, также, что если бы вопрос был поставлен на обсуждение, то даже в случае, если Смит встал бы на его сторону (а он мог и воздержаться), больше половины голосов (три из пяти) были бы против выдачи «белого» бандита. Именно поэтому Егорычев и не мешкал с передачей его в руки островитян. Но как он ни привык уже, казалось, к политической и нравственной физиономии своих товарищей по несчастью, его все же едва не вывел из себя неприкрытый смысл заявления Фламмери. Однако он сумел взять себя в руки и дал объяснения таким ровным и безмятежным голосом, словно всегда считал и Фламмери, и Цератода, и Мообса своими бесспорными и неизменными единомышленниками.
— Понимаете, надо было немедленно решать. У нас не оставалось времени на совещание.
— Я предлагал, прогнать этих черномазых ко всем чертям, мистер Фламмери, — пожаловался Мообс своему могущественному земляку, — а этого немца…
— Не немца, а эсэсовца. Это совсем не одно и то же, — поправил его Егорычев на редкость ровным голосом.
— Не вижу никакой разницы, но пускай будет по-вашему… а эсэсовца посадить в каталажку к его коллегам. Вот и Смит…
— Я ничего не говорил, мистер Мообс, — сухо заметил кочегар, — считайте, что из троих присутствовавших двое были за выдачу этого прохвоста.
— Ого, Смит, что-то вы чересчур безоговорочно стали принимать сторону мистера Егорычева! — промолвил с деланной улыбкой Цератод. — Вам не стоило бы так быстро забывать, что вы англичанин.
— По совести говоря, сэр, — кротко и как бы извиняясь отвечал кочегар, — по совести говоря, я не полагал, что, раз я англичанин, я обязан быть против мистера Егорычева даже тогда, когда наши мнения совпадают. Мне искренне жаль, если это дает вам основания усомниться в том, что я добрый англичанин. Право же, вы ошибаетесь, мистер Цератод.
Цератод молча пожал плечами.
— Не забывайте, что этот эсэсовец меньше чем за сутки убил четырех местных жителей, в том числе старуху и грудного ребенка, и был виновником того пожара, который мы с вами наблюдали отсюда, — сказал Егорычев.
— Ну, это еще нужно доказать! — раздраженно возразил Фламмери. — Мало ли что могут наболтать эти дикари на неугодного им белого!
— Он сам признался во всем.
— Сам признался?! — Фламмери несколько опешил, но тут же, не моргнув глазом, заявил: — Это еще тоже не доказательство.
— А что вы считаете доказательством?! — У Егорычева чуть язык не отнялся от неожиданности.
— Очень просто, — хладнокровно пояснил свою мысль американец, — мало ли что может наплести на себя человек, находясь в возбужденном состоянии. Вы не дали человеку собраться с мыслями. В спокойном состоянии он вряд ли признался бы… Если он, конечно, не был идиотом. Но я полагаю, что в войска СС Гитлер запретил принимать идиотов… Вы могли и должны были найти предлог, чтобы отвлечь от него хоть на время внимание ваших любимцев. За это время он пораскинул бы мозгами и понял, что ему нет никаких оснований сознаваться. А если бы он не признался, мы не имели бы никакого права ни как военные, ни как честные христиане выпускать его из наших рук. По-моему, ясно…
— Ему казалось, этому немцу, что мы его друзья, и он нам признался по-дружески, — вмешался Мообс. — Если бы Егорычев с самого начала дал ему понять, что относится к нему неприязненно, немец ни за что не признался бы… Мистер Егорычев сам не откажется подтвердить, что он сказал этому немцу: «Чего вы дрожите?
Если вы не чувствуете за собой вины, вам нечего бояться». Правильно я передаю ваши слова, мистер Егорычев? Егорычев утвердительно кивнул.
— Ну вот, — победоносно заключил Мообс. — А этот немец, понятно, не чувствовал за собой никакой вины, вот он и признался… Я бы тоже на его месте признался…
— Похоже, что вы вынудили его признания чисто провокационным путем, — укоризненно произнес Фламмери. — Я был бы рад, если бы вы поняли, что это в высшей степени недостойный путь, и я буду молить господа, чтобы он простил вас, мистер Егорычев.
— Вам не стоило бы затруднять его своими молитвами, — спокойно отвечал Егорычев (его спокойствие выводило из себя обоих его обвинителей). — Я действовал в духе решений Тегеранской конференции: военных преступников должны и будут судить народы, над которыми они творили свои черные дела.
— Демагогия! — фыркнул Цератод. — Обычная советская демагогия! Решения, касающиеся народов Европы и, ну, скажем, в самом крайнем случае, Азии, вы механически переносите на дикий народец, никому не известный и проживающий в неведомо какой части света!
— И потом, — продолжал Егорычев, пропуская мимо ушей эту человеколюбивую тираду, — помимо всего прочего, помимо всех общих политических и моральных соображений, неизвестно, сколько еще нам придется прожить на этом острове. Нужно быть безумцем, чтобы при таких обстоятельствах из-за бандита-эсэсовца портить отношения со всем местным населением.
— Мистеру Егорычеву, насколько я понимаю, угодно заигрывать с неграми, — сокрушенно заметил Цератод. — Как бы через денек-другой они не сели нам на голову.
Снова вмешался Мообс. Он высказал соображение, что вообще признать белого человека виновным перед черным не более осторожно, чем ежедневно после бритья совать голову в пасть тигру.
— Кстати о бритье, — провел Цератод ладонью по своей щетине. — Пожалуй, я еще успею побриться до того, как эти голые демонстранты доберутся до нашей площадки. Англичанин, даже если он прибыл с Луны, должен быть безукоризненно побрит.
И он величаво удалился, озабоченный не столько приведением в порядок своей физиономии, сколько прилично оправданным выходом из затянувшегося спора с Егорычевым. Переубедить, а тем более поставить на колени Егорычева не удалось. Разговор имел все данные разгореться в крупную ссору, а то и в открытый разрыв. Кто знает, как повернется дело в дальнейшем, но пока что разрыв с Егорычевым был бы неразумным и уж во всяком случае несвоевременным. К тому же — и это было не самым последним из побуждений, заставивших достойного Цератода подумать о бритье, — при этом чрезвычайно деликатном разговоре, присутствовал кочегар Смит. Смиту лучше не присутствовать при таком сравнительно откровенном обмене мнениями. Смит должен верить Цератоду во всем, во всех его помыслах и поступках. Уже кое-что упущено: этот болван все больше и больше подпадает под влияние большевика Егорычева. Нет, нужно впредь поступать и выражаться более осторожно. Если удастся удержать Смита при себе, Егорычев будет во сто раз менее опасен.
Спустя несколько минут к примерно такому же выводу пришел и Фламмери. Правда, за Мообса он был спокоен.
— Я полагаю, что в дальнейшем вы будете более осмотрительны и демократичны, — сказал он и ласково улыбнулся. — Будем надеяться, что на этот раз ваш промах не будет нам стоить очень дорого. Мы с вами люди высокой культуры, и мы не можем ни на минуту забывать, что несем перед господом и нашими правительствами моральную ответственность за жизнь и благополучие людей, которые имели несчастье попасть к нам в плен.
— Кстати о пленных, — сказал Егорычев, не выказывая ни малейших признаков благодарности за прощение, высказанное ему между строк мистером Фламмери. — По-моему, пора накормить их и вывести на прогулку. Как вы думаете, Мообс, насчет того, чтобы покараулить их, пока они будут насыщаться и пополнять свои запасы кислорода?
Мообс молча, одними глазами спросил разрешения капитана Фламмери. Фламмери разрешил, и Мообс нехотя направился в пещеру.
— Не забудьте держать автомат наготове! — крикнул ему вслед Егорычев. — Не особенно доверяйте их миролюбию и не вступайте с ними ни в какие собеседования! Одна неудачная фраза может создать нам уйму новых затруднений!
— Мне кажется, мистер Егорычев, вы избрали не совсем удачную форму обращения с Мообсом, — промолвил Фламмери с искусно разыгранной мягкой укоризной. — Иногда ваша просьба звучит, как приказание.
— Охрана военнопленных — дело военное, — сказал Егорычев.
— Ну да, конечно, — недовольно промычал Фламмери. — Но как вы, однако, любите играть в солдатики!
Егорычев промолчал.
Как раз в это время из пещеры, конвоируемые Мообсом, показались Фремденгут и Кумахер. Они щурились на ярком солнечном свете, потягивались, зевали. Фельдфебель, приседая на корточки и вытягиваясь, наспех проделал несколько гимнастических упражнений, к неудовольствию Фремденгута, который хотел использовать все прогулочное время на прогулку и попутную разведку обстановки.
Егорычев следил за ними издали. Пленные шагали гуськом, по-военному подтянутые, но не спеша, наслаждаясь свежестью и золотым покоем утра. Судя по тому, что они не обменивались между собою ни единым словом, они или уговорились об этом заранее, или досыта наговорились у себя в закутке.
У того места, где меньше часа тому назад островитяне вязали ремнями отчаянно сопротивлявшегося Сморке, Кумахер вдруг нагнулся и поднял что-то тонкое, легкое, сквозное, блеснувшее на солнце нежным золотистым блеском. Это были очки казненного ефрейтора. Кумахер поспешно сунул их в карман, опасаясь, как бы Мообс их не отнял. Но Мообсу очки были ни к чему, и он решил, оставить их пленным на память об их злополучном коллеге. Ему, конечно, и в голову не могло прийти, что они не слышали воплей Сморке, а между тем это было именно так. Не надо забывать, что, кроме густой стены деревьев и наружной двери пещеры, пленных отделяла от событий, происходящих за ее пределами, еще и внутренняя дверь, ведущая из основного помещения в место их заключения. Для того чтобы они не могли подслушивать, что происходит и о чем говорят в передней части пещеры, Егорычев еще накануне вечером прикрыл эту дверь двумя плотными шерстяными одеялами, а поверх одеял для верности повесил еще шинели обоих ефрейторов.
Как бы то ни было, но пленные и не подозревали о гибели Сморке. Наоборот, обнаружив на лужайке его очки, они вполголоса обменялись несколькими отрывистыми фразами, которые ничего не могли сказать человеку, не посвященному в их ночную беседу, но означали между тем, что, скорее всего, Сморке где-то совсем поблизости, что он в великой спешке как-то потерял очки (они знали, что в кармане он всегда носил с собою запасные, точно такие же золотые — возможно, что именно эти, из кармана, он и уронил), но что раз он на свободе, то есть еще надежда вырваться из этого позорного плена (подумать только: двое безоружных обезоружили и взяли в плен двух вооруженных до зубов эсэсовцев, а третьего убили!). Ефрейтор Сморке на редкость бойкий и распорядительный парень. Значит, есть основания надеяться, что он выручит их из заточения и восстановит поруганную эсэсовскую честь еще до конца недели. Было чрезвычайно важно, чтобы вся эта операция была закончена именно до конца недели.
Дело в том, что, по расчетам барона фон Фремденгута, подводная лодка с подкреплением людьми и некоторым дополнительным вооружением, оборудованием и материалами должна была всплыть на внутреннем рейде острова Разочарования не позже девятого — десятого июня. Пока Сморке на свободе, можно рассчитывать, что он сделает все от него зависящее, чтобы освободить своего майора и фельдфебеля из плена. Хотя, с другой стороны… Время от времени майору приходило в голову, что ефрейтор Сморке сможет сделать неплохую карьеру и на том, что он один из всего гарнизона избежал пленения и что ему, пожалуй, нет расчета рисковать шкурой ради того, чтобы спасти воинскую честь и карьеру обоих своих начальников. Больше того, в случае, если ему удастся выручить их из заточения, и эта его заслуга и та, что он один остался на свободе, должны быть преданы забвению ради доброго эсэсовского имени Фремденгута и Кумахера. Как бы Сморке не стал вместо этого спокойно дожидаться прибытия подкреплений. (Фремденгут поймал себя на мысли, что он лично поступил бы именно так. Но он тут же разъяснил самому себе, что, как майор войск СС и сын директора крупнейшей германской фирмы, он сможет принести больше пользы фюреру империи, не рискуя жизнью ради спасения двух нижних чинов.) Нужно будет, пожалуй, договориться с Кумахером, чтобы на тот крайний случай, если Сморке не поможет им, оклеветать его перед их будущими освободителями, сказать, что они попали в плен исключительно из-за трусости, даже лучше, прямому предательству Сморке… Но нет, Сморке не додумается до такой подлости, чтобы оставить боевых друзей в беде!.. Господи, к чему эти страхи! Ведь Сморке не знает, когда должна прибыть подлодка! Нет, он сделает все, чтобы выручить их до девятого июня. Страшно подумать, что будет, если их выпустят на волю люди из подкрепления: срам, военный суд, разжалование, личная немилость фюрера, лишение орденов, штрафной батальон, фронт! Советский фронт! Бр-р-р-р!..
В том, что подводный корабль прибудет и всплывет вовремя, майор фон Фремденгут ни на минуту не сомневался.
Словом, если бы капитан Фламмери, не говоря уже о Цератоде и Мообсе, мог проникнуть в мысли, владевшие обоими пленными в связи с обнаружением очков казненного ефрейтора, он согласился бы на любые меры в отношении его нареченных «заблудших братьев», ибо, что ни говори, а он очень ценил свою жизнь.
Но мистер Фламмери думал в это время о том, что ему было бы не в пример приятней видеть на положении арестанта этого «въедливого большевистского фанатика», нежели Фремденгута, вынужденного ко всему прочему делить заключение с каким-то вульгарным и плохо воспитанным фельдфебелем.
Погуляв с четверть часа, пленные без возражений согласились, вернуться в камеру: им нужно было наедине обсудить дальнейшую линию поведения.
Только они скрылись в темном провале входа в пещеру, как оттуда, блистая гладковыбритыми, чуть обвислыми щеками, выплыл торжественный и подтянутый Цератод. Лысину его до поры до времени защищал от солнечных лучей изготовленный по рецепту Егорычева носовой платок, завязанный по краям четырьмя узлами. Цератод протер другим носовым платком толстые линзы своих очков и стал всматриваться в процессию, которая уже прошла большую половину подъема.
— Насколько я понимаю, — процедил он сквозь зубы, — милые сердцу нашего дорогого Егорычева туземцы спешат к нам всей деревней. Они поют псалмы, но мы должны быть готовы к тому, что они могут найти привлекательным пошвырять, и нас всех в океан вслед за преступным, — Цератод иронически подчеркнул это слово, — Сморке. Лиха беда начало. А начало положено при любезном содействии нашего дорогого капитан-лейтенанта. Что ж, нам остается только, мистер Егорычев, просить вас не оставлять нас наедине с вашими дикарями. Ваш пудинг изрядно пригорел, и давайте совместно чистить сковородку.
— Вы напрасно беспокоитесь, — сказал Егорычев. — Судя по всему, вы себя обожествили в глазах этих простодушных малых, заявив, что вы прилетели сюда с Луны. Кстати, зачем вы им это сказали? Ведь помимо всего прочего ваш обман рано или поздно раскроется.
Он отлично понимал, что майор решил под шумок сыграть на суеверии островитян. Он задавал Цератоду вопрос лишь для того, чтобы стоявший рядом кочегар Смит мог из ответов своего велеречивого соотечественника сделать для себя соответствующие выводы.
— Ах, друг мой, — отвечал ему Цератод, исходя из тех же соображений, — вам никогда не приходило в голову, что эти чернокожие бедняги — наши младшие братья? А ведь это именно так. Для пользы младшего брата старший может, а зачастую даже обязан, сказать заведомую неправду. Разве вам, человеку, в правдивости которого я не имею ни малейшего основания сомневаться, не случалось пугать ребенка, что его заберет бука, дьявол, разбойник, людоед, ведьма, полицейский, если он, скажем, не съест своей порции каши или не даст себе вымыть голову? Согласитесь же, друг мой, что, кроме лжи греховной, есть еще и святая неправда любящего человека.
Так мистер Цератод официально объявил себя старшим и любящим братом местного населения.
Егорычев молча усмехнулся. Смит подумал, что все это чертовски забавно: мистер Цератод в качестве гостя с Луны, но что нужно на досуге разобраться в словах мистера Цератода. Ведь действительно бывает неправда любящего человека. К примеру, тебе грозит увольнение с парохода, безработица, а ты скрываешь это от жены и детей, чтобы раньше времени их не расстраивать, потому что и так жизнь у них далеко не конфетка…
— Значит, если я вас правильно понял, сэр, — ядовито осведомился Фламмери, — вы собираетесь поддерживать этих невежественных чернокожих в убеждении, будто вы не кто иной, как спаситель наш Иисус Христос?
— Кто-то из нас двоих — или я, или мистер Егорычев — обязан был признать себя Христом, — с наивозможнейшей кротостью пояснил Цератод. — Мистер Егорычев спасовал. Нельзя было терять такой превосходный случай наладить надлежащие отношения с местным населением.
— Уж не собираетесь ли вы, сэр, объявить менясвоим апостолом? — позволил себе наконец вспылить Фламмери. — Роберт Фламмери — апостол мистера Цератода!.. Клянусь, вы начинаете забываться! Вы позволяете себе забыть, с кем вы имеете дело!.. Как это вам нравится, Джонни? — обратился он за поддержкой к Мообсу. И Мообс с готовностью ответил:
— Сенсационное самозванство, сэр!..
Егорычев миролюбиво (никто не знает, какого труда это ему стоило) промолвил:
— Мистер Цератод, вы им скажете, что вы пошутили.
— Или мы это за вас сами скажем, — подхватил его слова Фламмери.
— Вот именно, сами скажем… Я. сам первый им это скажу, — присоединился к своему шефу Мообс.
— Нас будут носить на руках, — пытался им растолковать несколько приунывший Цератод. — Подумайте только, каждое наше пожелание и приказание будет выполняться немедленно и с благоговением.
— Кроме всего прочего, это чудовищное кощунство! — негодующе фыркнул Фламмери. — Спаситель Эрнест из дома Цератодова!.. И Роберт Фламмери — директор и член наблюдательных советов целой кучи корпораций, Роберт Фламмери из банкирского дома «Джошуа Сквирс и сыновья» — апостол мистера Цератода!.. Ха!..
Наступила короткая пауза. Теперь уже совсем близко видна была густая толпа островитян. Прерывистое пение трудно взбирающихся в гору людей, грохот барабанов, плач перепуганных младенцев сливались не столько в торжественную, сколько громкую какофонию.
III
И вот наконец толпа, задыхаясь и обливаясь потом, завершила подъем и стала быстро заполнять южную половину площадки. Старики, подростки, старухи, юноши, девушки, женщины с детьми, мужчины в расцвете сил топтались на месте с усталыми, но ликующими, потными лицами. Те, кто был в задних рядах, любопытно вытягивали шеи, все кого-то искали Глазами, обменивались недоуменными фразами и снова искали.
Так продолжалось с минуту. Перед островитянами в каких-нибудь десяти шагах стояли Егорычев, Цератод, Фламмери, Смит, Мообс, но взгляд островитян скользил мимо них по всей площадке, дольше всего останавливаясь у входа в пещеру.
Не обнаружив того, кого они искали, островитяне, как по команде, уселись на корточки, а небольшая группа мужчин, очевидно наиболее уважаемых, отошла в сторонку и там о чем-то зашепталась. Пошептавшись, они вернулись к остальным, знаком подняли их на ноги. Гамлет Браун, явно ходивший у них в вожаках, махнул правой ладонью, и все, нестерпимо фальшивя, запели, молитвенно сложив руки:
Явись нам, сын небесный…
Делая каждый раз небольшую паузу, во время которой все снова обшаривали глазами площадку, они повторили молитву подряд четыре раза. Отчаявшись в ее действенности, они сделали еще один перерыв. Несколько пожилых негров, возглавляемых вездесущим Гамлетом, хотя ему было лет тридцать восемь, не больше, вышли из толпы вперед. Из задних рядов им подали десятка полтора отборных кокосовых орехов, пять густых и тяжелых банановых гроздьев и несколько больших кусков темно-коричневого вяленого козьего мяса, аккуратно завернутых в широкие банановые листья. Эти дары были молча сложены в кучу перед выстроившимися в ряд и тоже молчавшими пятью спасшимися с «Айрон буля».
Затем негры во главе с Гамлетом благоговейно, но полные неподдельного достоинства свободных людей, попятились назад и растворились в толпе.
В пятый раз островитяне грянули: «Явись нам, сын небесный», и в пятый раз убедились в тщете своей молитвы. Тогда Гамлет Браун, как старый знакомый белых гостей, снова выступил из толпы, откашлялся и обратился к ним:
— Приветствую вас, достойные милорды, от своего имени и от лица всего человечества!
Он поклонился почтительно, радушно, но без тени подобострастия.
Затем он вторично откашлялся и продолжал:
— Человечество просит сообщить ему, где желтобородый, снизошедший на наш остров с Луны.
В рядах белых наступило краткое замешательство. Затем, поспешно сняв со своей лысины носовой платок с узелками по углам и запрятав его в карман, вперед вышел мистер Цератод, нервно обтянул на себе весь белый от морской соли форменный китель, тоже откашлялся и несколько нараспев, полагая, что именно такая манера наиболее соответствует его новому высокому положению, громко произнес:
— Это я, которого вы ищите!
Гамлет воспринял эти слова, как не очень удачную шутку, но вежливо улыбнулся:
— Я вам должен сказать, милорд, что мы, человечество, все люди острова Разочарования, очень рассчитываем на второе пришествие. Мы возлагаем на второе пришествие чрезвычайно серьезные надежды, сэр. Скажите, где человек, которого мы ищем?
— Да ведь это я и есть! — раздраженно ответил Цератод. — Неужели вы не узнаете человека, с которым расстались какой-нибудь час тому назад?..
— Джентльмен с Луны — с желтой бородой, — учтиво объяснил ему Гамлет его заблуждение.
— Я только что сбрил бороду, — сказал Цератод, начиная понимать, что он, вероятно, не должен был так торопиться с бритьем. — У меня только что была борода… Я ее сбрил…
Он заметил недоумевающие лица туземцев, подумал, что они не понимают значения глагола «брить», и пояснил:
— Я ее соскоблил, свою бороду, острым ножом, называемым «бритва».
— Мы, отцы наши, наши деды и деды наших дедов ждали с Луны желтобородого сына бога, человека с желтой бородой, — разочарованно, но твердо отвечал ему Гамлет Браун, и его односельчане печально закачали головами в знак согласия. — Борода — это не присохшая к ногам глина, которую можно отодрать и бросить на траву. Христианская вера учит нас, что придет с Луны на остров Разочарования добрый, милосердный и всемогущий человек с белой кожей и желтой бородой, и тогда наступит для человечества царство божие на земле. Но она не учит нас, что он бреет свою священную бороду…
— Язычество! Кощунство! — прошипел Фламмери на ухо Мообсу, как прохудившийся насос. — При чем здесь Луна? При чем здесь христианство?.. Спаситель спускается на какой-то идиотский островок?! Линчевать их мало!..
Он полагал, что если бы в самом деле вдруг оказалось, что существует на свете Иисус Христос и что будет когда-нибудь второе его пришествие на землю, то нет сомнения, что он выбрал бы для своего прибытия не затерянный в океанских просторах остров Разочарования, а Соединенные Штаты Америки, великий город Филадельфию, штат Пенсильвания, — столицу прославленного и могущественного банкирского дома «Джошуа Сквирс и сыновья».
— Уверяю вас, милейший мой друг, — продолжал между тем барахтаться Цератод, уже сознавая, что он бесповоротно проиграл, — не пройдет и недели, как у меня снова отрастет борода, большая и весьма желтая.
Егорычев, которого раньше волновала мысль, как не допустить продолжения надувательства, затеянного. Цератодом, теперь был спокоен и, внутренне улыбаясь, ожидал быстрого и бесславного конца Этой затеи.
Но мистер Фламмери, которого буквально распирало от злорадства, не смог удержаться.
— Негры! — крикнул он помрачневшим островитянам. — Мой друг, — он небрежно мотнул головой в сторону обескураженного и разозленного неудачей Цератода, — мой друг мистер Цератод попросту добродушно пошутил. Мы все пятеро только вчера прибыли сюда морем и никогда ни на Луне, ни на каком-либо другом небесном светиле не бывали! Ведь правда, вы пошутили, дорогой мистер Цератод?
— Конечно, мистер Фламмери. Само собой разумеется…. пошутил, — отвечал припертый к стенке незадачливый претендент в сыны божьи и настолько кисло при этом улыбнулся, что Егорычев, несмотря на героические усилия сохранить серьезное выражение лица, не выдержал и впервые со времени гибели «Айрон буля» совсем по-мальчишески прыснул. Вслед за ним рассмеялись и Сэмюэль Смит, смешно топорща свои густые черные усы, и Джон Бойнтон Мообс, открывший при этом два ряда великолепных зубов (ни дать ни взять — с рекламы зубной пасты), и Роберт Д. Фламмери, учтиво смеявшийся, прикрывая широкой пухлой ладонью широкий зубастый рот с тоненькими синими губами. И даже сам Цератод счел своевременным хихикнуть разок-другой сквозь тесно стиснутые желтые зубы, что подбавило веселья в первую очередь обоим американцам, от души наслаждавшимся его поражением.
Глядя на них, расхохотались и островитяне. Конечно, они и понятия не имели о том, что потешало этих пятерых белых. Но они были смешливы и восприимчивы, и им вполне хватало вида пятерых смеющихся людей, чтобы присоединиться к ним. Им уже и раньше было нелегко удержаться от смеха, слыша речь, столь странно похожую на ту, которой пользовались здесь, на острове, и в то же время многим так забавно от нее отличающуюся. Они обладали достаточным природным тактом, чтобы не показывать виду. Островитяне понимали, что за два дня пребывания на острове этих пятерых белых они вполне прилично для приезжих людей усвоили язык острова Разочарования куда лучше, чем те, в черных одеждах. Минут пять над лужайкой стоял веселый шум. Он окончательно разрядил дурное настроение, совсем было завладевшее островитянами. Теперь надо было поскорее закрепить их хорошее расположение духа.
Перекинувшись между собой несколькими словами, Егорычев со Смитом сбегали в пещеру и вернулись с кое-какой мелочью из той, которую привезли сюда эсэсовцы для меновой торговли.
Фламмери озабоченно заметил:
— По-моему, нам пока хватит вчерашних продуктов и тех, которые они нам сейчас принесли в подарок.
— И я так думаю, — согласился Егорычев.
— Тогда нам, пожалуй, не стоит сейчас наменивать еще продуктов. Лучше мы это сделаем через несколько дней и будем все время иметь свежие фрукты.
— И я так думаю, — согласился Егорычев.
— Так зачем же вы принесли сюда эту дрянь? — осведомился Цератод.
— Чтобы подарить, — сказал Егорычев.
— Вам не кажется, что это будет смахивать на разбазаривание наших запасов? — ядовито спросил Фламмери. — Ведь это та же самая валюта. И невосполнимая, к тому же.
— Нет, не кажется, — сказал Егорычев. — Это совсем не дорогая награда за симпатии и доверие здешних жителей.
— Я не собираюсь распространять среди этих дикарей дутые акции! — вспылил Фламмери, не терпевший, когда его намеки не принимались к немедленному исполнению. — Мне их симпатии и доверие нужны сейчас не больше, чем почтовые марки или автомобильный насос.
— Было бы все-таки неплохо, мистер Фламмери, если бы вы прежде всего помнили, что мы здесь не одни и что нам нужно жить с ними в дружбе хотя бы потому, что они хозяева острова и что мы у них гости, и гости непрошеные.
— Люди высшей, западной цивилизации всегда и всюду дома, — высокомерно возразил мистер Фламмери.
Егорычев молча пожал плечами.
— В конце концов кто вам, сэр, дал право так безапелляционно распоряжаться нашими общими трофеями? — взъелся Цератод, уже успевший, спасаясь от солнечных лучей, снова прикрыть голову носовым платком. При последних словах он, полный сознания собственного достоинства, гордо взметнул голову. Платок медленно сполз на правое ухо, и Цератод, прихватив его рукой, сердито водрузил на прежнее место.
— Простите, — холодно возразил ему Егорычев. — Я попросил бы напомнить мне сражение, в котором вы, мистер Цератод, захватили эти военные трофеи.
Казалось, что Цератод взорвется от злости. Но он взял себя в руки и принужденно засвистел «Типперрери».
Мообс, всегда радовавшийся любым поражениям Цератода, удовлетворенно осклабился. Смиту стало неприятно от бестактного поведения своего соотечественника и товарища по союзу, Фламмери сделал вид, будто он уже давно вышел из спора и теперь очарован действительно прелестной полуторагодовалой девчуркой. Увлеченная веселым гомоном, царившим на лужайке, она заливалась на руках у матери счастливым смехом и хлопала в ладоши, по-детски неуклюже взмахивая здоровыми, пухлыми ручонками.
— Приступим? — обратился Егорычев к Смиту.
— Приступим, — сказал кочегар, довольный, что пришла к концу Эта неприятная сцена. Он старательно избегал укоризненного взгляда Цератода.
Женщинам были розданы кусочки лент разных цветов. Каждой пришлось приблизительно по полметра. Мужчины получали гвозди или крючок для рыбной ловли. Радости островитян не было предела.
Исключение составляли четыре туземца. Одному из них было не больше двадцати трех лет, двоим уже давно перевалило за тридцать, а самому старшему — за пятьдесят. Хотя все четверо принимали участие в общем веселье, хотя они хохотали громче и, как бы это сказать, усерднее, что ли, остальных, но чувствовалось, что им не хватало как раз той искренности и нерушимого чувства собственного достоинства, которые сквозили в любом слове, жесте и поступке их односельчан. У них были пугливые и неуверенные повадки людей презираемых. Их сторонились, чуждались. Им крайне неохотно и немногословно отвечали. Словом, с ними обращались так, как они заслуживали. Быть может, даже несколько мягче, чем они заслуживали, ибо самый младший из них постыдно струсил в бою, самый старший прикидывался больным, лишь только надо было выходить на тяжелые работы, но зато был неутомим в распространении разных вздорных, но весьма обидных сплетен. Остальные двое были одновременно трусами, и лодырями, и сплетниками, и, вдобавок к тому, не без оснований заподозрены были в воровстве.
Мы еще будем, к сожалению, иметь случай в дальнейшем не раз вернуться к этой четверке.
Они подобострастно уступали дорогу односельчанам, даже самым юным.
Если бы не злобные искорки, время от времени проскакивавшие в угодливо прищуренных глазках четырех отщепенцев, трудно было бы найти людей, более смиренных и покорных.
Они униженно пропустили вперед односельчан, обступивших Егорычева и Смита в ожидании подарков. Когда все уже наслаждались новыми своими сокровищами, подошли за подарками и они и получили причитавшиеся им крючки. Они внушали и Егорычеву и Смиту непонятное отвращение, но не было оснований обходить их подарками.
— А ну, — мигнул Фламмери своему верному Мообсу, — узнайте-ка, что это там за чучела такие. И почему они ко всем подлизываются…
Мообс пошушукался с отщепенцами и вскоре вернулся с докладом.
— Насколько я понял, — прошептал он так, чтобы его слышал только его знаменитый соотечественник и уж в самом крайнем случае Цератод, — насколько я понял, они порядочные скоты. И им здесь несладко живется. Они всех боятся.
— И ненавидят? — с надеждой осведомился Фламмери.
— Еще как!
— Прекрасно! — сказал Фламмери.
Мообс посмотрел на него с удивлением, но Фламмери и не подумал растолковывать ему свои соображения.
— Имена?
— Какой-то сплошной Шекспир! — фыркнул Мообс. — Одного зовут Гильденстерн, другого — Розенкранц, третьего — Полоний, а четвертого, самого толстого и старого из них, — Яго Фрумэн.
— Странные имена! — заметил Фламмери, сохраняя каменное выражение лица.
— У них раньше были другие, обыкновенные. Они говорят, что им дали эти новые, когда они проштрафились, в наказание…
— Черт их знает, откуда в этих местах у дикарей и вдруг шекспировские имена… А ну-ка, кликните их сюда!
Пока Мообс, бесцеремонно расталкивая туземцев, бросился выполнять новое приказание своего благодетеля, Фламмери, тихо, так чтобы не услышал Егорычев, о чем-то беседовавший с обступившей его толпой весело галдевших негров, поведал Цератоду только что возникшую у него мысль:
— Или я ничего не понимаю в политике, или эта четверка станет здесь нашей опорой.
Цератод поморщился:
— Явные негодяи. А что, если опереться на здешних старейшин? Заинтересовать их в нашей дружбе — и дело в шляпе. История говорит, что…
Но Фламмери даже не дал ему досказать мысль до конца.
— Подкуп старейшин?! Старая английская романтика!.. Сложно, долго и без гарантии на успех. Чем делать старейшин негодяями, мы лучше сделаем негодяев старейшинами.
Цератод снова поморщился. И не то чтобы он был в конечном счете против предложения Фламмери, но зачем же излагать его так обнаженно и зачем называть такие грязные вещи их подлинными именами!..
Забывшись, он позволил себе даже повысить голос:
— И все-таки, если уж кого перетягивать на свою сторону, так…
— Тише! — замахал на него руками Фламмери. — Зачем звать о нашем замысле ему..
Цератод понял, о ком шла речь, и виновато замолк.
У Мообса оказался неплохой нюх. Он догадался, что лучше привести четверку отщепенцев так, чтобы особенно не привлекать внимание ни остальных островитян, ни увлеченных разговором с ними Егорычева и Смита.
— Сюда, господа прохвосты, сюда! — неожиданно сзади раздался его ликующий голос. — Не бойтесь!..
— Болван! — сказал ему Фламмери. — Будьте с этими джентльменами предельно почтительны.
— Покорнейше прошу вас, джентльмены! — немедленно переменил тон послушный репортер, подвел четверку к мистеру Фламмери, выслушал отданное ему на ухо новое приказание, сбегал в пещеру и вернулся, зажав в своей большой ладони четыре хромированные, восхитительно блестевшие английские булавки.
— Это вам от меня лично, — торжественно прошептал Фламмери и роздал каждому из них по булавке. — Приветствую вас от души. Помните, что я вам самый лучший друг и советник.
— И я тоже, — пробормотал Цератод после некоторого колебания. Он кинул осторожный взгляд на Егорычева и Смита и добавил: — Мы оба с мистером Фламмери — ваши лучшие друзья.
— И я, — сказал Мообс. — Вы мне здорово пришлись по душе. Все четверо. Клянусь честью!
Униженно кланяясь, отщепенцы затерялись в толпе.
Было приятно смотреть на живописные кучки туземцев, с азартом обсуждавших достоинства своих обновок. Как и большинство представителей негритянской расы, туземцы острова Разочарования были высоки ростом и отлично сложены. Цвет их кожи скорее приближался к коричневому, нежели к черному. Курчавые матово-черные волосы были по-праздничному украшены цветами. Мужчины были широки в плечах. Они легко и свободно шагали, красиво подняв головы. Женщины были грациозны и довольно миловидны. У людей пожилых и старых возраст сказывался не в ожирении и нехорошей дряблости, а главным образом в морщинах, бороздивших их открытые лица. Лысеющая голова мистера Цератода вызвала у туземцев почтительное удивление. Среди них не было лысых. Короткие трусики, которые сделали бы Фламмери и Цератода всеобщим посмешищем, составь они их единственную одежду, придавали статным туземцам вид заправских спортсменов.
Приближалось время обеда. Островитяне стали собираться домой. Пока Фламмери, Цератод, Мообс и Смит принимали от них изъявления симпатии и дружбы, Егорычев без труда сговорился с Гамлетом насчет железных бочек и получил заверения, что еще сегодня за ними придут на двух лодках, подберут доски от плота, если они еще сохранились, весла, ящики с продуктами, анкерок, отбуксируют бочки в бухту и будут держать все это добро в укромном местечке на берегу, в кустах, подальше от коварного наката. Таскать бочки наверх, на площадку, не имело никакого смысла.
Затем Гамлет и двое других особо доверенных лиц торжественно пригласили дорогих белых посетить их деревню и последними покинули площадку.
Уже спускаясь легким и упругим шагом вниз по тропинке, Гамлет Браун несколько раз оборачивал к стоявшим на самом краю площадки Егорычеву и Смиту свое умное и тонкое лицо с косым шрамом через левую щеку, улыбался им, как старый и добрый знакомый, и приветливо махал рукой, в которой был крепко зажат подарок белых — большой железный гвоздь, из которого он собирался соорудить себе отличный бурав.
Гамлета уже не было видно, когда Егорычеву внезапно пришла в голову какая-то, видимо очень важная, мысль. Он бросился вдогонку за островитянами.
— Не легко нам придется с этим молодым большевиком, — вздохнул Фламмери, адресуясь к Цератоду.
— Мда-а-а… И все-таки довольно противно иметь дело с этими четырьмя жуликами… Очень нечистоплотное занятие…
— Неужели у вас нет никакого дела? — прикрикнул Фламмери на прислушивавшегося к их разговору репортера. И когда тот покорно удалился, Фламмери ласково осведомился у Цератода: — А вы серьезно убеждены, сэр, что выдавать себя за господа нашего Иисуса Христа более чистоплотно?
Цератод молча проглотил пилюлю.
А тем временем Егорычев уже нагнал Гамлета и вел с ним, несколько отстав от его односельчан, строго секретный разговор.
— Значит, вы тогда видели, как эти люди в черных одеждах высаживались на остров?
— Мы спрятались за деревьями и видели. Они вылезли из брюха очень большой черной рыбы.
— Это не рыба, это корабль. Ну, такая большая лодка, которая приспособлена плавать под водой.
Гамлет посмотрел на Егорычева с вежливым недоверием.
— Они все сразу съехали на берег? — спросил Егорычев.
— Сначала только их главный начальник и с ним три человека. Они потом все вернулись обратно в рыбу, а потом уже высадились остальные чернокожие белые, которые потом остались, а рыба ушла под воду. С ними было много ящиков и много мушкетов.
— А когда их начальник в первый раз съезжал на берег, он вез с собою что-нибудь?
— Три ящика… и лопату.
— Ты не заметил, он их не уронил в воду? — спросил Егорычев, с трудом сохраняя на лице безразличное выражение.
— Они вынесли их на песок и остались сторожить, а начальник пошел налево и дошел почти до самого ущелья…
— Вспомни хорошенько, Гамлет, вспомни хорошенько, это очень важно! Он поднялся к Священной пещере? — Егорычев уже знал, что именно так называлась пещера, в которой он обосновался.
— Нет, туда он не поднимался. Мы даже подумали, будто он ходил искать, куда сложить эти ящики, пока на берег сойдут остальные. Потом он вернулся за ящиками, и они все пошли куда-то сюда, но только не на мыс, и провели там довольно много времени и вернулись на берег уже без ящиков и без лопаты. Но зато, когда они вторично прибыли из рыбы, они поднялись прямо на мыс, в Священную пещеру.
— Эх, вы, что бы вам проследить, куда начальник спрятал первые три ящика и лопату!
— Мы не могли. Они стали стрелять из своих мушкетов, когда понесли ящики, и мы убежали. Мы сразу догадались, что это как раз и есть те самые мушкеты, о которых нам рассказывали наши деды, а нашим дедам рассказывали их деды… Но только они их не понесли в Священную пещеру, потому что мы бы тогда снизу это увидели. Маленький Боб вам, может быть, расскажет побольше моего, потому что я не решился идти за ними следом, а он ходил. Он очень отчаянный парнишка, этот маленький Боб Смит.
Егорычев вспомнил мальчишку, который первый с Гамлетом выскочил на лужайку во время преследования Сморке, и невольно улыбнулся:
— Действительно, отчаянный паренек… Ты мне его покажешь, Гамлет? Я постараюсь прийти к вам в деревню, чтобы потолковать с ним.
— Я вам его обязательно покажу, сэр. Буду рад, если вы будете гостем Нового Вифлеема. Вы всем нам очень понравились.
— Только пока никому ни слова о нашем разговоре. До свидания, Гамлет!
— Хорошо, сэр. До свидания, сэр!..
Пока Егорычев разговаривал с Гамлетом, а потом возвращался наверх, на Северный мыс, на лужайке неподалеку от пещеры произошел разговор, о котором мы не можем не поставить в известность наших читателей.
Беседовали Фламмери и Цератод. Они совершали предписанную наукой прогулку перед ужином. Фламмери на ходу стругал себе хлыстик.
— Какой Фремденгут эсэсовец! Он делец, честнейшая фирма. Его слово вернее любого векселя, — сказал Фламмери, пряча ножик в карман.
На это Цератод брюзгливо ответил:
— Охотно верю. Но, по совести говоря, эта характеристика штаба войск СС…
— Копия характеристики. Вы же сами обратили внимание Егорычева на то, что это всего лишь копия!
— Это я сказал Егорычеву. Но меня самого это не очень утешает. Если говорить строго между нами, барон Фремденгут не кто иной, как самый обыкновенный эсэсовский палач… Да-да, палач, и, пожалуйста, не возражайте. Особо доверенное лицо рейхсфюрера СС, да еще при таком концентрационном лагере, как Майданек!..
— Мне припоминаются, дорогой мой Цератод, кой-какие войны. И кой-какие концентрационные лагери во время англо-бурской войны. Буры — старики, женщины, дети — за колючей проволокой, и их оптом расстреливают.
— Ну, это совсем другое дело, — высокомерно промолвил Цератод.
— Конечно, конечно, — согласился Фламмери с ехидной улыбочкой. — Понимаю… Так вот, если вам угодно знать мое мнение, Фремденгут попал сюда на остров скорее всего в порядке ссылки. Видимо, серьезно не поладил со своим начальством. Зачем ему ездить в такую дьявольскую даль, если на его заводах выполняются важнейшие…
Тут мистера Фламмери неожиданно поразила догадка. На его багровом лице отразилась сложнейшая игра чувств. Если то, что ему только что пришло в голову, на самом деле соответствует действительности, то это слишком серьезно, чтобы делиться с Цератодом. Поэтому он решил замять разговор.
— Смит, — крикнул он, — как дела с обедом?
Не трудно было догадаться, что Фламмери хочет увильнуть от дальнейшего разговора.
— Так над чем же работают сейчас на заводах Фремденгута? — спросил Цератод, чувствуя, что он очутился перед какой-то значительной тайной, но делая вид, будто вопрос этот его не очень интересует.
— А над чем, собственно, могут во время войны работать на заводах динамитного короля Третьей империи? Выполняют заказы военного ведомства.
— Мне показалось, что вам пришла в голову какая-то интересная догадка.
— Я догадался, что мне хочется обедать, — учтиво скривил свои тонкие, синие губы Фламмери, и Цератоду стало ясно, что правды ему от его собеседника не добиться.
— Отличная догадка, мистер Фламмери. Значит, обедать?
Но с обедом пришлось несколько повременить, он еще не был готов, и Егорычев, который уже успел вернуться на мыс, сейчас при закрытых дверях допрашивал в пещере Фремденгута.
Разговор шел о недостававших ящиках и лопате в чехле.
— Мало ли что может прийти в голову этим дикарям, — сказал Фремденгут, когда Егорычев сослался на свидетельство местных жителей.
— Не юлите, Фремденгут, все равно их разыщут.
— Все ящики здесь, в пещере.
— Подумайте еще. В ваших интересах сказать мне правду.
— Вы мне угрожаете?
— Меня очень интересует, куда вы девали три ящика и лопату в чехле. Островитяне утверждают, что вы их оставили где-то по ту сторону ущелья.
— Ну, согласитесь сами, какой мне смысл лгать по поводу каких-то ящиков с лентами и гвоздями?
— Ну вот, теперь хоть ясно, что в них было. Остается только вспомнить, куда вы их девали.
— Я же вам говорил, что я их никуда не девал.
— Насколько я понимаю, у вас были важные основания скрыть их местонахождение и содержимое даже от своих людей.
Фремденгут встрепенулся:
— Это вам сказал Кумахер?
— Мне это сказали островитяне. Они сказали, что три ящика и лопату в чехле вы выгрузили на берег еще до того, как ваши люди высадились на остров… А разве Кумахер может что-нибудь сказать по этому вопросу?
— Не больше меня.
— Это совсем не так мало.
Из-за двери раздался нетерпеливый голос Фламмери:
— Мистер Егорычев, пора обедать!
— Сейчас, — сказал Егорычев, — еще две минутки.
— Мы умираем с голоду, Егорычев! — крикнул из-за двери Мообс.
— Ну, так как же, Фремденгут? — спросил Егорычев.
— У меня очень болит голова.
— Хорошо, — сказал Егорычев, — отлежитесь. Пусть у вас пройдет голова. Это в ваших же интересах.
Он запер Фремденгута, вышел наружу, с наслаждением втянул в себя полную грудь свежего воздуха, пахнувшего цветами, морем, теплой, разомлевшей на солнце листвой, и сказал:
— Фу, устал, словно на мне воду возили!.. Всё! Милости прошу желающих в пещеру!
Они вошли без промедления, словно их в самом деле давно уже томила потребность уйти с лужайки в этот душный и жаркий полумрак, давая своими хмурыми лицами почувствовать Егорычеву, что они недовольны им и что (будьте уверены!) примут все меры, чтобы впредь его нелепые прихоти не мешали нормальной жизни остальных (законных, черт возьми!) обитателей пещеры.
Смит в этой игре не участвовал. Он старательно улыбался Егорычеву, но на душе у него было неуютно. Ядовитые словечки, которыми Цератод во время их вынужденного пребывания вне пещеры обменивался, возлежа на траве, с возмущенным Фламмери, оставили в сердце нашего кочегара какой-то неясный, но в высшей степени неприятный осадок.
Он запер Кумахера, помогавшего ему по поварской части, и все сели обедать. Кумахера Егорычев собирался допросить сразу после обеда.
Обедали молча, все по той или иной причине были недовольны, только Мообс пытался было развлечь компанию каким-то не очень свежим студенческим анекдотом, но понял тщету своих усилий и замолк. Если бы они только подозревали, о чем сейчас разговаривали, в темноте за дощатой дверью оба их пленных!
На подстилке, на земляном полу ворочался непривычный к столь жесткой постели майор Фремденгут. Тут же рядом, кряхтя и сопя, стаскивал с себя ботинки несколько притомившийся or стряпни и прочих хлопот фельдфебель Кумахер. Он уже успел доложить майору, что ничего особенного, достойного внимания за последний час на воле не произошло и что ефрейтор Сморке никаких признаков жизни не подает.
Потом наступило молчание, которое наконец прервал Фремденгут.
— Вообще, Кумахер, — сказал он, почесывая обросшую щетиной щеку, — вообще говоря, в интересах империи вас все-таки было бы правильней придушить.
— Помилуйте, господин майор! За что? — испугался фельдфебель.
— Боюсь, что для этого имеются достаточно серьезные основания.
— Никаких, господин майор! Уверяю вас, ровным счетом никаких!..
— Что вы там такое наболтали этому комиссару насчет первых трех ящиков?
— Я?! Комиссару?! Насчет ящиков?! Я ничего не говорил, господин майор… Я вообще отговариваюсь незнанием… Я же всего-навсего фельдфебель…
— Без истерики! Не орать! Нас могут услышать. И, к вашему сведению, господин Кумахер, фельдфебель войск СС — это не «всего-навсего», а очень много. Фюрер облек нас с вами особым доверием. В наших руках в некотором роде могущество и будущее империи…
— О, будущее империи?!
— Будущее и могущество… Нет, вы, кажется, все же слишком болтливы, чтобы оставлять вас в живых…
— Уверяю вас, клянусь, господин майор, я чист перед богом и фюрером!
— Это в ваших же интересах держать язык за зубами… Когда за нами придет судно…
— Оно обязательно придет, не правда ли, господин майор?
— Оно обязательно придет. Я понимаю, о чем вы думаете.
— Что вы, господин майор! Осмелюсь доложить, я ни о чем не думаю!
— Вы думаете, что дела империи плохи.
— Никак нет, господин майор. Я этого никак не думаю!..
— Ну и дурак. Дела империи действительно плохи. Но тем определенней за нами обязательно приедут… Вы знаете такую песенку «Ойра»?
И Фремденгут для наглядности запел, чуть слышно, почти шепотом:
Мы тан-цу-ем, ой-ра, ой-ра… Мы тан-цу-ем, ой-ра, ой-ра…
— Как же, как же! — растроганно отозвался Кумахер. — Дай бог памяти, тысяча девятьсот десятый — одиннадцатый год… Во всяком случае, до первой мировой войны… Можно сказать, песня моей юности.
— Она будет позывными этого судна, понятно? Ваша задача — любыми средствами починить рацию и во что бы то ни стало добиться, чтобы аккумуляторы были заряжены и чтобы приемник все время работал. Наврите, что это нужно для контроля после починки. Призовите на помощь всю свою нордическую хитрость. И постарайтесь представить дело так, будто вы починяете рацию вопреки моей воле и что вы рискуете жизнью…
— Слушаюсь, господин майор. Будет исполнено, господин майор…
— И вы сами понимаете, Кумахер, что если у меня создастся хоть малейшее подозрение, что вы распустили свой язык…
— Осмелюсь доложить, господин майор, вы меня незаслуженно обижаете. А скоро оно ожидается, это судно?
— По нечетным числам, с часу до половины второго дня. Появление на рейде через двадцать пять минут после последнего позывного сигнала. Кстати, насчет Сморке…
Но тут заскрипел засов, распахнулась дверь… Все, кроме Егорычева, удалились под сень дерев соснуть часок-другой, потому что ночью предстояли дежурства, а Егорычев приступил к допросу Кумахера.
На сей раз и Кумахер тоже отказался давать показания. Конечно, не в такой резкой и окончательной форме, как Фремденгут. Кумахер вилял, уклонялся от прямых ответов, ссылался на ухудшившуюся за последние двое суток память, объяснял очень подробно, что это, вероятней всего, у него от сильных душевных переживаний, ударялся в подробности, не имевшие никакого отношения к существу вопроса, но и от вчерашних своих показаний прямо отказываться не решался. Больше того, он довольно прозрачно дал понять, что почти уверен, что через два-три дня память его значительно восстановится и тогда он будет рад ответить господину капитан-лейтенанту на любые вопросы, на которые он в состоянии дать ответы.
Душа Курта Кумахера находилась в серьезном смятении: господин фельдфебель боялся просчитаться.
В самом деле, если через день-два прибудет подкрепление, то ему сравнительно легко удастся сломить сопротивление пятерых противников, из которых, судя по всему, по крайней мере трое, по-видимому, не особенно обстреляны. Но, во-первых, еще сомнительно, действительно ли придет подлодка с подкреплением. Очень может быть, что барон просто выдумал историю насчет подкрепления, чтобы обмануть человека, обремененного многочисленным любящим семейством. Разве исключено, что барон, который может отказываться от дачи показаний из каких-то совершенно иных соображений, решил любым подлым (фельдфебель Кумахер не мог найти другого определения), да, именно подлым, обманом заставить бедного Кумахера присоединиться к себе, хотя это и может грозить обоим самыми неприятными последствиями. Во-вторых, даже в случае, если подлодка с подкреплением и на самом деле придет, это еще никак не значит, что англо-американцы, а особенно этот большевик капитан-лейтенант, не прикончат обоих своих пленных, перед тем как самим погибнуть.
На ефрейтора Сморке Кумахер не рассчитывал. Этот будет отсиживаться где-нибудь в глухом лесу, покуда не придет подкрепление. Тогда он, конечно, разовьет бешеную деятельность и первым делом представит обоих своих начальников самыми худшими трусами, а то и предателями священного дела фюрера.
Исходя из вышеизложенных не столько благородных, сколько благоразумных оснований, фельдфебель Курт Кумахер не решался резко и окончательно отказываться от показаний. Он, пожалуй, даже рассказал бы этому настырному капитан-лейтенанту все, что ему прошлой ночью поведал барон, но опасался, как бы Егорычев, воодушевленный такими важными признаниями, не проговорился о них Фремденгуту, а тогда майор, конечно, немедленно, как они только остались бы наедине, обязательно прикончил бы его, Кумахера. А если бы сразу и не прикончил, то расстрелял бы его перед строем, лишь только подоспевшее подкрепление освободит их из плена.
— Через два-три дня, господин капитан-лейтенант, слово старого солдата, всего лишь два-три дня, и память моя снова придет в норму… Только, ради всего святого, ни слова об этом обещании моему майору!
Допрос затянулся. Уже давно и не раз заглядывали в приоткрытую дверь пещеры то Фламмери, сердитый, надменный, полный яду и презрения, то Цератод, то Мообс, удивлявшийся, как хватает у этого чудака Егорычева терпения допрашивать людей, которые твердо решили ничего не говорить. А между тем из-за этого заведомо бесплодного занятия (нравится этому большевику играть в следователи!) порядочные люди должны, видите ли, воздерживаться от того, чтобы заходить в собственную пещеру!
Единственное, в чем Егорычев окончательно убедился в результате допроса, было, что оба эсэсовца, правда с разной степенью убежденности, рассчитывают на какое-то событие, которое может коренным образом изменить обстановку на острове. Судя по трусливым намекам Кумахера, это событие ожидалось в течение ближайших двух-трех дней.
Что ж, и такие сведения не валяются на улице, особенно, если нет других, более значительных.
Только кончился допрос, как Фламмери, и Цератод, и Мообс, и Смит перебрались в пещеру. Менялась погода.
Над островом собирались тучи. С минуты на минуту мог начаться дождь.
Океан быстро потемнел. Почернел и небосвод, оставаясь, если хорошенько приглядеться, все же чуть светлее лениво шумевшей под ним бездны. Минут пять между ними сверкала яркая широкая разноцветная полоса вечерней зари, похожая на вытянутую в длину, вдоль линии горизонта, очень сочную и как бы весомую радугу. Эта полоса праздничного и печального света быстро таяла и сверху и с боков, становилась уже и тоньше, пока темнота неба не сомкнулась с чернотой океана. Душная и жаркая тьма воцарилась в природе. Но прошло еще добрых полчаса, прежде чем наконец грянул первый гром.
IV
8 июня тысяча 1944 года, в четыре часа ноль две минуты утра по гринвичскому времени, многие радиостанции Африки, Испании, Португалии, Южной Америки, южных районов США, Италии и некоторых арабских стран приняли загадочные радиосигналы. Были неизвестны их адресат и отправитель, язык, па котором излагались эти радиопослания, если был какой-нибудь смысл и языковая закономерность в этом непонятном чередовании точек и тире.
Перепробовали все известные военным разведкам коды на английском, немецкой, французском, итальянском, испанском, норвежском, португальском и арабском языках. Получалась непроходимая абракадабра.
Единственное, что удалось установить, и то только нескольким наиболее дотошным шифровальщикам: через определенный, довольно большой интервал повторялась одна и та же комбинация знаков азбуки Морзе, что давало основание предполагать, что радиосигнал состоял из одного, несколько раз повторяемого текста.
Назавтра, девятого июня, снова точно в четыре часа ноль две минуты утра по гринвичскому времени, повторилась та же история. Проверили записи, сличили со вчерашним и выяснили, что принята была радиограмма, совпадающая со вчерашней во всех подробностях. Не то двум, не то трем военным радиостанциям удалось запеленговать таинственную рацию. Результат не только не разъяснил, но, наоборот, еще больше затемнил положение. Обнаруженные координаты лежали в одной из пустыннейших частей южной Атлантики, на том секторе карты, который залит удручающе однообразной голубой краской, не оживленной ни единым, даже самым крошечным, силуэтиком суши и не испещренной ни одним пунктиром постоянных судоходных трасс.
На всякий случай исследовали списки военных кораблей и торговых судов, находившихся в пути в этих широтах. Ни у одного из них курс не пролегал через запеленгованную точку, ни одно из них не сбивалось в эти дни с курса и не терпело бедствия в этом районе.
Трое суток шифровальщики десятков военных раций перечисленных выше стран трудились над раскрытием сокровенного смысла таинственной радиограммы. Были перепробованы все, в том числе и самые засекреченные, коды, были придуманы, проверены и отвергнуты за несостоятельностью сотни самых остроумных и неожиданных решений. Результаты равнялись нулю.
Тогда решили подождать, что принесет эфир в четыре часа ноль две минуты утра десятого июня.
Но ни десятого, ни одиннадцатого, ни двенадцатого, ни в последовавшие за ними дни, недели и месяцы не было принято больше ни единого знака с неизвестного передатчика. Передатчик полностью прекратил работу.
Какая драма скрывалась за этим, некому и некогда было разгадывать. В Европе развертывались события первостепенной важности.
Было ясно, что Финляндия накануне выхода из войны.
Пятнадцатого июня из сообщения стамбульского корреспондента ТАСС стало известно, что член болгарского регентского совета Филов и новый премьер-министр Багряное четвертого июня посетили ставку Гитлера. Гитлер потребовал от них, чтобы они подавили партизанское движение в Болгарии и завершили военные приготовления для открытого вступления в войну против Объединенных Наций.
Шестнадцатого июня английский министр внутренних дел Моррисон официально объявил, что гитлеровцы начали применять против Англии управляемые по радио самолеты-снаряды.
И, наконец, второй фронт, открытый союзниками, был фактом, менявшим расстановку сил на театрах военных действий.
Еще усиленней стали работать пункты радиоперехвата! Эфир был насыщен зашифрованной перепиской, содержавшей ключи к истории последующих десятилетий, и, казалось, никому не было теперь дела до неизвестной рации, замолкшей после двух коротеньких передач. На самом деле положение обстояло не совсем так.
Еще девятого июня шифровальщик одного из крупных американских штабов, некто Джемс Поддл, значившийся в картотеках контрразведок ряда стран под фамилиями то Жоржа Дарю, то Олафа Педерсена, то У Пей-ляна, то под всеми этими фамилиями сразу и чудом избежавший петли совсем незадолго до войны, решил, отдежурив свою смену, поштудировать кое-что из предметов по специальности. У него была идеальная для человека, зарабатывавшего себе хлеб шпионажем, то есть на редкость невыразительная физиономия и такой же идеальный характер. Он был одинок, нелюдим, молчалив, недостаточно красив, чтобы бесплатно нравиться девушкам, и не настолько богат, чтобы иметь возможность покупать таких, какие ему нравились. Он был проштрафившийся кадровый шпион, и ему было неинтересно среди заурядных пресных шифровальщиков. Поэтому он обычно отдыхал вдвоем с бутылкой коньяка, если у него не было денег для того, чтобы провести вечер за покером. Но так как накануне он именно в покер проигрался вдребезги и остался в долгу по самые свои синеватые уши со свисавшими, как серьги, пухлыми мочками, то у него не оказалось денег на коньяк. Без бутылки или покера он не мыслил себе отдыха и потому решил заняться самообразованием.
Дело в том, что Джемс Поддл, он же Жорж Дарю и прочая и прочая, не собирался долго задерживаться в шифровальщиках. Он понимал, что скоро, еще до конца войны, американская разведка будет усиленно разворачивать новую, дополнительную шпионскую сеть мирного времени, и он с упорством и тщательностью человека, жизнь которого в самом прямом и беспощадном смысле этого слова зависит от его профессионального умения (не в меньшей, а в значительно большей мере чем даже у воздушного акробата), каждый день тренировался во всех деталях своего опасного, но прибыльного ремесла.
На этот раз он собрался попрактиковаться в азбуке Морзе на разных языках. В его записной книжке они были выписаны с четкостью чертежного пунктира, хотя основные западноевропейские — он «работал» до войны в Западной Европе — Джемс Поддл знал наизусть. В этом не было, впрочем, ничего удивительного, — это был его хлеб.
Три раза в неделю он посещал курсы русского языка при местном отделении Си-Ай-Си. Он уж бывал в России в качестве скромного секретаря одной технической консультации еще во времена первой пятилетки. Теперь он усиленно совершенствовался в русском языке, чтобы поехать туда во всеоружии, когда Федеральному бюро потребуются его квалифицированные услуги.
Стоит ли упрекать этого малопочтенного джентльмена за то, что он раньше не подумал о русской азбуке Морзе? Скорее всего, нет. Нужно вспомнить координаты таинственной рации, чтобы понять, что сама мысль о русской рации в этих местах была бы не более закономерна, чем планирование охоты на страусов в Северной Норвегии. И если он все же вдруг решил проверить, не подходит ли нерасшифрованное радиопослание с замолкшей рации под русскую азбуку Морзе, то вовсе не потому, что на мистера Джемса Поддла и т. д. и т. п. напало вдохновение. Просто мистеру Джемсу Поддлу было скучно, хотелось отдохнуть, и ему было решительно все равно, на чем практиковаться.
Можно себе поэтому вполне представить его удивление, когда уже по прошествии каких-нибудь двадцати минут перед ним лежала расшифрованная радиограмма. В ней трижды повторялось четверостишие, судя по всему, военного происхождения:
Мы давали жизни гадам, Бить фашистов — наш закон. Долго будет сниться гадам Наш матросский батальон.Капитан-лейтенант Константин Егорычев.
Было не совсем понятно, что понималось под фразой: «Мы давали жизни гадам». «Гадами» советские люди называют фашистов, фашистские вооруженные силы. Но что значит «давать жизни»? Приводить в сознание? Лечить раненых? Щадить жизни пленных гадов? Подымать их силы усиленным питанием? Но тогда первая строчка находится в некотором противоречии с остальными. Словом, мистер Поддл должен был с горечью признать, что он еще далеко не тверд в знании русского языка.
Но и в том, что двое суток по три раза и в один и тот же час в эфир передавалось одно и то же внешне совершенно невинное четверостишие, подписанное только именем и отчеством (Поддл принял фамилию капитан-лейтенанта за его отчество), также была своя тайна. Только сейчас по-настоящему вставала задача подыскать ключ для расшифровки этих четырех строк, слишком ясных, чтобы за ними не скрывалась какая-то тайна.
И прежде всего, конечно, надо было отвергнуть предположение, что эту более чем скромную жемчужину русской поэзии передал в эфир советский, да еще, тем более, военный человек. Тот бы из чувства простейшей предосторожности воспользовался не русским языком, а каким-нибудь более в тех широтах распространенным: английским или испанским, что ли. Да и вообще, что делать в тех далеких широтах русскому человеку?
Конечно, в агитационных целях бывает иногда выгодно пускать в ход версии о зловредных советских интригах в каких-нибудь экзотических далеких странах, но для служебного употребления внутри аппарата контрразведки такого рода жупелы были совершенно ни к чему и никак поэтому не приветствовались. Значит, где-то у черта на куличках, чуть ли не на краю света, кто-то, секретности ради, пользуется русским языком для того, чтобы зашифровать какое-то важное сообщение, или приказание, или что-нибудь другое, не менее значительное.
Джемс Поддл бился над расшифровкой четверостишья с одиннадцати часов вечера до трех часов дня и ничего не добился. Понимая, что тайна, кроющаяся здесь, может требовать самого срочного принятия мер и что, в случае, если она раскроется вовремя, ему простятся прежние грешки и его снова выпустят из пыльных недр шифровального отделения на вольный воздух оперативных просторов, Поддл решил доложить о сделанном открытии, вернее — полу-открытии, своему непосредственному начальству.
Командование заинтересовалось соображениями такого бывалого сотрудника и с нарочным переправило докладную записку Поддла с собственными пояснениями и соображениями в главный центр стратегической разведки. Там сразу оценили серьезность поднятого вопроса и поручили его дальнейшую разработку двум опытнейшим сотрудникам — специалистам по русским кодам.
Одновременно было дано задание попытаться разузнать в Москве, числится ли в кадрах советского Военно-Морского Флота некто капитан-лейтенант Константин Егорычев (здесь сидели работники, понимавшие, что Егорычев — это не отчество, а фамилия), где он сейчас находится и что делает. В той же директиве был приведен полный текст известного уже нам четверостишья. Следовало выяснить характер и происхождение этих четырех строк, и если они напечатаны, то где именно.
Примерно в тот же поздний вечерний час одиннадцатого июня, когда этот шифрованный радиоприказ в виде обычного делового задания редакции видной нью-йоркской газеты был вручен ее московскому корреспонденту, чуть ли не в десятке тысяч километров от Москвы, в один из полу-курортных портовых городов Бразилии пришла из Нью-Йорка и из той же «редакции» другая радиограмма. Ее минут через двадцать вручили благодушному пожилому негоцианту, уже лет за десять до того свернувшему свою деловую деятельность и ведшему беспечную жизнь жуира и завзятого яхтсмена.
Попросив извинения у своих гостей, дон Ларго Приетто, ибо именно таково было его имя, на некоторое время заперся в кабинете. Потом он вернулся к гостям. Пальцы у него были в чернилах. Он снова попросил извинения и сказал, что его лучший друг заболел в Буэнос-Айресе, скорее всего смертельно, и что его вызывают проститься с умирающим другом.
Спустя два часа дон Ларго Приетто вышел в океан на борту своей яхты, носившей оперное название — «Карменсита». Несмотря на не лишенное легкомыслия название, это было на редкость солидное, прочное, быстроходное и остойчивое судно, с честью выдержавшее самые серьезные штормы в Атлантическом, Индийском и Тихом океанах. Американская разведка имела все основания гордиться этой яхтой.
Если бы на борту «Карменситы» случайно оказался кто-нибудь из синьоров, бывших за несколько часов до этого в гостях у дона Приетто, его безусловно удивило бы, что курс, которым шла яхта, лежал далеко к востоку от морского пути на Буэнос-Айрес.
Оставим на время «Карменситу» и ее безутешного хозяина, бороздящих ярко-синие волны Атлантики и с каждой минутой все более удаляющихся от лучшего друга, умирающего в Буэнос-Айресе. Узнаем, что получила в ответ от своего московского «корреспондента» нью-йоркская «редакция». Ответ от него пришел меньше чем через сутки. По справкам, наведенным этим расторопным джентльменом, оказалось, что некий советский морской офицер капитан-лейтенант Константин Егорычев выехал в конце мая в Соединенные Штаты. Цель поездки — командировка по делам военно-морского ведомства.
В тот же день морской штаб США получил по радио официальную просьбу Главного штаба Военно-Морских Сил Советского Союза принять меры к разысканию и спасению терпящего бедствие в водах Атлантики капитан-лейтенанта Константина Егорычева, от которого накануне и третьего дня были несколькими советскими рациями приняты сигналы. Указывались запеленгованные координаты, совпадавшие с теми, на которые устремила свой путь «Карменсита».
В связи с советским запросом были соответственно уточнены и задания дону Ларго Приетто. Раньше ему предстояло выяснить, что кроется за таинственной русской радиограммой, и, сообразуясь с обстоятельствами, на месте принять необходимые меры. Теперь почтенный негоциант получил вдогонку приказание разыскать советского морского офицера Егорычева, взять его на борт «Карменситы», доставить в известный ему аргентинский порт и ждать дальнейших приказаний.
По причинам, которые станут ясны читателям в дальнейшем, задание это выполнить не удалось.
Что же касается Джемса Поддла, он же Жорж Дарю и т. д. и т. п., то его полу-открытие, как не давшее деловых результатов, не было ему зачтено. Ему пришлось еще протомиться около полутора лет, пока Си-Ай-Си выпустило его на широкие просторы шпионской деятельности в качестве помощника пресс-атташе американской дипломатической миссии в одной из стран народной демократии. Больше года околачивался он потом в качестве уполномоченного Библейского общества в столице другой страны народной демократии. Неизвестно, сколько экземпляров Ветхого и Нового завета он распространил за этот срок. Зато с течением времени стало доподлинно известно, сколько долларов он распространил, вербуя в этой стране агентуру для Си-Ай-Си. Изгнанный в результате крупного дипломатического скандала, он временно канул в неизвестность.
На этом мы позволим себе вернуться к событиям, разворачивавшимся на острове Разочарования в ночь на восьмое июня тысяча девятьсот сорок четвертого года.
V
В пещере было душно и жарко. Висевшая под скалистым неровным потолком лампа «летучая мышь» с самодельным абажуром из мягкой жести отравляла воздух керосиновым чадом.
Приоткрыли дверь. В пещеру с шипением и шелестом ворвалась свежесть ночного дождя. Гроза была далеко. У невидимого горизонта часто вспыхивали голубовато-белые молнии. На ничтожную долю секунды они выхватывали из непроглядного мрака застывшие на взлете массивные волны с ослепительно белыми гребнями и очень черными, словно густо залитыми тушью, теневыми отрогами, стеклянно блестевшие деревца и кусты, от которых убегали по серебристым наклоненным высоким травам тени, длинные и жирные, как трещины в земле, толстый пунктир дождевых струй, четкие силуэты листьев, косо свисавших с черных ветвей над самым входом в пещеру.
Когда молния вспыхивала особенно ярко, свет «летучей мыши» бессильно меркнул и силуэты листьев на миг отпечатывались на посветлевшем каменном полу пещеры, поближе к входу. Потом за дверью становилось совсем темно. Но не успевали еще глаза снова как следует привыкнуть к желтому свету лампы, как бесшумно возникала новая молния и все повторялось сначала. Гром доносился намного позже, иногда лишь на доли секунды упреждая следующую вспышку. Он был чуть слышный и совсем не грозный. Будто где-то далеко-далеко тарахтела по булыжнику большая телега.
А дождь лил и лил, навевая самые мирные и домашние мысли, и казалось, что не будет конца его тропической щедрости и неутомимости.
Некоторое время все пятеро сидели молча на своих койках, вслушиваясь в журчащую музыку ливня.
Молчание нарушил Роберт Фламмери. Он промолвил со вздохом:
— Одному богу известно, как я мечтаю поскорее вернуться в город моих отцов и прижать к любящему сердцу моих наследников, — он быстро поправился, — то есть я хотел сказать — моих близких.
Никто ему не ответил. Каждый думал о своем.
— Небу угодно было отнять у меня блаженство встречи с семьей, — раздраженно продолжал Фламмери. Он все еще не мог привыкнуть к тому, что можно так безразлично относиться к его словам. — Я бы никак не сказал, что мое сердце ожесточилось от этого удара. Для этого я слишком уверен в промысле божьем… — При этих словах он набожно поднял глаза к «летучей мыши». — Но мысль о мучениях, которые они испытывают, получив сообщение о моей мнимой гибели, не скрою, приводит меня в отчаяние.
— Конечно, — рассеянно поддакнул Егорычев, понимая, что дальнейшее молчание было бы попросту невежливым, — ваши переживания вполне понятны…
— И мне тоже, — поспешно промолвил Moo6c. — Душевно скорблю с вами, мистер Фламмери.
Цератод и Смит опять промолчали.
— Так почему же нам не связаться поскорее с Филадельфией и не избавить моих близких от незаслуженных и необоснованных страданий? — сказал Фламмери.
— Связаться с Филадельфией? Каким образом? — спросил Цератод.
— Конечно, по радио.
— Почему именно с Филадельфией? У меня тоже имеются близкие. И они живут не в Филадельфии, а в Ливерпуле.
— А у меня в Лондоне, — сказал Смит.
Мообс хотел было сказать, что и у него имеются родственники — в Буффало, но не решился.
Мистер Фламмери, не отвечая на реплики, продолжал, адресуясь к Егорычеву в первую очередь:
— Я думаю, нам следовало бы сегодня же дать о себе знать по радио. Конечно, если вам, мистер Егорычев, действительно удалось договориться с этим Кумахером.
— Я действительно договорился с этим Кумахером, — сказал Егорычев. — Еще вчера договорился. И я думаю, что он починит рацию, если это только технически возможно. — Он увидел вытянувшиеся физиономии своих собеседников и успокоительно добавил:- Лично я уверен, что это вполне возможно. И сейчас мы устроим консилиум… Только очень прошу вас, делайте вид, что вы не сомневаетесь в готовности Кумахера выполнить наше приказание.
Он снял с двери, ведшей во второе помещение, одеяла и шинели, отодвинул засов, вызвал фельдфебеля, обрадовавшегося возможности подышать свежим воздухом, снова запер дверь и по-прежнему завесил ее одеялами и шинелями.
Кумахер стоял посреди помещения и щурил глаза. После темноты, в которой он провел несколько часов, его ослепил свет «летучей мыши».
— Нужно будет починить рацию, — сказал ему Егорычев таким тоном, словно разговаривал с монтером, вызванным из артели по ремонту радиоприемников. — По-моему, работы на час, не более.
— С вашего разрешения, я бы хотел осмотреть ее, господин капитан-лейтенант, — проговорил фельдфебель вполголоса, подчеркнуто косясь глазами на завешенную дверь.
— Мы вас для этого как раз и вызвали.
При этих словах Цератод и Фламмери важно качнули головами, подтверждая Кумахеру, что дело обстоит именно так.
— Только смотрите, — предупредил его Егорычев, — не дай вам бог валять дурака. Я недостаточно знаю радиотехнику, чтобы браться за ремонт рации, если это можно поручить специалисту. Но я всегда отличу починку от порчи. Так что не советую рисковать…
Якобы из опасения, что его за дверью расслышит майор Фремденгут, Кумахер ограничился лишь тем, что многозначительно прижал правую руку к сердцу.
Егорычев, успевший заранее обследовать рацию, приблизительно представлял себе размеры и характер повреждения, и сейчас ему было интересно не мнение фельдфебеля, а то, что и как он сочтет нужным сказать. И не столько с точки зрения оценки повреждения — рацию действительно можно было исправить довольно быстро, — Егорычеву важно было, как себя поведет Кумахер.
Но Кумахер, быстро осмотрев рацию, удостоверился, что этот русский капитан-лейтенант, пожалуй, и в самом деле разбирается в радиотехнике, во всяком случае, время, потребное на починку, он определил правильно. Наверно, радиолюбитель.
— Так точно, господин капитан-лейтенант, — приподнял он наконец свой седой бобрик от рации, ярко освещенной сильным электрическим фонарем, — За час-полтора все будет в порядке. От удара табуреткой можно было ожидать куда более значительных повреждений.
Его налившееся кровью широкое лицо дышало правдивостью, усердием и преданностью.
Егорычеву было приятно, что можно будет обойтись без угроз. Он понимал, что Кумахер в некотором роде приперт к стенке и в данном случае будет добросовестен из трусости. Большего от него нечего было, собственно, и ждать.
Слова фельдфебеля произвели самое благоприятное впечатление на Фламмери и Цератода. Несколько смягчились и взгляды, которые они время от времени кидали на Егорычева: этот молодой большевик незаменимый парень в такого рода положениях!
— Только, ради всевышнего, ни слова господину барону! — униженно прошептал Кумахер. — Он меня задушит, как цыпленка.
— Хорошо, — сказал Егорычев, и оба джентльмена величавым кивком подтвердили обещание Егорычева.
— Ну, а как насчет вашей памяти? — осведомился как бы между делом Егорычев. — Она все еще в аварийном состоянии?
Кумахер заговорщически осклабился, давая понять, что всему свое время, и выразительно развел руками.
— Разрешите приступить к ремонту, господин капитан-лейтенант?
— Приступайте, — сказал Егорычев.
— Если позволите, — прошептал Кумахер, — я попросил бы вас завесить еще чем-нибудь двери. У господина майора исключительно тонкий слух.
На дверь, за которой в темноте мрачно возлежал на полу майор фон Фремденгут, навесили еще два одеяла, и фельдфебель Кумахер, все же всячески остерегаясь произвести хотя бы малейший шум, с проворством и сноровкой мастера своего дела приступил к ремонту.
Оба «старших англосакса», как называл про себя Егорычев Фламмери и Цератода в отличие от Мообса и Смита, прикорнули на койках в ожидании завершения ремонта. Смит сидел, опершись могучей спиной о приятно холодившую каменную стену, лениво смотрел в сырую черноту ночи и о чем-то думал. Последний день он вообще усиленно предавался размышлениям. Мообс, взгромоздившись на табуретку, воевал с вдруг закоптившей горелкой «летучей мыши».
— Однако, — заметил он, дуя на обожженные пальцы, — мистер Кумахер не очень торопится.
— Ради бога, как можно тише! — взмолился трагическим шепотом Кумахер, кивая на дверь, за которой бодрствовал барон Фремденгут.
Мообс презрительно фыркнул.
— У господина майора исключительно тонкий слух! — жалостно продолжал фельдфебель.
Вмешался Егорычев:
— В самом деле, Мообс, постарайтесь потише.
— А вы не бойтесь, Кумахер, — отозвался Мообс театральным шепотом, а затем, наслаждаясь страхом Кумахера и раздражением Егорычева, проговорил во весь голос. — Когда Фремденгут начнет вас душить, вы только старайтесь хрипеть как можно громче. Ваше спасение я беру на себя.
— Господин Мообс, умоляю вас, вы меня губите!..
— Только как можно громче хрипите, — чуть ли не кричал Мообс, упиваясь неожиданно представившимся развлечением. — Остальное я беру на себя.
— Мообс! — очень тихо, но многозначительно промолвил Егорычев.
— Чего «Мообс», чего? Вы себе стали слишком много позволять, товарищ Егорычев.
Слово «товарищ» Мообс подчеркнул, совсем как в свое время мистер Фламмери.
Но стоило только мистеру Фламмери, который со своей койки одним глазком поглядывал на происходящее в пещере, равнодушно и почти невнятно произнести слово: «Мообс!», как репортер увял.
Он спрыгнул с табуретки. Но словно только этого и дожидаясь, лампа сразу закоптила с удвоенной силой.
— Ладно, — сказал Егорычев, — давайте уж лучше я.
Для фронтовика, привыкшего иметь дело с самодельными светильниками, управиться с «летучей мышью» оказалось не сложней, чем для укротителя мустангов взнуздать дрессированного циркового пони.
— Ну вот и все, — сказал он и присел на койку рядом с рацией, чтобы, не спуская глаз, наблюдать за Кумахером.
Никак нельзя было поручиться, что этот смиренный эсэсовец не выжидает удобного мгновения, чтобы одним ударом превратить рацию в груду металлического и стеклянного лома. Нужно было все время быть начеку. Кроме того, Егорычев, никогда не переоценивавший своих познаний в области радиотехники, считал необходимым пополнить их, присматриваясь, как Кумахер разбирает и ремонтирует рацию. Не всегда же прибегать к посторонней помощи.
На серебристой дюралевой крышке передатчика тускло Поблескивала небрежно брошенная свинцовая пломба со свастикой и какими-то неразборчивыми, плохо оттиснутыми готическими буквами. Согласно указанию, данному барону Фремденгуту его командованием, только он, Фремденгут, в определенный, только ему известный день и час имел право сорвать эту пломбу, чтобы, настроившись на только ему известную волну, принять приказ о том, что надлежит эсэсовскому гарнизону острова Разочарования делать в дальнейшем. Сейчас эта пломба с обрывочками пропущенного сквозь нее шелкового шнурка валялась на крышке рации. Кумахер даже в отсутствие Фремденгута не решился сорвать ее. Пломбу сорвал Егорычев. В другое время он настоял бы на том, чтобы это проделал сам фельдфебель: пломба могла быть присоединена к какой-нибудь адской машине. Но Егорычев ограничился лишь тем, что попросил Смита и Мообса взять в руки автоматы и присматривать за Кумахером, а самого фельдфебеля заставил стоять вплотную возле себя.
Взрыва не произошло. Кумахер с лицом оскорбленной невинности отошел несколько в сторонку. Там на суставчатых, как у фото-штатива, ножках стоял смахивавший на большую мясорубку алюминиевый генератор с ручным приводом, предназначенный для питания рации электрическим током. Коленчатую рукоятку Кумахер быстро разыскал в аккуратном фанерном ящике с запасными деталями. Он приладил ее к генератору, и наступил решающий момент проверки качества ремонта.
Фельдфебель плюнул на ладони и принялся с напряжением вращать рукоятку. Судя по всему, это было отнюдь не легким времяпрепровождением.
Низким басом, словно огромный и очень сердитый жук, зажужжал якорь генератора. По мере того как наращивались обороты, звук становился все выше и пронзительней. Контрольная лампочка над основанием рукоятки загорелась сначала темно-вишневым, потом огненно-красным, оранжевым, желтым и, наконец, ярким белым светом. Жужжание стало ровным и очень высоким. Сквозь отверстия в боковой стенке приемника пробились тоненькие столбики желтоватого света генераторных ламп. Красиво засветилась шкала с желтыми и красными прозрачными делениями.
— Ну вот, господин капитан-лейтенант, — шепотом доложил Кумахер, — радиостанция в порядке!
И он, продолжая правой рукой натужно крутить рукоятку, левой протянул Егорычеву гибкую стальную дужку с наушниками.
Заслышав жужжание генератора, проснулись «старшие англосаксы».
— Уже готово? — удивился Фламмери.
— Как будто, — сказал Егорычев. — Сейчас послушаем, что нового на свете,
— А передатчик? — спросил Фламмери. — Прежде всего нужна связаться с Филадельфией…
— Почему с Филадельфией? Мои родные проживают в Ливерпуле, — раздраженно возразил ему Цератод.
— А мои в Лондоне, — сказал Смит.
Снова Мообс хотел было, но не решился предъявить и свои претензии по этому вопросу.
— Вы знакомы с азбукой Морзе? — спросил капитан-лейтенант Егорычев у капитана Фламмери.
— Конечно, нет. Но ее должен знать Мообс.
— С чего вы это взяли, сэр? — отозвался Мообс. — Я совершенно штатский человек.
— А вы, господин майор? — обратился Егорычев к Цератоду. Цератод промолчал.
— Итак, никто из нас не знает английской азбуки Морзе, — подытожил Егорычев.
— Мы попросим господина Кумахера, — сказал Фламмери.
— Фельдфебель Кумахер владеет только немецкой азбукой Морзе. Не так ли?
— Так точно, господин капитан-лейтенант, — отвечал фельдфебель, сменяя руку. Его наклоненное лицо было красно от напряжения, жилы на уставшей руке вздулись и напоминали разветвленные линии рек на географических картах. Вертеть ручку генератора было основательным физическим трудом, от которого господин фельдфебель за время службы в войсках СС успел отвыкнуть. — Может быть, вы разрешите мне, господин капитан-лейтенант, впредь до решения вопроса прекратить вертеть эту проклятую ручку?
— Нет, зачем же! Сейчас мы постараемся узнать, что делается на свете. А о том, как, с кем и когда нам связаться по радио, я предлагаю потолковать потом, в отсутствие фельдфебеля Кумахера.
Никто не возразил. Егорычев не без волнения взялся за вариометр. Светящаяся стрелка медленно справа налево поползла по желто-красной светящейся шкале, и в полутемную пещеру окутанного тропическим мраком и ливнем островка, затерявшегося в безграничной водной пустыне, хлынули сквозь неказистые железные кругляшки наушников приглушенные шумы потрясающей воображение всемирной радио-толчеи. Еле ощутимый поворот вариометра, ничтожная доля деления на шкале, и уши приемника улавливали волны, которые всего лишь за сотые, а то и тысячные доли секунды родились из звуков, произнесенных, пропетых, сыгранных в тысячах километров от острова Разочарования. Какими ничтожными казались в сравнении с этими еле заметными делениями радио-шкалы самые экономные, самые уплотненные масштабы географических карт! Что значило условное, только на бумаге существующее сравнение — сто, двести, пятьсот километров в одном сантиметре — в сопоставлении с реальным пробегом по тысячекилометровым пространствам, совершаемым при помощи передвижения стрелки рации на крошечную долю шкалы!
Сопровождаемые треском электрических разрядов уходившей грозы, возникали и мгновенно исчезали навсегда голоса неизвестных людей, певших на испанском и португальском языках о любви к прекрасной синьоре, о ревности? свиданиях, серенадах и горьких разлуках, — голоса дикторов, что-то быстро читавших по-испански, португальски, арабски; снова пение; бурные каскады разухабистых джазов, нежные до приторности переливы салонных оркестров, какие-то непонятные диалоги между мужчиной и женщиной, между двумя женщинами. Бренчала гитара, аккомпанирующая сладчайшему тенору, неведомая колоратура заливалась на немыслимо высоких нотах. Совсем близко, словно играли тут же рядом со сгрудившимися у рации шестью человеками, прозвучала задумчивая и благородная «Ориенталия» Альбениса.
В последний раз Егорычев слушал ее в тридцать девятом году в Москве, во время каникул, в новеньком зале имени Чайковского. Он очень любил Альбениса, но сейчас было не до музыки. Егорычев продолжал медленно поворачивать черный пластмассовый штурвальчик вариометра.
И вдруг немецкая речь. Сытый баритон. Конец фразы: «…образом, исход этой бесспорно большой и бесспорно крайне рискованной операции еще очень далек от ясности».
— Германия! — горячо прошептал Кумахер и принялся с возросшей энергией крутить ручку генератора.
Остальные еще ближе придвинулись к лежавшим на рации наушникам, которые по необходимости с грехом пополам заменяли собой репродуктор.
— Ну что ж, — сказал Егорычев, — если остальные не возражают, давайте послушаем для начала Германию.
Но не успели все, кроме Кумахера, который, конечно, был не в счет, согласиться с предложением Егорычева, как оказалось, что это совсем не Германия. После коротенького перерыва в несколько секунд тот же сытый баритон продолжал:
— «Говорит Рио-де-Жанейро. Мы передавали военный обзор нашего постоянного военно-политического обозревателя господина доктора-инженера Гуго Шмальца о событиях в Нормандии. Сейчас слушайте наш немецкий мужской квартет в составе…»
Сначала до сознания даже не дошло значение слов «события в Нормандии». Егорычев, никем не остановленный, машинально продолжал свои поиски в эфире.
— События в Нормандии, — задумчиво проговорил он, встретился взглядом с Цератодом, и в ту же секунду оба они, озаренные одной и той же мыслью, воскликнули: «В Нормандии!» Цератод в сильном волнении схватил за плечо невозмутимого Фламмери, которому, очевидно, так же как и его веснушчатому молодому соотечественнику, это географическое название ничего не говорило.
— Вы понимаете, Фламмери: события в Нормандии! Это ведь на берегу Ламанша!..
— Уж не думаете ли вы, — усмехнулся Фламмери, — что это… Он не успел закончить своей фразы, как Цератод перебил его:
— Ну да. Почему это не может быть вторым фронтом?
— А почему это должен быть именно второй фронт? «События» — это слишком общее понятие. Под это понятие прекрасно подойдет… э-э-э… и восстание, и усмирение какой-нибудь партизанской банды, и из ряда вон выходящее наводнение…
— Партизанской банды! И вам не стыдно, капитан Фламмери, так называть героев антифашистской борьбы? — вспылил Егорычев. — Честное слово, если бы…
— Мистер Фламмери не привык затруднять себя выбором выражений, — примирительно промолвил Цератод, полагавший, что сейчас не время ссориться с Егорычевым. — Мистер Фламмери, я уверен, хотел сказать совсем другое, более достойное этих благородных и мужественных людей.
— Я только выражаю свое скромное мнение, — хладнокровно заметил Фламмери, не обращая внимания на предостерегающие жесты Цератода. — Я полагаю, что я и здесь, на острове, имею право пользоваться всей полнотой свобод, которые мне обеспечивает конституция Соединенных Штатов, в том числе и свободой мысли и слова… Я весьма сожалею, что мистер Егорычев, как типичный недемократ, не привык уважать чужие мнения, даже если они в корне противоречат его личным. Я сказал то, что я хотел сказать.
Смит не счел нужным скрывать свое осуждение выходки Фламмери, и ему было приятно, что Цератод так решительно (Смиту казалось, что достаточно решительно) и в то же время так корректно вступился за честь партизан, к которым наш кочегар питал самые теплые чувства.
Что до Мообса, то он в одинаковой степени презирал и англичан, и французов, и вообще все нации, кроме американской. Ему была по душе вызывающая самостоятельность суждений Фламмери. Он заранее и полностью присоединялся к любому его высказыванию.
Было не до споров, тем более явно бесплодных. Надо было поймать подробности о «событиях в Нормандии». Сердито насупившись, от чего его и без того моложавое лицо стало совсем мальчишеским, и пробормотав себе под нос несколько русских фраз, которые, будь они поняты мистером Фламмери и его верным Мообсом, вряд ли содействовали бы улучшению обстановки, Егорычев продолжал осторожно поворачивать вариометр. По московскому времени сейчас было около двух часов дня, по гринвичскому около пяти — самое не-‹ удобное время для ловли в эфире военных сводок.
Но вот из наушников сквозь, казалось, непроходимую чащу певших и говоривших на десятках разных языков мужских, женских и детских голосов, клочьев музыкальных фраз в оркестровом исполнении, разноголосого попискивания радиотелеграфа и выматывающего душу треска электрических разрядов пробился, наконец, в пещеру бесстрастный голос английского диктора: «…нут утра танковые войска прорвали в Нормандии немецкую линию обороны в районе Байе и заняли этот город. Плацдарм англо-американских войск в этом районе расширился до шестидесяти километров».
Опасаясь, как бы вдруг кто-нибудь не заговорил, Егорычев приложил палец к губам. Но и без его предостерегающего жеста в пещере сразу установилась такая тишина, что слышно стало, как у самого выхода звонко и мерно падали с листвы тяжелые капли в лужицу, образовавшуюся сразу за выходной дверью. Дождь, видимо, уже кончился.
После небольшой паузы последовала сводка военных действий на итальянском фронте, за нею утомительно подробное жизнеописание Монтгомери. В нем были интересны, пожалуй, лиши первые слова: «Передаем биографию одного из выдающихся британских полководцев, руководителя войск, высадившихся на севере Франции в ночь на шестое июня». Судя по пространному началу, биография эта должна была занять внимание радиослушателей минут на десять, не менее.
— Ищем дальше? — спросил Егорычев, удивляясь тому, как в конечном счете хладнокровно он воспринял сообщение, которое не на шутку взволновало бы его в сорок втором и даже сорок третьем году.
— Попробуем, — согласился Цератод.
Вскоре они наткнулись на немецкую передачу о «бескорыстном геройстве немецких войск, защищающих пядь за пядью румынскую Землю от вторжения красных полчищ, несмотря на преступное и гибельное безразличие румынских войск».
Было приятно слышать в этих обтекаемых реляциях подтверждение серьезных неудач Гитлера на советском фронте.
Затем тот же диктор обратил внимание своих слушателей на вред паники, которую распространяют враги райха и фюрера насчет положения на западе. Что, собственно, происходит в Нормандии, он, впрочем, так и не сказал, ограничившись указанием, что только наивные дети и безнадежные трусы могут придавать серьезное значение тому, что на нормандский берег воровски, под прикрытием ночи (в этих обстоятельствах, судя по укоризненной и даже презрительной интонации диктора, усматривалось нечто глубоко непорядочное, несерьезное и обреченное на неудачу) высадилось некоторое количество англо-американских войск. Их ждет второй Дюнкерк, обещал диктор и быстренько, почти без передышки перешел от этого щекотливого вопроса к объявлениям.
Немецкие объявления никого, кроме разве Кумахера, не интересовали. И снова стрелка медленно поползла справа налево по шкале.
Между тем, как это ни странно, пятое по счету объявление имело самое непосредственное отношение к острову Разочарования. Оно передавалось в эфир трижды — седьмого, восьмого и девятого июня, каждый раз пятым по порядку и ежедневно в другой редакции.
Нет нужды приводить все три варианта. Восьмого июня оно выглядело так:
Нам еще придется вернуться в одной из следующих глав к этому внешне очень будничному объявлению. Нет сомнения, что если бы и Егорычев и остальные пятеро, слушавших в пещере немецкую передачу, и прослушали это объявление, они не обратили бы на него ни малейшего внимания. Между тем оно несло в себе признание того, что германское военное командование считало положение в Нормандии значительно более серьезным, нежели оно расценивалось присяжными радиокомментаторами Геббельса.
Егорычеву страшно хотелось поймать советскую передачу, но все его попытки закончились неудачей. Время было неподходящим. Убедившись в тщете своих усилий, он решил перенести поиски на утро.
— Может быть, достаточно? — спросил он.
— Давайте снова поищем Англию, — сказал Цератод.
— Вам не кажется, сэр, что двое американских граждан имеют законное право послушать американскую станцию? — сварливо осведомился Фламмери, и Джон Бойнтон Мообс горячо поддержал его:
— Вот именно!
Но первой попалась английская станция. Передавали статью о необходимости строжайшей экономии угля и электроэнергии. Ее решили не слушать и одну за другой поймали две американские передачи, В обеих были первые, еще скупые сообщения о боях в Нормандии.
VI
Потрясенного услышанным известием и порядком уставшего Кумахера отправили в арестантское помещение, заперли за ним дверь и по-прежнему завесили ее.
— Итак, второй фронт открыт! — торжественно провозгласил Цератод, протирая очки и глядя на своих коллег выпуклыми близорукими глазками. — Поздравляю вас, джентльмены! Примите мои особенные поздравления, мистер Егорычев. Как видите, соединенные англо-американские силы не щадят своих жизней, чтобы помочь доблестным советским союзникам!
Он неторопливо водрузил толстые золотые очки на мясистый нос, учтиво улыбнулся и пожал руку Егорычеву. Впервые со времени гибели «Айрон буля» Егорычев почувствовал в своей ладони пухлую, сыроватую и очень гладкую руку Цератода и не испытал при этом никакого удовольствия. Он уже достаточно знал Цератода, чтобы понимать истинную цену его рукопожатия.
— Спасибо, господин майор, — сказал Егорычев.
Фламмери не спешил с поздравлениями. Он решил произнести речь. Он сказал:
— Друзья мои! Вспомним в эту торжественную минуту начальные строки сто пятого псалма Давидова: «Славьте господа; призывайте имя его; возвещайте в народах дела его; пойте ему», ибо только слепой не увидит в интересующем и волнующем нас великом военном событии исполнение англо-американским командованием одного из священнейших и благороднейших заветов господа нашего: «Люби ближнего, как самого себя!»
Он окинул слушателей благочестивым взглядом, остановился на миг на Егорычеве, увидел в его глазах насмешливые огоньки, нисколько этим не смутился и продолжал:
— Надеюсь, я никогда не буду повинен в неподобающей гордости, но да позволено будет мне с гордостью заявить, что не было минуты, когда я усомнился бы в том, что наше вторжение в Европу произойдет… лишь только господь призовет нас к этому в сердцах наших!..
Трудно было предположить, чтобы кто-нибудь мог принять всерьез его слова, меньше всего это мог предположить он сам, и все же не было силы, которая бы удержала его от того, чтобы он их произнес. — А теперь, — продолжал как ни в чем не бывало мистер Фламмери, — не пора ли нам перейти от явлений общечеловеческого значения к тому, что касается лично нас. Я имею в виду, не пора ли нам подумать о том, чтобы связаться с Америкой, — он увидел нетерпеливый жест Цератода и добавил, — или с Англией, в данном случае это все равно, и сообщить, что мы живы и чтобы за нами прислали судно или самолет?
— Этот вопрос совсем не так прост, как я вчера предполагал, — " сказал Егорычев. — Никто из нас не знает английской азбуки Морзе. Но даже если бы и знали, это нисколько не облегчило бы в данное время, я подчеркиваю, что именно в данное время, наше положение. Надеюсь, никто уже не сомневается, что эсэсовцы высажены сюда с каким-то весьма серьезным заданием. Любая наша радиограмма неминуемо будет принята не только союзными нейтральными радиостанциями, но и немецкими…
— То же самое говорил вчера я, — прервал его с ехидной улыбочкой Цератод. — Вы мне тогда возразили, если мне не изменяет память, что немцам сейчас, по вашему мнению, не до нашего острова, что немцам, опять-таки, по вашему мнению, достаточно забот на советском фронте. Тем непонятней ваше заявление сегодня, когда к тому же открыт и активно действует второй фронт.
— Нет, — сказал Егорычев, — вам не изменяет память, мистер Цератод. Я должен признать, что не все вчера принял во внимание. Конечно, немцы никак уж не в состоянии прислать сюда новую экспедицию из самой Германии или, скажем, из Алхесираса. Но мы не имеем права забывать, что у них более чем достаточная шпионская сеть в западном полушарии. Я имею в виду Южную Америку.
— Иногда мне кажется, что меня, как какого-нибудь мальчишку, пытаются втащить за ручку в кино на дурацкую картину со шпионами, — пробурчал Фламмери. — И я хотел бы заявить вам, сэр, что я уже давно вышел из того нежного и доверчивого возраста, когда повсюду мерещатся шпионы и пираты!
— Поэтому, — продолжал Егорычев, — по меньшей мере не исключено, что эти гитлеровские шпионы или сами запеленгуют нас, или получат от запеленговавшего нас немецкого командования указание срочно проверить, что это за союзнические силы вдруг обнаружились на острове Разочарования. А так как здешний эсэсовский гарнизон имел какие-то сверхважные задания, то ими будут приняты все меры, чтобы прибыть сюда раньше союзных кораблей или самолетов, и тогда, понятно, нам придется весьма туго…
Цератод недовольно хмыкнул, словно благоприятная для радиосвязи обстановка зависела от Егорычева.
— Остается единственная возможность связи с внешним миром: воспользоваться русской азбукой Морзе.
— Вам угодно шутить, мистер Егорычев? — вспылил Фламмери.
— Нет, не угодно, — спокойно отвечал Егорычев.
— С таким же успехом можно было бы воспользоваться и персидской или тибетской!
— Не совсем так, господин капитан, со значительно меньшим, но все же с большей безопасностью, нежели английской. Южноамериканским немцам вряд ли придет в голову, что перед ними радиограмма на русском языке. Скорее всего, они ее примут за очень хитро зашифрованную английскую, испанскую, португальскую, арабскую, французскую, итальянскую — словом, за какую угодно, но только не русскую. И пусть они ее расшифровывают сколько душе угодно. Зато, если ее примет любая советская радиостанция, дело будет в верных руках.
— Не кажется ли вам, сэр, что отсюда до ближайшей советской рации страшно далеко? — с прежним ехидством осведомился Цератод.
— Кажется. Но что поделаешь? В крайнем случае, я возлагаю надежды на британскую и американскую разведки. У них есть вполне достаточный опыт в пользовании русской азбукой Морзе.
Намек Егорычева был принят и проглочен с самым каменным выражением лица.
— Ну что ж, — вздохнул после довольно продолжительного раздумья капитан Фламмери, — очень может быть, что мистер Егорычев не совсем не прав. В таком случае я предлагаю совместно разработать текст. Лично я полагаю, что… В чем дело, Мообс? — брезгливо протянул он. — Не хватайтесь, прошу вас, за мое плечо. Терпеть не могу такого панибратства!
— Вы слышите, джентльмены? — тревожно проговорил Мообс, делая большие глаза.
Где-то совсем недалеко слышался возбужденный гомон нескольких мужских голосов.
Схватив автоматы, все выскочили на лужайку. Впереди, проклиная себя за позорную беспечность, — он должен был, несмотря на дождь, позаботиться об охране подступов, — бежал Егорычев с электрическим фонариком в руке.
Но фонарь оказался излишним. На чистом небе, усыпанном звездами незнакомых созвездий, сияла ущербная луна, похожая на голубоватую ладью с высокими бортами и острым носом и кормой. Это был непривычный северянам лежащий месяц южного полушария. Ближе к зениту просторно раскинулось великолепное созвездие Южного Креста. Светлая свежая ночь царила над островом. Но на тропинке, ведшей на лужайку, было темно. — И оттуда, снизу, из темноты доносились чьи-то крики и тяжелое дыхание. Слышалось шлепанье босых ног по мокрой земле. Несколько человек спеша подымались на площадку. Они были уже совсем близко, за последним поворотом.
— Кто там? — крикнул Егорычев и снова засветил фонарик. — Кто идет?
— Идут друзья! — ответил из мрака задыхающийся знакомый голос. — Идут люди из Нового Вифлеема!
— Какого дьявола вы претесь в такую позднюю пору? — спросил Мообс и щелкнул для острастки затвором автомата.
— Мы идем, чтобы пресечь несправедливость и воровство!
— Успеете это сделать утром! — крикнул Фламмери в темноту. — Убирайтесь с господом, пока мы вас не перестреляли, как куропаток!
Но островитяне уже были на лужайке, Их было человек десять. У четверых руки были связаны за спиной. Остальными, составлявшими их конвой, руководил наш неутомимый и деловитый старый Знакомец Гамлет Браун.
— Добрый вечер, милорды! — приветствовал он белых.
— Добрый вечер. Вы всегда ходите в гости по ночам? — строго спросил его Егорычев. — В такую позднюю пору люди должны спать.
— Нет, сэр, — учтиво отвечал Гамлет, — обычно мы ходим в гости днем. Но когда наших уважаемых белых гостей обкрадывают, мы не можем ждать, пока за краем земли проснется солнце… Мы весьма скорбим, сэр, мы весьма скорбим… Наша добрая утренняя встреча омрачена недобрым делом! Вот! Смотрите!..
Голос Гамлета дрожал от негодования. Он окинул уничтожающим взглядом связанных односельчан. Те попытались было что-то сказать в свое оправдание, но замолчали под этим ледяным взглядом. Гамлет бережно развернул аккуратный пакетик из бананового листа, который он до этого держал крепко зажатым в правой руке, и предъявил удивленным белым четыре заурядные английские булавки, блеснувшие на нежном лунном свете, как четыре крохотные молнии.
— Это презренные люди, — указал Гамлет на связанную четверку, в которой без труда можно было узнать отщепенцев, обласканных сегодня утром Цератодом и Фламмери. — Это трижды презренные трусы и негодяи! — с силой повторил он. — Они уже давно составляют позор нашего великого и благородного племени. Вспомните, прошу вас, джентльмены, слова Гамлета, принца датского — акт второй, сцена вторая: «Что и говорить, если даже такое божество, как солнце, плодит червей, лаская лучами падаль». И вот сегодня эти черви не удовольствовались прекрасными подарками, которые они незаслуженно получили наравне со всеми добрыми жителями Нового Вифлеема. Они похитили у вас эти превосходные блестящие вещицы. Мы пришли сюда, чтобы вернуть вам эти вещицы и чтобы вы сами назначили ворам наказание, которое полагается по вашим законам за такое преступление.
Широким жестом он указал на обрыв, с которого был утром сброшен в океан ефрейтор Альберих Сморке.
При этих словах, смысл которых было трудно не понять, связанные островитяне взвыли от ужаса. Один из них в отчаянии крикнул:
— Милорды! Разве вы сами не…
— Молчать! — цыкнул на них Гамлет. — Как вы смеете раскрывать рты в присутствии тех, кого вы так позорно обманули!
И он замолк, ожидая, что скажут белые. Слово было за ними. Их обокрали люди, которых они и так одарили бесценными подарками, и им принадлежало решающее слово.
— Слушай, ты, как тебя там… — рассмеялся Фламмери.
— Меня зовут Гамлет, сэр, Гамлет Браун, с вашего разрешения.
— Разрешаю. Так вот, мистер Гамлет Браун, извольте вернуть этим парням булавки и хорошенечко перед ними извиниться.
— Вернуть?! Извиниться?! За что, сэр? За то, что они вас обокрали?..
— За то, что вы их ограбили.
— Мы отобрали, чтобы вернуть вам, сэр.
— Я никого не просил возвращать мне то, что я подарил этим людям.
— Вы?.. Вы?..
— Да, я, я! — сердито подтвердил Фламмери.
— Но этого никак не может быть, сэр! Тут какая-то ошибка! — воскликнул пораженный Гамлет Браун. — Дарить дополнительные подарки тем, кто не заслуживает даже шелухи банана! Где же тут справедливость, сэр?..
— Справедливость там, где я того желаю. Понятно? И заруби себе на своем толстом носу, что, когда белый приказывает черному, черный не спорит, а выполняет приказание. Понятно?
— Прошу прощения, сэр, не понятно.
— Ты что, сюда пришел паясничать?! — взревел Фламмери и замахнулся на Гамлета автоматом (мы пользуемся случаем отметить, что впервые за войну капитан Роберт Фламмери пускал в ход оружие). — Выполняй приказание и убирайся с господом ко всем чертям!
Чувствуя, что Фламмери может натворить непоправимое, вмешался Егорычев:
— Поймите, Гамлет, этот джентльмен подарил, подарилим эти несчастные булавки. Они не украли. Им нужно вернуть булавки. Это их булавки.
— Но этого не может быть, сэр! — снова воскликнул Гамлет в величайшем недоумении, и остальные его товарищи возмущенно зашумели. — Тут что-то получилось не так! Эти люди никак не заслужили дополнительных подарков. Это в высшей степени непонятно и несправедливо!
— Предоставьте мне знать, сэр, что такое справедливо и что такое несправедливо! — гаркнул Фламмери. — Мообс!
Фламмери что-то шепнул Мообсу на ухо. Мообс метнулся в пещеру и спустя несколько секунд вернулся с ворохом лент.
— Разделите между ними эту дрянь, — сказал Фламмери. Отщепенцам Нового Вифлеема развязали руки, и Мообс добросовестно распределил между ними ленты.
Если бы сейчас, среди ночи, вдруг засветило солнце, если бы океан и небосвод вдруг поменялись местами, если бы злополучные булавки превратились в змей и с шипеньем уползли в кусты, это не так огорошило бы островитян, как то, что самых презренных и недостойных жителей Нового Вифлеема дважды, неизвестно за что и вопреки всем представлениям о чести и справедливости, выделили из всех их односельчан. Впрочем, и лучшие из лучших пользовались на острове Разочарования одинаковыми правами и благами, наравне с их остальными соплеменниками.
— И не подумайте только отбирать у них мои подарки! — угрожающе промолвил Фламмери. — Раз они получили подарки, значит так надо! Понятно?
— Нет, не понятно, сэр, — честно отвечали островитяне, далекие от дипломатии. — Но нам очень хотелось бы понять.
— Мозги у вас имеются?
— Имеются, сэр.
— Сомневаюсь. Но если они у вас действительно в наличии, то потрудитесь напрячь их. Теперь слушайте: вы ошибаетесь в этих людях. Они несравнимо лучше, чем вы о них говорили. Они несравнимо лучше самого лучшего из вас. Это говорю вам я, белый человек, пришедший на ваш остров, чтобы научить вас истинной вере Христовой, научить добру и смирению, без которых нет царства небесного. Как сказано царем Давидом, книга первая, псалом тридцать четвертый: «Придите, дети, послушайте меня: я вас научу страху господню…» Ну как, теперь понятно?
— Нет, сэр, все еще непонятно, — доверчиво отвечали островитяне, подавленные ссылкой на Книгу псалмов. — Еще непонятно, но мы будем очень стараться, чтобы понять.
— Ну и убирайтесь и вознесите благодарение господу за то, что он вовремя удержал мою руку.
Негры гуськом потянулись в обратный путь. Шлепанье их босых пяток быстро удалялось во мраке тропинки, покуда окончательно не растворилось в мирной тишине ночи.
— Поразительно! — промолвил Егорычев. — Делать подарки черт знает кому назло порядочным островитянам!
— Мои чувства могут быть понятны только верующим христианам, сэр!.. Милость к падшим, сэр! — с чувством ответил ему Фламмери.
— Милость к падшим! — фыркнул Егорычев. — Скажите лучше — заигрывание с подонками здешнего населения.
— Хорошо, — сказал Фламмери. — Считайте это моим капризом. Цератод, осторожно промолчавший всю эту сцену, ограничился при последних словах американца улыбочкой, которую и Фламмери и Егорычев могли одинаково воспринять как одобрение их точки зрения.
— Вы знаете, как их зовут, этих четырех молодчиков? — зевая прервал наступившее молчание Мообс. — Ах да, я уже вам рассказывал… Кстати, мистер Фламмери, эти герои кино просили передать вам, что они обязаны вам жизнью и никогда этого не забудут.
Смит молчал. Ему не нравилось то, что сделал Фламмери, и было неясно, как к этому отнесся его земляк и коллега по профсоюзу транспортников и неквалифицированных рабочих.
Ночь была великолепна, но время близилось к двенадцати и надо было ложиться спать, а перед этим сговориться насчет текста радиограммы, которую Егорычев должен был передать сегодня ночью на русском языке.
Они вернулись в пещеру. После свежего воздуха ударило в ноздри острым запахом керосиновой лампы.
В обсуждении — раньше всего было продумано наиболее безопасное и удобное время передачи — приняли участие все пятеро спасшихся с «Айрон буля». Потом Сэмюэль Смит пошел на вахту — охранять подступы к лужайке.
Принято было предложение Егорычева — передавать радиограмму ровно в двадцать четыре ноль ноль. В Москве в это время пять утра.
Сложнее оказалось с текстом. Фламмери и Цератод, при полной, конечно, поддержке Мообса, настаивали сначала, чтобы в радиограмме было ясно сказано: капитан Роберт Фламмери из Филадельфии, майор Эрнест Цератод из Ливерпуля, капитан-лейтенант Константин Егорычев из Москвы, Джон Бойнтон Мообс из Буффало и кочегар Сэмюэль Смит, спасшиеся с британского военного транспорта «Айрон буль», находятся примерно в таком-то районе южной Атлантики, о чем просят сообщить их родным (о командовании вопрос даже не возникал) и ждут присылки за ними корабля или самолета.
Егорычев был против. Он считал, что радиограмму такого содержания послать следует, но не сразу, а дней через пять, так как она все же будет сравнительно доступна расшифрованию. А надо для начала посылать такую радиограмму, которая могла бы быть по-настоящему понята только в Советском Союзе. После пяти-шести дней, в течение которых советским командованием будут приняты надлежащие меры, быть может через союзное командование, можно будет послать и вторую радиограмму с тем содержанием, которое было предложено Цератодом и Фламмери с Мообсом. Если в ней даже, паче чаяния, и разберутся немцы, то все же у союзного командования будет почти неделя форы. К тому же за это время немцы успеют еще поглубже завязнуть на фронте и им станет еще сложнее принять какие-либо меры в отношении острова Разочарования. Хочется поскорее дать о себе знать родным? Безусловно. Ему тоже: и родным и командованию. Но лучше же, право, потерпеть лишних пять — шесть дней и дождаться своих, нежели на пять дней раньше столкнуться носом к носу с гитлеровскими молодчиками.
Какой он предлагает текст? Ему пришел в голову припев из песни его родного батальона морской пехоты. Вместе с подробной подписью Егорычева он, бесспорно, наведет советское военно-морское командование на верный след.
С Егорычевым согласились, но не без некоторого раздражения. И не столько огорчало, что не прошел их текст (Егорычеву удалось убедить их в своей правоте), сколько то, что уже в который раз приходилось принимать его предложение. Хорошо еще, что при этом не присутствовал Смит.
От огорчения Фламмери и Цератод завалились спать. Мообс остался бодрствовать, чтобы вертеть рукоятку генератора, а Егорычев присел за дощатый, крытый клеенкой столик, чтобы записать заранее текст, и очень хорошо сделал. В ходе записи выяснилось, что он от волнения позабыл несколько знаков. Пока он их вспоминал, пока записал и вторично проверил написанное, часы барона Фремденгута, висевшие над столиком на тонкой золотой браслетке, показали без двух минут полночь.
— Давайте крутите, Мообс! — сказал Егорычев, уселся поудобней перед передатчиком и взялся большим и указательным пальцами правой руки за телеграфный ключ.
Ровно в двадцать четыре ноль ноль он начал передавать свою радиограмму. На часах радиостанций, исчислявших время по гринвичскому поясу, стрелки показывали Четыре часа две минуты утра: часы барона Фремденгута отставали на две минуты.
Трижды передав радиограмму, Егорычев отпустил Мообса спать. Мообсу надлежало еще затемно сменить Смита. Егорычев мог бы и сам прилечь, но нервы его были сильно взбудоражены, и ему было не до сна. До трех часов он для практики в немецком языке читал какой-то бульварный роман, затем вышел подышать свежим воздухом.
Луна уже давно закатилась. Где-то внизу еле различалась в темноте сонная бухта. Сколько десятков или даже сотен лет в нее не заходило ни одно судно с Большой земли? И кто знает, сколько еще дней, месяцев или лет пройдет, пока такое судно в ней, наконец, появится?
Егорычев устало вздохнул, потянулся так, что хрустнули плечевые суставы, и пошел будить Мообса. Подождав, пока Смит вернулся в пещеру, он разделся и лег.
Рукоятку от генератора он на всякий случай спрятал у себя под подушкой.
Меньше чем через минуту он уже спал.
Так закончился второй день его пребывания на острове.
VII
Того же седьмого июня, в начале восьмого часа вечера, то есть почти за пять часов до того, как Егорычев начал передавать свою радиограмму, в одном из кафе на главной улице Рио-де-Жанейро — Авенида Рио-Бранко — сидел поджарый невысокий синьор лет под тридцать пять. У него были зачесанные назад черные волосы, темно-карие глаза, сильно загорелое лицо с крупным прямым носом. И все же любой бразильеро безошибочно признал бы в нем не коренного жителя Бразилии. Синьор был одет достаточно прилично и в то же время достаточно скромно, чтобы не бросаться в глаза. Он был спокоен тем особенным, чисто профессиональным спокойствием, которое отличает человека, вынужденного постоянно держать себя в руках и тщательно скрывать свои истинные чувства. Его фамилия была Шмальц, Это был тот самый доктор-инженер Гуго Шмальц, постоянный военно-политический обозреватель немецких передач Бразильской радио-корпорации, последние строки доклада которого сегодня слышали люди в пещере на острове Разочарования.
Перед доктором-инженером стояла на маленьком мраморном столике крошечная чашечка кофе. Бразильеро предпочел бы, пожалуй, в такой душный вечер кружку пива со льдом. Но Шмальцу не нравилось местное пиво.
Дверь кафе была по случаю жары распахнута настежь, часть столиков вынесена прямо на тротуар.
Рядом со Шмальцем, за соседним столиком расположились сухонький старичок, в котором, несмотря на штатскую одежду, легко было угадать старого военного, и тучный немец с сигарой в зубах, типичный преуспевающий коммерсант. У стены на специальной тумбочке поблескивал радиоприемник.
Все трое с напряженным вниманием слушали известное уже нам объявление торгового дома «Грабенауэр и сыновья» о временном прекращении операции по причинам л т. д.
Видимо, объявление это имело для них исключительно важное значение. Во всяком случае тучный немец заметил, что в руке у него догорела зажженная спичка, только тогда, когда она обожгла ему пальцы.
— О, майн готт! — невольно вздохнул Шмальц, когда диктор перешел к следующему объявлению.
— Спора нет, — отозвался старичок, — бывают положения поприятней. Раз они решились наконец открыть свой второй фронт, значит дело зашло достаточно далеко…
— Полководческий гений фюрера… — высокопарно начал тучный немец, но старичок продолжал, не обращая на него никакого внимания:
— Значит, и английским и американским генеральными штабами признано, что русские уже прекрасно могут обойтись и без их помощи.
— Но полководческий гений нашего победоносного фюрера… — попытался было снова вступить в разговор тучный немец, и снова ни Шмальц, ни старичок словно и не слышали его.
Старичок приподнялся со стула. Встал и Шмальц.
— Вы должны нас извинить, герр Штаубе, — снисходительно кивнул старичок коммерсанту, — нам с доктором Шмальцем придется покинуть вас по одному весьма неотложному делу.
Они вышли, оставив гера Штаубе наедине с его печальными мыслями, а сами уселись в машину Шмальца. Шмальц сел за руль. Старичок поместился рядом с ним. Машина вынесла их на полутемную боковую улицу, обсаженную пальмами, листья которых под легкими порывами ветерка потрескивали, как кастаньеты.
— Для радио-обзоров, — начал старичок без всякого вступления, — установка на ближайшее время: наше положение серьезно, но далеко не безнадежно. Подчеркивайте возможность разногласий между русскими и англосаксами… Между нами говоря, капитан, эта война нами, конечно, проиграна. Эта война, но не будущая… Русские будут после победы костью в горле англосаксов, и тут господам англосаксам без нас не обойтись… Ясно?
— Ясно, господин полковник, — сказал Шмальц.
— В дальнейшем связь держать по варианту семьдесят восемь дробь четырнадцать.
Шмальц невольно вздохнул.
— Слушаюсь, господин полковник.
— Теперь проникнитесь сознанием, что вам никогда не давалось более важного задания…
Полковник стал шептать Шмальцу на ухо какие-то цифры, послышалось слово «координаты», и снова пошли какие-то цифры. Потом он приказал Шмальцу повторить. Шмальц на ухо полковнику повторил.
— Правильно, — сказал старичок. — Посылайте туда «Кариоку». Задача: взять три ящика и четырех человек во главе с майором Фремденгутом. Ящики отвезти… — он снова перешел на шепот, — людей… — он прошептал Шмальцу на ухо, куда следует отвезти людей. — Позывные для Фремденгута — песенка «Ойра-ойра»… Помните, все должно быть сделано для того, чтобы доставить их целыми и невредимыми. Я говорю в первую очередь об этих ящиках. Это наш очень большой козырь во время будущих мирных переговоров…
В ночь на десятое июня, после того как были приняты все три варианта объявления фирмы «Грабенауэр и сыновья», из гавани Рио-де-Жанейро вышла парусно-моторная шхуна «Кариока». Во втором часу ночи она легла курсом на остров Разочарования.
VIII
Утром восьмого июня капитан санитарной службы Роберт Д. Фламмери встал раньше обычного, торжественно и величаво совершил небольшую прогулку, чтобы собраться с мыслями. Затем Мообс помог ему вынести столик под сень высокого и старого дерева с очень гладкой корой, блестевшей, как скорлупа свежесорванного спелого каштана, и Фламмери сел бриться. Вскоре рядом с ним пристроился с той же целью майор Эрнест Цератод.
Метрах в пятнадцати, под другим деревом, улегшись животом в густой траве, писал свою заветную книгу Джон Бойнтон Мообс. Писание давалось ему с трудом. Он вздыхал, ерошил волосы, ворочался, стараясь устроиться поудобней, то и дело встряхивал ручку, хотя чернила и без того подавались вполне удовлетворительно, зевал. Конечно, он мог бы куда удобней писать за столом в пещере, но в пещере было душно, писать пришлось бы при свете «летучей мыши», а главное, нельзя было бы подслушать, о чем будут вести разговор Фламмери с Цератодом или с Егорычевым, потому что по всему было видно, что Фламмери собирается предпринять что-то важное.
Смит, сидя на камне у входа в пещеру, чистил закопченное ламповое стекло. Как существо социально низшее, он в данный момент не интересовал ни Фламмери, ни Цератода.
Бритье происходило в полном молчании.
Обрызгиваясь одеколоном, Фламмери, первым кончивший бриться, нарушил наконец молчание.
— Хорош этот Егорычев, нечего сказать!.. Человек поздравляет его с открытием второго фронта, а он в ответ только ухмыльнулся… Бред какой-то!
— По справедливости говоря, не такой уж бред, — с удовольствием вступился за истину Цератод. — Он видит в открытии второго фронта доказательство того, что теперь уже Советы могли бы обойтись и без нас. И, между нами говоря, ведь это так и есть, если судить по вашим словам…
— Так-то оно так. Но вежливые союзники на это не намекают.
— У русских другие представления о вежливости и…
— И сколько нам еще придется терпеть соседство этого хама! — * поморщился Фламмери. — Вдруг господу угодно будет продержать нас на этом острове месяцы… или даже годы?.. Бр-р-р!.. Кстати, где он сейчас?
— Господь? — осведомился Цератод с пленительным простодушием.
— Нет, Егорычев, — отвечал Фламмери с еще более пленительной кротостью.
— А-а-а, Егорычев! Рыщет где-нибудь поблизости. Сутки не давал спать людям, выстукивая пещеру, сейчас мешает спать ящерицам, роясь в кустах.
— Мообс, — сказал Фламмери, — пригласите-ка сюда Егорычева! Но как раз в это время Егорычев и сам появился на лужайке, усталый, вспотевший, в ботинках, мокрых от росы и облепленных комьями жирной земли.
— Можно вас к нам, Егорычев? — крикнул Фламмери. Егорычев выбрал местечко посуше, с удовольствием опустился на траву, оперся спиной о прохладный ствол могучего дерева и стал не торопясь счищать землю с ботинок.
Как ни старался Фламмери представиться совершенно спокойным, видно было, что он в весьма приподнятом настроении.
Егорычев вопросительно глянул на него, и Фламмери, откашлявшись, начал так:
— Мистер Егорычев, мистер Цератод, сэр! Я не вправе скрывать от вас, что вот уже двое с лишним суток на коленях возношу всемилостивейшему господу нашему молитвы, прося просветить и наставить меня, как поступить, чтобы наилучшим образом удовлетворить его пожелания насчет острова, на котором мы сейчас с вами находимся… Двое с лишним суток горячих молитв, джентльмены! Обращаю ваше внимание: двое с лишним суток без сна и покоя!..
При этих словах все еще не кончивший бриться майор Эрнест Цератод глянул на него с нескрываемой подозрительной усмешкой. Мообс — с восхищением и заблаговременным одобрением, капитан-лейтенант Константин Егорычев — с недоумением. Егорычев еще не догадывался, к чему Фламмери клонит свою речь. Но тот как бы не замечал обращенных на него и столь разноречивых взглядов, точно так же, как не обращал внимания ни на солнечные зайчики, пробивавшиеся сквозь густую и тяжелую листву, чтобы поплясать на его Загорелой и сытой физиономии, ни на одинокого тучного шмеля, упорно кружившего вокруг его седовласой головы, ни на невообразимо пеструю пичужку, устроившуюся на веточке почти напротив глаз мистера Фламмери и все нацеливавшуюся, как бы ей половчей проглотить этого пленительного жирного шмеля.
Между тем мистер Фламмери говорил, все более воодушевляясь:
— И вот сегодня ночью на меня снизошло просветление. Я сам не знаю, как это произошло, но это было так: «Роберт Фламмери, — сказало мне что-то властное, могучее и неоспоримое, — ты не смеешь отказываться от нового тяжкого бремени, которое провидению угодно возложить на тебя и на твой народ. Пусть спутники твои по бранным делам и страданиям узнают из уст твоих, что на твои слабые плечи возложена ответственность перед богом и человечеством за этот несчастный остров, коснеющий в дикости, суетности и языческой безнравственности…»
— Что такое?! — нехорошо и совсем не набожно улыбнулся Цератод, медленно приподнимаясь с камня, на котором он было устроился после бритья. — Вы уверены, капитан Фламмери, что все Эти чудеса вам не приснились?
— Уверен, майор Цератод, — кротко ответствовал капитан Фламмери. — Мне это никак не могло присниться. Я провел бессонную ночь в молитве. Я вам все передаю с документальной точностью.
Егорычев молчал. Он решил не спешить и послушать, что будет дальше.
— Я ожидал такого разговора, — проницательно заметил Цератод и снова уселся на камне. — И почти уверен был, что он начнется с чего-нибудь божественного. Что ж, это вполне допустимый прием.
Капитан Фламмери насупил брови, давая понять, что он шокирован такими святотатственными словами. Но Цератод не счел нужным учесть мимические упражнения своего достойного собеседника.
— Но мне кажется, — продолжал он как ни в чем не бывало, — что эффектная, хотя и не всегда эффективная ссылка на волю провидения, которую, понятно, чрезвычайно трудно проверить документально, в настоящем случае не необходима. Мы с вами достаточно подготовлены для деловой и безупречно логической беседы, чтобы спокойно обойтись без потусторонних мотивировок…
— Сэр! — счел нужным подать свой голос капитан Фламмери, но майор Цератод пропустил мимо ушей этот односложный укор, насыщенный благородством, святостью и бескорыстием, как грозовая туча электричеством, или, если хотите, как бумажник делового человека банковскими билетами.
По лицу Мообса можно было в точности проследить чувства, владевшие его могущественным земляком. Сейчас оно выражало раздражение пополам с кротостью.
Егорычев молчал. Он почувствовал себя как бы на крохотной мирной конференции, на которой ему надлежало выступить в качестве представителя советской державы, представителя коммунизма в стане империалистов. Ему была с самого начала ясна позиция, которую он должен занять, но хотелось получше обдумать, отточить свои слова. Вот уж никогда не думал ни он, ни многочисленные его друзья, знакомые и родичи, что придется ему, Косте Егорычеву, без специальной подготовки, без консультации с более опытными товарищами выступить в роли дипломата. Однако выбора не было. Егорычев был на этом острове единственным представителем советского народа, и он не мог не выступить с мнением, которое выражало бы мнение его народа. Но Егорычев решил повременить со своим выступлением. Пускай другие выскажутся до конца, а тогда уже скажет свое слово он.
— Я полагаю, — стал развивать свою мысль Цератод, — что прежде всего нам надлежало бы установить, не делим ли мы собственность, которая уже давно имеет хозяина.
«Вот именно! — подумал Егорычев. — Про хозяина-то и забыли!»
— В самом деле, позволю себе обратить ваше внимание, сэр, на местное негритянское население.
«Неужели эта лиса и вправду становится на сторону негров?» — поразился Егорычев, но последующие слова Цератода показали, что никаких изменений в мировоззрении майора не произошло и что капитан-лейтенант Егорычев правильно сделал, не поспешив высказать вслух свое одобрение.
— Вас не удивило, джентльмены, — обратился Цератод уже не только к Фламмери, но и к остальным двум присутствующим, — что местное население разговаривает по-английски и только по-английски? Вы не пробовали задать себе труд разобраться, каким образом Этот язык, вопреки всем нашим прежним представлениям о дикарях, оказался родным языком туземного населения острова, заброшенного в неведомых просторах огромного океана? И не кажется ли вам, что единственным закономерным и логически обоснованным объяснением было бы, что эти негры, или, скорее всего, их более или менее отдаленные предки, бежали на этот остров от своих английских хозяев? Попробуйте только на минутку согласиться с таким предположением, и все становится на свое место. В таком случае совершенно бесспорно, что остров должен принадлежать той нации, тому государству, гражданам которого эти беглые рабы принадлежали, то есть в данном случае Англии, Соединенному королевству Британии и Северной Ирландии. Я хотел бы только в заключение обратить внимание моих уважаемых друзей на вошедшее в пословицу бескорыстие Англии. Она никогда не заявляет претензий на то, что ей не принадлежит по праву, и если Англия на что-либо претендует, то, можете быть уверены, она имеет на это самые убедительные и неопровержимые права.
Он вытер вспотевшую лысину синим клетчатым носовым платком майора Фремденгута и приготовился слушать возражения Фламмери,
— Я был бы счастлив, — сказал Фламмери, — если бы вы оказали мне честь выслушать соображения по поводу вашей речи, равно блестящей как по форме, так и по логике и глубокой своей содержательности.
Цератод вежливо кивнул в знак согласия, и Фламмери начал так:
— Мне показались весьма ценными заключения, высказанные вами, сэр, по поводу языка, на котором говорят туземцы этого острова. Но не согласитесь ли вы, сэр, что в последующих частях вашей речи логика на время изменила своему любимцу? В самом деле, не вошло ли в пословицу не только бескорыстие Англии, но и безмятежное благоденствие, в котором пребывают все ее подданные вне зависимости от цвета их кожи? А если это так, — а я не имею ни оснований, ни желаний сомневаться в соответствующих заявлениях министров его величества, — то какие побуждения могли бы толкнуть чернокожего, подданного его величества, бежать от сытой, счастливой и беззаботной жизни куда-то, пардон, к черту на рога, на какой-то остров, где нет не только пекущихся о его счастии чиновников британской короны, но даже самых обыкновенных христианских штанов? Не проще ли будет предположить, что эти негры бежали оттуда, где они живут так, как и полагается цветным? Я имею в виду Соединенные Штаты Америки. Я призываю в свидетели всевышнего, что если есть на всем земном шаре местечко, которым эти существа почему-то особенно недовольны, так это именно Штаты. Всякая другая, более злопамятная и менее великодушная нация брезгливо отвернулась бы от таких непомерно требовательных граждан. Но, видно, Америке суждено небом нести тяжкий крест белого человека, и мы будем нести его с покорностью и ровно столько, сколько это будет угодно господу. Больше того, мы будем до последних сил, а если потребуется, то и с оружием в руках защищать наше священное право преимущественного несения этого божественного бремени, и мы считали бы трусливым и бесчестным поступком уступить кому-нибудь часть этого тяжкого труда и ответственности. Поэтому мне, как деловому человеку и гражданину государства, которому принадлежали беглые предки этих негров, а следовательно, и они сами, ничего не остается, как взять под свое покровительство всех туземцев этого острова, просветить, возвысить и цивилизовать их, преподать им христианскую веру, так как они наши братья, и Христос умер и ради них. Я кончил, джентльмены.
— Браво! — воскликнул Мообс. — Я горжусь, сэр, что принадлежу к одной нации с вами!
Фламмери презрительно промолчал. Он непринужденно прислонился к могучему и гладкому стволу дерева, под сенью которого происходило это примечательное собеседование, учтиво улыбнулся молчавшим слушателям и приготовился к возражениям со стороны Цератода.
Солнце уже успело подняться довольно высоко. Небо заметно посветлело. Поверхность океана была покрыта мириадами ослепительных, зайчиков и походила на кипящее серебро. Гравий на берегу бухты подсох и стал совсем белым. На нем тоненькими черточками чернело несколько туземных лодок, около которых деловито суетились негры, возвратившиеся с рыбной ловли. Облачко крошечных белых комочков возникло из-за светло-зеленых пальм, окружавших Новый Вифлеем, и вскоре растворилось между деревьями, которые покрывали склоны холмов, начинавшихся сразу за околицей. Это пастухи вывели на пастбище общинные стада коз. Над скрытыми за пальмами хижинами подымались голубоватые столбики дыма. Легкий бриз уносил этот дым, аппетитно пахнувший незатейливым варевом, в темно-зеленые мохнатые горы.
И никто еще там, внизу, не подозревал, что они доживают последние дни мирной жизни. Местные поэты, — ибо были на острове Разочарования поэты, слагавшие после удачной рыбной ловли, после уборки богатого урожая и по многим другим случаям песни, — местные поэты сложили бы гневные строфы о том, как решалась судьба последних нескольких сотен свободных людей с черным цветом кожи, если бы они знали о споре, разгоревшемся там, наверху, возле Священной пещеры, между двумя немолодыми и страшно вежливыми белыми.
А возможно, хотя и чрезвычайно маловероятно, что какой-нибудь трудолюбивый английский или американский историк второй мировой войны уделит несколько строк событиям, развернувшимся на острове Разочарования с восьмого по тринадцатое июня сорок четвертого года.
«В тот день, — напишет он, — еще шли споры о том, чей флат должен по праву развеваться над этим островом — британский, американский или оба вместе. Но уже было предрешено, по крайней мере двумя англо-американскими офицерами, что остров Разочарования, хотят или не хотят того его аборигены, решительно и навсегда включается в семью цивилизованных народов. Причем уже от самого туземного населения зависело, чтобы это произошло наиболее безболезненно, с наименьшими потерями. И если намерения представителей англосаксонских стран не сразу и не во всем удалось претворить в жизнь, то причины тому лежали в ряде обстоятельств, от них не зависевших».
Но вернемся к непосредственному описанию этих во всех отношениях примечательных событий.
— Разрешите мне, сэр, считать, — сказал Цератод, обращаясь непосредственно к мистеру Фламмери, — что правдивость — самый общедоступный и общепринятый вид вежливости. И позвольте мне поэтому, сэр, быть в нашем дружеском споре правдивым, насколько Это позволяет мое глубокое и искреннее к вам уважение. Мне хотелось бы прежде всего обратить ваше внимание на тот факт, что население настоящего острова в некотором смысле в курсе творчества великого английского драматурга Вильяма Шекспира. Уже одного этого обстоятельства было бы за глаза достаточно, чтобы опрокинуть на обе лопатки ваши попытки вести родословную местного населения от беглых американских негров.
— Почему? — перебил его Фламмери. — Объясните, прошу вас, почему, если это не секрет.
— Потому, сэр, что даже среди ваших сенаторов немного найдется таких, которые смогли бы толково определить разницу между Гамлетом и Фальстафом, Офелией и Отелло, а большинство ваших деловых людей знает о Шекспире не больше, чем здешние жители О курсе акций «Стандарт ойл оф Нью-Джерси». Где уж тут в таком случае говорить о ваших неграх! Это первое. Второе. Признаться, сэр, мне было смешно слушать ваши наивные, да будет мне прощено такое резкое выражение, но именно наивные ссылки на обстоятельства жизни американских негров, как на бесспорное доказательство американского происхождения местных.
Я принужден, сэр, платить откровенностью за откровенность. Я не хочу сказать больше, чем то, что в силу ряда обстоятельств, о которых сейчас не время и не место говорить, существует в пределах Британской империи вполне достаточное количество территорий, откуда цветное население имеет, во всяком случае, не меньше побуждений к побегу, чем американские негры. Я весьма рад, что могу в этом вопросе выступать не с голословными заявлениями, как это сделал мой бесценный друг мистер Фламмери, а с полным знанием конкретной обстановки и с любым количеством цифр и фактов. Я буду говорить только о тех территориях, где население состоит из чернокожих. Я буду говорить о Британской восточной Африке, о Кении, Уганде, Занзибаре, острове Маврикия, Ньясаленде, острове Святой Елены, острове Вознесения, островах Тристан-да-Кунья, Сейшельских островах, Сомалиленде, Базутоленде, Бечуаналенде, Северной и Южной Родезии, Свазиленде, Нигерии, Гамбии, 3олотом Береге, Сиерра Леоне, Танганьике, Британском Тоголенде и Камеруне, Англо-Египетском Судане, острове Барбадос и острове Ямайка, Подветренвых и Наветренных островах, островах Фиджи, островах Тонга, островах Питкерна, Эллис, Ново-Гебридских, территории Папуа, Новой Гвинее, Западном Самоа, Науру, Юго-Западной Африки…
Цератод остановился, чтобы перевести дыхание. Он раскраснелся от волнения. Его голос то и дело перебивало что-то вроде спазмы. У него дух захватывало от гордости, от того, сколькими колониями владеет Британская империя.
Затем он стал взахлеб перечислять подробности беспросветно мучительной жизни, на которую обречено коренное население британских колоний. Пеллагра, туберкулез, фрамбезия, малярия, желтая лихорадка, детская дистрофия, анкилостомоз, хронический голод, чудовищная детская смертность, почти поголовная неграмотность, вопиющее бесправие, — все эти козыри швырялись Цератодом на стол с напористостью и запалом игрока, имеющего что предъявить своему партнеру.
Мообс не выдержал. Он крикнул:
— Вы забыли о том, что у нас неграм нельзя попасть на квалифицированную работу, что им нельзя ездить в одном вагоне с белыми, нельзя заходить в рестораны белых, нельзя проживать в кварталах белых, нельзя брать воду из одного колодца с белым, что среди них чудовищно высок процент неграмотных!
Цератод снисходительно улыбнулся.
— При существующих темпах прогресса потребуется не менее семисот лет на то, чтобы туземцы хотя бы только 3олотого Берега научились читать и писать на родном языке, или три тысячи пятьсот лет, если принять во внимание естественный прирост населения.
— А суд Линча? — продолжал наступать Мообс.
— Кустарщина! — презрительно отмахнулся Цератод. — Суд Линча — быстрая смерть. Я бывал в ваших южных штатах. Нищета? Да. Бесправие? Безусловно. Террор со стороны белых? Бесспорно. Болезни, хилое, полуголодное черное население? Трудно возразить. Но что вы скажете о медленной, растянутой на несколько лет смерти? Где, кроме, британских, колоний, вы увидите людей, едящих землю, траву, листья, целые семьи, которые продают себя в рабство для того, чтобы получить возможность жить не сытой, но хоть немного менее голодной жизнью?
Егорычев слушал эту дискуссию не без некоторой оторопи. За время знакомства со своими спутниками он привык к их обтекаемым и обильно уснащенным елеем лицемерным речам, и та легкость и упоение, с которыми они теперь в борьбе за власть над островом Разочарования хвастали страшной жизнью «своих» чернокожих, произвели на него поистине оглушающее впечатление.
Он сидел и слушал этот спор и думал, поверили бы его товарищи, если бы он им рассказал об этой схватке двух христианнейших джентльменов, и вынужден был признать, что скорее всего не поверили бы. Лицо его, приученное за последние дни сохранять по возможности вежливое и, во всяком случае, спокойное выражение, невольно перекосилось, как от сильной зубной боли.
— Вы, кажется, хотели что-то сказать, мистер Егорычев? — любезно осведомился Фламмери, не придумавший еще пока, что возразить Цератоду и рассчитывавший найти в высказываниях Егорычева если и не поддержку своей линии, то уж, во всяком случае, и не поддержку притязаний Цератода.
IX
— Прежде всего я считаю необходимым пригласить сюда Смита, — сказал Егорычев.
— Стоит ли? — протянул Цератод с видимым неудовольствием. Он предпочел бы, чтобы «эта грязная кухня дипломатии» осталась неизвестной Смиту.
— Стоит, — сказал Егорычев. — Я не вижу причин, почему такой важный вопрос должен и может решаться в отсутствии полноправного члена нашей группы.
— Пожалуй, и я тоже сейчас не вижу таких причин, — присоединился к Егорычеву Фламмери. Как трезвый политик, он учитывал, что капитан-лейтенант все равно будет настаивать на своем и что, главное, Цератоду явно не по душе присутствие Смита. — Демократия всегда требует известных жертв, и я согласен на них пойти.
— И я тоже, — сказал Мообс.
— Может создаться представление, что я против приглашения Смита, — поспешил Цератод с разъяснением. — Просто я не уверен, что нужно забивать голову этого простого и славного парня такими серьезными и, в сущности, отвлеченными вопросами.
— Нужно, — сказал Егорычев. — Он не глупее любого из нас, не хуже любого из нас может разобраться в политике и не менее любого из нас заинтересован в том, чтобы она была правильной. Я уже не говорю о том, что он сыграл решающую роль в освобождении острова от эсэсовской банды.
— Я отнюдь не против приглашения Смита! Боже мой, какое может быть сомнение в этом вопросе! — с жаром повторил Цератод и замахал своими короткими толстыми ручками: — Смит! Смит! Идите, дружище, сюда! Тут заварился очень интересный разговор!.. Ну, идите же, не дичитесь!..
Так у Смита было создано впечатление, будто его пригласили не вопреки желанию его земляка и коллеги по профсоюзу, а по его настоянию.
Он не спеша приблизился, с каменным лицом глубоко уязвленного человека, небрежно оперся о дерево и приготовился слушать. Теперь все глаза были устремлены на Егорычева.
— Мистер Цератод, — начал Егорычев, — привел тут очень убедительные факты и цифры о положении негров несамоуправляющихся территорий Британского содружества наций. Эти факты и цифры в высшей степени трагичны и убедительны.
Цератод, не ожидавший поддержки Егорычева, был приятно удивлен.
— С другой стороны, — продолжал Егорычев, — трудно отрицать, что для негров, не имеющих мужества бороться за свои права, более чем достаточно оснований, чтобы очертя голову бежать и из Соединенных Штатов Америки. Я не знаю, нужно ли мне более подробно высказывать свое отношение к вопросу о положении негров, прочих так называемых «цветных» и «неполноценных расовых и национальных групп» в Соединенных Штатах и Британской империи? Я советский человек, коммунист, и этим, надеюсь, все сказано.
— Бесспорно! — быстро согласился Цератод. — Точка зрения коммунистов нам вполне известна.
— Очень рад, — сказал Егорычев. — Итак, если исходить из того, что остров и его население должны принадлежать тому государству, из которого сбежали от рабского бесправия и голода предки нынешнего населения, то на остров Разочарования, на мой взгляд, имеют в равной степени права и Соединенные Штаты Америки и Соединенное королевство.
— Он слишком мал, чтобы делить его на две половины! — перебил Егорычева Мообс.
— А я и не считаю, что его нужно делить на две половины, ни на три, четыре, или сколько там угодно частей. Я вообще полагаю, что делить его не к чему… Был такой писатель. Его звали Сервантес. Он написал «Дон-Кихота»…
— Уж не будете ли вы пересказывать нам содержание этого фильма? — снова перебил Егорычева Мообс, подбодренный кислым выражением лица своего покровителя.
— Не мешайте оратору! — одернул его Фламмери. — Где вы воспитывались?..
— Сервантес не то семь, не то десять лет был рабом у мавров. Значит ли это, что… Впрочем, зачем ходить так далеко! Мой прадед был рабом, крепостным графов Шереметьевых…
Фламмери не смог скрыть, что это известие его сильно покоробило.
Смит посмотрел на Егорычева с живейшим любопытством.
«Прекрасная деталь для моей будущей книги! Правнук раба — советский морской офицер! — подумал Мообс. — Эту деталь можно будет отлично обыграть!»
— Где-то за границей, чуть ли не в Лондоне, доживает свои дни в качестве тапера в публичном доме один из последних Шереметьевых. Значит ли это, что он имеет основания предъявить права собственника на меня и на моих детей? (Егорычев собирался обзавестись детьми, лишь только кончится война.)
— Мы уклоняемся от темы, мистер Егорычев, — заметил Цератод.
— Нисколько.
— Крепостное право давно отменено в России, и, следовательно, всякие претензии, основанные на этом отмененном праве, лишены каких бы то ни было оснований.
— А разве рабство не отменено в Соединенных Штатах и Соединенном королевстве?
— Вы страшно упрощаете, — сказал Фламмери.
— Вот именно, — поддержал его Мообс.
— Сразу видно, что у капитан-лейтенанта Егорычева нет навыков дипломатической деятельности, — тонко улыбнулся Цератод.
— Очень может быть. Я на них и не претендую. Зато у меня имеются серьезные навыки в справедливости и здравом смысле.
— Мне грустно отмечать это, но капитан-лейтенант Егорычев, кажется, начинает горячиться, — снова улыбнулся Цератод.
— Нисколько. Итак, будем считать, что раз рабство отменено и официально, по крайней мере в его неприкрытой форме, преследуется законом и в Англии и в Америке, то незаконны и самые ссылки на то, откуда бежали, если действительно бежали, предки современного населения острова. Имеются ли какие-нибудь другие, более реальные, я уже не говорю более законные, доказательства принадлежности острова Америке, Англии или другой державе? Ровным счетом никаких. Остров не иголка. Его не потеряешь. На географических картах в нынешние времена отмечаются острова куда мельче нашего. Остров Разочарования на картах не значится.
— Нужно быть реальными политиками, сэр! — не выдержал Фламмери. — Есть остров, не отмеченный на карте и занятый представителями цивилизованных стран. Если у него нет государственной принадлежности, наше дело определить ее.
— Даже остановившиеся часы дважды в сутки показывают правильное время, — усмехнулся Егорычев. — Сегодня майор Цератод высказал мысль, под которой я обеими руками подписываюсь: Он сказал примерно следующее: «Прежде всего нам надлежало бы установить, не делим ли мы собственность, которая уже давно имеет хозяина». Я правильно передаю вашу мысль, мистер Цератод?
— Что-то в этом роде, — буркнул Цератод.
— И не сказали ли вы, что позволяете себе обратить наше внимание на местное негритянское население?
— Что-то в этом роде, — снова буркнул Цератод. — Только вы лишаете мою мысль развития.
— Наоборот, я очищаю ее от бездоказательной и неправомерной шелухи и сохраняю ее рациональное зерно. У острова есть единственный и законный хозяин. Это его население.
— Оно не способно к самостоятельной политической жизни! — перебил его Цератод. — Это ясно любому нетенденциозному человеку.
— Считайте меня, если вам угодно, тенденциозным…
— Коммунисты все тенденциозны! — крикнул Мообс и впервые за всю дискуссию удостоился благосклонной улыбки мистера Фламмери.
— …Считайте меня хоть тысячу раз тенденциозным, но я все же не пойму, почему народ, самостоятельно просуществовавший, по всей вероятности, весьма значительное время без всяких заморских наставников, вдруг оказывается неспособным к самостоятельной политической жизни, и почему он оказывается в таком беспомощном состоянии, лишь только по соседству с ним оказываются один или несколько американских, или английских джентльменов, склонных округлить колониальные владения их государств.
Фламмери вне себя от негодования вскочил на ноги.
— Вы материалист, сэр! Вас научили видеть в поступках других лишь корыстные побуждения. И это вам всегда будет мешать в жизни, сэр!
— Следует ли это мне понимать в том смысле, что вы печетесь прежде всего о пользе ближних?
— Разве я давал вам, мистер Егорычев, основания предполагать обратное?
— Так почему бы вам не осведомиться у самих ближних, нуждаются ли они в вашем служении, пусть даже и бескорыстном?
— Что ж, не исключено, что и спросим, — ответил Фламмери и вдруг, совершенно успокоившись, опять полуприлег на высокую и душистую траву.
Снова вступил в бой Цератод:
— Очень трудно обсуждать серьезные вопросы с человеком, которого с детства воспитывали в материалистическом духе…
— Не помню где, кажется в какой-то английской книге, я читал, что есть идеалисты, которые идеализируют только реально существующее, и есть материалисты, которые реализуют идеальное, — прервал его Егорычев.
— И я не помню, — сухо заметил Цератод. — Вам не кажется, что вы меня перебили?
— Прошу прощения, — сказал Егорычев. — Это в первый и последний раз. Меня сегодня перебивали раз десять… Вспомнил! Это в книге Вудворда. Она называется «Вздор».
— Очень может быть. Но мне некогда читать разный вздор! — отпарировал Цератод. — Все свое время я без остатка посвящал и посвящаю защите интересов транспортников и неквалифицированных рабочих. Чтение романов — недоступная для меня роскошь.
Фламмери понравилось, как Цератод «отбрил этого мальчишку Егорычева». Он одобрительно улыбнулся.
— Здорово сказано! — крикнул Мообс, изменяя по этому случаю своей давней антипатии к англичанам.
Улыбнулся и Смит. Ответ Цератода показался ему полным достоинства.
— Я поздравляю мистера Цератода с признанием его заслуг такими проверенными друзьями рабочего класса, как мистер Фламмери и Джон Бойнтон Мообс, — сказал Егорычев, и Смит подумал, что одобрение со стороны этих двух джентльменов и в самом деле не такая уж лестная оценка для деятеля профсоюзного движения.
— Вы мне разрешите продолжать, мистер Егорычев? — раздраженно осведомился Цератод.
— Прошу прощения.
— В таком случае я позволю себе прежде всего выразить свое глубокое убеждение, что туземцам острова Разочарования нужно эффективное и работоспособное правительство, способное установить внутренний порядок, безопасность и справедливость. То, что мистер Егорычев склонен считать самоуправлением здешнего населения и порядком, на самом деле, то есть с точки зрения человека западной цивилизации, является беспорядком и анархией. Да, впрочем, откуда здесь было взяться подлинному самоуправлению? Я имею в виду самоуправление на базе представительных институтов, то, которое может быть установлено в итоге постепенного, длительного и на некоторых своих этапах небезболезненного процесса под постоянным и строгим присмотром и при непрерывной помощи старших братьев этого народа. Я подразумеваю в данном случае ведущие народы цивилизованного мира.
Вторично за последние два дня Цератод объявлял себя старшим братом островитян.
— Теперь предположим, что мы согласились с доводами мистера Егорычева. Допустим, что люди на острове явились не из английских колоний и не из Соединенных Штатов и что по этой причине ни Англия, ни Америка не могут предъявить права на этот остров как на свою исконную землю. Но у нас ведь имеются и приобретенные права. Остров отобран у эсэсовцев. Следовательно, он военный трофей. Что ж, давайте распорядимся им в строгом соответствии с нормами международного права, как с военным трофеем…
— Боюсь, что вы толкаете меня на не совсем тактичный разговор, — сказал Егорычев.
— Настоящий джентльмен никогда не опустится до бестактного разговора.
— Во-первых, военные трофеи, если их нужно делить, делятся между теми, кто их добыл… Может быть, все-таки лучше не продолжать?..
— Нет, почему же, — проговорил Цератод с кислой улыбкой, — продолжайте. Очень любопытно.
— Я бы никогда не напомнил об этом, если бы речь не шла о дележе независимого острова и населяющего его свободного народа на основании трофейного права. Но раз вы настаиваете, я принужден заявить, что остров освобождали от эсэсовцев только двое из присутствующих здесь…
— Ваша коммунистическая программа запрещает вам иметь колонии, — поспешно напомнил ему Мообс.
— Наша программа обязывает нас вести самую решительную борьбу против колониальных захватов… Повторяю, только двое из присутствующих здесь освободили остров от эсэсовцев. И я, как один из этих двоих, заявляю, что я рисковал своей жизнью и вовлекал в это опасное предприятие моего друга Сэмюэля Смита совсем не для того, чтобы остров из эсэсовской кабалы попал в скорбный список американских или английских колоний.
— Вы, кажется, собираетесь лишить голоса и Смита? — ядовито осведомился Цератод.
— Можно подумать, что не я, а вы настояли на том, чтобы пригласить мистера Смита принять участие в нашем разговоре, — холодно промолвил Егорычев.
Это был удар прямо в солнечное сплетение.
Что бы Цератоду промолчать! Но ему изменила обычная осторожность, и он не придумал ничего лучшего, как представиться, будто ему непонятно, о чем говорит Егорычев.
— Простите, — промямлил он, — я не совсем разобрал, что вам угодно было сказать.
— Мне угодно было сказать, что со стороны могло показаться, будто не я, а именно вы настояли на приглашении мистера Смита сюда на собеседование. Между тем именно вы возражали против моего предложения. Именно вы сомневались, стоит ли «забивать голову этому простому парню такими серьезными вопросами». Надеюсь, я не переврал ваши слова, мистер Цератод?
Вот сейчас, когда многое зависело от того, что скажет Цератод, он промолчал.
Лицо Смита снова приняло непроницаемое выражение.
Спасать положение взялся сам мистер Фламмери. Он быстренько вскочил на ноги и голосом, стоящим вне споров земных, возвестил:
— Все наши помыслы и дела, джентльмены, в руках господних. Мистер Смит, очевидно, хочет еще поразмыслить. Не будем его торопить… Кстати, к нам снова поднимаются какие-то чернокожие. Пойдемте же и встретим их. А когда проводим, наступит время выводить на прогулку пленных. Что же до основного вопроса нашего обсуждения, то мы оставляем за собой, сэр, право вести некоторые подготовительные разработки…
Егорычев то ли не слышал, то ли не счел нужным ответить. Между тем ссора с ним покуда еще не входила в расчеты Фламмери, Егорычев единственный изо всей группы мог поддерживать радиосвязь с внешним миром.
— Я горячо надеюсь, — сказал Фламмери, — что случайные и нерешающие разногласия никак не отразятся на нашей сердечной дружбе и взаимном уважении.
Егорычев утвердительно мотнул головой и направился к перемычке, откуда уже доносились громкие голоса новых гостей.
Цератод и Фламмери нарочно поотстали. Когда расстояние между ними и Егорычевым стало достаточно большим, Цератод в великой ярости прошипел на ухо все еще благостному мистеру Фламмери:
— Он меня ни во что не ставит, этот наглый монгол!
На что Фламмери с не менее великой скорбью ответствовал:
— Увы, я в полном отчаянии. Наши отношения с капитан-лейтенантом Егорычевым роковым образом ухудшаются с каждым днем, с каждым часом!
X
Джон Бойнтон Мообс был совсем не так прост, как казался или хотел казаться своим спутникам, и в первую очередь Фламмери и Егорычеву.
Его отец, старый газетный волк Хирам Ф. Мообс, живой, проворный, морщинистый, как шимпанзе, человечек с очень большой лысиной и очень маленькой совестью, зарабатывал пятьдесят тысяч в год на том, что старался убедить американцев в выгодности для них частной собственности на предприятия коммунального пользования. Речь шла об электрических станциях, внутригородском транспорте и водопроводе. Газовые и телефонные компании он не обслуживал.
Мы не будем настаивать, что сам Хирам Ф. Мообс свято верил в эту заведомую неправду. Глубоко и преданно он веровал только в акции «Юнайтед стейтс стил корпорейшн» и Вифлеемской стальной компании.
Однако в тысяча девятьсот двадцать девятом году, когда грянул кризис, Хирам Ф. Мообс с серьезным и непоправимым опозданием удостоверился, что, вкладывая сбережения в самые, казалось, солидные бумаги, он все же на пороге старости оказался таким же нищим, как и в начале своей неприглядной карьеры. Он пустил себе пулю в лоб, не дожидаясь, пока обманувшая его надежды черная металлургия Соединенных Штатов докатится до уровня тысяча восемьсот девяностого года. Для этого ему пришлось бы прождать еще около трех лет. Маленький Джонни — ему в день самоубийства отца едва минуло одиннадцать лет — остался с матерью, анемичной и уже немолодой дамой, в большой и неуютной квартире, за которую нечем было платить, и обставленной мебелью, за которую в те годы всеобщего разорения, по существу, ничего нельзя было выручить.
К тысяча девятьсот сорок четвертому году маленький Джонни успел вытянуться в здоровенного парня, который ни ростом, ни способностями нисколько не напоминал отца. Надо воздать ему должное: он и не был о себе сколько-нибудь высокого мнения. Зато вдова мистера Мообса была о своем детище вполне высокого мнения и пользовалась любым случаем, чтобы довести это заблуждение до сознания тех людей, которые могли бы, пожелай они этого, помочь встать на ноги сыну бедного старого Хирама.
Так Джон Бойнтон Мообс стал военным корреспондентом и отправился в Старый Свет без особых познаний, без всякого желании подвергать себя опасностям и без твердых убеждений и целей, если не считать твердого убеждения, что легче всего такому парню, как он, пробиться в люди — это, не имея никаких убеждений и твердой цели, использовать наиболее выгодным образом столь счастливое отсутствие у него убеждений.
Встреча на «Айрон буле» с мистером Фламмери принесла Мообсу второе в его жизни твердое убеждение, что именно в этой встрече может быть заложен прочный фундамент его будущего благополучия. С тех пор уточнилась и цель его жизни: всячески ублаготворять и обхаживать своего могущественного земляка.
Значит ли это, что Джон Бойнтон Мообс был совершенно законченным мерзавцем и что его душа была решительно защищена от всяких нерентабельных переживаний и побуждений? Отнюдь нет.
Поэтому не лишено интереса привести наряду с отрывками из книги, которую Мообс писал по предложению мистера Фламмери, также и несколько коротких выдержек из дневника, который он вел исключительно для собственного удовлетворения.
Еще не написанная книга Мообса называлась «Робинзонада с большевиком» и носила подзаголовок: «Необыкновенные похождения двух американцев, двух англичан и одного советского коммуниста на острове, не обозначенном на карте».
Что касается дневника, то он никак не назывался, даже дневником. В целях предосторожности Мообс вел его посредством стенографических знаков в обычной записной книжке. И то, что он таи тщательно скрывал не только его содержание, но и самое его существование от Фламмери, показывает, что он считал себя еще не вполне стопроцентным единомышленником своего высокого покровителя.
Впрочем, в этом легко убедиться, прочитав взятые наудачу отрывки из этого засекреченного дневника:
«…Это дьявольская работа. Надо пользоваться каждой свободной минутой, чтобы писать, писать «Робинзонаду». Она должна быть готова, когда за нами придет судно. Откладывать до возвращения в Штаты — самоубийство. Эти шакалы (так неуважительно называл Мообс-младший своих коллег по профессии) накинутся на старикашку (так называл про себя Мообс-младший свое божество — мистера Роберта Д. Фламмери), зальют ему баки и за это выкачают из него материала на полмиллиона слов. Мне за ними никак не угнаться. И тогда книжка моя летит ко всем чертям. А я еще не научился писать так, как нужно. Но писать так, как было, — все равно что издавать книгу тиражом в один экземпляр: ни одно порядочное издательство не издаст, и тогда хоть жди Следующего кораблекрушения. Старикашка со свистом умчится от меня на расстояние самой далекой звезды. И прощай, карьера!..
Правда — это вроде кока-колы. Но мне до зарезу требуется рыбий жир. Кока-кола вкусней, но толстеют только от рыбьего жира. Мне следует только хорошенько прочувствовать эту истину, и книжка пойдет у меня на всех парах.
А пока что меня, по совести, все время мутит. Егорычев — настоящий парень, мозги у него варят отлично, и только противно, что он якшается с этими чернокожими, но это, по-моему, недостаток всех русских. А, наверно, дьявольски приятно одернуть моего старикашку и наплевать ему в его постную физиономию. Для меня это остается на всю жизнь неосуществимой мечтой. Вряд ли, даже в случае удачной карьеры, я буду когда-нибудь стоить более пятидесяти тысяч в год. Для того чтобы плюнуть в физиономию моему старикашке, нужно иметь годового дохода не менее пятидесяти миллионов. Тогда для самого старикашки будет неосуществимой мечтой плюнуть мне в физиономию. Но пока что мечтать о таком удовольствии приходится мне. И я должен делать вид, будто мне нравится все, что он говорит, и что он делает, и что он думает. Знающие люди толкуют, что к этому в конце концов привыкают и что тогда это даже приятно. Значит, и я могу привыкнуть. Значит, я должен привыкнуть, если хочу иметь возможность хоть на старости лет поплевать кому-нибудь (конечно, не моему старикашке и даже не самым младшим его помощникам, но все-таки кое-кому) в умильно улыбающуюся харю.
Осточертело выскакивать вперед с самозабвенностью восторженного кретина только для того, чтобы старикашка еще раз удостоверился в твоей пока еще ничем не оплаченной, но уже беспредельной преданности. Вероятно, я немножко переигрываю, но пес с ним! Ему нравится, и ладно. Во всяком случае, лучше выглядеть в глазах Егорычева идиотом, нежели прохвостом. Ничего, привыкнем. Чем я лучше других?..
…И вот я снова в Буффало. Разодет, как принц. В бумажнике этакая приятная пухлость. Мои фотографии во всех газетах, во всех журналах, мое имя гремит во всех радиопередачах… Я вхожу к Пегги с огромным букетом самых дорогих и редких цветов. Ее сопливые родители теперь кидаются мне навстречу с распростертыми объятиями. Пегги… Впрочем, почему именно Пегги? Она слишком провинциальна для того, чтобы быть невестой короля американских репортеров Джона Бойнтона Мообса. Ее фотографии будут слишком невыразительны для газетной полосы. Вы подберете себе, мистер Мообс, невесту пошикарней!.. Пожалуй, будет все-таки жаль бедняжку Пегги. Она так плакала, когда я уезжал!.. Ну что ж! Если бы ей в мое отсутствие подвернулся парень пошикарней, она бы тоже всеми своими десятью наманикюренными пальчиками ухватилась за свое счастье…
…Конечно, никак нельзя было согласиться с мнением Егорычева, Раз тебе повезло и ты обнаружил не отмеченный на карте остров, нужно быть болваном, чтобы не постараться прибрать его к рукам. Иначе эти чернокожие останутся в стороне от цивилизации. Это известно каждому нашему школьнику, хоть раз в жизни заглянувшему в учебник истории. Но есть что-то неприятное и обидное в том, что на этой точке зрения стоит не Егорычев, а мой старикашка и этот очкастый гусак (под этим обидным прозвищем подразумевался майор Эрнест Цератод).
…Попробуй, пойми этого Егорычева! Совсем не дурак как будто, и вдруг ни с того ни с сего брякнул, что он правнук раба. Зачем ему это было? Ведь его никто не тянул за язык.
Это как если бы я вдруг стал рассказывать про своего дедушку-жестянщика. Хорош бы я был в глазах старикашки, да и любого другого приличного человека! Вам очень нужно знать, сэр, кто был ' мой дед? Мой дед, сэр, был всю жизнь связан с железо-кровельной промышленностью… Вот, мистер Егорычев, как надлежит отвечать на такие вопросы благоразумным джентльменам. Но чтобы самому напрашиваться!..
…Я не перевариваю цветных. Но этот Гамлет мне чем-то приятен. Я был бы не прочь, чтобы он был моим шофером, когда я обзаведусь машиной, достойной наемного шофера. Гильденстерн, Розенкранц и Полоний — хлам из хлама. Яго Фрумэн! Дородный, слащавый. Глаза узкие, как у японского императора. Гильденстерн Блэк — длинношеий, короткорукий, пузатый, длинноногий, похожий на кенгуру из нашего зоопарка. Розенкранц Хигоат — стройный молодой холуй с бегающими глазками на широком костистом лице. Лучше всю жизнь обходиться без шофера, нежели видеть перед собой спину кого-либо из этой поганой компании. Но нам со старикашкой они должны сослужить какую-то особенную службу (он пока не говорит, в чем дело), и я обязан ухаживать за ними, как святочный Дед-Мороз, раздавать им какие-то дурацкие тряпки и пуговицы, хлопать их по потным и грязным спинам и бегать за ними в эту эфиопскую жару в деревню, приглашать на завтра в гости. Они должны прийти завтра в то самое время, когда Егорычев со Смитом уйдут в Новый Вифлеем, чтобы разобраться на месте, что можно сделать со спасенными бочками и что нужно будет принести отсюда, сверху, чтобы соорудить плот, если не удастся построить более прочную и солидную деревянную посудину с парусами и веслами. Все это на тот случай, если за нами почему-либо не придет нормальная железная посудина с дымящейся трубой. Хорошенькая перспектива, нечего сказать!.. Ни старикашка, ни гусак и не подумают уезжать отсюда на чем-либо менее прочном и удобном, нежели эскадренный миноносец, но против затеи Егорычева не возражали. Значит, хотели, чтобы его не было здесь со Смитом, когда придет эта четверка прохвостов. Интересно, что они задумали?..
…Если Егорычев разведает, что мы от него что-то скрываем, он так дела не оставит. Старикашка говорит, что Егорычев — безбожник и поэтому приходится от него скрывать всякий более или менее серьезный христианский поступок. Он, видимо, и впрямь считает меня идиотом. Я бы с большим удовольствием проделывал всю эту грязную работу, если бы со мною разговаривали, как с деловым человеком. Но у старикашки больше денег, чем благочестия, и с этим приходится считаться, если не собираешься на всю жизнь оставаться оборванцем-идеалистом. Впрочем, иногда мне начинает казаться, что ханжества у него еще больше, чем денег.
Сегодня после дискуссии о том, кому должен принадлежать остров, старикашка спросил Егорычева, если ли у него уверенность, что его радиограмма уже принята и расшифрована какой-нибудь советской радиостанцией. Егорычев сказал, что не уверен. Он сказал, что требуется, по его мнению, по крайней мере трижды передать ее в эфир, чтобы ее успели хотя бы запеленговать. Сегодня он передаст ее вторично, потом еще завтра ночью. Затем нужно будет несколько дней Подождать, не придут ли ответные сигналы от принявшей станции, и если таких сигналов не будет, попробовать передать тот текст, который был вчера временно отклонен как слишком ясный и поэтому слишком опасный. По-моему, Егорычев что-то слишком мудрит. Ничего страшного не случилось бы, если бы добряк Кумахер радировал по-немецки. Ему можно было бы на всякий случай пригрозить, что пусть он только попробует передать не то, что требуется нам, и мы его прикончим на виду у вызванных им немецких кораблей, будь их даже целая эскадра…
…А вдруг нам действительно судьба застрять на веки веков на этом острове? Тогда все летит кувырком. Тогда и книга моя ни к чему, и старикашка уже сразу — мешок, набитый не банковскими билетами и протекциями, а только ханжеством и хамством, и гусак превращается в унылого хлипкого пузана в несуразно мощных очках, и Егорычев уже не враг моего старикашки, а следовательно, и не мой враг, а храбрый, толковый и веселый парень, с которым в десять тысяч раз приятней провести сколько угодно лет, нежели лишний час со старикашкой и гусаком.
Но нет, дорогой мистер Джон Бойнтон Мообс, так ни в коем случае нельзя. Не разобрали нашу радиограмму сейчас — разберут через месяц, год, десять лет. Сгинула никем не принятая радиограмма? Тоже нечего ударяться в панику. Полетит через месяц, через год, через десять лет над здешними краями самолет, пройдет за этот долгий срок какое-нибудь суденышко и обязательно раньше или позже наткнутся на наш остров. Нельзя, милейший мистер Мообс, так нервничать, нельзя так торопиться. Так большую карьеру не делают. Зато если вы эти десять лет, которые вам суждено прожить на острове Разочарования, не дрогнете, не отдадитесь, как распоследний слюнявый мальчишка, во власть непосредственных чувств, если вы останетесь хладнокровным и выдержанным деловым человеком и преданным другом богобоязненного и набитого деньгами мистера Роберта Д. Фламмери, то вас ожидает поистине блистательная карьера. Будем же мужчиной, мистер Джон Бойнтон Мообс, будем делать свое счастье с холодным и расчетливым сердцем: человек, не любимый вашим покровителем, не может быть вашим другом, хотя бы вам пришлось прождать помощи из Америки долгие-долгие годы. Даже когда останется только один шанс на миллион.
Но, конечно, было бы куда приятней, если бы имя и могущество Роберта Фламмери принадлежали Константину Егорычеву…
…Видите ли, мистеру Егорычеву вдруг в седьмом часу утра вздумалось послушать радио. А гусак еще спал, и он, конечно, проснулся, лишь только загудел генератор. В чем дело? Почему будят человека, который так изнервничался за последние дни, кстати, как раз по вине мистера Егорычева? Неужели нельзя было потерпеть, пока он сам проснется? Разве мистеру Егорычеву не известно, что у него, у гусака, миокардиодистрофия? Егорычев объясняет, что он хотел послушать свое, русское радио. Сейчас как раз самое удобное время, и ему хотелось послушать сводку Совинформбюро. Гусак в амбицию: это черт знает что такое! Мистер Егорычев не желает считаться с удобствами других. Мистер Егорычев чувствует себя каким-то диктатором! Пусть мистер Егорычев запомнит, что из-за его капризов и так уже слишком много пришлось перетерпеть всем остальным; и что это чистая случайность, что они остались живы после всех его возмутительных авантюр; и что это чистейшей воды мальчишеская сентиментальность — обязательно слушать военную сводку на своем родном языке; и что лично он, гусак, как и все подлинно цивилизованные люди, прекрасно может обойтись и обходится любой сводкой, на любом понятном ему языке; и что при положении, в котором мы все сейчас находимся, надо думать не о том, что происходит на другом краю света, а о том, как бы поскорее и побезопаснее выбраться из этой чертовой дыры; и что пусть только мистер Егорычев, ради бога, не прикидывается, что он больше всех заинтересован в том, что происходит на театре военных действий, а что пускай он лучше хорошенько подумает, как вызволить всю нашу компанию из того ужасного положения, в которое он вовлек ее своими самочинными поступками.
Старикашка в это время торчал на посту у спуска, но Смит был в пещере. Он как раз вертел ручку генератора, и все время, пока гусак произносил свою речь, он вертел ее, словно гусака и не было на свете. Только лицо у него налилось кровью по самую макушку. А Егорычеву так и не удалось послушать сводку. Он сказал, что, конечно, надо было ему еще накануне вечером договориться об этом с гусаком, но что гусак завалился вчера спать так спешно, что он, Егорычев, не успел с ним об этом потолковать, а будить его на ночь глядя он не хотел. Тогда гусак ужасно победоносно глянул сначала на Егорычева, потом на меня и Смита и нарочно, я убежден, что нарочно, снова улегся и даже захрапел, лишь бы поставить на своем. А Егорычев сказал Смиту, что ничего не поделаешь и придется послушать сводку Информбюро как-нибудь в такое время, когда это позволят нервы мистера Цератода, и они вышли из пещеры погулять. А гусак сразу после этого как ни в чем не бывало встал со своей койки и стал мне жаловаться на Егорычева. Ох, уж эта мне политика! Я сказал, что у меня от его крика разболелась голова и тоже поспешил на лужайку, потому что мне было интересно, о чем будут между собой толковать Егорычев со Смитом. Я сделал, конечно, вид, что ничего особенного не подозреваю, и присоединился к ним, как будто мне скучно одному. А Егорычев сказал, что мне совершенно незачем тратить зря время на слушание их болтовни, потому что это мне, скорее всего, не будет интересно, и что я только зря время потеряю. А если мистеру Фламмери действительно интересно узнать, о чем у него с мистером Смитом идет сейчас разговор, то я могу смело и без риска ошибиться сказать мистеру Фламмери, что разговор шел о том, что у них, в Советской России, дети кочегаров учатся в высших учебных заведениях и что из них получаются не худшие врачи, инженеры, юристы, ученые и государственные деятели, чем из детей любых других советских граждан.
Мне, конечно, было неудобно сразу после таких слов отстать от их недружелюбной компании, и я еще некоторое время с ними походил, и мне пришлось выслушать довольно оживленный обмен мнениями между Егорычевым и Смитом, который невозмутимо смотрел прямо сквозь меня, словно меня не существовало в природе. Этот кочегаришка спросил, а как же учиться детям кочегара, на какие средства им жить во время учения и из каких денег платить за учение. Егорычев что-то такое начал разъяснять ему про государственные стипендии, мне стало скучно, и я ушел, потому что о том, что в Советской России любой парень или девушка могут учиться с помощью государства, в Штатах не напечатает ни строчки ни одна уважающая себя солидная газета и на такой информации не заработаешь и ломаного цента. Я тихонечко отошел в сторонку.
Конечно, хотелось поскорее рассказать старикашке, что наш Егорычев, насколько я понимаю, занимается самой настоящей большевистской агитацией. И хотелось пожаловаться ему на то, что мне, по существу, брошено в лицо обвинение в том, что я нарочно подслушиваю чужие разговоры, чтобы держать в курсе своего патрона, и что порядочные люди не позволяют себе таких обвинений, даже если это правда. Я присел на травку, а вскорости из пещеры выскочил гусак, подбежал к старикашке и стал ему жаловаться. Они посудачили минут пять, а потом гусак, как ни в чем не бывало, сказал Егорычеву, что вот сейчас, когда он встал, пожалуйста, ловите себе по радио любую сводку, хоть на малайском языке. Он явно шел на примирение. Егорычев что-то буркнул в ответ и отправился со Смитом в пещеру. Но сколько он ни вертел вариометр, ничего, кроме треска, шорохов, свиста и разных, но только не русских передач, не поймал. Очевидно, все же слишком далека от нас его Россия и придется ему на время пребывания на острове примириться со сводками на английском, или испанском, или немецком языках. Если ему угодно, может слушать хоть на арабском…
…Только кончился спор о том, чей должен быть остров, как нагрянули гости. Незваные, навязчивые, бесцеремонные. На сей раз без звукового оформления, но, как и вчера, с бабами и младенцами. Бабы, завидев нас, завизжали и спрятались за своих кавалеров. Вслед за своими мамашами подняли несусветный писк младенцы. Оказывается, это экскурсия, пикник с познавательными целями. Только человек пять из Нового Вифлеема. Эти на положении гидов, экскурсоводов. Так нам объяснил, весело скаля зубы, вездесущий Гамлет Браун. Он, видите ли, прибыл специально для того, чтобы извиниться, что из его деревни присутствуют лишь несколько человек. (Ему казалось, что они нам делают больно.) Дело в том, что он и его соседи-погорельцы собрались построить себе новые жилища взамен сгоревших и все взрослые мужчины деревни ему помогают, а он их за это будет вечером угощать. Сказал, улыбнулся и исчез. А остальные, оказывается, не наши вчерашние знакомые (они все на одно лицо), а экскурсанты, любознательные туристы из других деревень. Они пришли поглазеть на Чудо Двадцатого Века, Настоящих Белых Джентльменов. Чистота Расы Гарантируется. Осмотр Ежедневно в Любое Время. Наиболее Назойливым Туристам Выдаются Бесплатные Ценные Сувениры.
Узнав, что среди них нет Яго и компании, старикашка немедленно послал меня вниз договориться насчет завтрашней тайной встречи. Полония не оказалось дома. Мистер Полоний изволил отбыть на несколько суток в деревню Эльсинор, нанести визит родственникам своей первой жены. Остальные собирались сегодня же почтить нас своим присутствием. Эти гиены рассчитывали на подарки. И сколько я их ни отговаривал, они все же увязались за мной. Гамлет и остальные его односельчане смотрели нам вслед с недоумением, но мне на их недоумение было в высокой степени наплевать. Когда человек делает свой бизнес, ему не следует интересоваться, какие чувства он вызывает у посторонних.
Старикашка и гусак встретили банду Фрумэна, как принцев крови. А когда стали раздавать галантерею и гвозди, Гильденстерн, Розенкранц и Яго снова получили впятеро больше, чем любой из остальных. Мне старикашка и гусак объяснили, что так надо и чтобы я не совал свой нос, куда мне не полагается. Как будто эти дрянные вещички только им и принадлежат. Если уж говорить начистоту, то распоряжаться ими могут по праву только два человека: Егорычев и Смит. Но я этого, конечно, не сказал. Я так только подумал. Но подумал с очень большой злостью. А дикарям объяснения давал гусак. Он им сказал, что и Розенкранц, и Гильденстерн, и Яго, и отсутствующий здесь в настоящую минуту Полоний — люди, особо отмеченные богом, что и он и остальные прибывшие с ним белые джентльмены могут в любой момент клятвенно подтвердить. Гусак еще сказал, что он, конечно, никак не собирается давить на чье-либо мнение, но что он нисколько не удивился бы, а, наоборот, всячески приветствовал бы, если бы этим четырем достойным джентльменам воздавались самые высокие почести. Он оглянулся (могу поклясться, для того, чтобы убедиться, что Егорычева нет поблизости) и сказал, что за каждый волос, который упадет с головы этой четверки, островитяне будут отвечать головой. На туземцев это произвело очень сильное впечатление. Они сказали, что примут во внимание это предостережение и постараются сделать из него надлежащие выводы.
Только мы избавились от этой экскурсии, пообедали и отдохнули, как гусак впился в Смита. Он его отвел на самый дальний угол лужайки, как раз туда, где третьего дня словили Кумахера, когда он делал утреннюю зарядку, и там они просидели часа два, не менее, и он все говорил, говорил, говорил, жужжал, как жук, все уговаривал кочегара. А кочегар, тот все больше отмалчивался или отвечал коротко: «да», «нет», «подумаю», «посмотрим». Кончилось тем, что, как и вчера в то же время, стал собираться дождь и они вернулись в пещеру оба сердитые, недовольные. Не договорились. Я понимаю, что с точки зрения наших, то есть старикашкиных и моих, интересов надо было, чтобы Смит дал себя уговорить Цератоду, но приятно, что гусак сел в калошу.
А тому со зла показалось, что Егорычев при виде его улыбнулся. Гусак и поступил, как полагается гусаку. Он приблизился к Егорычеву и зашипел:
— Я не советую вам, сэр, придавать серьезное значение нашей случайной размолвке со Смитом. Я не советую вам, сэр, вообще придавать особое значение отдельным его словам и поступкам. Вы плохо знаете английских рабочих, сэр! А знание английских рабочих — моя профессия, мой кусок хлеба. Английский рабочий может поспорить со своим профсоюзным лидером, даже поругаться с ним, но он никогда, слышите, никогда, не разойдется со своими руководителями, если спор не будет касаться заработной платы или вопросов охраны труда и рабочего страхования! Да и в этих вопросах… — он запнулся, напыжился, его лицо налилось кровью, и он кинул быстрый взгляд на Смита. — Словом, зарубите это у себя на носу, сэр!
Егорычев перестал улыбаться, отложил в сторону записную книжку, в которую он что-то записывал очень экономным мелким почерком, спокойно глянул сначала на гусака, потом перевел глаза на Смита. Смит повалился на койку и делал вид, будто не слушает этого разговора.
Егорычев говорит:
— Неужели, мистер Цератод, вы и ваши коллеги всегда так цинично говорите о рабочих?
— Это не ваше дело, сэр! — визжит гусак.
— Конечно, не мое, — по-прежнему спокойно отвечает Егорычев. — Это дело членов вашего профсоюза… В данном случае — Смита…
Если бы мне сказали, что из обоих джентльменов, только что обменявшихся словами, один — дурак, я бы сразу понял, что это про гусака.
А Смит лежал на своей койке с закрытыми глазами, будто ничего не слышал.
…Снова Егорычев и Смит о чем-то толковали. Чуть свободная минута, они берут друг дружку под руку и гуляют и разговаривают; разговаривают к великому огорчению гусака. Но теперь мне уже неудобно присоединяться к их компании, потому что они каждый раз начинают так ехидно улыбаться, что я бы с наслаждением надавал каждому из них затрещин, если бы они не были такими здоровяками и если бы старикашка строго-настрого не запретил мне до поры до времени обострять отношения с Егорычевым. Но иногда мне удается издали поймать обрывочки фраз. Только что Егорычев рассказывал про санатории и дома отдыха, в которых отдыхают в его возлюбленной России рабочие, крестьяне и служащие. А тот развесил уши. А Егорычев стал так восхвалять роскошный дворец, в котором на берегу Черного моря отдыхают шахтеры, как будто он за рекламу получал с этого санатория определенный процент. А Смит, вместо того чтобы дать отпор агитации этого большевика, сказал, что в Англии ничего подобного нет. Как будто только и дела в Англии и Америке и в других цивилизованных странах, что строить дворцы для отдыха и лечения рабочих или клерков.
Вечером Егорычев привел обоих эсэсовцев слушать радио, чтобы Фремденгут узнал о втором фронте. Кумахер прикинулся, будто он впервые услышал о боях в Нормандии; Фремденгут сделал вид, будто он уже давно об этом знает.
Что-то «мне говорит, что Егорычев близок к истине. Похоже, что у Фремденгута и впрямь есть какое-то важное секретное задание. И еще похоже, что он рассчитывает на симпатию и поддержку моего старикашки. Они с ним обменялись очень приветливыми улыбками. С человеком, с которым приветлив и благожелателен старикашка, и я должен быть вежлив и благожелателен. Когда взгляд Фремденгута случайно упал на меня, я рискнул ему улыбнуться, и это понравилось старикашке. Бизнес есть бизнес… Только теперь мне еще неприятней стало встречаться со взглядом Егорычева. Он меня начинает самым серьезным образом злить, этот улыбающийся большевик! Чего он ко мне пристал со своим взглядом? Молчит и только время от времени бросает на меня удивительно неприятный взгляд. Какое он имеет право так на меня смотреть? Сколько тысяч в год может он мне предложить взамен тех пятидесяти тысяч, которые мне, в конечном счете, сулит благоволение старикашки? Вам еще нужно, молодой человек из русских степей, самому приобрести мало-мальски приличный жизненный опыт, а уж потом учить жизни своих сверстников!
…Старикашка не удержался. Во время обеда он учтиво осведомился, уверен ли мистер Егорычев, что он поступает правильно, ведя с малокультурным и политически незрелым кочегаром Смитом собеседования, которые легко можно было бы расценить как коммунистическую пропаганду? (Смит, конечно, отсутствовал. Он дежурил у спуска.) Старикашка внимательно посмотрел на Егорычева, предполагая, что он после этих слов сгорит от стыда. Но он глубоко ошибся. Егорычев как ни в чем не бывало, спокойно выслушал старикашку и сказал:
— Нет, я никак не могу расценить свои собеседования со Смитом как коммунистическую пропаганду. Он меня расспрашивает, а я ему рассказываю о том, как живут, работают, отдыхают Двести миллионов моих сограждан, как они воюют против фашизма и во имя чего рискуют жизнью. Кстати, больше всего мне приходится при этом рассказывать о моих родных и знакомых. Я считаю, что в такого рода беседах, имеющих чисто информационный характер, нет и не может быть ничего предосудительного. Не вижу, что против них можно возразить. Со своей стороны, я ни в какой мере не возражаю против того, чтобы мистер Фламмери в тех же информационных целях хоть сутки напролет рассказывал мистеру Смиту о том, как живут, работают и отдыхают простые люди Соединенных Штатов.
И уже совсем ничего не имеет мистер Егорычев против того, чтобы мистер Фламмери с наибольшими подробностями сообщил мистеру Смиту о том, как живут, работают, отдыхают и сражаются с фашизмом его, мистера Фламмери, родные и знакомые. — Старикашка только воскликнул:
— О-о-о!
Я его никогда не видел таким возмущенным.
Гусак пожал плечами. Он полностью разделял чувства старикашки и мои.
На этом обмен мнениями по вопросу о коммунистической пропаганде словно ножом отрезало.
Нет, в самом деле, этот советский офицеришка, дикарь и правнук раба, меня не на шутку злит! Кажется, я его начинаю ненавидеть! Я обращаю свой взор в сторону старикашки. Он смотрит на меня добрыми и мягкими отеческими глазами. Он моя опора, моральная и материальная. Этот никогда не будет меня укорять за то, что я пишу не совсем то, что думаю и что не совсем соответствует плохо понятной действительности. Этот понимает, что такое бизнес, и что такое деловой человек, и какова роль и место в бизнесе того, что большевистские агитаторы называют совестью. Я хотел бы, чтобы мне раз и навсегда показали ее и сказали, что она такое, эта совесть. Она неощутима на ощупь, она не имеет запаха и цвета, ее нельзя внести в качестве вклада в самый завалящий банк, под нее не дадут тебе и галлона бензина, когда ты будешь трюхать в старом фордовском драндулете в поисках работы. А я не хочу просто работы, я хочу карьеры, я хочу, чтобы не обо мне говорили снисходительно: «Это сын старого Хирама Мообса, того самого, который застрелился», а об отце моем говорили: «Это отец нашего Джона Бойнтона Мообса, который, говорят, тоже занимался газетным бизнесом. Ходят слухи, этот ловкач Джон выгоняет из своей чернильницы сотню тысяч долларов в год».
«Париж стоит мессы!» — так сказал совсем по другому случаю не помню какой по счету король Генрих — не то английский, не то немецкий, не то еще какой-то. И, право же, этот Генрих был совсем не дурак…
Я смотрю на Егорычева со спокойной и на сей раз непоколебимой ненавистью и презрением. Слава богу, я совершенноготов к тому, чтобы легко и без дурацких переживаний писать ту книгу, которую мне нужно написать, книгу, которая желательна и мне, и мистеру Фламмери, и его компаньонам, и мистеру Не Знаю Как Его 3овут, тому самому, который обязательно издаст ее, и тиражом не в один и даже не в пять тысяч, а в сто, двести, пятьсот тысяч, в миллионэкземпляров. Я чувствую небывалую легкость в душе. Рубинштейн перейден! Мне все ясно. Мне весело. Моя рука жаждет ручки с удобным пером и чернил. Пусть только этот чистюля Егорычев, передав свою радиограмму, ляжет спать, и я сяду писать. Я все еще не привык писать мою «Робинзонаду с большевиком», когда этот большевик бодрствует и может на меня ненароком посмотреть. Мне все еще кажется, что он сразу поймет, что я пишу книгу, в которой не все соответствует его примитивным, дикарским представлениям об истине… Хоть бы он умер, этот Егорычев! Но без него нам, пожалуй, никогда не выбраться с этого распроклятого острова… Боже мой, еще никогда в жизни мне не приходилось так много думать!»
XI
По причинам, которые станут известны читателю ниже, в нашем распоряжении всего несколько разрозненных страничек рукописи «Робинзонады с большевиком». Судя по частым помаркам, небрежности. письма и торопливой незавершенности стиля, это лишь первый черновик, когда автор, оставляя напоследок работу над красотой слога и законченностью каждой фразы, спешит запечатлеть на бумаге только основные мысли, решающие факты и события, положенные в основу его произведения.
Нет сомнения, что в окончательной, так называемой беловой рукописи эти строки звучали бы и более сжато и более уверенно, а поскольку они были рассчитаны на избалованного сенсациями американского читателя, то и еще более развязно.
Первый листок:
«…а также общность языка и родины сразу создали между нами и туземцами самые сердечные отношения. Было что-то в высшей степени трогательное, когда прелестный чернокожий карапузик вскарабкивался к тебе на колени и звенящим голоском упрашивал, чтобы «добрый дядя белый джентльмен» рассказал ему хоть что-нибудь «о нашей милой старой родине». Так здесь, на острове, называют наши Штаты.
Егорычева это чертовски злило. Не смея открыто выступить против гуманности и цивилизации, он решил сорвать свою злость на том, что попытался поссорить нас с туземцами, раздавая трофейный меновой фонд среди своих любимчиков и всячески обделяя тех, кто не имел счастья угодить этому молодому и малокультурному демагогу. (Что-то получается не очень кругло: весь остров, кроме четырех проходимцев, любимчики! Поразмыслить, как написать тоже самое, но не так грубо.) Но вековая любовь туземного населения к своей «милой старой родине» помогла нашему маленькому, но дружному отряду западной цивилизации дать дос…»
Второй листок:
«…зависело от старейшин деревень. В первый же день к нам на Священную лужайку пришла с пением псалмов и барабанным боем вся деревня Новый Вифлеем. Ее привели ее моральные вожди, любимцы Нового Вифлеема Розенкранц, Гильденстерн, Яго и Полоний. С первой же минуты нашей встречи они привязались к нам всей душой. Особенным уважением они инстинктивно прониклись к мистеру Роберту Фламмери, в котором они чтили не только выдающегося бизнесмена и бесстрашного и образованного офицера, но и прямого потомка одного из своих возможных далеких владельцев. Нужно было видеть полный величия и благородства жест, с которым Яго отклонил какие бы то ни было подарки с нашей стороны. «В какой стороне расположена наша добрая, старая родина?» — спросил он взволнованным голосом. Я ему указал на северо-запад. Дальше происходит что-то невообразимо волнующее: Яго и три остальных олдермена, а за ними и все наши гости, как по команде, опускаются на колени, обратившись лицами на северо-запад, и Яго срывающимся голосом запевает псалом двадцать первый, а за ним и все остальные туземцы и все мы, белые, конечно, кроме безбожника Егорычева, подхватываем: «Господи! Твоею силой веселится царь, и о спасении твоем сколь велика его радость! Ты исполнил ему желание сердца его и молитвы уст его не отринул». При последних словах благообразный старец не сдержал чувств, охвативших его, и разрыдался. Вслед за ним разры…»
Третий листок:
«Мистер Фламмери с твердостью и убежденностью истинного бизнесмена не дает себя запугать. Он говорит: «Мне нужно только одно — знать, что мы все сделали для счастья и благоденствия населения острова Разочарования. Это единственный дивиденд, которого я добивался, добиваюсь и буду добиваться, хотя бы мне при этом грозили пули ста тысяч большевиков и десяти миллионов коммунистов, а для этого требуется, чтобы в моих руках был контрольный пакет доверия в руководстве удовлетворением насущнейших нужд острова. И я на этом настаиваю прежде всего как христианин».
Егорычев выступает со смехотворными возражениями с точки зрения своих коммунистических доктрин. Обсуждение по его вине завершается безобразной сценой, которую удается прекратить только благодаря исключительному такту и терпимости мистера Фламмери…»
Четвертый листок:
«…ная любовь прелестной дикарки. Но человек, у которого в Буффало невеста, не имеет права вое…»
Пятый листок:
«…но мистер Роберт Д. Фламмери наваливается на дверь, не считаясь со смертельной опасностью. Немецкий майор отпускает дверь и встречает мистера Фламмери автоматной очередью. Происходит форменное сражение, в котором посильное участие принимает и Егорычев. Наконец майор ранен. Оружие выпадает из его рук. Он говорит слабеющим голосом: «Сдаюсь своему храброму противнику. Моя фамилия барон фон Фремденгут». Фламмери вздрагивает: «Барон Фремденгут из Кельна?» — «Да, из Кельна. А вы кто такой?» — «Я капитан Роберт Фламмери из Филадельфии!» — «Боже мой! — радостно восклицает барон. — Какая встреча!.. Я думал, такие встречи бывают только в кинема…»
XII
«Капитан санитарной службы Роберт Д. Фламмери и
Майор Эрнест Цератод, с одной стороны, и
Туземное население острова Разочарования в лице его представителей Гильденстерна Блэка, Розенкранца Хигоата и Яго Фрумэна, с другой стороны,
при секретаре Джоне Бойнтоне Мообсе
заключили настоящее соглашение в нижеследующем:
1. Туземное население острова Разочарования добровольно, с полным уважением, доверием и признательностью поручает, а Роберт Д. Фламмери и Эрнест Цератод, движимые неизменным и вечным своим расположением к населению острова Разочарования, принимают на себя общее руководство культурным, хозяйственным, моральным, религиозным и военным прогрессом острова Разочарования.
Примечание первое. Подробности, если таковые потребуются, будут предметом специального протокола, хранимого вместе с настоящим договором.
Примечание второе. Высокие Договаривающиеся Стороны считают своим священным долгом заявить перед лицом всего мира, что к этому договору в любое время и на равных с остальными Высокими Договаривающимися Сторонами условиях может присоединиться и капитан-лейтенант Константин Егорычев или любое другое лицо, специально им на то уполномоченное.
Примечание третье. Представители Населения острова Разочарования с глубоким сожалением принимают к сведению сообщение господ Фламмери и Цератода о том, что капитан-лейтенант Константин Егорычев отказался возложить на себя свою долю ответственности за руководство культурным, моральным и т. д… прогрессом острова Разочарования…
Страшно закоптила «летучая мышь», и Джон Бойнтон Мообс, секретарствовавший при заключении договора, прервал чтение (он читал его весьма торжественно, стоя) и чертыхаясь полез на табуретку воевать с непокорной горелкой.
Заседание происходило при закрытых дверях, чтобы Егорычев и Смит, вернувшись, не захватили, упаси боже, его авторов врасплох.
«Представители туземного населения» чувствовали себя не в своей тарелке. Они сидели на койках, с которых из брезгливости было снято не только белье, но и матрацы. На коленях у каждого из них пестрели вороха лент и прочей галантерейной дряни.
Кое-как справившись с горелкой, Мообс вернулся к чтению.
За время этого вынужденного перерыва Фламмери пришло в голову, что для пущей торжественности не вредно было бы, чтобы чернокожие представители Высокой Договаривающейся Стороны выслушали договор стоя.
Мообс поднял их на ноги жестом дирижера, приглашающего оркестр встать в ответ на рукоплескания слушателей. Они покорно встали. Подарки посыпались из их рук, и они бросились их поднимать, стараясь прихватить кое-что из того, что уронил сосед. Дело чуть не дошло до драки, и Мообсу пришлось на них прикрикнуть, чтобы они вели себя в соответствии с важностью церемонии, в которой они удостоились участвовать.
— Продолжайте, Мообс, — сказал Фламмери, — и поторапливайтесь. Они могут вернуться каждую минуту.
— Бьюсь об заклад, сэр, что они задержатся. Они, верно, снова будут искать несуществующий клад.
В том-то и дело, что Фламмери теперь уже совсем не был уверен, что клад этот не существует на самом деле. Но он, конечно, не высказал своих сомнений.
Мообс угадал. В то самое время, когда он полез воевать с коптившей «летучей мышью», Егорычев и Смит, возвращаясь из Нового Вифлеема, забрели в лес, росший сразу по ту сторону ручья, отделяющего Северный мыс со Священной пещерой от остальной части острова. Метрах в двадцати друг от друга они медленно подвигались фронтом наверх по направлению к вершине горы, называемой Священной воронкой. Они раздвигали каждый кустик, то и дело тыкали палками в землю, искали, где она порыхлее.
— А знаете, Смит, что мне напоминает эта Священная воронка? — сказал Егорычев. — Очень большой кратер давно потухшего вулкана.
— Она вся заросла травой. На ней большие деревья, — заметил кочегар, полагая, что он этим опровергает догадку Егорычева.
— Везувий до гибели Помпеи тоже весь порос травой. В его кратере даже расположились лагерем восставшие спартаковцы. А потом в один прекрасный день — бац-бах-та-ра-рах, извержение!
Смит усмехнулся:
— Но на сегодня-то мы с вами обеспечены от такого ужаса?
— Дружище, — в тон ему отвечал Егорычев, — можете быть совершено спокойны. Полнейшая гарантия!..
— Фу, гора с плеч! — Они оба засмеялись. — Значит, можно продолжать ковыряться в земле?
— Сколько угодно, старина… Продолжаем ковыряться…
Они определили себе урок на сегодня и принялись выполнять его с величайшей тщательностью.
А тем временем наверху, в пещере, Джон Бойнтон Мообс победил своевольную горелку «летучей мыши», слез с табуретки и с прежней торжественностью продолжал чтение текста договора…
2. Высокие Договаривающиеся Стороны торжественно заявляют, что независимость острова Разочарования является предметом особой и постоянной заботы Высоких Договаривающихся Сторон, а также необходимым условием для мира и цивилизации и тем самым обязываются защищать вышеупомянутую независимость всеми средствами, имеющимися в их распоряжении.
3. Высокие Договаривающиеся Стороны отдают себе отчет в тяжелой ответственности, которую они возлагают на свои плечи, и уповают на помощь Небесного Провидения, как на постоянно действующий и безотказный фактор контроля над правильным, чистосердечным и бескорыстным выполнением этого договора всеми тремя Высокими Договаривающимися, Сторонами.
4. Предполагается, что это соглашение будет временным и немедленно потеряет силу, лишь только господа Фламмери и Цератод или лица, специально ими на то уполномоченные, придут к заключению, что туземное население острова Разочарования достигло того минимального уровня культуры, моральной устойчивости, благосостояния и политической зрелости, которые необходимы для предоставления ему самостоятельности.
5. Соглашение это вступает в силу тотчас же по подписании представителями Высоких Договаривающихся Сторон.
Подписи:
Роберт Д. Фламмери
Эрнест Цератод
От лица коренного населения острова Разочарования:
Гильденстерн Блэк,
Розенкранц Хигоат
и Яго Фрумэн,
коим, вследствие их неграмотности, текст настоящего соглашения трижды и с расстановкой прочитан вслух, поставили оттиски больших пальцев своих правых рук.
Джон Бойнтон Мообс, секретарь
На острове Разочарования. Июня девятого дня, в лето от рождества всемилостивейшего Иисуса Христа, господа нашего, одна тысяча девятьсот сорок четвертое».
Фламмери расписался размашисто и не без подчеркнутой небрежности: еще за два года до войны он участвовал в подписании картельного договора с «И. Г. Фарбениндустри», который по значению своему не уступал любому договору между двумя солидными суверенными державами, а по прочности и воздействию на жизнь и судьбы многих миллионов людей значительно его превосходил.
Цератод вывел свою подпись твердо, четко и страшно аккуратно. Как-никак это была первая его подпись под документом международного характера.
Затем он капнул на клочок бумаги чернил, размазал их другой бумажкой, взял оробевших представителей другой Высокой Договаривающейся Стороны за правые руки, обмакнул их большие пальцы в размазанные чернила, и три оттиска пальцев тремя большими фиолетовыми узорчатыми пятнами украсили соглашение, окончательно скрепив его обязательность для всех жителей острова.
Как это ни покажется странным для постороннего человека, но не содержание соглашения, а именно процедура взятия оттиска пальцев привела всех троих островитян в состояние, близкое к обморочному. Их посеревшие лица выражали крайнюю степень испуга, а ноги столь очевидно отказались им служить, что представители первой Высокой Договаривающейся Стороны поспешили усадить их и раскупорить коньяк.
Все пятеро участников соглашения при секретаре Джоне Бойнтоне Мообсе отдали дань мужественному напитку. У Фламмери это был первый из многих подписанных им в разное время и с разными лицами договор, который не нужно было скрывать от военного министерства и государственного департамента: картельные соглашения, как правило, граничили с государственной изменой и хранились в глубочайшей тайне. Мистер Фламмери имел все основания рассчитывать на славу выдающегося героя и особое благоприятствование при получении заказов.
Эрнест Цератод, помимо патриотического подъема, испытываемого им от присоединения к Британской империи новой несамоуправляющейся территории, предвкушал впечатление, которое произведет в будущем году на избирателей история о мужественном майоре Эрнесте Цератоде, который не только не пал духом в исключительных условиях кораблекрушения и бедствий на диком острове, но и сумел округлить колониальные владения Соединенного Королевства, не затратив ни единого пенса из средств налогоплательщиков.
Мообсу и островитянам, не обремененным особыми переживаниями, достаточно было самого процесса поглощения коньяка.
Через четверть часа туземцы, не привыкшие к спиртным напиткам столь упоительной крепости, пришли в чрезвычайно веселое настроение, и их выпроводили домой, щедро одарив пуговицами, английскими булавками и самыми крупными из имеющихся в наличии гвоздей.
Приметив умильные взгляды, которые старший из островитян, Яго Фрумэн, бросал на висевшую на гвоздике старую рабочую куртку покойного Альбериха Сморке, Фламмери позволил себе широкий жест. Он подарил ему эту куртку. Яго Фрумэн ошалел от восторга. Розенкранц и Гильденстерн не смогли, да и не захотели скрыть живейшее чувство зависти, которое они при этом трогательном событии испытали. Пришлось и им сделать дополнительные подарки. Мообс порылся в ящике с грязным бельем и вручил им по застиранной голубой трикотажной сорочке. Все трое сразу облачились в свои обновки, что доставило высокое эстетическое наслаждение как самим островитянам, так и их изрядно нагрузившимся партнерам по договору.
Не будь Фламмери и Цератод при секретаре Джоне Бойнтоне Мообсе порядком навеселе, они бы, возможно, заметили, что левая пола куртки как-то странно топорщилась на Яго. Правда, он воспользовался боковым внутренним карманом, чтобы схоронить в нем все остальные дары. Но топорщилась куртка, конечно, не от этой мелочи, а от забавного, приятно поблескивавшего предмета, который Яго, усаженный на койку Егорычева, ненароком нащупал под подушкой. Как известно, ничто так не толкает морально неустойчивого человека на путь стяжательства и преступлений, как внезапно свалившееся на голову богатство. Яго, получившему за то, что он выслушал какую-то скучную и непонятную бумагу и поставил на ней оттиск своего пальца, целое богатство, не терпелось приумножить его за счет этой загадочной, но бесспорно обольстительной вещицы, и он проделал это с ловкостью, вполне приличной для человека, впервые вступившего на тернистый путь цивилизации.
Но, как часто случается с теми, кто впервые вступает на этот путь, Яго вскоре перепугался. Ему показалось несомненным, что пропажа обнаружится и тогда могущественные и щедрые белые джентльмены могут серьезно на него рассердиться. Мысль, что он из-за содеянного под пьяную руку может лишиться их милостей и покровительства и снова впасть в ничтожество, привела Яго к выводу, что чем скорее он избавится от украденного предмета, тем будет лучше.
У него хватило рассудительности не показывать товарищам охватившего его беспокойства. Уже по возвращении в Новый Вифлеем он пожаловался на головную боль и собрался проветриться, подышать свежим морским воздухом. Так как никто в деревне, включая и Розенкранца, Гильденстерна и Полония, не питал к нему добрых чувств, то Яго Фрумэну, несмотря на его хмельное состояние и довольно бурное море, позволили прокатиться на лодке.
Отплыв подальше от берега, Яго горестно вздохнул и предал воде злополучный предмет, который чуть было не стоил ему дипломатической и административной карьеры. Но эта коленчатая серебристая игрушка была так прекрасна, что Яго не мог оторвать от нее глаз, пока та уходила в глубину. Он перевесился через борт лодки. Крутая волна ударила в утлую лодку и опрокинула ее.
«Вот оно, страшное возмездие белых джентльменов! Они настигли меня даже в море!.." — успел подумать Яго.
Ледяной ужас сковал его члены, и он камнем пошел ко дну…
В полночь, когда Егорычев собрался в третий раз передать в эфир припев из песни N-ского батальона морской пехоты, он обнаружил, что исчезла рукоятка генератора.
XIII
Всю ночь продолжались поиски. Разбудили Цератода и Смита. Опросили Фламмери, дремавшего на вахте. Никто не мог сказать, куда девалась рукоятка. Никто ее и не видел. Узнав, что она хранилась под подушкой Егорычева, Фламмери высказал запоздалое сожаление, что она содержалась в таком неприспособленном месте: ее можно было бы прятать в чемодане или ящике, и тогда она не запропастилась бы бог весть куда. Он смутно припоминал, что кто-то из островитян, кажется, уселся на койке Егорычева, но кто именно, так и не смог вспомнить. Он потихоньку поделился своими сомнениями с Цератодом и Мообсом. Как менее закаленные в потреблении горячительных напитков, они удержали в памяти еще более туманные подробности того, что произошло после подписания соглашения и раскупорки второй бутылки. Они удивились. Неужели негры сидели на койках? Разве они не пили стоя? Неужто неграм сделали какие-то подарки? Уверен ли мистер Фламмери, что он не ошибается? Хотя очень может быть, что он прав… Чего-то они действительно все смеялись. Может статься, что как раз над этими дикарями… Ну да, конечно! Они были ужасно смешны в трусах из козьей шерсти, босые, черные и в старых заплатанных голубых нижних сорочках! Кажется, один из них нарядился в засаленную эсэсовскую куртку? Он был чудовищно смешон и жалок! А не может ли быть, что мистер Фламмери в припадке, пардон, пьяного благодушия подарил кому-нибудь из них эту злополучную рукоятку?..
По понятным причинам посещение пещеры отщепенцами из Нового Вифлеема скрывали от Егорычева. Интересы дипломатической тайны перевесили желание посоветоваться с Егорычевым, хотя они и привыкли уже считаться с его мнением.
Мообса послали в Новый Вифлеем. Он вернулся усталый и обескураженный: Яго Фрумэн, тот самый, который ушел из пещеры в старой куртке ефрейтора Сморке, еще вчера в пьяном виде утонул в бухте. Остальные два никак не могли взять в толк, чего от них хочет Мообс. О том, что они были в пещере и оставили там на белой бумаге оттиски своих пальцев, они, как им было приказано белоголовым джентльменом, то есть мистером Фламмери, никому в деревне даже не заикнулись. О рукоятке, пропавшей из-под подушки, они не имели понятия. Мообс специально рисовал им, как она выглядела, но они клялись, что никогда ничего подобного не видели. Скорее всего, они, по мнению Мообса, говорили правду.
Одно было совершенно ясно: рукоятка безвозвратно пропала.
Этот вывод как-то не сразу дошел до сознания. Егорычев раздраженно бормотал, что в следующий раз он будет носить рукоятку всегда при себе, потому что здесь совсем как в детском саду: не дай бог что-нибудь оставить, не прибрав подальше. Фламмери, которого не покидало чувство, что пропажа, возможней всего, связана с компанией Фрумэна, пришел в конце концов к мысли, что все это не так страшно, потому что немцы — народ запасливый и где-то у них, вероятно, лежит тщательно завернутая в двадцать промасленных бумажек запасная рукоятка. Перерыли все ящики и чемоданы и не нашли. В нормальной обстановке запасная рукоятка генератора нужна не в большей степени, нежели запасной потолок для пещеры. Это нехрупкая, вечная вещь.
— Но не может же быть, чтобы она испарилась! — воскликнул Егорычев и принялся в десятый раз передвигать, перебирать и перекладывать все, что было движимого в пещере, начиная от стола и коек и кончая рыболовными крючками и прочей мелочью, предназначенной для дипломатической и торговой деятельности на острове Разочарования. Потом, хотя это было уже актом отчаяния, разбили всю Священную лужайку на пять участков и, только утром забрезжил свет, каждый на своем наделе перебрал каждый кустик и каждую травинку.
Может быть, ночью, когда все спали, выбрались из своего помещения пленные и похитили рукоятку, чтобы лишить своих врагов возможности переговоров с остальным миром? Конечно, каждый понимал, что это предположение по меньшей мере ребячье, ибо, если бы оба эсэсовца действительно выбрались ночью из своей темницы, то не ограничились бы похищением рукоятки, а по меньшей мере удрали бы на волю, захватив оружие, а скорее всего — прирезали бы спящих и восстановили статус-кво, существовавший до утра шестого июня. И все же так велико было нежелание признать, что с рукояткой все кончено, что с двери сняли одеяла, шинели, проверили засов, исследовали, нет ли где-нибудь тайных приспособлений для того, чтобы можно было покидать второе помещение, не трогая дверей, и нет ли свежих щелей в самих дверях.
К восьми часам дальнейшие поиски были за явной их бесполезностью окончательно прекращены.
— Ну вот, — сказал Егорычев, присев на койку. — Придется нам со Смитом смастерить другую рукоятку… Но будем надеяться, что где-нибудь сейчас уже расшифровывают наши радиограммы и что нас догадались запеленговать.
— Если бы мы вас не послушались… — начал Фламмери и осекся.
— Продолжайте, продолжайте, — устало поощрил его Егорычев. — Вы, кажется, хотели что-то сказать? Если бы вы меня не послушались?.. В чем не послушались? И что бы тогда было, если бы вы меня не послушались?
— Я хочу сказать, что если бы мы вас не послушались и передали в эфир ту радиограмму, которую я предлагал…
— …то гитлеровский корабль уже был бы на горизонте? Вы это хотели сказать?
— Почему гитлеровский? — вяло возразил Фламмери, и вдруг его лицо налилось кровью. — А почему нам в нашем идиотском положении надлежит отказываться от гитлеровского? У нас огромный выбор? Нас заваливают предложениями? У нас нет отбою от союзных кораблей?
— Есть у нас отбой, — сухо ответил Егорычев. — И вы полагаете, что это достаточное основание для того, чтобы самим лезть в фашистский плен?
— Вы трясетесь за свою жизнь, и в этом все дело! — выскочил Мообс. — Вам главное — спасти собственную шкуру. Как будто мы виноваты, что гитлеровцы не любят большевиков! А о том, что из-за вас могут погибнуть посторонние люди, вы и не подумаете!
— Посторонние?.. М-да-а!.. Я, видно, все же неважно понимаю по-английски. На русском языке такие фразы невозможны…
— Мистер Егорычев не потрудился разъяснить, что он подразумевает под своими последними словами, — учтиво осклабился Цератод. — Я не филолог, я солдат. И у меня в Англии семья, о которой никто не позаботится, если я паду жертвой его неистребимой склонности к игре в солдатики.
— Мистер Егорычев подразумевает под своими словами, что русские стараются прежде всего выиграть войну и что они не считают нас посторонними людьми в этой войне, — вдруг заговорил упорно молчавший до этого Сэмюэль Смит. Его мрачноватое загорелое лицо побледнело, что еще больше подчеркнуло черноту его густых усов.
— Вот именно! — запальчиво крикнул Мообс. — А мы…
— А мы, — продолжал Смит слишком ровным голосом очень волнующегося человека, — а мы, хоть и далеко не филологи (судя по всему, он подозревал в незнакомом ему слове «филолог» нечто близкое слову «трус»), но позволяем себе иногда больше думать о собственной жизни, нежели о судьбах войны…
— Вот именно! — снова крикнул Мообс. — А мы…
— Я был бы вам благодарен, сэр, если бы вы меня не так часто перебивали, — одернул Смит репортера, и Фламмери тревожно переглянулся с Цератодом. Трудно было переоценить значение этого на первый взгляд безукоризненно вежливого отпора, данного кочегаром Мообсу. Впервые с момента гибели «Айрон буля» и их знакомства Сэмюэль Смит решительно и открыто ставил себя на одну ногу с Мообсом и «старшими англосаксами». — Я вынужден признать, что мы, на мой взгляд, даем мистеру Егорычеву серьезные основания для его обидных, в высшей степени обидных заключений. И мне хотелось бы заверить капитан-лейтенанта Егорычева, что не все здесь разделяют точку зрения мистеров Фламмери, Мообса… — он сделал еле заметную передышку, как бы набираясь смелости, и добавил: — …и мистера Цератода.
— Вы забыли, Смит, что я кое-что понимаю в жизни и в воинском долге, — напыжился Цератод, все еще не веря, что случилось непоправимое, что вот именно сейчас, в эту минуту, от него окончательно отходит казавшийся покорнейшим и верноподданнейшим членом профсоюза транспортников и неквалифицированных рабочих кочегар Сэмюэль Смит. — И если я поддерживаю в этом вопросе мистеров Фламмери и Мообса, то вы можете быть уверены, что так надо.
— Я никак не могу заставить себя быть в этом уверенным, сэр. Я, к великому моему сожалению, уверен в обратном. И еще я твердо уверен, сэр, что английский народ никогда не был и не будет филологом или, с вашего разрешения, выражаясь по-простому, трусом.
Трудно было вообразить более неожиданное и уморительное употребление почтенного слова «филолог», но никто не улыбнулся.
Цератод мрачно переживал внезапный и весьма ощутительный удар, нанесенный ему Смитом. Это был удар по его профессиональному самолюбию, и, что самое основное, сокрушительный удар по его далеко идущим политическим, а следовательно, и личным планам, которые сейчас надо было срочно увязывать со вновь создавшейся расстановкой сил. Выросший в мрачных канцеляриях огромного профсоюзного треста, он в совершенстве усвоил основные приемы того руководства тред-юнионистским движением, которые снискали деятелям его рода полуснисходительное — полупрезрительное признание со стороны английских правящих классов. Но одно дело — профсоюз, когда человека под угрозой исключения из него можно держать в крепкой и унизительной узде, другое дело — политика на острове Разочарования. В этой политике мистер Цератод делал еще первые шаги, и он оступался, лишь только забывал об осторожности. Стоило, однако, дойти до его сознания мысли, что он сплоховал, натворил ошибок, не обеспечив себя с тыла и флангов, как моментально «срабатывал» рефлекс самосохранения, и Цератод, движимый не столько разумом, сколько инстинктом, прикидывался дохлым, валился на спину и закидывал кверху лапки.
Еще час тому назад Цератоду казалось, что ему удалось удержать Смита на своей стороне. Теперь картина стала неутешительно ясной: Егорычев имел все основания рассчитывать в дальнейшем на полную поддержку кочегара.
Цератод был достаточно трезво мыслящим человеком (конечно, когда он держал себя в руках), чтобы понимать, что решать будет не численный перевес (трое — Цератод, Фламмери и Мообс — против двоих — Егорычева и Смита), а моральный. Моральный перевес был бесспорно на стороне Егорычева и Смита, людей сильной воли, хороших товарищей, нетрусливых и твердо знающих, чего они хотят.
Удручающе менялось и соотношение внутри, так сказать «анти-егорычевских» сил. Раньше в этом блоке силы поровну делились между английской и американской сторонами. Сейчас один Цератод стоял в нем против двух дружно державшихся друг за друга американцев.
О, если бы этот Смит понимал, какой непоправимый урон нанес он кровным интересам своего земляка, который так доверчиво, так искренне рассчитывал на его простодушие и политическую неопытность!
Удар был слишком силен, чтобы Цератод не попытался немедленно еще раз, последний раз прибрать к рукам своего коллегу по профсоюзу.
— Извините нас, пожалуйста, — проговорил он с ледяной улыбкой. — Мы со Смитом должны оставить пещеру на несколько минут… Пойдемте, друг мой…
Вряд ли когда-нибудь и кем-нибудь задушевные и теплые слова «друг мой» произносились с большей яростью и ненавистью.
Смит нехотя поднялся с койки и, нежно поддерживаемый под руку Цератодом, вышел на лужайку.
Они отошли подальше, чтобы их не могли подслушать, и Цератод взметнул перед своим единственным и чрезвычайно мрачным слушателем мощные фонтаны демагогического красноречия. Он превосходил самого себя в ораторских красотах, а Смит молчал. Цератод не щадил усилий, чтобы очернить Егорычева, чтобы превратить его в глазах своего собеседника в исчадие ада, в страшного и коварного соблазнителя легковерных, не искушенных в большевистских кознях рабочих, а Смит молчал и все порывался прекратить разговор и вернуться в пещеру. Тогда Цератод почти силком усадил его на траву и стал с новым жаром расписывать кочегару, какое исключительное значение имеет их единодушие для сохранения доли Англии в управлении островом Разочарования, который в противном случае целиком и бесповоротно захватит в свои цепкие руки этот американец Фламмери.
— Поверьте, мистер Цератод, — впервые раскрыл наконец рот кочегар, — ну не лежит у меня к этому моя душа, ну не лежит, и все…
— И это ваше последнее слово?
— Не по мне это все, — ответил Смит, порываясь встать. — Я простой кочегар.
Но Цератод не дал ему встать.
— Вы английский кочегар, Смит! Неужели вы не видите, что и мне, старому деятелю рабочего движения, тоже нелегко. Но интересы Англии требуют…
— Чтобы мы закабалили этот остров?
— Чтобы мы не отдали его этому кровопийце, этому гнусному американскому миллионеру Фламмери.
— И отдали его нашим миллионерам?
— Вы рабски повторяете слова Егорычева, Смит!
— А если это вполне разумные слова?
— Поймите, Смит, пока мы оба действуем здесь единым фронтом, мы — сила и с нами нужно считаться. Но если я останусь один… Вы имеете представление о том, что такое «соотношение сил»?
— Оставим этот разговор, сэр!
— Вы забываете, что вы член нашего профессионального союза, Смит?
— Наоборот, сэр, мне кажется, я убежден, что так на моем месте поступили бы все мои товарищи…
— Неужели для вас недостаточно авторитетны слова вашего старшего товарища по профсоюзу, Смит?
Смит хотел было ответить, что ему все чаще начинает казаться, что они с Цератодом вроде как состоят в совсем различных профессиональных союзах, но он промолчал, потому что боялся, что вызовет в ответ новые фонтаны ничего не говорящих слов.
На этот раз он решительно приподнялся, и не такому слабосильному и тучному джентльмену, как Цератод, было бы под силу удержать его. Молча и не глядя друг на друга они вернулись в пещеру. С каким наслаждением Цератод прибил бы на месте «своего» так не вовремя взбунтовавшегося кочегара! И было бы непростительным прекраснодушием предположить, что мысль о физической расправе со Смитом промелькнула в голове раздраженного Цератода в минуту крайней запальчивости, чтобы сразу уступить место более гуманным намерениям.
В мимолетном и сугубо тайном обмене мнений, настолько важном и секретном, что Мообсу о нем даже не намекнули (он состоялся утром, во время поисков рукоятки на лужайке), было в осторожной форме, почти одними намеками, подвергнуто дискуссии соображение о желательности умно и аккуратно подготовленного несчастного случая с Егорычевым. Может ведь впечатлительный молодой человек, замечтавшись или, наоборот, в пылу спора нечаянно свалиться в пропасть? Но несчастный случай и с Егорычевым и со Смитом был уже почти непосильной затеей. Без прямой помощи Мообса за него и браться было бы безумием. А Мообс, соучастник двух несчастных случаев или даже простой их свидетель, был бы круглым идиотом, если не стал бы по возвращении с острова шантажировать обоих своих старших коллег. По крайней мере, сам Цератод, будь он при таких обстоятельствах на месте Мообса, не преминул бы сделать себе из такой волнующей тайны верный и бесперебойный источник безбедного существования на долгие годы. Что же, и Мообса уничтожать? Но это значило остаться вдвоем перед лицом населения целого острова. Словом, получалось страшновато и непрактично.
Эти человеколюбивые размышления привели в настоящую минуту и Цератода и Фламмери к одному и тому же выводу. Надо было временно прикинуться дохлыми. Тем более что с Егорычевым и Смитом пропадала и единственная мыслимая пока возможность выбраться с острова.
И вот в одну минуту был совершен тот трудный и сложный маневр, который во флоте носит название «поворот все вдруг».
XIV
Вот что вечером того же дня Егорычев рассказал Смиту перед тем, как сообщить ему о случившемся в Новом Вифлееме во время официального визита Егорычева, Фламмери, Цератода и Мообса.
— Надо думать, они тогда еще не решились на окончательный разрыв. Во всяком случае, Фламмери.
Помните, как он вдруг залебезил: «Друзья мои! Не слишком ли много воли даем мы нашим исстрадавшимся нервам? Вспомним, сегодня суббота. Пусть мы хоть в канун светлого воскресного дня будем думать и говорить только о братской любви, только о добре и мире!..»
Цератод сразу, с ходу включается в новый маневр своего друга-противника (между собой они, как пауки в банке, но против меня у них всегда «священный союз»). Он делает постное лицо: «Да, суббота!.. Подумать только, всего одна неделя отделяет нас от гибели «Айрон буля»!..»
Фламмери подхватывает, как по нотам: «Да сосредоточатся же наши сердца на молитвах за души тех, кто покоится на дне океана!..»
Подумать только, в самом деле, всего одна неделя! Всего семь дней, как погиб Михаил Никитич, мой добрый, дорогой и умный друг. Вы, безусловно, полюбили бы его, Смит, если бы потолковали с ним хоть две-три минуты. Цератод, Фламмери и их Мообс живы, а такой человек захлебнулся в дрянной каюте, на чужом корабле, вдали от родных берегов…
Ну и спутники нам попались, старина!
Стыдно признаться, еще вчера я считал Мообса юным увальнем, младенцем, которого лукавый Фламмери водит за нос. Мне было его жалко. Мне казалось, что его можно обратить на путь истинный. Нет, Мообс далеко не простофиля, это головастик опасного гада. И он растет не по дням, а по часам.
Вот, думаю, вам и еще удар по вашему прекраснодушию, дорогой капитан-лейтенант! Постарайтесь, если вы в состоянии, сделать из сего надлежащие выводы для ваших последующих знакомств (конечно, ежели таковые еще когда-нибудь будут иметь место).
А пока хорошо, что вы, Смит, раскусили наконец, что за штучка этот Цератод. Вдвоем нам будет и веселей и легче.
Но вернемся к нашим джентльменам.
Джентльмены смотрят на меня, улыбаясь. Я улыбаюсь в ответ. Дипломатия!
«Не угодно ли мистеру Егорычеву разделить с нами прогулку в Новый Вифлеем?» — «Буду искренне рад!»
Я действительно обрадовался. Вчера, когда мы туда с вами сбегали, мне не давало покоя то, что пленные остались без верного присмотра. Мы так спешили, что ничего толком не успели рассмотреть. Побывать в каменном веке и ничего не увидеть! Правда, эта возможность нам еще представится не раз и не два. Но все-таки обидно.
И вот наша экскурсия чинно спускается вниз. Мы с Фламмери впереди. За нами, шагах в трех, Цератод с Мообсом.
Идем молча. Невежливо! Начинаю нейтральный разговор. Про каменный век.
«Через полчаса, говорю, мы с вами очутимся в раннем неолите».
Фламмери удивленно переспрашивает: «Простите, как вы сказали?»
Я объясняю: «Я сказал, что через тридцать — сорок минут мы с вами попадем в каменный век, в эпоху раннего неолита. Это похоже на сон, не правда ли?»
Фламмери говорит: «Когда у человека нервы в порядке, он не видит снов».
Вот и пойми, имеет он представление о том, что такое каменный век, или не имеет. Если и имеет, то, во всяком случае, это никак его не интересует.
Но мне хочется уточнить этот вопрос. Ради этого стоит на минутку стать назойливым. Я говорю: «У многих людей не совсем правильные представления о возможностях каменных орудий. Я имею в виду неолитические орудия. Проделали как-то опыт. Взяли из музея полированный каменный топор и в течение десяти часов, без дополнительной точки, срубили двадцать шесть елей, каждая диаметром около восьми дюймов, очистили от ветвей и коры и со
всех сторон обтесали. Потом, опять-таки исключительно при помощи каменных топоров, срубили дом с крышей, дверьми и окнами… Не правда ли, говорю, на первый взгляд просто удивительно».
«В Америке хватает стальных топоров», — уклончиво замечает Фламмери.
Нет, вижу, неолит его явно не интересует и вряд ли когда-нибудь интересовал.
Через несколько минут я узнаю, что его интересует: его интересуют бутылки. На этот раз пустые бутылки.
Он вдруг живо оборачивается к Мообсу: «Мообс!»
Мообс подбегает.
«Джонни, куда вы девали вчерашние бутылки из-под коньяка?»
Итак, они пили вчера в наше отсутствие, и крепко пили. Интересно, по какому поводу? Впрочем, пес с ними. Не жалко.
Мообс начинает припоминать: «По-моему, они валяются за пещерой в кустах». — «Вы их обязательно разыщите. А пробки?» — «Право, не знаю, сэр… Тоже, вероятно, где-нибудь валяются…» — «Разыщите и пробки».
Затем Фламмери обращается ко мне и Цератоду. «Раз радио у нас пока сорвалось, нужно попробовать бутылки. Я как-то, в детстве еще, читал книжонку о том, как потерпевшие кораблекрушение бросали в океан бутылку с письмом… Не очень шикарно, но все-таки…» — «Отличная идея, — похвалил его Цератод. — Тем более, что особого выбора у нас нет».
Фламмери доволен: «Понимаете, меня ни на минуту не оставляет беспокойство за моих наследников… — Он быстро поправляется: — Я хотел сказать, за мою семью».
Еще одно доказательство, что крокодил, если он даже и отличный семьянин, не становится от этого ни на волос приятней. Физиономия у Фламмери нисколько не смягчается, как можно было ожидать при таких прочувствованных словах, а, наоборот, принимает какое-то хищное, щучье выражение. Но вот он замедляет шаг, останавливается, задирает голову под углом в шестьдесят градусов и складывает руки ладошка к ладошке. Мы уже знаем: мистер Фламмери собирается сделать заявку господу богу. Мы останавливаемся. Невежливо оставлять его одного.
Капитан Фламмери с чувством произносит: «Джентльмены! Я чувствую живейшую потребность выразить благодарность провидению, по воле которого мне пришла в голову мысль о бутылках! — Он делает глубокий вздох и начинает: — Ты убежище мое крепкое! Я буду всегда уповать на тебя и буду умножать хвалы тебе».
Пообещав господу обильные комплименты и рекламу, мистер Фламмери считает, что он договорился с небом по всем пунктам.
Засим мы уже молча продолжаем свой путь, нас торжественно встречают у края деревни и тут-то, дружище Смит, и начинается самый форменный приключенческий роман…
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ I
История войны, вспыхнувшей на острове Разочарования 11 июня 1944 года и закончившейся 13 июня того же года при совершенно необычных обстоятельствах, вряд ли станет когда-нибудь предметом специальных изысканий благонамеренных английских и американских историков. Она никак не укладывается в официальную концепцию о благодетельном продвижении западной цивилизации в страны, до того не тронутые ее ароматным дыханием. К тому же ни Егорычев ни Смит, ни тем более туземцы острова не представляются этим историкам достойными, внимания и достаточно беспристрастными источниками. Что же касается безусловно заслуживающих всяческого доверия мистеров Фламмери, Цератода и их верного Мообса, то… Впрочем, не будем забегать вперед.
Важно лишь заметить, что по причинам, которые впоследствии станут понятны читателю, только наше повествование может дать более или менее связный, хотя и далеко не полный отчет о событиях грозных трех дней, которые перевернули вверх дном этот затерянный в океанских просторах неизвестный клочок суши. Если это так, а это именно так, то нам прежде всего надлежит дать читателю представление о плацдарме, на котором развернулась эта стремительная и самая разрушительная из войн, когда-либо имевших место на острове Разочарования (да и только ли на нем?).
Автор видит также первоочередную свою задачу и в том, чтобы перечислить населенные пункты острова и в самых кратких чертах обрисовать взаимоотношения, существовавшие между их обитателями. ' С этого мы и позволим себе начать третью часть нашего повествования.
Из рассказов Гамлета Брауна уже было известно, что, кроме деревень Новый Вифлеем и Добрая Надежда (той самой, откуда прибежали помогать тушить пожар в Новом Вифлееме), существуют на острове еще три: Эльсинор, Эльдорадо и Зеленый Мыс. Со Священной лужайки их нельзя было разглядеть даже в бинокль.
Первая расположилась в густой темно-зеленой чаще в семи километрах к юго-западу от Нового Вифлеема, на просторной террасе, которая возвышалась над близким берегом метров на тридцать пять — сорок. Ее можно было видеть только с моря. Эльдорадо и Зеленый Мыс раскинулись в той же южной части острова: Эльдорадо в часе ходьбы от Эльсинора, Зеленый Мыс — в соответствии со своим названием — на щедро покрытой лесом южной оконечности острова, обе тоже высоко над берегом.
На полпути между Новым Вифлеемом и Эльсинором проходил начинавшийся у самой вершины кряжа и кончавшийся у линии прибоя широкий, метров в пятьдесят, каньон, превращавшийся после каждого ливня в русло глубокой и стремительной горной реки.
Разделенные каньоном и этими сравнительно скромными расстояниями, жители южных и северных селений острова Разочарования несколько отличались друг от друга и бытом, и украшениями, и архитектурой жилищ, и, пожалуй, больше всего в верованиях, простодушно полагая при этом, что именно они, а не те, кто проживает по ту сторону оврага, придерживаются истинной христианской веры.
Например, «дух святой» представляли себе в Эльдорадо в виде бабочки с узкими, прозрачными крылышками, в Эльсиноре тоже в виде бабочки, правда, с широкими сиреневыми крылышками. А вот в Новом Вифлееме ни с того ни с сего почему-то в виде золотистого майского жука.
При таких значительных расхождениях в вопросах первостепенной важности поистине удивительно полное отсутствие, по крайней мере на памяти нескольких последних поколений, религиозных войн на острове Разочарования.
Очень соблазнительно считать это следствием низкого культурного уровня туземного населения. Но немалое значение, бесспорно, имел и географический фактор. Мы в первую голову имеем в виду каньон.
Вполне возможно, что религиозный спор между островитянами, находившимися по разные стороны этой непроходимой пятидесятиметровой естественной преграды, не перерастал в вооруженный конфликт исключительно из-за низкого уровня военной техники на острове. Ни стрелы, ни копья и дротики не могли поразить противника через каньон такой ширины. Лишенный не только пулемета, но и самой заурядной винтовки, островитянин, как ни было велико его желание доставить удовольствие господу богу, был бессилен уложить бесстыжего еретика тут же на месте. Продираться сквозь непролазные дебри вниз, к берегу, а оттуда по другую сторону каньона, через такие же непролазные дебри, наверх, к обидчику господню? Для этого требовалось немало времени и куда больший, чем у жителей острова Разочарования, религиозный фанатизм.
Поэтому редкие раздоры между южанами и северянами если и возникали, то по более земным поводам.
Но и тогда, как правило, дело не доходило до вооруженных столкновений. Островитяне, в противоположность вековым традициям западной цивилизации, предпочитали разрешать возникшие недоразумения по возможности посредством переговоров. В крайнем случае, если обстановка чересчур накалялась, устраивался поединок между специально выделенными на сей случай представителями обеих сторон. При этом другими специально выделенными представителями велось строжайшее наблюдение, чтобы дрались по правилам и не доводили дело до смертельного исхода.
Что же в таком случае довело население острова Разочарования до знаменитой Трехдневной войны тысяча девятьсот сорок четвертого года?
Одним из формальных поводов (впоследствии будет рассказано и об остальных двух) послужило тщательно, при посредстве самых совершенных приемов, проведенное магическое следствие над телом Яго Фрумэна, выброшенным волной на берег на другой день после его прискорбной гибели. Следствие безоговорочно показало, что причиной смерти упомянутого Яго Фрумэна является наведенное на него колдовство.
Что до действительной причины Трехдневной войны, то она станет ясна читателю, когда он внимательно изучит события последних двадцати четырех часов, предшествовавших ее началу…
В тот момент, когда бездыханное и мокрое тело первого цивилизованного дипломата и государственного деятеля острова Разочарования мягко шлепнулось о раскаленную прибрежную гальку, в деревне Новый Вифлеем находились четверо из пяти белых джентльменов, спасшихся при гибели британского королевского военного транспорта «Айрон буль». Мы имеем в виду Егорычева, Фламмери, Цератода и Мообса. Смит остался наверху, в пещере, караулить. пленных и поразмышлять на досуге.
Немудрено, что эти необычные гости сразу стали предметом самого пристального внимания и из ряда вон выходящего гостеприимства, которого они со всех точек зрения заслуживали — и как люда со столь удивительной окраской кожи и как люди, вооруженные сверхудивительными и сверхстрашными скорострельными мушкетами.
Словом, они представляли собою настолько разносторонний, хотя и жутковатый интерес, что все жители Нового Вифлеема и наиболее любопытные, а следовательно, и бесстрашные жители Доброй Надежды окружили тесным кольцом новых обитателей Священной пещеры. Они следовали за белыми по пятам, учтиво улыбались каждый раз, когда взгляд гостя останавливался на их лице, и шепотом обменивались между собой замечаниями, когда этот сулящий неведомые опасности взгляд благополучно уходил в сторону.
Уже дымились и весело, потрескивали одиннадцать больших костров; уже были зарезаны, освежеваны и разделаны длинными и очень острыми ножами из бамбуковых пластин четыре крупных и упитанных козленка; уже закипала вода в одиннадцати огромных горшках из плетеных прутьев, густо обмазанных глиной.
Мальчишки, которые во всех странах мира полны одинаковых страстей, с обезьяньей ловкостью и быстротой карабкались на высокие пальмы, стараясь поскорее сошвырнуть вниз побольше кокосовых орехов, чтобы затем на рысях присоединиться к почетному конвою, неотступно следовавшему по пятам диковинных чужеземцев.
Несколько дюжих парней с озабоченными, блестевшими от обильного пота темно-коричневыми лицами трудолюбиво таскали из ближайшего ручья воду в больших желтых, крепких, как железо, бамбуках. Другие волокли из лесу стволы поваленных бурей деревьев. Стволы были, конечно, слишком длинными для костров. Их клали под котлы только одним концом и передвигали в огонь постепенно, по мере того, как часть ствола успевала сгореть. Так по мере сгорания передвигаются угли в вольтовой дуге. Это было не такое уж хлопотное дело, особенно если учесть, что рубить стволы на части каменными топорами было куда более трудоемким занятием.
Девочки со счастливыми лицами полезных участников торжества бегали к пальмам и возвращались оттуда с зелеными кокосовыми орехами. В сторонке, на большом пне, на котором только что разделывали туши козлят, ухмыляющийся в предчувствии хорошего угощения островитянин ловко, с одного удара, отрубал острым и тонким каменным топором верхушки орехов, уже освобожденных от внешней зеленой оболочки. Кокосовое молоко сливалось в большой горшок, кокос поступал в руки женщин, сидевших на корточках у разложенных на траве опрятных и нарядных циновок. Женщины выскребали с внутренних стенок орехов и раскладывали равными порциями на банановые листья нежную мякоть, вкусом напоминающую грецкий орех и чуточку — сырой картофель. Гроздья спелых бананов лежали несколько поодаль. Пиршество готовилось на славу.
А пока что гости осматривали Новый Вифлеем. Он состоял из нескольких десятков хижин, ничем, кроме одной, значительно больше всех остальных, не отличавшихся от недавно сгоревших хижин. Они обрамляли собою просторную и опрятную площадь. Таким образом, экскурсия по Новому Вифлеему превращалась в неутомительную прогулку по внутренней стороне довольно правильного прямоугольника. Деревня не была защищена от внешнего мира никаким забором, да, собственно, в нем и не нуждалась. Со всех четырех сторон ее охватывала непроходимая чаща, которую только в двух местах прорезывали узенькие тропинки: одна в- направлении к берегу, другая — в сторону Священной лужайки.
Ни архитектура, ни убранство хижин нисколько не заинтересовали ни Фламмери, ни Цератода, ни Мообса. Отлично отполированные каменные топоры на коленчатых рукоятях, каменные мотыги, заключавшие в себе бездну человеческого труда и терпения, костяные иглы, сверла из разнокалиберных, заостренных о камень раковин, ножи и бритвы из тонких бамбуковых пластин, костяные серпы с острорежущими кремневыми вкладышами, каменные зернотерки, барабаны из выдолбленных колод, украшенные тончайшей резьбой, кремневые пилки, сверла, долота, скребки кремневые и скребки из раковин, сосуды из кокосовой скорлупы и сосуды из бамбука, рыболовные снасти, изготовленные из кокосовых волокон, луки, стрелы, колчаны, деревянные щиты, обитые кожей, кожаные щиты, отороченные козьим мехом и увешанные амулетами, — все это вызывало у них лишь презрительные улыбки.
Гамлет Браун буквально разрывался на части. Он то исчезал, чтобы отдать необходимые распоряжения, то что-то озабоченно шептал на ухо своим односельчанам, то вытирал носы ребятишкам, то разгонял коз, бесцеремонно увязавшихся за торжественным кортежем, то представлял гостям встречных туземцев, то просто молча, со счастливой широкой улыбкой на лице сопровождал гостей, готовый без промедления ответить на любой возникший у них вопрос, выполнить любое их пожелание, — словом, сделать их посещение Нового Вифлеема наиболее приятным и удобным.
Тут же неподалеку, но поближе к Фламмери и Мообсу, вертелся Гильденстерн Блэк, искательно ухмылявшийся каждый раз, когда кто-либо из его благодетелей случайно останавливал на нем свой скучающий взгляд,
— Его зовут Билли, — говорил Гамлет, подводя за руку смущенно упиравшегося односельчанина. — Да иди же, Билли, не бойся. Эти джентльмены не чета тем, в черных одеждах. Эти джентльмены ничуть не хуже нас с тобой. А если у них не черная, а белая кожа, то смешно в этом их винить. Кто знает, может быть, в тех местах, откуда они прибыли, наоборот, черная кожа такая же редкость, как у нас белая. А вот это Малькольм. Иди сюда, Малькольм, не стесняйся…
Заметив, что рассуждения Гамлета о цвете кожи не на шутку возмутили мистеров Фламмери и Мообса и что может разгореться серьезный скандал, Егорычев решил спешно переменить предмет разговора.
— Мне давно хотелось спросить у тебя, Гамлет, как у вас даются имена новорожденным? По святым?
— Ну да, — с готовностью отозвался Гамлет. — Я полагаю, всем известно, что имена даются по святым.
— Хотел бы я посмотреть, как выглядит святой Гамлет, — насмешливо пробурчал Цератод.
— Действительно, — сказал Егорычев, — разве существует такой святой — Гамлет, или такая святая — Дездемона?
Гамлет недоверчиво рассмеялся. Ему казалось, что Егорычев шутит.
— Будто вы не знаете, сэр, что таких святых нет? И святых Офелии, Макбета, Отелло, сэра Джона Фальстафа и разных других тоже нет… Потому что это ведь не святые, а действующие лица.
— Они только действующие лица, сэр, — подтвердил стоявший поблизости высокий, чрезвычайно жизнерадостный старик с роскошно взбитой прической. — Гамлет никогда не говорит неправды. Они действующие лица. — Убедившись в странной неосведомленности белых насчет святых, он был сейчас не вполне убежден, поймут ли они и что такое действующие лица. — Действующие лица — это из представлений.
— Так, значит, тебя назвали Гамлетом по пьесе Шекспира? — спросил Егорычев.
Островитяне были поражены. Оказывается, имя Шекспира известно и за пределами острова. Разочарования!
— Конечно. Раньше меня звали Джимом. Джим Браун. Но когда я вытащил из пропасти девочку Саймона Флинка, меня назвали Гамлетом, чтобы мне было приятно.
— И тебе это действительно приятно?
— Очень.
— А почему тебя не назвали Гильденстерном? — спросил Егорычев, бросив косой взгляд на съежившегося Гильденстерна Блэка.
Туземцы ехидно заулыбались. Блэк юркнул подальше в толпу. Но Гамлет отвечал без тени улыбки:
— Что вы, сэр! В Гильденстерна переименовывают только плохих людей!
— Тогда можно было назвать тебя Полонием, Розенкранцем, — продолжал Егорычев подзадоривать Гамлета, и тот горячо возразил ему:
— Это тоже были весьма недостойные люди, сэр! Вспомните, сэр!..
И тут на глазах у пораженных гостей Гамлет Браун превратился в заправского Полония, каким его представляли на английской сцене семнадцатого столетия. Он зычно откашлялся, выставил вперед босую ногу в коротких серых трусах из козьей шерсти, отвесил низкий и церемонный поклон воображаемому королю датскому, дяде и отчиму того, настоящего, шекспировского Гамлета, его живое и открытое лицо стало искательным и лукавым, сам он, полувыпрямившись, угодливо протянул вперед свою правую руку, перетянутую выше локтя широкой желтой лентой, подарком Егорычева, и неожиданным старческим голосом прошамкал:
Я дочь ему подкину в этот час,
А мы вдвоем за занавеску станем.
Вернув лицу прежнее выражение, он уже обычным голосом пояснил:
— Это Полоний про свою родную дочь, сэр! Страшно подумать! Или взять, к примеру, того же Яго…
Он снова откашлялся, гаденько улыбнулся и, удовлетворенно потирая ладони, прорычал к великому восторгу своих односельчан:
…Нет в мире ничего Невиннее на вид, чем козни ада. Тем временем, как Кассио пойдет Надоедать мольбами Дездемоне, Она же станет к мавру приставать, Я уши отравлю ему намеком, Что жалость Дездемоны не с добра…— Вот какой это был негодяй, сэр! Так низко обмануть человека из своей же деревни! Я имею в виду Венецию, сэр!..
— Тц-тц-тц-тц-тц! — дружно и очень звучно защелкали языками островитяне в знак наивысшей похвалы. Они часто кивали головами с видом полностью ублаготворенных ценителей сценического искусства. — Тц-тц-тц! Еще что-нибудь, Гамлет! Проговори нам еще что-нибудь!.. Ты нам делаешь приятно, когда говоришь из пьес!.. Скажи нам «Быть или не быть», Гамлет!.. Еще что-нибудь!.. Тц-тц-тц!..
Лицо Гамлета выражало все чувства, которые присущи актеру, нашедшему тесный контакт со зрителями. Ему нравились эти бесхитростные знаки одобрения, он умел их ценить, хотя, видно, они и были ему уже не впервой.
— Послезавтра, люди Нового Вифлеема! — сказал он, прижимая руки к сердцу и также усиленно кивая головой. — Послезавтра, люди Доброй Надежды! В воскресенье, как всегда, в Священной воронке состоится годовой праздник Гамлета и Отелло, мы с вами там встретимся, и тогда вы услышите и увидите обе эти пьесы в исполнении всех лучших людей человечества…
— Да у них тут, кажется, свой театр! — восхитился Егорычев. — Я не удивлюсь теперь, даже если на острове вдруг обнаружится своя консерватория и институт журналистики!
За неимением более приятного собеседника он обратился к Цератоду, который все же, единственный из его спутников, мог оценить по достоинству поразительный факт существования на этом острове театра, да еще с шекспировским репертуаром.
— Я бы не сказал, что это самый насущный вопрос, который вас должен сейчас волновать, — сухо отвечал Цератод, хотя и он, бесспорно, был весьма заинтригован шекспировским театром у голых дикарей.
— Вы слышали? — осведомился у него вполголоса мистер Фламмери. — Вы обратили, мистер Цератод, внимание на одну чрезвычайно любопытную подробность в словах этого чернокожего?
— Ну, еще большой вопрос, насколько это похоже на настоящее искусство, — попытался Цератод успокоить и его и в не меньшей степени себя.
— Да нет, я совсем не о том, — отмахнулся Фламмери. — Вы не обратили внимания на сроки их идиотского праздника?
— По совести говоря, я бы пола… — начал было Цератод, но Фламмери, не считавшийся с правилами вежливости, когда они ему мешали, перебил его на полуслове.
Он еще больше понизил голос, стараясь, чтобы его в первую очередь не услышал Егорычев.
— Вы не заметили, этот кривляка действительно сказал «послезавтра, в воскресенье»? Я не ослышался?
— Что-то в этом роде. А в чем дело?
— А дело, мой приятнейший мистер Цератод, в том, что послезавтра мы с вами будем иметь понедельник. Воскресенье, если я только не сошел с ума, будет завтра, а не послезавтра. Сегодня — суббота…
— В самом деле, — согласился с ним Цератод, — но ведь в таком случае… Позвольте, позвольте! — всполошился он вдруг, и мистер Фламмери, снова не посчитавшись с простейшими правилами приличия, прикрыл ему рот своей ладонью.
— Тссс! — прошептал он. — Пока промолчим!.. Мы это потом обсудим… Вдвоем… Без лишних свидетелей!..
II
Пока готовился обед, а Егорычев с несколькими островитянами пошли в пещеру, где со вчерашнего дня хранились бочки, выловленные Гамлетом, чтобы обсудить на месте, как лучше всего соорудить плот, Цератод и оба американца успели обменяться мнениями по некоторым весьма важным, хотя и непривычным для них вопросам. Около американцев с преданными лицами вертелись Гильденстерн и Розенкранц. Полоний, как уже известно читателю, гостил у родственников своей первой жены в деревне по ту сторону каньона. Остальные островитяне, отдав первый долг гостеприимства, спешно разошлись по своим жилищам, чтобы заняться туалетом и явиться на пиршество разукрашенными («разодетыми» — не то слово) по-праздничному.
— Тебя, кажется, зовут Гильденстерном? — обратился Цератод к Блэку.
— Истинно так, дорогой мой сэр!
— Значит, тебя — Розенкранцем? — спросил он у молодого коллеги Гильденстерна.
— О, как вы смогли догадаться, сэр? — льстиво вскричал Розенкранц, вне себя от верноподданнического восторга. — Ты слышал, Гильденстерн? Этот добрый, толстый, нет, что я говорю, очень толстый джентльмен (Цератода всего передернуло: он не знал, что па острове Разочарования не было большего комплимента, чем сказать человеку, что он толст), этот прекрасный и щедрый толстый джентльмен оказал мне такую большую честь! О Гильденстерн, этот очень толстый джентльмен знает меня по имени!..
Нужно же было суметь с такой основательностью наступить на самую любимую мозоль Цератода! Мообс чуть не лопнул, удерживаясь от смеха. Мистер Фламмери, чтобы скрыть улыбку, счел целесообразным отвернуться. Но от ревнивого взора Цератода трудно было утаить веселое настроение, охватившее обоих американцев в связи со словами Розенкранца. В другое время Цератод не упустил бы возможности поставить на место этого хлыща Мообса. Но времена меняются. После отхода от него Смита нельзя было ни на минуту забывать о роковом соотношении внутри их группы, при котором он остался в обидном и прочном меньшинстве. Все это заставило его обратить всю свою желчь против беззащитного Розенкранца.
— Молчать! — прошипел он с таким страшным лицом, что Розенкранц мгновенно завял. — Я не буду тебя расспрашивать, как зарабатывает себе позорное имя Розенкранц молодой человек столь завидного сложения, стройный, подтянутый и с таким… — Цератод сделал крошечную паузу и с ехидством добавил: — …и с таким тонким лицом. (Он не мог отказать себе в безопаснейшем из хамств, в издевательстве над человеком, не понимающим, что над ним издеваются. Но, сам того не подозревая, он нанес удар в самое сердце франтоватому Розенкранцу: пуще всего тот гордился именно своим широким, луноподобным лицом.) Я не буду тебя расспрашивать, как тебя звали до того, как ты совершил преступление, за которое понес это наказание, и что это было за преступление. С меня достаточно знать, что за хорошие дела человеку не дают такое имя. За хорошие дела человека называют Гамлетом!
При этом имени физиономии обоих отщепенцев искорежились такой ненавистью, что Цератоду осталось только поздравить себя с результатами своей провокации. Последняя фраза, произнесенная с чисто разведывательными целями, помогла ему уяснить, что внутри Нового Вифлеема расстановка сил не оставляет желать лучшего. Конечно, с точки зрения Цератода и Фламмери.
Подлости экспромтом всегда были сильной стороной Эрнеста Цератода. Убедившись в ненависти, которую оба питали к Гамлету, он счел своим долгом укрепить их в этом чувстве.
— Некоторые люди Нового Вифлеема, — на ходу придумал он, — не раз просили нас умертвить вас, потому что ни тебя, Розенкранц, ни тебя, Гильденстерн, ни вашего Полония, скажем правду, не любят…
Теперь физиономии обоих прохвостов выражали одновременно и сознание своего ничтожества, и преданность, и испуг, и готовность улепетнуть куда глаза глядят, и готовность выполнить любое приказание, и опасение, как бы в такую решающую минуту их жизни случайно не проштрафиться.
— Но мы решили не только не убивать вас, но и защитить от происков ваших односельчан. Больше того, мы решили возвысить вас над ними, чтобы вы могли показать им, кто вы такие, — великодушно изрек Цератод, и отщепенцы снова воспрянули духом.
— Нас не интересуют сейчас твои прошлые грязные делишки, — вступил тогда в разговор Фламмери. — Нам важно знать совсем другое… Скажи, умеешь ли ты творить чудеса?
Вместо ответа Розенкранц брякнулся ничком на землю и затрясся.
— Почему ты не отвечаешь, когда тебя спрашивает белый человек? — строго переспросил его Фламмери. — Заруби себе на носу: не отвечая белому джентльмену на его вопрос, ты совершаешь смертный грех, который господь бог никогда не прощает черному человеку. (Для вящей предметности Фламмери указал перстом на то место над их головами, где предположительно находился в это время господь бог.) Если ты боишься бога, ты должен мне сейчас же ответить, умеешь ли ты творить чудеса, ну, колдовать, что ли. Кстати, этот вопрос относится и к тебе, Гильденстерн.
Теперь плюхнулся на землю и второй отщепенец, и оба они, лежа, с такой силой отрицательно замотали головами, что казалось истинным чудом, что головы не оторвались от плеч и не откатились далеко в сторону.
— Ладно, — сказал Фламмери, — встаньте!
Оба негра оставались, однако, лежать ничком, уткнувшись лицами в примятую траву. Им было очень страшно.
— Встаньте! — прикрикнул на них Фламмери. — Кому я велел встать?!
Мообс поддержал это приказание щедрыми пинками в их спины, и отщепенцы кое-как встали на свои ослабевшие ноги.
— Я вас обучу чудесам! — сказал Фламмери. — И вы их еще сегодня покажете своим односельчанам, и тогда они поймут, как они в вас ошибались, и станут почитать вас. Не надо только бояться. Раз вам что-нибудь обещает белый джентльмен, вам нечего бояться… А теперь идите, приведите себя в порядок, чтобы явиться на пиршество в самом благообразном виде. Понятно?
Когда Гильденстерн и Розенкранц скрылись в своих хижинах, Фламмери сказал Мообсу:
— Крикните какого-нибудь мальчишку. Только поскорее! Время не терпит…
У него был уверенный и жесткий голос хирурга во время сложной и опасной операции, когда каждая секунда на учете. Мообс беспрекословно повиновался.
Пока он вернулся с мальчишкой, Фламмери успел написать записку Сэмюэлю Смиту.
— Ты умеешь быстро бегать? — спросил он у мальчика. Мальчик снисходительно улыбнулся. Любой мальчик в любой части света ответил бы на такой вопрос точно так же.
— А сумеешь ли ты сбегать еще быстрее, если я тебе обещаю За это большой железный гвоздь? — Фламмери прикинул в уме, не слишком ли он щедр, но, махнув рукой, добавил: — И красивую красную ленту.
— Лучше два гвоздя, — сказал, подумав, мальчик.
— Ладно, пусть будет по-твоему. Пусть будет два гвоздя. Фламмери приписал еще несколько слов к записке, свернул ее
конвертиком и вручил мальчику.
— Бега как можно скорее в Священную пещеру и передай это белому джентльмену. Его зовут Смит. Ты запомнишь, его зовут Смит?
— Моя фамилия тоже Смит, — с достоинством ответил мальчик. — Я запомню.
— Ты передашь это Смиту, и он тотчас же выдаст тебе два гвоздя по твоему выбору, а для нас передаст небольшой кулек. Понятно?
— Понятно. Можно бежать?
— Беги! Сейчас мы проверим, действительно ли ты так хорошо бегаешь, или ты всего-навсего маленький хвастунишка…
— Го-го-го! — подбодрил себя юный Смит, откинул назад голову так, что перышко чуть не коснулось его острых лопаток, энергично отвел назад правую руку, левую выбросил вперед, и только пятки его, розовые, твердые, как стекло, пятки мальчика, никогда не знавшего обуви, сверкнули и исчезли в темноватом коридоре просеки.
Нет, мальчик из Нового Вифлеема не был хвастунишкой.
Только заглох вдали частый топот его ног, как вернулся Егорычев, на сей раз без Гамлета. Гамлет пошел принарядиться к празднеству.
Егорычев остался с Цератодом и американцами. Но Фламмери кашлянул, и оба его достойных сподвижника, словно по команде, заинтересовались высившимся в дальнем углу деревни крупным ветвистым деревом, усыпанным густыми соцветиями золотисто-желтых цветов. Они с похвальной поспешностью направились к нему, оставив Егорычева с глазу на глаз с Фламмери.
— Дорогой Егорычев, — промолвил американец с редкостной задушевностью, — давайте присядем и потолкуем!
Они уселись в холодке, на груде сухих бамбуковых жердей, звеневших, точно они были из кости.
— Дорогой друг, — продолжал Фламмери, — вы позволите мне поговорить с вами, как мужчина с мужчиной, вернее, как деловой мужчина с деловым мужчиной?
— Пожалуйста, — сказал Егорычев, — буду рад.
— Нужно ли мне говорить вам, дорогой Егорычев, что я вас искренне полюбил? — начал в приподнятом тоне Фламмери.
Егорычев отрицательно мотнул головой и улыбнулся. Это в равной степени можно было принять и за уверенность в любви Фламмери и как глубочайшее отрицание самой возможности любви к нему со стороны этого благочестивого джентльмена. Мистер Фламмери предпочел первое толкование.
— Не буду утверждать, что это произошло в первую же минуту нашего знакомства. Но прошло несколько дней, и я убедился, что вы, Егорычев, отличный парень, храбрый, толковый, энергичный, образованный и порядочный молодой человек. Я уже не говорю о вашем ровеснике Мообсе, вы даже мистеру Цератоду, которого я тоже бесконечно ценю и уважаю, можете дать сто очков вперед…
Егорычев с шутливой благодарностью прижал руку к груди:
— Вы не боитесь испортить меня такими похвалами?
— Нет, не. боюсь! — отвечал бесстрашный капитан санитарной службы. — Вы не такой человек, которого можно испортить похвалой! И мне чертовски жаль, что между нами вспыхивают дурацкие перепалки. Они происходят из-за пустячных обмолвок и не должны быть поводом для ссоры между товарищами по оружию…
Он подождал, рассчитывая, что Егорычев что-нибудь скажет. Но Егорычев промолчал. Ему не было ясно, куда клонит эта старая лиса. В одном он был уверен: готовится какая-то пакость.
Голос Фламмери' журчал, как ласковый ручеек, но кто знает, какие острые камни и илистые ямы таились на его дне.
— Я долго размышлял, что мешает нам жить в добром согласии, и я пришел к выводу, что все это основано на нелепейшем недоразумении.
Фламмери придвинулся поближе к Егорычеву и, хотя поблизости никого не было, перешел на доверительный шепот:
— Мне кажется, что вы, мой дорогой и славный друг, ведете себя здесь, на острове, так, словно за вами неустанно следят ваши начальники из партячейки. (Довольный своей глубокой осведомленностью, Фламмери позволил себе щегольнуть настоящим русским словечком, и Егорычев даже не сразу разобрался, что это за слово.) Можете быть уверены, что здесь нет ни ваших начальников из партячейки, ни переодетых детективов из Гепеу. Уверяю вас, ни я, ни наши друзья Цератод и Мообс никогда, никому и ни при каких обстоятельствах не расскажут о вашем поведении, каким бы оно ни было. Мы воспитаны в духе глубокого уважения ко всякому проявлению человеческого интеллекта, ибо кто, как не сам человек, знает, что ему в данный момент выгодней. Человек имеет право, и это его священнейшее право, — при этих словах Фламмери, как истый пророк, поднял над своей головой указательный палец правой руки, — я повторяю, священнейшее право уточнять, совершенствовать, а если нужно, и изменять в корне свои убеждения, раз он нашел лучшие перспективы для своего душевного спокойствия, для благополучия и благоденствия собственного и своих ближних (я говорю о ближних не в общехристианском, а семейном смысле этого слова). Надеюсь, я выражаюсь достаточно понятно?
— Вполне понятно, — подтвердил Егорычев и несколько отодвинулся от Фламмери.
— Ну вот, видите, — сказал Фламмери и снова придвинулся к Егорычеву. — Теперь идем дальше. Наши страны воюют против общего врага и во имя общей цели, не правда ли?
— Надеюсь, — сказал Егорычев.
— Так не все ли нам в таком случае равно, какой флаг развевается в этом сражении над нашей головой?
— Над моей или вашей?
— В данном случае над вашей. Вы меня уже неплохо знаете, Егорычев, и вы знаете, что не в моих правилах скрывать свои мысли, не в моих правилах лицемерить. Я предлагаю вам продолжать свою борьбу за демократию и против тоталитаризма под флагом величайшей из демократий, под звездным флагом Соединенных Штатов Америки.
— Разве вам не все равно, какой флаг развевается в этом сражении над моей головой? — спросил Егорычев.
— Конечно, не все равно. Совсем не все равно! Потому что я думаю и о вашей пользе и о благе России, которую мы оба любим!..
Егорычев с нескрываемым любопытством посмотрел прямо в глаза Фламмери. Фламмери выдержал этот взгляд с голубиной кротостью.
«Неужели он считает меня таким младенцем? — подумал Егорычев. — Черт знает, какое нелепое положение! Дать ему по физиономии? Глупо! С этого торгаша все как с гуся вода. Он недостоин того, чтобы честный советский человек на него обижался… Спокойней, Костя! Послушай, что будет он говорить тебе, и пусть он выговорится до конца… Интересно, как он будет меня соблазнять… Вот уж никогда не думал, что мне будут делать такое предложение и что я не изобью вербовщика!»
— С тех пор как погиб «Айрон буль», — продолжал ворковать Фламмери. — вы для вашей страны — ничто, одна из многих миллионов безыменных жертв этой ужасной войны. Вас уже забыли, вычеркнули из списков и памяти. Никто не будет разыскивать вас: ведь вы на дне Океана! Россия отсюда так далеко, что ваша связь с нею превращается в фикцию, в ничто, в пыль, в предрассудок. Вы скажете — отец? Но он же солдат. Сто раз на дню он рискует своей жизнью, а ведь конца войны еще не видно. Вы скажете — жена? Но вы сами рассказывали, что прожили с нею под одной крышей, в общей сложности меньше месяца. Детей у вас нет. Вам ничего не будет стоить разлюбить свою жену. Особенно, когда вы увидите первую дюжину наших американских красоток. Подумайте, сколько человек вас будут вспоминать на второй, ну, скажем, на третий день после того, как придет извещение о вашей мнимой гибели? Разве только начальник вашей партячейки, когда будет предлагать на ваше место другую кандидатуру на должность флагманского штурмана (я не ошибаюсь, так, кажется, называется ваша должность?) этого… э-э-э… этой дивизии охотничьих катеров… Между тем и здесь на острове, и в самих Штатах в вас, в вашем уме, умении, мужестве и преданности демократии заинтересованы американцы, нация будущего, нация могущественная, богатая, стоящая на вершинах культуры и разума, нация, умеющая щедро оплачивать усилия тех, кто честно помогает ей в выполнении ее высоконравственных задач; Двадцатый век — это американский век, мой дорогой Егорычев, и человечество должно примириться с этим, как с совершившимся и неопровержимым фактом. Истинно преуспевать будут только те, кто будет шагать под командой великой американской демократии. И я призываю вас, мой молодой друг, с честью погибнув во славу России, возродиться сейчас для новой славной и доходной деятельности на благо всего человечества и культуры.
— А если говорить без декламации, по-деловому? — спросил Егорычев, странно улыбаясь.
— Что ж, по-деловому так по-деловому, — с облегчением согласился Фламмери. — Вы, кажется, проживаете в Севастополе?
— В Севастополе, — ответил Егорычев и невольно вздохнул.
— У вас там хорошая квартира? Сколько в ней комнат?
— Хорошая, Одна большая комната. Двадцать три с половиной квадратных метра.
— Вы будете иметь квартиру в восемь комнат, площадью в сто, сто двадцать, сколько хотите метров. Ванна для вас, ванна для вашей жены, ванна для вашей прислуги. Сколько вы получаете в месяц?
Егорычев назвал цифру.
— Вы сможете получать такую же и большую сумму в долларах, вы понимаете, в долларах, в единственной в мире настоящейвалюте! Не сразу, конечно, но я вам гарантирую, что вы этого достигнете в несколько лет. Я уже не говорю о литературных доходах. При некотором желании и трудолюбии вы сможете стать автором, по крайней мере, одной сенсационной книги о России. Вы понимаете, о чем я говорю? Это сотни тысяч долларов и фотографии во всех газетах и журналах мира. Конечно, за исключением русских..
— Я понимаю, о чем вы говорите, — подтвердил Егорычев. — Я никогда не мог подумать, что мне сделают такое предложение, но я понимаю, о чем вы говорите… Конечно, во всех газетах и журналах, кроме советских.
— Вы когда-нибудь командовали кораблем, мой дорогой Егорычев?
— Два дня катером-охотником, когда убило командира.
— Что вы скажете о новеньком, сверхсовременном эсминце, да что там эсминце. — крейсере! Вы будете командовать быстроходнейшим американским крейсером, черт возьми! На вашем лице сомнение? Вы не уверены в силе моей рекомендации? Посмотрите, как вокруг меня увивается этот идиот. Я имею в виду Мообса. Он глуп как пробка, но он понимает, что такое бизнес. Не беспокойтесь, он знает, вокруг кого увиваться!
— Я не беспокоюсь, — сказал Егорычев. — Конечно, он знает, вокруг кого увиваться.
— Само собой разумеется, я чрезвычайно далек от того, чтобы ставить вас на одну доску с Мообсом. Я просто хотел, чтобы вы убедились, что я достаточно влиятелен. Я имею честь и удовольствие предложить вам, сэр, стать американским морским офицером. Америка нуждается в людях, которые любят и знают Россию, любят и знают эту страну и ее военно-морской флот. Мы, американцы, тоже очень любим Россию, но мы ее сравнительно мало знаем. В качестве американского морского офицера вы сможете принести вашей несчастной и разоренной родине столько пользы, сколько не принесут и десять флагманских штурманов десяти русских охотничьих дивизий. Наши деловые круги будут считаться с вашим мнением, когда будут решаться вопросы помощи России, помощи, без которой ей никогда не подняться, сэр, из руин даже до уровня конца прошлого столетия. Это не только мое мнение. Это мнение лучших знатоков России и ее хозяйства и нравов. Я знаю, вы хотите мне возразить. Вы хотите, конечно, сказать, что вы сами восстановите страну из хаоса разрушения? Может быть, вы скажете, что в десять — пятнадцать, пусть даже двадцать пять лет из ничего возродите ваши сожженные города, миллионы крестьянских домов, разбомбленные заводы, затопленные шахты, вырезанные стада, вытоптанные поля? Мне кто-то рассказывал, он сам присутствовал при' том, как на одном банкете в Вашингтоне один ваш офицер совершенно серьезно уверял, что Россия не только может вообще через несколько лет восстановиться, но и восстановиться собственными силами. Больше того, этот лишенный юмора джентльмен обещал через два-три десятилетия после победы над Гитлером построить коммунизм! Я знаю, вы считаете, что ваш долг возразить мне в духе ваших коммунистических доктрин…
— Вы ошибаетесь, капитан Фламмери, — сказал Егорычев. — Я не считаю, что мой долг возразить вам в духе коммунистических доктрин.
Фламмери подозрительно посмотрел на Егорычева. Лицо Егорычева не выражало ничего, кроме холодного интереса. При сильном желании можно было предположить, что капитан-лейтенант Егорычев взвешивал предложение, которое ему сделал капитан Фламмери. Капитан Фламмери, разумеется, сильно желал этого.
— Подумайте только, какую печальную картину будет представлять ваша родина на другой день после войны. Кто, кроме Америки, будет в силах ей помочь? Ровным счетом никто, дорогой мой Егорычев! А чтобы помогать, нужно знать, кому помогаешь, его сильные и уязвимые стороны, в чем он нуждается, без чего он может обойтись и что ему необходимо до зарезу. Нужно знать, наконец, какие компенсации за эту помощь можно требовать без опасности перенапрячь струну. Для всего этого нам нужны будут эксперты, знающие Россию…
— Вы забыли слово «любящие», — напомнил ему Егорычев. — Вы говорили раньше: «знающие и любящие».
— Конечно, и любящие.
И Фламмери замолк с видом человека, который столько высказал, что вправе получить ответ даже от самого медлительного и молчаливого собеседника.
Но Егорычев молчал.
— Что же вы молчите?
— Я думаю, — сказал Егорычев.
— У нас мало времени, — поторопил его Фламмери. — С минуты на минуту нас могут позвать к обеду. Вот видите?
Он кивнул на нескольких островитян, которые деликатно дожидались, пока гости из Священной пещеры закончат беседу, чтобы пригласить их к столу.
— Согласитесь, — медленно промолвил Егорычев, чувствуя, как он наливается холодной яростью, — согласитесь, что когда человеку предлагают изменить родине…
Он встал. Фламмери вскочил и с силой усадил Егорычева на прежнее место.
— Вы говорите слова, которых не понимаете! Стыдитесь, Егорычев! Разве Соединенные Штаты и Россия больше не союзники? Какая же это измена! Наши страны находятся только на заре своей дружбы, а вы говорите — измена! Человека приглашают для его пользы, для пользы его же родины, для пользы всего человечества прийти помочь их союзнику, и у него хватает легкомыслия назвать это изменой! Что же такое тогда святое служение цивилизации, демократии и исстрадавшемуся человечеству?..
— Когда человеку предлагают изменить родине, — продолжал Егорычев таким тоном, словно не было только что произнесено капитаном Фламмери столько возвышенных и человеколюбивых слов, — то не нужно, по крайней мере, его торопить. Ведь мы с вами сейчас разговариваем как деловые люди. Значит, будем разговаривать о цене. Боюсь, что мы с вами разойдемся из-за цены. В том, может ли моя родина восстановить свое разоренное хозяйство без посторонней помощи и построить коммунизм, я, кстати говоря, не расхожусь с тем офицером, который так рассмешил вас, мистер Фламмери, и вашего неизвестного коллегу. Но сейчас у нас, как вы счастливо выразились, деловой разговор. Речь идет об оплате моего перехода на американскую службу, и меня решительно не устраивают ваши условия. Вам еще, оказывается, нужно научиться правильно представлять себе не только возможности моей страны, но и цену советского человека.
— Вы хотите набить себе цену, сэр? Говорите прямо! Ваша цена!
— Нету такой цены, мистер Фламмери!.. — с яростью сказал Егорычев. — Постарайтесь это понять!
— Чепуха! Вы слышите, че-пу-ха! — раскричался, вскочив на ноги и позабыв о всяких предосторожностях, капитан Фламмери. — Все это чистейшей воды пропаганда, и я бы попросил вас избавить меня от нее! Люди — всюду люди! Всюду они имеют одинаковое строение, одинаковое кровообращение, одинаковое количество зубов и одинаковую пищеварительную систему. Все люди одинаково любят жить сытно, в комфорте, тепле, терпеть не могут голодать и мерзнуть и мечтают обжираться всякой всячиной. Это закон природы! Так было, сэр, и так будет! И когда с человеком договариваются об оплате за услуги, все равно какие — вы слышите, все равно! — то речь идет только о деньгах, о долларах, о том, больше или меньше долларов, а не чего-то неощутимого и пропагандистского он желает получить за свои услуги! Попробуйте-ка мне возразить!
— Зачем превращать серьезный деловой разговор в беспочвенную и бесполезную дискуссию? — спокойно возразил ему Егорычев. — Давайте лучше прекратим его в сознании, что он начался и кончился, как деловой. Два деловых человека не пришли к соглашению, и все. Пойдемте-ка лучше обедать. Видите, к нам страшно торжественно приближаются несколько расфранченных островитян…
— Ну как? — тихо осведомился Цератод у Фламмери, направляясь под руку с ним к площадке, на которой был сервирован обед.
— Мне кажется, что настало время для более жесткой политики в отношении этого Егорычева.
— Я с самого начала знал, что у вас ничего не выйдет из этого разговора, — заметил Цератод не без злорадства.
— Я тоже не возлагал на него особенных надежд. Но вдруг он согласился бы? Никогда не следует терять надежду на помощь провидения! — миролюбиво промолвил Фламмери.
— Мда-а-а! — протянул Цератод. — Теперь он у нас будет торчать костью в горле.
— Я слишком ясно отдаю себе отчет в достоинствах Егорычева, чтобы примириться с его неблагожелательным присутствием рядом с нами. Для нас с ним этот остров слишком тесен. И я возлагаю на господа нашего надежды, что он поможет нам поскорей найти удобный и не слишком шумный способ для устранения этого агента Коминтерна с нашей дороги, мой дорогой мистер Цератод!
Цератод опасливо взглянул на своего благочестивого компаньона, и тот поспешил успокоить его.
— Я буду молить небо, чтобы оно указало мне для этого путь, наиболее ему угодный…
III
Гостей привели на площадку, так хорошо укрытую среди деревьев за южной Окраиной деревни, что им самим ни за что бы ее не разыскать. С трех сторон она правильным полукругом вдавалась в плотную и сумрачную чащу, из которой несло теплой гниловатой сыростью. С четвертой, из-за сравнительно редких деревьев, открывался великолепный вид на океан, позолоченный солнцем. Солнце уже клонилось к закату.
Обед был готов. Уже сняты были с котлов пожухнувшие и пожелтевшие от жирного пара широкие пальмовые листья, заменявшие крышки. Аромат крепкой мясной похлебки распространился по площадке. Убедившись, что все в сборе, Гамлет в сопровождении троих других старейшин величаво и в полном молчании проследовал через деревню на просеку, ведшую к берегу. Там, где просека кончалась, они остановились и пять раз прокричали во всю мощь своих здоровых легких:
— Пусть знает все человечество!.. Пусть знают все!.. Кто соскучился по доброй и сытной мясной пище?.. Новый Вифлеем зарезал четырех козлят!.. Четырех самых жирных и самых крупных козлят!.. Каких только знало человечество!.. Новый Вифлеем сварил похлебку из двух козлят!.. А двух изжарил на отлично разогретых камнях!.. Все, кто хочет поесть жареного или вареного мяса!.. Все, кто хочет порадовать свой живот вкусной и жирной похлебкой!.. Поскорее присоединяйтесь к нам!.. Сейчас мы начинаем!..
Никто не явился на их искренний и радушный зов, потому что никого во всей округе не оказалось. Но закон требовал, чтобы каждый раз, когда такое пиршество устраивалось, старейшины деревни выходили за околицу и пять раз самыми громкими голосами приглашали всех, кто поблизости окажется. Это был очень справедливый закон, ибо мясо на острове Разочарования было большой редкостью, не то что рыба или кокосовые орехи и бананы..
Убедившись, что не было в окрестностях деревни желающих присоединиться к обеду, четверо старейшин Нового Вифлеема так же торжественно и молчаливо вернулись на площадку и остановились у котлов. Каждое их движение было размеренно, каждый жест рассчитан. Это было священнодействие, выверенный и уточненный десятилетиями, а может быть, и столетиями церемониал принятия внутрь мясной пищи людьми, которые, окруженные благодатной и, казалось бы, щедрой природой, должны были в тяжких и повседневных боях с нею добывать себе средства к существованию.
Сразу прекратился оживленный и нетерпеливый шум, царивший кругом. Начинался следующий этап священнодействия. Гамлет стал по очереди выкликать своих односельчан и гостей из Доброй Надежды. Белые гости прошли вне очереди.
Каждому из вызванных один из старейшин вручал миску, изготовленную из половинки кокосового ореха. Ее нельзя было поставить, у нее было яйцевидное дно, ее нужно было во время пользования держать в руках. Второй старейшина такой же половинкой ореха, но превращенной в половник с искусно приделанной к ней коленчатой ручкой, черпал из котла и по самые края заполнял миску горячей и густой похлебкой, вкусно пахнувшей какими-то неведомыми кореньями. Третий старейшина выдавал каждому с величавым поклоном раковины с притупленными краями или надлежащим образом отшлифованные кусочки кокосового ореха, которые должны были служить ложками, и отсчитывал по десятку печеных бананов, которые заменяли на острове Разочарования хлеб.
Гостям были предложены циновки. Остальные участники пиршества живо уписали свои порции, стоя, или улегшись на траву животом вниз, или полулежа на ней, как римские патриции, или опершись спинами о прохладные шершавые стволы деревьев.
В это время с просеки, ведшей в Новый Вифлеем, донесся легкий свист. Младший из старейшин удалился на просеку, чтобы справиться, в чем дело. Спустя минуты две он вернулся и подошел к белым.
— Мальчик Смит вызывает белого джентльмена.
Это меня, — заявил Фламмери, вручил свою миску на попечение Мообсу и поспешил на просеку.
Так Мообс и застыл в неудобной и смешной позе с двумя наполненными похлебкой половинками кокосового ореха в руках.
— Какой там мальчик Смит? — с недоумением промолвил Егорычев. — Тут что-то напутали. Наверно, что-нибудь срочное от Смита.
Он последовал за Фламмери и увидел, как тот принял от запыхавшегося мальчишки аккуратно перевязанный пакет.
— Это мне, — сказал Фламмери Егорычеву. Потом он спросил мальчика:
— Получил гвозди?
— Получил.
— Надо сказать: «Спасибо, сэр, получил», — поправил его Фламмери, как истинный ревнитель цивилизации.
— Спасибо, сэр, получил, — послушно повторил мальчик, тяжело переводя дыхание.
— Сколько?
— Два гвоздя.
— Надо сказать: «Два гвоздя, сэр».
— Два гвоздя, сэр. Вот они!
И мальчик показал два гвоздя, крепко зажатых в потном кулачишке.
— Можно мне идти? — спросил он.
— Надо сказать: «Можно мне идти, сэр?» — с редкостным терпением снова поправил его Фламмери.
— Можно мне идти, сэр? — с неменьшим терпением повторил За ним юный Смит.
— Иди, мой юный друг, и постарайся найти для этих гвоздей самое нравственное применение.
Когда Фламмери закончил свое пожелание, которое рисовало бы его с самой лучшей стороны, не знай мы его так близко, мальчик был уже далеко.
Они возвращались на площадку молча. Уже когда они снова усаживались на циновки, Егорычев сказал:
— Пожалуй, надо будет нам перестать раздавать гвозди. Они смогут понадобиться для нашего плота.
— Отложим деловые разговоры на потом, — наставительно отозвался Фламмери, освободив наконец руку исстрадавшегося Мообса от своей миски и опуская в нее большую нежно-розовую раковину с затупленными краями. — Не будем забывать, что мы в гостях, пусть и у негров. И вообще, что касается нашего второго путешествия на плоту…
Не закончив фразы, он целиком переключился на еду.
Егорычев пожал плечами, но разговора продолжать не стал. Ему интересно было узнать, что находилось в пакете, за которым мальчик бегал на Священную лужайку к своему белому однофамильцу.
«Очевидно, новая подачка этим прохвостам Гильденстерну и Розенкранцу (ишь как они умильно смотрят на Фламмери!). Что-то он слишком уж с ними заигрывает. Придется еще сегодня уточнить этот вопрос», — решил Егорычев и стал доедать довольно приятное, чуть излишне кисловатое варево.
Когда с похлебкой было покончено, а на это потребовалось не больше трех-пяти минут, были вскрыты ямы, в которых на раскаленных камнях жарились аккуратно завернутые в пальмовые листья куски мяса. Аппетитный Запах похлебки сменился не менее манящим запахом жаркого. Теперь приступили к раздаче жареного и вареного мяса. Его рвали на части руками, и это опять-таки было правом и обязанностью старейшин. Один ловким и сильным движением раздирал Мясо, другой подставлял банановый лист, третий передавал мясо участнику обеда.
Но выкликал по-прежнему Гамлет Браун. Он это делал тщательно и с удовольствием. Каждый раз, вызвав к столу нового участника, он широко улыбался, и только тогда можно было в нем узнать прежнего, привычного Гамлета. Несколько белых и красных черт, которыми он украсил свое веселое и открытое лицо, настолько изменили его облик, что никто из белых гостей не смог его опознать. Это доставило нашему доброму малому самое искреннее наслаждение. Когда Егорычев, например, у него же осведомился, где Гамлет Браун, Гамлет от полноты чувств захлопал в ладоши, долго смеялся и, убедившись, что симпатичный молодой белый с желтой бородкой наконец узнал его, обнял и хлопнул Егорычева по спине. Он был попросту счастлив. Если его не узнал этот могущественный и мудрый человек, то куда уж какому-нибудь злому духу!
Егорычев был не на шутку увлечен тем, что совершалось вокруг него: он присутствовал на пиру людей каменного века! Сколько ученых (обычные смертные уже не в счет!) отдали бы год жизни, чтобы очутиться здесь на месте Егорычева! Какой поистине неоценимый клад представляло это зрелище для этнографа, историка общественных форм, историка материальной культуры, писателя, вообще культурного и любознательного человека!
Зато остальные белые гости не испытывали ничего, кроме чувства собственного превосходства и великолепного презрения к небогатому дикарскому комфорту. Правда, это не помешало им принять самое деятельное участие в обеде.
После мяса была подана рыба, а за нею десерт — нечто вроде холодного пудинга из мякоти кокосового ореха, очень спелых, темно-коричневых бананов и кисловатых оранжевых ягодок с мелкими, как у смородины, зернышками, которые островитяне называли козьими глазками. Обильно посыпанное творогом и политое кокосовым молоком, это довольно терпкое блюдо возбуждало жажду. Жажду утоляли из суповых мисок кислым, слегка пенистым хмельным напитком, по цвету и вкусу отдаленно напоминавшим кумыс. Недостатка в нем не было, островитяне дружно воздали ему должное, и вскоре площадка огласилась веселым гомоном подвыпивших людей. Несколько молодых парней побежали к кострам, которые уже успели покрыться серыми хлопьями мохнатого пепла, пододвинули недогоревшие остатки бревен, быстро раздули тлевшие угли, и лужайка озарилась неверным светом оживших костров. От деревьев, от людей, от копий, прислоненных к деревьям, от барабанов, походивших в полумраке на задремавших непомерно толстых и коротких крокодилов, пошли по траве длинные, живые, фантастические тени.
Солнце упало за почерневший океан, небо украсилось звездами, наступила ночь. Был на исходе седьмой час. Но в программе еще оставались песни, а после песен — воинственные пляски, без которых пиршество теряло бы всякое значение.
Вот Гамлет Браун многозначительно прокашлялся. Галдеж замолк. Островитяне тоже прокашлялись, приготовились к пению.
Духовный пастырь, он же колдун Нового Вифлеема, поднял руку, приглашая к тишине. Это был кряжистый старый человек с неглупым морщинистым лицом. С его крепкой шеи свисал на тоненьком, унизанном козьими зубами шнуре небольшой деревянный крест. Поредевшая, тщательно взбитая шевелюра была утыкана доброй полусотней разнокалиберных и разноцветных перьев. Но главным отличием колдуна от его паствы были значительно удлиненные серые трусы, щедро расписанные магическими фигурами птиц, солнца, месяца, людей и рыб. Они были перевязаны сантиметрах в десяти ниже колен широкими розовыми лентами, полученными в бескорыстный дар еще от барона фон Фремденгута. Несмотря на обильное возлияние, преподобный отец Джемс держался на редкость прямо, что можно было в равной степени объяснить и сознанием ответственности, лежавшей на нем, как духовном лице, и немалой его закаленностью в питии.
— Дети мои! — возгласил он. — Люди Нового Вифлеема и люди Доброй Надежды! Прежде всего возблагодарим всевышнего за то, что дождь не нарушил нашей трапезы, а также за то, что козлята были вкусны и дали отличный навар!
Нестерпимо фальшивя, островитяне дружно грянули гимн трехсотлетней давности.
— Боже, как они врут! — прошептал в великой душевной скорби Фламмери, считавший музыкальные переговоры с небом своей стихией и второй после биржевых операций специальностью. — Они поют как язычники!.. Друг мой, мистер Цератод, ради всевышнего, ради всего святого, остановите это кощунство!
— Пускай их! — философски отозвался Цератод. — Важно, что они поют с самыми похвальными помыслами.
Прищелкивая в такт пальцами, островитяне допели гимн. Егорычева поразила точность, с которой они каждый раз фальшивили в одних и тех же местах музыкальной фразы. Для этого, как это ни казалось парадоксальным, надо было иметь отличную музыкальную память и недюжинный слух. Что островитяне в полной мере обладают обоими этими ценными качествами, они доказали спустя несколько минут, когда перешли к исполнению мирских песен.
Но, сверившись с часами Егорычева и убедившись, что время уже позднее, Фламмери попросил минуту внимания.
— Уже пришло время спать, — сказал он. — Мы вам благодарны за обед, который вы столь гостеприимно устроили в нашу честь, и мы уходим отсюда еще большими вашими друзьями, нежели были до этого прекрасного обеда, если только возможно быть большими вашими друзьями, чем были мы со дня нашего недавнего знакомства. Мы надеемся, что и вы — наши друзья.
— О да! — горячо воскликнул Гамлет Браун, за ним преподобный отец Джемс, а за ними и все остальные черные участники пиршества. — Мы самые добрые ваши друзья.
— Мы рады были встретить в вашем лице верных сынов церкви, и мы пришли к вам сегодня, чтобы закрепить наши добрые связи не на словах, а на деле. Мы пришли раскрыть вам глаза на весьма прискорбные ваши ошибки, в первую очередь на несправедливость, которую вы чините в отношении ваших безупречных односельчан Гильденстерна, Розенкранца, Полония и ныне уже, увы, покойного Яго Фрумэна. Дьявол затмил ваши очи суетными мелочами, и вы, как неразумные овцы, презрели людей, достойных уважения, почета и, я бы сказал, поклонения. Прошлой ночью мне явилось дивное виденье. Мне явился шестикрылый серафим… (Восторженный шепот прошел по слушателям, сгрудившимся вокруг Фламмери. Егорычев попытался обратиться к нему с какими-то словами, но Фламмери отстранил его величественным жестом библейского пророка). Не мешайте, сэр, когда христианин беседует с христианами!.. Итак, явился мне шестикрылый серафим и сказал: «Горе Новому Вифлеему! Горе мужчинам его и горе его женам и детям, ибо они не почитают возлюбленных чад господних Гильденстерна, Розенкранца, Яго и Полония! Всевышний в беспредельной благости своей наделил их даром творить чудеса, и они еще завтра, то есть сегодня, докажут это делами своими, чтобы поняли жители Нового Вифлеема всю глубину и тяжесть своих заблуждений…»
Фламмери обвел глазами лица островитян, остался доволен впечатлением, которое произвело его сообщение и добавил:
— Пусть кто-нибудь побыстрее сбегает на берег и принесет оттуда миску-другую морской воды!..
— Что вы делаете? — возмущенно прошептал ему Егорычев, когда по знаку отца Джемса двое молодых людей бросились на берег за водой. — Ведь это низкое шарлатанство!
— Я еще не имел чести докладывать вам свои намерения, сэр, — прошипел в ответ Фламмери. — И я Покорнейше и настоятельнейше прошу вас не вмешиваться в то, что выше вашего понимания… Как атеист, вы не в состоянии понять того, что я предпринял, сэр…
— Я категорически протестую против этого жульничества, вы слышите? Если вы сейчас же не…
Но Егорычеву пришлось остановиться на полуслове. С берега донеслись крики:
— Сюда!.. Сюда!.. Скорее все сюда!.. Люди Нового Вифлеема, спешите на берег!..
Захватив пылающие головни, островитяне бросились вниз к бухте. Уже взошла ущербная луна, покрыв неживым, синеватым светом зеркальную гладь бухты, черные леса, колючие гребни гор.
На берегу, на мокрой гальке, мягко обтекаемая неслышным и робким серебристым накатом, виднелась какая-то темная масса. Около нее суетились, растерянно всплескивая руками, оба молодых негра, которые только что весело мчались сюда за водой для чуда. После рассказов белого джентльмена о дьяволе и шестикрылом серафиме им было страшно видеть чуть содрогавшееся от наката мертвое тело Яго Фрумэна.
— Море не решается оставлять в своем лоне такого святого человека, — объяснил мистер Фламмери островитянам создавшуюся обстановку. — Такой человек должен быть с самыми высокими почестями похоронен по христианскому обряду в родной земле… и отомщен, — прибавил он с расстановкой. — Тот, кто виновен в мученической смерти праведника, достоин самой тяжкой кары…
— Пропустите меня! — сказал отец Джемс.
Все расступились, он нагнулся над трупом, простоял в таком положении с полминуты, зажмурив глаза и скрестив на груди жилистые руки в кожаных браслетах, потом раскрыл глаза и мрачно произнес только одно слово:
— Колдовство!
— Я так и думал! — с ходу присоединился Фламмери. — Бедняга погиб от колдовства и ничего другого. Но кто же злодей, погубивший старого добряка Яго?
— Для этого в первую очередь надо проверять, в какую сторону смотрит лицо бедного Яго, — сказал отец Джемс.
Лицо бедного Яго смотрело прямо на юг.
— Колдовство совершено человеком, который живет на юг от жилища Яго» Фрумэна, — заявил почтенный пастырь с подкупающей уверенностью, потому что проверить его заявление не было ровно никакой возможности. — Но проживает ли этот богопротивный убийца в Новом Вифлееме, Доброй Надежде или по ту сторону трещины, это можно будет определить только днем. А пока помолимся господу, чтобы он помог нам поскорее отыскать виновного.
Он обратился к благоговейно молчавшим островитянам:
— Повторяйте за мной!
Островитяне молитвенно сложили руки и опустились на колени. Фламмери шепнул Цератоду, тот, после некоторых колебаний, — Мообсу, и все трое, к удовольствию польщенных островитян, последовали их примеру. Это был весьма ловкий ход со стороны компании Фламмери: трогательное религиозное единение между туземцами и приезжими белыми и в то же время блистательная моральная изоляция Егорычева. Никто не ожидал от белых, что и они опустятся на колени. Во всяком уж случае, никто бы и не подумал поставить им в вину, если бы они этого не сделали. Но раз трое белых не отстали в своем религиозном рвении от островитян, Егорычев, оставаясь на ногах (Фламмери не сомневался, что неверующий Егорычев именно так и поступит), неминуемо оказывался в чрезвычайно двусмысленном положении. Шутка ли сказать, из всех находившихся в этот момент у тела Фрумэна только один, не участвующий в таком важном молебствии!
Егорычев имел всего несколько секунд для того, чтобы принять решение большой принципиальной и тактической значимости. На первый взгляд, не было ничего проще, как опуститься на колени. Не совсем, правда, приятно с непривычки стоять коленопреклоненным на мокром песке. Но зато никаких обид со стороны островитян, которые просто не поняли бы, что возможны не связанные с дьяволом люди, которые не верят в бога, в колдовство, дурной глаз и тому подобные возвышенные и не поддающиеся уму обыкновенного человека чудесные явления. С другой стороны, совесть советского человека не позволяла Егорычеву подкреплять своим авторитетом нелепую шарлатанскую церемонию испрашивания у несуществующего бога имени и адреса виновника несуществующего преступления. Он понимал, что компания Фламмери — Цератод — Мообс провоцировала его на действия, которые они не преминули бы использовать, чтобы восстановить против него простодушных островитян.
Егорычев остался стоять.
Чтобы подчеркнуть это обстоятельство, Мообс намеренно громко обратился к своему покровителю:
— Сэр, мистер Егорычев не хочет присоединиться к нашей молитве!
— Господи! — благочестиво промолвил капитан Фламмери, задрав свою длинную физиономию к темно-синему небу. — Прости моему молодому другу и твоему рабу мистеру Егорычеву его невольное прегрешение!
Получилось не только благочестиво, но и в высшей степени человеколюбиво.
Теперь глаза островитян были вопросительно устремлены на Егорычева.
«Один — ноль в пользу старикашки!» — отметил про себя Джонни Мообс.
— Не беспокойтесь, друзья, — сказал Егорычев островитянам. — Я знаю истинную цену вашей молитвы не меньше мистера Фламмери. У меня имеются средства в тысячи тысяч раз посильнее молитв, чтобы помочь вам выяснить, кто виновен в гибели Яго…
Средства посильнее молитв! Островитяне посмотрели на Егорычева с нескрываемым интересом.
Фламмери решил молча проглотить преподнесенную Егорычевым горькую пилюлю. Он цыкнул на Мообса:
— Не размазывать! Делаем вид, будто все в порядке. У нас еще все впереди!
«Счет один — один, — подвел про себя итог Джонни Мообс. — Ведет Егорычев».
Преподобный отец Джемс поправил сползшие на самые кисти кожаные браслеты, откашлялся и снова призвал свою паству:
— Повторяйте за мной! Пресвятый боже!..
— Пресвятый боже!.. — хором повторили все, кроме Егорычева.
— Помоги нам найти.
— Помоги нам найти…
— Розенкранц Хигоат! — крикнул Фламмери, когда с молитвой было покончено. — Где ты, Розенкранц?
— Я здесь! — нехотя откликнулся молодой отщепенец. А он-то надеялся, что о нем в переполохе забыли!
Мообс выдернул его из толпы, как морковку из грядки.
— Возьми головешку и хорошенько раздуй ее! — приказал ему Фламмери.
Розенкранц раздул головешку. Весело потрескивая, заиграло желтое пламя, осветив его широкое лицо. Оно выражало угодливость пополам со страхом перед томившей его неизвестностью.
— А теперь я хотел бы узнать, — сказал Фламмери, — кто из вас, люди Нового Вифлеема и люди Доброй Надежды, возьмется зажечь этой головешкой воду, хотя бы здесь, у самого берега?
Островитяне молчали.
— Значит, никто не может? Гамлет Браун, почему бы тебе не поджечь море?
Гамлет молча пожал плечами.
— А вы, преподобный отец Джемс?
— Разве может вода гореть? — рассудительно отвечал колдун. — Вода вскипает и сразу превращается в мокрый дым.
— Смотрите же, как Розенкранц по моей воле сотворит сейчас чудо! Я только окроплю море священной водой!
Фламмери вынул из кармана бутылку, губами извлек из нее пробку и, присев на корточки, сделал раскупоренной бутылкой несколько крестообразных движений по-над самой водой, чуть слышно плескавшейся у его ног.
Вечерний бриз унес в океан острый запах спирта.
— Во имя отца и сына и святого духа! — провозгласил Фламмери с дрожью в голосе (он и в самом деле волновался). — Раб божий Розенкранц Хигоат, спеши совершить чудо!
У Розенкранца от ужаса ноги приросли к земле. Он что-то нечленораздельно промычал и попытался укрыться в толпе.
— Поторопите этого идиота! — пробормотал Фламмери Мообсу, и тот, схватив оробевшего чудотворца за локоть, поволок его к берегу и пригнул над водой.
— Зажигай, брат мой! — прорычал Розенкранцу Мообс, от души потешавшийся своей ролью церемониймейстера в этой комедии, и с силой ткнул его в затылок.
Розенкранц дрожащей рукой приблизил головешку к черной воде.
Островитяне ахнули. Чудо совершилось. Вода у берега загорелась нежным голубоватым пламенем.
— Потуши море! — диким голосом крикнул преподобный Джемс. — Не оставляй нас без рыбы!..
Но чудотворец лежал, зарывшись лицом в сырую гальку. Мообс поднял его на ноги и новым пинком привел в чувство.
— Тебя просят погасить море, — проворковал Фламмери, вперив в лицо Розенкранца свои ледяные глазки цвета жидкого какао с молоком. — Скажи, друг мой: «Море, погасни!»
— Море, погасни! — пролепетал Розенкранц обморочным голосом.
И снова пал ниц насмерть перепуганный сотворенным им чудом Розенкранц Хигоат.
Пламя погасло. Если бы он запоздал со своим приказом секунды на две, оно бы погасло само по себе.
— Встань, Розенкранц! — сказал Фламмери. — Встань, и пусть люди, которые тебя унижали, признают, что они заблуждались, что ты выдающийся, самим богом отмеченный человек.
— Прости- нас, Розенкранц! — обратился к Хигоату преподобный отец Джемс. — Мы не понимали, что ты выдающийся, самим богом отмеченный человек.
— Желательно вам, чтобы и Гильденстерн совершил такое же чудо? — спросил Фламмери.
— Прости нас, Гильденстерн! — обратился отец Джемс к Гильденстерну. — Мы не понимали, что ты тоже самим богом отмеченный человек!
— Не сомневаетесь ли вы, что такие же чудеса может сотворить и отсутствующий Полоний?
— Мы попросим у него прощения, лишь только он вернется в Новый Вифлеем, — обещал преподобный отец.
— О покойном Яго Фрумэне уж и говорить не приходится, — заключил мистер Фламмери. — Из всех их четверых он был наиболее любезен сердцу вседержителя.
Островитяне с интересом посмотрели на бездыханное тело в плотно облегавшем старом эсэсовском кителе.
Пока несколько человек, взявшись за плечи и ноги, подняли его, чтобы отнести в деревню, преподобный отец Джемс успел на ходу посоветоваться со старейшинами.
— Остановитесь, люди Нового Вифлеема! — сказал он, закончив летучее совещание. — Знайте, что постановлено снять с Розенкранца и остальных троих достойных мужей позорные имена, которые они столь незаслуженно носили по нашей вине. Пусть знают люди Нового Вифлеема, пусть знает все человечество, что нет больше Розенкранца Хигоата, а есть Отелло Хигоат, нет Гильденстерна Блэка, а есть Горацио Блэк, нет Полония Литлтэйбла, а есть Ромео Литлтэйбл и нет покойного Яго Фрумэна, а есть и будет вечно жить в наших сердцах блаженный облик сэра Фальстафа Фрумэна!.. Послезавтра, в воскресенье, во время представления мы сообщим всему человечеству о новых именах наших четырех самых достойных односельчан.
— Вы оговорились, преподобный отец, — мягко поправил мистер Фламмери колдуна Нового Вифлеема. — Послезавтра не воскресенье. Послезавтра будет понедельник, а воскресенье — завтра. Сегодня суббота, преподобный отец!
Преподобный Джемс недоуменно глянул на Фламмери. Лицо американца было торжественно и печально.
— Не может быть, сэр! — сказал колдун. — Это вы, верно, шутите?
— Нет, дорогой мой друг! — ответил Фламмери с редкой задушевностью. — Белые никогда не шутят, когда речь идет о святом воскресном дне. Воскресенье. будет именно завтра, а не послезавтра. Сегодня — суббота.
— Не может быть! — пробормотал преподобный отец Джемс, чувствуя, что почва уходит у него из-под ног.
— Спросите кого угодно, — сказал Фламмери. — Хотя бы мистера Егорычева.
— Ради бога, сэр! — бросился отец Джемс к Егорычеву. — Успокойте меня! Скажите, что почтенный белый джентльмен оговорился, пошутил, ошибся!
— Нет, дорогой отец Джемс, на этот раз над вами не пошутили, — сказал Егорычев. — Сегодня в самом деле суббота. Но почему это вас так расстраивает? Какое это имеет значение? Отложите представление до будущего воскресенья, если у вас не хватит времени подготовить его к завтрашнему дню.
— Какое это имеет значение?! — вскричал отец Джемс в величайшем отчаянии. — Если это так, как вы говорите, то я, люди Нового Вифлеема, все человечество всю жизнь нарушали заповедь господню о воскресном дне! Вместо того чтобы воздавать всевышнему хвалу в этот богом избранный день, мы всю свою жизнь оскверняли его суетными мирскими делами! О, горе Новому Вифлеему! О, горе, горе всему человечеству!..
IV
— Зайдешь ко мне завтра пораньше, Отелло! — приказал мистер Фламмери бывшему Розенкранцу, который показался ему наиболее сметливым из оставшихся в живых троих отщепенцев, теперь уже бывших отщепенцев. — И захвати с собою Ромео и Горацио…
Сумрачные жители Нового Вифлеема, все еще не пришедшие в себя после переживаний истекшего дня, вышли проводить гостей за околицу. Учтивые, благожелательные, гостеприимные и щедрые островитяне все же были довольны, что белые джентльмены, за несколько часов так усложнившие их жизнь, оставляют их наконец в покое.
Из деревни доносился надрывный плач вдовы и матери сэра Фальстафа Фрумэна. Громоздкое, страшное тело их мужа и сына лежало теперь на циновках перед самым порогом его дома. Завтра в полдень должно было начаться дополнительное следствие. Правда, Фламмери обещал отцу Джемсу провести всю ночь в молитвах и постараться выведать у господа или его ангелов, кто виновен в смерти бедняги Фрумэна. Тогда, бог даст, можно будет обойтись и без этого муторного дополнительного следствия.
Гамлет Браун, проникшийся еще в первый день их знакомства уважением и симпатией к молодому желтобородому джентльмену, видел, что тот, в отличие от остальных трех белых, не в духе. Он догадывался, что это связано с событиями последних часов, но с какими именно и* почему, сообразить не мог. С прирожденной выдержкой человека, умеющего ценить собственное и чужое достоинство, он не решался заговорить с Егорычевым, но старался все время быть поблизости. Может быть, тот сам захочет с ним потолковать.
Егорычев ничего не мог предпринять во время всей этой шарлатанской истории. Как было объяснить ошеломленным, привыкшим верить в любую чертовщину туземцам, что горела не вода, а спирт, выплеснутый мистером Фламмери, когда он раскупоренной бутылкой крестил воду?
Если это не чудо, то извольте тут же повторить это удивительное явление природы, достопочтенный Фома Неверующий. Потребовать у мистера Фламмери для этой цели его бутылку со спиртом? Но можно не сомневаться, что этот богобоязненный джентльмен найдет вполне убедительный предлог для того, чтобы не выполнить это требование. В крайнем случае, он попросту опрокинет в свою луженую глотку содержимое бутылки, и вся недолга.
И потом, разве само по себе не чудо — вода, которая способна гореть?
Нет, сразу, не подготовившись, выступить с разоблачением жульнической проделки мистера Фламмери значило только запутаться и дать лишние козыри в его руки.
Настроение Егорычева несколько улучшилось, когда отец Джемс сообщил о переименовании банды Розенкранца. Трудно было, конечно, придумать более смешное и несуразное, чем дать заведомым прохвостам и ничтожествам благородные имена Отелло, Ромео и Горацио. Но еще смешнее было посмертное переименование Яго в сэра Фальстафа. Очевидно, на острове Разочарования этот прощелыга, чревоугодник и нечистый на руку бабник был по каким-то неведомым причинам признан положительным шекспировским героем.
Но фарс с переименованиями не мог надолго отвлечь Егорычева от сознания, что его отношения С группой Фламмери вступили в решающую и, по существу, уже решенную фазу. Дело быстро шло к окончательному разрыву. Его мог предотвратить только переход Егорычева в фарватер политики Фламмери — Цератода. Стать участником закабаления острова! Это было так же невозможно, как переход Роберта Д. Фламмери на сторону коммунизма.
Судя по высказываниям Фламмери и Цератода, они не собирались выходить в океан на самодельном плоту, даже если бы и пришлось надолго задержаться на острове Разочарования. Проще всего было Егорычеву вместе со Смитом отправиться на плоту вдвоем, предоставив остальной тройке дожидаться более безопасных средств сообщения. Можно было бы не торопиться и наилучшим образом оборудовать плот, снабдить его парусом, обеспечить простейшим рулевым приспособлением, взять с собой достаточный запас питьевой воды и продуктов. Егорычев не расставался с карманным компасом, который он нашел в пещере. Когда они спасались с «Айрон буля», им очень пригодился бы компас.
Но было две причины, по которым Егорычев не мог себе пока позволить покинуть остров. Еще не была выяснена боевая задача Эсэсовского гарнизона. А за ней угадывалась какая-то очень важная военная тайна. Будь она связана только с островом, Фремденгут не стал бы так за нее цепляться, особенно после того, как он узнал о втором фронте. Не менее значительна была и другая причина. Егорычев сознавал, какая угроза нависла над местным населением.
Усталые и разобщенные возвращались из Нового Вифлеема обитатели Священной пещеры.
Белых сопровождали трое островитян. Двое несли на бамбуковой жерди связки бананов, кокосов и рыбы утреннего улова. Третий в правой руке держал факел, в левой — горшок с похлебкой и большим куском мяса — порцию Смита, который, как было известно старейшинам Нового Вифлеема, оставался в пещере и не смог поэтому участвовать в пиршестве.
Гамлет Браун выдержал характер. Он дождался, пока сам Егорычев подозвал его, и услышал нечто такое, что в четвертый раз за этот богатый переживаниями день заставило его сердце забиться сильнее, а в разум его внесло еще большее смятение.
— Ты пока что ничего никому не говори, — сказал ему Егорычев. (Разговор шел вполголоса.) — Но я постараюсь сделать так, чтобы завтра все, кто угодно, могли при моей помощи зажечь воду.
Гамлет тихо ахнул:
— О, вы тоже можете делать людей чудотворцами, сэр!
Он был доволен, что молодой желтобородый так же властен над стихиями, как и поразивший его воображение, но чем-то неприятный белоголовый джентльмен.
— Нет, — сказал Егорычев, — никто не может делать людей чудотворцами.
— Кроме белоголового старого джентльмена? — разочарованно проговорил Гамлет.
— И белоголовый тоже не может… Я постараюсь завтра показать и объяснить, что Розенкранц — у него язык не поворачивался назвать этого проходимца его новым именем, — что Розенкранц никакого чуда сегодня не совершал.
— Как же это не чудо, если… — начал было Гамлет, но Егорычев мягко перебил его:
— Сейчас время позднее, не для споров. Возвращайся домой. А завтра мы встретимся и потолкуем. Договорились?
— Договорились, — нехотя ответил Гамлет, огорчённый, что приходится уходить без ясности в таком насущном вопросе.
— Значит, без моего разрешения никому ни слова.
— Я не заслужил, чтобы мне это дважды говорили!
— Ну, извини, друг, я не хотел тебя обидеть.
— Спокойной ночи, сэр!
— Спокойной ночи, Гамлет!
И Браун вернулся в Новый Вифлеем.
Дальнейшие события развернулись даже быстрее, чем это предполагал Егорычев.
Фламмери, посоветовавшись на ходу с Цератодом, решил дать Егорычеву решающий бой еще до возвращения на Северный мыс: во всех отношениях целесообразней было обойтись без Смита. К тому же далеко не исключено, что Фламмери не хотел осквернять суетными дрязгами воскресный день и предпочел осквернить ими день субботний.
Еще до брода через речку, отделявшую Северный мыс от остальной громады острова, Фламмери и Цератод несколько замедлили шаги, чтобы поравняться с Егорычевым, который задумчиво шагал позади, замыкая шествие.
Фламмери сразу взял быка за рога.
— Дорогой Егорычев, — сказал он, — мы посоветовались с мистером Цератодом и решили не рисковать вторичной прогулкой на плоту. Но, конечно, мы далеки от того, чтобы навязывать наше решение вам… и Смиту, если бы он вдруг пожелал к вам присоединиться… По первому же требованию мы вам беспрекословно выделим вашу долю трофеев…
Восемь дней дипломатической практики приучили Егорычева к сугубо осторожному отношению к каждому слову. Стоило ему заявить, что он согласен уехать, как он давал Фламмери и компании формальное основание для лишения его права голоса при определении последующей судьбы острова.
Поэтому Егорычев ответил, что он еще пока не думал о том, чтобы оставить остров, тем более в одиночку или вдвоем. Это создало бы серьезные трудности и для тех, кто решился бы в столь малом числе отправляться в такой изнурительный и долгий путь, и для тех, кто рискнул бы втроем остаться на острове, имея на руках двух пленных.
Мистер Цератод поспешил успокоить мистера Егорычева, чтобы он не утруждал себя заботой об остающихся, потому что они привыкли во всем полагаться на собственные силы.
— И на господа бога, — уточнил мистер Фламмери. — Что же касается пленных, то пора принять насчет них окончательное решение.
— Вот это золотые слова! — сказал Егорычев. — Эти два эсэсовца связывают нас по рукам и ногам. Мы могли оттягивать решение вопроса, пока рассчитывали, что вскоре за нами прибудет судно или самолет. Но сейчас, когда будущее наше покрыто густым туманом…
— …самым правильным было бы выпустить их под честное слово, — подсказал Фламмери с таким видом, будто он не сомневался, что именно это и собирался предлагать капитан-лейтенант Егорычев.
— Самым правильным было бы их судить, — спокойно поправил его Егорычев. — Нас здесь три офицера союзных войск, и мы вправе и обязаны составить военный трибунал для того, чтобы судить двух военных преступников, каковыми являются наши пленные.
— За то, что они эсэсовцы? — ехидно осведомился мистер Фламмери. — Это еще не основание.
— За то, что они совершили военные преступления, сотой части которых было бы достаточно, чтобы вздернуть их на виселицу.
— Голая декларация! — фыркнул Фламмери. — Без доказательств не стоит и ломаного цента!
— Есть доказательства, — сказал Егорычев.
— Против Кумахера? Этот индюк признается вам в чем угодно, даже в том, чего никогда не было.
— Против Фремденгута.
— Его признания? Это не доказательство.
— Вам прекрасно известно, мистер Фламмери, что Фремденгут отказался от показаний. Вам не менее хорошо известно, почему он счел возможным отказаться. Но что вы скажете насчет такого отрывочка из его служебной характеристики? Он настолько интересен, что я его запомнил наизусть.
И Егорычев на память прочитал известную уже нам выписку из личного дела майора войск СС барона Вальтера фон Фремденгута о том, что упомянутый майор во время ответственных операций во Франции, Норвегии, Польше и на юге Советского Союза показал себя безгранично преданным фюреру офицером войск СС, проявив примерную твердость, распорядительность и беспощадность как в борьбе против партизан, так и в «массовых очистительных акциях» в Варшаве, Керчи и Киеве. С февраля по июль 1943 года капитан фон Фремденгут после ранения на Советском фронте с должной выдержкой и пониманием государственных задач выполнял роль особо-уполномоченного рейхефюрера СС доктора Гиммлера при коменданте концентрационного лагеря Майданек.
— Вы понимаете, что это значит — массовая очистительная акция, Майданек? — спросил Егорычев.
Они уже поднимались по тропинке. Высоко наверху желтел огонек. Это Сэмюэль Смит распахнул двери пещеры, чтобы легче было дышать.
— Я понимаю, что в устном виде это ничего не значит, — сказал Цератод.
— Она у меня имеется в письменном виде! — хлопнул себя Егорычев по внутреннему карману расстегнутого кителя. — Заверенная выписка из его служебной характеристики.
— Боюсь, что это не документ для суда, — с крайним сожалением заметил майор Цератод. — Никто не признает правомерным наш суд на основании какой-то выписки. Да ведь она, очевидно, написана по-немецки?
— По-немецки. Но мы с вами легко в ней разберемся.
— Нет, — сокрушенно покачал головой майор Цератод, — того, что мы сами разберемся, недостаточно для работы такой серьезной инстанции, как военный трибунал. Тут без официального переводчика никак не обойтись.
— Но где же мы тут можем достать официального переводчика? — сказал Егорычев, с трудом сдерживаясь, чтобы не наговорить грубостей. — Вы отлично знаете, что на острове Разочарования нет людей такой специальности!
— Вот это-то я и имею в виду! — вздохнул Цератод. — А без переводчика мы не имеем никакого права…
— А если бы даже этот документ и был должным образом переведен, — поддержал капитан Фламмери майора Цератода, — то о чем бы он, собственно, свидетельствовал? Что майор Фремденгут исправный и дисциплинированный эсэсовский офицер? Мы должны с вами быть настолько нелицеприятны, чтобы уважать даже неприятельского исправного офицера. Что гитлеровцы жестко, по-военному поступали с людьми, которые в военное время мешали нормальной работе их военных тылов, или с людьми, которых они вынуждены были в силу военных обстоятельств изолировать в концентрационных лагерях?
— Партизаны «мешали» захватчикам на своей родной земле! — вспылил Егорычев, но тут же немалым напряжением воли снова взял себя в руки. — И вы не хуже меня знаете, кого по каким причинам и на каких основаниях гитлеровцы сажали в концлагери и какие там царили зверские порядки!
— Ну, тут-то вы, дорогой Егорычев, совсем не правы! Нельзя же быть таким пристрастным! Порядок должен поддерживаться на фронте и в тылу. Он должен поддерживаться в равной степени и в детском саду, и в концентрационном лагере, и в балетной школе. В Англии — английский порядок, в России — русский, в Америке — американский, а в Германии, само собою разумеется, немецкий. Это логично. Против этого можно спорить, только потеряв способность мыслить беспристрастно.
Майор Цератод сказал:
— Вот именно, — и стал вытирать пот, обильно струившийся по его лицу. Он был рад, что теряет так много жидкости. Он рассчитывал потерять на этом подъеме не меньше двухсот, а то и все триста граммов.
— Я не могу, не хочу и не имею права мыслить беспристрастно, когда речь идет о варварах, ворвавшихся на мою родину и уничтоживших миллионы невинных советских людей! — сказал Егорычев.
— Ну вот, видите сами! — развел руками Фламмери, словно слова Егорычева подтверждали правильность его линии. — Вы сами видите, что нет никаких законных оснований судить этих людей, имевших несчастье попасть к нам в плен, потому что, я позволю себе вам заметить, нет большего несчастья для воина, чем попасть в плен к неприятелю. Это я вам говорю, как военный и как христианин.
— Это могли бы в тысячу раз более обоснованно сказать наши советские люди, имевшие несчастье попасть в гитлеровские лапы!
— Ну вот, видите! — мягко сказал Фламмери, благосклонно дав Егорычеву высказаться. — Но я не имею права скрывать от вас, мой добрый друг, что ваше в высшей степени драматическое выступление заставило меня серьезно призадуматься.
Цератод от неожиданности даже остановился.
— Не будем задерживаться, дорогой мистер Цератод, — задушевно промолвил Фламмери, беря майора под руку. — Мы уже совсем недалеко. Я хотел сказать нашему дорогому другу мистеру Егорычеву, что страстность, с которой он говорил о предметах, Требующих холодного разума, заставила меня призадуматься. И знаете, к какому выводу я пришел, мистер Цератод? Я понял, что нам следует самым решительным образом предупредить нашего молодого и впечатлительного друга Егорычева, что всякие его самовольные меры в отношении наших общих пленных мы будем вынуждены расценивать, как незаконный и недружелюбный акт, направленный против нас лично.
— Совершенно верно, — согласился Цератод. — Я считаю ваше заявление, сэр, в высшей степени гуманным и справедливым и полностью к нему присоединяюсь.
— Мы еще не слышали мнение Смита… и Мообса, — сказал Егорычев.
— Не барахтайтесь зря, старина! — обернулся тогда к говорившим Мообс, который, хотя и шел впереди, прекрасно все слышал. — На вашем месте я бы переменил пластинку. Эта песенка вам не еде-: лает сбора…
— Остается, конечно, Смит, — нелицеприятно заметил Фламмери, — но даже если он и присоединится к вашей темпераментной, но аморальной (да, друг мой, я не боюсь употребить это жесткое слово!), аморальной точке зрения, то все равно у вас будут только два голоса из пяти. Надеюсь, что большинство остается большинством? Это священная основа демократии. Не так ли, дорогой Егорычев?
Егорычев промолчал.
Но Фламмери не хотел отказать себе в удовольствии вывести из себя Егорычева, обычно раздражавшего его своей сдержанностью:
— Я был бы рад выслушать ваше суждение по поводу значения демократического большинства, мой славный друг!
— Я был бы рад, если бы вы смогли выслушать суждение американских и английских солдат по существу нашего спора, — сказал Егорычев. — Я уже не говорю о советских солдатах.
Тут пришло время рассердиться благодушничавшему Фламмери:
— Солдату не нужно знать, за что он воюет и чем плохи его враги! И мы не жалеем усилий, чтобы добиться этого, сэр! Когда солдат слишком много знает, это мешает заключению мирного договора, сэр! Наши солдаты обучаются доверять своему командованию. Остальное командование берет на себя!
Так как Егорычев снова не счел нужным ответить ему, Фламмери ввел в игру свой последний козырь.
— Давайте, — сказал он, уже не стараясь казаться добрым и веселым, — договоримся начистоту. Мне кажется, что мистер Егорычев не понимает самого важного. С того момента, как стало ясно, что нет или почти нет никаких надежд на скорое возвращение на родину, — с того момента, как выяснилось, что мы скорее всего обречены на долгое, если не пожизненное, пребывание на этом проклятом острове, мы уже не англичане, не немцы, не американцы и не русские. Мы — граждане нового государства, которое носит не очень веселое, но вполне точное наименование — остров Разочарования. Это новое государство с новым гражданством. Демократическое государство, как это ни» неприятно может быть вам, воспитанному на коммунистических доктринах. Прежние договоры, которые связывали наши страны, автоматически аннулируются для нас, потому что мы уже граждане другого государства. Надеюсь, я говорю достаточно ясно? Мистеру Егорычеву предоставляется право или стать первым эмигрантом из нашего нового государства, или стать лояльным и законопослушным его гражданином, уважающим волю большинства, как бы неприятно ему это ни было.
— Территория этого государства — Северный мыс? — улыбнулся Егорычев, хотя ему было совсем не весело.
— С вашего разрешения, весь остров Разочарования со всеми его населенными пунктами, лесами, недрами, угодьями, малыми и большими водоемами.
— Я думаю, что до моего разрешения должно быть на это разрешение населения острова.
— Я вам забыл сказать, мистер Егорычев, что в нашем новом государстве вы, к сожалению, всего лишь рядовой и не совсем благонадежный гражданин. Вопросы высокой политики будут решать представители большинства, сэр!
— Уже были выборы?
— Они будут, если вам угодно, сегодня же, по нашем возвращении. Только не подумайте предпринимать против нас какие-нибудь необдуманные шаги. Нами поручено верным людям еще сегодня вечером выехать в открытый океан и бросить три бутылки с записками. В этих записках мы отметим, что опасаемся агрессивных поступков со стороны советского моряка капитан-лейтенанта Егорычева Константина (надеюсь, я не перепутал ваше имя?) и в случае, если с нами что-нибудь случится, просим винить в этом именно капитан-лейтенанта Константина Егорычева.
— Вы меня спасли от преступления, сэр! Я чуть было не собрался сегодня же ночью вас зарезать. Ваша мудрая предусмотрительность спасла мою совесть и ваши жизни, — иронически отозвался Егорычев.
Мообс хрюкнул от удовольствия. О, этот Егорычев за словом в карман не полезет! Мообс испытывал сложное и неприглядное чувство лакея, которому было приятно, что кто-то поставил в смешное положение его хозяина, и неприятно, что в сравнении с этим человеком еще наглядней его лакейское существо.
Пока островитяне складывали на траву свои дары, Смит отозвал Егорычева в сторону для важного сообщения.
Они удалились внутрь пещеры, провожаемые насмешливыми взглядами Фламмери и его сподвижников.
— Вы понимаете, сэр, — прошептал кочегар на ухо Егорычеву. — Я хотел воспользоваться свободным временем, чтобы разобраться в нашем арсенале и не остаться на бобах, если они, — он кивнул в сторону, откуда доносился жизнерадостный голос Фламмери, чувствовавшего себя победителем, — вдруг захотят оставить нас безоружными. И представьте себе: пропали оба ящика с патронами….
— …и единственный ящик с запалами для гранат? — подсказал Егорычев. — Это никак не должно вас беспокоить, старина! Пусть это беспокоит людей, для которых безразлично, какой флаг развевается над их головой! Пусть их огорчает, что они не смогут в наше отсутствие вызвать сюда гитлеровские подлодки из-за нехватки в рации одной детальки. Я ее на всякий случай отпаял и содержу в полной сохранности. Так что и это пусть вас не беспокоит. И знаете еще что? Сейчас-то у вас уже нет ни малейших оснований величать меня сэром, мистером и так далее!
— Ох, и парень же вы, товарищ Егорычев! — развеселился Смит и хлопнул его по плечу.
— Если хотите видеть меня живым и здоровым, дружище, хлопайте меня почаще, но не с такой силой! — сказал Егорычев. — Товарищей надо беречь.
— Есть беречь, товарищ Егорычев! — ответил кочегар, с наслаждением повторяя доброе, уважительное и гордое советское слово «товарищ»…
V
Дважды в день Егорычев и Смит по очереди (за одним только единственным исключением) водили пленных на прогулку. Затем Кумахер стряпал для себя и барона. После приема пищи он тщательно мыл посуду, стараясь растянуть свое пребывание на свежем воздухе, и двери за ним закрывались до следующей прогулки.
Причины, по которым охрана эсэсовцев не поручалась Мообсу и нашим «старшим англосаксам», читателям уже известны. Но Фремденгуту не так-то легко было разобраться в этой загадке. Егорычев, несмотря на свою относительную молодость, играл среди своих союзников роль руководителя. Это Фремденгут уловил сразу, в первый же час их бурного знакомства. Зачем руководителю брать на себя дополнительную нагрузку заурядного конвоира? Уважение к старшим? Нежелание загружать их работой, недостойной их возраста и чина? Но, во-первых, у этого большевика был такой же чин, как и у Фламмери, а во-вторых, у ровесника Егорычева, у этого веснушчатого американца, и вовсе никакого чина не было. Следовательно, дело было не в уважении к старшим. Да и какое может вообще быть особое уважение к некоторой разнице в возрасте или даже чине, раз командование нашло нужным не считаться с этой разницей и назначило начальником младшего по чину или по годам? Лишь только Фремденгут разобрался, в чем дело, его настроение заметно улучшилось. Он перестал мрачно валяться на койке и принялся большую часть суток (это никак нельзя было назвать днем, потому что круглые сутки в их помещении было темно) расхаживать по своей душной келье, обходя углы коек с чуткостью летучей мыши. Он неутомимо шагал взад и вперед по диагонали и сам с собою, не опускаясь до столь тесного общения с каким-то безродным фельдфебелем, обсуждал обстановку и разрабатывал разные варианты плана действий.
Из довоенной переписки с американским представителем кельнской компании «Динамит А. Г.» он имел представление о нраве и политических взглядах Роберта Д. Фламмери из «Аноним дайнемит корпорейшн оф Филадельфия». Их драматическая, встреча и личное знакомство злосчастным утром шестого июня показали ему, что деловые интересы «Аноним дайнемит корпорейшн оф Филадельфия», бесспорно, довлеют у капитана Роберта Д. Фламмери над его неприязнью к Гитлеру и гитлеровской Германии. Это в том случае, если такая неприязнь действительно испытывалась капитаном Фламмери, в чем барон фон Фремденгут, по крайней мере до войны, имел весьма серьезные основания сомневаться. Улыбки и рукопожатия, которыми они обменялись в самом начале их знакомства, улыбки, которыми Фламмери одаривал его каждый раз, когда ему приходилось встречаться, и особенно несколько трусливая (он боялся капитан-лейтенанта!) улыбка младшего американца, который явно ходил под сапогом у Фламмери, — все это придавало барону уверенность, что. еще не все потеряно. Он собирался использовать отчетливо наметившуюся трещину между союзниками, но отнюдь не для того, чтобы таким путем облегчить свое положение в качестве пленного. Он ждал теперь наиболее удобного стечения обстоятельств, которое позволило бы ему покончить заодно и с пленом и с теми, кто его держал в плену.
Удалось же этому русскому мальчишке и молчаливому усатому англичанину так блистательно справиться с четырьмя вооруженными и здоровыми мужчинами, немцами, эсэсовцами! (Последнему определению он придавал особенное значение.) При одном воспоминании об этом позоре Фремденгуту становилось не по себе.
Его худшие опасения насчет ефрейтора Сморке подтвердились: Этот мерзавец не подает никаких признаков жизни, не хочет рисковать своей поганой шкурой, ждет где-нибудь в лесу, в холодке, дальнейшего развития событий и в ус себе не дует.
Ничего! Со Сморке он еще рассчитается! А пока что действовать приходилось вдвоем с Кумахером.
Когда их выводили на прогулку, Фремденгут присматривался ко всему, что хоть в малейшей степени могло повлиять на успех задуманного побега. Уже на другой день пленения, в среду седьмого июня, он обратил внимание, что вывод пленных из их помещения перестал быть предметом особенного любопытства. Несколько раз их выводили тогда, когда вообще никого в пещере не было, кроме них и конвоира. Неужели двое чистокровных арийцев (один из них, правда, ранен, но ранен легко) не смогут справиться с одним расово неполноценным славянином или более расово полноценным, но зато невоенным англичанином?
Восьмого Фремденгут услышал сводку о военных действиях в Нормандии. Он не подал виду, но эта весть поразила его, как громом. До этого он разделял изрядно обоснованное мнение своего высшего командования, что пресловутый второй фронт не более как прекраснодушное обещание, которому никогда не суждено быть осуществленным. Как человеку, довольно близкому к гитлеровскому руководству, ему были известны смутные, но весьма упорные и никем не опровергаемые слухи о том, что кто-то где-то кого-то из наиболее приближенных к фюреру сановников заверил, чтобы они английские и американские разговоры насчет второго фронта всерьез не принимали, а старались поскорее и поосновательней «расколошматить» большевиков. И вдруг — ожесточенные бои в Нормандии!
Об интересах компании «Динамит А. Г.» Фремденгуту особенно беспокоиться не приходилось. По удивительному совпадению (которое могло толкнуть в объятия мистики любого, кто не знал, что это совпадение твердо оговорено в соответствующих штабных инстанциях ее американскими партнерами по Всеобщему динамитному картелю) бомбы всегда падали в счастливом отдалении от ее заводов. Поэтому барон мог и должен был целиком посвятить себя заботе о том, за что он нес ответственность на острове Разочарования. Он ни на минуту не сомневался, что подводная лодка с подкреплением обязательно придет. В связи с открытием второго фронта ей, возможно, придется немного опоздать, но и только. Именно потому, что гитлеровская Германия роковым образом катилась к своему близкому поражению, подлодка должна была любыми средствами пробиться к острову Разочарования. На карте стояли слишком серьезные интересы райха, быть может, судьбы той, другой, новой войны, которую Германия через какое-то время начнет с учетом всех ошибок нынешней, уже проигранной, с тем, чтобы в скорейший срок добиться своей великой исторической задачи — мирового господства.
Сначала побег намечался на девятое июня. Потом пришлось перенести на десятое: обстановка в пещере не благоприятствовала побегу, — во время обоих выводов на прогулку в пещере было чересчур людно. Зато весь день девятого июня оба эсэсовца провели, прильнув ухом к двери. Они терпеливо ждали каких-нибудь свидетельств того, что долгожданный подводный корабль высадил на берег подкрепление или хотя бы показался на рейде. Однако, как пленные ни напрягали слух, они не услышали ничего, что подтвердило бы их надежды. Тогда они решили, что подлодка из осторожности дожидается темноты. А может быть, предупрежденное ефрейтором Сморке, что на острове — союзнические силы, командование лодки готовит ночной десант и неожиданный штурм Северного мыса. В таком случае пленным надо было быть особенно начеку. Не исключено, что этот русский капитан-лейтенант захочет захватить с собою на тот свет и обоих пленных… Лично за себя Фремденгут почти не беспокоился. Он не верил, что его расстреляют, даже если десант будет уже на ближайших подступах к пещере. Он рассчитывал на рассудительность и деловые интересы Фламмери.
На случай, если надо будет приготовиться к обороне, решено было по очереди дежурить у двери и прислушиваться, что за ней происходит.
В ночь с девятого на десятое июня, в начале первого часа, Кумахер, занимавший наблюдательный пост у дверей, условленным трехкратным ударом каблука об пол поднял майора с койки и шепотом пригласил его к дверям.
— Вы слышите, господин майор?..
Из переднего помещения доносился еле различимый шум переставляемых коек, скрипнул передвигаемый стол, слышалась скупая и неразборчивая речь.
— Там происходит что-то необычное, — шепотом пояснил фельдфебель.
— Тсс! — зашипел Фремденгут. — Не мешайте слушать!
Раньше слышались только два голоса, минут через двадцать прибавился еще один. Снова донесся скрежет передвигаемых коек. Потом голоса умолкли. Послышался скрип выходной двери.
— Они вышли на воздух, — взволнованно засопел фельдфебель.
— Боже, как вы болтливы! Что-то в вас осталось от вашего политического прошлого… Болтаете, болтаете…
— Вы меня очень обижаете, господин майор! Я с тридцать третьего года не имею ничего общего с социал-демократами… Я честный и верный наци, господин майор! Я доказал это под Киевом!..
— Да перестанете ли вы наконец?!
— Слушаюсь, господин майор, — браво отвечал дисциплинированный фельдфебель. — Я только считал нужным доложить…
— Бог, милый бог! — застонал Фремденгут. — Эта старая трещотка сведет меня с ума!.. Постойте, постойте!., Кумахер, вы слышите?.. Кажется, пулемет!..
— Осмелюсь доложить, господин майор, это у меня стучат зубы.
— Фу! Перепугались?
— Волнуюсь, господин майор. Осмелюсь доложить, я очень волнуюсь.
Забывшись, Кумахер шмыгнул носом, и майор фон Фремденгут поморщился.
Еще через пятнадцать — двадцать минут снова скрипнула наружная дверь пещеры, и в переднем помещении возня и тихий говор не замолкали до самого утра.
Пленные устали прислушиваться. То, что происходило за стеной, нисколько не напоминало нервную беготню людей, врасплох захваченных смертельной опасностью. Надо думать, что подводная лодка еще не всплывала на поверхность бухты.
В восьмом часу утра десятого июня Кумахер, по-прежнему дежуривший у двери, снова трижды стукнул каблуком об пол, Фремденгут уже давно не спал, и если Кумахер, не отрывая уха от двери, столь неуставным способом обратился к барону, то значит, у него были серьезные причины даже на секунду не прерывать подслушивания. Вчера и третьего дня ничего не возбудило бы его внимания: просто с некоторым запозданием снимали шинели и одеяла с двери, чтобы повести их на прогулку. Но на сей раз у двери слышались голоса всех пятерых обитателей переднего помещения. Может быть, они собрались расстрелять своих пленных, чтобы развязать себе руки?
Фельдфебель в правую руку, а майор в левую (правая у него еще плохо действовала) взяли по щепотке перца, припрятанного Кумахером при изготовлении пищи. В карманах у обоих было по пригоршне золы, добытой все тем же запасливым фельдфебелем. По совести говоря, он заготовил это для того, чтобы обороняться от майора, если тот соберется душить его за предательство, но сейчас он был страшно польщен похвалой майора по поводу его патриотичности и истинно арийской, нордической хитрости и сметки.
По мере того как с двери снимались покровы, голоса доносились все громче и четче. Наконец можно было различить каждое слово. Пленных отделяла от переднего помещения только дощатая, неплотно сшитая дверь.
Майор и его верный фельдфебель выпрямились и приготовились швырнуть перец в глаза врагам. Но, сверх ожидания, засов не сдвинулся с места. Вместо его характерного скрипа, дважды в сутки связывавшегося в сознании обоих эсэсовцев с выходом на свежий воздух, они услышали какое-то странное выстукивание, шорох, щелканье открываемого ножа.
Донесся голос толстого англичанина:
— Почему вы уверены, что именно они могли это сделать? Ему отвечал голос молодого американца:
— Ну, все-таки… Стоило им только ночью выбраться к нам…
— Но как они могли выбраться? А если бы они действительно выбрались, то не стали бы воровать такую чепуху, а преспокойно отправили бы нас догонять душу этого, как его, этого ефрейтора Сморке.
— Интересно, носит ли его тень и на том свете усики и золотые очки? — хихикнул молодой американец.
Сморке погиб!
Кумахера так потрясло это известие, что он вторично за последние двенадцать часов забыл, с кем он имеет честь делить заточение, и толкнул плечом майора барона фон Фремденгута.
— Вы слышали, господин майор? — прошелестел он на ухо своему начальнику. — Сморке убит.
Вместо ответа барон изволил закрыть своей ладонью широкую пасть фельдфебеля.
Раз Сморке убит, некому будет предупредить командование подлодки о том, что обстановка на острове изменилась. Смерть Сморке нисколько не печалила майора Фремденгута. Но то, что она усложняла положение на острове, искренне его огорчало. Однако что же такое произошло у тех, за дверью?..
— А на что им рукоятка генератора? — не унимался молодой американец. — Что они из нее собираются охотиться на уток, что ли? — Он снова хихикнул.
— Достаточно им знать, что у нас нет запасной рукоятки, чтобы…
— Прошу потише! — послышался голос советского моряка. — Вы словно нарочно нанялись разбалтывать наши тайны…
— Иногда, мистер Егорычев, вы разговариваете с людьми так грубо, словно они у вас на жалованье, — раздался голос Фламмери. — Я не со всяким своим рядовым инженером или служащим позволяю себе так разговаривать. (Мистер Фламмери сделал ударение на слове «я», подчеркивая разницу между собой и капитан-лейтенантом Егорычевым.)
— Ей-богу, мы тут обойдемся вдвоем со Смитом, — отвечал моряк, и спорщики оскорбленно огрызаясь, удалились в глубь пещеры.
Вскоре шорох и выстукивание прекратились. Наступила плотная тишина, и эсэсовцы поняли, что дверь снова наглухо завесили.
Итак, при таинственных обстоятельствах пропала рукоятка генератора. К сожалению, весьма легко восполнимая потеря. Но весьма занятно: кто, когда и с какой целью ее похитил?..
В половине десятого скрипнул засов, распахнулась дверь, и пленных, как ни в чем не бывало, вывели на прогулку. Поскольку непосредственная угроза смерти миновала, они не рискнули пытаться бежать. Снова слишком людно было в пещере. Побег откладывался на завтра, на утро одиннадцатого июня, но зато уже должен был состояться во что бы то ни стало и при любых обстоятельствах. Это было решительно заявлено майором Фремденгутом, и фельдфебель с величайшей готовностью сказал: «Слушаюсь, господин майор!»
Утром Кумахер пополнил запасы перца и пепла.
Весь день они проторчали на страже у дверей. Они не услышали ни одного подозрительного звука. Они вообще ничего не услышали.
Очевидно, все куда-то уходили, но с минуты на минуту Фремденгут ожидал высадки подкрепления с подводной лодки, и поэтому обоим никак нельзя было ложиться спать. Отдыхать лег Фремденгут. На вахту у двери встал Кумахер. Он прильнул к ней ухом и так и застыл в этом неудобном положении, словно приклеенный за ухо к этому незатейливому сооружению, еще не переставшему пахнуть смолой.
Не успел Фремденгут заснуть, как его поднял на ноги встревоженный шепот фельдфебеля:
— Господин майор!.. Прошу вас, господин майор!..
— Опять вам что-то показалось?.. Идите к черту!..
— Извольте сами убедиться, господин майор…
Деланно позевывая, Фремденгут зажег огарок свечи, передал его Кумахеру, а сам недоверчиво приник ухом к доскам.
— Они снимают звукоизоляцию с нашей двери… Я имею в виду одеяла, господин май…
Фремденгут шлепнул его по губам, прервав это высказывание на полуслове.
Только что из-за двери доносился неразборчивый гул голосов. Сейчас уже явственно, хотя еще и негромко различались слова. Они услышали голос Фламмери:
— Значит, решительно и бесповоротно? Ему ответил голос Егорычева:
— Выходит, что так. Голос Фламмери:
— Ну, а вы, Смит?.. Подумайте хорошенько. Я доверяю вашему практическому и неозлобленному уму… Прежде, чем совершать такой решительный и бесповоротный шаг…
Кумахер взволнованно шмыгнул носом.
— Вы слышите, господин майор? Бесповоротный!..
— Да молчите вы, старая болтушка!.. Голос Смита:
— Я вполне согласен с мистером Егорычевым. Раз дело уже дошло до этого… Пора кончать с этой волынкой, сэр.
Голос Егорычева (очевидно, сняли всю звукоизоляцию, потому что стало совсем хорошо слышно):
— Давайте-ка пока наши патроны и гранаты вот сюда. Послышалось шарканье ног людей, переносивших куда-то неизвестно зачем тяжелые ящики.
Голос Цератода:
— По-моему, Смит, вы взяли мой автомат. Голос Мообса:
— Если «бы они там, за стенкой, догадывались, какой сюрприз Здесь для них готовится!.. Они бы…
Раздраженный голос Егорычева:
— Да потише вы, Мообс!.. Потерпите до утра с вашими громогласными разговорами!.,
Стало тихо.
Фремденгут обернулся к Кумахеру:
— Понятно?
Он задул свечу в заметно дрожавшей руке фельдфебеля.
— Понятно, господин майор, — пролепетал Кумахер. — Сейчас… сейчас они нас будут расстреливать…
— Хватит золы? — спросил Фремденгут только для того, чтобы не молчать.
— Полные карманы, господин майор.
— Дайте-ка мне еще!.. Ну, вот… Вы становитесь справа, я — слева… Как только дверь раскроется, швыряем им в глаза золу, вырываем у них автоматы… — Фремденгут с шумом перевел дыхание и добавил, не очень убежденно, но достаточно спокойно: — С нами бог, Кумахер!..
— Так точно, господин майор!..
Они встали по обе стороны входа, сразу покрывшись потом, с горстями, полными золы, перемешанной с перцем, и простояли так, в напряженном ожидании, полминуты, минуту, пять минут, пятнадцать минут, а может быть, и все полчаса.
Стало ясно, что надо бить отбой тревоги.
— Будем отдыхать по очереди, — сказал тогда Фремденгут. — Через часок-полтора разбудите меня…
Они дважды сменили друг друга, а по ту сторону двери все еще царила полнейшая тишина.
И вдруг Фремденгут ткнул ногой похрапывавшего на травяной подстилке Кумахера:
— Тссс!.. На место!.. Приготовиться!..
Наступило утро одиннадцатого июня. Время обычной прогулки пленных еще не пришло, но с двери определенно снимали звукоизоляцию. По мере того как дверь освобождалась от навешанных на нее одеял и шинелей, стало слышно шарканье ног, отрывистая и возбужденная речь, сначала неразборчивая. Потом сквозь щель у самого порога легла острая и теплая полоска дневного света, натужно заскрипел тяжелый деревянный засов, и голос старшего американца раздался неожиданно громко, словно над самым ухом:
— Мообс, вы все испортите своим автоматом! Они не должны видеть никакого оружия.
— Ну, фельдфебель, — прошептал Фремденгут, чувствуя, как по его спине пробежали мурашки, — становитесь справа от меня и, как только откроется дверь…
Он не успел договорить, как дверь отворилась и на пороге показались напряженно улыбающиеся физиономии обоих американцев. Из-за их спин, в некотором отдалении виднелось полное лицо майора Цератода с очень толстыми очками на мясистом облупившемся носу.
— Бросайте, Кумахер! — взвизгнул Фремденгут, неловко швырнул щепотку перцу в глаза мистеру Фламмери, промахнулся, быстро опустил руку в карман за новой порцией своего сыпучего и ароматичного оружия, но вынуть ее уже не смог. Фельдфебель Кумахер обхватил его сзади обеими руками и преданно крикнул отпрянувшим американцам:
— Не пугайтесь, господа, я его крепко держу!..
— Он сошел с ума? — испуганно спросил Фламмери. — Держите его получше, если он сошел с ума!..
— Никак нет, господин капитан! Господин майор не сошли с ума! — тяжело переводя дыхание, отрапортовал Кумахер, не выпуская Фремденгута, который с молчаливым бешенством порывался освободиться из его цепких рук. — Осмелюсь доложить, господин майор изволили хотеть засыпать вам глаза перцем, господин капитан!
— Перцем?.. Глаза?.. Мне?.. Ничего не понимаю!..
И тут на Фремденгута нашло то его наглое вдохновение, которое в свое время создало ему славу талантливого дельца и эсэсовца. Он спокойно выпростал руки из жирных объятий растерявшегося фельдфебеля, стряхнул носовым платком остатки перца со своего кителя и улыбнулся.
— Я должен покорнейше просить у вас извинения, дорогой мистер Фламмери. Дневной свет ослепил меня… Мне показалось, что передо мной… ваш большевистский комиссар…
— Комиссар? — с непонятным весельем хохотнул мистер Фламмери. — И вы решили?..
— Я решил, что он пришел нас расстреливать…
— Дорогой друг мой! — с чувством промолвил капитан Фламмери и неловко, но нежно пожал левую, здоровую руку Фремденгута. — Я пришел сообщить вам, что ваши испытания кончились. Я пришел сообщить вам, что мы, то есть я и оба моих коллеги, не видим оснований держать вас взаперти… Что же касается капитан-лейтенанта Егорычева, то мы с ним окончательно разошлись во взглядах…
— …и местожительстве! — восторженно добавил младший американец Джон Бойнтон Мообс, переводя поистине сыновний взор с мистера Фламмери на барона Фремденгута и обратно.
Фельдфебель Курт Кумахер стоял ни жив ни мертв, опустив руки по швам, и пожирал глазами начальство.
Они спускались с Северного мыса гуськом, шестеро островитян и двое; белых: Гамлет, стройный юноша с великолепными мышцами и еще более великолепной прической, дядя юного Боба — Джекоб, голенастый тихий и тощий негр Дарк, знакомый уже нам пожилой негр с хитровато-озорным лицом — дядюшка Уолт, трое их соседей и Егорычев со Смитом. Егорычев и Смит с автоматами наготове замыкали шествие. Они то и дело оглядывались назад, откуда им в любую минуту могла грозить пуля в спину. Остальные на бамбуковых шестах несли багаж наших героев, только что покинувших Священную пещеру.
Тихое и сверкающее утро поднималось над островом.
Прибежала снизу, из деревни, запыхавшаяся, насмерть перепуганная Мэри — молодая жена Гамлета. По ее расчетам, Гамлет и все остальные отправившиеся в Священную пещеру давно уже должны были вернуться домой. Она с разбегу выскочила из-за поворота и кинулась на грудь застеснявшемуся Гамлету.
— Жив! — крикнула она вне себя от счастья. — О, жив!.. Я так за тебя перепугалась!..
— Я же тебе говорил, что тебе больше нечего бояться… — сказал ей Гамлет с ласковой укоризной.
А дядюшка Уолт, который шел рядом с Гамлетом, добавил:,
— Это совсем другие белые, Мэри. Тех, прежних, в черных одеждах, убили.
— Не всех, — сказал Егорычев. — Двое взяты в плен. Негры сразу помрачнели.
Дарк спросил:
— Но они уже не смогут больше убивать наших людей?.. Они заперты в пещере?
Егорычев подтвердил, что они уже пятый день содержатся под замком.
— Они крепко-накрепко заперты, Мэри, — успокоил Гамлет жену.
— Но очень может быть, что они еще сегодня окажутся на свободе, — сказал Егорычев, который не считал себя вправе скрывать опасность, снова нависшую над населением острова Разочарования.
— Они убегут? — спросил Гамлет.
— Боюсь, что их выпустят.
— Но ведь они убивают людей, невинных людей! — воскликнул Гамлет в великом недоумении.
На это Смит с неожиданным для него раздражением ответил:
— Вот именно поэтому их и собираются выпускать.
Эти слова произвели на негров такое удручающее впечатление, что Егорычев счел необходимым несколько разрядить обстановку.
— Все это не так страшно, — сказал он, — но придется, конечно, быть поосторожней. Я вам все потом разъясню.
— Все это не так страшно, Мэри, — погладил Гамлет свою приунывшую жену. — Но придется быть поосторожней. Понимаешь?..
Егорычев улыбнулся:
— Мы со Смитом постараемся, чтобы они вам не смогли причинить вреда.
— Ну, вот видишь, Мэри, совершенно нечего бояться. Дядюшка Уолт сказал Егорычеву:
— Вы будете нашими дорогими гостями, сэр.
— Новый Вифлеем будет вам очень рад, — добавил со своей стороны Гамлет.
Мэри прошептала ему на ухо:
— Пусть они живут в нашей хижине. Можно?
— Можно, — шепотом отвечал ей Гамлет. — Только им будет у нас тесно.
— А ты пригласи… Тогда уже те белые не посмеют напасть на нашу хижину.
Гамлет огорчился:
— Я думал, ты предлагала из гостеприимства.
— Ну, Гамлет, ну, милый!.. Я из гостеприимства тоже предлагала. Они хорошие, эти новые белые.
— Они будут жить в Большой мужской хижине, чтобы никто нам не завидовал.
— Ты очень умный, Гамлет, — вздохнула Мэри.
Снизу вверх по тропинке торопились в это время в Священную пещеру Розенкранц, Гильденстерн и Полоний. Они заметили спускающуюся им навстречу группу, спрятались в кустах, переждали, пока она минет их, и потом со всех ног кинулись бежать наверх, куда их совсем недавно, разжегши условный костер, вызвали по приказу Фламмери.
Чтобы легче было нести поклажу и чтобы стало веселее на душе, Джекоб затянул, а его односельчане подхватили песню, в которой пелось про то, как хорошо и весело пировать, когда козы принесли хороший приплод, а бананы и кокосы обильно отягощены плодами.
Под их пение, поотстав от остальных, Смит и Егорычев обменялись несколькими словами о создавшемся положении.
Егорычев сказал:
— А там, наверху, уже, верно, целуются-милуются с этой гитлеровской сволочью.
— Похоже, что так, — отозвался Смит, помолчав и после некоторых колебаний высказал сомнения, которые его, видимо, уже давно мучили: — По совести, мне не все ясно. Там, в пещере, неудобно было вас расспрашивать, но убей меня бог, если я понимаю, почему оттуда ушли мы. Нам бы ровным счетом ничего не стоило выгнать их, а самим остаться в пещере и не напрашиваться в гости к этим добрым, но нищим дикарям.
— Во-первых, вода, — ответил Егорычев. Смит посмотрел на него с недоумением. — Ну да, самая обыкновенная питьевая вода. Если бы они были внизу, а мы наверху, они смогли бы лишить нас воды. А поскольку внизу мы…
— Ясно. Но тогда почему мы не увезли с собой пленных эсэсовцев? Ведь они их обязательно выпустят на волю.
— Резонный вопрос! Ответ: или я ничего не понимаю, или Фремденгут с Кумахером при первой же возможности кинутся перетаскивать свои таинственные ящики. А наше дело будет не проворонить Этот момент…
— Значит, вы все-таки убеждены, что эти ящики существуют? Егорычев бросил на кочегара быстрый взгляд, и тот стал смущенно теребить свои густые моржовые усы.
VI
«Нижеподписавшиеся: Роберт Д. Фламмери, от своею лица и от лица Джона Бойнтона Мообса,
Эрнест Цератод от своего лица, с одной стороны, и
барон Вальтер-Фридрих-Готлиб фон Фремденгут, от своего лица и от лица Курта-Христиана Кумахера, с другой стороны,
при секретаре Джоне Бойнтоне Мообсе, считая:
Что Стороны, на коих лежит ответственность и руководство хозяйственной, культурной, моральной и военной жизнью острова Разочарования, а также в дальнейшем, по мере представившейся необходимости, и бескорыстной защитой интересов упомянутого острова за его пределами, в точности и навсегда определены соглашением от 9-го сего июня между капитаном Робертом Д. Фламмери и майором Эрнестом Цератодом, с одной стороны, и представителями туземного населения острова Разочарования, с другой стороны;
Что уточнение распределения ответственности и руководства перечисленными выше сторонами жизни острова Разочарования должно явиться предметом специальной договоренности между упомянутыми выше джентльменами.
Что в силу веских причин выяснилась потребность, впредь до прибытия сюда первого судна или самолета США или Соединенного королевства, установить для острова Разочарования временный статут управления на основе привлечения барона Вальтера-Фридриха-Готлиба фон Фремденгута и Курта-Христиана Кумахера к выполнению под контролем и руководством Роберта Д. Фламмери и Эрнеста Цератода отдельных функций управления без возложения на них какой-либо части общей ответственности за судьбы и благосостояние острова;
Что неопределенность их функций или отсутствие таковых неминуемо могли бы стать предметом достойных сожаления споров, затруднений и конфликтов;
Что было бы, следовательно; полезно установить однообразную и обязательную для всех нижеподписавшихся официальную доктрину по этому важному вопросу;
Что, твердо придерживаясь сами истин христианской веры и с благодарностью принимая утешение, доставляемое религией, нижеподписавшиеся одинаково отрицают за собой право и желание навязывать свою веру или толкование отдельных ее догматов кому-либо вообще и жителям острова Разочарования в частности;
Что, однако, нижеподписавшиеся не могут не учитывать и прискорбных событий, которые могут проистечь от действия в разных частях острова Разочарования несогласованного календаря, ибо ничто так не связывает культурное человечество в его стремлении к счастью, добру, процветанию и плодотворному взаимопониманию, как единство в исчислении дней недели;
Что, следовательно, нет ничего естественней, как возложение общего руководства жизнью острова Разочарования, впредь до прибытия первого судна или самолета США, на Роберта Д. Фламмери;
Условились договориться о средствах к достижению этой цели и, придя к соглашению, приняли нижеследующую декларацию:
1. Общее руководство островом Разочарования впредь до прибытия указанных в преамбуле настоящего соглашения первого судна или самолета, возложить на Роберта Д. Фламмери.
2. На срок, указанный в параграфе первом настоящею соглашения, возложить на барона Валтера-Фридриха-Готлиба фон Фремденгута и фельдфебеля Курта-Христиана Кумахера военно-технические вопросы, буде в таковых создастся надобность.
Примечание. На фельдфебеля Курта-Христиана Кумахера дополнительно возлагается ежедневная уборка помещения и прилегающей к пещере территории, заправка лампы, приготовление трижды в день горячей пищи, а холодных закусок- по мере возникновения в них потребности у кого-либо из нижеподписавшихся в отдельности или у всех их сразу, а также ежедневная чистка обуви всех перечисленных в преамбуле лиц, кроме представителей местного населения, которые обувью не пользуются.
3. Нижеподписавшиеся обязуются принять все зависящие от них меры, чтобы содействовать установлению на острове Разочарования единого христианского календаря, если в' том возникнет потребность, и по возможности избегая пролития крови.
4. Полагая гражданский мир основой благополучия, нижеподписавшиеся считают своим христианским долгом и обязуются принимать все необходимые меры, лишь только этому гражданскому миру на острове Разочарования создастся ощутительная угроза со стороны отдельных лиц, групп и населенных пунктов.
5. В целях достойного ознаменования столь счастливо достигнутого взаимопонимания и единодушия в обсуждении и принятии приведенных выше пунктов декларации переименовать остров Разочарования в остров Взаимопонимания.
Нижеподписавшиеся обязуются довести эту декларацию до сведения временно отсутствующих Сэмюэля Смита и Константина Егорычева и пригласить их присоединиться к ней.
Убежденные в том, что провозглашенные настоящей декларацией положения будут приняты всем миром только с благодарностью, нижеподписавшиеся не сомневаются, что их усилия, направленные на то, чтобы сделать признание их всеобщим, увенчаются полным успехом.
Роберт Д. Фламмери
Эрнест Цератод
Барон Вальтер-Фридрих-Готлиб фон Фремденгут
Джон Бойнтон Мообс, секретарь
Учинено на острове Взаимопонимания в трех аутентичных экземплярах на английском языке, которые по одному хранятся у каждого из подписавших настоящее соглашение.
11 июня, в лето от рождества спасителя нашего тысяча девятьсот сорок четвертое».
VII
Из дневника Мообса:
«Старикашка — молодчага первый сорт! Еще третьего дня в нашей пещере было целых три начальника. Старикашка был вторым по значению. Лидировал Егорычев. Сегодня утром начальников стало двое: старикашка и гусак. Оба на равных правах — «в соответствии с соглашением от 9-го сего июня». А вечером старикашка выбился на целый корпус вперед и с божьей помощью прочно удерживает эту дистанцию. Гусака подкосил уход Смита. Против нас со старикашкой ему не вытянуть. По сему случаю мистер Цератод ходит, как овдовевший гусак. А вас, мистер Джон Бойнтон Мообс, я имею удовольствие поздравить с удачным помещением капитала: ваша лошадка первой придет к финишу! И с Фремденгутом вам не изменил ваш нюх. Вот что значит вовремя улыбнуться человеку: вчера ты ему улыбнулся, а сегодня — он тебе. У себя в Германии этот барон, оказывается, стоит не меньше моего старикашки. Товар мне попался вне конкуренции, экстра! Мой покойный предок говорил, что влиятельные связи — это половина жизненного успеха. Бедный, недалекий папашка! Это две трети жизненного успеха. Пять шестых! Девяносто девять сотых!..
Я никогда еще не развивал такой бешеной деятельности, как сегодня, и чувствую, как из меня быстро вылупливается государственный деятель. Старикашка так прямо и сказал: «Джонни, друг мой, я в вас чуточку ошибался, я вас несколько недооценивал. Если вы не будете губошлепом, я из вас сделаю государственного деятеля. Что вы сказали бы, Джонни, насчет того, чтобы спустя некоторое время на год-другой остаться губернатором острова Взаимопонимания? Ну, старикашка, конечно, никогда не почтет за труд немножко перегнуть в обещаниях, но если я буду умным мальчиком, у меня верный шанс стать если не губернатором, то уж, во всяком случае, его помощником. Это тоже совсем неплохо! Бедная мисс Пегги из Буффалосити, как мне вас жаль! Увы, помочь вам я ничем не смогу.
Но пусть я, на самый худой конец, и не стану колониальным тузом. 3а мною нерушимо и на веки веков остается близкое знакомство со старикашкой и бароном. (Черт побери, я близко знаком с настоящим европейским аристократом!) Уж я их так распишу в моем сочинении, что они сами раскупят полтиража, чтобы разослать своим родным и знакомым!
Фу! Наконец-то я избавился от ехидных улыбочек этого Егорычева! Теперь я его раскусил. А я-то думал, что он на меня смотрит с укором! Он мне попросту завидует. Упустил, как распоследний кретин, единственный шанс в жизни наладить дружбу с таким крупным воротилой, как мой старикашка, и теперь со злости бормочет что-то насчет измены родине, смыкания с фашистами и тому подобную ерунду. А разрешите узнать, сэр, что мне, собственно, сделал плохого барон Фремденгут и его Гитлер? Мне, а не вам? Ровным счетом ничего. Они убили какое-то в точности неподсчитанное количество людей и сожгли какое-то количество городов и деревень? Но, во-первых, это какое-то в точности неподсчитанное количество советскихлюдей и какое-то количество советскихгородов и деревень. А во-вторых, я понимаю людей, которые сжигают города и уничтожают все население, чтобы утвердить свою власть: они ведь уничтожают людей, которые все равно умрут, и сжигают города, которые неизбежно превратятся в развалины. Это не моя мысль, я ее где-то слышал. Но это вполне дельная мысль, и она мне кажется правильной для людей дела, а не чувствительных слюнтяев. Всем никогда не может быть хорошо. Для того чтобы одним, немногим, самым сильным и выдающимся, было хорошо, нужно чтобы остальным, очень многим было плохо. И если человек не слабонервная дева, а настоящий мужчина, он должен любой ценой пробиваться в ряды тех немногих, кому хорошо. Это уж моя собственная мысль, и она мне тоже кажется в высшей степени бесспорной. Нечто подобное я сегодня, как бы между делом, высказал старикашке, и тот впервые за наше знакомство посмотрел на меня с настоящим уважением. Тогда-то он мне и сказал насчет губернаторства.
Конечно, и старикашка и гусак все еще кое-что от меня скрывают. Пусть утешаются моим мнимым неведением. По-моему, они опасаются дать мне в руки лишний козырь против них. Я это понял сегодня на рассвете, когда старикашка начал с Егорычевым ласковый разговор насчет того, что вместе, под одной крышей нам теперь с ним не ужиться. Нам — это старикашке, гусаку, мне и обоим эсэсовцам. Конечно, старикашка прав: раз мы не собираемся возвращаться отсюда на плоту, мы прекрасно можем обойтись без Егорычева и Смита. Остров Взаимопонимания прочно и навеки пущен в оборот цивилизации, и баста! Для нас война кончилась: белые это прежде всего белые, и против цветной опасности они должны крепко держаться друг за дружку. Егорычеву этого никогда не понять, потому что, по существу, все русские — самые настоящие цветные. В них течет монгольская или волжская (забыл в точности, какая именно, но определенно цветная) кровь. Это сказал не кто иной, как сам гусак, а он набит всякими сведениями, как дюжина библиотечных шкафов. И коммунизм — типичная азиатская затея. Человеку западной культуры она пристала, как коса китайца члену палаты лордов. Это тоже сказал гусак…
Так вот, всю ночь Егорычев со Смитом не прилегли ни на минуту и все время между собой шушукались, а утром старикашка и заявил Егорычеву, что нам с ним в пещере не ужиться и лучше разойтись по-хорошему. А так как нас с немцами пятеро против них двоих, то демократическое большинство на нашей стороне и поступиться придется не нам, а меньшинству, хотя Смиту, пожалуй, и не к чему было бы уходить — его никто отсюда не гонит.
Обстановка, как в самом первоклассном фильме: старикашка улыбается, Егорычев усмехается, мы с гусаком стоим тут же, рядом с Егорычевым — Смит, и у всех у нас наготове автоматы. Как говорится, чем крепче забор, тем лучше соседи. Мы понимали, что они были бы не прочь захватить с собой обоих пленных. Хорошо бы мы выглядели, если бы за Фремденгутом и Кумахером вдруг прибыла какая-нибудь подводная лодка и высадила бы человек тридцать молодцов-эсэсовцев. «Где наши друзья — майор Фремденгут и фельдфебель Кумахер?» А мы им: «Ах, извините, уважаемые джентльмены. Мы лично против них ничего не имели, но у нас их забрали мистер Егорычев со Смитом». — «Ах, так! Фельдфебель! Расстрелять мистера Мообса, и мистера Фламмери, и этого вонючего мистера Цератода!» Нет, мы не могли позволить Егорычеву даже пальцем тронуть барона и его Кумахера. Мы тоже всю ночь не смыкали глаз и не расставались с автоматами, потому что с такими отчаянными людьми надо быть все время начеку.
Нормальный человек на месте Смита призадумался бы, услышав соображения старикашки. А этот усатый сателлит Егорычева поворачивается к своему новоявленному боссу: «Я считаю, товарищ Егорычев, что нам здесь нечего задерживаться». Он так и сказал: «Товарищ». Что ж, товарищ Смит, еще не успеете вы дожить до ближайшего ужина, как убедитесь, что сгоряча поставили не на ту лошадку. Но уже будет поздно.
За жизнь товарища Егорычева я бы сейчас не дал и пуговицы от жилета. Упаси нас боже самим что-нибудь предпринимать в этом духе! Но мало ли что может случиться с человеком, поселившимся среди дикарей, которые относятся к нему враждебно. Да, враждебно! А если пока что еще так и не относятся, то обязательно и в самое ближайшее время именно так отнесутся. Уж я-то знаю, о чем говорю. Старикашка и гусак спят и видят, как Егорычев стартует прямехонько в ад, к своим цветным праотцам. Они бы ему оказали в этом самое горячее содействие, но, кажется, боятся меня, как лишнего свидетеля. Как будто я и без того не имею в руках достаточно первоклассных сенсаций, чтобы капитально испортить им радость встречи с их горячо любимыми родичами. Джон Бойнтон Мообс совсем не так прост, как вы полагаете, мои дорогие старшие друзья! Но я не вижу пока никакого расчета портить с вами отношения: один из вас того и гляди станет министром, второй — мистер Роберт Д. Фламмери, и этим все сказано. Если они будут настолько благоразумны, чтобы не забыть, что я для них значил на острове Взаимопонимания, когда он еще был островом Разочарования, то мне никогда не потребуется швырять на стол свои козыри…
К чести Егорычева, он не стал вступать в бесполезные споры со старикашкой. Он только сказал старикашке: «Пускай Мообс сбегает в Новый Вифлеем и приведет человек шесть, которые помогли бы нам отнести наши вещи. Мы им хорошо уплатим».
Я не гордый. Я сбегал. Я привел шестерых носильщиков, а нашим трем молодчикам приказал, чтобы они через полчасика заглянули к нам в пещеру. Полоний уже вернулся из гостей.
За время моего отсутствия Егорычев успел поделить наши продукты и весь обменный галантерейный хлам на пять частей и две части отложил для себя и Смита. И еще он, не спрашивая ничьего разрешения, как будто это его собственность, забрал все гвозди на тот случай, если они со Смитом соберутся строить плот.
У Егорычева еще хватило смелости заявить на прощание, что мы, то есть старикашка, гусак и я, сами отвечаем за свои поступки, а они со Смитом продолжают находиться в состоянии войны с гитлеровскими бандитами. Нужно знать барона фон Фремденгута, чтобы понять, насколько пристала этому в высшей степени воспитанному аристократу, джентльмену с головы до ног, кличка «бандит».
Что и говорить, мне еще очень далеко до выдержки старикашки. Будь я на его месте, я бы пристрелил человека, осмелившегося назвать бандитом моего стариннейшего и богатейшего знакомого. А старикашка вместо этого улыбнулся, словно услышал невесть какую приятную новость и сказал Егорычеву, что он надеется, что мы с ним, как всегда, расстаемся добрыми друзьями! Вот у кого настоящая хватка, ничего не скажешь!..
Только они ушли, как мы выпустили немцев. (Не обошлось без недоразумения, но об этом у меня подробно описано в книжке, и я не буду повторяться здесь в дневнике.) Немцы, как деловые парни, первым делом бросились проверять оружие. И что же? Оказалось, что нас оставили без патронов и запалов для гранат. Зато мы в ящике с мясными консервами нашли записку Егорычева, коротенькую, наспех написанную и без адресата:
«Вы заявляете, что кончили воевать. Значит, вам ни к чему патроны и гранаты. При вашем военном опыте они могут доставить вам уйму неприятностей. Если принять во внимание усилия, которые вы затратили на то, чтобы отбить их у нацистов, вас не может глубоко расстроить, что мы их захватили с собою. Егорычев. Смит».
Старикашка набросился на гусака, почему тот прошляпил патроны. Гусак сказал, что прошляпили мы все и что теперь нам надо вместе искать выход из создавшегося положения, но что он-то лично не так уж сильно прошляпил, потому что именно он, а не кто-либо другой догадался еще шестого числа припрятать от Егорычева целый ящик патронов. Надо было видеть, какое лицо стало при этом у старикашки! А гусак здорово поднялся в моих глазах.
Только мы несколько успокоились насчет патронов, как старика снова чуть не хватил кондрашка. Он спросил у Кумахера, можно ли изготовить рукоятку генератора взамен пропавшей. Можно. Требуется болт, английский ключ и немного проволоки. Все это есть в ящике со слесарными инструментами, но самого ящика нет; его забрал с собой мистер Егорычев. Кумахер говорит: ничего, обойдемся домашними средствами. Очень приятный парень этот фельдфебель, услужлив, старателен. Но он не берется сразу за изготовление рукоятки. Он кидается проверять рацию. Вот здесь-то кондрашка чуть не уволок от меня на тот свет моего славного старикашку. Оказывается, из рации исчезла какая-то дьявольски важная деталь — без нее ничего нельзя передать в эфир. Словом, форменная катастрофа. Теперь уж можно не хлопотать насчет рукоятки. Теперь наша связь с внешним миром зависит от того, удастся ли нам вырвать из рук Егорычева эту проклятую деталь. А у этого Егорычева очень крепкие руки и совершенно отвратительный характер… Пока что наша рация — простой радиоприемник.
Вскоре примчалась команда безвременно почившего Фрумэна, и старикашка не нашел ничего остроумней, как попросить меня посторожить подступы к лужайке. Он, очевидно, никак не может привыкнуть к мысли, что на меня можно положиться во всем. Его просьба была наспех сшита ослепительно белыми нитками, но я сделал вид, будто принял ее за чистую монету, спустился к первому повороту тропинки и стал терпеливо ждать, пока меня позовут обратно в пещеру.
Минут через двадцать появились с озабоченными рожами Горацио Блэк и Отелло Хигоат. Еще минут десять спустя — Ромео Литлтэйбл — бывший Полоний. К этому времени я уже успел отпустить его обоих коллег восвояси.
Раз старикашка решил, что мне не нужно присутствовать при его беседе с этими милыми канальями, мне был самый прямой смысл узнать от них самих, о чем они там без меня толковали. Вдруг я смог бы в чем-то помочь старикашке? В крайнем случае, в моих руках оказался бы еще один козырь. Совесть у меня чиста: старикашка проявил в отношении меня незаслуженное недоверие. Это обидело бы даже ангела.
Конечно, старикашка проинструктировал их, чтобы они держали в тайне то, что им сказали. Я остановил Горацио и Отелло и велел повторить, что им приказал белоголовый джентльмен, потому что я опасаюсь, не позабыли ли они уже самое важное. Чтобы доказать, что они не зря возвращаются, отягощенные обильными дарами, Отелло, который ходит у них после смерти Яго Фрумэна за старшего, горячо возразил мне: «О нет, сэр! Мы ничего не забыли и не перепутали. Мы должны сказать преподобному отцу Джемсу, что мистер Фламмери всю прошлую ночь возносил молитвы богу, чтобы тот вразумил его, кто напустил колдовские чары на сэра Фальстафа Фрумэна, и что, если он правильно понял ответ всевышнего, то виноваты в этом в первую очередь жители Эльсинора и, кажется, мистер Егорычев, который для продолжения своих колдовских чар переселился сегодня вместе со своим помощником Смитом в Новый Вифлеем. И еще мистер Фламмери велел сказать преподобному отцу Джемсу, что мистер Егорычев не христианин, не верует в бога, в чем можно легко убедиться, задав ему об этом вопрос.
Что же касается кощунственной ошибки, которую они столько лет совершали по части воскресного дня, то господь бог разъяснил мистеру Фламмери, что это смертный грех. Он никогда не простил бы этого людям Нового Вифлеема, если бы мистер Фламмери не пообещал за них господу, что люди Нового Вифлеема и Доброй Надежды сделают все, чтобы заставить человечество перейти на единственное угодное небу, правильное исчисление дней недели».
Я поразился памяти Отелло, который отчеканил все эти длиннющие фразы без единой запинки. Насколько я успел заметить, здешние дикари все запоминают на лету. Гусак говорит, что дело в том, что их мозги не были никогда загружены сложной умственной работой. Теперь я понимаю, почему у меня такая неважная память.
— Ну что ж, — говорю я обоим висельникам, — идите. Я передам мистеру Фламмери, что вы хорошо запомнили и чтобы он за вас не беспокоился.
Ну и старикашка! Я бы тысячу раз подумал, прежде чем поссориться с этим добродушным и богобоязненным джентльменом.
Появляется с узелком подарков в потной лапе бывший Полоний. Оттого, что он теперь уже Ромео, его облик не стал ни на волос приятней. Запомнил ли он, что приказал ему белоголовый джентльмен? Слава богу, запомнил! Этот праведник с лицом гангстера спешит на всех парах в Эльсинор, откуда он только нынче утром вернулся. Что он там скажет? Он там скажет от своего имени (он не забыл, что именно от своего имени!), что белые джентльмены шлют людям Эльсинора и людям Эльдорадо и Зеленого Мыса свое евангельское благословение и обещают им свою бескорыстную помощь в любую минуту, когда она потребуется. И все? Нет, не все. Он им скажет, чтобы они не очень верили словам людей из Нового Вифлеема и не поддавались на их угрозы.
Ромео Литлтэйбл убегает вниз, довольный моим одобрением, а я не спеша возвращаюсь в пещеру.
Старикашка встречает меня доверчивым и безмятежным взглядом, полным кротости и неги. Я отвечаю ему вдвое более нежной улыбкой и говорю:
— Боюсь, как бы между черномазыми не заварилось что-то похожее на войну.
Старикашка даже бровью не повел. Выдержка у него слоновья.
— Друг мой, — говорит он мне таким тоном, словно и не думал скрывать от меня содержание разговора со своими тремя черными апостолами, — право же, я не вижу ровно никаких причин, почему именно вам следует этого бояться.
Чтобы не заставлять его понапрасну волноваться, говорю ему, что нарочно проверял этих славных парней, как бы они второпях чего-нибудь не напутали.
— Ну и как? — спрашивает старикашка. Теперь от него буквально разит добродушием, как одеколоном, когда входишь в парикмахерскую.
— Все в порядке, — отвечаю я. — У них дьявольская память. Я с них тоже взял слово, чтобы они никому не проболтались. Они мне поклялись в этом.
— Вы очень хорошо поступили, мой дорогой Мообс, — говорит старикашка. — Я сам хотел вас попросить проверить, как они запомнили, но вас поблизости не было.
— Я их перехватил на тропинке за первым поворотом, — объяснил я ему. — Я сразу догадался, что вы хотели бы, чтобы я их проверил, но что в спешке позабыли мне об этом сказать.
— А вы мне должны были напомнить. Ведь у меня сейчас столько хлопот! — промолвил старикашка с мягчайшим укором. — Знаете, вы мне с каждым днем все больше нравитесь. В вас есть что-то внушающее уважение и доверие.
Наконец я получил полное старикашкино признание!
Цератод разочарован. Видимо, он ожидал скандальчика. То, что старикашка просчитался, высылая меня из пещеры, дало ему повод для злорадной улыбочки. Сейчас, когда мы со старикашкой полюбовно договорились, гусак заставил себя выдавить на свою потную физиономию улыбку невыносимой кислоты. Господи, как часты улыбки в нашей вонючей пещере! Если бы их можно было использовать в качестве скрепляющего вещества, на манер цемента или клея, не было бы в мире более крепкого коллектива, чем наша команда: Фламмери — Цератод — Джон Бойнтон Мообс.
Фремденгут сказал мне, что я очень напоминаю ему его младшего брата — Эрриха. Чертовски приятный парень, этот барон!
Теперь уже двенадцатый час ночи. Все спят, кроме меня и Кумахера. Кумахер караулит подступы к нашей лужайке. Он чуть не застрелил меня, когда я прокрался к нему, чтобы проверить, не спит ли он на посту. Куда там! Он вздрагивает, даже когда мимо проносится летучая мышь: боится Егорычева. Потолковал с Кумахером насчет немецких девушек. Он знает уйму похабных анекдотов и здорово их рассказывает. Я чуть не лопнул со смеху.
Теперь мы с Кумахером соседи. Я перебрался на место барона в то помещение, где мы до сегодняшнего утра держали пленных. Я ему это сам предложил. Невысокая цена за дружбу такого влиятельного промышленника. Тогда-то он мне и сказал, что я очень похож на его младшего брата. Старикашке тоже было приятно, что я совершил этот акт гостеприимства. Они лежали рядом, на соседних койках и часа полтора о чем-то тихо переговаривались. Как я ли напрягал свой слух, ничего путного не разобрал, кроме того, что речь шла об их довоенных делах. Если бы я мог быть так уверен в уважении и симпатиях старикашки, как в этом уверен, барон Фремденгут! Впрочем, мне кажется, что я действительно начинаю нравиться старикашке. Дай бог, дай бог…
Выходил еще раз посмотреть на еле видный в ночном полумраке далекий Новый Вифлеем. Конечно, ничего не увидел и не услышал. Но знаю: там уже на десятках конфорок кипит ядовитое старикашкино варево. Когда островитяне между собой передерутся, нам придется их мирить. На этом человеколюбивом бизнесе можно будет недурно заработать.
Где вы сейчас, чересчур бесстрашный и принципиальный мистер Егорычев? Не время ли мне уже пожелать вам царства небесного?»
VIII
Первой жертвой войны, вспыхнувшей одиннадцатого июня тысяча девятьсот сорок четвертого года на острове Разочарования, пал девятнадцатилетний Джекоб Кид из Эльсинора. В театральном празднестве он участвовал впервые и должен был выступать в ответственной роли Офелии (на острове Разочарования, как и в Англии шекспировских времен, женские роли исполнялись юношами). Озабоченный некоторыми вопросами актерского мастерства, он вышел в то злосчастное воскресенье из родной деревни в Новый Вифлеем незадолго до того, как Ромео (Полоний) Литлтэйбл пустился из Священной пещеры в обратный путь, на южную часть острова. Напомним, что во всех трех южных деревнях были убеждены, что этот день был субботним, и готовились завтра с утра направиться на театральное действо в Священную воронку, когда-то называвшуюся площадью Шекспира.
Таким образом несчастный Кид вышел из Эльсинора накануне своего несостоявшегося дебюта в тот ранний час', когда никто еще не мог предупредить его о назревающих грозных событиях.
К полудню он уже был в хижине Гамлета Брауна — его завтрашнего партнера по пьесе. Им надо было потолковать часок-полтора, не больше, возможно, кое-что совместно прорепетировать. Затем он отправился бы обратно в Эльсинор, и очень может быть, что избег бы таким образом своей печальной участи.
Но Гамлета дома не оказалось. Гамлет был занят хлопотами по устройству двух белых, неожиданно пришедших к ним в деревню со всеми пожитками, оружием и продовольствием.
Хозяйка радушно угостила Кида прохладным кокосовым молоком, предоставила в его распоряжение одеяло из козьих шкур и предложила отдохнуть после утомительного пути, пока вернется Гамлет. Хотя Гамлет и был где-то совсем рядом, Кид не решился отрывать его от хлопот как по прирожденной своей деликатности, так и потому, что боялся нечаянно досадить белым. Он еще ни разу в жизни их не видел, но уже успел узнать о них от хозяйки много удивительного, таинственного и устрашающего.
Так он прождал около двух часов и не заметил, как уснул. Он проснулся в третьем часу от тишины, воцарившейся кругом, и догадался, что все, очевидно, ушли на похороны Яго, который долгие годы был известен человечеству, как человек дрянной и глупый, а вчера, ко всеобщему удивлению, вдруг был посмертно причислен к лику святых. Он подождал еще немного, и так как Гамлет все еще не появлялся, а выходить из хижины было слишком жарко, стал лениво размышлять о том, кто они такие эти белые; почему у них такой некрасивый цвет кожи; почему они не красят свои лица в черный цвет, что он, безусловно, делал бы, будь он на их месте; почему у них на каждой ноге по две ступни (предполагались под вторыми ступнями ботинки); почему они не носят, как все нормальные люди, ожерельев и браслетов и не взбивают волосы в красивые прически; откуда они явились на Землю — с Луны или Солнца; что они будут делать в Новом Вифлееме и как их приняли люди Нового Вифлеема?.. За этими мыслями он не заметил, как снова задремал…
Нужно сказать, что переход Егорычева и Смита на жительство в Новый Вифлеем по-настоящему обрадовал только Гамлета Брауна и юного Боба Смита, того самого, который накануне бегал по поручению мистера Фламмери на Северный мыс за спиртом. Фламмери со своим обидным недоверием к его умению бегать и упорным стремлением сделать из него светски воспитанного курьера не понравился Бобу. Зато добродушный усатый однофамилец Боба произвел на него самое благоприятное впечатление.
Следует отметить, что кочегар ответил ему не меньшей симпатией. Он очень скучал по своей семье. В Лондоне у него среди четырех его сынов был и лихой парень по имени Боб, тех же примерно лет, что и его далекий чернокожий тезка и однофамилец. Между нами говоря, Сэмюэль Смит подарил вчера Бобу от собственного лица три великолепные ленты. И если мы об этом раньше не упомянули, так только потому, что сделан был этот подарок в полном секрете. Кочегар боялся, что Фламмери с Цератодом развезут по этому поводу целое дело.
Остальные обитатели деревни предпочли бы, чтобы белые со своими скорострельными мушкетами и непонятными работами и правами, как бы занятны и щедры эти люди ни были, поселились где-нибудь подальше, не смущая их покоя и привычного строя деревенской жизни.
Но законы гостеприимства так глубоко были в крови островитян, что никто из них и не подумал обнаружить свое недовольство.
Решено было, что впредь до того, как нежданным новоселам будет сооружено подобающее жилище, они будут проживать в походившей на среднерусский овин или ригу высокой хижине с очень крутой, доходившей почти до самой земли двускатной крышей, в которой мужчины Нового Вифлеема спокон века собирались для обсуждения общинных дел и культурного времяпрепровождения. Она так и называлась: Большая мужская хижина. Здесь обычно хранились черепа особо прославившихся предков, причудливо раскрашенные деревянные, глиняные и кожаные маски, надевавшиеся во время пасхальных магических плясок, барабаны, обтянутые козьей кожей, сухие, гладко обструганные бревна из розоватого дерева, издававшие при ударе колокольный звон, и огромные, метра в три с лишним длиною, бамбуковые трубы. (Сейчас трубы, барабаны и бревна-колокола были взяты на похороны Фрумэна.) Голые нары из бамбуковых жердей тянулись вдоль обеих стен этого первобытного клуба.
Гамлет собрался было закатить по случаю новоселья соответствующее угощение, но Егорычев отговорил его, вскрыл несколько банок рыбных консервов и сам угостил Гамлета, Боба Смита и еще человек пять-шесть островитян, которые поступились своими повседневными делами, чтобы поглазеть, как будут устраиваться белые.
Консервы пришлись островитянам по вкусу. Они одобрительно пощелкивали языком.
— Вы хороший человек, сэр! — сказали они и разошлись по домам.
С гостями остались лишь Гамлет и Боб Смит, который, будь на то его воля, никогда не расставался бы со своими новыми друзьями. Гамлет собрался сбегать домой, чтобы отдать кое-какие распоряжения хозяйке, но вернулся с полдороги, волоча за собой упиравшегося Розенкранца Хигоата.
— Пусть он повторит, что он мне только что про вас, сэр, наговорил! — сказал он, глядя на Хигоата ненавидящими глазами. — Ну, чего ты молчишь? Говори!..
— Только отцу Джемсу! — прошипел Розенкранц, пытаясь высвободить руку. — Мне запретили говорить это кому-либо, кроме отца Джемса!
— А мне ты сказал? — Ты старейшина!
— Это наши гости. Гости важнее старейшин!
— Отпусти меня к отцу Джемсу! Слышишь, отпусти! Отпусти! — заорал Розенкранц и попытался укусить Гамлета. — Вот сожгу море, тогда пеняй на себя!
— Боб! — сказал Егорычев. — А ну, быстренько за водой! Через минуту мальчик, пыхтя, приволок большой бамбук, полный воды. Егорычев наполнил водой банку из-под консервов.
— Спирт! — сказал Егорычев Смиту.
Из вещевого мешка кочегара появилась литровая бутылка, в которой хранился весь спиртовой запас Священной пещеры. При мысли о том, как вытянутся физиономии Фламмери и Цератода, когда они хватятся, что остались без спирта, Смит повеселел: кончилась их черная и белая магия!
Щелкнула зажигалка, вспыхнула чадящим желтым пламенем первая подвернувшаяся щепка.
— На! — сказал Егорычев Розенкранцу. — Ты грозишься поджечь море, заставь загореться хотя бы эту капельку воды.
Розенкранц зажмурил глаза в священном ужасе перед собственной чудотворной силой и поднес лучину к поверхности воды. Вода и не думала загораться.
— Ничего, — сказал Егорычев, — попытайся еще раз!
Но и вторая попытка вчерашнего чудотворца осталась безрезультатной.
— А теперь, — сказал Егорычев, — попробуй-ка ты, Гамлет!
И он сделал над банкой несколько движений чуть наклоненной раскупоренной бутылкой.
Как нам уже известно, Гамлет был еще накануне предупрежден Егорычевым, что зажигание воды никакое не чудо, и все же ему, несмотря на его растущее доверие и уважение к этому желтобородому доброму и веселому юноше, стало чуть-чуть не по себе, когда так быстро представилась возможность проверить это на собственном опыте. Ему пришлось сделать над собою серьезное усилие, чтобы скрыть охватившее его волнение и встретить испытание так, как это полагается уважающему себя человеку. Лицо его выражало полное спокойствие, и только рука еле заметно дрожала, когда он поднес горящую лучинку к воде, покрытой ржавыми жирными пятнами томата, и над нею поднялся невысокий голубоватый огонек.
Юный Смит, впервые присутствовавший при таком невероятном Зрелище, не смог удержаться от испуганного восклицания.
— Ты не должен пугаться, Бобби, — мягко заметил мальчику приободрившийся Гамлет. — В этом нет никакого чуда. Пусть только огонь погаснет, и я его снова зажгу. И в этом, право же, нет никакого чуда. Ведь я говорю правду, не так ли? — обратился он за поддержкой к Егорычеву и кочегару.
Егорычев сказал:
— Конечно, никакого чуда. Чудес вообще не бывает, можете мне в этом поверить, а при случае я вам это обязательно объясню поподробней.
Он прикрыл жестянку краешком одеяла. Огонек погас. Гамлет снова, на сей раз уже безо всяких колебаний, поднес лучинку к поверхности воды, и снова над нею вспыхнуло пламя.
— А ты разве не хотел бы зажечь воду? — спросил он Боба. Боб, оказывается, ничего не имел против. Он быстрым взглядом посоветовался со Смитом, тот утвердительно кивнул головой, и мальчик повторил чудо, за минуту до этого сотворенное Гамлетом.
— Видел? — спросил Егорычев поверженного в прах Розенкранца. — Видел, — отвечал тот упавшим голосом и подобострастно осклабился.
— Ты никогда, слышишь, никогдане будешь больше в состоянии зажечь воду или совершить какой-нибудь другой подобный фокус. В этом ты можешь не сомневаться. А если ты и теперь будешь упираться…
Розенкранц сник.
— Ну, говори, что ты такое должен был сказать преподобному отцу Джемсу. Да поскорее! Не заставляй меня сердиться!
Так стали известны Егорычеву и Смиту зловещие распоряжения, данные мистером Фламмери колдуну Нового Вифлеема.
— Сейчас же сюда отца Джемса и этого негодяя Гильденстерна, — распорядился Егорычев Гамлету. — Скажи отцу Джемсу, что от этого зависит благополучие всего Нового Вифлеема.
Гамлет выбежал из хижины.
— Вы понимаете, что это такое? — обратился Егорычев к Смиту. — Вы раскусили, какую дьявольскую кашу пытается заварить наш милый Фламмери?
— Насколько я понимаю, это каша на чистом ружейном масле. Только зачем она ему потребовалась?
— Разделяй и властвуй. Вы слыхали о таком выражении — «Разделяй и властвуй»? Жаль, что не слыхали. Впрочем, Цератоду не было расчета посвящать вас в тайну этого главного приема колониальной политики. Ведь он спит и видит себя министром…
IX
Они прождали пять минут, десять. Гамлет не возвращался. Тогда Егорычев послал Боба узнать, почему произошла задержка. Боб мигом обернулся.
— Там спорят, вот в чем дело. Гамлет что-то говорит, но с ним не соглашается отец Джемс, и Гильденстерн тоже не соглашается. Они там очень сильно спорят, сэр.
Когда Гамлет побежал выполнять поручение Егорычева, у хижины покойного Яго собралось уже все население Нового Вифлеема для участия в похоронах. Гильденстерн, воспользовавшись отсутствием Розенкранца, поспешил взять на себя почетную роль передатчика приказания белоголового джентльмена. Преподобный отец Джемс, который не сомневался в сверхъестественных возможностях и связях мистера Фламмери, не был, однако, настолько искушен но всех тонкостях дипломатии, чтобы понять намек, заключавшийся в словах Фламмери, как приглашение к прямому действию в отношении Егорычева. То, что сам белоголовый, запросто общавшийся с господом богом, не мог решительно высказать против желтобородого молодого джентльмена обвинение в колдовстве и одновременное признание магических возможностей желтобородого, таившееся в устном послании мистера Фламмери, заставило осторожного отца Джемса не доводить до всеобщего сведения эту часть послания. Он сообщил своей пастве, что теперь уже бесспорно известно, что колдовские чары навели на сэра Фальстафа Фрумэна никто как люди Эльсинора. Тогда одна из соседок Гамлета вспомнила о его госте из Эльсинора и поведала об этом преподобному отцу.
Егорычев серьезно сомневался, стоит ли ему именно сейчас, во время обряда похорон, появляться среди островитян. Быть может, появление в такой печальный и торжественный час постороннего человека противоречит обычаям острова. Но, судя по словам юного Смита, перед хижиной покойного Яго назревали какие-то серьезные события. Неужели провокация сладчайшего мистера Фламмери так легко и быстро пустила ростки?
Он вышел из Большой мужской хижины, оставив кочегара караулить Розенкранца и их громоздкий багаж и оружие. Он нарочно не захватил с собой автомата, чтобы избежать соблазна применить его даже в минуту самой крайней опасности.
При появлении Егорычева около хижины утопленника гул спора на мгновение затих, затем разгорелся с новой силой.
Егорычев окинул взглядом толпу. Гильденстерна среди нее не было.
— Где Гильденстерн? — осведомился он вполголоса у подбежавшего Гамлета.
— Он побежал за Кидом.
— За каким Кидом?
— Это паренек из Эльсинора. Он поджидает меня, пока я вернусь с похорон.
— А зачем он здесь, в Новом Вифлееме?
— Он будет играть в нашем представлении. Пришел посоветоваться.
— О чем вы здесь спорите?
— Гильденстерн сказал людям Нового Вифлеема, что белоголовый молился богу и бог сказал ему, что Яго погиб потому, что его извели колдовством люди Эльсинора и что им за это обязательно надо отомстить. Теперь отец Джемс говорит, что нам следует пойти войной на Эльсинор, чтобы отплатить им за кровь Яго, заставить их выдать того, кто виновен в колдовстве, и чтобы они перестали праздновать день воскресный по субботам.
— А что говорят люди Нового Вифлеема? — Они боятся бога.
— А ты как думаешь насчет того, что Яго якобы умер от колдовства?
— Я думаю… Я полагаю, — тут Гамлет перешел на шепот, — я полагаю… Вы же сами мне сказали, что чудес нет и что колдовства тоже нет… Я так говорю?
— Ты говоришь очень правильно, Гамлет. Ты храбрый и умный человек. Как ты думаешь, что тебе было за твои слова, если бы на самом деле существовали чудеса и колдовство?
— Я думаю, что меня убило бы на месте громом, сэр.
— Ну и как? Убило тебя громом?
— Нет, не убило. Я остался жив, и это очень интересно.
— Подумай об этом на досуге, мой дорогой умница Гамлет.
— Я обязательно об этом подумаю. Я теперь буду очень много думать.
— Но пока что нам нужно что-то предпринять, чтобы не началась по-пустому война.
— Вот и я так говорил, что нечего начинать войну. Она никому не нужна.
— Кроме тех, кто остался в Священной пещере.
— Это сверх моего понятия, сэр, — честно признался Гамлет.
— Это сверх понятия любого честного человека, и все же это именно так. Белоголовому нужна война, чтобы люди острова Разочарования основательно между собой перессорились. Тогда их легче будет подчинить своей воле.
— Но ведь это подло: натравливать людей друг на друга и извлекать себе пользу из чужой крови!
— Ах, мой дорогой Гамлет, в том мире, откуда прибыл мистер Фламмери и его друзья, многое построено именно на том, что люди, подобные Фламмери и Цератоду, всеми способами не дают остальным людям жить между собой в ладу и согласии. Только на этом и держится власть разных Фламмери. Вот поэтому-то он и хочет втравить вас в войну с Эльсинором.
— Они извели колдовством сэра Фальстафа, сэр, — вмешался преподобный отец Джемс.
Слишком много членов его паствы внимательно и все более сочувственно прислушивались к беседе Гамлета с желтобородым белым. Как пастырь, он считал себя не вправе не вмешаться.
— Разве Яго не утонул в море? — обратился к нему Егорычев.
— Но он утонул потому, что на него навели колдовские чары, сэр. Это понятно даже ребенку.
— Ты старый и мудрый человек, — польстил Егорычев колдуну, но адресуясь главным образом к его пастве. — Ты много знаешь и очень многое видел на своем веку. Скажи мне, разве люди вашей деревни умирают только от колдовства?
— Конечно, нет, — осторожно отвечал колдун. — Люди умирают от старости, от болезней, от отсутствия должного благочестия.
— Почему же ты так уверен, что он утонул в результате колдовства?
— Потому, что его голова была обращена в южную сторону.
— А если его выбросило бы в сторону вон той горы? Ведь на ней никто не живет? — И Егорычев указал в направлении, строго перпендикулярном тому месту бухты, куда выбросило тело Яго.
— Тогда было бы ясно, что никто, кроме него самого, в его смерти не виновен, — проворно ответствовал преподобный отец Джемс.
— А если бы в сторону Священной пещеры?
— Его выбросило головой к югу, — уклонился отец Джемс от прямого ответа.
— Я думал, что ты более понятлив, — с досадой промолвил Егорычев, — но раз ты нуждаешься, чтобы тебе разжевывали и клали в рот разжеванное, я могу это проделать для такого уважаемого человека, как ты.
Кое-кто из окружавших ухмыльнулся. Им было внове такое забавное выражение. Но колдун уперся взглядом в землю и молчал.
— На вчерашнем пиршестве вы угощали меня напитком, от которого люди пьянеют. Верно я говорю? — продолжал допытываться Егорычев.
— Верно, — неохотно отвечал колдун.
— Если человек выпьет слишком много этого напитка и упадет в воду, может он утонуть?
— Может, — еще более неохотно согласился отец Джемс.
— Так пусть те, кто видел Фрумэна, когда он третьего дня отправился в бухту, скажут, разве он не был тогда пьян?
— Он был — очень, очень пьян, — охотно Подтвердили несколько островитян. — Он качался на своих ногах, как самая старая и дряхлая коза.
— Что же удивительного в том, что очень пьяный человек утонул? Разве не было тогда сильного ветра? — спросил Егорычев. Ему казалось, что он уже почти полностью убедил своих слушателей.
Все согласились, что в пятницу, когда Яго отправился освежиться, дул достаточно свежий ветер, чтобы опрокинуть лодку, особенно если ею правит в дым пьяный человек.
— И еще, — продолжал Егорычев, все более утверждаясь в убеждении, что он берет верх над человеконенавистническими происками Фламмери, — попробуем даже на мгновение допустить нелепую мысль, что кто-то, неизвестно по какой причине, хотел извести одного из людей Нового Вифлеема. Если он хотел нанести этим действительный ущерб вашей деревне, он бы, без сомнения, выбрал наиболее уважаемого и ценного вашего односельчанина. Не так ли?
— Это именно так, — согласились его слушатели, окружая беседующих все более плотным кольцом.
— А разве Яго был достойным и ценным человеком?
— Все человечество презирает Фрумэна! — горячо воскликнул Гамлет.
— Он был большой негодяй, этот Фрумэн! — поддержали Гамлета его односельчане, но преподобный отец Джемс в благочестивом ужасе воздел руки, и люди замолкли. Они вспомнили, что со вчерашнего вечера полагалось совсем по-другому говорить о покойном Яго.
Егорычев понял, что не должен был, пожалуй, пускаться сейчас в оценку личных качеств первого квислинговца острова Разочарования.
— Так разве не ясно теперь, что Фрумэн погиб не от колдовства, а потому, что был мертвецки пьян?
— Белоголовый джентльмен всю прошлую ночь возносил молитвы всевышнему, и всевышний сказал ему со всей достоверностью, что покойный сэр Фальстаф Фрумэн погиб именно от колдовских чар и что напустили на него эти чары именно презренные люди Эльсинора, — сурово заметил колдун.
— Всю прошлую ночь все обитатели Священной пещеры провели вместе и бодрствовали. Я тоже бодрствовал и не видел, чтобы белоголовый хоть на одно мгновение предался молитве. Мы с ним были заняты самыми земными делами: разговаривали, делили с ним имущество и продовольствие.
— Можно молиться и будучи занятым самыми мирскими делами, — сказал отец Джемс.
— А почему не допустить, что белоголовому попросту померещилось, что он получил указания от бога?
— Это никак не может быть, сэр.
— А если я вам скажу, что белоголовый безусловно и сознательно сказал неправду? Что он все это выдумал, чтобы втянуть вас в братоубийственную войну?
— Этого не может быть, — убежденно отвечал колдун. — Если человек, пусть это даже сам белоголовый, сказал бы, что ему явился господь, и это была бы неправда, то это такой страшный грех, что его сразу поразил бы огонь с небес и он превратился бы в кучку пепла.
Островитянам последнее соображение показалось убедительным. Они закивали головами.
Позади толпы, у хижины, увешанной траурными венками, темнело на оранжевой циновке громоздкое тело Яго, плотно обтянутое старым засаленным эсэсовским кителем. Сейчас никто не обращал внимания на покойника. Даже его мать и вдова прекратили плач и причитания, не решаясь помешать разгоревшемуся спору.
— И все же я утверждаю, что белоголовый нарочно и сознательно вводит вас в… — снова начал Егорычев, поняв, что он еще очень далек от окончательной победы.
В это время показался Гильденстерн. С его лица струился пот. Он был взволнован и не пытался скрыть этого. Из плетеной сумочки, висевшей у него, как и у остальных островитян, на левом плече и заменявшей одновременно и карманы и сумку, поблескивало что-то металлическое, в чем Егорычев без труда признал краешек большого складного немецкого ножа. Точно такой же нож был отобран Егорычевым у Кумахера и подарен Мообсу еще в первый день их пребывания на острове. Теперь он оказался у Гильденстерна. Вряд ли Мообс, как и большинство не участвовавших в войне, особенно увлекавшийся трофеями, по собственному почину отдал его Гильденстерну. Очевидно, он сделал это по предложению Фламмери. Итак, они уже начинают понемногу вооружать своих сателлитов,
— А Кид? — спросил Гильденстерна отец Джемс.
— Он там.
— Где там?
— У порога хижины.
— Что он там делает?
— Он лежит.
— Ты должен был привести его.
— Он не хотел идти. Он сопротивлялся.
— Ты должен был взять его за руку и привести.
— Он стал царапаться. Он меня всего избил, с головы до ног.
— И это испугало воина и старейшину Нового Вифлеема?! Хорошо, мы пошлем другого, и он приведет сюда этого строптивого мальчишку.
— Он его не приведет, — сказал Гильденстерн, глядя себе под ноги. — Его уже нельзя привести… Он… я… Я его убил.
— Ты убил гостя нашей деревни?!
— Я убил врага нашей деревни. Он сказал, что ненавидит людей Нового Вифлеема. Он сказал, что желает нам всем гибели.
— Поклянись! — крикнул Гамлет, кидаясь к задрожавшему Гильденстерну. — Поклянись, что он так сказал! И что он не хотел сюда идти и дрался, тоже поклянись!.. Ты понимаешь, что ты наделал?
— Понимаю. Я убил слугу дьявола, и теперь уже нам обязательно придется пойти войной на Эльсинор, потому что в противном случае они сами на нас нападут, чтобы отомстить за Кида. Это перст божий.
— Это перст божий? — строго перебил его отец Джемс.
— Это перст божий, что я убил этого Кида… Белоголовый сказал, что это перст божий…
— Откуда белоголовый знает, что ты убил Кида?
— Он сказал, что если я убью кого-нибудь, из Эльсинора, то это будет перст божий.
— Почему ты не клянешься? И почему у тебя в порядке прическа и все украшения, если он тебя так сильно избил?.. Ты нарочно убил его! — не отставал от него Гамлет. — Почему ты не клянешься?
— Белоголовый джентльмен, который беседует с богом и шестикрылыми серафимами, сказал мне, что слуг дьявола надо убивать на месте.
— Почему ты не клянешься? Ты все это придумал, что он отказывался идти… Ты нарочно убил этого славного парня, чтобы мы воевали с Эльсинором!
— Белоголовый Джентльмен, — отвечал приободрившийся Гильденстерн, — сказал мне, что впредь я за свои дела буду отвечать только перед богом и перед ним, перед белоголовым… А перед тобой я не отвечаю. Ты такой же старейшина, как и я… Даже худший…
— Что-о-о? — вспыхнул Гамлет. — Я хуже тебя?.. Во всем человечестве не найдется человека…
— Спокойно, Гамлет, спокойно! — удержал его Егорычев, — Эти споры надо оставить на после. Ты умный человек, и ты это поймешь.
— Разве нам нужна война, люди Нового Вифлеема? — крикнул тогда Гамлет, обращаясь к помрачневшим односельчанам.
Островитяне отрицательно замотали головами. Конечно, им никак не нужна была война.
— Ты не должен так говорить, Гамлет, — сказал отец Джемс.! — Разве мы не должны покорно выполнять повелений господних? Господь лучше тебя и меня знает, нужно ли нам или не нужно идти войной на Эльсинор. И если он приказывает нам: «Идите войной на нечестивых людей Эльсинора, чтобы они достойно ответили за смерть возлюбленного раба моего сэра Фальстафа Фрумэна и чтобы они не смели впредь нарушать святость воскресного дня», надо идти войной.
— Слушайте меня, люди Нового Вифлеема! — воскликнул с отчаянием Егорычев, чувствуя, что островитяне все еще колеблются между здравым смыслом и боязнью прогневить небо. — Бог, в которого вы верите, не мог — вы слышите? — ни за что не мог повелеть вам идти войной на Эльсинор! Если я не прав, если я говорю неправду, пусть меня тотчас же поразит самая страшная небесная кара!.. Вы слышите? Самая страшная!
Все застыли в напряженном ожидании. Кое-кто даже закрыл лицо руками, чтобы не быть свидетелем ужасного зрелища. Прошло пять, десять, двадцать секунд, минута. Егорычев оставался жив и невредим.
— Ну, теперь вы видите, что я говорю правду? — крикнул Егорычев. — Меня не поразил ни гром, ни молния, меня не унесло ураганом, я не провалился сквозь землю!.. Неужели вы и теперь не убедились в правоте моих слов?
И вот в эти мгновения, когда Егорычеву уже показалось, что он победил, раздался голос Гильденстерна:
— Пусть лучше желтобородый скажет, верит ли он в бога. Белоголовый джентльмен велел сказать вам, люди Нового Вифлеема, что желтобородый не верит в господа нашего и что очень может быть, что он сам тоже причастен к гибели сэра Фальстафа. Он сказал, пусть люди Нового Вифлеема сами спросят у желтобородого, верит ли он в бога.
— Я верю, что люди должны жить в справедливости и мире, — сказал Егорычев.
— Не-е-ет, пусть он скажет, верит ли он в бога! — торжествующе завопил Гильденстерн, видя, какое впечатление его вопрос произвел на островитян. — Вы видите, он боится прямо ответить на мой вопрос.
— Можно не верить в бога и быть справедливым, добрым и честным человеком, — сказал Егорычев в наступившей тишине. — И можно говорить, что веришь в бога, и быть отъявленным мерзавцем и убийцей…
— Вы слышите? Он не верит в бога!.. Он слуга дьявола! Его изгнали из Священной пещеры, и он спустился к нам, в Новый Вифлеем, чтобы перетянуть нас на сторону дьявола! — кричал Гильденстерн, победно потрясая кулаками. Из раскачивавшейся сумочки выпал и упал к ногам Егорычева складной нож — дар мистера Фламмери. На его черенке Егорычев заметил явственные следы крови, совершенно свежие следы. — Берегитесь желтобородого, он принес нам несчастья и смерть! Он ищет нашей погибели!..
— Священная пещера изрыгнула этого посланника сатаны! — в свою очередь возопил отец Джемс, окончательно утвердившись в справедливости указаний мистера Фламмери. — Чего же вы стоите, сложив руки, люди Нового Вифлеема?!
Он набросился на Егорычева. Еще с десяток островитян, устрашенных тем, что они чуть было не поддались на обольщения посланника сатаны, поспешили возместить свои губительные и греховные колебания участием в этом богоугодном деле.
Что же касается остальных, симпатии которых, помимо их воли, все же оставались на стороне этого веселого и добродушного парня, который так хорошо встретил их на Священной лужайке, так ласково обошелся с ними, их детьми и домочадцами и, не колеблясь, выдал на их суд белого, который поджег деревню и убил четырех островитян, то они хотя и никак не помогали вязать Егорычева и бросившегося ему на помощь Гамлета, но и воспрепятствовать отцу Джемсу и Гильдёнстерну не решились.
— Не трогайте их!.. Не смейте их трогать! — кричал во всю мощь своих мальчишеских легких юный Боб, цепляясь за руки тех, кто навалился на его друзей. — Они хорошие!.. Вы слышите, они очень хорошие!..
Гильденстерн со всего размаху ударил мальчика по лицу, и тот, обливаясь кровью, грохнулся на пыльную, раскаленную землю.
Сразу вслед за этим раздался сочный, с хрустом, удар по свирепой физиономии Гильденстерна, и новоявленный старейшина и защитник веры очутился на земле в близком соседстве с юным Бобом.
— Давно ли ты стал таким храбрым, Гильденстерн? — осведомился, склонившись над поверженным прохвостом, красивый, плечистый молодой островитянин. — Ты бесстрашно кинулся на ребенка. Ты бесстрашно убил исподтишка беззащитного и невинного парня из Эльсинора. Почему я тебя никогда не видел выступающим один на один против взрослого мужчины в честной, открытой — драке?
Это был дядя Боба Смита — Джекоб Смит.
— Может быть, тебе хочется померяться силами со мной? — продолжал он.
Но оказалось, что у Гильденстерна такого желания не было. Он вскочил, держась за свою сразу раздувшуюся щеку, шмыгнул в сторону от Джекоба, подбежал к преподобному отцу Джемсу, который, как и все остальные, очень спокойно отнесся к поражению нового старейшины, и прошептал ему на ухо:
— Надо сейчас же убить обоих: и желтобородого и Гамлета. Белоголовому это понравится… И богу тоже…
— Не будем спешить с таким делом, — возразил колдун. — Пусть они пока посидят в Большой хижине. Пусть таких людей судит сам белоголовый. Мы ему завтра сообщим, и как он скажет, так мы и поступим.
— У них там, в хижине, имеются мушкеты, — опасливо напомнил Гильденстерн.
— У белоголового тоже имеются мушкеты, — сказал преподобный отец.
Через несколько минут Егорычева, Гамлета и маленького Боба, изрядно помятых в свалке, с руками, туго затянутыми за спиной, втолкнули в дверь Большой мужской хижины, быстро захлопнули ее и с грохотом задвинули большим бревенчатым засовом.
Когда кочегар, выскочивший было на шум из хижины, хотел выручить друзей при помощи автомата, Егорычев, к всеобщему изумлению, крикнул ему, чтобы он спокойно возвращался в хижину. Он хотел избегнуть ненужного кровопролития.
— Bee будет в порядке, уверяю вас, все будет в порядке! — бормотал Егорычев, пока кочегар одного за другим освободил от уз всех троих своих друзей. — Есть у нас вода? Давайте первым делом умоемся. А потом мы обязательно что-нибудь придумаем… Нет безвыходных положений. Правильна, Гамлет?
— Мы обязательно что-нибудь придумаем, сэр, — ответил Гамлет, хотя он не мог себе представить, что можно было бы придумать в их положении.
— Кстати, Гамлет, вы хотели бы сделать мне приятное?
— Очень хотел бы, сэр.
— Так вот, учтите, что мне не доставляет никакого удовольствия, когда меня называет сэром человек, которого я люблю и уважаю. В моей стране люди обращаются друг к другу со словом «товарищ». Называйте меня «товарищ Егорычев». Хорошо?
— Хорошо, товарищ Егорычев, — улыбнулся в темноте Гамлет. — Я вас буду называть товарищем.
Что до Розенкранца, то он молчат наблюдал из своего закутка, как его недруги стали умываться, словно они не были ввергнуты только что в опасное заточение… Сначала он прислушивался к их разговору, стараясь уяснить себе причину их неожиданного пленения. Поняв, что произошло у хижины покойного Яго, он преисполнился чувства глубочайшего удовлетворения. Зато когда этот неудачливый апостол мистера Фламмери, обладавший тончайшим слухом, прислушался к голосу отца Джемса, что-то выкликавшего то с той, то с другой стороны запертого дома, он хлопнулся о земляной пол и стал, колотясь о него головой, причитать невыносимо визгливым голосом. Его не сразу удалось призвать к порядку, Еще труднее было выведать у него, что он такое слышал, что довело его до кликушеского состояния. Шлепок по спине могучей дланью кочегара Смита привел его в себя, и он, обливаясь слезами и царапая лицо крепкими, как железо, грязными ногтями, поведал, что дом, в котором они взаперти, теперь заколдован самым страшным из заклятий. Каждый, кто приблизится к нему ближе чем на двадцать шагов, будет поражен небесным громом. Точно такая же участь ждала и того, кто без разрешения отца Джемса попытается покинуть это заколдованное здание.
X
В тот самый час, когда в Священной пещере закончили обсуждение и приступили к подписанию договора о переименовании острова Разочарования в остров Взаимопонимания, трое воинов Нового Вифлеема в полной воинской раскраске доставили в Эльсинор изуродованное тело несчастного Джекоба Кида. Как парламентеры, они пользовались неприкосновенностью. Вежливо подождав, покуда на площади соберутся все жители деревни, воины Нового Вифлеема первым делом объяснили им, за что именно убит их молодой односельчанин. Затем были доведены до всеобщего сведения не подлежащие обсуждению требования Нового Вифлеема. Эльсинор должен был выдать своего колдуна, преподобного отца Лира, и пятерых старейшин как лиц, отвечающих за всякое зло, исходящее из их деревни. Кроме того, Новый Вифлеем требовал немедленного признания Эльсинором, равно как и прочими южными селениями, что сегодня не суббота, а воскресенье, и надлежащим образом исправил и на последующие времена свое исчисление дней недели. В случае неприятия любого из этих пунктов Новый Вифлеем — страж истинной веры — объявлял Эльсинору священную войну.
К этому времени отцу Лиру и старейшинам Эльсинора уже стало из уст Полония известно послание мистера Фламмери. Но и не будь этой воодушевляющей весточки из Священной пещеры, Эльсинор, считавший себя, как и прочие деревни острова, подлинным защитником веры, ни за что не пошел бы па изменение исчисления дней недели. Что касается колдовства, жертвой которого пал Яго Фрумэн, то тут еще нужно было разобраться, действительно ли оно исходило именно из Эльсинора, а если и на самом деле из их деревни, то существовало достаточно много проверенных многолетней практикой способов выяснить в точности, кто навлек на себя справедливый гнев людей Нового Вифлеема. Ни у преподобного отца Лира, ни тем более у старейшин Эльсинора и в помыслах не было, что можно отказаться выдать выявленного виновника такого преступления. Справедливые требования всегда оставались справедливыми, как бы неприятно это, иногда и ни бывает.
Но так как дело касалось и самых основ веры, то Эльсинор, не задумываясь и не вступая впереговоры, отклонил дерзкий и кощунственный ультиматум Нового Вифлеема.
С этой минуты Эльсинор и присоединившиеся к нему Эльдорадо и Зеленый Мыс оказались в состоянии войны с обеими северными деревнями.
Это была третья за последние триста лет война на острове Разочарования и первая, которая должна была охватить все пять его деревень.
Тотчас же были посланы кружным путем, по опасным, непроходимым кручам внешнего берега острова три гонца с расчетом, что по крайней мере один из них проберется к Священной пещере и сообщит, что Эльсинор с благодарностью и благоговением ждет обещанной помощи.
На главной площади Эльсинора затрубили в трубы, заколотили в барабаны и бревна, заменявшие колокола, нисколько не отличавшиеся от тех, которые назавтра, утром двенадцатого июня, прозвучали на площадях остальных селений острова.
Уже давно опустилась ночь, когда закончился объединенный военный совет старейшин и духовных пастырей Эльсинора, Эльдорадо и Зеленого Мыса. Чуть пораньше закончилось такое же совещание и представителей Нового Вифлеема и Доброй Надежды.
Никто не спал, кроме самых дряхлых стариков и грудных младенцев. Воины готовили оружие, женщины причитали, дети вторили им испуганным плачем. Колдуны служили молебны, кропили святой водой оружие воинов и убеждали господа бога в его же собственных интересах помочь им в их ратном подвиге. Поскольку дело шло о войне, угодной всевышнему, все пять пастырей были одинаково уверены, что им удалось договориться со вседержителем на обоюдно выгодных условиях.
После молебнов во всех пяти деревнях принялись за перевод женщин, стариков, детей, домашнего скарба и скота в близлежащие пещеры. (Было бы неправильно видеть в этих пещерах результат специального военного строительства. Жители острова Разочарования еще не достигли тех высот западной цивилизации, при которых приходится большую часть общественного времени, богатства и труда тратить на военные цели. Если у островитян в их повседневной и суровой борьбе с природой оставался излишек времени, они его легкомысленно использовали на украшение жилищ, изготовление музыкальных инструментов и игру на этих инструментах. Ходили в гости, пели песни. Что же касается пещер на острове Разочарования, то они были обязаны своим происхождением частично слепым силам природы, а в остальном — все растущей потребности в материале для изготовления орудий. Не ограничиваясь сбором валяющихся на поверхности земли кремневых желваков и галек, островитяне стали с течением времени выламывать эту ценную породу из скалы в месте ее выхода наружу. Мягкие породы, в которых обычно встречается кремень, легко поддавались разработке, и островитяне в поисках его углублялись в скалы. Так росли на острове, год от года раздаваясь в длину, сравнительно просторные пещеры. В них люди острова стали искать спасения во время ураганов, во время катастрофических ливней, от которых не могли защитить крыши обычных жилищ…)
Во мраке ночи, который не в силах были преодолеть десятки факелов, потянулись в зловещие пасти пещер вереницы людей, перетаскивавших детей, вещи, продовольствие, воду. Встревожено блеяли козы, которые не хотели расставаться со своими загонами. Старики, кряхтя и обливаясь потом и слезами, волокли с собою в пещеры деревянные колоды с барельефами святых, с которыми все же было не так страшно спускаться в эти глубокие и длинные каменные колодцы. Дети плакали и просились домой. Женщины тоже плакали и шлепали ребят, чтобы те своим плачем не мучили старших, которым и без того тошно.
Но если воины Нового Вифлеема собирались приступить к ратным делам лишь только рассветет, то южане, несмотря на жажду мести за Джекоба Кида и горячее желание постоять за веру, не могли начинать военные действия раньше послезавтрашнего утра. Ведь для них завтрашний день был воскресным. А по воскресеньям на острове Разочарования не воевали.
На рассвете вернулся в Эльсинор единственный из уцелевших гонцов, посланных в Священную пещеру за помощью. Оба его товарища погибли еще по пути на север: один сорвался с обрыва в океан, другой разбился на дне глубокой расселины. Гонец принес радостную весть: белые джентльмены обещали молиться за победу храбрых защитников истинной веры, доблестных людей Эльсинора, Эльдорадо и Зеленого Мыса.
Еще накануне вечером, сразу после похорон Яго Фрумэна, гонец, посланный в ту же Священную пещеру преподобным отцом Джемсом, принес в Новый Вифлеем точно такую же (слово в слово!) отрадную и воодушевляющую весть: белые джентльмены обещали молиться за победу храбрых защитников истинной вера, доблестных людей Нового Вифлеема и Доброй Надежды!
В понедельник, двенадцатого июня, в начале восьмого часа утра, два отряда, составленных из воинов Нового Вифлеема и Доброй Надежды, ворвались со стороны суши и с моря в Эльсинор, В деревне царила зловещая тишина селения, покинутого обитателями. Все люди Эльсинора укрылись в пещере. Вход в нее был завален камнями.
Безмятежное, ясное и солнечное утро стояло над островом Разочарования.
XI
— Мы отлично можем выбраться сквозь крышу, — сказал Сэмюэль Смит, когда запертые в Большой мужской хижине окончательно убедились, что двери им не сломать. — Такую крышу можно вспороть ножом.
Он извлек из кармана брюк большой матросский нож и собрался немедленно приступить к делу. Но Егорычев несколько охладил его пыл.
— Давайте сначала разведаем обстановку. Посветите мне! Смит достал из рюкзака карманный фонарик, Егорычев выломал из нар жердь и ткнул ею в крышу высоко над собою.
В ту же минуту крышу в этом месте пробило копье и, наполовину проникнув внутрь строения, застряло, подрагивая, в толще пальмовых листьев.
— Видите? — сказал Егорычев кочегару. — Преподобный отец Джемс застраховал на всякий случай свое заклятье десятком человек охраны. Придется подождать темноты. Хорошо, что сегодня воскресенье. По воскресным дням на острове Разочарования не воюют. Правда, не воюют? — спросил он дрожавшего Розенкранца, и тот, не в силах говорить, подтвердил слова Егорычева энергичным мычанием.
— Но как только наступит понедельник, тут такое заварится, что даже подумать страшно, — продолжал Егорычев. — Нам нужно сообразить с вами уже сейчас, что предпринять, чтобы не дать войне разгореться. В нашем распоряжении часов шесть. Нет, больше шести… Пока не зайдет луна, нам отсюда не выбраться. Прежде всего, осмотримся… Сколько у нас батареек, товарищ Смит?
— Девять.
— Что ж, рискнем одной… Да не бойся же, глупыш! — ласково сказал он юному Смиту, которого, как и Розенкранца, не на шутку перепугал яркий свет, хлынувший из черненькой плоской коробочки. — Нашим друзьям не надо бояться ничего, что мы будем делать с дядей Сэмюэлем. Понятно?
— Понятно, — сказал мальчик и на всякий случай, для верности, ухватился за шершавую руку кочегара.
Электрический луч вырывал из мрака высокие стропила и убегающие в темноту и казавшиеся бесконечными бамбуковые нары, а высоко над ними, на узеньких полочках — тускло поблескивавшие ровными рядами зубов желтые черепа и производившие не менее жуткое впечатление маски для пасхальных плясок. На задней стене, метрах в двух от земли, на украшенной цветами полке стоял, как бы охраняемый двумя самыми древними черепами и двумя самыми страшными масками, ящичек темно-коричневого цвета. От остального помещения стена с этим ящичком отделена была толстым шнуром из козьей шерсти, богато увешанным козьими рогами и хвостами. Над самым ящичком висел на стене большой крест из того же розоватого дерева, из которого на острове изготовлялись бревна-колокола.
— Туда нельзя! — крикнул вне себя от ужаса юный Смит, видя, что Егорычев раздвинул руками загремевшую завесу. — Вас убьет громом!.. Туда никто не должен ходить, кроме отца Джемса!..
Розенкранц в своем углу зажмурил глаза, чтобы не увидеть, как небо покарает дерзкого белого, но и не подумал предупредить его о смертельной опасности. Розенкранц был бы рад, если бы гром поразил на месте обоих белых. Он знал, что это не огорчило бы белоголового, которого Розенкранц со всем жаром чувств первобытного квислинговца любил, как свою единственную опору.
— А вот мы сейчас посмотрим, убьет ли меня громом! — весело проговорил Егорычев, нырнув под завесу. — А то что-то меня давно не убивало громом!
То, что последовало за этим самоубийственным поступком, вернее, то, что за ним не последовало, превысило воображение присутствовавших при этом островитян: Егорычев остался жив и невредим!
— А ну, иди-ка и ты сюда! — скомандовал Егорычев юному Бобу. — Ты не бойся! Раз я тебе говорю, значит можно…
Ему нужно было приучить мальчика к мысли, что никакие чары не могут повредить тому, кто дружит с ним и Смитом.
— Ну иди же, чудачок ты этакий! — легонько подтолкнул его в спину усатый приятель. — Не бойся! Если хочешь, давай вместе…
— Я сам! — проговорил, судорожно глотая воздух, Боб Смит, зажмурился и нырнул под шнур, как в пропасть.
— Жив? — лукаво осведомился у него Егорычев.
— Кажется, — отвечал мальчик, для верности ощупав себя. — О! Я жив, жив, жив!.. Вот так здорово!.. Вы все видите, я жив!..
— А ты, Гамлет? — спросил Егорычев.
Гамлет молча пролез под заветную гирлянду из козьих рогов, и хвостов, потом вернулся обратно тем же путем, чтобы показать другим и самому еще раз удостовериться в полнейшей безопасности того, что еще несколько минут тому назад ему показалось бы безумным, достойным самоубийцы поступком. Потоптавшись немножко по ту сторону шнура, он дерзко пригнул его к земле и перешагнул через него, словно это была обыкновенная лиана, на которой развешивают для вяления рыбу и козье мясо.
— Подумать только! — промолвил он, снова перемахнул через шнур, устроился с ногами на нарах и надолго замолчал. Надо было осмыслить то, что Егорычев на его месте назвал бы антирелигиозной работой среди местного населения. Оттуда, с нар, он, на сей раз уже совсем без волнения, наблюдал за тем, как Егорычев приблизился к полочке со шкатулкой, на которой лежало трехвековое заклятье многих поколений местных пастырей.
— А знаете, Смит, — протянул между тем Егорычев, направив луч фонаря на ящичек, — мне почему-то кажется, что эта коробочка из железа, из сильно заржавевшего железа.
— По-моему, на острове не видать ничего железного, — пожал плечами кочегар. — Наверно, это из какой-нибудь коры, что ли.
— То-то и оно, что из железа! Уж чего-чего, а ржавого железа я на своем веку перевидал.
И Егорычев потянулся к полке.
— Нельзя трогать Священную шкатулку! — уже куда более спокойно, но все же достаточно тревожно предупредил его мальчик. — Эту шкатулку никтоне смеет брать в руки. Даже сам преподобный отец Джемс!
— Даже сам преподобный отец Джемс? — переспросил Егорычев. — Ай-ай-ай, подумать только! Ну, а мы все-таки рискнем. Рискнем, товарищ Сэмюэль Смит?
— Рискнем, товарищ Егорычев.
— Рискнем, Роберт Смит? Мальчик на всякий случай промолчал.
— Ну, конечно, железная! — подтвердил Егорычев, осторожно снимая с полки шкатулку, покрытую густым слоем пыли. — И очень старинной работы. Музейная ценность. Один замочек — чудо кустарной работы!
Он сдул с крышки шкатулки тучу пыли, попробовал замочек. Не то от ветхости, не то потому, что он и не был заперт, дужка замочка довольно легко поддалась.
Внутри шкатулки не обнаружено было ничего, кроме свитка пожелтевшей от времени бумаги. Свиток был завернут в обрывки шерстяной ткани и перевязан каким-то шнурком, который от ветхости расползся, лишь только до него дотронулись.
XII
«Я, Джошуа Пентикост, уроженец города Брадфорда, эсквайр, магистр наук, бессменный и почетный олдермен основанного Мною города Хэппитауна в земле Джошуаленд, Северная Америка, Основатель и глава банкирского дома «Джошуа Сквирс и сыновья» и судоходной компании «Хэппитаун — Новый Амстердам», божией милостью суверенный повелитель острова Разочарования, с тяжелым сердцем приступаю к составлению нижеследующего послания неизвестным моим читателям, буде ему вообще суждено быть когда-нибудь прочитанным.
Если правильны мои тщательные многолетние подсчеты, то сегодня 7 мая 1658 года. Значит, сегодня мне исполнилось восемьдесят три года. Наблюдения, которые я вот уже четыре с лишним месяца без горечи и страха веду над своим здоровьем, не оставляют никаких сомнений, что скоро, очень скоро господь должен призвать меня к себе. Пора поэтому хоть вкратце изложить на бумаге то, что пережито и проделано мною во славу господа и его величества короля Британии за тридцать один год, проведенный на сем злосчастном острове. Вкратце, ибо в моем распоряжении немного времени и всего несколько листков, которые мне удалось припасти на этот случай. Рука моя дрожит, буквы выходят на бумаге не так четко и красиво, как мне бы хотелось, и возможно, что не все слова удастся сразу разобрать моему неизвестному читателю. Но пусть меня осудит лишь тот, кто дожил до моих лет, пережил не меньше моего испытаний и сохранил твердый и разборчивый почерк.
Тридцать один год тому назад взбунтовавшаяся команда принадлежавшего мне корабля «Пилигрим» высадила меня на сей остров. Из трех с небольшим десятков чернокожих, разделивших со мною Эту прискорбную участь, выросло сейчас население численностью в двести одиннадцать рабов. Велик был бы поэтому соблазн именовать себя суверенным королем сего острова, по справедливости названного мною островом Разочарования. Но разве пастух король своих овец и баранов? Разве владелец псарни или скаковой конюшни король своих собак и лошадей? А можно ли назвать человеком, созданным по образу и подобию божию, чернокожее дикое существо только на том основании, что и оно при ходьбе вертикально держит свое туловище и время от времени издает сравнительно членораздельные звуки?
Вот почему я только повелитель острова Разочарования, а никак не его король. Подданным английской короны или короля-англичанина может быть только человек в подлинном, христианском смысле этого слова, а никак не черное, желтое иди краснокожее создание.
В предвидении близкой кончины я окидываю пристальным и ищущим взором пройденный мною долгий и трудный жизненный путь. Я пытаюсь уяснить себе, чем я прогневил господа, что он обрек меня на медленную смерть вдали от близких и родных, за тысячи миль от христианского мира. Много бессонных ночей провел я в ужасающем одиночестве, перебирая одно за другим все свои дела, поступки, помышления и только совсем недавно понял, наконец, что я виновен перед всевышним в кощунстве и святотатстве, ибо нет, как я сейчас окончательно уразумел, более тяжкого преступления перед кротчайшим Иисусом, как совершение великого таинства святого Крещения над существами, в которые господь не вдохнул частицу своей души, все равно, ходят ли эти существа на четырех ногах, как лошади и собаки, или на двух, как страусы, негры, индейцы и орангутанги.
Увы, я понял это тогда, когда уже никто, кроме неба, не в силах выправить содеянное!
У меня нет ни времени, ни сил, ни бумаги, чтобы подробно описывать все, что мне пришлось пережить и испытать с того страшно далекого дня, когда я, еще полный сил и решимости, покинул Плимут, чтобы искать счастья за океаном, и до того момента, когда я за жалким самодельным столом у самых дверей моей пещеры приступил к писанию этого последнего в моей жизни письма. На суде всевышнего все будет учтено и взвешено, за все мне будет полной мерой воздано по проступкам моим и заслугам.
Задача моя неизмеримо скромней. Я хочу, чтобы тот, кому через год, десять или двести лет попадет в руки это скорбное послание, узнал из него, что население сего острова говорит по-английски, носит христианские имена и поет во славу господа псалмы и гимны единственно вследствие долгих и бескорыстных трудов смиренного раба божия Джошуа Пентикоста, который не мог коротать остатки своих дней среди поганых язычников и не желал забыть навсегда сладостные звуки родного языка.
Это был, повторяю, подвиг долгий и трудный. И кто знает, удалось бы мне достигнуть задуманного, если бы не огнестрельное оружие, вложенное в мои слабые руки божественным провидением.
Выброшенный на сей злосчастный берег, я оказался один с тридцатью четырьмя больными неграми, которые недолго протянули бы, если бы я не пришел им на помощь своими медицинскими познаниями. Пятеро из них все же на второй день умерли: они были слишком истощены, и небо ждало их к себе. Страшно было при мысли, что и остальных может постигнуть такая же участь. Я лечил их с таким усердием, с каким, да простит мне господь, не лечил никогда ни одного белого человека. Невыносимо было думать, что я могу остаться в одиночестве на этом пустынном острове.
Многие, да когда-то и я в том числе, отдавали восторженную дань упорству и искусству людей, которым удалось обучить попугая или ворона нескольким человеческим словам. Насколько же труднее пришлось мне, сколько воли, нервов и здоровья, сколько лет потратил я на дрессировку оставшихся в живых двадцати девяти негров, пока не обучил их английскому языку и не приучил пользоваться им не только в беседах со мною, но и в разговоре друг с другом.
Это оказалось делом неслыханной трудности прежде всего потому, что они смешливы, несерьезны и не испытывали и тени должного почтения перед языком, на котором говорил их хозяин.
Помню, как они засмеялись, когда я пригласил их повторить за мною первое предложенное их вниманию английское Слово. Они нараспев повторяли его (это было слово «пистолет»), непередаваемо, возмутительно коверкая его на всевозможные лады и… смеялись! Им было смешно! Они хлопали в ладоши, хором выкрикивали обезображенное ими благородное английское созвучие и фыркали, словно в их голые тела вселился дьявол.
Видит бог, я пробовал утихомирить их палкой, но палка не помогла. Тогда господь вразумил меня применить пистолет. Я высмотрел среди негров самого смешливого из слабых (здоровые нужны были мне для хозяйства) и пристрелил его на месте, чтобы никому не повадно было смеяться над языком их господина. Это не замедлило самым благотворным образом сказаться на поведении остальных. Они присмирели, стали серьезней и послушней.
В тот день мне удалось обучить их всего восьми словам: «пистолет», «молчать!», «мушкет», «нож», «спокойно!», «не надо» и «убью!» Потом все пошло уже несколько легче.
Когда ученики мои усвоила свыше пятисот слов и символ веры, я под страхом божьей кары — смертной казни — объявил английский единственным разрешенным языком острова Разочарования.
Не скрою, некоторым облегчением в моем подвижническом труде было то, что оставшиеся в живых двадцать восемь негров были родом из восемнадцати разных деревень, и не было между ними и трех человек, которые могли поговорить между собой на родном языке, ибо что ни деревня в их диких африканских краях, то новое наречие, новый язык. Разноязычие поистине подобно было вавилонскому. Одни из них говорили на языке волоф, другие на языке серер, третьи на фульбе, четвертые на буллом, остальные на менде, кру, йоруба, эве, ибибио, ашанти (он же акан), темне, малинке, фон, бенин, тив (он же мунчи), экон, дуала и баквири. Я же усугубил это разноязычие тем, что расселил их по шалашам таким образом, чтобы ни в одном из шалашей не было земляков. Меньше всего я хотел бы, чтобы этот мудрый прием был приписан мне. Это меня вразумил господь в неисчислимой его милости.
Я нарочно слонялся по острову тогда и там, когда и где меня меньше всего могли ожидать. Я прятался в кустах, я подкрадывался к кострам, я ползал по ночам между хижин, я не уставал прислушиваться к голосам охотников в лесу, — и горе было тому, кто пытался преступить изданный мною закон. Я запрещал хоронить их раньше пяти дней, и тела их предавались земле без напутственных молитв.
И все же пришлось потратить еще четыре с половиной месяца, пока мне, наконец, удалось добиться всеобщего и беспрекословного выполнения моего закона. Теперь можно было приниматься за оттачивание произношения.
Легче всего было с народившимся молодым поколением. Я приказал отбирать новорожденных и приставил к ним двух негритянок, наиболее быстро воспринявших правильное произношение. В установленные часы матери допускались к своим младенцам для кормления, но под страхом строжайшей божьей кары им запрещалось при этом раскрывать рты. Никаких нежностей! Всякие слова, обращенные к восприимчивому уху младенца, могут пагубно отразиться на чистоте его произношения.
И что же, пришло время, когда я был полностью вознагражден За свои поистине нечеловеческие труды. Стоило мне зайти в хижины, где содержались дети, и зажмурить глаза, и мне казалось, что я слышу голоса моих дорогих птенчиков, прозябавших без своего любящего отца в чудовищно далеком Хэппитауне. Только тот, кто был навсегда или хотя бы на год оторван от своих детей, может понять и оценить горькое наслаждение, которое я в такие минуты испытывал.
Со взрослыми было сложней. Но почти все они вскоре стали родителями, почти все они имели в детских хижинах сыновей и дочерей, и это было немалым подспорьем в их обучении. Лишь тем, кто ценой должных усилий осваивал, наконец, правильное произношение, разрешалось видеться и изредка поболтать со своими отпрысками, а потом, по достижении ребенком пятилетнего возраста, и вовсе забрать его к себе домой. И родители, подстегиваемые отцовским и материнским инстинктом, старались во всю и достигали должных успехов. Ибо, надо отдать им справедливость, негры, как и многие птицы, на редкость музыкальны и переимчивы.
И вот пришло время, когда мне показалось, что я ужедостиг цели моих трудов, и греховная гордыня обуяла мое сердце. Всеобщая покорность окружала меня, мне лестно было думать, что дело должного воспитания моих питомцев завершилось полной удачей, и это приятное заблуждение владело мною, пока — это случилось около десяти лет и трех месяцев тому назад — я, прогуливаясь одним пасмурным ранним утром, не набрел в глубине леса на негра, который вполголоса воровски объяснял своему десятилетнему сыну, как на языке йоруба называется море, небо, дерево, коза.
Словно гром среди ясного дня поразил меня. Но это был перст божий, и я Принял его с благодарностью и смирением.
Я и виду не подал, что стал свидетелем вопиющего нарушения одного из самых важных и решающих законов моего острова. Больше того, как и учит наша церковь, я постановил в сердце своем ответить добром на зло, учиненное мне и христианской цивилизации этим неблагодарным и низким существом. Пусть сам господь решит, что ему делать с подобными преступниками, которым не дорого ничто человеческое. И я в ближайшее же воскресенье собрал у себя, всех, кто остался в живых из прибывших со мною на «Пилигриме», чтобы еще раз — в который уже раз! — растолковать им евангельское учение и долг раба перед его господином. Я снова напомнил им, что нет спасения тому, кто нарушает законы, изданные его господином, ибо таких зверей в человеческом облике господь карает смертью, и поступает совершенно правильно.
Затем, чтобы показать изрядно перетрусившим неграм, что я к ним по-прежнему благоволю и что им нечего бояться, я щедро угостил их тушеной козлятиной, мною собственноручно изготовленной. Это уже само по себе было для них большой и незаслуженной честью. Но чтобы еще сильнее подчеркнуть, как благосклонно я к ним отношусь и что я не жалею ради них самых дорогих для меня вещей, я изготовил это сытное, вкусное и в высшей степени питательное блюдо в том самом медном котле, который сопутствовал мне во всех моих скитаниях еще со времен Плимута и который был единственной памятью о далекой и любимой Англии. И если на внутренних стенках этого котла накопился толстый слой зеленой окиси, то только потому, что я им уже очень давно не пользовался, ибо он был слишком велик для того, чтобы готовить в нем на одного человека. Без господней воли не только стенка котла не покроется зеленью, но и волос не упадет с головы человека. И кто, как не господь, знает, кого карать и кого миловать. Однако, чтобы не пытать без крайней надобности небесное провидение, я воздержался все же, от того, чтобы разделить эту сытную трапезу со своими чернокожими гостями. Тем более что для них тушеная козлятина была редким блюдом, а я никогда не испытывал недостатка в мясной пище. И в этом моем поступке опять-таки нельзя не усмотреть перста божьего, ибо все, кто вкусил в тот день пищи из моего медного котла, были несколькими часами позже призваны господом к его престолу, и души их покинули их грешные тела в великих муках. Разве трудно усмотреть из этого обстоятельства, что господь имел достаточно серьезные основания покарать их смертью? Но смерть эта все же была не столь скорой, чтобы они не успели поведать своим ближним, за какие именно грехи их столь решительно наказало провидение. С тех пор никто из обитателей моего острова не осмеливался пользоваться иным языком, кроме английского.
Когда с годами стало слабеть мое зрение, я обучил грамоте нескольких молодых негров, наиболее серьезных и набожных, и они остались потом на всю жизнь моими чтецами. Они же вели запись прихода и расхода продуктов земледелия, охоты и домашних промыслов, так как все взращенное, изготовленное, добытое охотой и рыболовством, собранное с кустов и деревьев на острове Разочарования принадлежало мне, и только мне, а негры, забывая о божьей заповеди «Не укради», то и дело пытались утаить, украсть лишнюю лепешку, лишний кусок мяса, лишнюю горсть проса, лишний банан или кокосовый орех, лишний кусочек сыру. Они же — мои чтецы и писцы — прислуживали мне в нашей убогой, крытой пальмовыми листьями церкви во время воскресной и праздничной служб.
Нельзя сказать, чтобы моим неграм не пришлись по душе воскресные и праздничные дни. Врожденные лентяи и лежебоки, они с языческим наслаждением соблюдали установленные церковью дни отдыха. Они любят петь и поэтому легко научились распевать псалмы и гимны. Куда труднее было приучить их к мысли, что распевать по воскресным дням светские песни (а они их выдумывают, и в большом количестве) неугодно господу, как и пляски и всяческое веселье. Но терпение и труд все превозмогают. Вот уже три десятилетия, как на острове Разочарования можно безошибочно узнать воскресный день по благостной тишине, не нарушаемой греховным весельем и мирскими песнопениями.
На шестом году пребывания на острове я сподобился во время охоты обнаружить в скале, вознесшейся над высоким обрывом, на Северном мысу, довольно просторную пещеру. Я приказал расширить ее и должным образом оборудовать. Не прошло и восьми месяцев, как я имел счастье произнести свою первую проповедь в этом новом каменном помещении церкви, столь трогательно напоминавшем тайные молельни первых христиан. В ней же за стеною, сложенной из камня, я расположился на постоянное жительство, ибо годы давали себя знать и проживание в обычной хижине становилось для меня все более тягостным, особенно в сезоны дождей.
Тогда же или чуть позже привлекло мое внимание обширное, сравнительно правильной круглой формы углубление на самой вершине горы, господствующей над северной частью бухты. Оно напомнило мне изображения древних греческих и римских театров. Вокруг огромной, достаточно ровной площадки, поросшей травой и редкими деревьями, подымался невысокий и некрутой естественный амфитеатр, на котором могло бы разместиться сколько угодно зрителей. И у меня родилась мысль, что здесь можно было бы разыгрывать для меня пьесы, возможно и пагубные для лондонского простонародья, но совершенно безопасные для моих черных рабов, а тем более для меня. И снова я положил немало труда и создал из своих негров несколько трупп, и они разыгрывали передо мной пьесы Шекспира и Бен Джонсона. И я отдыхал во время таких Представлений от вынужденного и постоянного общения с ленивыми и дикими рабами, ибо, надо отдать должное моим черным актерам, они быстро усвоили лицедейское мастерство и многие из них играли с подлинным блеском.
Горько было думать, что они могли бы с успехом играть в наших американских колониях, где тысячи достойнейших белых джентльменов дорого дали бы за возможность побывать в театре, что втуне рождались, взрослели, старились десятки и сотни здоровых негров, прекрасно говорящих по-английски, богобоязненных и послушных. Их можно было бы с великой выгодой продавать на плантации наших колоний, если бы… если бы в моем распоряжении были корабли. Но сколько я ни предпринимал попыток построить более или менее крупное судно, все они неизменно кончались полной неудачей. Не хватало у меня для этого знаний и опыта, а мои негры умели строить только малые суденышки — пироги, которые пригодны для рыбной ловли у самых берегов, но никак не для выхода в открытый океан.
И все же я не оставлял надежды, что придет счастливый день, когда в бухте Отчаяния (так назвал я основную, крупнейшую из бухт острова) забелеют долгожданные паруса какого-нибудь христианского корабля, и снова откроются для меня двери в цивилизованный мир, и. я снова поселюсь среди своих и выгодно, очень выгодно распродам своих рабов, ибо нет цены, которая была бы слишком высока за труд, положенный мною на их дрессировку.
И вот пришел самый поздний закат моей жизни, и нет уже никакой надежды, что рука белого человека закроет мои глаза, когда всевышний пришлет за мною своего ангела. Мои пальцы ослабли и не в состоянии нажать курок мушкета, и не стало поэтому на острове прежней богобоязненности и повиновения, и раздаются уже голоса смутьянов, произносящих, пока что в отдалении, дерзкие слова неповиновения. Вчера я приказал Джорджу Поттеру задушить мальчишку Пита, который позволил себе хихикать во время церковной службы, и Джордж Поттер, вместо того чтобы выполнить мое повеление, убежал в горы. Сегодня Вильям Блэк, вернувшись с рыбной ловли, съел самую большую и жирную рыбу, которая по закону принадлежала мне, и никто не убил его за это, и не сжег его хижину, и не развеял ее пепел.
Пришел конец. Видит бог, я многое отдал бы за то, чтобы умереть, как подобает верному сыну церкви. Но негры не должны видеть, как умирает белый. Они даже подозревать не должны, что белые смертны. И господь, я верю, простит меня за то, что я самовольно приближу час моего ухода из юдоли страданий и скорби. Сейчас я прикажу связать в кипы и выбросить в море мою библиотеку и вынести на самый край обрыва последний бочонок пороха. Трут, кремень и огниво у меня под рукой. Всех негров вниз, в долину! Никто не должен видеть, как я сам поднесу горящий трут к пороху, который разнесет мое грешное тело в клочья и освободит мою душу для загробной жизни.
Вот только сверну получше мое письмо, оберну его в остатки своей одежды и ненадежней уложу в эту железную шкатулку, которая когда-то хранила столько векселей и драгоценных камней.
На сем предаю свою душу господу.
Аминь!
Джошуа Пентикост, эсквайр
На острове Разочарования.
7 мая. Лето от рождества милосерднейшего господа нашего Иисуса Христа тысяча шестьсот пятьдесят восьмое.
Постскриптум:1. Пусть не забудет тот, кто первый прочтет это письмо: Вильям Блэк, Джордж Поттер, мальчишка Пит (его фамилия Лэйзи), а также покрывающие их родные и знакомые должны быть немедленно умерщвлены. А если к этому времени они успеют умереть своей смертью, то да будут умерщвлены их потомки до десятого колена, ибо не может остаться без самого сурового возмездия негр, ослушавшийся своего белого господина.
2. Все население острова Разочарования должно быть без промедления вывезено в Джошуаленд или любой другой пункт, где наиболее высок спрос на рабов, и продано без излишней поспешности, дабы за них. получена была та цена, которую надлежит получить за самых послушных, самых обученных и самых набожных рабов. Тех, кого я ценою неслыханных трудов обучил лицедейскому мастерству, ни в коем случае не продавать по отдельности, а только комплектно и по особо повышенным ценам. Буде таковые цены не сразу будут предложены, подождать, сколько потребуется, на должное разъяснение покупателям истинной ценности этих актеров, не останавливаясь перед дачей пробных спектаклей, разумеется, за соответствующую оплату.
Из полученных в итоге этой распродажи денег десять процентов поступит в пользу того, кто тщательно и своевременно выполнит эту мою последнюю волю. (В сумму эту не входят расходы по перевозке, питанию и прочему содержанию моих негров до дня продажи, каковые должны быть возмещены выполнителю моей воли с нормальным банковским процентом надбавки.) Остальные же девяносто процентов за вычетом расходов по перевозке, питанию и прочему содержанию моих рабов до дня продажи плюс нормальный банковский процент на день продажи должны поступить в доходы банкирского дома «Джошуа Сквирс и сыновья», Хэппитаун, Джошуаленд, Северная Америка.
Примечание. Из этой суммы, имеющей поступить в доход банкирского дома «Джошуа Сквирс и сыновья», одна четверть процента должна ежегодно поступать на цели благотворительности, желательней всего среди семей, оставшихся без кормильца, пропавшего без вести.
3. Да не удивятся те, кто услышит из уст моих негров о рыжебородом белом, который спустится с небес, чтобы спасти человечество. Ибо разве не ясно любому благомыслящему человеку, что спаситель вторично сойдет на нашу грешную землю только в облике англичанина и ни в каком другом? И пусть черноволосые и чернобородые испанцы, португальцы и прочие презренные паписты попробуют сунуться на остров Разочарования, где ждут пришествия рыжебородого белого!
4. Что же касается самого острова Разочарования, то в отношении его дальнейших судеб да поступит с ним прочитавший это письмо по своему усмотрению.
Аминь!»
XIII
Пока Егорычев медленно, с трудом разбираясь в витиеватом старинном почерке, прочел вполголоса эту странную и страшную исповедь англо-американского конквистадора семнадцатого столетия, Смит молча светил ему фонариком.
Только в одном месте, в самом начале, встретив название банкирского дома «Джошуа Сквирс и сыновья», оба наших героя переглянулись: письмо принадлежало перу одного из отдаленных предков мистера Фламмери! Это было поистине удивительное совпадение! Сэмюэль Смит, у которого на самом донышке сознания сохранилась с нежных мальчишеских лет мечта о пиратских кладах, в конечном счете обязательно попадавших в руки положительного героя романа, ожидал от этого свертка пожелтевшей бумаги сведений о кладе, который сделал бы и его и Егорычева на всю жизнь обеспеченными людьми. Сэмюэль Смит никак не был бы против приличного клада. Но письмо Джошуа Пентикоста, эсквайра, не содержало упоминаний о каких-либо ценностях, кроме негров-рабов и их потомства.
На мгновение у кочегара мелькнула мысль, что мистер Фламмери, пожалуй, не поскупился бы, чтобы заполучить в свои руки этот документ трехсотлетней давности, который не только представлял из ряда вон выходящую семейную реликвию, но и достаточное для не слишком требовательных и придирчивых судей подтверждение прав наследников покойного Пентикоста, а следовательно, и Роберта Д. Фламмери на остров Разочарования. К чести кочегара Смита, он и в мыслях при этом не имел, что стоило бы вручить или продать письмо Пентикоста его благочестивому потомку; Смиту доставляло истинное удовольствие сознание, что при любых обстоятельствах не видать капитану Фламмери этого загробного послания его пращура, как своих ушей. И он понимал, что в этом вопросе у него не будет никаких расхождений с Егорычевым.
— Здорово? — спросил Егорычев, бережно сворачивая рукопись в трубочку.
— Чистый роман Стивенсона! — сказал кочегар.
— Это почище всякого Стивенсона! Его пираты не были магистрами наук и не распространяли христианство. Они были обычные, незатейливые разбойники. И вряд ли они знали о Шекспире. А этот Пентикост — чистейший конквистадор. Вы никогда не слыхали такого слова — «конквистадор»?
— По совести говоря, что-то такое слыхал когда-то, но не запомнил..
— А вы вообразите себе помесь купца, пирата, открывателя новых земель и массового убийцы их населения.
— Кажется, наш святоша Фламмери — его прямой потомок, — заметил, чуть помолчав, кочегар.
— Ну да, раз «Банкирский дом Джошуа Сквирс и сыновья», значит потомок.
— И не нужно очень напрягаться, чтобы заметить у них фамильное сходство.
— Теперь, — сказал Егорычев, — очень многое становится ясным: и происхождение местных негров; и почему они говорят по-английски; и как и на какой предмету их предки были обращены в христианство; и откуда пошло на острове знание Шекспира и любовь к театру; и кто проживал три века тому назад в нашей пещере; и почему она называется Священной. Теперь стало понятно даже, почему островитяне так фальшивят, когда поют религиозные песнопения…
— Признаться, последнее мне не совсем ясно, — рассмеялся Смит.
— А вы представьте себе, старина, на минуточку, что у этого омерзительного старичка был соответствующий слух, и все становится на место.
— Постойте, постойте! Вы хотите сказать, что он перевирал мотивы, когда обучал их петь, а они так в точности все и запомнили?..
— Ну да! А потом в таком же перевранном виде передали своим потомкам. Через несколько поколений перевранное освящается и становится законом. Если хотите, канонизация фальшивого — основа религии, любой религии. Но знаете, Смит, что меня больше всего потрясло в этом документе?
— Жестокость этого Пентикоста?
— Да. И его фантастическое лицемерие. А главное, его дьявольское корыстолюбие. Подумайте только, Смит: у этого человека, был один шанс из ста тысяч, что сюда когда-нибудь придет корабль. Что бы на его месте сделал другой, даже самый завзятый работорговец? Постарался бы окружить себя любовью людей, с которыми ему суждено прожить остаток жизни, и оставить после себя хорошую память. Что вместо этого делает Пентикост? Тридцать с лишним лет (треть века!) он мучает, тиранит, убивает людей, которые его кормят, без которых он сдох бы с голоду, разлучает родителей с детьми, превращает весь остров в фабрику по производству наиболее вымуштрованных, наиболее дорогих рабов. И все ради одного-единственного шанса из ста тысяч, миллиона! А вдруг ему улыбнется подлое торгашеское счастье и удастся выгодно продать своих кормильцев! Ради этого он заставляет их освоить английский язык и забыть родной. Ради, этого он их обращает в христианство: христианство обеспечивает рабовладельцам самых покорных рабов. Он готовит на вывоз рабские театральные труппы с готовым репертуаром. И на всем этом мощный, многоэтажный слой лицемерия! Полные трюмы человеческой мерзости, а снаружи — весь в белоснежной масляной краске. Он и ревнитель веры, он и внедряет культуру, и воспитывает актеров, и так обожает родной язык, что исключительно ради сохранения чистоты произношения готов вырезать половину рода человеческого…
— Ничего не скажешь, — заметил Смит, — достойный предок мистера Фламмери…
— Теперь понятно, почему их так волновала моя борода… Желтая борода.
— Занятно, — пробормотал Смит.
— Надеюсь, что мы еще будем иметь время и возможность продолжить обсуждение этого вопроса, — заключил с шутливой торжественностью Егорычев, — а пока нам, на мой взгляд, следовало бы перейти к проблемам сегодняшнего дня. Полагаю, например, что шкатулку следует вернуть на ее прежнее место. Возражений нет? Принято. — И он водрузил ржавую шкатулку Джошуа Пентикоста на полку меж пыльными масками и черепами. — Что же касается рукописи, то в интересах острова было бы не возвращать ее в шкатулку. Возражений нет?
— Еще попадет, упаси боже, в лапы мистеру Фламмери! Нет возражений!
— Золотые слова! А теперь, дружище, давайте потолкуем о самых насущных делах…
Они уселись с Гамлетом в сторонке, подальше от Розенкранца, и потолковали минут десять. Затем Сэмюэль Смит предложил Бобу не хлопать зря глазами, а лучше прилечь вздремнуть. Как приверженец подкрепления слов личным примером, он сам, покряхтывая от удовольствия, растянулся на нарах, подложив под голову рюкзак. Вскоре его могучий храп убедил и Боба, и Егорычева, и Розенкранца, что слово у Сэмюэля Смита никогда не расходится с делом. Этот храп лучше всяких уговоров успокоил мальчика, и он с легким сердцем последовал примеру своего однофамильца и покровителя. Утомленный переживаниями истекшего дня, заснул в своем кутке и экс-чудотворец Розенкранц Хигоат.
Часа через два Егорычев разбудил Смита и сам прикорнул на часок-другой.
Когда, по подсчетам кочегара, луна уже зашла, он поднял со сна Егорычева и осторожно, чтобы не будить лишнего свидетеля — Розенкранца, растормошил Боба.
— Тише! — погладил он мальчика по его курчавой голове. — Ты можешь говорить как можно тише?
— Могу, — прошептал Боб.
— А ты храбрый мальчик?
— Храбрый, — прошептал Боб.
— Ты понимаешь, что с нами тебе нечего бояться ничего на свете?
— Понимаю, — прошептал после некоторой паузы юный Смит. — Вы с желтобородым сэром могущественней всех колдунов на свете. Ведь правда?
— Правда, — подтвердил Егорычев. — И знаешь что? Зови меня «дядя Костя».
Он так соскучился по русской речи, что не пожалел нескольких минут на то, чтобы разучить с мальчиком эти два русских слова. Боб оказался способным учеником.
— Ты понимаешь, что мы тебя любим, потому что ты хороший, умный, храбрый парень? — продолжал Егорычев.
— Понимаю, дядя Костя.
Ни одно музыкальное произведение не доставляло никогда Егорычеву столько наслаждения, как эта коротенькая фраза.
— И что мы не желаем тебе ничего дурного?
— Да, дядя Костя.
— Ты настоящий молодец, Бобби! Мы тебе сейчас поручим одно дело, и ты спасешь свою деревню и всех остальных людей вашего острова от гибели. Ты хочешь спасти свою деревню и всех людей от страшной опасности?
— Да, дядя Костя!
— Тогда посиди одну минуту тихо и ничего не бойся!
Смит взобрался с ногами на нары и попытался ножом раздвинуть пальмовые листья, из которых выложена была крыша. Это оказалось безнадежным делом. Пришлось вырезать кусок крыши. Сквозь образовавшееся окно в хижину хлынул свежий ночной воздух. Две звезды возникли перед глазами кочегара, как два застывших в полете трассирующих снаряда. В отдалении слышался неясный говор, детский плач, блеяние коз. Мирное население Нового Вифлеема переселялось в пещеру. Над крышей задумчиво шелестели колеблемые бризом листья темных, еле приметных в густом мраке деревьев. Если хорошенько прислушаться, можно было в минуты затишья различить сонное дыхание океана.
— Там что-то происходит, — прошептал кочегар, примостив вырезанный кусок на прежнее место и придерживая его ладонью.
— Боюсь, что это пахнет войной, — сказал Егорычев. — Бобби!..
— Я здесь, дядя Костя! — тихо отозвался мальчик. После того как Смит закрыл отверстие в крыше, в хижине снова отступила кромешная темнота.
— Ты умеешь лазить по крышам?
— Умею! — отвечал мальчик с обидой в голосе. Он не ожидал подобного вопроса от людей, которые только что его так высоко оценили. — Каждый мальчик в Новом Вифлееме умеет лазить по крышам.
— Я в этом и не сомневался! — успокоил его Егорычев. — Тогда вот что… А ну-ка, давай свое ухо!..
И Егорычев, опасаясь, что их может подслушать Розенкранц, на ухо объяснил Бобу, что он должен будет сделать, когда выберется на волю.
— Все понял? — заключил Егорычев свое напутствие.
— Все, дядя Костя.
— И главное, не бойся… Значит, что ты скажешь отцу Джемсу? Мальчик повторил инструкцию Егорычева слово в слово.
— Ну, родной, — сказал Егорычев и поцеловал мальчика в лоб. — Действуй!
Подсаженный Смитом, Боб с кошачьей ловкостью выбрался наружу, неслышно соскользнул с крыши на траву, отверстие закрыли, и в Большой мужской хижине снова воцарилась душная и жаркая темень.
В начале седьмого донесся бешеный грохот барабанов, рев гигантских труб, высокий и частый звон деревянных брусьев: Новый Вифлеем после краткого молебна пошел священной войной на южные деревни.
— Сейчас, — сказал Егорычев, — попробуем произвести разведку местности.
— Кстати, барон, — вполголоса и как бы между делом осведомился Фламмери у Фремденгута, когда в пещере не было ни Мообса, ни Цератода, — почему вы забрались с этим делом в такую глушь?
— Я вас не понимаю, — ответил Фремденгут. Он действительно поначалу не разобрался в истинном смысле слов мистера Фламмери. — Что вы имеете в виду?
— Конечно, где-нибудь в Европе и даже в Северной Африке испытывать еебыло бы и в самом деле рискованно.
Фремденгут теперь уже понял, что имеет в виду его собеседник, но изо всех сил заставил себя сохранить на лице самое невозмутимое выражение.,
— Ничего не понимаю, сэр… Что вы имеете в виду?
Фламмери, не обращая внимания на слова Фремденгута, продолжал свое:
— …Но забираться в такую дыру и рисковать при этом миллиардами (я убежден, что не менее чем шестью, а быть может, семью, даже десятью миллиардами) золотых марок!.. Хорошо еще, что я здесь… А если бы высадилось человек пять таких молодцов, как этот красный Егорычев?..
— Вы говорите, как пифия, — попытался рассмеяться Фремденгут.
— Я говорю, как акционер вашей фирмы, барон!.. И я вынужден, к своему прискорбию, заявить, что это было в высшей степени легкомысленно с вашей стороны. Да не прикидывайтесь вы, ради бога, непонимающим, сэр! Неужели вы настолько наивны, чтобы полагать, что мы, в Штатах, не догадывались, зачем вам нужны были материалы, которые вы закупали через наше бразильское отделение, и через наше стокгольмское отделение, и через наше стамбульское отделение, и что вы там такое сооружали в Норвегии и так далее и тому подобное?..
— Тут явно какое-то недоразумение, — побледнел Фремденгут, — уверяю вас.
Фламмери окончательно утвердился в своих подозрениях. Большего ему покуда и не требовалось.
— Вы не хотите быть со мноюискренним! Пожалуйста… Только надо бы вам знать, что Егорычев что-то подозревает.
— Право же, вы говорите какими-то загадками, мистер Фламмери…
— Гильденстерн доносит, — продолжал Фламмери, — что Егорычев и Смит сговорились с несколькими его односельчанами, чтобы те с мотыгами отправились с ним при первой же возможности ковыряться, в земле где-то сразу по ту сторону ручья… Как бы они не откопали в конце концов то, что Егорычев так упорно разыскивает…
— Егорычева при любых обстоятельствах следует ликвидировать! — быстро перебил его Фремденгут.
— И вдруг онапопадет в руки Егорычева…
— Его надо ликвидировать! — повторил Фремденгут. — Хотя яи не понимаю, в чем…
Цератод, несколько раз показывавшийся за время этой беседы в дверях, видимо, решил не дожидаться ее конца и решительно вошел в пещеру, полный нескрываемой ярости.
Фремденгут увидел в этом прекрасный повод увильнуть от неприятного разговора. Он вскочил на ноги:
— Я, кажется, мешаю… Мистеру Цератоду, я полагаю, требуется с вами о чем-то срочно поговорить.
С этими словами он поспешно покинул пещеру, оставив Фламмери наедине с Цератодом.
— Вы, я вижу, чем-то огорчены, дорогой мой друг? — заботливо осведомился Фламмери. — Что-нибудь случилось?
— С тех пор как мы их выпустили на волю, вас буквально нельзя оторвать от этого… от этого военного преступника!
— Фи, Цератод, вы ревнуете!
— Вы не прекрасная дама, а я не ваш юный любовник. Мы с вами союзники, сэр, а майор барон фон Фремденгут — наш общий враг!
— Пленный враг, друг мой Цератод!.. Пленный…
— Со стороны может показаться, что союзник ваш этот эсэсовец, а я ваш общий враг!..
— Мало ли что может показаться со стороны, — ласково улыбнулся Фламмери, наслаждаясь яростью Цератода. — Со стороны может, например, показаться, что вы недооцениваете соотношение сил, создавшееся у нас после ухода вашего друга Смита.
Цератода передернуло от этих слов, и Фламмери почел за благо несколько подсахарить пилюлю:
— Прежде всего, барон Фремденгут неподражаемый собеседник. Во-вторых, у нас с мистером Фремденгутом масса общих воспоминаний.
— Мы сидим на пороховой бочке. Теперь не до воспоминаний!
— Вы не можете себе даже представить, друг мой, до какой степени вы правы! Мистер Фремденгут, как военный человек, раскрыл мне глаза на истинное положение вещей. Как вы думаете, Цератод, почему Егорычев без борьбы согласился оставить Северный мыс и удобную, отлично обжитую пещеру?
— А черт его знает! Видимо, боялся как бы его здесь ночью не придушили?
— А еще?
— Вполне достаточное основание, на мой взгляд.
— У кого, по-вашему, дорогой мой Цератод, более выгодное стратегическое положение: у нас или у них там, внизу?
— Мы в неприступной крепости.
— Гм-м! Так-так… А вода? Как мы будем снабжаться водой? Вам это не приходило в голову? Они могут выставить дозор около ручья, и тогда ваша неприступная крепость превращается в высокогорную безводную Сахару.
— Вы полагаете, нас могут блокировать?
— Фремденгут и его фельдфебель — опытные военные. Имеют опыт в… э-э-э… во взаимоотношениях с мирным населением… Сам всевышний послал их нам на помощь. Они согласны быть нашим железным кулаком и бороться против тех, кого мыим укажем.
— Как бы этот железный кулак не намял бока нам!.
— Это культурные люди, друг мой. У них имеется чувство человеческой благодарности. Они понимают, что бы с ними было, если бы мы дали волю этому красному товарищу.
— Они должны видеть и чувствовать, что хозяева острова — мы с вами! — сварливо пробурчал Цератод.
На это Фламмери сказал Цератоду ласково, успокоительно, как капризному ребенку:
— Они будут видеть, будут. Только это надо делать тактично, не сыпать соли на их свежие раны… Договорились?..
— А что собираются делать сейчас наши квислинги? — спросил Цератод после довольно продолжительного молчания.
— То, что им приказано, друг мой, — ответил мистер Фламмери.
XIV
Под густым покровом ночи юный Смит задами пробрался к временному обиталищу Гамлета, осторожно перешагнул через высокий порог и прислушался. Хижина была пуста. Это не удивило мальчика. Он знал, что, кроме воинов и преподобного Джемса, все население деревни в таких случаях уже давно в пещере. И его мать, и дед с бабкой, и их старшая вдовая дочь с дочуркой Дженни, которой Боб покровительствовал, и все три его младших брата — все тоже уже были в пещере. Беспокоятся, верно, о нем. Если бы они знали, что ему теперь не страшны заклятия отца Джемса, что он сам умеет творить чудеса, что он был по ту сторону барьера в Большой мужской хижине, вышел из нее, несмотря на заклятье, и на него ни разу не обрушился гром! Эх, забежать бы в пещеру, успокоить своих, а потом уйти выполнять поручение желтобородого! Но он понимал, что его не выпустят обратно, его оставят в пещере, как и остальных мальчиков Нового Вифлеема. А разве он теперь обыкновенный мальчик? Он умеет зажигать воду, его любят и уважают желтобородый и черноусый джентльмены (что за славные люди!), на его плечах задание, от которого зависит судьба всего человечества.
Скрепя сердце мальчик остался в хижине и стал, притаившись у входного отверстия, терпеливо ждать.
Наступило утро, и воины двинулись в поход. Они прошли в двух-трех шагах от Боба под душераздирающее завывание труб и грохот барабанов.
Триста девятнадцать лет тому назад, дождливым апрельским вторником тысяча шестьсот двадцать пятого года Джошуа Пентикост, измученный лихорадкой, которую он подцепил еще во время скитаний по Ориноко, хватил двойную порцию рома. Он провалялся в забытьи сутки с лишним, но, придя в себя, решил почему-то, что проспал всего несколько часов. С тех пор на острове Разочарования дни недели исчислялись с отставанием на сутки. Сейчас воины Нового Вифлеема шли, по наущению пра-пра-правнука Джошуа Пентикоста мстить за это людям южных деревень.
Вот прошел отец Боба — Майкл Смит, длинный, очень сильный, со смешным крючковатым носом, похожим на перезрелый банан, отцов брат — дядя Джек, веселый, красивый (даже не верилось, что они с Майклом от одного отца), один из лучших рыбаков человечества. Рядом с ними, шагавшими, как и почти все их односельчане, уныло понурив головы, гордо шествовали, как и надлежит людям, особо отмеченным божественной благодатью, двое новых старейшин — Гильденстерн и Полоний.
Мальчик выждал минут пятнадцать и, принимая все необходимые меры предосторожности, последовал за отрядом.
Издалека, с лужайки возле Священной пещеры, за разворотом событий наблюдали Фламмери, Цератод, Фремденгут и Мообс. Кумахера среди них не было. Он залег в кустах у тропинки и охранял Северный мыс от возможной агрессии. Фламмери смотрел в бинокль.
В его окулярах со стереоскопической четкостью чуть покачивал верхушками деревьев первозданный роскошный лес во всей красе яркого солнечного полдня. Причудливо вилась меж деревьев и цветов тропинка райской красоты. Тишина. Мир. Пенье птиц. Бабочки сказочной красоты.
И вот наконец на тропинке появилась голова идущего гуськом отряда воинов Нового Вифлеема.
— Началось неизбежное, — сказал Фламмери, передавая бинокль Цератоду. — Цветные идут убивать цветных. Если господу будет угодно, это принесет самые благодетельные плоды для окончательного умиротворения этого несчастного острова.
— Я хотел бы напомнить, что лично я полагал, что еще не исчерпаны были все возможности мирного разрешения конфликта, — вздохнул Цератод, но от бинокля не отказался. — Бог свидетель, я принял все возможное, чтобы мы жили с ними в мире.
Фламмери благочестиво кивнул головой в знак согласия.
Фремденгут с безразличным видом ждал, пока дойдет его очередь на его бинокль.
Но Мообс, очередь которого была следующей за Цератодом, уже почти ничего не увидел. Он с досадой передал Фремденгуту бесполезный в данный Момент бинокль и с досадой фыркнул:
— Они завернули в самую чащу. Ничего не видно… Пока они не будут возвращаться назад, ничего больше не увидишь…
На это Фремденгут с похвальной выдержкой и любезностью возразил:
— Если все пойдет благополучно, мистер Мообс, мы значительно раньше должны будем увидеть огонь… Огонь и дым… Пожары неизбежны, мистер Мообс.
Фламмери скорбно вздохнул.
Такое незначительное существо, как Боб Смит, не удостоилось попасться на глаза режиссерам разыгрывавшегося сейчас кровавого спектакля. А если Мообс и увидел в бинокль какого-то мальчишку, мелькнувшего на тропинке вскоре после того, как скрылись за поворотом воины Нового Вифлеема, то никакого внимания этому обстоятельству не уделил.
Когда Боб добрался наконец до околицы Эльсинора, он увидел, воинов Нового Вифлеема и Доброй Надежды, столпившихся возле входа в пещеру. Преподобный отец Джемс, потный и торжественный, пробрался к самому входу в пещеру и сквозь каменные завалы, преграждавшие доступ в нее, прокричал:
— Во имя господа праведного и милостивого! Признайте, что сегодня понедельник!
Из-за камней отвечал надтреснутый голос преподобного, отца Лира:
— Святотатцы!.. Осквернители святого дня воскресного!.. Слуги дьявола!..
— Трубы, трубите! — возопил преподобный отец Джемс в священном негодовании.
Воины стали плясать, все ускоряя ритм и благоговейно приводя себя в то блаженное состояние полнейшего одурения, которое па острове Разочарования, как и в очень многих местах цивилизованного мира, почитается похвальным и многообещающим приближением к божеству. Детям моложе семнадцати лет не полагалось смотреть на эти пляски.
Обнаружив, что, помимо собственного желания, он преступил этот жесточайший запрет, Боб Смит, хоть и был храбрым мальчиком, обомлел. Он не хотел умирать, но он отлично был осведомлен, что богу совершенно неинтересно, что это у Боба получилось нечаянно. Можно себе представить поэтому его удивление, когда он просчитал до десяти, двадцати, до ста и все еще оставался жив. Но когда он начал сначала и снова досчитал до ста и все же не почувствовал ни малейших признаков приближения смерти, то не на шутку возликовал. Теперь он убедился, что запрет распространяется только на обыкновенных мальчиков, но никак не на тех чрезвычайно редких мальчиков, которые, подобно ему, умеют зажигать воду и без вреда для себя выходить из помещений, находящихся под самыми страшными заклятьями. Так как всем известны примерно такие же рассуждения двух популярных американских мальчиков середины девятнадцатого столетия — Тома Сойера и Гека Фина, то мы считаем себя вправе не излагать более подробно дальнейшие умозаключения Боба Смита — мальчика из каменного века.
Как бы то ни было, но Боб успокоился, повеселел, вдоволь налюбовался новым для него, волнующим зрелищем священной пляски, а когда его дядя Джек, довертевшись до полного умопомрачения, в изнеможении хлопнулся на траву неподалеку от юного Смита, Боб осторожно дотронулся до его плеча и прошептал, что имеет сказать ему нечто необыкновенно важное.
Увидев невредимым и здесь, в Эльсиноре, мальчика, которого он вчера вечером оставил в заклятой отцом Джемсом Большой мужской хижине, Джекоб Смит сразу пришел в себя.
Они поспешно удалились поглубже в чащу, благо никого во время описанного выше массового общения с богом не интересовало окружающее. Боб в самых общих чертах поведал восхищенному дяде о новых чудесах, сотворенных желтобородым и черноусым джентльменами уже после того, как их заперли в Большой мужской хижине, и передал приказание желтобородого: сказать Полонию, чтобы он немедленно отправился в Священную пещеру, где его с нетерпением ждет белоголовый.
Когда вчера грубо заперли обоих белых, Джекоб не сомневался, что немедленно свершится нечто из ряда вон выходящее. Он беззаветно верил в сверхъестественные возможности желтобородого джентльмена. Но огонь с неба не покарал на месте преподобного отца Джемса, а двери сами по себе не растворились, и Джекоб впал в состояние мучительного смятения. Конечно, не могло быть и речи о том, чтобы попытаться под покровом ночи, а тем более в светлое время суток, пробраться к запертой хижине и отодвинуть засов на ее двери. Раз чары самого желтобородого оказались бессильными против заклятья отца Джемса, то где уж тут соваться обыкновенному смертному!
Желтобородый сказал, что не из-за чего воевать людям острова Разочарования. Джекоб верил желтобородому: не надо воевать, если такой человек считает, что все можно прекрасно оговорить без того, чтобы проткнуть стрелами и копьями множество людей и размозжить им черепа топорами. Но ведь что бы там ни говорить про покойного Яго (человек он, конечно, был дрянной), погиб же он все-таки не от чего-нибудь другого, а от колдовства. Так сказал белоголовый, так сказал белый с сиянием на макушке, так сказал и отец Джемс, которому ведь тоже очень много — ох, как много! — таинственных сил подчинено.
Так терзался бедный Джекоб Смит сомнениями всю прошлую ночь и все нынешнее утро, и его очень обрадовало рассказанное юным Смитом, потому что он усмотрел в этом бесспорное и окончательное доказательство превосходства Егорычева по меньшей мере над отцом Джемсом.
Полоний, не мешкая, тотчас же собрался в путь, уже по ту сторону каньона был пойман Егорычевым и приведен в Большую мужскую хижину через дверь, которую желтобородый открыл, словно не было на ней заклятья.
То, что Егорычев чудесным способом оказался на воле, что он преспокойно открыл заклятую дверь и втащил туда безумно оравшего и всячески сопротивлявшегося Полония и, главное, то, что Полоний, переступив вместе с Егорычевым заколдованный порог, нисколько не пострадал, — все это подкосило еще не успевшую как следует окрепнуть веру новоявленного старейшины Нового Вифлеема в самого себя. Он пал духом, не стал упираться, рассказал и о задании, которое ему поручил белоголовый, и как он его выполнил, и даже о том, какой ответ принес от белоголового гонец, посланный к нему преподобным отцом Лиром из Эльсинора.
Пока Егорычев отсутствовал, Сэмюэль Смит на Собственный страх и риск учинил дополнительный допрос Розенкранцу, вконец обмякшему от обилия свалившихся на него чудес. Так удалось узнать, что накануне гибели Яго, как раз в то время, когда Смит с Егорычевым ходили в Новый Вифлеем, Яго, Розенкранц и Гильденстерн были в Священной пещере, ставили на какой-то бумаге оттиски своих пальцев и вдоволь наглотались чудного золотистого напитка, от которого становится очень весело и под тобою необыкновенно смешно качается земля. Больше всех выпил Яго, который, вернувшись домой, в сильно пьяном виде поехал на лодке освежиться и назад уже не вернулся.
Что это была за бумага, на которой они поставили оттиски пальцев, Розенкранц толком сказать не мог.
Но и без этого сведений о тайных пружинах разгоревшейся войны было достаточно. Теперь поскорее с обоими пленными агентами Священной пещеры в Эльсинор!
Конечно, Егорычев мог выбраться из Большой мужской хижины еще до того, как люди Нового Вифлеема отправились в поход. Но был бы он тогда в состоянии удержать их от войны? Какую цену имели бы в их глазах голословные уверения Егорычева, что они являются слепыми орудиями Роберта Фламмери? Правда, у него и Смита — автоматы. Можно было припугнуть островитян, питающих самое высокое уважение к огнестрельному оружию. Но где уверенность, что их религиозное рвение не превозмогло бы на сей раз страх перед автоматами? Ведь людей Нового Вифлеема вдохновляло и благословение белоголового, которого они считали прямым посланцем самого господа бога. А кроме того (не говоря уже о претившем Егорычеву применении оружия против одураченных людей), когда и где угроза оружием, даже самым грозным, объясняла обманутым суть их заблуждений? Зато теперь, когда в руках были неопровержимые факты, задерживаться вдали от театра военных действий было бы преступлением. В отличие от мистера Фламмери и Цератода, Егорычев верил в здравый смысл островитян.
Надо было на всякий случай охранить свой багаж, оружие и продовольствие от любопытных взоров и рук. Егорычев запер Большую мужскую хижину на засов, прикрепил к двери лист бумаги и стал думать, что бы на ней такое начертать. Череп с костями? Что-нибудь другое устрашающее? Нет, принципиальным надо быть и в мелочах. Никакой мистики, равно как и никаких угроз оружием! Он постоял несколько мгновений в задумчивости, потом озорно ухмыльнулся, крупными буквами написал по-русски «закрыто на переучет" и поставил столько жирных восклицательных знаков, сколько уместилось до края листка.
Что из того, что на добрую тысячу миль кругом не нашлось бы человека, понимающего по-русски! Люди острова Разочарования не знали и английской грамоты. Достаточно, чтобы они увидели на дверях листок с непонятными знаками.
XV
Когда Полоний, польщенный и обрадованный приглашением в Священную пещеру, срочно отбыл из Эльсинора, вышел из своего укрытия юный посланец Егорычева.
Появление Боба вызвало переполох. Его пропустили к преподобному отцу Джемсу. Колдун чувствовал себя отвратительно: он слишком перекружился, и у него дико трещала голова.
То, что мальчик, выбираясь из Большой мужской хижины, не пострадал от заклятья, неприятно поразило почтенного старца.
— Как ты сюда попал? — спросил отец Джемс. — Ведь ты остался в Большой мужской хижине? И кто тебя сюда прислал?
— Я уже умею зажигать воду, — похвастал мальчик. — Желтобородый вчера научил меня, я уже один раз зажигал и сегодня вечером снова буду зажигать. Меня прислал сюда желтобородый. Он велел передать тебе и всем старейшинам, чтобы прекратили войну, пока он сюда не придет с черноусым. Они скоро придут. Желтобородый расскажет нечто, что раскроет вам глаза, и вы поймете, почему не нужно воевать.
— А почему я должен повиноваться желтобородому? — сказал отец Джемс. — Я повинуюсь белоголовому, который разговаривает с богом, как… ну, как ты со мною. Разве желтобородый тоже разговаривает с богом?
— Желтобородый вчера вечером заходил за рогатую веревку.
— За рогатую веревку?!.. Удивленный гул пошел по толпе, сгрудившейся вокруг колдуна и мальчика.
— За рогатую веревку, — подтвердил Боб и победоносно выпрямился. — Он и меня заставил пройти за нее, чтобы убедить в своем могуществе.
— И он не умер?!
— Не умер. И я тоже не умер. И Гамлет тоже. А потом желтобородый открыл тот ящичек, до которого никто не смеет дотрагиваться, даже отец Джемс, и он снова не умер! А утром он выпустил меня из хижины и велел передать вам то, что я сказал.
Боб подумал и уже от себя добавил:
— И он велел, пусть люди Эльсинора не боятся и выйдут из пещеры, потому что никто их не посмеет тронуть рукой. А то они там задохнутся.
Вперед протиснулся Гильденстерн.
— Если бы господу было угодно, чтобы мы прекратили войну, белоголовый джентльмен дал бы нам об этом знать.
Боб Смит был не только храбрым, но и умным мальчиком. Он ответил Гильденстерну, не задумываясь:
— Быть может, как раз за этим он и позвал к себе Полония.
Это было вполне логично. Но Гильденстерн не успокаивался. Он ехидно осклабился:
— Вот ты говоришь, что умеешь зажигать воду и что ты будто бы заходил за священную веревку…
— Не будто бы, а в самом деле!
— Хорошо, пусть будет, что в самом деле. В таком случае, скажи, о страшный чудотворец, умрешь ли ты, если я пронжу тебя копьем?
— Попробуй! — Ответил юный Смит, и желтое перышко гордо взметнулось над его мальчишеской прической. — Попробуй! Но если тебя вслед за этим поразит небесный огонь, пеняй на себя!
Он так был убежден в собственной неуязвимости, что Гильденстерн не решился рисковать своей жизнью и смиренно исчез в толпе.
Отец Боба, долговязый Майкл Смит, любовно погладил голову сына: кто еще на всем острове мог похвастать таким выдающимся отпрыском? Никто!
— Что ж, — нехотя сказал колдун, — подождем пока придет желтобородый. И пусть скажут еретикам, чтобы они покуда вышли на воздух. Их никто не тронет.
Первым делом люди Эльсинора послали двух гонцов, на этот раз обычным путем, а не по обрывам, к мистеру Роберту Фламмери, чтобы узнать у него, что делать истинным христианам, если на них пошли войной в воскресный день.
Когда показались Егорычев, Гамлет и Смит, приведшие с собой в Эльсинор Полония и Розенкранца, Гильденстерн нырнул в кусты и помчался в Священную пещеру за инструкциями.
Островитяне встретили появление белых настороженным молчанием.
— Отец Джемс! — обратился Егорычев к колдуну. — Прикажи выйти поближе Гильденстерну Блэку.
Выяснилось, что Гильденстерн Блэк исчез. — Я так и знал, — усмехнулся Егорычев. — Он виноват в страшном преступлении против всех людей острова Разочарования, и он сбежал, опасаясь возмездия… Кто здесь духовный пастырь и старейшины Эльсинора?
Вперед вышли преподобный отец Лир и четверо воинов.
— Можете ли вы дать знать людям Эльдорадо и Зеленого Мыса, чтобы все они, кроме стариков и женщин с грудными младенцами, поскорее пришли сюда. Уменя имеются известия, которые положат конец вашей братоубийственной войне. Пусть они явятся сюда поскорее, и не для того, чтобы сражаться, а для мира и справедливости.
Воины Эльсинора извлекли из пещеры барабаны, трубы, бревна, заменявшие колокола, и, чередуя барабанный бой со звоном и ревом труб, вызвали в Эльсинор жителей остальных двух южных деревень.
Спустя полтора часа все туземное население острова Разочарования, за исключением тех, кто прятался в пещерах Нового Вифлеема, обоих гонцов Эльсинора и Гильденстерна Блэка, собралось на лужайке, служившей в Эльсиноре для пиршеств и прочих праздничных церемоний.
— Теперь, — сказал Егорычев, — пусть преподобный Джемс скажет, что сообщил ему от лица белоголового джентльмена Гильденстерн Блэк, вернувшись во время похорон Яго из Священной пещеры.
Колдун Нового Вифлеема, все еще не понимая, к чему дело клонится, повторил переданные ему Гильденстерном слова Роберта Фламмери. И он снова не решился повторить намеки, сделанные белоголовым насчет причастности Егорычева к смерти Яго Фрумэна.
— Правильно передает отец Джемс слова белоголового? — спросил Егорычев у Розенкранца.
— Да, сэр, в точности так, как я их слышал в Священной пещере.
— Мне известно, — продолжал Егорычев, — что и людям Эльсинора было передано пастырское послание из Священной пещеры. Я знаю, кто его принес отцу Лиру. Его принес вот этот негодяй по имени Полоний. Пусть отец Лир скажет, что я говорю неправду!
— Желтобородый говорит правду, — ответствовал в великом смятении колдун Эльсинора. — Но меня удивляет, как это могло получиться, что белоголовый благословил на подвиг во имя господа нашего людей Нового Вифлеема, когда Полоний именно нам принес благословение белоголового… Тут что-то не так! И над этим следует подумать.
— Вот я и пришел сюда, чтобы вы подумали, а не кидались в драку, как козлы, — сказал в сердцах Егорычев.
Это сравнение рассмешило островитян. Козлиные бои заменяли на острове Разочарования петушиные и тараканьи бои цивилизованного мира.
— Не кажется ли вам, что любой козел, кидаясь в драку, уверен в своей правоте и глубокой неправоте противника? — спросил Егорычев, и островитяне, смешливые, как все простодушные люди, со смехом подтвердили, что, конечно, оба козла уверены в собственной правоте: в противном случае они бы ни за что не полезли в драку.
— Значит, козлы делают не то, что нужно им, а то, что нужно людям, стравливающим их?
— Они делают то, что нам приятно, — важно согласился отец Джемс. — На то они и козлы.
— Так не кажется ли вам, что вы только козлы в этой братоубийственной войне и собираетесь убивать друг друга для удовольствия белоголового?
— Нет, не кажется! — оскорбленно воскликнули колдун и старейшины. — Мы боремся за истинную веру!
— Подумайте же, почему белоголовый тайком благословил обе стороны на эту войну. Розенкранц, скажи, знал ты о том, что велел Полонию белоголовый передать отцу Лиру?
— Нет, сэр, — отвечал Розенкранц. — Белоголовый разговаривал с ним, когда мы с Гильденстерном уже покинули Священную пещеру.
— А ты, Полоний, знал, что приказано было Гильденстерну и Розенкранцу?
— Меня не пускали в пещеру, пока белоголовый беседовал с ними.
— А что сказал отцу Лиру гонец, посланный к белоголовому?
— Он сказал; что белоголовый приказал уведомить нас, что будет молиться за нас.
— Нет, — воскликнул отец Джемс, — это за нас он обещал молиться!
— Но зачем это нужно было белоголовому? — удивился отец Лир. — Если мы для него только козлы, то ведь он даже не показывался в Эльсиноре и не мог насладиться зрелищем войны?
— Для того чтобы те, кто победит в этой войне, думали, что они обязаны этим молитвам белоголового, и во всем беспрекословно ему подчинялись. Даже глупых козлов нелегко было бы употреблять в пищу, если бы они вдруг решили действовать заодно и кинулись на вас все сразу. А ведь вы люди, умные люди. Белоголовому нужна ваша война, чтобы легче подчинить вас себе. Неужели вам это непонятно, мудрые люди Нового Вифлеема, Эльсинора, Доброй Надежды, Эльдорадо и Зеленого Мыса?
Островитяне молчали. Не так легко признать себя козлами, сражающимися ради чьего-либо удовольствия..
— Они святотатцы, — нашелся, наконец, преподобный отец Джемс. — Они оскверняют день воскресный. Это очень большой грех.
— И за это вы пошли на них войной? А когда наступит тот день, который вы считаете истинным воскресным днем, они так же беспрепятственно ворвутся в ваши деревни? Так, что ли?
— Господь не допустит этого, — упрямо сказал отец Джемс. — Господь справедлив.
— Хорошо, — сказал Егорычев. — А известно ли вам, люди острова Разочарования, что в то время, когда в моей стране воскресенье, в стране, откуда прибыл белоголовый мистер Фламмери, еще суббота? И так существует испокон веку. Но никогда люди моей страны не собирались войной на людей тех стран, где воскресенье отстает от нашего на целые сутки. Так ли я говорю, Сэмюэль Смит? Сэмюэль Смит — мореход, он объездил весь мир, и он подтвердит, что я говорю истинную правду.
— Мистер Егорычев говорит правду. В моей стране, в Англии, воскресенье бывает тогда, когда в стране мистера Егорычева уже четыре часа как понедельник, — сказал Сэмюэль Смит при гробовом молчании собравшихся. — И ничего. Оба наших народа ничего не имеют друг против друга. И мы с мистером Егорычевым очень хорошо и дружно живем.
Они обменялись с Егорычевым крепким рукопожатием.
В это время, тяжело дыша, как опоенные лошади, вернулись гонцы, бегавшие по поручению отца Лира в Священную пещеру. Они отозвали его в сторонку и что-то сообщили на ухо. Колдун расцвел. Он растолкал толпу, окружавшую Гамлета, вошел в середину круга и поднял руку, призывая к вниманию:
— Пусть знают люди Эльсинора и люди Эльдорадо и Зеленого Мыса! Только что вернулись воины, которых я посылал в Священную пещеру, чтобы узнать, как нам поступить, чтобы это было угодно богу. И белоголовый джентльмен сказал нашим воинам, что он молился господу нашему и господь возвестил ему, что людям, сражающимся за истинную веру, разрешается воевать в воскресный день, как если бы он был будним!..
Снова раздался топот босых ног, и сквозь толпу протиснулся запыхавшийся, мокрый, как мышь, Гильденстерн Блэк и за локоть вытащил из круга преподобного отца Джемса.
— Пусть Гильденстерн не побоится говорить так, чтобы его все слышали! — крикнул Егорычев. — Он тоже, наверно, бегал к белоголовому.
— Да! — нагло ответил Гильденстерн, прячась за спину отца Джемса. — Я был у белоголового, и он мне кое-что сказал.
— Вот и расскажи нам, чтобы все знали!
— Белоголовый настрого предупредил, что об этом не должны знать еретики из Эльсинора, Эльдорадо и Зеленого Мыса.
— Вы слышали, люди острова Разочарования? Заставьте его говорить, и вы услышите нечто очень важное.
— Пусть он говорит, чтобы все слышали! — закричали южане. — Отец Лир не скрывал от вас, что ему передал белоголовый!
— Я не могу, потому что меня немедленно поразит гром! — выкрикнул Гильденстерн из-за спины колдуна.
— Тебя не поразит гром, не бойся, — мягко промолвил Сэмюэль Смит, подкравшись к нему сзади и положив на его плечо свою могучую руку. — Но вот если ты будешь молчать и упираться, так я тебя, каналья, безо всякого грома разотру в порошок!
— Хорошо, — ответил рыдающим голосом Гильденстерн. — Хорошо! Я скажу, но пусть грех мой падет на твою голову!
— Согласен, — сказал кочегар. — Валяй, я отвечаю. Только упаси тебя бог соврать!
— Белоголовый сказал, что он молился богу и бог сказал ему, что люди Нового Вифлеема и Доброй Надежды угодны его сердцу. Они творят правильное дело, и пусть их не смущают слова желтобородого, потому что желтобородый — безбожник, коммунист. Вот что сказал белоголовый. И что…
Тут его вовремя перебил Сэмюэль Смит:
— Раз ты такой разговорчивый, мерзавец, расскажи, что вы с Розенкранцем и Яго делали в Священной пещере в пятницу, когда мы с мистером Егорычевым были в Новом Вифлееме?
— Разве вы были в пятницу в Священной пещере? — удивился отец Джемс. — Почему же вы мне об этом не сказали?
— Мы не имели права, — побледнел Гильденстерн.
— Нам белоголовый запретил рассказывать об этом кому бы то ни было, — объяснил Розенкранц.
— Даже мне?
— Даже тебе, отец Джемс. Не сердись на нас, потому что мы не имели права.
— Пусть они расскажут, за что их там поили коньяком и одаривали подарками, — продолжал кочегар. — Вы знаете, почему они молчат? Они боятся говорить правду.
— Я бы сказал, но забыл. Как только мой палец обмакнули в черную жидкость и оттиснули его на чем-то белом, я так испугался, что все забыл, — признался Розенкранц.
— И я тоже, — подтвердил, щелкая зубами, Гильденстерн. — Я только помню, что мы с Яго и Розенкранцем были высокие… Ах, какая обида! Ты не помнишь, Розенкранц, чем это высоким мы были с тобою и Яго?
— Мы были высокие разговаривающие стороны, — сказал, оживившись, Розенкранц. — Как раз это я тоже помню.
— Может быть, не разговаривающие, а договаривающиеся, высокие договаривающиеся стороны? — спросил Егорычев.
— Подумать только, Гильденстерн, сколь проницателен и мудр желтобородый джентльмен! — заюлил в подобострастном восторге Розенкранц. — Ведь именно так нас и называли в Священной пещере: высокие договаривающиеся стороны! Правда, Гильденстерн?
— Вы все еще не понимаете, что они натворили? — обратился Егорычев к островитянам. — По-моему, они вас предали, отдали белоголовому весь остров со всеми людьми за несколько глотков коньяку и старые трикотажные сорочки.
— Я не хотел сделать ничего плохого! — закричал в великом страхе Гильденстерн. — Поверьте мне, люди Нового Вифлеема, я не хотел сделать ничего дурного.
— Человек, скрывающий собственные поступки от своего народа, — плохой человек, — сурово заметил Гамлет Браун. — Разве я не прав, люди острова Разочарования?
Преподобный отец Джемс хотел было осадить Гамлета, но учел настроение воинов и воздержался.
— Их всех троих надо сбросить в море! — крикнул Джекоб Смит. — Всех троих: и Гильденстерна, и Полония, и Розенкранца!
Его предложение нашло живейший отклик у воинов Нового Вифлеема.
— Это мы решим, когда вернемся домой, — сказал отец Джемс. — Конечно, никто из них троих не показал себя достойным почетного звания старейшины. Это бесспорно.
— Гильденстерн убил нашего Джекки Кида, — сказал отец Лир. — Судить его должны старейшины Эльсинора.
— А вы выдайте нам сначала того, кто околдовал Яго. В его смерти повинен кто-то из людей Эльсинора.
— Кто тебе это сказал? — напустился на него отец Лир, чувствуя, что в лице обоих белых он имеет могущественную поддержку. — Какие ты имеешь доказательства?
— Голова Яго была обращена к югу, — тупо ответил колдун Нового Вифлеема.
— А разве Добрая Надежда не лежит к югу от вашей деревни?
— Белоголовый сказал, что Яго погубил человек из Эльсинора.
— И ты ему все веришь? — продолжал наступать отец Лир. — Мы уже знаем, как можно верить словам белоголового.
— И другой белый, тот, у кого сияние на макушке, то же самое говорил, — продолжал упираться отец Джемс.
— Ну ладно, хватит! — решительно прекратил этот спор Егорычев. — Я вижу, что отец Джемс попросту не хочет согласиться с самыми очевидными вещами. В таком случае я предлагаю вызвать в Новый Вифлеем мистеров Фламмери и Цератода, и мы вместе с ними разберемся, кто виноват в смерти Яго и в смерти Кида и настаивают ли они, что людям острова Разочарования необходимо уничтожать друг друга. Заодно мы попросим растолковать, какую это бумагу подписали Розенкранц, Гильденстерн и Фрумэн. И больше никаких споров! Всем, кроме разве отца Джемса, уже ясно, в какую кровавую яму пытался столкнуть вас мистер Фламмери, которого вы называете белоголовым. Тот, кто осмелится ослушаться моего приказа, будет иметь дело со мною и моим другом Сэмюэлем Смитом. Впрочем, может быть, кому-нибудь уж очень невтерпеж повоевать, пускай скажет.
Тысячная толпа, почти все взрослое население острова Разочарования, ответила на этот вопрос широкой улыбкой. Никто не хотел воевать. Люди радовались тому, что удалось избежать кровопролития.
— Тогда давайте выделим людей, которые как можно скорее отправятся в Священную пещеру и пригласят обоих белых джентльменов в Новый Вифлеем на объединенный совет старейшин всех пяти деревень. Пусть скажет народ острова Разочарования, согласен ли он с моим предложением. Подымите правую руку все, кто согласен со мной!
Впервые в истории народа острова Разочарования он голосовал сообща, впервые это голосование производилось путем поднятия рук, и сердце Егорычева наполнилось справедливым чувством гордости от сознания, что именно по его предложению, по предложению советского человека, голосуется на этом затерянном в океанских просторах клочке земли вопрос о мире.
— Теперь насчет Гильденстерна, Полония и Розенкранца, — продолжал Егорычев. — Кстати, где они?
— Я их уже давно разыскиваю, товарищ Егорычев, — пробился через толпу запыхавшийся Гамлет. — По-моему, они удрали. Надо их скорее нагнать. Они могут убежать в Священную пещеру, и тогда мы не сможем их судить.
— Пусть Джекоб Смит возьмет пятерых воинов и догоняет беглецов! — поспешил распорядиться отец Джемс, чтобы хоть отчасти восстановить свой пошатнувшийся авторитет.
Не прошло и минуты, как маленький отряд был собран и сразу ринулся в погоню за тремя предателями.
Затем без особых проволочек была избрана делегация из пяти стариков, по одному от каждой деревни, и тотчас же отправилась в путь. До Нового Вифлеема ее сопровождали старейшины Всех пяти деревень, которые должны были в Большой хижине ожидать ее возвращения и встречи с Фламмери и Цератодом, если те согласятся на такую встречу. В Новом Вифлееме они обнаружили опечаленного Джекоба Смита, которому так и не удалось нагнать беглецов. Беглецы успели добраться до Священной пещеры.
Пока дождались возвращения делегации, Сэмюэль Смит при помощи Гамлета, Боба и еще нескольких добровольцев перетащил из Большой хижины в пещеру все вещи, оружие и боеприпасы. Егорычев не решился оставлять старейшин одних, опасаясь главным образом агрессивности преподобного Джемса.
Делегаты вернулись примерно через час, оскорбленные и возмущенные. Фламмери встретил их в высшей степени сурово и грубо, накричал на них, сказал, что жители острова Разочарования недостойны христианского благословения и молитв, которые он возносил за них денно и нощно господу богу, как самый распоследний дурак; и что никуда ни он, ни его друг мистер Цератод не пойдут; и ни с кем они не желают встречаться и совещаться, покуда у них в Новом Вифлееме всем верховодит этот безбожник, слуга дьявола и коммунист Егорычев, по которому уже давно скучает веревка, и что это форменное безобразие, что беспричинно и по-хамски придираются к беднягам Гильденстерну, Розенкранцу и Полонию, которых он сейчас иначе не величал, как «мои возлюбленные братья во Христе» и которые вынуждены теперь по вине этого мерзавца Егорычева и безмозглых старейшин каких-то пяти вонючих деревенек вести печальную жизнь изгнанников в Священной пещере вдали от родных очагов и предавших их односельчан. Затем Он прогнал делегатов, сказав им на прощанье, что пускай теперь островитяне сами допытываются у бога, что ему угодно, а он, Фламмери, не намерен больше из-за таких неблагодарных скотов тревожить престол господень.
Докладывал делегат из Нового Вифлеема дядюшка Уолт, тот самый, который три дня назад разъяснял Егорычеву разницу между святыми и действующими лицами, и Егорычев невольно залюбовался тем достоинством, с которым старик доложил о приеме, оказанном им в Священной пещере.
— Если бы белоголовый чувствовал себя правым, — сказал дядюшка Уолт, — он бы никогда так не вел себя. Он кричал потому, что чувствовал себя неправым. Он хотел, я так думаю, напугать нас Этим криком и бранью, но ничего не хотел объяснить по поводу коварных указаний, которые дал одновременно и нам и Эльсинору. Мы, ваши посланцы, полагаем, что он очень огорчен, что раскрыта его бесчестность в отношении нас, но вряд ли помышляет об исправлении недоброго поступка, который он совершил. Насколько мы поняли, белоголовый еще просто не успел придумать нового способа ввести нас в заблуждение и поссорить. Мы ему так и сказали. И еще мы ему сказали, что мы не желаем, чтобы нас называли скотами, и что иметь таких братьев, как Гильденстерн, Полоний и Розенкранц, не такое уж большое счастье, чтобы об этом кричать таким громким голосом, как это делает мистер Фламмери. А когда он нам говорил про желтобородого, мы ему ответили, что некоторым нравятся кокосы, а другим козий помет. Что касается нас, то мы умеем отличить кокос от козьего дерьма. Если бы не желтобородый и его друг Смит и наш односельчанин Гамлет, мы бы, как глупые козлы, передрались сегодня, и много людей острова Разочарования погибло бы для удовольствия мистера Фламмери, который находит вкус в помете и даже, судя по его словам, находится с ним в близком родстве.
Остальные четыре старика утвердительно покачивали головами в знак своего полного согласия со словами старого Уолта.
Несколько минут все молчали, стараясь получше продумать рассказанное Уолтом. Потом поднялся Гамлет и сказал, что белоголовый напоминает ему своим поведением датского короля Клавдия, который тоже хотел построить свое счастье на чужих несчастьях и крови, и что очень жаль, что люди, подобные белоголовому, обосновались на острове Разочарования. Он сказал еще, что ему больно было слышать, что этот злой и глупый человек (потому что умный никогда не говорил бы так опрометчиво, как белоголовый) назвал людей острова скотами. Назвать человека скотом!
— Люди острова Разочарования, — закончил он, — подумайте, должны мы после того, что только что услышали из уст Уолта, доставлять белоголовому и его сообщникам фрукты, воду и мясо? Мое мнение, что не должны. Пусть будет стыдно тому, кто хоть на миг забудет об оскорблении, которое белоголовый нанес всем нам, людям острова Разочарования, всему человечеству!
Было единогласно решено, что Гамлет прав и что ни фруктов, ни мяса, ни воды обитателям Священной пещеры больше никто из людей острова доставлять не должен, если он не хочет быть с позором изгнанным из рядов человечества.
Теперь Егорычев был вполне удовлетворен. Никто, даже отец Джемс, больше не вспомнил о Яго и о том, что нужно мстить за его смерть. Старейшины Нового Вифлеема известили старейшин Эльсинора, что подлый убийца Джекоба Кида будет передан в их руки, лишь только его удастся поймать.
Вообще говоря, Егорычев ясно, отдавал себе отчет, и Смит целиком разделял его мнение, что все время, пока Фламмери, Цератод и их подручные будут на свободе, над островом будет висеть угроза провокации новой войны. Смит даже предлагал изолировать обитателей Священной пещеры, попросту говоря, арестовать их впредь до прибытия первого корабля. Но Егорычев не мог пойти на такой шаг, и отнюдь не потому, что он был невыполним. При помощи Гамлета и еще нескольких островитян не так уж трудно было бы взять в плен зловещую пятерку, обосновавшуюся на Северном мысу. Конечно, ее нужно было изолировать от общества. Но Егорычев понимал, что этого ни в коем случае нельзя делать по причинам, лежавшим вне острова Разочарования. Как только прибудет в бухту первое судно, чтобы вывезти с острова его «белых резидентов», немедленно и на весь мир раздуют антисоветскую свистопляску о большевистском комиссаре, позволившем себе «ничем не оправданное» насилие. Нет, ни в коем случае нельзя было подавать и малейшего повода для подобной клеветнической кампании. Надо было придумать нечто другое. А на это требовалось время.
Надо было еще о многом потолковать старейшинам — впервые за все время существования людей на острове сошлись для деловой дружеской беседы представители всего населения. Но, по некоторым признакам, собиралась гроза, и тем, кто пришел издалека, следовало поспешить с возвращением домой, если они не хотели заночевать в Новом Вифлееме. Отложив оставшиеся вопросы на завтра, они, не теряя ни минуты, разбежались по своим деревням.
Прошло еще добрых два часа, прежде чем иссиня-белая молния во всю ширину небосвода, из края в край пронзила почерневшее небо. Словно сотня бомб, грянул гром, и упали крупные, увесистые, как камешки, первые капли. Через минуту сверху хлынули потоки теплой воды и вернее самых прочных засовов заперли Егорычева и Смита в пещере, островитян — в их хижинах и солнце — за массивными, циклопическими перекрытиями низких сплошных лилово-черных туч.
XVI
— Слушайте-ка, Смит, — сказал Егорычев, когда они наконец остались одни, — мне нужно с вами потолковать по очень серьезному делу.
Кочегар загнал большой гвоздь в расселину скалы, подвесил на него «летучую мышь». Тусклый свет лампы выхватил из мрака пещеры несколько десятков квадратных метров щербатого каменного пола, сдобрив ее затхлый воздух острым запахом керосина. За порогом грохотал ливень.
Смит присел на ящик с консервами, закурил и сказал:
— К вашим услугам, товарищ Егорычев.
— Это насчет боевого задания, которое имели здешние эсэсовцы.
— Ах, вот оно что… — разочарованно протянул кочегар. Он ожидал более серьезного разговора.
— Вы не задумывались над этим вопросом? — спросил Егорычев.
— По совести говоря, не очень.
— Я так и полагал. Вы не должны на меня обижаться, дружище, но я не решался поделиться с вами своими соображениями на этот счет.
— Не доверяли? — усмехнулся Смит.
— Не совсем доверял. Но со вчерашнего дня я вам доверяю, как самому себе.
— Вы можете мне доверять во всем, товарищ Егорычев.
— Знаю. И очень рад.
— Значит, у вас имеются какие-то серьезные соображения по Этому поводу? Честно говоря, я думал, что…
Смит замялся и замолк, усиленно запыхтев сигарой.
— Вы уже знаете, Смит, — сказал Егорычев, — что когда они выгружались со своей подводной лодки, пропало несколько ящиков груза. Якобы с разной дрянью для меновой торговли со здешним населением.
— Не вижу связи с их боевым заданием, — сказал Смит.
— Я тоже сначала не видел. А потом я стал задумываться над подробностями этого происшествия. Начать с того, что ящики с заведомо второстепенным грузом повезли на берег в первую очередь, до того, как выгружать радиостанцию, боеприпасы, оружие и продовольствие.
— Спешка, — заметил Смит. — Бывает.
— Сомневаюсь и имею на то серьезные основания. Первое. Сначала всегда выгружают основные грузы. Это элементарное боевое правило. Особенно при спешке. Второе. Фремденгут, который никак не любит утруждать себя черной работой, почему-то никому не доверил выгрузку именно этих ящиков. Все три его разбойника оставались до поры до времени, добрых два часа, на борту подлодки, а он сам отправился на берег именно с этими тремя ящиками, и именно эти три ящика при выгрузке тонут.
— Забавно, — сказал Смит.
— Третье. Ящики с лентами и тому подобной галантереей никак не могут затонуть. Хорошо, предположим, что в них были гвозди, крючки, ножи, — словом, металл. В таком случае они действительно могли уйти под воду. Но ведь шлюпочки на подводных лодках, даже самых крупных, имеют ничтожную' осадку. Значит, разгрузка шла у самой прибрежной гальки. Там взрослому человеку едва по колено. Предположим, что, рассудку вопреки, разгрузку производили не с носа, а с кормы. Предположим даже, что там вода была выше человеческого роста (хотя тогда там нельзя было бы разгружать). И в таком случае ничего не стоило бы вытащить ящики, если бы их и уронили в воду. Не правда ли?
— Ваша правда, — подтвердил кочегар. Его уже явно заинтересовали выкладки Егорычева. — Но все же, какая связь между ящиками с лентами и ответственным боевым заданием? Кстати говоря, возможно, что Фремденгуту надо было уложиться при высадке в такие сжатые сроки, что было не до ящиков со второстепенным грузом. Вам не приходило в голову подобное соображение?
— Приходило, — сказал Егорычев. — Ладно, предположим, спешка. Ну, а потом, когда подлодка уже ушла и времени было более чем достаточно, можно было бы, по-вашему, заняться спасением этих ящиков? Фремденгуту ничего не стоило приказать своим бездельничавшим подчиненным понырять хорошенько на месте, где якобы затонули ящики Фремденгут этого почему-то не сделал. Он подозрительно легко примирился с потерей. Но и это еще не все. Кумахер рассказывал, что Шварц на собственный страх и риск часа два нырял в тех местах и ничего не обнаружил.
— Их могло унести прибоем, — сказал Смит.
— Помилуйте, старина, какой там особенный может быть прибой в почти совершенно закрытой бухте?
— Ну, положим, в тот день могло как раз быть очень сильное волнение.
— Согласен. Тогда остается лопата.
— Какая лопата? — удивился Смит.
— Та самая лопата в брезентовом чехле, которая тоже пропала вместе с. ящиками. Кумахер видел, что барон брал с собой в шлюпку лопату в чехле.
— Позвольте, позвольте, — оживился Смит, — уж не хотите ли вы сказать, что ящики не утонули, а что их…
— …закопали где-то посредством этой самой лопаты? Совершенно верно. Теперь спрашивается, куда могла деваться лопата? Зачем понадобилось Фремденгуту терять и ее? И вот, если допустить, что груз в тех ящиках был настолько секретным, что даже своим отборным эсэсовцам Фремденгут не решился сообщить об его существований, то становится ясным и куда девалась лопата. В таком случае она, скорее всего, спрятана в укромном местечке, чтобы можно было при ее помощи и опять-таки без ведома подчиненных Фремденгута откопать ящики, когда это понадобится. Кстати, тогда становится понятной и такая, на первый взгляд, второстепенная деталь, как чехол на лопате. Если в здешних местах держать лопату не в крытом помещении, следует принимать самые основательные меры против ржавчины.
— Все это походит на истину, — сказал кочегар, — но еще больше на роман приключений.
— Меня это тоже в немалой степени приводило в смущение. Поэтому я решил временно отказаться от гипотезы с пропавшими ящиками. В самом деле, почему бы не предположить, что банда Фремденгута высажена на остров в связи с тем, что здесь собираются строить, ну, хотя бы тайную базу подводных лодок?' Чего еще лучше: остров не обозначен на карте, лежит черт его знает как далеко от нормальных торговых путей, на нем глубокая, исключительно удобная бухта, защищенная от ветров и океанской волны. Но тогда спрашивается, почему высадили такую малочисленную группу? Для предварительной разведки местности и разработки пусть даже контуров проекта? Но среди этой четверки не было ни геологов, ни землемеров, ни строителей. Заготовить силами местного населения строительные материалы для строителей, которые прибудут во втором эшелоне? Они тут пробыли без нас почти две недели, но не видно, чтобы был приготовлен хотя один кубометр камня, песка, лесных материалов. Судя по моим беседам с Гамлетом, с островитянами не велись по этому вопросу даже предварительные переговоры. Больше того, кроме Сморке и Шварца, никто из группы вообще ни разу не покидал Северного мыса, а оба ефрейтора ходили вниз только за водой и продуктами. Но, может быть, здесь собирались сооружать какую-нибудь особенную радиостанцию? Весьма и весьма сомнительно. Во-первых, ее было бы довольно легко запеленговать. Во-вторых, один радист на всю группу и самая заурядная рация. А потом Гамлет подтвердил мне, что он сам видел эти ящики, и что они не утонули, а что их спрятал Фремденгут, только он не знает где.
Я обшарил всю площадку вдоль и поперек и нигде не обнаружил ни малейших следов рыхлой земли, под которой могли бы находиться какие-нибудь зарытые вещи. Я обстукал всю пещеру, но больше для очистки совести: за те два с небольшим часа, которые Фремденгут провел на острове без своих прямых подчиненных, никак невозможно было выбить в ее стенах или полу нишу, достаточную для того, чтобы схоронить в ней несколько ящиков. Тогда я стал следить за поведением барона во время прогулок. Должно же было что-нибудь отразиться на его лице, когда мы подходили к месту, где спрятаны его сокровища. Но в какое бы место площадки я его ни приводил, он сохранял полное спокойствие. Знаете, я уже начинал отчаиваться в этом способе. И вот, помните, третьего дня, когда вы вывели пленных на прогулку, я предложил вам «для разнообразия» прогуляться вниз по тропинке, ведущей к реке и Новому Вифлеему. Готов поклясться, что на какую-то долю секунды на физиономии Фремденгута мелькнуло выражение очень сильного беспокойства. Правда, он сразу овладел собой. И опять-таки требовались более ощутительные доказательства. Быть может, он попросту испугался, как бы на этой тропинке, вдали от благожелательных взоров банды Фламмери, его не пристрелили «при попытке к бегству». У эсэсовцев, во всяком случае, это был излюбленный прием расправы с пленными.
Поэтому, пока вы водили их по площадке, я позволил себе маленькую инсценировку: улегся неподалеку от пещеры в тени дерева, а к его стволу прислонил обе лопаты, которые обычно лежали в пещере на ящиках с гранатами. Я прикинулся спящим, вы шли позади Эсэсовца, Фремденгут имел все основания полагать, что никто не следит за выражением его лица. И тогда-то я удостоверился в своих догадках: Фремденгут очень сильно испугался при виде этих лопат. Он не мог отвести от них глаз, пока не скрылся в пещере. Надо думать, он заподозрил, что мы с вами собираемся куда-то направиться с этими лопатами. Во всяком случае, я хотел создать у него именно такое впечатление.
— А вдруг и в самом деле… — начал Смит.
— Я почти уверен, что нахожусь на правильном пути.
— Но что же в них находится, в этих таинственных ящиках?
— Вот этого я еще пока и сам не знаю. Поначалу я думал, что в них какие-нибудь из ряда вон выходящие по своему значению секретные документы или выдающиеся драгоценности. Но драгоценности совсем незачем так далеко прятать. Их можно зарыть и где-нибудь в самом райхе. Можно их сдать на хранение в любой из банков так называемых нейтральных стран — Испании, Португалии, Турции, Аргентины и так далее и тому подобное. Следовательно, драгоценности отпадают. Что касается секретных документов, то для того, чтобы прятать их так далеко от Германии, пока еще не настала пора. И опять-таки, проще было бы припрятать их где-нибудь поближе. Значит, в пропавших ящиках находилось нечто такое, что нельзя доверить ни «нейтральным» банкам, ни «нейтральным» друзьям. И знаете, Смит, что мне вчера вдруг пришло в голову? А что, если в ящиках что-то связанное с тем «новым оружием», о котором в последние месяцы так раскричались все нацистские газеты? Как вы думаете? Мне очень интересно ваше мнение.
— Ну и задали вы мне задачу! — растерянно пожал плечами кочегар.
— Эх, дорогой друг, это я себе самому задал такую задачу! Оба наших героя замолкли, прислушиваясь к ливню, гремевшему с неослабевавшей силой. Потом Смит сказал:
— А ведь, пожалуй, в таком случае нам не следовало оттуда, сверху, уходить.
— Со всех точек зрения надо было уходить оттуда. Они могли запереть нас там без воды. А главное, без нас Фремденгут воспользуется первой возможностью удостовериться, в сохранности ли его ящики. И тогда нам остается только выследить его в эту минуту.
— А вдруг он проделал это еще вчера?
— Конечно, все может быть, но все же я сомневаюсь. Раз ящики действительно существуют не только в моем воображении и если их существование надлежало скрывать от собственных сподручных и единомышленников, то еще меньше оснований полагать, что он захочет открыть свою тайну американцам и англичанину. Поэтому, если его и выпустили вчера на волю, в чем я ни в малой степени не сомневаюсь, то вряд ли он рискнул бы в первый же день отлучиться с площадки.
— Вы думаете, они закопаны на тропинке?
— Где-нибудь в ее районе.
— Знаете, я бы не прочь отправиться в эту разведку. Вы меня здорово заинтриговали.
— Ни за что! В лучшем случае вы его надолго спугнете. В худшем — он вас пристрелит на месте.
— Ну, это еще вопрос, кто кого пристрелит, — рассердился Смит.
— Он должен жить, по крайней мере, до того, как мы не получим разгадки его тайны. Да и вообще мы с вами, старина, пожалуй, слишком громоздки для такой' сложной разведки. Надо будет пожалуй, завтра потолковать об этом с Гамлетом. Он нам поможет подыскать смышленого паренька, примерно в возрасте нашего Боба. К сожалению, Боба никак нельзя использовать для этой цели. У него уже установились слишком острые отношения с этой тройкой мерзавцев; если он им попадется в руки, они его, не задумываясь, прикончат… А теперь давайте приляжем, отдохнем. Слышите, какой хлещет ливень?
Где-то над тучами стояло солнце в зените. Под тучами было темно, тягостно, и казалось невероятным, что когда-нибудь они уйдут и снова станет над головой ясное небо. Тучи лежали над островом и океаном, словно тяжелые, невообразимо толстые свинцовые плиты.
Но к вечеру сильный южный ветер поднял и покатил вдоль берега песок, и из-под туч, над самым почти горизонтом, проглянул неяркий, расплывчатый желтый круг солнца. Черные воды океана устало покачивались, разделенные седыми волнами на мрачные, очень широкие полосы. Направо от солнца вдруг показалась и несмело раздвинулась нежная зеленоватая голубизна чистого вечернего неба. Несколько туч, подсвеченных солнцем, покрылись по бокам и снизу пышными рыжевато-бурыми каймами, походившими на волны.
Но на острове все еще было сумеречно. И только у самого наката, на мокром песке расплылось золотистым кругом отражение солнца, которое потом как бы расплескалось тонкой пленкой вдоль берега, постепенно переходя в медно-красный цвет, пока совсем не исчезло. Солнце ушло за горизонт. Быстрее обычного стало темно. Когда минут через двадцать Егорычев вышел из пещеры, он увидел чистое звездное небо. Дождь кончился. А вместе с ним кончилась и передышка.
XVII
То, что он не смутил, а возмутил делегацию, несколько ошарашило главу новоиспеченного правительства острова Взаимопонимания. Это противоречило его представлениям о том, как чернокожие должны воспринимать брань и угрозы белого. Конечно, у Фламмери и в мыслях не могло быть, что островитяне только по прирожденной тактичности и из гостеприимства не выказывают знаков соболезнования людям, обреченным на всю жизнь примириться со своим неестественным и некрасивым (светлым, как кокосовая мякоть!) цветом кожи. Он почел бы детской мистификацией, услышав, что островитяне не испытывают никакого трепета и благоговения перед белыми как таковыми, то есть перед белыми, если они лишены автоматов и тому подобных орудий человекоубийства.
Но как мистер Фламмери ни был далек от таких мыслей, он не мог все же не заметить, что старики покинули Северный мыс не столько напуганные, сколько оскорбленные и рассерженные. Мистер Фламмери приписывал столь прискорбные итоги переговоров подрывной деятельности Егорычева.
— Мне кажется, — сказал Фламмери, — что силой обстоятельств мы оказываемся вынужденными принять в высшей степени важные решения.
При этих словах Мообс подмигнул Кумахеру, и оба новоявленных дружка тактично, удалились из пещеры.
Кумахер был в отличном состоянии духа. Он мурлыкал себе под нос «Ойру».
— Хорошая музыка! — одобрил Мообс «Ойру». — А ну, как она поется, эта песенка?
Напоминаем, это была такая старая песня, что люди возраста Мообса не могли не воспринимать ее, как самоновейшую.
Мы танцуем ой-ра, ой-ра… -
с удовольствием пропел Кумахер, который ничего не имел против того, чтобы расширить музыкальный кругозор настырного репортера. — Подтягивайте!.. Если у вас есть хоть малейший музыкальный слух, вы ее заучите в пять минут.
— Есть у меня слух! — отозвался Мообс. — А ну, давайте сначала!
Они устроились со всеми удобствами в холодке и, напевая «Ойру», с интересом наблюдали, как Розенкранц. Гильденстерн и Полоний, облюбовав более или менее укромное местечко по ту сторону пещеры, поспешно сооружали себе шалаш из сучьев, травы и банановых листьев. Неграм было решительно дано понять, что, как люди с черным цветом кожи, они не имеют никаких оснований рассчитывать на проживание, даже самое кратковременное, в пещере, где обосновались белые.
Розенкранц и компания были слишком подавлены своим неожиданным эмигрантским положением, чтобы начать уточнять, почему естественный красивый черный цвет кожи является непреодолимым препятствием для совместного пребывания с белыми под одним кровом даже во время ливня, который через час, самое позднее два, должен был разразиться над островом. Они склонны были относить брезгливость, с которой обращались с ними обитатели Священной пещеры, за счет своего предательства. Они сознавали, что люди, предавшие родную деревню, заслуживают не только презрения, но и смерти, и поэтому смиренно готовились встретить надвигавшийся ливень, а затем и промозглую, сырую ночь под жалкой крышей наспех сооруженного шалаша.
Пока они под насмешливо-любопытными взглядами Мообса и Кумахера старались успеть окончить постройку шалаша до начала ливня, в пещере происходило совещание, которое Фламмери охарактеризовал как историческое для взаимоотношений между правительством и населением острова Взаимопонимания.
— Джентльмены, — начал Фламмери, когда Мообс и Кумахер скрылись за пещерой, — нужно ли мне говорить о том, что мы связаны солидарностью и что эта солидарность указывает нам наш долг?
Джентльмены поспешили заверить, что в этом нет никакой необходимости.
— Самые худшие наши опасения оправдались, — продолжал мистер Фламмери в великой скорби за человечество, — оправдались значительно раньше, чем это можно было предполагать. Это наполняет мое и, надеюсь, ваши сердца глубочайшей печалью…
Фремденгут не замедлил подтвердить, что и его сердце действительно переполнено печалью и ничем иным. Цератод промолчал.
— На острове с устрашающей быстротой разгорается анархия, кощунственно повержены в прах уважение к порядку, к старшим, к выборным институтам, к авторитету белого человека. Увы, если еще не всем островом, то уж во всяком случае несчастным селением Новый Вифлеем заправляют марксистские демагоги и террористы. Именно интригам и дьявольским проискам известного вам Егорычева обязаны своим изгнанием из Нового Вифлеема совсем недавно и единодушно избранные старейшины, которым мы, как добрые христиане, предоставили право убежища в районе нашей пещеры. Мы не ждем знаков признательности от бедных изгнанников, мы лишь выполнили наш долг. Итак, рядом с нами первые жертвы того прискорбного безначалия, которое грозит превратиться в подлинное бедствие для всего острова. Можем ли мы остаться в стороне, мы, несущие моральную ответственность перед господом нашим за гражданский мир и благоденствие острова сего? Разве не поставили мы, уступая горячим настояниям лучших, наиболее жадно тянущихся к цивилизации представителей туземного населения, свои подписи под договором от девятого июня сего года? И разве мы не ратифицировали с вами этот договор в сердцах наших, дорогой мистер Цератод? (Мистер Цератод позволил себе перебить Фламмери, чтобы подтвердить, что именно это он и предпринял в сердце своем сразу по подписании упомянутого договора.) Нет, друзья мои, нет, нет и еще раз нет, мы не смеем вводить себя в заблуждение и тем более не должны обманывать наших чернокожих братьев во Христе надеждами, что мы можем уклониться от долга, который сами возложили на свои слабые плечи этим договором. И разве не говорил нам господь?..
Тут мистер Фламмери минут пять истекал выдержками из священного писания, и оба его собеседника перенесли этот очередной приступ лицемерия с завидной стойкостью и пониманием.
Затем последовал обмен мнениями, который мы в целях экономии времени передаем только в самых общих чертах.
Барон фон Фремденгут признал чрезвычайно ценной и своевременной мысль мистера Фламмери о том, что следует как можно скорее преградить путь анархии, по крайней мере, в остальные деревни, раз она уже успела пустить свои губительные корни в Новом Вифлееме.
— Пожар должен быть потушен в самом начале и любой ценой! — энергично заключил он свои соображения. — Население острова ждет от своих белых покровителей и руководителей помощи в борьбе против обрушившейся на него славянской опасности! Смеем ли мы отказать ему в этом? Нет, не смеем!.. Настало время решающей оздоровительно-устрашающей акции…
Против последней мысли Фремденгута мистер Цератод нашел существенные возражения. Во-первых, такая акция, на его взгляд, была преждевременна, а потому и вредна. Во-вторых, если ее и готовить, то следовало бы, на его взгляд, одновременно попытаться собрать демократически подготовленное совещание старейшин всех пяти деревень, конечно, без Егорычева, Смита и подпавшего под их возмутительное влияние Гамлета Брауна, и попытаться еще раз растолковать им всю историческую обреченность их неразумного сопротивления поступательному движению цивилизации. В-третьих, если и будет решено обойтись без такого совещания, что повергло бы мистера Цератода в глубокую скорбь, следовало бы все же, на его взгляд, заранее продумать оздоровительную акцию так, чтобы она в наименьшей степени расходилась с требованиями гуманности.
— Пролитие крови, буде оно представится по ходу операции необходимым, — решительно заявил он, — должно быть самым минимальным.
— Бесспорно! — согласился Фламмери.
— Второе и не менее категорическое требование, — жестко продолжал Цератод, — полное соблюдение во время оздоровительной акции всех принципов демократии и уважения к человеческой личности.
— Будет исполнено, сэр, — сказал Фремденгут.
— И никакого колониализма!.. Даже малейшего привкуса колониализма!
— Ни малейшего привкуса, сэр.
Ввиду исключительной важности обсуждаемого вопроса Цератод потребовал официального и поименного голосования.
Двое — Фламмери и Фремденгут — проголосовали «за». Цератод воздержался и потребовал для полного соблюдения демократии пригласить Мообса и Кумахера принять участие в голосовании.
Теперь четверо отдали свои голоса «за», Цератод снова воздержался.
Тем самым решение об оздоровительной акции было принято четырьмя голосами при одном воздержавшемся. Поскольку демократические принципы — обсуждение и голосование — были полностью соблюдены, Цератод заявил, что подчиняется воле большинства.
Исполнительные и трудолюбивые служаки Фремденгут и Кумахер захватили с собой бинокль и вышли на лужайку, чтобы на местности уточнить кое-какие подробности плана завтрашней операции. В общих чертах он ими уже, оказывается, был продуман заранее. («Ну, не золотые ли это парни, Цератод?» — «Мда-а-а… как вам сказать..".)
Мообс, насвистывая «Ойру», отправился в клетушку, где раньше находились в заключении пленные, и собрался прикорнуть на койке.
Фламмери, по совести говоря, собирался совершить перед сном небольшую прогулку, но Цератод (удивительно, как испортился за последние несколько дней его характер!) остановил его:
— Я хотел бы, мистер Фламмери, обратить ваше внимание на некоторую ненормальность создавшегося положения…
Фламмери раскуривал в это время сигару. Он не спеша выпустил изо рта клуб дыма и с удовольствием втянул его ноздрями в себя.
— Прекрасная все-таки вещь гавана, особенно здесь, на краю света!
— Я здесь старший по чину? — спросил Цератод, стремительно накаляясь.
— Если продолжать считать барона противником… Ну что за сигара!.. '
— Разрешите мне, по крайней мере, не считать его союзником в дипломатическом смысле этого слова!
— Хорошо… если это вам так экстренно требуется.
— А раз так, — победоносно заключил Цератод, — то мне здесь никто, слышите, никтоне может приказывать. Старший по чину офицер находится во время выполнения той или иной боевой операции там, где онсчитает нужным с точки зрения военной обстановки.
Фламмери отвечал ему невыносимо наставительным тоном:
— Вы старший по чину. Поэтому вы и должны возглавить завтрашнюю операцию.
— Я принимаю решение остаться здесь, в пещере. Будет только справедливо, если вы, как младший по чину, как капитан, пойдете завтра в Новый Вифлеем с Мообсом и обоими немцами.
— Акцию должны возглавить вы, майор Цератод.
— Капитан не может приказывать майору! — Цератод дошел почти до визга. — Это должно быть известно даже капитанам Красного креста.
— Перед вами, господин майор, не капитан, а глава острова Взаимопонимания.
Поразительно спокоен был мистер Фламмери в эти драматические минуты!
— Передо мною американец, желающий избавиться от единственного оставшегося здесь англичанина.
— От вас зависело, чтобы англичан здесь было двое.
— Вы забываете, что… — Цератод схватился за сердце.
— Идите, ложитесь спать. Завтра надо будет встать ровно в шесть утра. Пока вы дойдете до этой чертовой деревни…
— Кто вам сказал, что я пойду?.. Я категорически протестую…
— Скажите прямо, что вы боитесь, как бы вас завтра случайно не задело…
— Нет, это выскажите прямо, что выбоитесь!.. Сами боитесь…
— Да, боюсь. И поэтому пойдете вы. Не хотите же вы, чтобы я назначил руководителем завтрашней операции майора Фремденгута? Майор Фремденгут согласен. Или, может, собрать всех и проголосовать? Давайте проголосуем, а? Великая вещь — настоящая демократия! Мообс! Вставайте и позовите-ка сюда обоих наших коллег! Нам нужно кое-что проголосовать. И заодно проголосуем и вопрос о моем новом заместителе. Мне нужен человек храбрый и решительный. Фремденгут вполне подойдет. И он тоже майор.
— Я сейчас, сэр! — весело крикнул Мообс из клетушки.
Ну, конечно же, он не упустил ни слова из этого разговора и был страшно доволен таким блистательным посрамлением презираемого им гусака.
Цератод с полминуты колебался, потом горько фыркнул:
— Хорошо, я завтра пойду… Но если я не вернусь…
— Вы вернетесь, Цератод, — благожелательно улыбнулся Фламмери, — вернетесь героем, живой и здоровый… Мообс, не надо никого звать! Спите спокойно!..
Вскоре хлынул ливень, и оттого, что всего в нескольких шагах по ту сторону входной двери дрогли под неверной защитой убогого шалаша промокшие до костей эмигранты Нового Вифлеема, пятеро борцов западной цивилизации чувствовали себя под толстым каменным сводом пещеры особенно уютно и умиротворенно.
И если все же время от времени взоры Фламмери и Цератода затуманивались беспокойством, то меньше всего оно было связано с тревогой за здоровье полуголых джентльменов, тоскливо сбившихся в кучу под жалкой, безбожно протекавшей крышей шалаша. Мистера Фламмери томило сомнение в исходе завтрашнего мероприятия. Но стоило, однако, его взгляду упасть на Фремденгута и Кумахера, и на душе у него снова становилось легко и спокойно. Казалось, оба эсэсовца излучали мощные, ощутимые на ощупь волны стойкости, неутомимости, невозмутимой уверенности в успехе.
Спать улеглись пораньше, чтобы получше выспаться.
С первыми лучами солнца в пещеру вызвали Гильденстерна. Он вошел как-то бочком, мокрый, продрогший, невыспавшийся и жалко покорный. Мообс был прав: со своим отвислым брюшком, длинноногий и короткорукий Гильденстерн действительно смахивал на кенгуру.
Ему дали горячего кофе, полную тарелку свиной тушонки. Он поел, напился, обсох, согрелся — и ожил.
Зато когда Фламмери сообщил ему задание, разработанное для него стратегическим гением Фремденгута, Гильденстерн помертвел. Не в силах вымолвить ни слова, он умоляюще воздел свои ручки с плетеными из травы кольцами на коротеньких мясистых пальцах к безмятежно-ласковому мистеру Фламмери.
— Хорошо, — благосклонно промолвил Фламмери, — не в моих правилах заставлять людей делать то, что им не по душе. Это было бы бесчеловечно. Можешь считать, друг мой, что ты не получил от меня никакого задания.
Гильденстерн снова ожил.
— Но теперь мы видим, — продолжал тем же ровным голосом Фламмери, — что в отношении тебя прав был, к сожалению, не я, а мистер Егорычев. Ты действительно не годишься ни в старейшины Нового Вифлеема, ни тем более в старейшины всего острова. Я вознес только что молитвы господу нашему, и господь велел мне выдать тебя твоим односельчанам. Мы будем все молиться, чтобы смерть твоя была достаточно легка. А пока иди с миром и пришли сюда Розенкранца, которому господь, видимо, уготовил первое место среди старейшин Нового Вифлеема.
Гильденстерн тоскливо оглянулся кругом. На него с холодным любопытством смотрел Мообс. Фремденгут с Кумахером не обращали на него ни малейшего внимания. Они о чем-то деловито беседовали по-немецки. Кончив разговор, Кумахер вышел на воздух, — следовало поторапливаться с утренней зарядкой.
— Не надо посылать за Розенкранцем, сэр, — сказал Гильденстерн, с напряжением глотнув воздух. — Я сделаю все, что вы мне приказали…
Он помолчал, присел на корточки, искательно заглянул снизу в светло-шоколадные глазки страшного белоголового.
— И тогда я снова буду старейшиной Нового Вифлеема?
— Ай-ай-ай! И тебе не совестно сомневаться в моих обещаниях, Гильденстерн? — отвечал Фламмери с мягкой укоризной. — Ты будешь старейшиной Нового Вифлеема… Ты будешь министром всего острова… В том порукой господь наш, приявший за нас муки на кресте. Иди же, брат мой, и выполни все в точности — слышишь, в точности! — так, как тебе сказано. Ты будешь министром. Быть может, если ты и впредь будешь старательным и богобоязненным человеком, господь повелит мне даже назначить тебя королем всего острова. Иди с миром!.. Я рад, я счастлив, что не ошибся в твоих высоких моральных качествах, возлюбленный брат мой!..
И мистер Фламмери в состоянии неописуемого душевного подъема осенил обмякшего Гильденстерна размашистым пастырским крестным Знамением.
XVIII
Только рассвело, как в другую пещеру, внизу, в долине, наведался Гамлет Браун пожелать доброго утра Егорычеву и Смиту, узнать, не требуется ли чем помочь. Он принес десятка два превосходных бананов, кокосового молока. Позавтракали. Снова угостили Гамлета рыбными консервами, которые ему еще третьего дня в Большой мужской хижине пришлись по вкусу. Вскипятили на сухом спирту кофе, попробовали его с кокосовым молоком, — не понравилось. Вскрыли банку сгущенного молока; Посоветовались с Гамлетом насчет парнишки, которому можно было бы поручить следить за Фремденгутом. Гамлет обещался сейчас же кое с кем потолковать и прислать на выбор двоих-троих, хоть пятерых храбрых и толковых ребят.
Затем Егорычев отправился с Гамлетом проверить, бодрствуют ли дозорные, выставленные еще накануне, сразу после ливня, на всех подступах к Новому Вифлеему, и обнаружил, что посты остались только на южных и восточных подступах. Северные дозоры отец Джемс ночью собственной своей властью снял, так как по-прежнему был непоколебимо убежден, что опасность может грозить его селению только со стороны людей Эльсинора, Эльдорадо и Зеленого Мыса, но никак не из Священной пещеры.
Пока Гамлет побежал восстанавливать снятые посты, Егорычев поспешил обратно в пещеру. Надо было предупредить Смита, чтобы он ни в коем случае не выходил безоружным. Надо было, кроме того, договориться ни в коем случае не оставлять боеприпасы без присмотра.
Уже, в какой-нибудь полусотне шагов от пещеры Егорычев услышал за спиной еле заметный шорох. Он резко обернулся и увидел перед собой вынырнувшего из кустов Гильденстерна, полного жалкой ярости отчаяния. В правой руке возлюбленный брат мистера Фламмери высоко занес складной нож с плоским стальным черенком, тот самый, которым вчера был зарезан бедняга Джекоб Кид.
Некогда было выхватывать пистолет из кобуры. Егорычев метнулся в сторону, сбоку схватил Гильденстерна за руку, пытаясь вырвать нож, и в то же время подставил ему подножку. Гильденстерн мягко рухнул на траву, увлекая за собой и Егорычева. Теперь ему, наконец, удалось вызволить руку. Он неловко размахнулся и ударил Егорычева ножом в правую ногу, потом изловчился и полоснул по тому месту кителя, где под глухо звякнувшими орденами и медалями бешено стучало сердце.
От резкой боли Егорычев на минуту-две потерял сознание. Но Гильденстерн, убежденный в безотказной смертоносности оружия, врученного ему самим белоголовым, решил, что Егорычев мертв. Он вскочил на ноги, вложил два пальца в рот и пронзительно свистнул. Это был сигнал притаившемуся на просеке, почти у самого входа в деревню, Фремденгуту, что первая и, пожалуй, наиболее решающая часть похода против анархии и безбожия на острове Разочарования успешно решена. Марксистский смутьян и террорист Константин Егорычев больше уже не стоял поперек пути западной цивилизации. Сопротивление ее победоносному продвижению на острове было обезглавлено.
Ах, как счастлив был в эту минуту Гильденстерн Блэк! Уж теперь-то он обязательно будет старейшиной, самым первым, самым старшим, самым главным, самым важным, важнее Полония, важнее этого простофили Розенкранца!..
Хотелось Гильденстерну насладиться вдоволь лицезрением поверженного в прах желтобородого, который принес ему столько огорчений и тревог, да нельзя было мешкать. Надо было поскорее спешить к своим, к могущественным белым, к его новому мудрому, сердитому богоподобному другу, к другому его другу с желтыми пятнышками на красном лице, к третьему его другу, толстому, очень толстому другу с сиянием на макушке… Приказано было убить желтобородого — и сразу к своим!
Если бы Сэмюэль Смит, заслышав победный свист Гильденстерна, выскочил на воздух двумя секундами позже, Гильденстерн остался бы жив.
Но и то, что он с размозженным черепом брякнулся наземь, нисколько не отразилось на дальнейшем развертывании операции, так тщательно разработанной накануне в Священной пещере.
Лишь только до хрящеватых, приплюснутых ушей Фремденгута донесся сигнал, возвещавший о гибели Егорычева, как передовой отряд западной цивилизации, возглавляемый майором войск СС Фремденгутом, вырвался из тесной просеки на оперативный простор широкой, поросшей травой площади Нового Вифлеема. Первым делом Фремденгут с пистолетом и Мообс и Кумахер с автоматами в руках бросились к Большой мужской хижине. Но никаких следов ни Смита, ни боеприпасов, ни багажа в Большой мужской хижине не оказалось. Сведения, данные Фремденгуту тремя отщепенцами Нового Вифлеема, по-видимому, устарели. Судя по всему, Егорычев со Смитом куда-то предусмотрительно перебазировались.
Выглянувшие на шум островитяне, завидев людей в черных одеждах, не мешкая, снова нырнули в свои хижины.
Только преподобный отец Джемс, хотя и его подмывало спрягаться подальше от этих неприятных гостей, заставил себя все же приблизиться, чтобы приветствовать их в Новом Вифлееме и узнать, не может ли он оказаться им чем-нибудь полезным.
— Куда они девались? — спросил его Фремденгут, еле кивнув в ответ на приветствие колдуна. Как всегда во время подобных операций, майор был по-профессиональному деловит и немногословен.
— О ком вы спрашиваете, сэр? — осведомился старик, выгадывая время, чтобы собраться с мыслями. Он беспокойно оглянулся. Если не считать незваных пришельцев с Северного мыса и Полония с Розенкранцем, воровато выглядывавших из полумрака просеки, на площади никого не было. Конечно, если говорить о взрослых. Мальчишки были не в счет. Мальчишек собралось человек пять. Они словно выросли из-под земли и сейчас о чем-то тревожно шушукались, держась на почтительном расстоянии от сердитых белых, размахивавших своими страшными мушкетами. Нужно ли говорить, что среди них был и юный Боб Смит?
— Ты знаешь, о ком я говорю, — сказал Фремденгут. — Говори, старая лиса, куда они перебрались! Они нам очень нужны, оба ваших белых…
— С добром или злом пришли вы сюда? — спросил отец Джемс, чувствуя, что у него подгибаются колени.
— Не твое дело, дубина! — пощекотал его Мообс дулом автомата, и старик похолодел от ужаса. — Тебя спрашивает белый, отвечай без лишних разговоров.
— Они гости Нового Вифлеема, — сказал отец Джемс.
— Ты что, шутить с нами собираешься, старая скотина?! — учтиво улыбнулся Фремденгут, взводя курок пистолета. Его беспокоило, что где-то поблизости должен был находиться Смит, вооруженный автоматом.
— Они гости Нового Вифлеема, сэр! — твердо повторил старик, слишком поздно понявший, что не следовало ему, пожалуй, снимать дозоры с северных подступов. — Не в обычаях Нового Вифлеема подвергать своих гостей опасности. И еще…
— Что еще? — дал, наконец, волю своим нервам Фремденгут. — Что еще?…
— И еще, сэр, я хотел бы сказать, что я человек, а не скотина. А человек создан по образу и подобию…
Он не успел договорить до конца, по чьему образу и подобию создан человек, потому что майор фон Фремденгут выстрелом в упор уложил старика на месте.
Это был на редкость тихий выстрел, как всегда, когда дуло пистолета приставлено к самой груди человека. И нет поэтому ничего удивительного, что ни Егорычев, ни Смит, склонившийся над только что пришедшим в себя Егорычевым, этого выстрела не услышали.
Как раз в это время из просеки вышел на площадь мистер Эрнест Цератод. Его немножко поташнивало от возбуждения. При виде убитого колдуна, валявшегося возле Большой мужской хижины, ему чуть не стало дурно. Очень большим напряжением воли он все же взял себя в руки.
Ему было бы спокойней, если бы на площади оказался хоть один представитель местного населения, но даже мальчишки, лишь только раздался выстрел Фремденгута, разбежались. Конечно, можно было согнать народ, но на это пришлось бы потратить время, а время было очень дорого. Вся операция была рассчитана на внезапность, стремительность и презрение к подавляющему численному превосходству туземного населения. Но где-то поблизости находился кочегар Смит, и Цератоду становилось не по себе при мысли, что его могут подстрелить из автомата, да еще не кто иной, как вышедший из повиновения член его собственного профсоюза. Кроме того, как ни были уверены авторы плана операции в том, что никакого сопротивления со стороны туземцев нечего опасаться, было ясно, что с каждой лишней минутой эта опасность возрастала. Поэтому надо было спешить. Тем более, что площадь была не так уж велика, утро было на редкость тихое и не было сомнения, что все жители Нового Вифлеема притаилась у самых выходов из своих хижин, чтобы видеть и слышать, что происходит по ту сторону двери.
— Слушайте, слу-шай-те все! — прокричал приятно возбужденный Мообс, приставив ладони ко рту воронкой. — Слу-шай-те, люди Нового Вифлеема! Сейчас бу-дет огла-шен мани-фест мистера Роберта Фламмери, которого вы называ-ете Бело-голо-вым!..
При этих словах он извлек из брючного кармана сложенную вчетверо бумагу, развернул ее, разгладил дрожащими руками и громким, четким голосом прочел нижеследующее:
— «Возлюбленные братья мои во Христе, дорогие граждане Нового Вифлеема! Я, Роберт Фламмери, прозванный вами Белоголовым, шлю вам свой привет и пастырское благословение. Смута и беспорядки, внесенные в вашу мирную жизнь желтобородым слугой дьявола и ею приспешниками Сэмюэлем Смитом и Гамлетом Брауном, наполняют мое сердце глубокой скорбью. Увы, не послушавшись моих отеческих советов, вы пошли на поводу у желтобородого. Вопреки основным принципам демократии вы, опять-таки под наущением желтобородого, самовольно лишили звания старейшин достойнейших из ваших граждан, тех, которых вы по заслугам возвели в это звание всего лишь прошлой субботой. Что это, как не анархия, беспорядок, междоусобица? И что это, как не тягчайшее оскорбление меня? Ибо кому не известно, как лестно я отзываюсь о Гильденстерне, Розенкранце и Полонии. Больше того, вчера вечером пятеро старцев, введенных в заблуждение все тем же желтобородым и его приспешниками, явились в Священную пещеру, дабы оскорбить меня обвинениями в поступках, которые являются плодом домысла людей, глубоко мне враждебных.
Можно ли оставить ваши вольные и невольные прегрешения без достойного наказания? Я всю ночь возносил молитвы к престолу господнему, я умолял его простить вас, ибо вы неразумны, а слуги дьявола лукавы и коварны. Но господь бог требует от меня мер суровых, и единственное, в чем он уступил горячим просьбам моим, это некоторое смягчение наказания, да и то в том случае, если вы беспрекословно выполните следующие мои требования.
Первое. Немедленно выдать мне мистера Константина Егорычева, прозванного вами желтобородым (все равно, живого или мертвого), а также выдать упомянутых выше Сэмюэля Смита и Гамлета Брауна. Сэмюэль Смит и Гамлет Браун должны быть приведены в Священную пещеру в связанном виде и со всеми вещами, которые Смит совместно с Егорычевым унес из Священной пещеры.
Второе. Все взрослое население Нового Вифлеема должно немедленно принести торжественную присягу на верность демократии, справедливости, законности, на полное и беспрекословное послушание своим старейшинам Полонию, Гильденстерну и Розенкранцу, а через их посредство и мне, ибо нет у меня, согласно договору от девятого июня сею года, другой цели, как ваше благополучие и процветание, другой задачи, как цивилизовать и подготовить ваш остров в конечном счете к независимости.
На то, чтобы выполнить все перечисленные выше требования, вам дается срок до рассвета завтрашнего дня.
Если же к указанному сроку вы требований моих не выполните, то да будет ваш удел таким, каким вы его заслуживаете.
Подписал Роберт Джильберт Фламмери, верховный правитель острова Взаимопонимания и любящий брат ваш-во Христе.
В Священной пещере. 13 июня, в лето от рождества милосерднейшего господа нашего одна тысяча девятьсот сорок четвертое».
— Эй вы, возлюбленные братцы, черт вас подери! — весело заорал Мообс, закончив чтение. — Вы запомнили, что вам здесь прочитали? Помните: чтобы все было сделано к завтрашнему утру!.. А теперь, джентльмены, с вашего разрешения будет сожжена каждая третья халупа вашего селения, чтобы вы знали, что господь бог не собирается играть с вами в пинг-понг… А если, не дай вам бог, вы к утру не сделаете того, что вам приказал мистер Фламмери, то можете все. искать себе другие квартиры в другой, местности!.. Ребята, начинайте с богом!..
При этих словах Полоний и Розенкранц, пугливо озираясь по сторонам, выбежали из полумрака просеки с самодельными факелами, любовно изготовленными фельдфебелем Кумахером из палок, обмотанных с одного конца тряпками, обильно смоченными керосином. Чиркнула зажигалка, факелы вспыхнули желтым и неярким пламенем, окруженным черным нимбом копоти. — Каждую третью! — напомнил им Фремденгут. — И пошевеливайтесь!
Сопровождаемые благодушно улыбающимся Кумахером, Розенкранц и Полоний со всех ног кинулись к третьей от западной окраины хижине. Словно они только этим всю жизнь и занимались, Розенкранц резво подбежал к левой кровле низко опускавшейся крутой крыши, Полоний, не сговариваясь, остановился у правой. Они по нескольку раз коснулись факелами сухой, как порох, серо-желтой крыши, и еле видные огоньки, зловеще потрескивая, расплылись и потекли в стороны и наверх к высокому коньку по мгновенно черневшей кладке из пальмовых листьев.
Из хижины выскочил ее хозяин — Бенедикт Дарк, еще не старый, тщедушный человек с резко выступавшими ключицами. Он тащил за руку упиравшуюся жену и мальчика лет семи. Другого ребенка, совсем маленького, обезумевшая женщина несла, судорожно прижав к груди. Никто из них, ни взрослые, ни дети, не проронил ни звука: так они были потрясены. Бенедикт заботливо отвел жену и детей в сторону, после чего бросился голыми руками срывать горевший верхний слой пожухнувших листьев.
— Не надо! — мягко остановил его Кумахер и приставил к его сухой спине с очень худыми лопатками прохладное дуло автомата. — Брось! Тушить не надо.
Тогда Бенедикт метнулся в хижину и спустя несколько мгновений появился, нагруженный козьими шкурами и первым попавшимся под руки скарбом.
— Не надо! — с прежним благодушием промолвил Кумахер, снова наводя на него автомат. Левой рукой он отобрал у несопротивлявшегося островитянина и одно за другим швырнул в горевшую хижину все, что тот пытался спасти. — Говорят же тебе, дурачок, что не надо… Ничего не надо делать…
Тогда хозяин пылавших балок и старых прессованных пальмовых листьев в третий раз прыгнул в свое обреченное жилище и вынырнул из пламени и дыма задыхающийся, полуослепший, обожженный, с горевшими волосами. Теперь у него в руках была только одна вещь — копье. Он размахнулся и швырнул его в Кумахера. Но копье, брошенное полуослепшим человеком, пролетело мимо цели.
— Сопротивление! — заметил Кумахер таким тоном, словно несчастный островитянин сделал ему личное одолжение, и экономной автоматной очередью уложил на месте бывшего хозяина уже несуществовавшего жилища.
— Теперь к следующей! — скомандовал Кумахер своим факельщикам. Он рысцой последовал за ними, с осуждением думая о вдове и сиротах убитого, которые все еще стояли с окаменевшими лицами, молча вглядываясь в того, кто минуту тому назад был их мужем и отцом. — Какие-то бесчувственные животные! — брезгливо оттопырил он и без того выступающую вперед нижнюю губу. — Действительно, низшая раса! — С гордостью, умилением и нежностью он представил себе, как горько рыдали бы, осыпая поцелуями его тело еложена и егодети, если бы, не приведи господь, стали свидетелями его смерти.
У следующей хижины, обреченной на сожжение, произошла небольшая заминка.
— Это моя хижина, — доверительно прошептал Полоний Кумахеру.
— Это его хижина, — пояснил Розенкранц, — хижина Полония… Ее не надо жечь…
— Пусть твоя семья выйдет на воздух, — сказал Кумахер Полонию.
— Они куда-то ушли… Все ушли… — ответил Полоний.
— Каждая третья хижина должна быть сожжена, — сказал Кумахер. — Разве ты не помнишь приказ господина майора?
— Но ведь это моя собственная… — начал было Полоний и завял на половине фразы: Кумахер поднимал автомат.
В это время позади них, у полусгоревшей уже хижины, раздался пронзительный женский крик, рыдания и детский плач. Это пришли, наконец, в себя и бросились обнимать еще теплое тело убитого вдова и старший сын Бенедикта Дарка.
— Приказано стрелять в тех, кто будет сопротивляться уничтожению его жилища, — наставительно сообщил фельдфебель Полонию. — Сжигаться будет каждая третья хижина, кому бы она ни принадлежала. Это в высшей степени справедливо… И никому не обидно…
— Поджигай, чего там! — бодро посоветовал Розенкранц Полонию. За свою хижину он был спокоен: она была восьмой с краю. — Поджигай, мы потом заставим построить тебе новую хижину, получше этой.
Он поднес факел, и крыша вспыхнула. Но вспыхнула только с одной, с левой стороны. Это был непорядок.
— Ну? — терпеливо, но строго обратился Кумахер к Полонию. — Ну, не будь глупым, Полоний!.. Ну, не серди меня!..
И снова стал медленно подниматься черный кружок дула, из которого только что уже вылетела одна смерть.
И так же медленно, не в силах оторвать взор от этого страшного кружка, двинулся на одеревеневших ногах Полоний к правому скату крыши. По его потному лицу стремительно, не задерживаясь, скатилось несколько мутных слезинок. Он уговаривал себя, что все это и на' самом деле не так уж страшно, что как только он снова станет старейшиной, он заставит односельчан построить ему новую хижину, еще получше этой… А если они заупрямятся, то он позовет Кумахера с автоматом или даже самого белоголового, и ему тогда обязательно построят… И все-таки очень, очень жалко… Легко Розен-кранцу уговаривать… Хотелось бы посмотреть, как он стал бы поджигать свою хижину… А впрочем, что сейчас думать! Поздно! Уже почти вся крыша в пламени… А может, он ошибся в подсчетах, и хижину Розенкранца тоже будут сжигать?..
От последней мысли ему стало несколько легче на душе. Он ткнул головней в кровлю, тупо посмотрел на пылавшую крышу, на занявшиеся уже низкие бамбуковые стены, вздохнул, повернулся, полный теперь яростного желания поскорее и поосновательней сжечь все подлежащие сожжению хижины, чтобы не только ему одному остаться без жилья.
— Следующую? — спросил он у Кумахера.
— Следующую, сынок, следующую.
— Интересно, где Гильденстерн?
— В самом деле, — сказал Кумахер. — Что-то его долго не видно…
— Прячется в кустах, — хихикнул Розенкранц. — Пока мы тут будем работать, он немножко выспится.
— Бегом, бегом! — прикрикнул на них издали Фремденгут. — Вы что, здесь до вечера собираетесь задерживаться?!
Поджигатели послушно перешли на самый быстрый аллюр.
Фремденгут с пистолетом, Мообс с автоматом, стоя посредине площади, наблюдали за тем, чтобы ничто не помешало экзекуции.
Выскочили на воздух и скрылись где-то на задах деревни несколько мужчин, человек пять мальчишек. Их было невозможно остановить и еще невозможней догнать. Один раз Мообс, которому явно не терпелось пострелять из автомата, выпустил довольно длинную очередь по мальчишке. Но тот, выбежав из хижины, сразу сделал крутой вираж и с быстротой стрижа пропал в густой стене первозданного леса, словно канул в море. Другой раз Мообс чуть не попал в мужчину лет тридцати пяти. Он очень огорчился своему промаху. Ему было неудобно перед Фремденгутом. Можно себе представить, насколько огорчительней было бы Мообсу, если бы он узнал, что промазал, стреляя по Гамлету Брауну. Мообсу показалось даже, что у этого человека в руках были лук и стрелы. Но так как в таком случае еще больше усугублялась его вина, Мообс счел целесообразным не доводить свои подозрения до сведения Фремденгута. Хорошо еще, что Фремденгут смотрел в тот момент совсем в другую сторону.
Барон нервничал. Его смущало, что пропал Гильденстерн. Он должен был уже давно вернуться. Смущало, что кругом было так тихо. Куда правильней все-таки они делали в Европе — раньше сгоняли жителей в одно место, а уже потом спокойно жгли дома. Пожалуй, не следовало объявлять, что будет уничтожен каждый третий дом. Это слишком затянет экзекуцию. Слишком много времени дается жителям на размышления. Теряется эффект внезапности, переживания населения размазываются, вместо того, чтобы стать стремительной, почти мгновенной душевной травмой… Если бы можно было найти пристойный повод уйти сейчас из Нового Вифлеема!.. — Бегом, черт вас подери!.. Бегом!..
Вот уже всего несколько шагов отделяет факельщиков от девятого дома. И вдруг Полоний с ходу ничком падает в высокую траву, испещренную веселыми созвездиями чудесных, ярчайших цветов. Он падает и, видимо, не думает вставать. Уж не сломал ли себе этот болван ногу? Только этого не хватало…
Но нет, тут что-то не то. Вот шлепнулись в траву и Розенкранц и Кумахер. Кумахер стреляет в густую чащу леса, в просторный просвет между восьмым и обреченным на сожжение девятым домом. Фремденгут, Мообс и Цератод бросаются к Кумахеру. Пока первые два открывают частый бесприцельный огонь, Цератод лежит, уткнувшись лицом в душистую траву, и ругает себя за то, что согласился наблюдать за этой карательной экспедицией. Небось сам Фламмери нашел основание для того, чтобы не покидать Северный мыс. Видите ли, нельзя оставлять пещеру без присмотра! Одно из двух — или ты правитель острова, или вахтер… В крайнем случае, могли бы и оба остаться.
Цератод слегка приподнимает голову и видит шагах в пяти правее себя недвижное тело Полония со стрелой, торчащей у него между лопатками, как стебель какого-то неизвестного и дьявольски неприятного цветка. Бр-р-р, противно!..
Щедрый огонь двух автоматов и пистолета не вызвал в ответ ни единой стрелы из пространства, подвергнутого обстрелу. Зато стрелы запели с обоих флангов. Кто-то стреляет из-за углов ближайших хижин. Мообс и Кумахер переносят огонь на фланги. И вдруг — автоматный обстрел с тыла. Поскольку Егорычев убит, ясно, что стреляет Сэмюэль Смит.
Фремденгут поспешно производит перестановку сил. Против Смита выдвигается Кумахер, левый фланг он берет на себя.
Тихо вскрикивает и разражается потоком жесточайших проклятий Джон Бойнтон Мообс. Он ранен пулей пониже спины. Только царапнуло, но все-таки больно… Он осторожно дотрагивается рукой до раны, потом смотрит на ладонь — она в крови, словно он окунул ее в бочку с красной краской. Его пугает, как бы у него не сделалось заражение крови. А вдруг столбняк? От этих опасений Мообс еще больше стервенеет. Он стреляет в мальчишку лет девяти, который неосторожно высунулся из хижины, чтобы посмотреть, что делается на площади. На этот раз Мообс выстрелил удачно. Это первая боевая удача Джона Бойнтона Мообса. Мальчик падает с перебитым плечом и повисает на высоком пороге. Из его плеча хлещет кровь. Он не плачет. Очевидно, он потерял сознание. Плач доносится из глубины хижины. Женский плач. Изнемогая от горя и страха — ей очень боязно высовываться из двери прямо под огонь автомата, показывается в темном четырехугольнике входа плачущая женщина. Стараясь не смотреть в ту сторону, откуда стреляют, она нагибается, осторожно подхватывает сына под мышки и скрывается с ним в спасительном полумраке хижины. Мообс испытывает сильнейшее желание подстрелить и ее, но только он начал прицеливаться, как над самой его головой, путаясь и звеня в высокой траве, пролетает одна стрела, за нею другая, третья. Мообс, помимо желания, зажмуривается и упускает легко уязвимую цель.
Вдруг издалека, с юга, доносится нарастающий гул приближающихся голосов. Розенкранц прислушивается, мрачнеет, быстро подползает к Фремденгуту и что-то шепчет ему на ухо.
— Глупости! — говорит Фремденгут. — Они никогда не посмеют.
— Нет, правда, сэр. Они всегда прибегают на помощь, когда у нас пожар… С топорами, с баграми, как полагается…
— С топорами они не опасны…
— Вот они, вот они! — горячо шепчет Розенкранц и сереет от волнения. — О, они совсем не с топорами!.
Действительно, из южной просеки выбегает человек сорок вооруженных островитян. Это люди Доброй Надежды. Они останавливаются у самого входа из южной просеки на площадь, ждут, когда подтянутся отставшие. Фремденгут понимает, что они попытаются обойти его сфлангов, и если им удастся раньше белых добраться до противоположной просеки, они начисто отрежут путь отхода к Северному мысу.
— Отходить к просеке!.. Быстро!.. Перебежкой по одному! — вполголоса приказывает Фремденгут.
Первым перебегает Кумахер. Он будет обеспечивать огнем перебежку остальных членов карательной экспедиции. За ним сразу пускается в опасный путь майор Эрнест Цератод. Пот катится с него в три ручья. Сердце колотится, словно вот-вот вырвется из груди. Кажется, еще мгновенье, и Цератода хватит апоплексический удар. Вслед ему летят стрелы, но падают обессиленные, не настигнув его. Он петляет, как заяц, то и дело припадает к земле, бежит на четвереньках, снова вскакивает на ноги… Фу! Слава богу! Благополучно добежал!..
Фремденгут торопится. Надо перебежать до того, как к Северной просеке успеет пробиться сквозь густые заросли взбунтовавшийся кочегар Сэмюэль Смит.
Но вот перебежали и Фремденгут с Розенкранцем. Мообс остается один, если не считать темнеющего рядом и уже успевшего остыть Полония. Мообс лихорадочно обдумывает, как бы ему перебраться к своим с наименьшим риском. Его взгляд падает на факелы; они валяются в траве, но не потухли. Густая, черная копоть поднимается от них над травой и цветами, как жала невидимых злых чудовищ. Мообс чуть приподнимается и один за другим швыряет оба факела в ближайшие две хижины.
На противоположной стороне вскрикивает Розенкранц: одна из этих хижин, та, которая справа, принадлежит ему.
— Ничего, Розенкранц! — успокаивает его Кумахер. — Ты потом заставишь построить себе хижину еще получше этой.
Розенкранц теперь вдвойне безутешен: точно такие же слова он недавно говорил покойному Полонию. Плохая примета! Ах, какая плохая примета!
Расчет Мообса оказывается правильным. Внимание его противников отвлекается факелами, грозящими спалить и эти две хижины. Несколько человек вскарабкиваются на крыши и тушат огонь. А пока что Мообс, отстреливаясь и проклиная на чем свет стоит и проклятых дикарей, и гусака, и Фремденгута, и старикашку, и этого нафаршированного самодовольством колбасника Кумахера, отрывается от преследователей и вскоре, злой, запыхавшийся, укрывается в прохладном полумраке покатой Северной просеки.
Надо бы перевязать ему рану. Но на ходу это сделать никак невозможно, а задерживаться нельзя: могут нагнать. Фремденгут дает ему свой носовой платок (из всех предложенных к использованию в качестве перевязочного материала он оказался наиболее чистым), и Мообс всю обратную дорогу держит этот носовой платок ниже спины, тесно прижатым к ране.
Когда они, наконец, появляются на площадке Северного мыса, мистер Цератод и Мообс с жадностью кидаются пить воду. В промежутке между пятым и шестым стаканом Мообс говорит мистеру Фламмери:
— Надо немедленно придумать что-нибудь порешительней и поэффектней. Если нам дорог наш авторитет в глазах местного населения… И прежде всего следует ликвидировать Сэмюэля Смита… Он окончательно продался большевикам.
— Сейчас мы обо всем потолкуем, — говорит мистер Фламмери. — Вы не возражаете, барон?
Фремденгут молча кивает головой в знак согласия.
XIX
Когда до Сэмюэля Смита донесся шум схватки где-то совсем близко от пещеры, он схватил автомат, выбежал наружу и увидел Егорычева, недвижно лежавшего в луже крови, и склонившегося над ним Гильденстерна, который собирался, исключительно для собственного удовольствия, ударить ножом еще разок-другой. — Стой! — крикнул кочегар. — Стой!.. Стрелять буду!..
Гильденстерн не ожидал увидеть кого-нибудь в этом укромном уголке, и меньше всего он, конечно, мечтал о встрече со Смитом. Жалкое мужество отчаяния, которое дало ему силы напасть исподтишка и зарезать беззащитного, по существу, человека, вмиг оставило его, лишь только он увидел бежавшего прямо на него черноусого. Неизвестно, что стало бы с ним, если бы он послушался окрика кочегара. Но вместе с мужеством его оставила и сметка. И вместо того чтобы бежать налево, по короткому маршруту, в сторону площади, где уже в это время орудовала карательная экспедиция Фремденгута, он кинулся направо в гору, по более дальнему маршруту, к той лазейке в чаще, откуда он только что сюда проник.
Смит нагнал Гильденстерна, когда тот, согнувшись в три погибели, уже приготовился нырнуть обратно в эту лазейку…
Не вытерев приклада, Смит бросился к Егорычеву. Тот по-прежнему лежал без движения, глаза его были закрыты, лицо пожелтело.
«Умер!» — пронеслось в мозгу у Смита. От этого предположения ему стало не по себе.
Этот немногословный, немолодой и совсем не восторженный англичанин, которого жизнь, полная трудов, разочарований и горькой неуверенности в завтрашнем дне, еще с юношеских лет отучила от скоропалительных дружб, за какие-нибудь несколько дней не только проникся искренним уважением к этому молодому русскому офицеру, но и, как это ни удивительно было самому Смиту, по-настоящему к нему привязался. Привыкший отдавать себе отчет во всех своих поступках и настроениях, он все чаще задумывался над тем, чем вызваны его добрые чувства к Егорычеву. Поначалу ему представлялось, что все дело в общности их профессий, что его влечет к Егорычеву, как моряка к моряку. Потом ему стало казаться, что главное в Егорычеве не то, что он моряк, а то, что это хороший, прямой и решительный человек, веселый и добрый товарищ. Вскоре Смит смог прибавить к списку его положительных качеств еще три немаловажных, с точки зрения Смита, качества: честный антифашист, справедливый и бескорыстный в своих делах и словах. К глубочайшему своему сожалению, Смит вынужден был по зрелом рассуждении отказать во всех этих достоинствах даже Эрнесту Цератоду. А о Фламмери и Мообсе и говорить не приходилось.
Возможно, что другой на месте нашего кочегара удовлетворился бы этими выводами. Но Смит продолжал свои размышления. По существу, именно раздумьями на эту тему и заполнены были долгие часы его дежурств на Северном мысу. Он нашел среди знакомых ему людей по крайней мере нескольких, обладавших всеми перечисленными выше качествами. Например, доктор Перкинс, почти даром лечивший его жену, когда она захворала воспалением легких. Или взять хотя бы трюмного машиниста Пата О'Брайана, с которым они дружили на «Айрон буле». Чего же им все же не хватало в сравнении сего новым другом, Константином Егорычевым?.. Так кочегар Смит пришел после долгих раздумий к принципиально совершенно новому выводу об органичной социалистической направленности всех высказываний и поступков Егорычева.
Теперь уже никого не должно удивить, почему Смит готов был воспринять смерть Егорычева, как гибель самого близкого человека. За те несколько секунд, которые прошли с момента, когда убитый горем Смит опустился на колени перед плававшим в луже крови Егорычевым, чтобы прислушаться, не бьется ли у него все-таки сердце, и до того, как тот медленно раскрыл глаза, в голове кочегара пронеслось несколько весьма примечательных мыслей. Но не было среди них мысли о том, что теперь, дескать, хочешь не хочешь, а приходится возвращаться на Северный мыс, к «своим». Он понимал, что Гильденстерн, вонзая нож в Егорычева, только творил волю Фламмери и Фремденгута и они стали ему еще более ненавистны. Он с грустью подумал, что сопротивление островитян черным замыслам обоих джентльменов сильно осложнилось сгибелью человека, который так бесстрашно и бескорыстно помогал людям острова Разочарования. И еще он подумал, что хотя он, Смит, и будет прилагать все свои силы, никогда ему, пожалуй, не заменить в этом благородном деле товарища Егорычева. Но он будет стараться всегда поступать так, как поступил бы на его месте товарищ Егорычев. Он мысленно дал себе самому в этом торжественную клятву, этот суровый и меньше всего склонный к патетическим высказываниям английский кочегар.
Но вот Егорычев раскрыл глаза.
— А, старина! — промолвил он. — Это вы!.. Тут Гильденстерн…
— Вы живы! — восторженно воскликнул кочегар. — Если бы вы знали, какой вы молодец, что вы живы!..
— Я сам склоняюсь к этой мысли… Понимаете, этот проклятый Гильденстерн…
— Он уже пять минут как покойник… Боже мой, да чего же я тут топчусь… Ведь вас надо поскорее перевязать…
Отдадим должное предусмотрительности Егорычева: еще на Северном мысу он преподал посмеивающемуся Смиту («Ну, право же, это совсем ни к чему, мистер Егорычев!») основные правила подачи первой медицинской помощи в бою.
Сильнее кровоточила рана на ноге, и именно с нее начал свою первую в жизни обработку ран кочегар Сэмюэль Смит. Но еще раньше он расстегнул китель и разрезал тельняшку Егорычева, чтобы тот мог покуда прижимать вату к своей второй ране.
Кругом было тихо. Беззвучно порхали огромные бабочки с неправдоподобно яркими крылышками, уютно стрекотали какие-то близкие родственники наших кузнечиков, неподвижно зеленели высоко над головой Егорычева лохматые кроны кокосовых пальм. Трудно было представить себе более безмятежное утро…
И вдруг слева, со стороны площади Нового Вифлеема, протараторила короткая автоматная очередь.
— Автомат! — встрепенулся Егорычев. — Вы слышали, Смит? Он скосил глаза в сторону деревни и увидел два столба дыма. Он попытался подняться, но это ему оказалось не по силам.
— Ну, идите же! — сказал он, видя, что Смит не решается оставить его одного. — Ползком!.. По-пластунски!..
Кочегар быстро спустился по откосу к окраине Нового Вифлеема и так же быстро вернулся.
— Они напали на деревню!
— Отдавайте мне бинты и идите!
— Вы ранены. Вас нужно перевязать.
— Пришлите какую-нибудь старуху… Идите! Сейчас ваш автомат не только оружие, но и моральный фактор… Патронов захватите побольше и бегите туда поскорее. Бегите, товарищ Смит!
— Бегу, товарищ Егорычев!
В это время ниже по склону, там где он переходил в просторную площадь Нового Вифлеема, стрела, точно пущенная Гамлетом Брауном, оборвала навеки цивилизаторскую деятельность Полония. Сразу затрещали оба автомата и пистолет карателей, и чуть попозже в бой включился и Смит со своим автоматом.
Теперь со стороны деревни явственно доносились крики воинов, женский и детский плач.
Прошло еще две-три минуты, послышались легкие шаги, и над Егорычевым, беспомощно лежавшим с пистолетом в ослабевшей руке, нагнулась голенастая старуха с добрым широким лицом.
— Ты жив, желтобородый?
— Помоги мне встать!
Заскрипев зубами от боли, он все же при ее помощи заставил себя подняться на ноги.
— Подведи меня к пещере… пожалуйста! — сказал он старухе. Старуха правой рукой обняла его за талию, левой взяла его за левый локоть, словно собираясь танцевать с ним польку-кокетку. Егорычев тяжело откинулся на ее крепкие и жилистые руки, и они томительно-медленно побрели.
— Кто это тебя? — спросила старуха.
— Гильденстерн.
— Он тут поблизости лежит. Это ты его убил? Егорычев отрицательно промычал.
— Но это хорошо, что его убили, — сказала старуха. — Люди Нового Вифлеема будут довольны, когда узнают, что его убили…
Она удобно усадила его у входа в пещеру, прислонив спиной к чуть прохладной скале, вынесла ему автомат, несколько гранат. Запалы он по старой фронтовой привычке всегда носил при себе, в боковом кармане кителя. Он зарядил гранаты, разложил их с расчетом, чтобы они были у него под рукой, и сказал:
— Спасибо!.. Теперь пусть только сунутся сюда!
Ужасно неудобно было левой рукой прижимать набрякшую вату к груди. Мешал топорщившийся борт кителя. Егорычев поежился. Старуха сказала:
— Дай, я сниму с тебя твой… — она запнулась, так как не знала, как назвать китель, — твой камзол… Тебе будет легче.
— Сними, пожалуйста, — сказал Егорычев.
От потери крови он ощущал сильную слабость. Его начало клонить ко сну.
В деревне стало тихо. Они тревожно прислушались. Потом оттуда донеслись торжествующие крики многих десятков голосов. У Егорычева отлегло от сердца.
— Их прогнали, — расплылась в улыбке старуха и стала неумело стаскивать с него обильно пропитавшийся кровью китель. Егорычев старался поменьше двигаться. На его тельняшке медленно росло темно-вишневое липкое пятно. Вата набухла от крови и стала ощутимо тяжелее. Надо бы сменить, да маловато ее. Придется экономить. Не надо только двигаться без самой крайней нужды, тогда будет меньшая потеря крови. У него хорошая кровь: отлично свертывается. Ее хвалили еще в Инкерманском госпитале, под Севастополем. Под Севастополем… «Как это страшно далеко: Се-ва-сто-поль, — думает Егорычев и чувствует, что начинает засыпать. — Ни в коем случае не надо засыпать. Надо раньше поговорить со Смитом, с Гамлетом и всеми, кто дал отпор налетчикам из Священной пещеры. Молодцы какие!.. Орлы!.. Как бы они только не успокоились на своей победе. Не таковы Фламмери и Фремденгут, чтобы угомониться. Вероятно, они уверены, что Гильденстерн меня прикончил».
Старуха видит, что глаза Егорычева медленно закрываются, и ее охватывает испуг. Ей кажется, что он умирает. Такой хороший человек!
Она осторожно трогает его за плечо. Егорычев снова открывает глаза.
— Может быть, дать тебе напиться, желтобородый? — спрашивает старуха.
— Дай, пожалуйста, напиться, — отвечает Егорычев.
Он с жадностью выпивает стакан тепловатой воды, которую старуха приносит ему из пещеры. Вот черт! А ему почему-то представилось, что в пещере не осталось воды. Теперь он чувствует себя крепче.
Егорычев кладет на траву пистолет, который, и засыпая, не выпускал из руки, расстегивает английскую булавку и вытаскивает из левого бокового кармана кителя толстую записную книжку, которая до шестого июня принадлежала Фремденгуту. Теперь понятно, почему удар Гильденстерна, нацеленный прямо в сердце, все же оставил Егорычева в живых. Нож проткнул толстый кожаный переплет, но не в силах был пробить двести тоненьких листков бумаги, скользнул в сторону, и вот вместо смертельного ранения в сердце — болезненная, но неглубокая и неопасная резаная рапа. Если бы барон фон Фремденгут узнал, что Егорычев не только остался жив, но и обязан своим спасением не чему другому, как его, барона фон Фремденгута, записной книжке!..
Егорычев просит подложить китель ему за спину, чтобы мягче было опираться, и начинает терпеливо объяснять старухе, как пользоваться йодом и индивидуальным пакетом для перевязки раны.
За этим занятием их и застают Сэмюэль Смит, Гамлет Браун, юный Боб и еще человек двадцать островитян, в том числе все старейшины Нового Вифлеема и Доброй Надежды.
Предоставив Гамлету удовольствие ввести Егорычева в курс событий, Смит благодарит старуху и сам принимается за обработку второй раны своего друга. Он моет руки спиртом, тщательно очищает рану кусочком марли, смазывает ее йодом и собирается уже перевязывать, но Егорычев напоминает ему о стрептоциде. Смит извлекает из дерматинового ящичка походной аптечки пузырек с порошком стрептоцида и обильно засыпает рану этим порошком. Покончив со второй раной, он возвращается к первой. Надо, на сей раз безо всякой спешки, перевязать и ее по-настоящему, так, как требует наука. Он делает эту работу с видимым удовольствием и даже, можно сказать, со вкусом. Егорычев слушает рассказ Гамлета и думает, что, пожалуй, родись Сэмюэль Смит в Советском Союзе, был бы уже он давно врачом и, вероятно, совсем неплохим.
А Гамлет тем временем рассказывает, как он улучил минуту и выскочил из хижины и как он побежал снимать дозоры с южных и восточных подступов и вернулся с ними украдкой в деревню, и дал бой, и первым делом убил этого мерзавца Полония. И еще он рассказал, как ему встретился по дороге юный Боб Смит и потребовал, чтобы ему обязательно и немедленно дали какое-нибудь боевое поручение, и сам предложил, чтобы его послали в Добрую Надежду за помощью. Он послал Боба в Добрую Надежду и поручил ему сказать тамошним старейшинам, чтобы они смело шли против врагов из Священной пещеры, потому что желтобородый и черноусый на стороне людей Нового Вифлеема и у них тоже имеются мушкеты, да еще получше, чем у белоголового.
Боб Смит порывается сообщить дополнительные подробности. Егорычев обещает выслушать его, лишь только он отпустит старейшин. Вслед за этим он обращается к ним с вопросом, задумывались ли они над тем, что надо делать дальше, и уверены ли они, что белоголовый и его люди успокоятся на полученном сегодня уроке?
Оказывается, что как раз на эту тему и шел разговор, пока они поднимались сюда, к пещере. Гамлет от лица старейшин обеих деревень высказывает соображение, что следует немедленно послать гонцов в остальные три деревни, чтобы без малейшего промедления, сегодня же и еще задолго до полудня, пришли их старейшины обсудить дальнейший план совместных действий. Если у Егорычева нет возражений против этого предложения, надо сейчас же разослать самых быстроногих гонцов.
Егорычев с наслаждением слушает речь Гамлета Брауна, и ему становится весело, и в самом краешке глаз у него накатываются предательские слезинки. («Эх, и здорово же ты ослабел, товарищ Егорычев!») «Какие люди! — думает он с уважением и радостью, — какие настоящие, свободолюбивые и гордые люди! И как мелки рядом с ними Фламмери, Фремденгут и их прихвостни!..»
Конечно, он ничего не имеет против предложения старейшин. Он сам собирался предложить то же самое.
Из присутствующих выделяют шестерых наилучших бегунов, и они сразу же пускаются в путь.
Теперь Егорычев узнает о раненом мальчике. Сэмюэль Смит был бы счастлив оказать ему квалифицированную медицинскую помощь. Захватив с собой все необходимое для этого, кочегар в сопровождении Боба, который вызвался показать ему, где лежит раненый мальчик, спускается вниз, в деревню.
Когда у пещеры остаются лишь Гамлет да Егорычев, происходит сугубо секретный разговор о ребятах, которые должны следить специально за Фремденгутом.
Еще через полчаса двое мальчишек, искусно прячась в густом кустарнике, залегли в дозоре неподалеку от речки, отделявшей Северный мыс от остальной громады острова. Один из них был послан сюда Гамлетом Брауном, второй примкнул к нему уже в пути. Нужно ли говорить, что это был Боб Смит? У этого мальчика был сверхъестественный нюх на опасные и ответственные задания…
Шел восьмой час утра тринадцатого июня.
XX
В половине девятого утра в Священной пещере был выработан план второй операции. Она должна была сгладить неудачу первой, перекрыть ее по части стремительности и беспощадности и окончательно, раз и навсегда повергнуть к стопам правительства Роберта Фламмери все население, земли, недра, угодья и прочие богатства острова Взаимопонимания.
На сей раз нападение предполагалось учинить ночью.
— Внезапность, — объяснял автор плана майор фон Фремденгут, — должна сочетаться с молниеносностью, высокая организованность с полнейшей тишиной и скрытностью. Все хижины Нового Вифлеема должны вспыхнуть почти одновременно и еще до того, как их обитатели проснутся. А когда они спросонок начнут выбегать наружу, расстреливать, расстреливать, уничтожать их, как саранчу, не вдаваясь в тонкости, вне зависимости от пола и возраста. Но и не увлекаться: лишь только появятся первые признаки того, что туземцы начинают разбираться в обстановке, мы исчезаем так же скрытно, стремительно и бесшумно, как и появились. Если мы будем так действовать, успех обеспечен. 3а это говорит весь мой опыт.
Он не уточнял, о каком его опыте идет речь, но никто от него и не потребовал уточнения.
— Эту часть оздоровительной акции мы, белые, должны возложить исключительно на свои плечи, — продолжал Фремденгут, убедившись, что возражений против его предложения нет. — Что касается нашего цветного джентльмена, то ему придется потрудиться над тем, чтобы без излишнего шума отправить на тот свет кочегара Смита, Гамлета Брауна и, если останется время, по возможности и всех остальных старейшин, вообще всех тех, кто мог бы возглавить вооруженный отпор… Но, конечно, вы согласитесь, джентльмены, что в интересах подлинной секретности задание должно быть сообщено Розенкранцу не раньше чем за пять-десять минут до нашего выхода в поход.
Джентльмены согласились.
Фремденгут и Фламмери настояли на том, что Новому Вифлеему ни в коем случае нельзя давать возможность прийти в себя после утреннего налета, а потому надо, не считаясь с известным риском, нападать ближайшей же ночью.
Что до Цератода, то он от участия в обсуждении этого вопроса уклонился, сославшись на усталость и ноющую боль в области аорты.
Кумахер, в котором жил самый образцовый денщик эсэсовских войск, успел тем временем вскипятить кофе, собрать завтрак и выразить свою готовность выполнить любое приказание, которое господам офицерам угодно будет отдать.
Господа офицеры и приравненный к ним Мообс, который в качестве единственного раненого чувствовал себя в некоторой степени именинником, изъявили желание немедленно приступить к завтраку, чтобы потом отдохнуть часок-другой в холодке.
Так они и поступили. Первым прилег и моментально уснул Фремденгут, который, как истинный профессионал, приучил себя перед «такими» операциями хорошенько отсыпаться. Заснул и Мообс. По необходимости ему пришлось устроиться на животе. Это положение само по себе предрасполагает к тяжелым снам. А так как Мообс спал на животе после обильного и жирного завтрака, то и снились ему не просто тяжелые сны, а кошмары. То ему мерещилось, что мальчик, которому он прострелил сегодня плечо, стоит над ним с копьем в руке и уже занес это копье над ним, а он не может двинуть ни рукой, ни ногой. Он вскрикивает во сне, мальчик пропадает, и появляется мистер Фламмери, тычет ему в грудь пальцем, высовывает язык, показывает кукиш и говорит: «Так вот ты какой, Джон Бойнтон Мообс! Оказывается, ты ведешь тайный дневник и называешь меня, твоего благодетеля, твоего учителя, старикашкой!.. Ну что ж, пеняй на себя!.. Можешь больше не трудиться над своей книгой. Я сам буду теперь писать книгу о наших похождениях. Можешь быть уверен, что выйдет в свет не твоя, а моя книга. Это я тебе гарантирую…» Мообс во сне обливается горючими слезами, падает на колени, пытается целовать руки Фламмери, умоляет его посмотреть последние странички его дневника, где он хвалит мистера Фламмери, где он им искренне восторгается. Но мистер Фламмери дает ему пинка в зад, и сам молитвенно складывает ладошки, взмывает вверх и тает в голубизне небес… Теперь неведомо откуда вырастает Егорычев, бледный, весь в кровоточащих ранах, но улыбающийся. Он смотрит на Мообса, и Мообсу становится страшно. Мообс начинает подвывать, сначала тихонько, потом все громче и громче. Вот он уже воет во весь голос… «Не будьте идиотом, — говорит ему Егорычев, — хотя, пожалуй, это от вас не зависит!»
— Не будьте идиотом, — расталкивает Мообса Роберт Фламмери, — хотя, пожалуй, это от вас не зависит… Вы орете, будто вас ведут на электрический стул…
Мистеру Фламмери не спится. Быть может потому, что, пока остальные ходили в Новый Вифлеем, он успел вздремнуть.
На площадке неожиданно появляется снизу делегация в составе двух стариков. Они возникают из-за последнего завитка тропинки безоружные, с белым флагом на бамбуковой жерди, но отнюдь не со смиренным видом. Твердым и легким шагом они приближаются к мистеру Фламмери и вручают ему конверт, на котором написано: «Роберту Фламмери лично». Слово «лично» дважды подчеркнуто.
Вручая конверт, старики и устно обращают внимание мистера Фламмери, что заключенное в конверте послание адресовано лично ему и что желтобородый советует им впредь до ознакомления с содержанием письма не показывать его никому из своих сообщников. Старики так и сказали: «сообщников».
— Желтобородый?! — вскакивает мистер Фламмери на ноги с необычной для него резвостью. — Вы сказали: желтобородый?.. Разве он жив?
— Конечно, — подтверждает делегация. — Он жив, как мы с вами. А Гильденстерн мертв…
— Вы слышали? — трагически обращается Фламмери к Цератоду. — Егорычев… Этот мерзавец Гильденстерн…
Цератод горько усмехается. По существу, его совершенно отстранили от руководства. Всем взялся заправлять самодовольный и властолюбивый мистер Фламмери.
Так думает про себя Цератод, но молчит. Он только горько усмехается и пожимает плечами.
А старики, не дожидаясь, пока Фламмери вскроет пакет, без тени боязливости поворачиваются к нему спиной, проходят мимо растерявшегося Кумахера и начинают спокойным, размеренным шагом, ни разу не обернувшись, спускаться вниз по тропинке. Правда, примерно за третьим поворотом они вдруг исчезают, словно сквозь землю проваливаются. Но это никак не трусость с их стороны.
Это точное выполнение указаний, данных им Гамлетом. Это акт самого понятного благоразумия, так как нельзя поручиться, что, ознакомившись с содержанием пакета, мистер Фламмери вдруг не возымеет желания задержать их в качестве заложников.
Фламмери торопливо вскрывает конверт и вполголоса читает:
«Роберту Фламмери
Старейшины всех пяти селений свободного и независимого острова Разочарования собрались сегодня, тринадцатого июня, в 9 часов 30 минут утра в Новом Вифлееме, чтобы выслушать сообщение Гамлета Брауна и некоторых других о варварском и ничем не оправданном налете, произведенном на это селение вашими людьми под командованием майора войск СС гитлеровской армии Фремденгута. Старейшины обсудили создавшееся положение и согласились о мерах, которые в связи с кровавыми событиями сегодняшнего утра надлежит предпринять.
Нам поручено письменно уведомить вас о решениях, единогласно принятых на совещании старейшин в той части, в которой они касаются вас.
Не позже восьми часов завтрашнего утра вам надлежит:
1. Выдать для суда и наказания военных преступников- майора войск СС Фремденгута, фельдфебеля войск СС Кумахера и жителя Нового Вифлеема, предателя и поджигателя Розен-кранца Хигоата.
2. К тому же сроку сдать полностью и в неповрежденном состоянии все наличное оружие и боеприпасы.
В таком случае вам будет сохранена жизнь.
Это ни в коем случае не означает признания вашей непричастности к роковым событиям нынешнего утра. Наоборот, у нас нет ни малейшего сомнения, что налет на Новый Вифлеем вдохновлен и организован именно вами.
Но, воодушевленные желанием избежать ненужного кровопролития, старейшины все же сочли возможным сохранить вам жизнь, с тем чтобы в течение трех дней вы оставили остров. Для этой цели вам будет предоставлен прочный и достаточно просторный плот, оборудованный парусом, веслами и необходимым запасом продовольствия и питьевой воды. С вами должны покинуть остров Цератод и Джон Бойнтон Мообс.
С вашей стороны было бы самым печальным заблуждением предполагать, что великодушное решение старейшин- результат их боязни или неуверенности. Уже сейчас свыше полутораста воинов Нового Вифлеема и Доброй Надежды с нетерпением ждут сигнала, чтобы начать операции против людей, принесших так много зла Новому Вифлеему и собиравшихся спровоцировать междоусобную войну на всем острове. Через два часа их число вырастет до шестисот пятидесяти.
Мы взываем к вашему благоразумию. У нас с вами одинаковое количество огнестрельного оружия. Но не это самое важное.
Самое важное, что островитяне убедились на опыте, что и белые, вооруженные автоматами, бежали, как зайцы, от людей, вооруженных копьями, стрелами и волей сражаться за справедливость и свободу.
Еще раз повторяем: будьте благоразумны, и вы сохраните себе жизнь.
На тот случай, если у вас возникнет потребность предварительно поговорить с нами, приходите сегодня, в четырнадцать тридцать, в так называемую Священную воронку. Местность достаточно открытая и просторная, чтобы встретиться без боязни засады с любой стороны. Наше честное слово- гарантия вашей полной безопасности во время, этой встречи. Условие: приходите безоружными. И, конечно, оставив поименованных выше военных преступников в Священной пещере.
С уважением, которого вы заслуживаете.
Старейшины суверенного острова Разочарования.
Новый Вифлеем. 13 июня».
— Блеф! — говорит Фламмери, закончив чтение. — Большевистские фокусы!.. Эти негодяи…
— Тсс! — останавливает его Цератод и кивает на Кумахера, который с автоматом на шее, по эсэсовской моде, маячит у спуска в долину. — Мы всегда успеем информировать нашего милейшего барона.
— Эти негодяи, — продолжает Фламмери, понизив голос, — хотят внести в нашу среду раздор.
— И потом, — подхватывает Цератод, — как мы втроем с Мообсом управимся с плотом?
— Вот именно… Сто пятьдесят воинов!.. Шестьсот пятьдесят воинов!.. Да хотя бы и тысяча! Без Егорычева и Смита это просто стадо баранов!..
— Да, но и Егорычев и Смит, к сожалению, с ними.
— Значит, надо сделать так, чтобы их не было, чтобы…
Но тут внимание Фламмери привлекает нечто происходящее за ручьем. Он смотрит в бинокль, потом, не отрывая глаз от окуляров, кричит:
— Барон!.. Майор Фремденгут!.. Будьте любезны сюда на минутку!..
— В чем дело? — заинтересовался Цератод. — Что-то случилось?
Но Фламмери ему не отвечает. Он сует бинокль в руки подбежавшему Фремденгуту. Фремденгут смотрит в бинокль и видит Егорычева и Смита, которые бродят по лесу с лопатами в руках и с автоматами на ремне. Дальше, направо от Егорычева, мелькают время от времени несколько парнишек. В руках у них мотыги.
— Бьюсь об заклад, что они ищут ваши ящики! — кричит ему Фламмери, словно барон стоит где-нибудь на противоположном краю лужайки, а не рядом с ним. — Ищут широким фронтом!..
— Что вы, что вы!.. Какие ящики!.. Я вас не понимаю, — бормочет Фремденгут, встревожено оглядываясь на Цератода и только что подбежавшего на шум Джона Мообса.
— …и что, судя по вашему лицу, — продолжает торжествующим тоном Фламмери, — они не так уж далеко от цели…
Тут он замечает Мообса.
— Джонни, вам придется оставить нас на несколько минут. Мообс ушел, напевая под нос полюбившуюся ему «Ойру».
Проходя мимо сидевшего под деревом Розенкранца, он дал ему солидного пинка и громко вскрикнул: его же пинок отдался в его свежей ране. Розенкранц захныкал и поплелся подальше от Мообса.
— Дорогой Фремденгут, — сказал тем временем Фламмери, — хватит играть в прятки!
— Я вас не понимаю, мистер Фламмери… С вашего разрешения, я бы хотел сейчас спуститься вниз с Кумахером и попробовать ликвидировать обоих красных.
— Они не так глупы, чтобы разгуливать на виду у нас, не выставив дозоры… Так вот, Фремденгут, хватит играть в прятки… Ящики — будем называть этоящиками — должны быть пущены в ход…
— Какие ящики? — вмешивается Цератод. — Вы все время что-то от меня скрываете. Я решительно протестую!..
— Идите к черту! — брезгливо отвечает ему Фламмери. — Не мешайте разговору серьезных людей. — Он обернулся к побледневшему Фремденгуту. — Ящики не сегодня-завтра попадут в руки Егорычева. Чтобы предсказать это, совсем не нужно быть пророком.
Фремденгут обмяк. Он раскрывает и закрывает рот, как рыба, выброшенная на берег, и не может выговорить ни слова.
— Зато, если мы их сумеем закопать на месте сегодняшней встречи (они нам предлагают встречу для переговоров), в Священной воронке, то руководящие деятели, головка, мозговой трест всех пяти деревень, включая и Егорычева и Смита, превратятся в ничто, в пар! Цивилизация восторжествует, силы зла будут повержены в прах, покой, мир и благоденствие воцарятся на мятежном острове… Ну, чего же вы молчите?
— Я требую, чтобы мне немедленно было сообщено, что это за ящики и что в них находится! — повышает голос Цератод и тут же хватается за сердце. — Это мое законное право, вы слышите, Фламмери! И мне начинает не на шутку надоедать такое отношение ко мне… Я вторично заявляю официальный и самый решительный протест!..
— Судя по всему, барон, — продолжает Фламмери, словно Цератода вовсе и не существует на свете, — вы привезли ее сюдадля испытания вдали от любопытных глаз. Если это так, обещаю подписать протокол, который вы составите после взрыва… И мистер Цератод, я полагаю, не откажется дать под этим протоколом свою подпись… Ну?
— Я настаиваю! — дошел почти до визга Цератод. — Что вы там такое от меня скрываете?.. Какие ящики?..
И тогда Фремденгут, поняв, что действительно не сегодня-завтра Егорычев раскопает ящики и что отнекиваться и в самом деле бессмысленно, устало и зло отвечает зашедшемуся в крике Цератоду:
— Вы когда-нибудь слыхали об атомной бомбе, мистер Цератод?..
Вот этого уже Эрнест Цератод меньше всего ожидал.
Между тем речь, насколько мы можем сейчас судить, шла не более и не менее как о немецком варианте атомной бомбы, вернее, о ее первом, пробном экземпляре. Перед тем как налаживать серийное производство, надо было произвести контрольные испытания. И тут, когда первая бомба ценой огромных затрат была изготовлена, возникла новая трудность: как произвести испытания так, чтобы о них до поры до времени не узнала союзная разведка? Любое место в самом райхе решительно исключалось — даже в самых пустынных районах было все же слишком людно. Выселять Население? Потребовалось бы обезлюдить такую огромную площадь, что уже это одно привлекло бы самое пристальное внимание союзнической и в первую очередь советской разведки. А ведь именно от русских, против которых гитлеровская атомная бомба должна была быть применена, нужно было особенно тщательно скрывать это «новое оружие». Это требовалось для должного «психологического эффекта». Над вопросом о том, где произвести испытания, бились в германском генеральном штабе еще задолго до того, как был готов пробный экземпляр бомбы. И вдруг одна из «прогулочных» яхт бразильского разведывательно-пропагандистского центра, совсем по другому заданию рыскавшая в пустыннейших и никогда не посещаемых местах Атлантического океана, натыкается на необозначенный на карте идеально уединенный остров с готовым для опытного убоя туземным населением.
Даже сейчас Фремденгут не был откровенен до конца со своими новоявленными союзниками. Вряд ли в скрытых им от его подчиненных трех ящиках хранились все элементы опытной бомбы. Судя по всему, ящики заключали в себе только урановый заряд, легкую металлическую оболочку и механизм для уничтожения этого заряда в случае возникновения неотвратимой угрозы, что он попадет в руки противника. Основная, массивная оболочка бомбы и все громоздкие и тяжелые детали установки для опытного взрыва должны были, видим», прибыть впоследствии на «Кариоке» или каком-нибудь другом не внушающем подозрения судне вместе со всем необходимым в таком сложном деле техническим, научным и военным персоналом. Если это было именно так, то становятся понятными и сравнительно незначительные результаты взрыва, происшедшего вскоре на острове Разочарования.
Теперь уже и Цератоду стало понятно, почему командиром эсэсовской группки, высаженной на остров Разочарования, был назначен такой значительный в эсэсовском и деловом мире человек, как майор фон Фремденгут.
Согласно инструкции, в случае непосредственной угрозы захвата этой бомбы противником майор Фремденгут отвечал головой за то, что она будет немедленно и любой ценой уничтожена.
И вот наступил тот роковой час, когда Фремденгуту надлежало скрепя сердце выполнить этот пункт инструкции.
Шел двенадцатый час тринадцатого июня. Нечетное число. По нечетным числам с часу до половины второго дня следовало ожидать появления подводной лодки с подкреплениями.
Кумахер уже давно и в точности выполнил тайный приказ Фремденгута. Он изготовил новую рукоятку генератора, зарядил аккумуляторы, и рация сейчас не требовала применения человеческого труда каждый раз, когда руководство острова Взаимопонимания интересовалось тем, что происходит в эфире. Правда, передаточная аппаратура безнадежно вышла из строя, но слушать радио можно было. И теперь ежедневно с двенадцати до двух дня Священная пещера наполнялась пением, голосами радиодикторов, певших и говоривших на самые разнообразные темы. Рация приносила обитателям пещеры всяческие самые разнообразные вести о положении на фронтах, самые разнообразные песни, кроме одной — кроме «Ойры». И это означало, что по каким-то причинам подкрепление задерживалось. А по ту сторону ручья, в районе поисков Егорычева, каждую минуту могли обнаружиться три ящика, ради которых Фремденгут и его люди прибыли сюда.
А вдруг подкрепление и вовсе не прибудет на остров? События на фронтах развивались совсем не в пользу Третьего райха…
Что делать?
— Кстати, — говорит Фламмери и передает Фремденгуту ультиматум старейшин, — ознакомьтесь. Кое-что в этом послании имеет к вам самое непосредственное отношение…
Фремденгут ознакомился. Он быстро глянул на Фламмери, на Цератода. Их лица были очень серьезны. Не исключено, что ради спасения своей шкуры они и в самом деле могут выдать его с Кумахером на расправу островитянам.
Он молчал, и никто не хотел прервать его молчание. Обстановка, нечего сказать!.
— Хорошо, — сказал он наконец, — согласен. Только Кумахер не должен знать, что в этих ящиках.
— Значит, сейчас мы посылаем парламентера, — оживился Фламмери. — Мообс!
Мообс примчался, насколько это ему позволяла рана.
Спустя несколько минут он, высоко подняв белый флаг, спустился вниз, к речке, где и вручил как из-под земли выросшему Сэмюэлю Смиту ответ на ультиматум старейшин. Майор Цератод и капитан Фламмери изъявляли согласие встретиться безоружными с представителями местного населения и мистерами Егорычевым и Сэмюэлем Смитом в предложенном месте и в точно указанный в ультиматуме час.
Он торопливо вернулся наверх и еще успел увидеть, как Егорычев, Смит и вслед за ними человек пять-шесть островитян вышли из чащи и не спеша возвратились в Новый Вифлеем.
— Они будут обедать, — сказал Фремденгут, передавая бинокль Фламмери, — потом собирать людей… Вполне успеем обернуться… Кумахер!
С автоматами наготове оба эсэсовца бросились со всех ног вниз по тропинке.
— А лопаты? — крикнул вдогонку Цератод. — Вы забыли лопаты!..
— Пусть вас не беспокоит эта проблема, — сказал ему Фламмери. — Барон Фремденгут знает, что он делает… Что ни говори, — заметил он спустя несколько минут, сладко потягиваясь на койке, — но такие боевые ребята, как барон да, пожалуй, и его фельдфебель, для нас сущий клад. Никаких претензий на самостоятельность, и обратите внимание, насколько он воспитанней, тактичней и дисциплинированней, я уже не говорю — культурней, этого молодого комиссара. Я имею в виду Егорычева.
Цератод промолчал. Он очень устал от сегодняшних переживаний, и ему хотелось помолчать и поразмышлять насчет недавнего признания Фремденгута.
— Страшно подумать, — как ни в чем не бывало продолжал Фламмери, почесываясь (уже неделя как он обходился без ванны), — подумать только, что бы с нами сталось, если бы мы не выпустили их! Согласитесь хоть сейчас, что вы были насчет Фремденгута неправы, даже, я не боюсь этого слова, несправедливы!
— А что же им еще остается делать в их положении? — буркнул, наконец, Цератод. — Им приходится выбирать между жизнью и смертью.
— Скажите лучше, дорогой Цератод, что порядочный человек всегда остается порядочным человеком! Если люди вроде барона фон Фремденгута дают слово, если подобные ему люди ставят свою подпись под договором о честном сотрудничестве и отсутствии агрессивных намерений…
Пока в Священной пещере на все лады обсуждались боевые качества обоих эсэсовцев, Фремденгут с Кумахером торопливо спускались по тропинке.
— Разрешите обратиться, господин майор, — не выдержал Кумахер. — Как бы в нас снизу не пульнули стрелой или даже чем-нибудь погорячей.
— Вы всегда были тряпкой, — отозвался Фремденгут с необычным даже для него раздражением. — Но сейчас вам придется взять себя в руки. Дело касается кое-чего, что драгоценней вашей жизни.
Кумахер глубоко сомневался в существовании на свете чего-либо драгоценней его жизни, но возражать не стал: майору ничего не стоило пристрелить его на месте.
— С вашего разрешения, господин майор, я думал о вашей жизни…
— Подумайте лучше о своей. И, ради бога, думайте молча. Вы мне сегодня особенно действуете на нервы.
Кумахер стал молча думать о своей жизни и снова пришел к выводу, что будет весьма печально, если ее пресечет какая-нибудь шальная стрела. Но, делать нечего, приходилось подчиняться.
Они быстро спускались, держась несколько правее обочины тропинки, чтобы их не заметили снизу, где могли залечь дозоры Нового Вифлеема, вброд, по колени в громыхающей воде, переправились через речку значительно выше устья и стали без единой передышки подыматься по широкой, но целиком заросшей травой тропинке, ведшей круто вверх почти по-над самым обрывом.
Примерно на половине подъема они свернули вправо и сделали сто двадцать семь шагов в непролазном кустарнике. Там, в десяти шагах от расколотого молнией деревца, глубоко в кустах, они нашли густо смазанный маслом заступ в чехле. Кумахер готов был поклясться, что за все время их пребывания на острове майор ни разу не покидал без сопровождения Северный мыс. Следовательно, этот молодой большевик Егорычев не зря допытывался, что делал барон до высадки Кумахера на берег. Господин майор изволил побывать здесь еще до того, как на берег сошли трое его подчиненных. Теперь стало понятно, почему ефрейтор Шварц, сколько ни нырял, так и не обнаружил на дне бухты утонувших ящиков и лопаты. Их там не обнаружила бы и сотня водолазов в скафандрах, потому что никто этих ящиков в воду не ронял. Они были закопаны здесь, и рядом оставлена лопата, чтобы их можно было выкопать, не привлекая чьего бы то ни было внимания. И его, фельдфебеля Кумахера, внимания тоже.
Он подумал, что Егорычев не пожалел бы своего годового жалованья за то, чтобы добраться до этих ящиков, и злорадно ухмыльнулся.
— Не скальте зубы! — зашипел на него Фремденгут. — Берите лопату и копайте вот здесь. Да не так, не так! Поосторожней! Боже, как вы бездарны!
Они раскопали две ямы, расположенные шагах в пятнадцати одна от другой, извлекли из первой довольно тяжелый ящик, обитый свинцовым листом, из второй — такой же в точности ящик и еще один полегче, в плотной картонной упаковке.
Фремденгут взял один свинцовый ящик и заступ, остальные два ящика пришлось тащить на себе Кумахеру.
У майора было при этом такое ожесточенное лицо, что фельдфебель решил, как бы ему ни пришлось тяжело, не отставать ни на шаг. Но, к удивлению Кумахера, ему в том же в высшей степени раздраженном тоне было приказано строго соблюдать дистанцию не менее десяти шагов.
И вот они наконец на вершине горы, в Священной воронке. Они увидели просторную площадку, с трех сторон огражденную покатым естественным амфитеатром, которая вот уже триста с лишним лет служила жителям острова Разочарования местом их ежегодных театральных празднеств. С четвертой стороны стенка этой сравнительно неглубокой, поросшей высокой травой воронки отсутствовала, открывая прямо над ущельем брешь шириной примерно в полкилометра. Мы обращаем внимание читателя на эту подробность потому, что именно через эту брешь вскоре скатилась вниз по ущелью, служившему долиной речки, черная туча раскаленного газа и пепла.
Что именно проделал Фремденгут с обоими тяжелыми ящиками и третьим — легким, перед тем как опустить их в спешно вырытую неглубокую яму, мы не беремся рассказывать. Отметим только, что внутри легкого ящика, по-видимому, находилось нечто вроде часового механизма. Останься фельдфебель Кумахер жив, он подтвердил бы, что, когда они бегом кинулись в обратный путь вниз по тропинке, явственно слышно было громкое тиканье часов.
Нет, ни Кумахер, ни его майор не слышали, как тикал часовой механизм, и тем более им было не до легчайшего шороха, который следовал за ним по пятам, пока они выкапывали ящики из тайника, волокли их на Священную воронку, а потом снова закапывали…
Спустя примерно четверть часа после того, как оба эсэсовца, потные и усталые, торопливо двинулись в обратный путь, на северной окраине Нового Вифлеема показался бегущий со всех ног юный Боб Смит, а за ним, шагах в двадцати — тридцати, его напарник по дозору. Они промелькнули мимо хижин, в которых местные воины озабоченно готовили оружие к бою на случай, если переговоры с обитателями Священной пещеры не приведут к положительным результатам, мимо черноусого кочегара, который готовил Егорычеву из ряда вон выходящий сюрприз: обучал Гамлета Брауна, веселого дядю юного Боба — Джекоба и еще двух жителей Нового Вифлеема стрельбе из автомата; мимо стариков и старух, молча обряжавших в последний путь обе жертвы «карательной» экспедиции барона Фремденгута. Они промчались мимо хижины, в которой появился на свет и проживал по сей день быстроногий Боб Смит.
Мать окликнула его: он с утра ничего не ел.
— Потом, потом! — крикнул он, не сбавляя ходу. — Мы спешим к желтобородому!..
Мальчики смаху преодолели довольно крутой подъем и, вспотевшие, задыхающиеся и счастливые, ввалились в пещеру, где теперь проживали Егорычев и Смит. Они часто дышали, раскрыв рты, в которых блестели ровные ряды белоснежных зубов. Шутка сказать, всю дорогу от воронки до деревни они бежали без единой передышки! Они не сразу смогли заговорить, так они запыхались!
Сразу вслед за ними вбежали кочегар и его ученики, понимавшие, что ребята принесли какое-то чрезвычайно важное известие.
— Ну что, новости? — спросил Егорычев.
— Угум… — промычал в ответ юный Смит, стараясь овладеть своим дыханием.
Его приятель оробел. Он не мог решиться запросто беседовать с самим желтобородым и отстранился от разговора.
— Они… Они… Эти прежние белые в черных одеждах…
Он остановился, чтобы перевести дыхание.
— Отдышись, Бобби, — сказал ему Егорычев, — хорошенько отдышись.
— Там!.. Они там… — Боб указал в сторону Священной воронки. — Они… Мы видели их обоих… я и Джеф, — он был справедлив и не хотел присваивать себе одному честь этого открытия. — Они взбежали на самую гору… Они принесли с собой три вот таких… как это называется?..
Боб ткнул пальцем в стоящий поблизости ящик.
— Три ящика? — возбужденно подсказал Егорычев и обменялся многозначительным взглядом с Сэмюэлем Смитом.
— Угум, три ящика… И с ними ещё была одетая лопата… Они раздели ее и закопали все три ящика… Нет, они еще их закапывают, а мы…
В это время невиданно яркое пламя озарило небосвод над островом Разочарования, брызнуло ослепительным светом сквозь зазоры каменного завала в переполненную оцепеневшими от ужаса людьми просторную пещеру, которая напоминала Егорычеву Инкерманские пещеры под Севастополем, и страшный, не поддающийся описанию грохот потряс весь остров до основания.
XXI
Во вторник 13 июня, вскоре после полудня, два судна, находившиеся недалеко друг от друга в южной части Атлантического океана, но об этом раньше не подозревавшие, оказались в поле видимости небывалого атмосферного явления совершенно непонятной, но очень грозной силы.
Одним из этих судов была быстроходная аргентинская яхта «Карменсита» водоизмещением в четыреста двадцать тонн. Командовал ею ее владелец, почтенный негоциант не у дел и завзятый яхтсмен дон Ларго Приетто, о котором у нас уже была речь выше.
Второе судно, парусно-моторная шхуна «Кариока», как тоже, вероятно, помнят наши читатели, было приписано к Рио-де-Жанейро и вышло оттуда в ночь на субботу десятого июня курсом на Малые Антильские острова. Если бы мы не знали, что несколькими часами позже «Кариока» легла на другой курс, впору было бы удивиться, встретив ее в этих широтах. Впрочем, то же самое следовало сказать и про «Карменситу».
Тот, кто имел бы возможность последние трое суток наблюдать за «Кариокой», составил бы, пожалуй, весьма нелестное мнение о ее капитане, сеньоре Педро Каргасе. В самом деле, неоднократно представлялся случай пойти под парусами, а шла «Кариока» весь этот долгий путь только на дизелях. У нее были на редкость мощные двигатели. Можно вообразить, сколько они пожирали горючего!
Но люди, хоть отдаленно знавшие капитана Каргаса, легко догадались бы, что существуют какие-то весьма веские причины, заставившие этого бывалого и экономного до скупости капитана пренебречь даровой силой ветра. Будем справедливы: как и дизели «Кариоки», Педро Каргас мог бы с честью служить и на куда большем судне.
Мы чуть не забыли упомянуть, что он неплохо знал артиллерийское дело. В боях под Мадридом, в районе Университетского городка, батарея лейтенанта франкистских войск Педро Каргаса по мере своих сил послужила делу испанской контрреволюции. В то время Каргасу шел тридцать шестой год. Значит, сейчас ему было за сорок. Ему предлагали остаться в кадрах франкистской армий, и он стал бы уже по меньшей мере майором, но по причинам, известным только ему и доктору-инженеру Гуго Шмальцу, подвизавшемуся в те годы в штабе генерала Франко, Каргас предпочел вернуться в Бразилию и наняться капитаном на невидную шхуну «Кариока».
Он был толст, невысок ростом, но широк в плечах. У него было вызывающее симпатию круглое, веселое лицо славного парня и душа убийцы. Он был несколько болтлив, но самые близкие его знакомые (друзей у него не было) не могли определить, являлась ли его многосложность следствием какого-то изъяна в его крепкой нервной системе или средством скрыть его мысли. Во всяком случае, никто и никогда не получал повода думать, что болтливость соседствует в этом неутомимом и подвижном бразильеро с глупостью и, тем более, трусостью.
Возможно, для того чтобы не позабыть свою военную специальность, Каргас установил на носу «Кариоки» вполне современную скорострельную пушку, обычно скрытую под легкой деревянной надстройкой. Кстати, когда Каргас управлял артогнем, он становился молчалив и только время от времени похлопывал себя по ляжкам, как бы проверяя, целости ли содержимое карманов.
Помимо своего капитана, могучих дизелей, новехонькой пушки и двух крупнокалиберных пулеметов, скрытых, как правило, под брезентами на рострах, на «Кариоке» в числе прочих вещей, не встречающихся на заурядных парусно-моторных шхунах, можно было бы при некоторой настойчивости обнаружить и нечто поразительно напоминающее радарную установку. Согласитесь, уже одного последнего обстоятельства за глаза довольно, чтобы уделить описанию «Кариоки» и ее капитана вдвое больше места, чем уделил им автор настоящего повествования.
Именно при посредстве этой установки капитан Каргас в начале первого часа пополудни тринадцатого июня узнал, что в восьми с небольшим милях к зюйд-зюйд-весту неизвестное судно идет курсом на тот же остров, что и «Кариока».
Мы считаем достойным внимания, что стояла на редкость ясная, полностью безоблачная погода. Каргас, уже несколько лет берегший глаза, стоял на мостике в темных очках-консервах. Океан, небо, палуба, стекла на приборах — все нестерпимо блестело под солнцем, стоявшим в зените.
Было очень жарко. На мостике, на палубе и во внутренних помещениях «Кариоки» все были одеты самым облегченным образом: трусы и майки, а то и вовсе одни трусы, туфли на босу ногу. Без туфель обойтись было нельзя, так раскалилась под свирепым тропическим солнцем палуба. На теневой стороне «Кариоки», свесив босые ноги в люк трапа, ведущего в матросский кубрик, сидел сухопарый бритоголовый матрос лет тридцати пяти и трудолюбиво в последний раз репетировал «Ойру». Судя по тому, как к этому вопиющему нарушению порядка относился капитан Каргас, матрос не просто музицировал, а выполнял важный приказ начальства.
Верный пристрастию к военным упражнениям, сеньор Педро Каргас приказал сыграть боевую тревогу и пошел на сближение с неожиданным и нежеланным соседом.
Он был полон справедливого негодования. Он был возмущен Шмальцем. Нечего сказать, хорош этот проклятый доктор-инженер! Все сказал ему там, в Рио-де-Жанейро: и про исключительную важность задания; и про то, что и как сказать этому, как его, Фремденгуту; и как запаковать и хранить обязательно врозь ящики, которые он должен будет, не медля ни минуты и под личную свою ответственность, переправить на «Кариоку»; и как поступить с этим таинственным грузом, буде на обратном пути вдруг попадется американское или английское военное судно и пожелает произвести досмотр на «Кариоке». Шмальц сказал даже, в какой последовательности швырять эти ящики в море в случае явной угрозы их захвата противником: раньше ящик номер один — с одного борта, потом ящик номер два. — с другого и не ближе двух-трех кабельтовых от того места, где будет затоплен первый ящик… А вот о том, что на подступах к этому острову может неожиданно возникнуть неизвестное судно, направляющееся туда же, куда и «Кариока», любезнейший и обстоятельнейший доктор-инженер Шмальц не соизволил предупредить. Не обронил ни слова!.. Что, этот шпик не доверял его храбрости, что ли? Боялся, что Педро Каргас заюлит, испугается, откажется выполнить приказ?.. А если он полагался на Педро Каргаса, то почему не сказал ему об этом честно, четко, без дураков? Может быть, этот надутый индюк и сам не знал, на что посылает «Кариоку»? Но тогда грош цена хваленой организации, которую возглавляет в Бразилии доктор-инженер Гуго Шмальц! Ничего, и в том и в другом случае это ему дорого обойдется!.. Не будь он Педро Каргас!..
Ясно было только одно: при посещении «Кариокой» острова, бывшего целью ее похода, нельзя было иметь лишних свидетелей, будь они даже самыми безобидными яхтсменами, в чем, кстати говоря, опытный шпион Каргас сильно сомневался. Вообще нельзя допустить, чтобы кто бы то ни было, кроме лиц, особо уполномоченных морским штабом Третьей империи, знал о существовании острова, с его великолепной бухтой, самим богом приспособленной под базу подводных лодок. Он еще пригодится в будущей войне, если нынешней суждено быть проигранной.
Роковой ошибкой дона Ларго Приетто была его недооценка «Кариоки». И на дистанции в пять кабельтовых она показалась ему всего лишь старомодной рыбачьей посудинкой. Он даже не собрался сыграть боевую тревогу.
Когда расстояние между обоими судами сократилось до такой степени, что можно было невооруженным глазом различить на мостике франтоватой яхты представительную фигуру ее капитана, Каргас не пожалел двух десятков фугасных и зажигательных снарядов, чтобы как можно скорей и верней пустить эту яхту ко дну.
Несколько человек с «Карменситы» успели все-таки выскочить за борт. С аккуратностью и добросовестностью, неоднократно отмечавшимися в его служебных характеристиках, капитан Каргас не оставил района гибели «Карменситы», пока не перестрелял из пулемета всех до единого спасшихся.
И, конечно, это потребовало времени.
В общей сложности Каргас потратил на непредвиденную баталию немногим больше часа. Примерно столько же ему потребовалось для того, чтобы приблизиться к острову на предусмотренную инструкциями Шмальца дистанцию.
Часы показывали десять минут третьего. «Кариока» безбожно запаздывала. Ей полагалось отдать якорь у берега назначения в промежутке между часом и половиной второго, а за двадцать пять минут до этого начать передавать радиосигнал. Но тут уже Каргас никак не был виноват. Его совесть (если можно говорить о наличии таковой у капитана «Кариоки») была совершенно чиста: не имел же он права не уничтожить эту неизвестно как и зачем забравшуюся сюда яхту.
Он приказал спустить бразильский флаг и поднять флаг райха с большой свастикой, матрос? с губной гармошкой побежал в радиорубку играть «Ойру», и «Кариока» стала разворачиваться, чтобы пройти на внутренний рейд острова.
Каргаса нисколько не удивило отсутствие людей на берегу. Он знал, что остров населен не густо, и предполагал, что необычное зрелище, каким для местных дикарей явилось сравнительное большое и быстро движущееся без парусов судно, вероятно, загнало робких островитян в их норы. Что до группы Фремденгута, то они, вполне возможно, сейчас не на лужайке на мысу, виднеющейся на северо-западном берегу бухты, а где-то в другом месте. Ведь судно пришло в неурочное время. Так и есть! Помощник Каргаса подал ему бинокль, и капитан увидел две человеческие фигурки в черной эсэсовской форме, мчавшиеся что есть силы вверх по тропинке над самым правым краем ущелья.
Итак, все было в порядке. Ничто не мешало спокойно идти в северо-западную окраину бухты, туда, где в нее впадает из глубокого ущелья речка, отделяющая от остальной части острова его Северный мыс.
По инструкции нельзя было терять ни минуты. Пока отдавали якорь, пулеметчик «Кариоки» выпустил в небо короткую очередь, чтобы обратить внимание местного эсэсовского гарнизона на то, что пора выходить встречать прибывшее судно. Однако никто не подал ответного сигнала. В радиорубке матрос уже покрылся третьим потом, что есть силы выдувая из своей губной гармошки осточертевшую «Ойру».
Каргас приказал дать еще одну очередь, подлиннее. На сей раз те двое (теперь они уже были на самой вершине горы) возникли над обрывом, замахали руками, ответили еле слышными автоматными очередями и снова скрылись.
— То-то же! — удовлетворенно заметил Каргас и совсем было собрался спускаться в шлюпку, чтобы проследовать на берег, когда с вершины горы, с которой только что исчезли две фигурки в черном, внезапно взметнулось с чудовищным, не поддающимся описанию грохотом потрясающее, ослепительно белое пламя. Гигантский, неправильной формы огненный шар клубился, разрастался вверх и по горизонтали, стал похож не то на гриб, не то на гигантскую солдатскую каску. Эта каска стремительно вытянулась в сверкающий столб высотой в несколько километров, который затем 'посерел и растаял уже где-то под самой стратосферой. И только тогда оказалось возможным (но только не для экипажа «Кариоки») наглядно представить себе яркость этого удивительного явления: ясный тропический полденьсразу после того, как исчезло удивительное пламя, производил впечатление сумерек! Это пламя было намного ярче солнца!
Затем, всего несколькими секундами погодя, над местом появления этого пламени возникло облако, которое подтвердило подозрения Каргаса. (Это был, надо вам доложить, весьма бывалый человек, он ездил когда-то в составе какой-то делегации в гости в фашистскую Италию, видывал вулканы, потухшие и действующие, и гора па острове Разочарования, лишь только он ее увидел, чем-то напомнила ему потухший вулкан.)
Облако над вулканом быстро темнело. Вот оно стало пепельно-серым, свинцовым, черным. Раздался оглушительный раскат, за ним несколько более слабых, вверх выстрелил черный столб дыма. Широкая, тучеподобная крона этого зловещего столба грозно повисла где-то в субстратосфере.
Потом раздался еще один раскат, и над самым кратером вулкана показалось новое темное, почти черное облако. Вероятно, оно было слишком тяжело, чтобы подняться в воздух. Сильный южный ветер не мог сдвинуть его с места. Оно несколько секунд колыхалось на вершине горы, как гигантская масса студня, потом со скоростью урагана покатилось вниз по ущелью, служившему долиной реки. Его края выдавались над ущельем. Оно имело округлую, шаровую форму с вздувающейся мягкой поверхностью. Теперь оно уже было черно, как смола. Внутри его беспрерывно сверкали молнии. Небо над «Кариокой» покрылось густой пеленой. Какое-то мгновение сквозь нее еще просвечивал темно-вишневый, еле различимый круг солнца. Потом и его не стало видно. Наступил полный, ни с чем не сравнимый мрак. Только в страшной туче, уже выскочившей в самую бухту, сверкали молнии да над кратером вулкана пробивались гигантские языки багрового пламени, похожие формой своей на солнечные протуберанцы.
В то же время над «Кариокой» зажглись неправдоподобно большие красноватые звезды. В кромешном и знойном опаляющем мраке послышался страшный, душу выматывающий свист. («Совсем как бомбы с самолета», — успел еще подумать Каргас.) По «Кариоке» словно ударили огромным молотом, и сплошная лавина раскаленных камней и жгучего пепла хлынула сверху на палубу. Шхуна вспыхнула, как если бы она была построена из сухой щепы, пропитанной горючими смесями.
— Полный назад! — хотел крикнуть Каргас, но его рот, ноздри, легкие, глаза, уши — все было забито удушающим, смертельно раскаленным пеплом. Теряя сознание, Каргас ухватился за рукоятку машинного телеграфа. Она обожгла его руку. Каргас этого уже не чувствовал. Тяжестью своего падающего тела он навалился на нее и перевел телеграф на «полный назад». Но эту команду уже некому и не к чему было выполнять. На «Кариоке» все были мертвы.
Поэтому никто на ней не услышал (ничего, кроме самых ярких молний разглядеть в этой густой темени нельзя было) приближения высокой, в несколько десятков метров, волны, которая примчалась с тяжким грохотом, легко, как байдарку, перевернула вверх килем пылающий остов «Кариоки» и умчалась обратно, на запад, к берегам Южной Америки.
XXII
Вот что произошло в это время на острове.
Граждане острова Взаимопонимания Фремденгут и Кумахер, еле живые от усталости и переживаний, появились наконец, на лужайке Северного мыса и, жестами пригласив поджидавших их у тропинки Фламмери, Мообса и Цератода следовать за ними, побежали в Священную пещеру. И такие у них при этом были встревоженные лица, что Розенкранц почуял: над белыми обитателями пещеры, а следовательно, и над ним нависла какая-то очень большая опасность. Он ринулся было за ними в пещеру, но ее толстая бревенчатая дверь тяжело захлопнулась перед самым его носом и сразу послышался пронзительный скрип задвигаемого засова. Впервые за все время пребывания Розенкранца на положении эмигранта эта дверь запиралась перед ним на засов! Значит, подозрения его не обманули!
— Боже мой, что делать? — хныкал он, мечась по опустевшей лужайке. — Я погиб… Сейчас я погибну! О-о-о-о!..
Он стал стучаться в дверь. Сначала робко, просительно, потом все громче, злее и настойчивей. Но изнутри до него доносилась только чья-то громкая скороговорка на каком-то непонятном языке. Это, по обыкновению, установившемуся в последние два дня, работал вовсю радиоприемник. Передавалось чье-то выступление не то на испанском, не то на португальском языке.
Но обитателям Священной пещеры сейчас было не до радио, ни тем более до вопившего за дверью истошным голосом обезумевшего от страха Розенкранца.
По приказанию Фремденгута все легли на пол.
— Дальше! — прошипел Фремденгут. — Как можно дальше от двери!..
И переполз в отдаленный угол, почти под самую рацию. Вслед за ним быстро переползли туда же и остальные.
Было невыносимо тихо. Крики Розенкранца и быстрый говор радиодиктора были не в счет. Там, за пределами Северного мыса, было так тревожно-тихо, как может быть только тревожна тишина перед ожидаемым взрывом.
— Осталось ровно тридцать пять минут, — прошептал Фремденгут, глянув па светящийся циферблат настольных часов.
— Так чего же мы валяемся на полу? — рассердился Мообс и поднялся на ноги. — Еще успеем наваляться.
— Не будьте идиотом! — дернул его за рукав Фламмери. — Смотрите, как поступает барон, и старайтесь делать так же.
— Очевидно, нет уверенности, что взрыв произойдет точно вовремя? — осведомился Цератод, немея от страха перед неизвестностью.
— Пусть мистер Мообс ляжет, — подтвердил его опасения Фремденгут. — Ну!.. А впрочем, поступайте как вам угодно.
Раз ему было предложено поступать как ему угодно, Мообс не лег, а шлепнулся на прохладный земляной пол.
— Пустите меня к вам!.. Пустите же! — надрывался по ту сторону двери высокий голос, полный ужаса, злобы и отчаяния. — Не оставляйте меня одного!.. Пустите!..
Теперь он стучал уже не кулаками, а чем-то тяжелым, видимо камнем.
— Этот мерзавец может, чего доброго, проломить дверь, — опасливо прошептал Фламмери.
— Не отвечайте ему! — зашикал на него Цератод. — Ему тут нечего делать.
— Тридцать две минуты!.. — проговорил Фремденгут, хотя никто его об этом не спрашивал. — Нет, уже тридцать одна…
— Этот черномазый мне действует на нервы! — в отчаянии простонал Фламмери и быстро, насколько это ему позволяла его комплекция, пополз к двери.
— Не открывайте! — закричали ему одновременно и Фремденгут, и Мообс, и Цератод, и даже Кумахер, который, вообще-то говоря, лежал в состоянии очень близком к обморочному.
— Не буду! — успокоительно шепнул им в ответ Фламмери. — Розенкранц! — ласково обратился он к безумствовавшему за дверью предателю. Розенкранц затих. — Розенкранц! Через час ты будешь назначен владыкой всего острова!.. Ты меня слышишь, Розенкранц?
— Пустите меня! — простонал из-за двери Розенкранц. — Я хочу к вам, в Священную пещеру… Я боюсь…
— Слушай меня спокойно, Розенкранц, и не бойся! Беги скорее в Новый Вифлеем и скажи всем, кто тебе встретится, всем, кроме старейшин, мистера Егорычева и его белого друга, что я только что вознесся молитвами к господу, и господь внял моим молитвам. Господь изрыгает на мятежный Новый Вифлеем огонь великий, гром и смерть, дабы проучить непокорных и утвердить в вере праведных и законопослушных христиан… Беги же, беги, пока не поздно!.. Да выключите вы, пожалуйста, это проклятое радио! От него уже лопается голова! — крикнул он, быстро отползая назад, в крайний угол.
— Кумахер, выключите радио! — приказал барон вполголоса, и фельдфебель, вместо того чтобы выключить его сразу, стал двигать рычажок.
Кумахер уже почти ничего не соображал. Стрелка быстро двигалась по шкале, и вдруг… и вдруг на всю пещеру загремела наигрываемая на губной гармонике:
Я танцую, ой-ра, ой-ра! Я танцую, ой-ра, ой-ра!
— Нечего сказать, подходящий мотивчик для теперешней обстановки! — вздохнул Фламмери, обессилевший от волнений и ползания. — Как на заказ!.. Вы с ума сошли?! Боже, барон сошел с ума!.. — крикнул он тотчас же, увидев, что Фремденгут стремительно вскочил на ноги и бросился выдергивать засов из двери. — Удержите его!..
Но, прежде чем Кумахер успел подняться с земли, Фремденгут распахнул дверь и выскочил на воздух.
В пещеру с рыдающим воплем прорвался Розенкранц и плюхнулся на пол рядом с Фламмери.
А Фремденгут тем временем увидел на внешнем рейде «Кариоку» с нацистским флагом.
Он вернулся в пещеру, прикрыл за собой дверь:
— Фельдфебель Кумахер, взять автомат!
Уверенный, что сейчас его будут расстреливать, Розенкранц в диком ужасе завопил.
Пока оба эсэсовца в некотором отдалении досылали патроны в стволы своих автоматов, Фламмери еще успел обменяться несколькими фразами, полными исключительного понимания обстановки.
— Идеальные и совершенно бесстрашные солдаты, и к тому же заботливые, что чрезвычайно важно! — заметил вполголоса Фламмери, отодвигаясь подальше от Розенкранца, потому что ему было бы неприятно, если бы на него вдруг брызнула чужая кровь. — Попробуйте мне возразить, Цератод.
— А что им еще в их положении остается делать?.. — неохотно отвечал Цератод.
— Ага!.. А я говорил!.. Они будут его… — Фламмери многозначительно кивнул на Розенкранца. — Так что лучше, если вы от него отодвинетесь…
— Вы — Мообса и негра, — шептал между тем Фремденгут своему фельдфебелю. — Остальными займусь я… Только без истерик! — Он заметил, что у Кумахера от волнения трясутся руки.
— Есть, без истерик, — шепотом отвечал фельдфебель.
— Барон! — громко проговорил Фламмери, и Фремденгут даже вздрогнул от неожиданности (неужели этот американец расслышал их разговор?). — Дорогой барон, я считаю приятнейшим своим долгом заявить вам, что я в полном восторге от такого союзника, как вы… Впрочем, ничего другого я и не ожидал.
— Весьма польщен, сэр, — учтиво ответил Фремденгут. — Рад служить…
Мообс от себя добавил, стараясь перекричать свирепствовавшую в пещере разухабистую «Ойру»:
— Я полностью присоединяюсь к словам мистера Фламмери… присоединяюсь, — повторил он, но уже потише, потому что теперь оба эсэсовца были совсем рядом.
«Сейчас они будут приканчивать этого грязного нигера», — подумал он, видя их непроницаемые лица и автоматы на изготовке, и тоже отодвинулся подальше от Розенкранца. А тот в диком страхе лег ничком, прикрыл себе лицо руками и изо всех сил завыл, почувствовав над собой прерывистое дыхание сразу двух людей с заряженными автоматами.
— Нам лучше отвернуться? — тихо осведомился Фламмери, полный желания поберечь нервы своих младших партнеров — эсэсовцев.
— Благодарю вас, сэр, — сказал Фремденгут. — Пожалуй, так было бы лучше… Я…
— Вы мне хотели еще что-то сказать? — спросил Фламмери.
— О нет, сэр!.. То есть, да, я хотел сказать… э-э-э, я хотел сказать «хайль Гитлер!», сэр… Да, именно хайль Гитлер!..
И не успело еще дойти до сознания главы острова Взаимопонимания Роберта Д. Фламмери и Эрнеста Цератода все несоответствие этого восклицания с недавним поведением дисциплинированнейшего из граждан острова Взаимопонимания барона Вальтера-Фридриха-Готлиба фон Фремденгута, как тот выпустил пол-автоматной очереди в спину главы правительства и вторую половину в спину его заместителя, который до последней секунды своей жизни так и оставался при убеждении, что первая половина этой очереди пошла целиком на Розенкранца.
— Хайль Гитлер! — браво подхватил фельдфебель Кумахер и первым делом пристрелил Розенкранца.
Что же касается кандидата на пост губернатора острова Разочарования — мы имеем в виду Джона Бойнтона Мообса, — то он был слишком любопытен, чтобы не глянуть хоть одним глазком, как будут расстреливать «этого грязного нигера». Поэтому он, единственный из всех троих убитых белых, имел все основания догадаться, что пришел его последний смертный час. Мообс пронзительно заверещал и попытался, судорожно извиваясь, подползти под койку.
Было бы непростительным преувеличением даже для самого благожелательного некролога, если бы в нем было сказано, что Джон Бойнтон Мообс грудью встретил смерть от эсэсовского автомата. Он встретил ее совсем другой частью тела.
— Они готовы, господин майор! — приложил Кумахер дрожащую руку к козырьку.
— Захватите две обоймы!.. Перезарядим на ходу!.. Да ну же!.. Бежим спасать ящики!..
— Какие ящики, господин майор?
— Идиот! Те самые, которые мы только что зарыли!.. — истерически прокричал Фремденгут, перекрикивая бесконечную «Ойру». — Если мы их не спасем, не сносить нам головы!..
Под разухабистые звуки губной гармошки они покинули пещеру, бросились вниз по тропинке к речке, к ущелью, перебрались на его правую сторону, обливаясь потом, с сердцами, бешено колотившимися в груди, с подкашивавшимися от страха и усталости ногами, они уже почти плелись на ближних подступах к Священной воронке. Осталось метров двести, не больше, когда Кумахеру пришла в голову счастливая мысль, что если он сейчас прикончит своего майора, то можно будет дальше не бежать и можно будет упасть на траву и спокойно дышать, дышать сколько влезет, а дальше пусть будет, что будет, потому что больше он бежать не может.
Он выстрелил в спину господину майору раз, потом еще два раза и блаженно опустился на траву, лег на спину, широко раскинув руки и ноги, как он всегда отдыхал после «очистительных операций» и в Киеве, и в Керчи, и в Риге, и в каком-то небольшом городке под Минском. Он уже успел настолько прийти в себя, чтобы поразмыслить над тем, как объяснить прибывшему подкреплению на этом судне (а майор говорил, что придет подлодка!) смерть барона фон Фремденгута, и он придумал, что можно будет все свалить на Егорычева и Смита. Калибр автоматов, принятых на вооружение армии Третьей империи, слава богу, одинаковый. А что до ящиков, то пускай они пропадают пропадом. Он скажет, что и знать ничего не знает о каких-то ящиках, но что если они пропали, то ясно, что их уволок к себе этот самый большевистский капитан-лейтенант и его дружок англичанин.
Потом он стал думать о том, как приятно будет, когда оба эти «красных» попадутся в его руки, и как он их будет расстреливать… Нет, не расстреливать, а вешать… Он скажет своему вновь прибывшему начальству, что…
Но что он собирался сказать своему вновь прибывшему начальству, так и осталось навсегда неизвестным, потому что как раз в это мгновение метрах в трехстах от Кумахера что-то невообразимо яркое вспыхнуло, и фельдфебель Курт Кумахер превратился в бесформенный продолговатый кусок угля. Скатившаяся спустя очень короткое время вниз по ущелью черная жгучая туча, о которой мы уже выше рассказывали, хотя и захватила своим левым крылом место, на котором отдыхал Кумахер, но Кумахера это уже нисколько не интересовало.
XXIII
Собственно, на этом кончается наше повествование.
Если бы автор задавался целью написать роман приключений, имело бы, пожалуй, смысл подробно рассказывать о том, как устрашенное взрывом население острова оставалось в пещерах, терпя голод и жажду, вплоть до утра пятнадцатого июня. Никто из них поэтому не видел, как из разбуженного атомной бомбой вулкана выстрелило под самую субстратосферу могучим столбом дыма, а вслед за этим скатилась вниз по долине реки, сжигая все на своем пути, черная палящая туча; о том, как высоченная волна, перед тем как умчаться к берегам Южной Америки, где она также наделала немало бед, с грохотом хлынула на берег острова Разочарования и смыла с него все сооруженное человеческой рукой и взращенное природой на высоте не меньше тридцати метров над уровнем океана; как в кромешной душной мгле разразилась гроза чудовищной силы и длилась без малого двое суток, и так далее и тому подобное.
Однако автор, приступая к описанию необыкновенных похождений Константина Егорычева, Сэмюэля Смита; Роберта Д. Фламмери, Эрнеста Цератода, Джона Бойнтона Мообса и двух эсэсовцев, меньше всего собирался писать приключенческий роман. Ему казалось, что события, развернувшиеся на маленьком и безвестном острове Разочарования с шестого по тринадцатое июня тысяча девятьсот сорок четвертого года, представляют интерес в высшей степени злободневный, многократно и настойчиво перекликающийся со многими жгучими проблемами современности.
Именно поэтому автор считает себя вправе в настоящей, заключительной главе, когда основные и решающие события уже завершились, ограничиться лишь самым общим перечислением последующих событий.
Мы уже говорили, что до утра пятнадцатого июня над островом свирепствовал сильнейший ливень. Ему местные жители обязаны не только некоторыми, хотя и весьма ощутительными временными лишениями, но и многим хорошим. Ливень смыл в бухту вулканический пепел и не дал разбушеваться пожарам. Правда, немалую службу сослужил островитянам и сильный южный ветер, угнавший главную массу пепла к северу от ущелья. Пострадал от огненной тучи в основном район Северного мыса. На Священной лужайке вся растительность, от трав до могучих вековых деревьев, попросту пропала, словно роковая туча начисто слизнула ее и унесла с собой в бухту. Внутри Священной пещеры все деревянное, текстильное, кожаное, бумажное (не считая нескольких разрозненных листков черновика книги Джона Бойнтона Мообса, случайно уцелевших под ящиком с консервами) сгорело бесследно.
Следует отметить, что подводное землетрясение, толчки которого так напугали жителей острова Разочарования, ощутительно сказалось на рельефе морского дна в этом районе. Тесная гряда острых голых скал, поднятая этим катастрофическим сдвигом почвы на поверхность океана, навсегда закрыла доступ в бухту, а следовательно и на остров, большим и малым кораблям. Оставшийся проход в открытый океан был так узок и до того утыкан подводными камнями, что Егорычеву и Смиту пришлось изрядно попотеть, пока им удалось провести через него плот, на котором они десятого июля отправились в трудный и опасный путь к берегам Южной Америки.
Теперь можно было спокойно пускаться в дорогу: раны Егорычева зажили, плот построили на славу. На сей раз он был с парусом. Пригодились для его, изготовления и железные бочки от прежнего плота, которые Гамлет Браун сохранил в пещере Нового Вифлеема, и кое-что с «Кариоки», которую, изувеченную и полусгоревшую, выбросило гигантской волной на прибрежные скалы.
А пока его строили и заживали раны Егорычева, наш герой по нескольку раз побывал во всех пяти деревнях, часто и подолгу беседовал с их жителями — мужчинами и женщинами, стариками и молодыми. Он узнал очень много об их быте, нравах, преданиях и обычаях, и не только узнал, но и тщательно записал в толстой клеенчатой тетради. (Этой тетради автор настоящего повествования обязан многими важными деталями и пользуется случаем, чтобы выразить за них самую глубокую признательность капитану второго ранга Константину Васильевичу Егорычеву.) Он записал также немало веселых и мелодичных песен, которые распевает этот маленький, но гордый, умный, талантливый и свободолюбивый народ, и, в свою очередь, обучил островитян многим нашим русским, советским песням. Так что, если кому-нибудь из наших читателей придется побывать на этом острове (хотя, как ему удастся, автор не берется гадать), пусть он не удивляется, если вдруг услышит, как тамошние люди распевают нашу «Катюшу», «Матроса Железняка» или «Раскинулось море широко». Это их научил Егорычев. И если вы услышите английские матросские песни, знайте, что это результат усилий верного и храброго друга Егорычева — славного английского кочегара Сэмюэля Смита.
А возможно, что на вашу долю выпадет особая удача, и вы попадете на остров в день, когда будет показываться очередное шекспировское представление, потому что теперь, когда у островитян отпала охота ходить на Священную воронку, эти представления, по предложению Гамлета Брауна, по очереди раз в два месяца устраиваются в каждом из пяти селений острова.
Вас окружат доброжелательные, неназойливые люди, которые станут расспрашивать, как поживают Егорычев и кочегар Смит. Расскажите им, что оба они благополучно, хотя и не без приключений, добрались на своем плоту до берегов Южной Америки, а оттуда к себе домой. Расскажите им, что и у себя на родине они продолжают то же дело, которым они так беззаветно и бескорыстно занимались на острове Разочарования. Они борются за мир во всем мире, как боролись в свое время за мир на острове Разочарования. Расскажите им, что враги мира там, далеко за пределами острова, — те же фламмери, мообсы, фремденгуты, и что день ото дня им все труднее делать свое черное дело, потому что нет на их пути более прочной преграды, чем простые люди, ставшие грудью на защиту мира.
1947–1950.



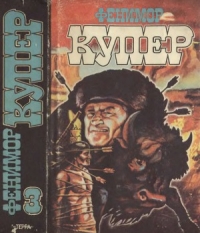
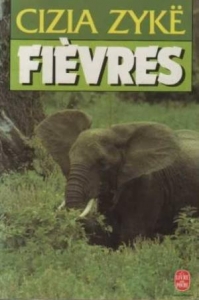
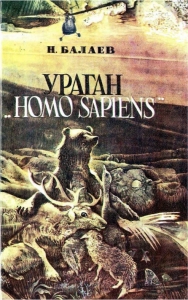

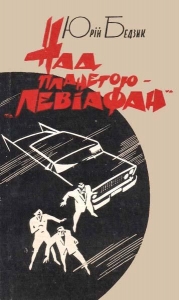
Комментарии к книге «Остров Разочарования (Рисунки И. Малюкова)», Лазарь Иосифович Лагин
Всего 0 комментариев