Тихон Пантюшенко Тайны древних руин Повесть
1
— Отныне наше отделение, — сказал старшина второй статьи Василий Демидченко, — является самостоятельной боевой единицей и гарнизоном этой крепости.
«Гарнизоном этой крепости» было сказано, пожалуй, несколько сильно, так как наша «войсковая часть» состояла всего лишь из семи бойцов службы береговой обороны, включая и самого командира, а «крепость» представляла собою скорее бетонированный навес с открытой площадкой со стороны Балаклавы. Тем не менее ни у кого из нас, прибывших на безымянную высоту, не возникало сомнений ни в отношении боевой мощи отряда, ни в отношении важности охраняемого им объекта. Собственно, на отделение возлагалась задача не столько охранять высоту, сколько вести с нее наблюдение за воздушным пространством на подступах к Главной базе Черноморского флота — Севастополю. В соответствующих штабах наш объект именовался постом ВНОС номер один (воздушного наблюдения, оповещения и связи).
— Краснофлотец Нагорный, помогите снять с плеч рацию, — командир считал, что переносная радиостанция, которой был оснащен наш пост, является главным оружием отделения, и поэтому переносил ее сам.
Странные отношения сложились у меня с Васькой Демидченко. Полгода тому назад я был призван в ряды Красной Армии. Из распределительного пункта в Севастополе меня сразу же направили на трехмесячные курсы радиотелеграфистов. Там я подружился с Васькой Демидченко. У него было неполное среднее образование, и поэтому некоторые разделы радиотехники ему давались с трудом. Как-то само собою получалось, что за помощью Васька обращался только ко мне. Со временем Демидченко начал советоваться со мною и по чисто житейским вопросам. После окончания курсов нас вместе направили в штаб зенитного артиллерийского полка для аттестации на звание старшины второй статьи. И тут случилось непонятное. Меня обвинили в том, что я уснул во время одного из ночных дежурств у радиостанции дивизиона и поэтому не принял срочной радиограммы. Доказать свою невиновность я не смог. Последовал приказ начальника связи дивизиона о нарушении мною воинской дисциплины, граничащем с преступлением. Сразу же после объявления этого приказа я был отправлен на гарнизонную гауптвахту сроком па пять дней. Мне сказали, что это еще ничего, что могло быть хуже. А что могло быть хуже гауптвахты и точки на моем воинском звании старшины второй статьи? «А трибунал!» — сказали мне. — «Так уж и трибунал», — попробовал я возразить и вместе с тем успокоить себя. Как и следовало ожидать, в присвоении звания старшины второй статьи мне было отказано. Демидченко же сменил бескозырку на мичманку и к рукавам бушлата прикрепил по две золотистые нашивки. В довершение ко всему он стал моим командиром. У Васьки после этого было такое выражение лица, словно он совершил что-то нехорошее. Раньше он смотрел на меня какими-то преданными, собачьими глазами. А случилась беда — и он изменился. Говорит со мною, а глаза уводит в сторону. Лицо у Демидченко особое. Кожа на шее и щеках в белых пятнах, на которых никогда не бывает солнечного загара. У других людей лица, как кожура созревающих каштанов. У Демидченко, когда он на солнцепеке, пятна краснеют и начинают шелушиться. И тогда мне кажется, что Васька похож на шелудивого пса. На курсах я просто жалел его, а теперь начинаю побаиваться, особенно, когда он отворачивает лицо в сторону. Глаза серые, водянистые, зрачки узкие, как у вороватого хищника. Кажется, крикни на него — и он лениво отбежит на несколько шагов в сторону. Но стоит зазеваться, как он тут же вцепится тебе в икры. Пока Демидченко не сделал мне ничего плохого. Но шестое чувство подсказывает, что и хорошего ждать от него не приходится.
Прибыли мы на безымянную высоту около Балаклавы в один из последних дней марта тысяча девятьсот сорок первого года. Был полдень, и солнце уже пригревало так, что пришлось снять бушлаты. На вахту заступили наблюдатель Сугако и радист Звягинцев. Мне пришлось заниматься приготовлением обеда, или, как было принято у нас говорить, отбывать наряд на камбузе. За валежником я отправился на склон горы, заросшей густым кустарником. Не прошел я и ста метров, как недалеко от себя услышал звук посыпавшихся камней. Обернувшись, я увидел за кустами притаившегося человека. Если бы это был кто-нибудь из жителей окрестных населенных пунктов, то зачем ему прятаться? Свои же, кроме вахтенных, в это время чистили карабины. Значит, все-таки чужой. И хотя при мне личного оружия не было, я, полагаясь на свою ловкость, пошел на сближение с притаившимся человеком. Как только ему стало ясно, что его обнаружили, он стремглав бросился бежать вниз. Я устремился за ним, крича:
— Стой! Стрелять буду!
Как ни странно, но это возымело действие — человек остановился. Он быстро обернулся ко мне лицом, спрятав руки за спину. «Неужели оружие?» — мелькнула у меня мысль. В подобной ситуации, как я считал, поведение людей определяется психологическим состоянием их. Важно удержать инициативу.
— Руки! — приказал я строго.
Человек медленно вытянул вперед руки, в одной из которых оказался фонарик с механическим приводом.
— Что это? — задал я нелепый вопрос.
До сих пор я внимательно следил только за руками человека, полагая, что именно в них могла таиться для меня опасность. Убедившись, что задержанный безоружен, я перевел свой взгляд на его лицо. Какое же разочарование постигло меня, когда пришлось увидеть жалкую на вид девчонку, исцарапанную и всю измазанную глиной. «Скотница, наверное, из соседнего совхоза, — подумал. — И какого только черта шляется здесь?» Стало как-то даже обидно: готовился помериться силами с достойным противником, а встретил невзрачную грязнуху. Чулок на левой ноге съехал почти до уровня щиколоток, на коленной чашечке багровела ссадина со следами выступившей и уже успевшей высохнуть крови. Все это производило на меня крайне неприятное впечатление, и я, чтобы не испытывать отвращения, перевел взгляд на ее лицо. Но и оно было не лучше: клочья волос мокрые, вымазаны какой-то серой замазкообразной массой. Платье из дешевого ситца в нескольких местах было порвано. Кажется, что перед этим девчонка заблудилась в зарослях боярышника и едва оттуда выбралась.
— Телят, что ли, искала? — задал я вопрос, уже не глядя на ее лицо.
— Бычков таких, как ты.
— Ну-ну! Здесь тебе не совхозный двор, — пытался пригрозить ей. — А в руках что все-таки?
— Параболоид, — последовал иронический ответ, рассчитанный на мое невежество.
— Инженера Гарина? — решил поставить ее на место.
— Простой фонарик.
— А для чего он?
— Освещать себе дорогу.
— Какую дорогу? Сейчас день да такой, что в пору надевать солнцезащитные очки.
— Я всегда гуляю здесь допоздна. А ночи теперь безлунные.
— А где так испачкалась?
— На совхозном дворе поскользнулась и упала.
— А ну давай в расположение гарнизона, — приказал я. — Там разберемся.
— Какой гарнизон?
— Тут недалеко, метров сто. Прямо на макушке горы.
— Но здесь никакого гарнизона не было.
— Не было, а теперь есть.
— Ну ладно, показывайте свой гарнизон.
«От чертова девка, — подумал я. — Задержана как подозрительная личность, а держит себя, как принцесса, которую нужно сопровождать».
— А когда вы сюда пришли?
— Сегодня, то есть, — спохватился я, — это вас не касается.
Девушка засмеялась и уточнила мое «то есть».
— Военная тайна, да?
— Какая теперь это военная тайна, — ответил ей, досадуя на свою болтливость.
Возле каземата я встретил Демидченко и доложил ему:
— Товарищ старшина второй статьи, в районе расположения гарнизона задержана гражданка, которая пыталась бежать, — а на ухо шепотом добавил: — Я, может, и не связывался бы с ней, да вижу, сильно испачкана, и фонарик. Это показалось мне подозрительным.
— Фамилия? — спросил командир.
— Хрусталева.
— Имя?
— Марина.
— Где проживаете?
— В Балаклаве.
— Почему оказались здесь?
— А это мои любимые места прогулок.
— Так, — многозначительно произнес Демидченко.
Последовала пауза. До этого Марина, казалось, держалась просто, независимо. Ей задавали вопросы, она отвечала. Как в школе. Но стоило паузе немного затянуться, как девушка заволновалась: то отведет тыльной стороной руки прядь волос, то переступит с ноги на ногу, то поправит под платьем тесемку лифчика. Любопытная психологическая ситуация. Пока человек занимает хотя бы относительно активную позицию, до тех пор в нем сохраняется какая-то уверенность в себе. В состоянии же неопределенности эта уверенность постепенно утрачивается. Особенно угнетающе действует на человека внезапный переход от лучшего к худшему. Я где-то слышал, что такая резкая перемена состояний способна вызвать настоящий психологический шок. Демидченко, кажется, понимал, что в душе девушки творится неладное, и поэтому намеренно затягивал молчание. А пауза становилась все более невыносимой. И еще эти сверлящие взгляды молодых парней. Пять пар глаз. Впечатление такое, что человека раздевают и ему становится мучительно стыдно. Демидченко улыбался, а Марина, глядя на его улыбку, кусала губы и ждала, как избавления от пытки, следующего вопроса. Я только сейчас обратил внимание, что улыбка у Васьки была не такая, как у других, не настоящая, в ней едва улавливался оттенок какой-то дьявольской, злой воли. Почему же не проявлялась у него эта черта раньше, скажем, на курсах радистов? Чертополох, оказывается, тоже не везде растет. И ему нужна своя, особая почва.
— А почему у вас вид такой? — спросил наконец Демидченко.
— Какой такой? Я уже говорила вашему краснофлотцу, — и она кивнула головой в мою сторону, — что поскользнулась на совхозном дворе и упала.
— Прямо лицом в лужу?
— Нет, руками. А потом уже испачкала ими и лицо.
— А фонарик?
— И про фонарик я говорила.
— А дома кто теперь?
— Мама.
— Может, это и так, проверим. Адрес?
— Севастопольская, пять.
— Краснофлотец Нагорный, сходите в Балаклаву и приведите мать этой гражданки. Да заодно и воды принесите.
— Есть!
Гремя пустым ведром, я преодолел спуск менее чем за пять минут. А ведь высоту нашей горки в сто метров, пожалуй, не вберешь. Севастопольскую, пять я отыскал быстро.
— Хозяюшка, ведерко воды дадите? — спросил я женщину, развешивавшую во дворе белье.
— Да воды нам не жалко, берите сколько нужно.
Я набрал ведро воды и спросил как давно знакомый этой семьи:
— А Маринка же где?
— Да разве она усидит дома, — и потом только поняла, что с ней разговаривает совсем незнакомый военнослужащий. — А вы откуда знаете Маринку?
— Сегодня познакомились, точнее, с полчаса назад. Командир наш попросил, чтобы вы пришли за Маринкой.
Женщина побледнела и, глотая слюну, спросила осипшим голосом.
— Что с ней?
— Да ничего не случилось. Жива и здорова ваша Маринка. Она же не знала, что мы приедем на эту гору. Вот случайно и оказалась среди нас. А командир наш строгий. Решил проверить, кто она. Вот и все.
— Вот беда-то какая. Я сейчас, — женщина унесла остаток белья в дом, а через минуту мы вместе с ней уже взбирались на гору. Хотя спутница была старше меня почти в два раза, я едва поспевал за ней. Под конец она почти побежала, и я только услышал взволнованный вопрос.
— Доченька моя, что стряслось?
— Ничего особенного, мама, — ответила Марина. — Меня задержали. Ну кто мог знать, что тут появятся военные?
Пока я ходил в Балаклаву, Маринка привела себя в порядок. Наши ребята дали ей воды, одежную щетку, и теперь девушка выглядела совсем по-другому.
— Вот теперь полная ясность, — заключил Демидченко, обращаясь к женщинам. — Вы уж извините, что пришлось побеспокоить вас. Порядок, знаете.
— Да чего уж там, — ответила мать Марины. — Мы понимаем, дело военное.
— Краснофлотец Нагорный, — ну теперь пошло, будет гонять дня два подряд. Но нет, Вася, от меня ты не дождешься того, на что рассчитываешь. — Проводите женщин, да заодно еще одно ведерко воды принесите.
— Есть, товарищ старшина второй статьи, — ответил я бодрым тоном и, вылив воду в котелки, пошел сопровождать женщин.
Они шли впереди, я несколько сзади. Мать вполголоса о чем-то говорила своей дочери, а та, судя по интонации, оправдывалась. На очень крутых участках склона горы пустое ведро цеплялось за камни и так скрежетало, что женщины останавливались и молчаливыми взглядами спрашивали: «Не ушиблись?» — «Ничего, все в порядке», — отвечал я им. Мы вошли во двор Хрусталевых не с улицы, а через приусадебный виноградник. Мать Марины сразу же принялась щупать сохнувшее белье. Я набрал ведро воды и собрался было уходить, но хозяйка решительным жестом остановила меня и сказала:
— У нас, молодой человек, не принято отпускать добрых людей без угощения.
— Так это ж добрых людей, мама. А он, видела, как заставил тебя волноваться.
— Беды в этом никакой, — резонно заметила мать, — а для тебя наука. Да и обедать уже пора. Небось проголодались?
— Спасибо, хозяюшка. Я уже.
— Что уже? — спросила женщина.
— Неправда, мама, — вмешалась и Марина. — Я видела, как они только начинали готовить себе обед.
— Как вас зовут, молодой человек?
— Коля, то есть Николай Нагорный.
— Хорошее имя. А меня величать Анной Алексеевной. Доченька, приглашай гостя в дом, а я пока соберу белье.
Маринка без лишних слов взяла ведро в свои руки и сказала:
— Когда будете идти в свой гарнизон... я правильно выражаюсь?
Я улыбнулся. Припомнила-таки мое словечко. Этой палец в рот не клади.
— Неправильно я тогда сказал вам.
— Ну все равно. Когда будете идти к себе, мы наберем воды свежей.
В этот момент мне показалось, что я дома. Вот так же бывало весной или летом я приносил из колодца воду, сестра поливала ею грядку. Остатком воды в ведре, она старалась облить меня. И если это удавалось ей, она радовалась и хохотала до слез. Я спокойно отряхивался и говорил: «Завяжем узелок на память». — «А я маме скажу», — отвечала сестра. — «Не возражаю». Ведра два я приносил и спокойно передавал сестре, настороженной и готовой в любую секунду бежать от меня. Но едва она успокаивалась, как я окатывал ее с головы до ног. Визг и истошный крик оглашали двор: «Ма-а-ма! Оп обливается!» — «Колька, сумасшедший! — вступалась мать. — Ты же ее простудишь». Я вспоминал об этом и, наверное, улыбался, так как Марина спросила:
— Вы о чем?
— Я вспомнил дом и свою сестру, которая вот так же, как и вы, бывало, поливала грядку и обливала меня водой.
— И подумали, что и я могу вас облить?
— Нет, что вы.
— Ну а если бы и в самом деле облила, рассердились бы?
— Нет, — ответил я и, немного подумав, добавил, — только обрадовался бы.
— Тогда получайте, — Маринка так неожиданно и быстро плеснула остаток воды на мою робу (так мы называем свою рабочую форму одежды), что я не успел увернуться. Уже на пороге дома она добавила: — Что ж вы стоите? Заходите в дом.
В комнате с двумя окнами со стороны улицы и одним — со стороны двора было свежо и чисто, словно кого-то ждали. Я уже готов был перешагнуть порог, но вовремя спохватился и начал расшнуровывать свои ботинки.
— Зачем вы это делаете? — спросила Анна Алексеевна.
— В комнате такая чистота, а я тут со своими башмаками.
Теперь я входил в комнату смелее. На свету Анна Алексеевна увидела мою мокрую робу и шутливо заметила:
— О! Мы уже успели понравиться некоторым балаклавским девушкам.
— Очень вкусная у вас вода, — начал я оправдываться. — Хотел напиться из ведра, да не рассчитал.
— Поверим ему, Марина?
— От этого изнанка не станет лицом.
Было совершенно очевидно, что женщины шутили, но я почему-то чувствовал себя не в своей тарелке. Появилось такое ощущение, будто я кого-то обманул. Удивительная вещь этот обман. В нашем представлении он часто совпадает с понятием лжи. Лживых людей мы осуждаем и даже презираем. Выходит, и меня можно осуждать? Но я вижу по глазам Анны Алексеевны, что она не только не порицает мой поступок, но как-то по-матерински, тепло смотрит на меня, словно хочет сказать: «Все правильно. Только так и нужно поступать». Неужели же обман может быть правдой?
— Запутала ты нашего гостя своей изнанкой, — сказала Анна Алексеевна.
— Изнанка — не сеть, выпутается, — ответила, улыбаясь, Маринка.
Чувство неловкости постепенно спало.
— А что вы считаете обманом? — спросила Анна Алексеевна.
— Все, что делается в корыстных целях, — ответил я, будучи теперь твердо убежденным в своей правоте.
— Это только половина того, что можно сказать об обмане.
— Как половина?
— Всего лишь половина, а то и того меньше.
Признаться, сказанное поставило меня в тупик. Какое же еще может быть толкование этого понятия?
— Вот взять, к примеру, твою мокрую одежду. Твое объяснение — обман?
— Формально — да, по существу — нет.
— Почему?
— Я сделал это не ради себя.
— Возьмем другой пример. Провинился твой товарищ по службе. Чтобы защитить его, ты взял вину на себя. Это как?
Трудно спорить с Анной Алексеевной. На ее стороне знание жизни, большой жизненный опыт, у меня же — только стремление выбрать правильную дорогу.
Помнится, как в школе, бывало, списывались диктовки у товарищей. Мы, списывавшие, хотя и чувствовали за собою вину, забывали о ней сразу же, как только кончался урок. Те же, у кого списывали, ходили в героях и день, и два, пока преподаватель не объявит выставленные оценки. Никому из них и в голову не приходило, что они, как и мы, обманывали друг друга. Разница была только в некоторых оттенках этого обмана.
— Так что дело не в том, кого ты выгораживаешь, — продолжала Анна Алексеевна. — Важно другое, что выгораживается: скверное или безобидное, или даже хорошее, но которое могут истолковать иначе, чем есть на самом деле. Выходит, подкладка на обмане может быть разной. В одних случаях она черная, в других — белая. Чаще же в ней преобладает тот или иной оттенок.
Интересное объяснение.
— А вот в отношении Маринки ты поступил хорошо. То, что она не приняла твоей защиты, так это ее личное дело. Да и что скрывать ей от своей матери. Ведь мы с ней очень большие друзья.
Только теперь я понял, что выражение «обман может быть правдой» — такой же парадокс, как и «яд — целебное средство». Обман не всегда несет с собою дурное. Более того, в ряде случаев он просто необходим. Так, я слышал, поступают врачи по отношению к больным в безнадежном состоянии.
— Мама, — прервала мою мысль Марина, — баснями соловья не кормят.
— Вот так, Коля, — шутливо заключила Анна Алексеевна. — Сегодня — соловей, а завтра, гляди, и соколом ясным станешь.
Пока женщины занимались приготовлением обеда, я рассматривал альбом Марийки. На первой странице был помещен фотоснимок семьи Хрусталевых: военного летчика, молодой Анны Алексеевны и их совсем маленькой дочки Маринки. На других снимках владелица альбома — уже школьница. Страницы, что годы. Девочка выросла и вот-вот станет взрослой. А это что? Вот-те на. Целых шесть дипломов за лучшие результаты в стрельбе из малокалиберной винтовки. И не в школе, а на республиканских соревнованиях среди юниоров в Симферополе. Да, такого я не ожидал! Почему я этим заинтересовался? Потому что сам имею некоторый опыт в спортивной стрельбе и знаю, как это достается.
Из соседней комнаты потянуло вкусным запахом, и вскоре на столе появилась рыбная уха. Маринка села напротив меня, и теперь я мог хорошо рассмотреть ее лицо.
— Ешь, матрос, — сказала Анна Алексеевна. — Сегодня у нас рыбный день.
Я снова посмотрел на Маринку. Такого цвета глаз, как у нее, мне еще не приходилось видеть. Собственно, дело не столько в цвете, сколько в удивительных оттенках. Вот сейчас она улыбается, и глаза ее, как морская волна в тихую ясную погоду: прозрачная синева переливается со светлой прозеленью. Но стоило мне брякнуть «А здорово я вас напугал там, на горе», как глаза ее потемнели, стали похожи на ту же морскую волну, но перед надвигающимся штормом. Брови длинные, строго очерченные, вразлет, как крылья у парящего буревестника. «Извините, пожалуйста, не подумал», — сказал я, и лицо Маринки прояснилось, она снова стала улыбаться. Я перевел взгляд на ее волосы. Какого они цвета? Каштана? Какие там каштаны! Мой отец — колхозный пчеловод. Я, будучи еще подростком, очень любил проводить лето в гречишных полях, куда вывозилась пасека. Во время цветения гречихи все дни стоит душистый запах ее цветков. Пчелам нет до тебя никакого дела. Они, как только пригреет солнце, уже в полете, снуют от ульев к цветкам, от цветков к ульям. А потом гречиха начинает темнеть, зерна ее набухают, наливаются живительными соками. И гречишное поле становится темно-коричневым, а когда подует ветер — еще и волнистым. Вот такие волосы и у Маринки. Мне казалось, что если припасть лицом к голове Маринки, то можно ощутить запахи и цветов гречихи, и моря, и скалистых Крымских гор.
— Матрос! — вывела меня из раздумья Анна Алексеевна. — Ты что, рыбной ухи не любишь?
Я покраснел, да так, что Маринка, глядя на меня, расхохоталась.
— Не будем смущать молодого человека, пусть ест, — примирительно сказала Анна Алексеевна и, чтобы рассеять мое смущение, спросила: — А до призыва на военную службу работал или учился?
— Учился в педагогическом институте. Всего два месяца. А потом по новому указу пошел на службу.
— Неспокойное все-таки сейчас время. У нас тут разное болтают. Договор с Германией договором, а случиться может всякое. В этом году Маринка кончает десятилетку, да и не знаю, что делать. Боюсь ее отпускать. Заболталась я, а там, поди, все уже подгорело, — Анна Алексеевна быстро встала из-за стола и ушла на кухню.
Мне хотелось узнать, где сейчас военный летчик Хрусталев, но спрашивать об этом было неудобно, и я, чтобы не молчать, сказал:
— А вы молодец, Маринка. Завоевать шесть дипломов на таких соревнованиях по стрельбе не каждому под силу.
— Это у меня от папы. Он у нас был мастером спорта, — Маринка вдруг стала грустной.
Я понял, что с отцом ее что-то случилось. Может, погиб в воздушной катастрофе. Он ведь летчик. По тому, как Маринка перебирала бахрому скатерти, сплетала и тут же расплетала свисавшие кисти, видно было, что душевная рана у нее еще свежа и всякое упоминание об отце приносит ей новые переживания. Страдания труднее других переносят матери и дети в юности. В этой семье были и мать, и дочь, которая только вступила в пору юности.
— Ну как вы тут без меня? — показалась в дверях Анна Алексеевна. В руках у нее была сковородка, на которой румянились дары моря. — Отведайте морского окуня. А вы знаете, что означает Балаклава в переводе с турецкого? Гнездо рыб.
Я этого, конечно, не знал, хотя помнил из истории, что город когда-то был завоеван генуэзцами, а потом, кажется, в пятнадцатом веке, захвачен турками. Не через Балаклавскую ли бухту крымский хан Менгли-Гирей вывозил в Турцию красивых невольниц, захваченных при набегах на южные окраины славянских земель? Мне пришла в голову мысль, что Анна Алексеевна вновь почему-то начала обращаться ко мне на «вы». Уж не обидел ли ее чем-нибудь ненароком? Кажется, нет. А Маринка — славная девчонка. Держится просто. На попытку Анны Алексеевны встать из-за стола и собрать посуду, она сказала:
— Нет, мама. Теперь твоя очередь отдыхать, а я приведу все в порядок и принесу вам холодненького компота.
Маринка прибрала на столе и, забрав посуду, ушла на кухню.
— Ну и на каком факультете вы учились? — спросила меня Анна Алексеевна
— На филологическом.
— Любите литературу?
— Да. И историю.
— Я тоже любила эти предметы. Изучала историю Крыма, диссертацию собиралась писать. Да, видно, не судьба. Остались мы с Маринкой вдвоем. Пыталась узнать... да где там.
О какой судьбе шла речь и о чем нужно было узнать— Анна Алексеевна так и не сказала. По всему было видно, что ей и Маринке очень трудно. Трудно еще и потому, что какая-то трагедия перемешалась с чем-то загадочным, непонятным. Жизнь — как наши дороги, которые мы выбираем и на которые волею обстоятельств мы вынуждены иногда сворачивать. У одних она проходит автострадой — широкой, прямой, гладкой, тянущейся далеко за горизонт; у других — проселочной дорогой, прихваченной первыми заморозками, ухабистой, затвердевшей, петляющей между холмами и глубокими оврагами.
— Вы хорошо помните историю Крымской войны? — спросила Анна Алексеевна.
— Это не то слово «помните». Я изучал ее.
— Даже так?
— Меня особенно интересовали события на участке линии Севастопольской обороны вблизи Балаклавы.
— Почему именно Балаклавы?
По тому, как оживленно и с каким нескрываемым интересом прозвучал вопрос, я понял, что затронул тему, которую изучала и сама Анна Алексеевна. Встречи людей бывают разные. Одни похожи на унылые пасмурные дни, когда с утра до вечера моросит мелкий дождь и кажется, никогда не будет конца плывущей массе свинцово-серых туч. От таких встреч становится тоскливо, и их стараешься обходить стороной. Но есть встречи, которые можно сравнить лишь с начинающимся летним днем. Еще не спала роса, еще от речки тянет прохладой, а восточный горизонт уже дрожит, ломается его четкий контур, и через минуту-другую воздух пронижут первые лучи восходящего солнца. Такие встречи не просто запоминаются, их постоянно ищешь, к ним всегда стремишься. Такой показалась мне и встреча с семьей Хрусталевых.
Кажется я замедлил с ответом, так как Анна Алексеевна повторила свой вопрос:
— Так почему же именно Балаклавы?
— Да вы же знаете, Анна Алексеевна, что Балаклава была главными воротами, через которые союзники пополняли свою армию живой силой, снабжали ее провиантом и боеприпасами.
— А какое событие на этом участке обороны вы считаете самым значительным?
Похоже было, что Анна Алексеевна хотела выяснить не то, что, по моему мнению, было самым важным из давно отшумевших событий, а то, в какой степени я осведомлен о них.
— Балаклавский бой тринадцатого октября тысяча восемьсот пятьдесят четвертого года.
У Анны Алексеевны расширились от удивления глаза.
— Тогда ты должен знать и то, что русские войска дошли почти до самой Балаклавы.
Я заметил, что когда Анна Алексеевна особенно довольна мною, она обращается ко мне на «ты».
— Больше того, — продолжила она, — есть сведения, правда, только косвенные, что небольшой отряд русских войск прорвался к самой Балаклаве и захватил возвышенность, на которой находится ваш пост. В своей диссертационной работе я и собиралась доказать, что это не предположение, а исторический факт. Вот так, товарищ Нагорный. А материал у меня редкостный. Наверное, ты знаешь и то, что в конце первого тысячелетия Крым представлял собою вавилонское столпотворение: потомки скифов, тавров, готов, сарматов, аланов, хазаров, печенегов и кто знает, каких еще племен и народностей. А побережье Крыма заселяли славяне и греки. У меня сохранились фотокопии славянских письмен, найденных при раскопках древних поселений Алустона, Горзувита и Херсонеса. Тебе не приходилось видеть орнаментальную мозаику «уваровской базилики» в Херсонесе? Ну хотя бы на фотоснимках?
— Не посчастливилось.
— Жаль. Если представится случай, непременно побывай в краеведческом музее в Симферополе. Не пожалеешь.
— Анна Алексеевна, вы говорите, что собрали редкостный материал. Но он же теперь как зарытый клад. А разве это правильно?
Анна Алексеевна посмотрела на меня, перевела потом взгляд на узенькую полоску бухты, видневшуюся в окне, и, наверное, подумала: «Эх, молодо-зелено. Все-то вы знаете, на все у вас есть готовые ответы, а того не понимаете, что жизнь иногда так круто поворачивает в сторону, что все летит под откос, и тут уж не до диссертаций».
— Вы курите?
Вначале вопрос Анны Алексеевны показался мне несколько странным. Лишь потом я понял, что странным был не ее, а мой вопрос. Разве Анна Алексеевна не сказала перед этим: «И остались мы с Маринкой вдвоем».
— Извините, пожалуйста.
— Чего уж там, — примирительно ответила Анна Алексеевна. — А на мой вопрос вы так и не ответили.
— Курю и еще как.
— Зачем? Это ж как алкоголизм.
Что я мог ответить Анне Алексеевне? Хорошо еще, что в этот момент в комнату вошла Маринка. Она мгновенно оценила ситуацию и сказала:
— Я не знаю, о чем вы говорили, но по лицу нашего гостя вижу, что тебе, дорогая мамочка, в самый раз выпить чашечку холодного компота.
— Вы не обижайтесь, — сказала Анна Алексеевна. — Лично к вам этот разговор не относится. Можете курить сколько угодно, даже здесь.
— Спасибо, — ответил я, отпив глоток холодного отвара сушеного винограда, кизила и еще каких-то диковинных для меня ягод. Между прочим перед разговором о курении я действительно собирался закурить, даже потянулся было в карман за папиросами. Но потом вовремя опомнился и теперь не стал бы курить, даже если бы упрашивали.
— Здесь не надо, — приняла участие в разговоре и Маринка. — Вообще курить не надо. Мама в этом отношении совершенно права.
— Не буду, — ответил я. А что? Не потому, что так хочет эта девчонка, а просто, чтобы испытать свою силу воли.
— Правда, не будете? — обрадовалась Маринка.
— Бросать слова на ветер не привык.
Я заметил, когда Маринка довольна, она, улыбаясь, немного морщит нос. От этого взгляд ее становится немного лукавым. «Посмотрим», — кажется, хочет сказать она.
— Точка, навсегда.
— Хорошо как!
— Маринка всегда радуется, когда ей удается сделать что-нибудь хорошее, — заметила Анна Алексеевна, тоже улыбаясь. В этот момент она была очень похожа на свою дочь. Казалось, что за столом сидят две сестры, только одна из них совсем юная, а другая — постарше.
— Спасибо вам за гостеприимство, — поблагодарил я женщин. — Из-за вашей доброты я не смогу теперь нести воду на гору.
— Сможешь, ты парень дюжий, — в тон моим словам ответила Анна Алексеевна. — В крайнем случае тебе поможет Маринка.
— А меня теперь саму нужно нести на руках.
— Не болтай лишнего, — уже строго заметила мать. Я наполнил ведро водой и, простившись с Анной Алексеевной, пошел через виноградник в гору. Маринка, шедшая вслед за мной, сказала:
— Выйдем за виноградник — там я помогу вам нести ведро.
— Вы что, хотите, чтобы меня засмеяли ребята?
— А они не узнают.
— Узнают — не узнают, я же сам потом себе не прощу.
— Ну тогда поставьте ведро и отдохните. Кстати и виноградник мы уже прошли.
Я поставил ведро на каменистый уступ и машинально вытянул из кармана распечатанную пачку папирос. Только когда начал извлекать папиросу, вспомнил о данном слове не курить. Я перевел взгляд на Маринку. Она с любопытством следила за тем, что я буду делать дальше.
— Не буду, не буду, — я смял пачку и бросил ее далеко в кустарниковые заросли. Маринка, довольная, смешно сморщила свой носик, минуту постояла, молча разглядывая мою неуклюжую фигуру, и сказала:
— Приходите к нам, когда сможете.
— Спасибо, Маринка. Обязательно приду.
— До свидания, — и она подала мне руку, маленькую, почти детскую. Мне даже совестно стало, глядя на свою ладонь-лопату, которую я протягивал Маринке.
2
Пришел я в расположение поста, когда все уже пообедали. Демидченко сидел на камне у края площадки и набивал махоркой скрученную из газетной бумаги длинную воронкообразную трубку, или, как мы называли ее, козью ножку. Меня он, казалось, не замечал, не реагировал даже на доклад о моем возвращении. За время вот такого нарочитого молчания подчиненный, как я заметил, приходил в уныние, а самого Демидченко начинала душить злоба. Но меня не так-то просто вывести из равновесия. Я же понимаю, что он просто ищет придирку. Но для чего?
— Где прохлаждались столько? Вы что, на курорт приехали? — спросил наконец Демидченко.
«Что ему нужно от меня? Ведь я же не претендую на его должность. Да о какой претензии может идти речь, когда я просто рядовой краснофлотец, а он — старшина второй статьи. Я не даю ему ни малейшего повода упрекнуть меня в неуважении к его авторитету командира. Самое большое мое желание состоит в том, чтобы он относился ко мне так, как относится к моим сослуживцам, не более. Но так не получается. Почему? — не раз задавал я себе вопрос. — Неужели есть такие люди, которые за твою помощь готовы преследовать тебя до конца своей жизни? Нет, я не верю в существование таких людей. Тогда что еще может быть причиной, которая заставляет Демидченко так остро ненавидеть меня?» Я теряюсь в догадках, но придумать ничего не могу.
— Отвечайте, когда вас спрашивает командир.
— А что ему отвечать, товарищ старшина второй статьи, когда вы его сами послали, — вступился за меня радист Лученок.
— Вас не спрашивают. Тоже мне адвокат нашелся. Я жду, — напомнил свое требование Демидченко.
— Неудобно было отказываться от угощения.
— Вы что, Нагорный, воинскую службу несете или дипломата из себя корчите? Последний раз предупреждаю! — пригрозил Демидченко и ушел на противоположный склон горы.
— Не расстраивайся. Ну его к черту, — сказал мне Лученок. — Тут мы оставили тебе первое и второе.
— Спасибо, я уже пообедал.
— Га! Что я вам говорил? — крикнул Семен Звягинцев и перешел на скороговорку. — Он же тешшу заимел. А какая тешша отпустит своего зятя непообедавши? Когда Колька привел эту кралю, я сразу смекнул, что к чему.
Рядом сидевший Петр Музыченко отодвинул свой котелок и без подготовки ответил Звягинцеву четверостишием:
— Мы тэбэ поставым, Сеня, замисть кулэмэта, и строчы очэрэдямы из свого сэкрэта.
Музыченко был родом из Волыни и по своей внешности очень походил на Тараса Шевченко в молодые годы. Сходство с украинским поэтом дополняли усы и лысеющий лоб. А ведь Петру было всего двадцать лет. Добродушный, с мягким характером, Музыченко тем не менее становился едким, когда кто-нибудь наносил другому обиду. Особенно часто доставалось от него Звягинцеву. Донять Петра чем-либо невозможно, и это скоро усвоил Звягинцев. Семен, как только Музыченко начинал с ним вести словесную баталию, делал вид, что у него полно неотложных дел, и уходил в другое место.
— Сам ты кулэмэт, — ответил Петру Звягинцев.
— Зачем ты с ним связываешься? Пусть бы трепался, пока не надоело, — сказал я Петру, когда Семен ушел.
— На кращэ закуры.
— Спасибо, Петя. Не курю, бросил.
— Колы?
— Может, с час тому назад.
Музыченко засмеялся, приняв мои слова за каламбур.
— Скоро заступыш на вахту, тоди знов почнэш курыты.
Я не стал разубеждать Петра и принялся за чистку карабина.
На юге сумерки короткие. Едва солнце скроется за горизонт, сразу же начинает темнеть. В безлунные ночи, когда небо затягивается облаками, темнота становится непроглядной. Опасны тропы в горах для тех, кого застает в пути такая ночь. Сегодня было полнолуние. Перед заступлением на вахту я поднялся на гребень горы и начал любоваться лунной дорожкой на море. Вспомнилась бывшая в ходу открытка «Ласточкино гнездо в лунную ночь». Почему-то стало немножко грустно. Может быть, от того, что еще совсем недавно я был школьником, ходил с одноклассниками в кино, пытался, правда, безуспешно, ухаживать за Наташей Миняевой. До чего же я был тогда наивным. Пытаться ухаживать за лучшей красавицей не то что класса, а, можно сказать, всей школы. В нашем районном центре стояла авиационная часть. Девчонки нашей школы с ума сходили от летчиков в сине-голубой форме. Однажды на школьном вечере наш класс выступал с литературным монтажом. Я играл роль военного летчика. Девчонки достали для меня форму. Если бы кто видел, что творилось в тот вечер: на меня смотрели во все глаза. Сине-голубые отвороты френча, белоснежная рубашка, галстук, лейтенантские знаки отличия в виде выпуклых вишнево-красных квадратных пластинок в голубых петлицах. Даже красавица Наташа и та не смогла равнодушно смотреть на меня в тот вечер. Но то был только один раз. Где они теперь, мои бывшие одноклассники?
Луна поднялась выше и теперь, когда западный горизонт потемнел, стала ярче, но по-прежнему холодной и таинственной. Таинственной? Почему это слово меня вдруг встревожило? Я лихорадочно начал перебирать в памяти последние события. Стоп! Первая встреча с Маринкой. «Что это?» — «Простой фонарик». — «А для чего он?» — «Освещать себе дорогу... ночи теперь безлунные». — «Ничего себе безлунная ночь», — подумал я, всматриваясь в полную, особенно яркую по краям луну.
Только теперь я понял, что девчонка обманула меня, оставила в дураках. Да и не только меня, Демидченко — тоже. И зачем только понадобился ей этот фонарик? Наверное, какие-нибудь девичьи причуды. Но как я не сообразил тогда, что ночи теперь лунные. Интересно, как бы она вышла из положения, уличи я ее в обмане сразу. Придумала бы что-нибудь, нашла бы объяснение. «Я и забыла, — могла бы сказать. — По привычке все это, машинально». А почему бы и нет, если привыкла к прогулкам по склонам этой горы. О нашем приходе сюда знать она не могла. Так думал я, но не Демидченко. Встретив меня перед кубриком (так мы называем помещение, в котором размещалась радиостанция), он сказал:
— А эта птичка того...
— Какая птичка? — прикинулся я непонимающим.
— Не строй из себя дурочку. Понимаешь, о чем разговор.
Понимать-то я понимал, но еще не знал о его догадках. Неужели и он вспомнил о фонарике?
— Ты не забыл, что она нам плела?
— Нет, а что?
— Как что? Посмотри на эту безлунную ночь, — и он кивнул головой на ночное светило.
— Ну то, что она испачкалась, в этом, пожалуй, нет ничего особенного. А вот фонарик... Хотя что фонарик? Ну был бы он у вас или у кого другого. И что?
Демидченко начинала злить моя «непонятливость».
— Сам фонарик, конечно, ерунда, о нем не стоило бы и говорить. Но зачем ей понадобилось обманывать нас? Мы же не просто молодые парни, которых девчонка может водить за нос, а военные. И дело, стало быть, у нас военное, государственное.
— А при чем тут она?
— Почему она оказалась в расположении нашего поста?
— Товарищ старшина второй статьи, а вам не приходила в голову мысль, что не она, а мы оказались в расположении ее привычных мест прогулок.
— Прямо беда мне с этими философами. И как это у вас получается? Ясное дело — и так вы его перевернете, что просто не узнать.
— Беда в другом.
— В чем же? — для Демидченко было ясно, о чем шла речь. Но ему нужно втянуть меня в такой разговор, который можно было бы использовать потом в своих неблаговидных целях.
— Беда в том, — ответил я ему, — что мы иногда наводим тень на ясный день.
— Кто это мы?
Демидченко явно принимал меня за дурака.
— Мы — это вы.
— Так, — произнес командир. Раньше, на курсах радиотелеграфистов, он звал меня Колей, в крайнем случае — Николаем. Теперь в минуты относительно хорошего настроения Демидченко называет меня по фамилии, в состоянии раздражения к слову «Нагорный» прибавляет еще одно слово — «товарищ». «Товарищ краснофлотец Нагорный» выражает чувство гнева. В состоянии ярости эти слова заменяются коротким «вы». При бешенстве все формы обращения ко мне принимают безличный, неопределенный характер. «Ну и разгильдяйство, — может сказать Демидченко. — И когда уже будет этому конец?» Стоит в такие минуты спросить: «А что я такого сделал?», как тут же последует такой же неопределенный, но полный угрозы ответ: «Когда-нибудь разберемся. Время — оно такое: все ставит на свои места». — «Это уж точно», — соглашался я с командиром.
— Вы были у них дома, — немного успокоился Демидченко. — Как они?
— Люди как люди. По-моему, даже хорошие.
— Плохие сначала тоже кажутся хорошими.
Я все чаще задаю себе вопрос: почему так резко изменился характер Васьки? Теперь начинаю понимать, что не изменился, остался прежним. Да за такое сравнительно короткое время он и не мог измениться. Эгоист остается эгоистом всегда, при любых условиях, в любой обстановке. Он, как хамелеон, меняет лишь поведенческие реакции: в условиях зависимости угождает, приторно льстит, наушничает; в подходящей обстановке— мстит неугодным, создает атмосферу подозрительности, окружает себя такими же людьми, как и он сам. Как отличить эгоиста от порядочного человека? Как отличить от цветущих растений африканского хамелеона, который принимает окраску не только зеленых листьев, но и желтых цветов? Нелегкая это задача. Решение оказалось не под силу не только мне, но даже тем командирам, которые присваивали Демидченко звание старшины второй статьи. Теперь же моя задача заключается в том, чтобы, как говорят, не наломать дров. В моем положении, когда я не знаю истинной причины его ненависти ко мне, когда любой мой шаг можно истолковать так, как вздумается моему командиру, это тоже нелегкая задача.
В сложившейся ситуации с Хрусталевой возражать Демидченко, как я понял, бесполезно. Лучше взять инициативу на себя, разобраться во всем и потом спокойно сказать: «Все нормально, товарищ старшина второй статьи».
— Чтобы не оказаться нам ротозеями, разрешите, товарищ командир, разузнать все поподробнее, — обратился я к Демидченко.
— Вы, краснофлотец Нагорный, подбирайте выражения. Уж много вы на себя берете.
Напыжился индюк, распустил свои перья. Обиделся за «ротозея».
— Товарищ старшина второй статьи, ведь кашу заварил-то я, мне и расхлебывать ее. А значит, ротозеем могу оказаться именно я, а не кто-нибудь другой.
Это, кажется, немного успокоило Демидченко.
— Конечно, надо бы проверить. Но как? Сразу раздувать это дело, может, не стоит.
— А если сделать так, — предложил я, не очень веря в то, что Демидченко согласится с моим планом. — Схожу в школу, где учится Маринка. Под удобным предлогом узнаю, кто она и чем увлекается.
— Какой же предлог можно придумать?
— Связь с комсомольцами класса, в котором учится Маринка. По-моему, это стоящее дело.
— Пожалуй, — согласился Демидченко. — Пошлем для этого дела Звягинцева.
Я так и знал, что Демидченко, если в чем-то и согласится со мною, то сделает так, чтобы моего участия в этом не было.
— Товарищ старшина второй статьи, — сделал я еще одну попытку поправить дело, — кто пойдет в школу, это не имеет значения. Но важно другое, важно не испортить дела. Ну кому, как не мне, хорошо знакомому с семьей Хрусталевых, удобнее и проще довести дело до конца?
Шла бы речь о чем-либо другом, Демидченко, я глубоко убежден, ни за что не согласился бы с моим предложением. Но в этой ситуации он все же вынужден был пойти на уступку:
— Ладно. Только без фокусов.
Что он имел в виду, говоря о фокусах, я так и не понял.
На следующий день в свободное от вахты время я привел в порядок свой гардероб: почистил фланельку и прикрепил к ней новый воротник, выутюжил брюки, заменил в бескозырке ленту, надраил до зеркального блеска бляху в поясном ремне, вычистил ботинки. Тут, как всегда, не обошлось без вмешательства Звягинцева. Первое, что я увидел перед собою во время чистки форменной одежды, нос Семена, длинный, как клюв у птицы ходулочника. Звягинцев был на редкость худощав. Над впалыми щеками выпирали скулы, между которыми темнели глаза, похожие на куски древесного угля. Многие удивлялись тому, что Семен ел за двоих и все равно оставался худым, как щепка.
— Так-так. Собираемся, значит? Интересно знать, куда?
— Выполнять дипломатическую миссию.
— Чего-чего?
— Больше сказать не могу. Секрет особой важности.
— Не трави. Знаем, какой секрет, — не поверил Семен.
Подошедший Музыченко прервал наш разговор экспромтом:
— Ты, Сэмэнэ, любопытный, лизэш скризь бэз спроса. Колы-нэбудь ты лышышся чепурного носа.
— Как это? — не понял Звягинцев.
— А так. Всунэш свий нис в щэлыну, а його можуть прыдавыты двэрыма. Зрозумив?
Музыченко не отступился бы от Звягинцева, если бы в это время его не позвал к себе командир отделения.
— Личы, що тоби повэзло.
— До чего же вредный этот хохол, — заключил Семен, когда ушел Музыченко.
— Ты напрасно обижаешься на него, Петр справедливый парень.
В полдень я уже был в школе, в которой училась Маринка. В коридоре и в учительской никого не оказалось, и я вынужден был ждать окончания урока. Что ж, пожалуй, это даже неплохо. Я успею прочитать школьную стенную газету. А вот этот стенд «Наши спортивные достижения», кажется, будет особенно интересным. В числе лучших спортсменов школы была и Марина Хрусталева, мастер спорта по стрельбе. На меня смотрели уже знакомые глаза. Выражение ее лица было немного удивленным, словно девушка хотела спросить: «А вы как сюда попали?»
Раздался звонок. Минуту стояла прежняя тишина. Затем появился приглушенный, временами прерывистый, как подземные толчки, гул. Первыми открылись двери пятого «А» и шестого «Б» классов. Тугой волной ударились о стены коридора голоса непоседливых мальчишек и девчонок. Вскоре коридор был похож на потревоженный муравейник. Не успел я опомниться, как меня уже дергал за рукав один пострел:
— Дядя, вам кого?
Ведь года же не прошло, как в школе, в перерывах между уроками, я щелкал по лбу вот таких же «чижиков», как этот сорванец. Года! А уже «дядя».
— А вы не с корабля — услышал я рядом такой же звонкий голос.
— Ты что, не видишь, что написано? «Береговая оборона», — авторитетно разъяснил этим двум мальчишкам третий.
— Ребята, — решил я сократить начавшийся разговор. — Где находится комитет комсомола вашей школы?
Мне охотно показали комнату, на дверях которой была табличка с надписью «Комитет комсомола». Постучав и получив разрешение войти, я открыл дверь и увидел за столом двух девушек.
— Вам кого, товарищ — спросила одна из них (хорошо, что хоть не «дядя»).
— Мне бы поговорить с секретарем.
— Товарищ Зыкова в горкоме комсомола.
— Тогда с заместителем.
— Я — заместитель. Нуриева Зоя, — девушка протянула мне руку. — Слушаю вас, товарищ.
Я изложил цель своего прихода.
— Это очень хорошо. С каким же классом вы хотели бы установить комсомольскую связь?
— А Марина Хрусталева в каком классе?
— В десятом «В».
— Тогда с десятым «В». А где можно было бы увидеть комсорга?
— Валя, — обратилась Нуриева к другой девушке, — сходи, пожалуйста, за Хрусталевой.
— Раз этого требуют интересы береговой обороны, так и быть, схожу.
Острых на язык выбрали в комитет комсомола.
— Скажите, пожалуйста, — вновь спросила Зоя, которую, казалось, не вполне удовлетворил мой ответ. — А какую форму шефской работы вы могли бы предложить?
«В самом деле, какую? До сих пор я как-то не думал об этом. А надо бы. Иначе зачем же тогда я шел в школу?» — лихорадочно обдумывал все возможные варианты.
— Формы могут быть разные.
— Глубокая мысль, — не без иронии заметила Нуриева. — А конкретно?
— На первых порах можно было бы обучить комсомольцев меткой стрельбе, — и мысленно добавил: — Этой палец в рот не клади.
— Это уже кое-что.
В комнату вошли Валя и Хрусталева.
— Марина, ты знаешь этого товарища? — спросила Нуриева.
— Да, — покраснев, ответила Маринка.
Как ей идет румянец! Я на мгновение забылся. Почему-то вспомнилось поле с дозревающей гречихой и заря перед восходом солнца. Где-то совсем близко ошалело бьют перепела: «Так пойдем! Так пойдем!» Наступает час пробуждения природы. Я всматриваюсь в окружающее и вижу его таким, каким оно было вчера, и уже не таким. Появилось что-то неуловимо новое. Вот и Маринка. Ведь я видел ее совсем недавно. Тогда она казалась мне такой же девушкой, как и многие другие. Ну, может, чуточку лучше. А сегодня? Сегодня она уже другая.
— Товарищ Нагорный, — объясняла Курнева, — просит от имени комсомольцев своего подразделения разрешить шефство над вашей группой. Что скажешь на это, Хрусталева?
— Я за. Но надо посоветоваться еще и с ребятами.
— Будем считать вопрос решенным. Советуйся. Что еще требуется от комитета комсомола?
Вопрос был обращен ко мне, и я ответил:
— Теперь вроде бы все. Спасибо вам. До свидания.
Из комнаты мы вышли вместе с Маринкой.
— Как это вы так сразу? — спросила она.
— Да вовсе и не я, а наш командир.
— Ах не вы?
— Собственно...
— Не будем больше об этом говорить. После уроков приходите в десятый «В». Там мы и обсудим ваше предложение, — и Маринка, дав понять, что разговор окончен, ушла к своим подругам.
«Э-э, да мы еще и с характером, — подумал я, спускаясь по ступенькам вниз. — Ох, эти женщины! Даже самые юные из них легко усваивают, что право на внимание — прерогатива женщин, и те из мужчин, которые забывают об этом, не достойны внимания женщин».
До окончания уроков в десятом «В» классе оставалось более двух часов, и я решил скоротать время за прогулкой по городу. Кроме того, мне как военному, подразделение которого расположено в непосредственной близости от Балаклавы, необходимо хорошо знать этот город. И чем скорее я это сделаю, тем лучше и для меня и в какой-то степени для самой Балаклавы, мир и покой которой я призван беречь так же, как и свой дом.
Набережная бухты в это время была пустынна. Лишь метрах в двухстах от меня, ближе к морю маячила фигура какого-то подростка. В одном месте я спустился по ступенькам вниз, к самой кромке берега. Вода в заливе чистая, прозрачная, сверху— теплая, глубже — холодная. Долго держать руку глубоко в воде нельзя: сводит пальцы. При попытке зачерпнуть пригоршней воду мальки, стайками плававшие у берега, юркнули в сторону. Я погрузил руку в воду и замер. Некоторое время они опасливо обходили ее, но потом осмелели настолько, что спокойно проплывали между растопыренными пальцами, стукались о них своими булавовидными головками.
Подросток, к которому я подошел, сидел и удил рыбу.
— Ты почему не в школе? — спросил я его. Мальчик оторвал свой взгляд от поплавка, посмотрел на меня, как на незваного гостя и, сплюнув сквозь зубы, ответил:
— А ты почему не на службе?
Такого вопроса я, признаться, не ожидал. Нахаленок, да и только.
— Ты почем знаешь, что я не на службе?
— Не видно, что ли. Я хоть каким-нибудь делом занимаюсь, а ты, вижу, только и знаешь, что камни шлифуешь. Ждешь кого?
Ну и чертенок! Все-то ему знать надо.
— Так почему же все-таки ты не в школе? Или бросил?
— Не-э. Отпустили раньше: физрук заболел.
В одном из ближних дворов женский голос звал какого-то Петю.
— Тебя, что ли?
— Не-э. Я живу в начале улицы.
— Севастопольской?
— Угу-у.
— Сосед Хрусталевых, значит?
— Угу-у.
— Выходит, ты знаешь и Анну Алексеевну, и Маринку?
— Угу-у.
— Ну, брат, заладил. Все «угу» да «угу». Ты что, других слов не знаешь? — этого не надо было говорить мальчику: мог обидеться, и тогда я и слова не вытянул бы из него. Но и одни «не-э» и «угу» тоже почти ничего не давали. Поэтому, чтобы сгладить впечатление от последнего замечания, я сказал:
— Мы вот беседуем с тобой, а я даже не знаю, как тебя зовут. Меня, например, величают Николаем Нагорным, — свою фамилию я сообщил умышленно, рассчитывая на то, что и мой собеседник сделает то же самое.
— А меня — Кирюхой, — ответил мальчик. Я уже начал досадовать на то, что расчет мой не удался, как Кирюха добавил: — Пуркаевым.
— Не ссоритесь с Хрусталевыми?
— Не-э. Анна Алексеевна как моя мамка.
— А Маринка?
— Так она ж дочь Анны Алексеевны, — в представлении Кирюхи этим было сказано все.
Сознаюсь, что поступил я нехорошо, начав расспрашивать о друзьях Маринки. Кирюха мог потом рассказать об этом самой Маринке, и я навсегда потерял бы ее уважение. Но что я мог поделать с собою?
— А много у Маринки друзей?
— Так они ж всем классом дружат.
— И мальчики?
Кирюха посмотрел на меня, словно хотел уточнить, в каком смысле следует понимать мой вопрос, и ответил:
— И ребята тоже, — а потом добавил: — Недавно Генка Козлов из десятого «А» начал насмешничать над Маринкой. Так ребята зазвали его вечером на берег и как будто нечаянно толкнули в воду. А когда он вылез, сказали: «Если будешь нахальничать, спрячем тебя так, что не найдет самый лучший водолаз Черноморского флота».
— Теперь не нахальничает?
— Не-э.
— Молодцы ребята. Ну, Кирюха, кончился перерыв в моей службе, теперь я должен идти. Так что, будем друзьями?
— Будем. А где я тебя найду?
— Я сам тебя найду. Давай твою пуркаевскую руку и до встречи.
В то время, когда я вернулся в школу, занятия во многих классах уже закончились. Раздался последний звонок. Открылись двери и десятого класса «В». Пересекая коридор, я почувствовал, что робею. Этого только и не хватало. Я окончательно смутился, когда при моем входе в класс все ребята встали. Кажется, меня никогда еще так не бросало в жар, как в тот момент. На передней парте, ближе к учительскому столу, сидели две девчонки. Одна из них, с челкой до бровей, повернув голову в сторону своей подруги и не отрывая взгляда от моего красного лица, посмеивалась и о чем-то быстро говорила.
Маринка стала за стол и сказала:
— Наговорились, девчонки? А теперь к делу, — она представила меня классу и коротко сообщила о цели моего прихода. — Всем понятно? А теперь высказывайтесь. Мальчики!
— Почему только мальчики? — выразила недовольство Лида, девчонка с челкой до бровей.
— Потому как дело это серьезное, — бросил реплику паренек, которого, как я потом узнал, звали Иваном Бобром.
— Мужское, значит? — последовал иронический вопрос.
— Во всяком случае не женское.
— А скажите, товарищ Бобр, вырастить урожай сахарной свеклы по пятьсот центнеров с гектара — это много или мало?
— Смотря где. В Балаклаве, например, ты не получишь и центнера.
— А установить рекорд в полете на дальность — это как, по-твоему, серьезное дело?
— Серьезное, ну и что?
— А то, дорогой товарищ Бобр, что все это сделали женщины и теперь Мария Демченко— награждена орденом Ленина, Гризодубова Валентина, Раскова Марина, Осипенко Полина — Герои Советского Союза. И выходит, Ваня, твоя мама напрасно на тебя тратилась: ты зря протирал штаны в школе.
— Налегай, Бобр, на лопатку и скорее прячься в хатку, — бросил кто-то рифмованную реплику и сам первый засмеялся.
В классе поднялся смех. Напрасно Маринка старалась успокоить ребят. То тут то там слышались новые реплики, шутки, колкие прибаутки.
— Да тише, вы! — стукнула Лида книгой об парту. — Вам бы только посмеяться. А если серьезно, то мы уже взрослые люди и относиться к делу должны серьезно.
— Правильно, Лида! Им лишь бы позубоскалить.
— А конкретно, — обратилась ко мне Маринка, — чем бы вы могли помочь нам?
Я повторил свое предложение, высказанное в комитете комсомола.
— Понимаешь, матрос, — поднялся со своего сиденья сосед Лиды Толя Кочетков, — в этом деле есть одна маленькая заковыка.
— Какая ещё заковыка? — не понял я.
— Дело в том, как бы это мягче сказать...
— Да чего уж там, говори, как есть.
— Дело в том, — повторил Толя, — что обучать меткой стрельбе можно. Но лучше, если это будем делать мы, а не вы.
— Ну и Кочетков! — удивилась Лида. — Да ты-то хоть понимаешь, что говоришь?
— Не волнуйтесь, товарищ Михеева, мы тоже с понятием, — ответил Толя и добавил, обращаясь ко мне. — Наша Хрусталева — мастер спорта и не по какому-то там бегу на короткие дистанции, а именно по стрельбе. Разъяснять это, по-моему, не стоит.
Чертов Кочеток! Кто бы мог подумать, что он способен на такой финт. Даже класс замер, ожидая, что же я отвечу на этот коварный вопрос. Но тут выручила меня Лида Михеева:
— А какая специальность у вас, если это не военная тайна?
— Да нет, какая же это военная тайна, — ответил я, хотя не был убежден, что следует говорить всем о моей военной специальности. — Радист.
— Так это ж здорово! И вы знаете азбуку Морзе?
— Ну а как же. Без этого нам нельзя.
— И радиотехнику?
— Само собой.
— Девчонки! — в восторге воскликнула Лида. — Это ж такая специальность! Представляете? Разные там позывные...
— Представляем, — прервала Михееву Маринка. — Ты, конечно же, будешь «ромашкой».
— Маринка! — произнесла Лида так, будто открыла какую-то тайну. — Мы начинаем сердиться. Что это значит?
— Михеева! Что за глупости ты говоришь?
Маринка, поняв, что поступила опрометчиво, сердито посмотрела не только на Лиду, но и на меня. Ну а я-то причем? Чтобы сгладить возникшую неловкость, я сказал:
— Товарищи, я понял, что вы согласны обучаться радиоделу. Ну, может быть, не все, а хотя бы часть. Мы посоветуемся в нашей комсомольской группе. Доложим командованию. Думаю, что нам не откажут. И последнее, — добавил я. — Чтобы разговор у нас был поконкретнее, надо выяснить, сколько у вас желающих заниматься в радиокружке. Вам это нужно для учета, нам — для аргументов в беседе с командованием.
— Это мы мигом, — Лида быстро извлекла из портфеля тетрадку, вырвала из нее два листа и спросила Хрусталеву:
— Тебя записывать?
— Я еще не знаю.
— Запишу, а там как хочешь.
В списке оказалось двенадцать человек. Нормально. После собрания ко мне подошла Лида Михеева и спросила:
— Скажите, пожалуйста, а девушек принимают в береговую оборону?
Подружка, с которой Лида сидела за одной партой, услышав ее вопрос, подошла к нам поближе и сказала вполголоса:
— Тебе, Лида, пора уже выходить замуж и рожать детей, а не служить в береговой обороне. Ты идешь домой или нет?
— Иди, я тебя догоню, — ответила Лида.
Замечание подруги не произвело на нее ни малейшего впечатления. Михеева и в самом деле выглядела вполне созревшей для материнства. Даже своеобразная прическа подчеркивала в ней строгую, неброскую красоту. Длинные волосы сзади были подвернуты внутрь и, казалось, в таком виде чем-то закреплены.
— Болтушка, — незлобиво заметила Лида. — Нет, а в самом деле, есть в ваших частях девушки?
— Конечно есть. Возьмите, например, санитарные части. Там медицинские сестры— женщины.
— Нет, я имею в виду не медицину, а другие специальности.
Хрусталева уже ушла домой. Я собирался было проводить Маринку и договориться о том, где и когда мы начнем занятия, но ее и след уже простыл. Видно, Лида все же заметила мою плохо скрытую досаду и сказала:
— Извините, что задержала вас. Догоняйте Хрусталеву. Она, наверное, ждет вас где-нибудь у выхода.
Я было поверил этому наивному с моей стороны предположению, наивному потому, что у Маринки, как я уже успел заметить, гордости было хоть отбавляй. У выхода школы Хрусталевой не оказалось. Все правильно. Так оно и должно быть. Ну нет, так нет. Лично мне все это безразлично. И если я сейчас зайду к ней домой, то лишь с единственной целью — согласовать дни и часы занятий по радиоделу.
Во дворе Хрусталевых меня встретила Анна Алексеевна.
— А, матрос? Заходи — гостем будешь.
— Я только на минуточку, поговорить с Маринкой по общественным делам.
— Она еще не пришла, хотя по времени уже должна быть дома. Подожди, если хочешь. А вот и она. Мы ее ждем со стороны улицы, а она из виноградника пожаловала. Уж не задержали ли тебя снова на горе?
— Нет. Заходила к Пуркаевым.
Анна Алексеевна сослалась на занятость делами и ушла в дом. Странное чувство овладело мною. Как будто я в чем-то провинился перед этой девушкой. И, удивительное дело, она, казалось, понимала мое состояние и терпеливо ждала, с чего я начну.
— Я рассчитывал, что после собрания мы пойдем домой вместе и по дороге договоримся о занятиях.
— И кто же расстроил ваши планы?
— Да Лида задержала.
Маринка промолчала. Я не люблю молчаливых реакций. Не люблю прежде всего за их неопределенность. Молчание может означать все что угодно: готовность выслушать твои доводы, согласие с ними, сомнение в правильности твоих суждений. Чаще же молчанием выражают осуждение. Как тут разобраться в этой смеси значений? На что можно опереться в состоянии невесомости? Ты хочешь привести аргументы и не можешь, так как не знаешь, что нужно аргументировать. Все это очень похоже на игру, в которой один партнер, с повязкой на глазах, должен поймать другого — с колокольчиком в руках. Ты идешь на звон колокольчика, но партнер оказывается в стороне, а иногда и сзади, с вытянутой вперед рукой. И если бы в молчании было только осуждение, а то в нем часто выражается еще и превосходство над тобой.
— В чем ты меня упрекаешь? — спросил я Маринку.
— С чего вы взяли, что я упрекаю вас?
Вот та неопределенность, которая присуща молчанию.
— Ладно, извини, пожалуйста, если что не так. Ты проводишь меня?
— Проведу за виноградник.
Как и вчера, мы шли по тропинке, которая разделяла виноградник на две части. Виноградные лозы, казалось, только теперь пробудились от зимней спячки. Еще вчера здесь стояли голые прутики, а сегодня на них появились буроватые почки, а кое-где и прорезающиеся листочки. Зато на обочинах тропинки во всю весеннюю мощь буйствовало разнотравье. Вытянув руки в стороны, я легонько касался молодых побегов виноградника. Они, проскользнув между разведенными пальцами, долго затем качали своими верхушками, словно недоумевали: «И ветра нет, а неспокойно».
Кончился виноградник, и мы вышли к каменистым уступам подножья горы.
— Вон лежат ваши папиросы, — указала рукой Маринка на пачку, выброшенную мною вчера. — Скажите честно, хотите курить?
— Хочу, но не буду. Если бы я нарушил слово, то перестал бы уважать себя. Говорят, что совесть человека ни с кем так не сговорчива, как со своим хозяином. Не знаю, может, это и так, но лично у меня отношения с ней строгие, — я только сейчас обратил внимание на то, что обращаюсь к Маринке на «ты» уже в третий, если не в пятый раз. И она не делает мне замечаний. Но сама говорит мне «вы».
— Интересно, где вы вычитали слова о сговорчивости совести с человеком?
— Не помню. Может, это моя фантазия, — сказал я, всматриваясь в какие-то развалины у берега моря. — Это что у вас, заброшенная стройка?
— Да, что-то в этом роде, — ответила Маринка.
— Любят же некоторые руководители выбрасывать деньги на ветер.
— Какой с них теперь спрос?
— Что, разбежались?
— Кто куда.
— А почему сразу за руку не схватили?
— Как бы не так, схватишь их, когда они разбежались еще пять веков тому назад.
Только теперь я понял, что Маринка меня разыгрывала. Ну откуда мне было знать, что это — руины древних генуэзских башен? Рассмеялись мы оба: я — немного натянуто, Маринка — до слез. Немного успокоившись, Маринка сказала:
— Теперь я разыграю свою маму. Она у меня депутат горсовета и, сами знаете, несет определенную ответственность за порядок в городе. Сейчас приду и скажу: «Кто в городе хозяева?» — «Все, — ответит она и добавит, — в том числе и вы, юная гражданка Хрусталева». — «Это фактически, а юридически? Ты, дорогая мамочка. Так вот, на тебя поступила жалоба от военнослужащего Нагорного». — «Какая жалоба?» — встревожится она. — «Краснофлотец Нагорный, глядя на руины древних генуэзских башен, возмущался тем, что городские власти Балаклавы забросили стройку. Говорил, что нерадивых руководителей надо привлекать к строгой ответственности». Ну как?
— Здорово получится, — согласился я. — Но после этого мне нельзя будет показываться на глаза Анны Алексеевны.
— Ничего, покажетесь, если захотите.
— Маринка, если уж и придется гореть со стыда из-за этих чертовых башен, то хоть покажи мне их, а заодно и расскажи, что знаешь.
— Рассказать я в другой раз расскажу, но пойти к ним — я не пойду.
— Почему?
— Я не могу этого объяснить.
«Вот тебе и обмен знаниями», — подумал я и сказал:
— Не веришь, значит. Ну что ж, это, как говорится, дело такое: хочу — верю, хочу — нет. Бывай, как говорит наш Михась.
3
Простившись с Маринкой, я неторопливо начал взбираться на гору, время от времени поглядывая на развалины башен. До них было около километра, и я уже начал подумывать, не изменить ли мне маршрут. Однако время было позднее, и я решил отложить свое знакомство с башнями на другое время.
В расположении нашего поста жизнь шла своим размеренным порядком. Все давно уже пообедали и теперь отдыхали. Музыченко нес вахту на посту наблюдения за окружающим воздушным пространством. У рации (так называли мы переносную портативную радиостанцию) дежурил Михась Лученок. Родом Михась был из Пинщины. С нами он чаще говорит на своем родном белорусском языке. Букву «с» в сочетании с некоторыми гласными произносит как очень мягкое «шь». Спросишь Лученка: «Сколько человек в отделении?» — «Шямёра» (семеро), — ответит. Или: «Отчего у тебя такие светлые брови и ресницы?» — «Мушиць ад сонейка» (должно быть, от солнышка). — «Как ты думаешь, Михась, будет ли в этом году сено?» — «Шёлета шена мушиць быть» (в этом году сено должно быть). Через час я должен сменять Лученка.
На площадке показался Демидченко. Увидев меня, он остановился. По его недоброму взгляду я понял, что дело мое — табак. Он даже не выслушает меня, а если и выслушает, то не захочет понять. Но я сознавал и другое — надо немедленно доложить о своем прибытии, доложить официально, по всем уставным правилам. Я быстро подбежал к Демидченко, приложил руку к бескозырке и бодрым тоном подчиненного произнес:
— Товарищ старшина второй статьи, разрешите доложить:
— Хоть я и предупреждал, а без фокусов все-таки не обошлось, — прервал меня Демидченко.
«Вот что означали фокусы — опоздание», — подумал я.
— Наряд вне очереди.
— Есть наряд вне очереди.
— А теперь докладывайте. Можете стоять «вольно».
Я все больше и больше начинаю думать, что Демидченко хочет избавиться от меня, любым путем, во что бы то ни стало. Для этого он ищет только повод. Но если это так, то почему не отказаться было от меня раньше, когда формировался пост? Ведь тогда, мне кажется, достаточно было одного его слова, и меня бы отчислили. И не было бы никаких проблем ни для меня, ни для него. Так нет же, согласился. Почему? Об этом знает только он.
— Докладывайте, говорю, — повторил Демидченко.
— Ну что. Семья положительная. Маринка — комсорг, мать — депутат горсовета.
— Вот, значит, как.
— Собрание провели. Двенадцать комсомольцев десятого класса «В» записались в радиокружок. Шефство приняли. Теперь надо помогать.
— А кто такое разрешение давал?
— Так ведь, товарищ старшина второй статьи, вы же сами согласились.
— Согласиться-то я согласился, но не на радиокружок.
— Так захотели комсомольцы.
— Мало ли что захотели. А где возможности? У нас что, учебные курсы, где все есть?
«А ведь может сорвать дело, стервец, — подумал я. — Сошлется на боевую подготовку, освоение незнакомой местности, отсутствие учебного оборудования да на что угодно. И ни к чему не придерешься. А что если припугнуть его малость?»
— Товарищ старшина второй статьи, я им то же самое говорил. Но они свое: «Мы обратимся к вашему командованию». Я подумал, а вдруг и в самом деле к комиссару дивизиона дойдут. А с ним, вы знаете, лучше не связываться.
— Тебе, Нагорный, ничего нельзя поручать: любое дело провалишь. Заварил кашу, сам теперь и расхлебывай, доставай ключи, зуммер, наушники, питание, шнуры, все, где хочешь.
Я сделал вид озабоченного человека, почесал затылок и сказал:
— Правильно говорит в таких случаях Музыченко: «Нэ мела баба клопату, та купыла порося». Как будто мне больше всех надо.
— Отставить разговоры! Выполнять приказ.
— Есть отставить разговоры и выполнять приказ.
Нет, Демидченко не такой уж простак, как я думал. По его расчету, я ничего не смогу достать для оборудования учебного класса. В этом случае вся вина за срыв шефской работы среди учащихся ляжет на меня. Демидченко получит дополнительный козырь для характеристики меня как недисциплинированного бойца, нерадивого краснофлотца не только в боевой подготовке, но и в общественной работе.
Только теперь я ощутил, как сильно проголодался. И хотя обед уже давно остыл, мне он показался вкуснее обычного. Перед заступлением на дежурство я вышел на гребень горы, где нес вахту Петр Музыченко. Со стороны моря наша гора была неприступной. Ее стена лишь у самого подножья становилась покатой, на всем остальном протяжении она была почти отвесной. У южного края гребня горы, над пропастью, висел металлический мостик. Края его были замурованы в скалу. Совершенно очевидно, что когда-то мостик использовался как наблюдательный пункт. Но, судя по толстому слою ржавчины, покрывавшей металлические опоры, времени прошло с тех нор немало.
— Ты нэ здумай статы на той мостык, — предупредил меня Музыченко. — Враз можэш рухнуты.
— Он же почти новенький, — ответил я шутливо.
— Та хто ж кажэ, що вин старый? Йому, можэ, рокив сим, — сделал паузу Петр, — дэсять як будэ, той гаразд. А симдэсять рокив — цэ симдэсять, нэ симнадцять. Цэ ты добрэ розумиеш и сам. Його будувалы, можэ, в мынулому сториччи, пэрэд Севастопольскою обороною. На цьому мостыку, можэ, сам Нахимов стояв.
С края гребня горы хорошо были видны и прибрежная часть Балаклавы, и берег моря, и начинающиеся отсюда Крымские горы.
Рядом с нами по скале стремительно проплыла тень крупной птицы. Мы подняли вверх головы и увидели орла, парившего по кругу на высоте не более пятидесяти метров. До этого мне ни разу не приходилось видеть его так близко. Ни одного взмаха крыльями.
— Чого цэ вин розлитався? — спросил Музыченко.
— Не догадываешься?
— Можэ, тут його гниздо?
— А ну давай спустимся немного вниз и спрячемся под тем кустом.
Мы укрылись. Орел сделал еще один круг, а потом направился в сторону моря, развернулся и, плавно снижаясь, подлетел к крутому скалистому выступу, расположенному метрах в шестидесяти от нашего поста. Выступ представлял собою своеобразную колонну, отвесно уходившую вниз, в пропасть. Вершина этой колонны была отделена от основной скалы небольшой расщелиной, по бокам которой росли густые кустарники.
Едва орел сел на вершину скалистого выступа, как из кустарниковых зарослей вылетела еще более крупная птица. Немного взмыв вверх и не сделав ни одного круга, она направилась в сторону моря. Только теперь мы увидели у края расщелины огромное гнездо из сучьев, замаскированное кустарниками. Орлиное гнездо располагалось метров на двадцать ниже верхнего края скалы и было совершенно недоступно. В нем хорошо различались два крупных белых яйца. Приземлившийся орел еще раз осмотрелся вокруг и неторопливо вошел в углубление из сучьев, осторожно поправил клювом яйца и прикрыл их своим могучим телом.
— Вот так, Петруша. Выходит эту скалу орлы облюбовали раньше нас. Значит, и называть ее будем орлиной скалой.
— До чего ж красыва птыця!
— Надо сказать ребятам, чтоб они по возможности меньше беспокоили их. Это чуткая птица, она не любит, когда шумят или мельтешат перед ее глазами.
— Видомо.
— Петя! — я не верил своим глазам. Почти у подножья горы, но только дальше к Балаклаве, громоздились руины генуэзских башен. — Дай, пожалуйста, бинокль.
— Навищо?
— Только на минуточку. Сейчас же верну.
Петр неторопливо снял висевший у него на груди бинокль и передал его мне. Прямо передо мною появились груды разрушенных временем башен. Но кто это? К развалинам шла Маринка. Я узнал бы ее среди тысячи других девушек по одной только походке, уверенной, строгой. Как же так? Не она ли недавно говорила мне: «Пойти к ним я не пойду». И что значили ее слова: «Я не могу этого объяснить». Маринка скрылась в развалинах башен, и, сколько я ни ждал, она так и не появилась. Черт возьми! Я уже совсем было успокоился, когда возвращался к себе на пост. Но теперь как все это объяснить? Я вернул бинокль Петру и пошел принимать дежурство у рации.
— Давно была связь с дивизионом? — поинтересовался я у Михася.
— Дзве гадзины таму назад. Праз дзесяць минут знов трэба выходзиць на сувязь.
Интересный человек этот Михась Лученок. Он, как и Музыченко, хорошо знает русский язык и, если нужно, отлично изъясняется на нем. Но в среде своих сослуживцев говорит только на своем родном белорусском языке. Его уже не раз спрашивали об этом. И он однажды ответил: «Каб не забыць сваей роднай мовы».
— Ну ладно, Михась, сдавай смену и отдыхай.
— Дык яшчэ ж цалютких дзесяць минут.
— Ничего, больше отдохнешь. Код не изменился?
— Не, той самы.
Я расписался в журнале регистрации приема и сдачи дежурств, надел наушники и погрузился в мир радиосигналов. Рядом с моей рабочей волной назойливо тенькала чья-то морзянка. Видно было, что работал неопытный радист. Отстучит пять-десять цифр и сбивается, переходит на цепочку букв «ж» -ти-ти-ти-та, ти-ти-ти-та, ти-ти-ти-та (извините, мол). Да и скорость передачи была, как у начинающего, не более шестидесяти знаков в минуту. Включить бы сейчас свой передатчик да отстучать бы ему открытым текстом: «Салага, не засоряй эфир!» Но этого делать нельзя. Сейчас же выяснится, что нарушитель дисциплины в эфире — рация поста ВНОС номер один. Немедленно последует вопрос: «Кто в это время нес вахту?» — Радист Нагорный. В этом случае пять суток гауптвахты — самое мягкое наказание. Нет, уж лучше пусть тенькает. Но тенькать этому радисту долго не пришлось: включилась мощная рация. «Ромашка, ромашка, я — фиалка. Как слышите? Прием». Передача текста закончилась, но передатчик продолжал работать. Это легко определялось и по фоновому шуму в наушниках, и по яркому свечению неоновой лампы, которое тут же исчезало при переходе на другую волну. Но что это? Я слышу слабые звуки моих позывных. Настраиваюсь точнее. Сигналы слабые, но достаточно разборчивые: мешал все тот же молчаливо работавший передатчик. И вот шум исчез. Позывные нашего и других постов ВНОС стали громкими. Нас вызывала дивизионная радиостанция. Я ответил и начал принимать радиограмму. Текст ее оказался не очень большим, всего на двенадцать цифровых групп по пять знаков в каждой. В обязанности радиста входили расшифровка получаемых и кодирование передаваемых сведений. Расшифровав полученную радиограмму, я тут же передал текст ее командиру отделения. Демидченко взял из моих рук заполненный бланк радиограммы и вслух прочитал: «Постам ВНОС номер один, два, три. Объявляется боевая тревога. Усилить воздушное и наземное наблюдение».
— Боевая тревога! — скомандовал Демидченко. Через полминуты один за другим спрыгнули на площадку Звягинцев, Лученок, Танчук и Сугако. Еще полминуты, и все в полном боевом снаряжении заняли свои посты, указанные в боевом расписании.
— Усилить воздушное и наземное наблюдение! — продублировал текст радиограммы командир отделения.
К учебным тревогам мы привыкли еще когда находились при штабе дивизиона. Но, несмотря на это, команда «Боевая тревога!» всегда вызывает во мне чувство суровой напряженности, ожидания опасности. В такие минуты забываешь обо всем мелочном, обыденном. Кажется, что ты уже не юноша, а совсем взрослый мужчина, хотя тебе еще только девятнадцать. Недалеко от меня стоит с противогазом через плечо Лев Яковлевич Танчук. Ему, наверное, тоже девятнадцать, а то и того меньше. Ростом он больше похож на подростка. Бушлат подобрать ему не удалось — не оказалось подходящего размера. Поэтому правый рукав бушлата был весь в складках, так как этой рукой Танчук держал карабин. Танчука называли не иначе, как Лев Яковлевич. И пошло это с первой вечерней поверки, когда наш главный старшина вызвал его из строя: «Лев Яковлевич Танчук!» Все ожидали, что выйдет солидный дядя, оставшийся на сверхсрочную службу. Но из строя вышел не дядя, а низкорослый салажонок (матрос первого года службы). Долго тогда все смеялись, в том числе и сам главный старшина. А прозвище «Лев Яковлевич» с тех пор так и осталось. И звучало оно всегда, как насмешка за его маленький рост и тонкий, неокрепший голос. Танчук, однако, не обижался, когда к нему обращались, называя его по имени и отчеству. Казалось, он привык, смирился с этим, как смиряются люди с каким-либо врожденным дефектом или увечьем. При первом знакомстве с Танчуком возникало впечатление о нем, как о недоразвитом пареньке. В действительности же Лева был на редкость сообразительным человеком. «Шьо ты на мине шюмишь?» — часто говорит он Звягинцеву, когда тот начинает горячиться.
— Слышу со стороны моря звук самолета! — сообщил с поста наблюдения Музыченко.
— Усилить наблюдение! — приказал Демидченко.
Я передал в штаб дивизиона донесение. «Уточните тип самолета», — последовал ответ. Но такого распоряжения можно было и не давать, так как все мы хорошо знали свои обязанности и каждый из наблюдателей и свободных от вахты радистов был занят поиском самолета. Недостаточно было услышать звук моторов, нужно еще увидеть сам самолет, определить его тип, курс и высоту полета. Глаза и уши — основное оружие наблюдателя. Чем раньше он определит и сообщит необходимые данные, тем лучше его боевая выучка и мастерство. Первым увидел самолет Лев Яковлевич: «Вяжу в лучах солнца самолет «СБ»! Курс ноль-ноль, высота полета — пять тысяч метров!»
— Да, теперь и я вижу, — про себя сказал Демидченко, а затем добавил: — Нагорный, передавай: южнее Балаклавы, курсом ноль-ноль, на высоте пять тысяч метров — самолет «СБ».
Закодировав эти данные, я вызвал рацию дивизиона и передал ей радиограмму. Самолет был уже над Балаклавой и шел прямым курсом на Севастополь. Сверкая в лучах заходящего солнца, он хорошо был виден всем, кто вел за ним наблюдение. Я хорошо представлял себе, что делается сейчас на позициях зенитных батарей, расположенных на подступах к Севастополю. В приборных отделениях уточняются и передаются орудийным расчетам данные о самолете, командиры батарей отдают боевые приказы: «По самолету, холостыми, заряжай!» Лязг орудийных замков и доклады командиров орудий: «Первое орудие готово!» — «Второе готово!» — «Третье готово!» — «Четвертое готово!» — «Огонь!» — скомандует комбат. Такие учения в последнее время проводятся часто.
Я слышу в наушниках мои позывные. Дивизионная радиостанция передала «Отбой учебной тревоги». Командир отделения, прежде чем отпустить на отдых свободных от вахты краснофлотцев, построил их и объявил:
— За своевременное обнаружение самолета краснофлотцам Танчуку и Музыченко от лица службы объявляю благодарность.
— Служим Советскому Союзу! — торжественно произнесли Танчук и Музыченко.
— Отбой учебной тревоги, разойдись!
Сейчас уже ночь. И где набралось столько морзянок. Днем их было меньше. С наступлением же ночи их, как цыплят в инкубаторе, не сосчитать. Пора будить Семена Звягинцева. Ни с кем у меня не бывает столько хлопот, сколько с ним. Минут десять тормошишь его, пока добудишься.
— Семен, вставай, на вахту пора.
— Угу.
Ну, думаю, надо выждать, пока человек придет в себя. Через пять минут подхожу к Звягинцеву снова. Но он уже спит так же, как спал до этого. Опять начинаю тормошить его.
— Семен, имей же совесть, уже половина второго.
Михась, если ночью его сменяет Звягинцев, поступает иначе: начинает будить за полчаса до смены, тормошит его до тех пор, пока тот не станет на ноги. Семен скривится, посмотрит на часы и скажет:
— Ну и болотная же ты зараза, Лученок. Еще полчаса до смены, а ты уже начинаешь беспокоить человека.
— Дык ты ж николи своечасова не зменьваеш.
— Пошел к черту со своим «своечасова» и, пока твоя вахта, не трогай меня.
— Не, Сымон, не, дараженьки, выйди ды паглядзи на зорачки, панюхай свежага паветра, там, глядзи, и сон пройдзе.
— Вот же полесский репейник, не даст человеку отдохнуть. Ну ладно, Михась, следующий раз я разбужу тебя минут за сорок. Не обижайся потом.
— Дзивак ты, Сымон, — ответит Лученок. — Разбудзи мяне своечасова, я в тую ж хвилипу прыму ад тябе змену.
С трудом, но все же удалось разбудить Звягинцева. Еще минут пять ему потребовалось для того, чтобы прийти в себя и принять дежурство. Разобрав постель, я юркнул под одеяло и тотчас заснул.
4
Мне показалось, что я не спал и двух часов. Раскрыв глаза, я не мог понять, в чем дело.
— Вставай, — теребил за одеяло Звягинцев. — Командир приказал тебе принести анодные батареи.
— Какие батареи? — не мог я понять.
— Анодные.
— Откуда?
— По рации передали, чтоб встретили дивизионный мотоцикл. Он везет нам анодные батареи и продукты.
— Сейчас же только пять часов утра. Кто поедет в такую рань?
— Это ты спроси у начальства. Ему виднее, когда посылать.
— Я же недавно сменился. Почему не Лученка?
— Командир сказал, что пойдет тот, кто сменился. А Лученку заступать.
Но делать было нечего. Приказ есть приказ, и его надо выполнять.
— Ну и порядочки.
Надев робу и зашнуровав ботинки, я неторопливо пошел вниз по направлению к дороге на Балаклаву. Вспомнился странный сон, увиденный этой ночью. Будто я стою в конце виноградника, а рядом со мною — Маринка. Береговой бриз шелестит колючими ветвями барбариса, а там, внизу, в ночной мгле все шумит и шумит море. Повернулась ко мне лицом Маринка, приложила палец к губам и сказала: «Спрашивай, но тихо, чтоб не услышали добруши». Я силюсь спросить Маринку, почему она многое скрывает от меня, и не могу, никак не могу открыть рта. Смеется Маринка, но тихо, будто это шелестит ветер. А потом обвила меня руками за шею и говорит: «Люб ты мне, а вот любить тебя мне нельзя». — «Почему?» — хочу спросить ее и по-прежнему никак не могу открыть рта. Маринка опять приложила палец к своим губам и так постепенно и исчезла, словно в тумане растворилась.
В одном месте, по дороге к Балаклаве, я споткнулся и чуть было не упал. А падать в этих каменистых местах опасно: можно шею свернуть. Стряхнув с себя дремоту, я пошел осторожнее. Окраина Балаклавы была пустынной, дорога — безлюдной. «Где же мотоцикл? Может, не успел приехать, подожду». Прошло добрых полчаса, а на дороге со стороны Севастополя так никто и не показался. Скрипнула дверь в первом доме, и во двор вышел седой старик.
— Доброе утро, молодой человек.
— Доброе утро, дедушка.
— Рановато тебя подняли.
— Служба, ничего не поделаешь.
— Известное дело. Служба, как и время, не ждет. Как-никак, а сегодня уже первое апреля.
«Идиот! Круглый идиот! — мысленно выругал я себя. — Как же я не догадался сразу? Поверил. И кому? Звягинцеву. Да у него ж на лице было написано, что врет. «Командир сказал...» А ты сразу и уши развесил. И поделом. Так тебе и надо, простофиля». Чтобы не показать, что я и в самом деле остался в дураках, я сделал вид, что кого-то увидел на дороге и быстро пошел в направлении Севастополя. Пройдя метров пятьдесят, свернул вправо и быстро зашагал в гору. По тому, как встретили меня вахтенные, я понял, что Звягинцев уже успел рассказать о своей проделке Сугако. Оба с серьезным видом спросили меня:
— А продукты где?
— Ну продукты — ладно, перебьемся как-нибудь, — продолжал издеваться Звягинцев. — А вот как быть с анодными батареями? Рация — такое дело: есть питание — работает, нет — не работает.
«Тихоня, тихоня, а туда же», — подумал я о Сугако.
— Без продуктов тоже нельзя, — заметил Сугако.
У него было очень странное, до сих пор неслышанное мною имя — Елевферий. Мне казалось, что он из семьи сектантов, каких-нибудь пятидесятников или адвентистов. Большей частью молчаливый, Елевферий, однако, пытался отстаивать свою точку зрения, когда речь заходила о каких-либо предрассудках. «Нет, вы мне скажите, — спрашивал Сугако, — почему люди верят в судьбу?» — «Это ж в какую такую судьбу?» — в свою очередь спрашивал Лев Яковлевич. — «А в такую». — «Ну вот ты, например, веришь?» — «Верю». — «Можа, ты и в бога верыш?» — вмешивался в разговор Лученок. Сугако еще больше поджимал нижнюю губу, так что ее почти не видно было из-за нависавшей верхней, и приглушенно говорил: «А это тебя не касается». — «Верыть, браточки, ей-богу, верыть». Елевферий мрачнел и взгляд его становился тяжелым, нелюдимым. «Нэ чипай, хай йому бис», — заключал Музыченко. После этого никто не хотел продолжать начатый разговор.
— Ну и сукин же ты сын, Звягинцев. Мало того, что сменил меня на полчаса позже, так ты, ни свет ни заря, погнал меня еще и за анодными батареями.
— А при чем тут я? Это командир сказал.
— Командир сказал, — передразнил я его. — Вот проснется он, узнает о твоих проделках да всыпет по первое число, тогда закажешь и пятому.
— Думаешь, если ты его дружок, то тебе все можно?
«Скажет же такое — «дружок». Знал бы ты, Звягинцев, какой я ему дружок — не захотел бы ты быть в моей шкуре», — подумал я и добавил вслух:
— Шутить, Сеня, можно и, наверное, нужно, когда это к месту, но не так грубо, — уже спокойно ответил я Звягинцеву, укладываясь в постель.
— Вот люди, — слышал я сквозь дремоту. — Шуток не понимают. Для чего тогда придумано первое апреля?
— Такие люди завсегда обижаются, — басил Сугако.
Проснулся я от того, что меня опять кто-то дергал за плечо.
— Вставай. Командир сказал, чтоб ты шел за анодными батареями.
— Вы что, с ума посходили? Думаете, если сегодня первое апреля, то можно издеваться над человеком весь день? Хватит с меня, ни за какими анодными батареями я больше не пойду, — ответил я и снова улегся в постель. Не успел я задремать, как услышал крик:
— Встать, разгильдяй!
Я открыл глаза, но не сразу понял, кто и что от меня требует.
— Приказано встать! — повторился крик, и Демидченко сорвал с меня одеяло.
Я вскочил как ошпаренный.
— Вы почему не выполняете приказание?
— Товарищ старшина второй статьи, — разозлился и я, махнув на все рукой. — Может, уже хватит?
— Что хватит?
— Издеваться над человеком.
— Кто же над вами издевается? — тон у командира был спокойный, но за этим кажущимся спокойствием ощущалась надвигающаяся гроза.
— Вначале Звягинцев, а теперь еще один шутник выискался, — и я рассказал собравшимся, а собрались все, историю с анодными батареями.
Долго после этого раскатывалось эхо гомерического смеха. Казалось, что наша гора — Олимп, а все собравшиеся — боги. Я же — простой смертный, случайно оказавшийся среди богов. Смеялись все, и не миновать бы мне еще двух нарядов вне очереди, если бы смог удержаться от смеха и сам командир отделения.
— Так что, может, и Михась решил подшутить? — спросил в перерыве между приступами смеха Демидченко. — Михась! Говори, сукин кот, правду.
Лученок тоже давился от смеха, и его ответу «Дали-бог, правда» никто не верил.
— Какая там правда? Вы посмотрите на его рожу.
— Да нет, лицо у Лученка вроде бы серьезно.
— Вот такое же серьезное лицо было и у Звягинцева, когда он от вашего имени посылал меня на рассвете за анодными батареями.
Новый взрыв хохота потряс гору.
— Ну черт с вами, как хотите. Но если что, то кое-кому придется идти за продуктами и анодными батареями пешочком до самого Севастополя.
Прошло, может быть, полчаса. Мы уже готовились к завтраку, как вдруг на верхней части склона горы показался водитель мотоцикла Саша Переверзев, весь увешанный тюками. Поднявшись до края площадки, он сел в изнеможении прямо на камни. Пот градом струился с его лица.
— Ну, господа-товарищи! Вижу, зажирели вы тут окончательно. Даже за своим собственным пропитанием не желаете спускаться вниз.
Демидченко, сдерживая смех, сам помог Переверзеву освободиться от тюков. Снимая последний пакет с плеч Переверзева, командир сказал:
— Понимаешь, Саша, какая петрушка получилась.
И тут уже все наперебой начали рассказывать о случившемся.
— Тебе бы, Саша, надо было завернуться и уехать в дивизион. Я бы их, шельмецов, заставил потом нести все это на себе пешочком от самого Севастополя, — разъяснял Демидченко мотоциклисту.
— Артисты, — уже дружелюбно заметил Переверзев.
— Садись, Сашок, поближе да и позавтракаем вместе. Ты, наверное, как и Нагорный, с рассвета сегодня маешься.
После завтрака, во время которого не прекращалось обсуждение моей ходьбы за анодными батареями, Демидченко уехал на мотоцикле в штаб дивизиона. Обязанности командира отделения на время своего отсутствия он возложил на Лученка.
В нашем отделении комсомольцы все, кроме Сугако. Сегодня меня избрали комсоргом.
— Один вопрос решили. Что еще надо обсудить? — спросил я.
— Самае галовнае — як нам умацаваць сваю пазицыю, — сказал Лученок, сняв наушники.
— Ты дывысь! Я думав — вин ничого нэ чуе. А выявылось, що вин и Ганну голубыть, и Наталку шануе.
— Без командира решать такие вопросы нельзя, — возразил Звягинцев.
— Ну до чего ж ты формалист, Сеня, — ответил ему Лев Яковлевич. — Нет чтоб сказать: «Так, мол, и так, ребята», так ты: «Без командира решать такие вопросы нельзя». А командир между прочим приедет сегодня, построит всех на вечернюю поверку и очень даже может сказать: «Про вас, товарищи краснофлотцы, говорят в экипаже, что вы орлы. А какие ж вы к черту орлы, если к вам, как к цыплятам, может подобраться самая паршивая лиса». И тут я сказку: «Разрешите вопрос, товарищ старшина второй статьи?» — «Разрешаю», — ответит командир. — «А мы, между прочим, когда вы исполняли обязанности, даже боевой план составили». — «Кто ж такой план придумал?» — заинтересуется старшина. — «Сеня Звягинцев». — «Представить его за такой боевой интерес к самой какой ни на есть высшей награде». Вот, Сеня, какой кандибобер может из этого получиться. Ты меня понял?
— Ну ты скажешь.
— Шкада, нельга пакинуць рацыю. Я б вам паказав, што и дзе трэба рабиць.
— Ты, Михась, не беспокойся, — поднимаясь, сказал Звягинцев. — Мы тоже что-нибудь придумаем.
— Ды ты ужо прыдумав сення. Да гэтуль ад смеху вантробы баляць.
Обходя каменистые выступы вершины горы, я подумал: «А что, если бы нам пришлось обороняться, вести бой с атакующим противником? Не сладко бы нам пришлось. Здесь же не за что зацепиться. Противник оказался бы в более выгодных условиях, чем мы. На его стороне густые кустарники, каменистые выступы. Мы же на открытой гладкой макушке. Да нас же, как цыплят, голыми руками можно поснимать. Эх, отрыть бы круговую траншею да еще в полный рост, с выходом в укрытие — каземат. А сверху, — продолжал я мечтать, — натянуть сетку с какой-нибудь травкой. Смотри с корабля, соседних гор, с самолета в самый сильный бинокль — ничего не увидишь. Какая была бы траншея! Ни один земляной ров и в подметки ей не годился бы. Даже снаряды были бы ей нипочем». Шедший рядом со мною Лев Яковлевич, будто подслушав мои мысли, сказал:
— Как же ты отроешь ее в этой скале?
И тут все наперебой заговорили.
— Пустая затея.
— А нашу пещеру как-то же выдолбили?
— Сколько лет ее долбили?
— Сколько ни долбили, но все же выдолбили.
— А если ломом или киркой попробовать?
— Была бы это пенка на молоке — с удовольствием попробовал бы.
— Нет, серьезно. Пусть это будет не так быстро, как в мягкой земле, но, может, что и получится.
И мнения, как это часто бывает, разделились. Одни считали, что отрыть траншею в каменной тверди в принципе можно, но на это уйдет очень много времени. Другие доказывали, что сделать что-либо своими силами практически невозможно, лучше ограничиться малым: выдолбить по небольшому углублению для каждого бойца, и дело с концом. Долго спорили, а потом все же решили: начинать нужно с простого — затребовать ломы, кирки и лопаты.
— Ну что, вроде бы все? — спросил Лев Яковлевич.
Я подождал, пока соберутся все вместе, и сказал:
— Тут у меня еще один вопросик есть. Деликатный, правда.
— Тоди пишлы до рации. Хай и Мыхась послухае, — предложил Музыченко.
Быстро спустились вниз. Лученок сосредоточенно прослушивал эфир.
— Вы помните, как в первый день к нам попала Маринка? — начал я, усаживаясь возле Лученка. — Так вот, наш командир посоветовал тогда побывать в ее школе и познакомиться с классом. Я был у них и пообещал обучить школьников радиоделу. Теперь возникает вопрос, как это лучше сделать, — я ожидал, что сейчас посыпятся различные предложения, но, вопреки этому, встретил отчужденное молчание. — Ну что, ребята, это ж такое интересное дело. Что ж вы молчите?
— А что говорить-то, если все сделали сами. Нас даже не спросили, — сказал Звягинцев.
— Нас мов и нэма, — добавил Музыченко.
— Няемка, — высказал свое мнение и Лученок. И хотя никто этого слова до сих пор не слышал, смысл его для всех был понятен.
Я почувствовал, что собрание, так, казалось, хорошо начавшееся, пошло «под откос». «Ну пусть Демидченко мог рубануть с плеча, — подумал я, — но ты? Куда же ты смотрел? Даже Звягинцев и тот, наверное, понял бы, что так поступать нельзя». Вновь наступило молчание. «Что же делать? — мысленно спрашивал я себя. — Отказаться от всего этого, и дело с концом. Комсорг называется. Хотя какой ты комсорг? Так, одно название». Молчание затягивалось и становилось мучительно неприятным.
— Вот что, ребята, занимайтесь этим сами, — рубанул я с плеча, хотя и понимал, что винить в этом, кроме самого себя, некого.
— Ты, Мыколо, нэ гарячысь, — взял слово Музыченко. — Ну выйшла промашка. Так у кого йих нэ бува? Справа нэ в цьому, а в другому: щоб ты своечасово зрозумив свою помылку. Гадаю, що и вси товариши такойи ж думкы.
— Музыченко тут щокав-щокав, но сказал правильно, — сказал Танчук. — А то что ж получается? Нагорный наобещал девочкам золотые горы.
— Какие золотые горы?
— Так это ж я к примеру. Ну что за обидчивый народ пошел. Так вот. А мы возьмем и откажемся. Что о нас могут подумать? «Несерьезные ребята, — скажут, — в этом военном экипаже». А разве ж можно допустить, чтоб о нас такое говорили? Никак невозможно. Мне очень даже, может быть, нравится шефская работа. Так что есть предложение поддержать это дело. А для Нагорного — урок.
— Правильно, — согласились остальные.
— Ну что ж, спасибо, если так, — поблагодарил я товарищей.
Когда все разошлись, я подошел к Лученку и составил радиограмму с просьбой к Демидченко раздобыть саперный инструмент.
— А дзе подпис?
— Подписать придется тебе, Михась.
— Чаму?
— Ведаеш, есть такая рэч — парадок, — научился я у Лученка. — Ты за командира?
— Я.
— Вось ты и падписвай, — я не стал говорить Михасю, что если радиограмма уйдет за моей подписью, то Демидченко сделает все наоборот, и у нас не будет тогда ни лома, ни кирки, ни даже лопаты.
— А ты ведаеш, — ответил Лученок, — у тябе нядрэнна атрымливаецца, маеш талент на мовы.
— Дараженьки мой Михась! Брось острить, как говорил наш преподаватель немецкого языка Александр Карлович Венгеровский.
— Микола! Ты ведаеш нямецкую мову?
— А что тут удивительного? Ты тоже, наверное, изучал немецкий язык?
— Вучыв, але зараз ни халеры ужо не памятаю.
— Не упражняешься, поэтому и забыл.
Под вечер, когда я уже нес вахту, была получена радиограмма: «Встречайте груз». Как мне хотелось самому побежать навстречу нашему командиру. Я даже попросил Михася подежурить за меня. Но он ответил:
— Я таксама хачу размяцца.
Через полчаса показались Демидченко и помогавшие ему нести груз Лученок и Музыченко.
— На кой леший вам понадобились лом и кирка? — спросил Демидченко. — Ну лопата — куда ни шло. А эти?
— Не спяшай, таварыш камандзир, — ответил ему Лученок. — Усё па парадку. Мы тут таксама не сидзели, злажывшы руки.
5
На следующий день после завтрака я, вооружившись ломом, киркой и лопатой, с нетерпением принялся за расчистку северного края площадки. В этом месте горная порода осыпалась так, что нанос из мелких камней и пыли доходил почти до середины площадки. Признаться, я тоже не был уверен, что что-нибудь удастся сделать. Однако отступать от принятого решения, отказаться от попытки хотя бы определить, какие трудности нас ожидают, уже нельзя было. Мне казалось, что осыпь породы удалить будет легко. Но не тут-то было. Пыль, дожди, время так сцементировали эту массу, что теперь она представляла собою почти монолитный пласт. Первое слово лопате — подобрать мелкие камешки, рассыпавшиеся по площадке, и определить начало пласта. Это— легкое дело, которое удалось закончить за какие-нибудь пять минут. Но и этого оказалось достаточно, чтобы длина площадки увеличилась метра на три. Дальше уже пошел пласт, с которым лопата справиться не могла. Он был похож на кромку речного льда, подмытого и истонченного со стороны берега. Я обнаружил любопытную вещь: эти края легче откалывать, загоняя лом между скрытой поверхностью площадки и нижней частью пласта, чем долбить его тем же ломом сверху. С помощью таких приемов мне удавалось откалывать большие плоские куски. Вскоре я отвоевал таким путем дополнительных метров пять площадки.
Подошел Сугако. Заложив большие пальцы рук за флотский ремень, он молчаливо наблюдал за моей работой. Если бы у меня ничего не получалось, он, наверное, прошел бы мимо. Но, видя, с каким упорством и злостью я расчищаю площадку, а главное — что наносная порода мне все-таки поддается, он остановился. А может, его заинтересовало другое— приемы, с помощью которых я справляюсь с породой.
— Что, Лефер, одолеем мы эту скалу или нет? — спросил я Сугако, вытирая полой рабочей блузы вспотевший лоб. С легкой руки Льва Яковлевича Сугако мы звали не Елевферием, а на французский манер — Лефером.
— Хороший был бы кровельный материал, — сказал Сугако, осматривая отброшенные за пределы площадки плоские куски породы.
«Чертов Лефер! Неужели его нисколько не интересует моя работа, — подумал я— Неужели в его голове одни только кулацкие понятия — что к чему приспособить, из чего можно извлечь выгоду».
— Лефер, ты играл когда-нибудь в городки?
— Слышать — слышал, а самому играть не приходилось.
— А ты знаешь, какая это интересная игра? Она, во-первых, сразу определяет, у кого какая точность глазомера, во-вторых, — сила в руках и, в-третьих, — сообразительность. Это я говорю к тому, что, когда мы расчистим нашу площадку, то на ней такое городошное поле можно разметить, что потом отбою не будет от желающих играть в городки. Ты бы организовал это дело. А, Лефер?
— Нет, на это дело я не способен.
— А на что же ты тогда способен? — чуть ли не со злостью спросил я Сугако.
На мой вопрос Лефер не ответил. Он молчаливо смотрел, как я, принявшись за работу, откалываю новые куски слежавшейся породы. «Чёрт с ним! — думал я. — Его не проймешь, наверное, ничем, не то что городками». Еще метр площадки. Дальше труднее. Пласт стал толще, и тот прием, к которому я прибегал вначале, уже не давал результатов. А до самой скалы осталось всего каких-нибудь полтора метра. Окрыленный близостью цели, я настолько увлекся работой, что даже не заметил, как над моей рукой, державшей лом, легла рука Лефера.
— Погодь маленько, — мягко пробасил Сугако.
— Что? — не сразу понял я Лефера.
— Ты, как норовистый конь, одним махом решил. А так нельзя. Скоро выдохнешься. В этом деле нужен свой расчет.
Лефер взял лом, спокойно, без усилий, наметил желобком прямоугольный участок осыпи и только потом начал углубляться в породу. Таким путем он менее чем за полчаса отвалил целый метр толстого окаменевшего пласта.
— Вот это да! — восхищенно сказал я. Лефер только улыбался и продолжал долбить камень. Время от времени он останавливался, выпрямлялся и, держа могучими руками лом, говорил:
— В этом деле без расчета никак нельзя. Меня сначала заинтересовало, как ты поддеваешь ломом. Ловко получалось. Ну а потом нужно было иначе.
На оставшиеся полметра ушло почти столько же времени, сколько было потрачено на все остальное. Отбивая уже непосредственно от скалы последние куски осыпи, Лефер часто останавливался и внимательно всматривался в каменную стенку.
— Что, Леферушка? — прекращал я сгребать лопатой камни и спрашивал Сугако.
— Погодь, Николушка. Погодь еще маленько. — Лефер отвалил от скалы последнюю глыбу, еще раз внимательно всмотрелся и сказал: — А ну-ка, глянь сюда. А теперь сюда.
Я увидел совершенно четкий рисунок поперечного среза бывшей траншеи в скале. Конечно же, эта траншея была выдолблена много десятков лет тому назад, а потом постепенно, под влиянием ветров и дождей засыпана. Кто и когда выполнил эту титаническую, нечеловеческую работу? Не дает ответа, молчит скала — немой свидетель улегшихся человеческих страстей и отшумевших битв.
— Леферушка, милый! Да ты ж золотой человек! — В восторге от сделанного открытия начал я крепко обнимать Сугако. — Да ты представляешь, что ты сделал? Нет, скажи, представляешь?
— Николушка, — стыдливо отвечал Лефер, делая слабые попытки освободиться от объятий.
— Все, баста! Сейчас же идем к нашему командиру. Пусть объявляет тебе благодарность.
Сугако, к моему удивлению, перестал улыбаться и даже, как мне показалось, посуровел.
— Лефер, ну извини, если что не так.
— Не понял, значит, ты меня, — приглушенно ответил Сугако. — Благодарность... Да разве ж в этом дело?
— Ну извини, прошу тебя, Лефер.
Сугако осторожно прислонил к скалистой стене лом, словно это была хрупкая вещь, и медленно пошел к противоположному краю площадки. Ну кто мог предположить, что он так прореагирует на мои слова? Я же ничего плохого ему не сказал. Напротив, хотелось отблагодарить человека. Как это он сказал: «Не понял ты меня». Неужели и в самом деле не понял его? Тогда, может быть, так оно и было. Зато теперь, дорогой мой Леферушка, я, кажется, начинаю тебя понимать. И ничего, что ты сейчас обиделся, это пройдет. Как хорошо, когда ты открываешь что-нибудь новое. Я видел глаза Сугако, когда он говорил: «Погодь еще маленько. А ну-ка, глянь сюда». Это были глаза человека, открывшего новое. Одухотворенные глаза. Я тоже открыл сегодня новое, открыл характер Лефера. И я тоже могу этим гордиться, как гордится сейчас своим маленьким открытием Лефер, хотя он и делает вид, что сердится.
6
Каждый раз при приеме дежурства у меня появляется какое-то не совсем ясное для меня чувство. Это не страх перед частыми тревогами, не растерянность, связанная с ожиданием грозных событий, а чувство, которое возникает у человека, услышавшего в темноте шепот незнакомых людей и упоминание имени дорогого для тебя человека. Ты еще не знаешь, кто эти люди и что они замышляют, но чувствуешь, что все это делается неспроста и человек может оказаться в беде. У тебя до предела напрягается слух и зрение, лихорадочно работает мозг, чтобы узнать, разгадать, откуда и какая может прийти неожиданность. Я не люблю доказывать свою привязанность к человеку словами. Слова, что шелуха. Их можно произносить десятки и даже сотни раз, но от этого вес их не увеличивается. Более того, чем больше сказано, чем больше нагромождено их, тем горше становится, если вдруг оказывается, что слова — всего лишь пыль, поднятая вихрем. Я не люблю, когда слова-пустоцветы подслащивают. Это все равно, что брызгать водой осевшую пыль. Стоит после этого пригреть солнцу, и пыль снова приобретет свой прежний вид. Первый же вихрь поднимет ее в воздух, и голубые краски неба потускнеют. После этого она, медленно оседая, будет покрывать серой вуалью чистые окна домов, набережные и тротуары, зеленые листья растений. Долго придется ждать, пока ливень не смоет и не унесет ее с бурлящими потоками воды в низины и овраги, а оттуда — в реки и моря. Я не люблю слов-пустоцветов. Мне по душе дела, которые не требуют пояснений и после которых становится чисто и светло, как после освежающего дождя. Всплыли в памяти слова Анны Алексеевны: «У нас тут разное болтают. Договор с Германией — договором, а случиться может всякое». Возможно, поэтому меня не покидает чувство настороженности, и не только не покидает, а с каждым новым дежурством все больше усиливается. Я внимательно прислушиваюсь к многоголосому хору морзянок, как будто именно в них могли появиться первые признаки надвигающейся опасности. Почти рядом с моей рабочей волной появились сигналы какой-то радиостанции. Сигналы были слабыми и тонкими, как у только что вылупившегося цыпленка. Поворачиваю ручку настройки чуть вправо, и сигналы становятся громкими. Передавались позывные радиостанции крейсера «Червона Украина». Ответить ей позывными своей рации? Нельзя. Дисциплина в эфире очень строгая. К нарушителям ее применяются самые строгие меры наказания.
Уже почти час, как я дежурю. Дежурство спокойное. О военной обстановке можно судить не только по содержанию передаваемых радиограмм, но и по тому, как они передаются. Опытные графологи могут определить, в каком состоянии человек писал письмо, не читая, а лишь бегло взглянув на его текст. Так и в работе радистов. Почерки почерками. Но в самих передачах радиограмм есть и нечто другое, своеобразная интонация, по которой опытные специалисты определяют психологическое состояние радистов и косвенно военную обстановку в целом.
В такое время, как сейчас, войсковые радиостанции работают мало. В наушниках слышится привычный фоновый шум да редкие потрескивания. Лишь в грозу, сопровождающуюся мощными электрическими разрядами, треск бывает такой сильный, что наушники приходится сдвигать в сторону от ушных раковин. В такие минуты стоит чуть зазеваться и в ушах так засверлит, что приходится сбрасывать наушники, вставлять в ушные раковины пальцы и долго ими чесаться, пока не пройдет зуд. Сейчас небо ясное, на нем нет ни одного облачка. Но странное дело, в наушниках появился треск. Так бывает еще ж тогда, когда в электрической цепи рации ослабляются контакты между проводами. Я проверил контакты, но треск продолжался. Значит, где-то идет гроза. И действительно через какие-нибудь полчаса на горизонте появилась туча, а еще минут через двадцать она закрыла полнеба и засверкала ослепительными молниями. В грозу вести прием опасно. Опасно вдвойне, когда работающая радиостанция находится на возвышенности. И совсем опасно, когда к ней подключена высокая наружная антенна. Я уже собирался было просить у дивизионной рации разрешения на перерыв в работе, как заметил, что треск в наушниках начал ослабевать, а вместе с этим начали ослабевать и сигналы работавших станций. Через пять минут приемник уже не работал. О передатчике и говорить не приходилось. Меня бросило в жар. Что могло быть причиной выхода из строя рации? Причин могло быть много, и первая из них — истощение источника электропитания. Таким источником у нас были сухие анодные батареи, БАС-90, как они официально именовались. Я измерил напряжение в анодной цепи. Оно оказалось ниже критического. Отработал наш источник электропитания. Требуется замена. Две запасные батареи, завернутые в плотную серую бумагу, хранились у нас рядом с рацией. При приеме дежурств пакета с батареями мы не разворачивали, а лишь посмотрим, бывало, на него, убедимся, что все на месте, и расписываемся в вахтенном журнале. Сейчас же, перед тем, как развернуть пакет, у меня почему-то возникло неясное чувство тревоги. Не знаю, чем это можно было объяснить. То ли надвигавшаяся гроза так повлияла на меня, то ли выход из строя рации сказался на моем психологическом состоянии. А может, чувство тревоги вызвало большое жирное пятно, видневшееся на серой бумаге. Я развернул пакет и похолодел от ужаса. Бумага спаялась с растопившейся смолой. Элементы батареи были наполовину оголены, концы проводов, лишенные изоляции, касались друг друга и, казалось, молчаливо упрекали меня в небрежности, халатности и, боялся признаться самому себе, преступности. Не оставалось сомнения, что в запасных батареях произошло короткое замыкание и они вышли из строя. Но кто мог сделать это? Кто снял с концов изоляционную ленту? Я хорошо помню, что в первое свое дежурство разворачивали пакет, чтобы убедиться, что все в исправности. Концы батарей были изолированы и никаких признаков короткого замыкания тогда не было. Сколько же времени прошло с того дежурства? Три дня. И вот пожалуйста. Я почти машинально, скорее по привычке, чем по необходимости, измерил напряжение на выводных концах батареи. Стрелка вольтметра едва шевельнулась. В отработавших батареях напряжение было больше, чем в запасных. Что же делать? Тут думай не думай, а нужно немедленно докладывать Демидченко. Разыскал я его на площадке. Приготовился к двум надвигавшимся грозам: одной — природной, которая метала синие молнии и пугала пока еще приглушенными раскатами грома, другой — командирской. Сейчас начнется такое, чему не позавидует и сам Лев Яковлевич. К моему большому удивлению, Демидченко не только не стал кричать, но даже улыбнулся. Припомнилась первая встреча с Маринкой и то, как он расспрашивал девушку в расположении поста. Тогда он тоже улыбался. Но то была дьявольская улыбка. Теперь я легко определяю его состояние по зрачкам и белым пятнам на шее. Не будет мне пощады. Что из того, что изоляционную ленту снял с анодных батарей не я, а кто-то другой? Формально вина лежит на мне. Почему только формально? Фактически тоже. Проверил бы я, скажем, пакет, когда принимал дежурство от Лученка, все выяснилось бы раньше, до истощения источника электропитания. Мы, возможно, успели бы заменить батареи и связь со штабом не была бы прервана. Я посмотрел в лицо Демидченко еще раз, пытаясь определить, какое будет принято решение. В его взгляде был один вопрос: «И что же теперь будем делать?» Этот вопрос не надо было расшифровывать, и я ответил:
— Как только пройдет гроза, я пойду в штаб за анодными батареями.
— Нет, краснофлотец Нагорный, вы пойдете в штаб не тогда, когда пройдет гроза, а сейчас, сию же минуту. И не пойдете, а побежите.
— Но, товарищ старшина второй статьи, — попробовал я сослаться на грозу.
— Молчать! — крик Демидченко был настолько сильным, что вначале я не поверил, что он может так кричать.
В этот момент возле нас упали первые крупные капли дождя. В противоположный конец площадки ударила молния, и тут же раздался оглушительный треск электрического разряда. Демидченко убежал в укрытие, я — следом за ним.
— Это преступление, — уже деланно спокойным тоном продолжил Демидченко. — Оставить пост без связи! Сейчас же марш в штаб и доложите командиру, что вы сорвали выполнение боевой задачи.
— Разрешите идти?
— Идите. Только бегом!
Я побежал. Дождь уже лил как из ведра. Мутные потоки воды ручьями стекали к подножью горы. Бежать по склону ее сейчас было опасно. Но был приказ, и надо было бежать. Не прошло и двух минут, как вся одежда на мне была уже мокрой. Дорога, на которую я выбежал, стала скользкой. Ни впереди, ни позади меня не было ни одного человека, ни одной машины или конной повозки. Да и кто сейчас пойдет или поедет да еще по такой дороге. Струи дождя больно хлестали по лицу, стекали с подбородка за воротник. В ботинках было полно воды, и я бы их снял, если бы не острые камни на размытой дороге. Роба намокла, отяжелела, стала грубой и неподатливой. Обшлага блузы, всегда мягкие, теперь начинали резать и при каждом взмахе руки впиваться в кожу запястья. Дождь был холодный, но холода я не ощущал. Наоборот, хотелось снять одежду, чтобы не ощущать изнуряющей духоты и не обливаться потом. Впрочем разобраться в том, пот это или дождевая вода, было невозможно. Наверное, и то и другое. За Ванкоем я дважды терял равновесие и падал в лужи. Дождь быстро смывал прилипавшую глину, и роба становилась такой же, как и до моего падения, чистой, как после стирки. Вот уже и окраина Севастополя. А дождь не только не утихал, но, казалось, переходил в настоящий ливень. О молниях не думалось. Лишь один раз за всю дорогу, в конце четвертой Бастионной, я отшатнулся от электрического разряда в буквальном смысле этого слова. Будь я метров на десять ближе — неизвестно, чем бы это кончилось. Кажется, никогда еще так близко не подстерегала меня смерть, как в этот раз. Неприятное это ощущение. Будто кто-то впрыснул тебе под кожу ледяной воды или ты провалился в прорубь. Дыхание сперло, и, если бы в тот момент кто-нибудь обратился ко мне с вопросом, долго пришлось бы ему ждать ответа. А вот и штаб.
— Что случилось? — подбежал ко мне главный старшина, когда я вбежал наконец в радиорубку и в полном изнеможении свалился на первый попавшийся стул.
— Вышла из строя рация, — ответил я по слогам. — Извините, товарищ главный старшина. Все это я уберу.
Литвин посмотрел на мою мокрую одежду, грязные ботинки, большую лужу воды на полу и сказал:
— Пошли в каптерку. Там переоденешься в сухое, а заодно и расскажешь все по порядку.
Каптерка была рядом, но дойти до нее оказалось еще труднее, чем добежать до Севастополя. То ли сказалась сильная усталость, то ли проявилось нервное напряжение, которое не покидало меня всю дорогу. Я шел и, наверное, шатался. Командир взвода то и дело предупреждал меня:
— Осторожно. Давай поддержу.
В горле у меня саднило, подкатывало неприятное ощущение тошноты. На пороге каптерки я споткнулся и, если бы не старшина, упал бы.
— Эк его развезло, — глядя на меня, заметил каптенармус.
— В его положении развезет кого хочешь. Переодень его и дай ему стопку спирту.
Я и в самом деле чувствовал, что начинается какая-то дрожь по телу. Черт его разберет, это нервы сдали или холод начинает действовать. Лишь когда переоделся в сухое, заменил носки и переобулся, почувствовал, что стало немного легче.
— Так-то лучше, — пробасил каптенармус. — Ну а теперь для полного комплекта еще и стопочку.
До этого мне не приходилось пить неразведенный спирт. И когда маленький стаканчик, наполненный прозрачной жидкостью, был опорожнен, я почувствовал, что мои внутренности обожжены и мне нечем дышать.
— А теперь водичкой притуши его, — давал советы каптенармус, держа наготове стакан с водой. — Что значит нет опыта. Салага, одним словом.
Чувство жжения начало постепенно ослабевать, а на смену ему приходило ощущение теплоты и успокоения.
— Теперь бы ему соснуть часок, и все было бы по первой статье.
— Теперь-то спать как раз и не придется, — ответил Литвин. — Пошли в радиорубку, расскажешь, что все-таки случилось.
Литвину, главному старшине-сверхсрочнику — за тридцать. Человек еще не старый, но и не молодой. На впалых щеках уже появились продольные морщины. Такие же морщины, одна продольная и несколько поперечных, были на коже лба. Нос с горбинкой. Над стоячим воротником кителя выступает резко обозначенный кадык. Когда старшина разговаривает, кадык все время движется: то упрется в наглухо застегнутый воротник, то поднимется вверх и спрячется за подбородком.
— Ну так как все это произошло? — спросил главный старшина.
Три дня тому назад, перед заступлением на дежурство, я все проверил. Батареи были исправны, выводные концы были изолированы. Сегодня развернул бумагу— изоляции уже не было, смола растеклась, напряжение на концах еле определялось.
— Кто-то снял, значит, изоляционную ленту? Кто же?
— Если бы я знал.
— Ну а все-таки. Кого можно подозревать?
— Обвинить человека за здорово живешь — дело рискованное.
— Я не говорю «обвинить», а кого можно подозревать?
— Не знаю, товарищ главный старшина.
— Тогда вот что. Гроза, кажется, уже прошла. Бери запасные батареи и дуй на пост. Доложи командиру, что за невнимательность, когда, значит, принимал дежурство, я объявил тебе два наряда вне очереди.
Гроза действительно уже прошла. Воздух был свежим, насыщенным озоном. Воды на дороге почти не было. В здешних неровных местах она долго не задерживается, быстро стекает в овраги, а по ним — в речки или прямо в море. Лишь кое-где в выемках еще стояли мутные желтоватые лужи. Но жизнь их, знаю, коротка. Здешнее солнце быстро выпьет оставшуюся влагу, и на дне выемок останутся потрескавшиеся корочки высохшего ила. По дороге на пост я все время думал о том, кто же и с какой целью снял изоляционную ленту с выводных концов батарей. Конечно, это сделал кто-то из радистов. Звягинцев или Лученок. Остальные исключались, так как батареи все время находились рядом, можно сказать, под рукой у дежурного радиста. Умышленно или по недомыслию кто-то совершил, как сказал Демидченко, преступление? Вряд ли в этом был какой-нибудь умысел, так как ни с кем у меня не было конфликтов, если не считать самого командира. Но и с ним споров или серьезных разногласий также не было. Правда, это ничего еще не значит. Были или не были, факт останется фактом: Демидченко по совершенно неясной для меня причине относится ко мне враждебно. Но предположение, что случившееся — дело его рук, отпадает, так как сделать это без ведома или незаметно для дежурного радиста нельзя. Впрочем, какое все это имеет теперь значение? Взыскание получено, все стало на свои места. Ну, подумаешь, обидели. Так за дело. Теперь ты будешь более внимательным и не примешь под свою ответственность непроверенное имущество. То ли от этих мыслей, то ли от выпитого спирта, а может быть, и от того, и от другого я уже смотрел на случившееся совсем иными глазами, считал, что только так, иногда путем наложения взыскания и можно воспитать в человеке качества, присущие настоящему воину. Я поднимался на гору, готовый доложить командиру о своем возвращении. Мне даже показалось, что мое мнение о нем было предвзятым, продиктованным чувством задетого честолюбия.
Тучи ушли за горный перевал, и теперь небо было таким же чистым, как и перед грозой. Низины затуманились. На дорогах поднимались курчавые облачка испарений. Из-за северного мыса балаклавской бухты показалась кильватерная колонна военных кораблей. Это Черноморская эскадра направлялась из Севастополя в Поти. Впереди шел флагман, линейный корабль, за ним — крейсер и эсминцы. Мы хорошо знаем наши корабли по их силуэтам. В бинокль можно рассмотреть не только палубные надстройки, но и башенные орудия, и даже кормовые флаги. Корабли идут след в след, рассекая и вспенивая воду, поднимая волны, брызги от которых заливают не только боковую палубу, но и корму. Все дальше и дальше эскадра уходит в море, все меньше и меньше становятся силуэты кораблей. Еще несколько минут и корпус флагмана скрывается за горизонтом. Надстройки еще различимы, но со временем исчезают и они. Лишь косая полоса дыма, как шлейф, тянется в небо. Я не знаю более наглядного примера в природе, на котором можно было бы зримо представить себе, что Земля все-таки круглая и что она не такая уже большая, как иногда кажется нам.
Мой доклад о своем возвращении и наложенном старшиной взыскании Демидченко встретил молча. Минуты две он рассматривал мою сухую одежду, как бы недоумевая, как это мне удалось избежать дождя, а потом спросил:
— Водку пили?
Ну и нюх у него! А может, по глазам определил? Другой на моем месте был бы зол, как черт. Шутка сказать, пробежать под проливным дождем больше десятка километров. Это, кажется, понимал и сам Демидченко. Он готов был встретить человека озлобленного, доведенного чуть ли не до отчаяния. А тут перед ним стоит его подчиненный со спокойным, даже добродушным выражением лица. Такого он не ожидал и, может быть, именно это и навело его на мысль, что я в состоянии легкого алкогольного опьянения.
— Спирт, товарищ старшина второй статьи, — сейчас у меня было настолько миролюбивое настроение, что мне казалось ненужным даже объяснение, кто и по какому поводу поил меня спиртом.
— Два наряда вне очереди, чтоб для комплекта, значит, — объявил Демидченко.
— Так ведь... — пытался я объяснить.
— Не надо много говорить. Как еще и эти не растеряли? — показал он на принесенные мною анодные батареи.
— Да разберитесь же хоть, — начинала брать меня злость.
— Три наряда вне очереди!
— Есть три наряда вне очереди. Разрешите устанавливать связь?
— Устанавливайте.
Когда я крепил выводные концы батарей к рации, подошел Лев Яковлевич и сказал:
— Теперь, Нагорный, ты знаменитость.
— Что, завидуешь?
— Тебе?
— А хоть бы и мне.
— Нет.
— Тогда в чем дело?
— Просто удивляюсь. Перекрыть абсолютный рекорд, заслужить за каждый день службы на посту больше чем по одному наряду — это, брат, не фунт крымского изюма.
— Лев Яковлевич, ты же, я знаю, человек не злой.
— Ну и что?
— Зачем же тогда смеешься над тем, кто попал в беду?
— Чтоб злее был. Я добреньких не люблю. На добреньких воду возят, на них чертополох буйно растет.
Никогда бы не подумал, что в насмешке может быть добрый умысел. Танчук, наверное, рассуждал так: «Если ты человек с умом, то поймешь, что я тебе же добра желаю. А не поймешь, то тут уж, извини, никто ничем тебе не поможет». Может быть, Лев Яковлевич действительно прав?
Наконец рация заработала. Первое, что нужно было сделать — установить связь со штабом дивизиона. На вызов штабная радиостанция ответила сразу. Доложив командиру о восстановлении связи я сделал соответствующую запись в вахтенном журнале и уже спокойно продолжил свое дежурство.
7
Солнце уже прошло свой зенит и теперь клонилось к западу. Была та пора, когда, по моим расчетам, в десятом классе «В» шел последний урок. Демидченко еще утром уехал в штаб дивизиона. Оставшийся за него Лученок разрешил мне взять с собой нехитрые принадлежности, предназначенные для обучения азбуке Морзе, и провести первое занятие в школьном радиокружке. Школа уже наполовину опустела, закончились уроки в начальных и некоторых старших классах. Ожидать окончания занятий пришлось прямо перед дверью десятого класса «В». Никого из членов радиокружка заранее предупредить не удалось, и находись я где-нибудь возле школы, многие могли бы разойтись по домам. Наконец раздался звонок, открылась дверь класса, и первой показалась Лида. Она широко открыла глаза, улыбнулась и, загородив руками дверь, объявила:
— Девочки, мальчики! Поход домой отменяется. К нам прибыл представитель экипажа береговой обороны.
— Ну а меня вы пропустите, милая Лида? — спросил пожилой учитель.
— О, конечно, Борис Фомич, — без тени смущения ответила Лида.
— Здравствуйте, молодой человек, — приветствовал меня учитель. — Весьма похвально с вашей стороны.
Что «похвально с моей стороны» стало для меня понятно лишь тогда, когда кто-то бросил реплику:
— Урок физики продолжается!
Вот оно в чем дело. Своего учителя по физике ученики, конечно же, проинформировали о том, что с нашей помощью собираются заниматься радиоделом. Для Бориса Фомича это ощутимая практическая помощь.
Войдя в класс и поздоровавшись с ребятами, я заметил, что осталось больше, чем было в списке записавшихся в кружок. Но где же Маринка? Почему ее нет в классе? Удивительно, но факт: Лида почувствовала мою тревогу и сказала:
— Наш комсорг заболела, и она вот уже второй день, как не ходит в школу.
Я до сих пор не могу понять, как людям передаются сигналы тревоги? Ну взять хотя бы Лиду. Я же не то что словом, но даже жестом не выразил своего беспокойства, связанного с отсутствием Маринки. И все-таки она поняла, что я хотел узнать. Однажды к нам в дивизион приехал какой-то мастер психологических опытов. Каких только трюков он не проделывал с нами: и сразу же найдет спрятанную кем-нибудь вещь, и узнает, сколько человек вышло в соседнюю комнату, и какая у кого специальность. Но больше всего меня поразило умение этого мастера читать, что написано на листе бумаги, вложенном в конверт. Мы спрашивали потом у нашего дивизионного врача, как все это объяснить? Из того, что он сказал нам, я, правда, не все понял. Но все же кое-что уловил. Мозг человека, оказывается, как наш проволочный радиотелеграф, но только куда сложнее. С помощью особо чувствительных приборов можно воспринимать сигналы, не подключаясь к телеграфным проводам. У некоторых людей мозг бывает настолько чувствительным, что он в состоянии принимать сигналы другого человека, даже на расстоянии. Я замечал, что когда долго смотришь кому-нибудь в затылок, то человек оборачивается, как будто воспринимает твои мысли. Может, и у Лиды такой же чувствительный мозг?
С чего начинать занятия? Наверное, лучше переписать азбуку Морзе на доске, а потом заучивать ее с помощью зуммера. Только я собрался изобразить на доске букву «а», как в классе послышались голоса:
— Это мы знаем из физики.
— Давайте на практике.
Отлично! Молодцы ребята. Признаться, в классе, в котором я учился, азбуку Морзе знали лишь некоторые.
Положив мел на место, я развернул свой пакет, достал телеграфный ключ, подключил его в цепь зуммера и начал проверку тренировочного устройства. Я не подумал, что для класса одной пары наушников мало. Но даже если бы и подумал, все равно толку от этого было бы немного — динамика у нас на посту не было. Что же делать? Я обвел взглядом стены класса. Выход, оказывается, есть — у окна висел репродуктор. Ребята моментально сняли его со стены, и я с их помощью включил его в цепь вместо наушников. В классе полилась морзянка.
«Вот здорово!» — читал я по восторженным взглядам чувства ребят.
— Ну а теперь давайте тренироваться, — предложил я классу.
— А можно я? — спросила Михеева.
— Пожалуйста.
Лида уселась поудобнее за стол, обхватила пальцами рукоятку ключа и очень медленно начала отстукивать: «Ти-та-ти-та». В классе хором перевели: «Я-а». — «Ти-та-ти-ти, ти-ти-та-та, та-ти-ти-ти». — «Лю-уб». — «Ти-та-ти-ти, ти-ти-та-та». — «Лю-у». — «Та-ти, ти-та». — «На-а».
— Я люблю на...
— Лидка, ты с ума сошла! — крикнула ее подружка.
Лида сделала паузу и под смех и крики сверстников продолжила: «Та-та-та-та, ти-ти-та». — «Шу-у». — «Та-та-та-та, та-ти-та, та-та-та, ти-та-ти-ти, ти-ти-та». — «Шко-о-лу».
— Я люблю нашу школу, — перебивая друг друга, перевели в классе.
Забавная девчонка эта Лида. Заинтриговала всех, даже встревожила свою подружку тем, что начала с откровенного признания в любви. Но все кончилось прозаически — «нашей школой». Сделали первые шаги в моей специальности и остальные ученики. Когда сел за ключ сосед Лиды Толя Кочетков, она облокотилась на стол и просящим тоном сказала:
— Кочеток, переведи, пожалуйста, на язык морзянки свою любимую песенку.
— Ну и репейник же ты, Михеева, — сказал Толя и, подумав, решил, что с Лидой лучше не связываться, а обернуть все в шутку. — Если любишь, то так и скажи.
— Люблю, но только не тебя.
— А кого же?
— Я уже сказала, даже ключом отстукала: нашу школу.
Занятия кончились. Все начали расходиться. Я неторопливо складывал в бумагу свои технические принадлежности, а недалеко от меня рылась в сумке Михеева. Вернулась ее подружка и спросила:
— Ты идешь домой или нет?
— Иди, я догоню тебя.
Из класса мы выходили вместе с Лидой. Размахивая сумкой, она спросила меня:
— А можно я буду называть вас Колей?
— Пожалуйста, ничего не имею против.
— Скажите, Коля, а вам очень нравится Маринка?
Признаться, я мог ожидать от Лиды любого вопроса, но только не этого. Да я сам никогда не думал о том, нравится мне Маринка или нет. Озадачила меня Лида своим вопросом так, что я даже остановился. Остановилась и она. Склонив голову немного набок, Лида лукаво улыбалась и ждала ответа. И чем дольше она смотрела на меня, тем больше я терялся. Появилось такое ощущение, какое я испытал однажды, когда мне было шестнадцать лет. В наш восьмой класс пришла новая, до того нигде еще не преподававшая учительница по математике. Шли месяцы. Однажды под конец занятий учительница попросила меня задержаться. «Коля, что ты намерен делать в ближайшее воскресенье?» — спросила она. Я неопределенно повел плечами. «У тебя не всегда получаются задачи по составлению квадратных уравнений. Приходи ко мне домой, если хочешь». Отказываться от помощи учительницы было бы неразумно. Но идя к ней, я почему-то волновался. Встретила она меня радушно: провела в свою комнату, усадила за стол, угостила свежими фруктами, после чего предложила решить математическую задачу. Голова моя пошла кругом. Условия задачи не воспринимались, так как за спиной стояла моя учительница. «Ну так как? — спросила она, положив руки на мои плечи. — Неужели не понятно?» Разницу в возрасте людей воспринимают по-особому. Учительнице было немногим более двадцати лет, но мне тогда казалось, что это уже половина жизни. «Коля, ты совсем не думаешь». Я повернулся к ней лицом. Рук с моих плеч она не сняла. Левая грудь учительницы нечаянно коснулась моего лица, вызвав во мне приступ дурманящего чувства. В сознании оставили след лишь обрывки лихорадочных ощущений: моя запрокинутая голова и неистовые поцелуи взрослой женщины. Потом последовал толчок и тонкий звон стеклянной посуды. Опомнившаяся учительница отпрянула и прислонилась к стене. Глядя на меня, она тихо произнесла: «Коля, уходи, пожалуйста». После этого она никогда больше не останавливалась возле моей парты и, казалось, ждала, как удара судьбы, что обо всем этом станет известно мальчишкам нашего класса. Ни одним словом, ни даже намеком я никому не выдал тайны о ее минутной слабости. В конце учебного года она так же, как и первый раз, попросила меня задержаться после уроков. Наедине учительница сказала мне: «Спасибо, Коля. Ты настоящий мужчина». Глядя на Лиду, мне почему-то казалось, что она старше и опытнее меня, что она чем-то напоминает мою учительницу по математике.
— Так нравится вам Маринка или нет? — настаивала на ответе Лида.
— С тех пор, как я узнал вас всех, прошла без году неделя, — уклончиво ответил я.
— Ну и что?
— Как ну и что? Это ж такой малый срок.
— Не всегда. Иногда это так много. Ну я побегу, а то Татьяна меня съест. До свидания, — и Лида подала мне руку.
Я шел по набережной залива и думал, зайти или не зайти к Маринке домой? Узнает, что были занятия и никто не пришел навестить ее, обидится. Нет, лучше зайти. Но как? Вот так, с пустыми руками? Эх, были бы сейчас ранние цветы! Ну хоть бы какие-нибудь, самые скромные. Было бы совсем другое дело. Подожди. А может, зайти к моему другу Кирюхе Пуркаеву? Он-то знает, есть ли в Балаклаве цветы и, если есть, то непременно достанет. В каком же доме он живет? Да, через дом от Хрусталевых. Кирюху я застал дома, хотя по всему было видно, что он собирается куда-то уходить.
— Ну здравствуй, Кирюха.
— Привет. Что-нибудь надо?
— Ну до чего ж ты догадливый, Кирюха. Не зря я выбрал тебя в товарищи.
— Ну говори, что?
— Понимаешь какое дело. Я узнал, что твоя соседка Маринка заболела. Ну и мне поручили навестить ее.
— Поручили... — улыбаясь, повторил Кирюха.
— Так вот, — продолжил я, не обращая внимания на иронический тон Кирюхи. — Навещать, справляться о самочувствии больных принято с цветами, хоть какими-нибудь, самыми скромными. Я и подумал: у меня же есть друг Кирюха. Он, если узнает, обязательно поможет.
Кирюха минуту стоял в раздумье, а потом сказал:
— Подожди здесь. Я мигом, тут недалеко.
Ждать Кирюху действительно пришлось недолго. Я увидел его, когда он был уже в пятидесяти метрах от меня.
— У деда Саватея выпросил, — сообщил Кирюха на бегу. — Он разводит не только эти, но и другие цветы. А это, говорит, персидская мимоза.
— Ну, Кирюха, спасибо, удружил, — искренне поблагодарил я Пуркаева. — За мной долг. Руку.
Я смотрел на пушистые розово-малиновые цветы и удивлялся, что здесь может расти такое чудо. Раньше мне не приходилось видеть персидскую мимозу (если Кирюха не перепутал названия). Да и где я мог ее видеть, если это по всем признакам теплолюбивое растение. Дверь в доме Хрусталевых открыла на мой стук Анна Алексеевна.
— Заходи, матрос.
— А Маринка?
— Приболела наша Маринка. И где только она могла простудиться, ума не приложу. Ни тебе дождя, ни холода, ни сквозняков. И вот какая беда.
Я зашел в комнату. Маринка лежала в кровати у окна с открытой форточкой. Щеки ее были покрыты болезненным румянцем, губы — настолько красные, что, казалось, перед моим приходом Маринка ела вишни да так и не успела вытереть ягодный сок. В глазах— выражение грусти, а вокруг них — легкий оттенок синевы.
— Ну что, некрасива я в таком виде, правда?
— Что ты говоришь, Маринка! Да знаешь ли какая ты? — я не преувеличивал. Болезнь действительно не красит человека. Но бывают минуты, когда организм в борьбе с недугом мобилизует все. И тогда человек, как воин в разгоряченной схватке, становится прекрасным. Вот такой казалась мне сейчас и Маринка.
— Ой, какую же чепуху мелю! Не утешайте меня, сама знаю, какая я.
— Нет, все правильно. Я вот... персидскую мимозу тебе принес. Выздоравливай побыстрее.
Маринка посмотрела на цветы, взяла их в руки и приблизила к своим глазам. Щеки зарделись сильнее. А может, это был розово-лиловый отсвет персидской мимозы? Глядя на необычно пышные ранние весенние цветы, Маринка несколько раз отдаляла их от себя, а потом снова закрывала ими свое лицо. Как преображается человек в минуты радости! Даже болезнь, кажется, отступает.
— Выздоравливай побыстрее, пожалуйста, — повторил я.
Маринка посмотрела на меня, а потом отвернулась и, помолчав, сказала:
— Ничего... Не обращайте, пожалуйста, внимания.
Маринка была взволнована. И было отчего. В такую раннюю пору года далеко не каждую девушку одаривают цветами. А тут не просто цветы, а редкая персидская мимоза. Справившись с минутным волнением, Маринка спросила:
— А кому вы еще подарили такие цветы?
В этом вопросе прозвучала интонация легкого лукавства. Нет, это было проявлением не чувства ревности, а скорее желания позабавить себя ролью человека, посвященного в дела других, недавно познакомившихся людей. Мне кажется, что неудачники и слабые духом люди таких вопросов не задают. Они либо замыкаются в себе и до предела суживают круг людей, с которыми вынуждены общаться, либо бесконечно жалуются на различные трудности и все свои беседы сводят к постигшим их несчастьем. Я не люблю таких людей. Это большей частью эгоисты, только требующие и ничего не дающие взамен.
— А кому еще можно было подарить их? — в свою очередь спросил я.
— Не знаю, — деланно серьезным тоном ответила Маринка. — Может быть, той, которая любит нашу школу?
Вот оно, оказывается, в чем дело. Значит, Маринку уже успели навестить ее подружки и рассказать ей обо всех событиях в классе.
— Нет, той дарить цветы я не собираюсь.
— Почему?
— Хотя бы потому, что она старше меня.
— Что вы говорите? Она моложе даже меня. Правда, всего лишь на один месяц.
— Все это, как говорит наш Лев Яковлевич, не влияет никакого значения.
— Как это? — засмеялась Маринка.
— Несуразность, — засмеялся и я. — Но она так привилась у нас, что мы употребляем ее, где только можно.
Пришел врач, вызванный на дом к Хрусталевым. Он достал из своего чемоданчика халат, неторопливо надел его и, подойдя к постели Маринки, спросил:
— Ну-с, так как наши дела?
Я уступил ему свое место и, простившись с Маринкой, направился к двери.
— Извините, доктор, — услышал я позади себя. — Коля!
Честно скажу — это взволновало меня. Она первый раз назвала меня Колей.
— Не уходите, подождите, пожалуйста, во дворе, — добавила Маринка.
Я вышел из дому, положил на скамью пакет с радиопринадлежностями (не носить же их все время с собою) и медленно направился в крошечный приусадебный виноградник. Сколько дней я не был здесь? Два дня. Всего два дня, а какими стали виноградные лозы. Они почти вровень со мною, и маленькие листья уже касаются моего подбородка. Осторожно беру один листик пальцами. Крошечный такой, весь покрытый пушком. А по поверхности его идут тоненькие жилки. Именно по ним приходят от корней соки и наполняют растение жизнью. «Расти, малыш», — произнес я вслух и отпустил от себя ветвь.
Я вернулся во двор в тот момент, когда выходил доктор. Он остановился, внимательно посмотрел на меня, словно решал какой-то свой вопрос, и сказал:
— Да-с. Идите, молодой человек, вас там ждут.
Я вошел в комнату Маринки и увидел ее улыбающейся. Рядом с кроватью на столике стояла глиняная вазочка с персидской мимозой.
— Доктор сказал, что я скоро уже могу ходить, — сообщила Маринка радостную для нее весть. — А это мама поставила цветы. — Светлая улыбка не сходила с лица Маринки. Радость! Не она ли является тем ключом, с помощью которого перед человеком, умеющим вызывать у других чувство радости, открываются души и сердца людей.
— А знаете, зачем я вас просила остаться?
— Нет, не знаю.
— Ну как вы думаете?
В голове у меня проносились самые всевозможные предположения, но ни одно из них не подходило для этого случая.
— Я же не поблагодарила вас за персидскую мимозу. Раньше таких цветов мне не приходилось даже видеть.
Я, наверное, покраснел, потому что Маринка, глядя на меня, рассмеялась. Услышав смех, в комнату вошла Анна Алексеевна.
— Что, матрос, рассмешил мою больную дочку?
Я не зря сравнил Маринку с царевной-несмеяной. За все те немногие встречи с ней мне ни разу не пришлось видеть ее по-настоящему веселой. Печать какого-то непроходящего горя лежала на ее задумчивом лице. А тут еще эта простуда.
— По сказке тебе полагалось бы за это еще и полцарства. Да вот незадача, нет у меня такого богатства. Да, по правде, и зачем оно нам? — Анна Алексеевна немного помолчала, долгим взглядом посмотрела на меня, словно решала, стоит ли посвящать меня в свои семейные дела, а потом, наверное, подумала: «Человек, который входит в дом с цветами в руках, не может причинить людям зла». — Я уже говорила, что мы остались с Маринкой вдвоем. Мой муж был направлен добровольцем в Испанию. Об этом под большим секретом он сказал мне буквально перед самым отъездом. Весной тридцать седьмого года вернулся оттуда летчик из полка, в котором служил мой муж, и привез коротенькое письмо, написанное им незадолго до героической гибели.
Грусть, навеянная рассказом Анны Алексеевны, постепенно рассеялась лишь после того, как позади остался виноградник.
Возвращался я в расположение нашего поста в уже приподнятом настроении. Кажется, ничего такого и не произошло. И все-таки радостное чувство, подобное тому, которое я увидел на лице Маринки, когда она смотрела на цветы, не оставляло меня. Даже Звягинцев, увидев мою глупую физиономию, сказал:
— Ужинать ты, конечно, не будешь, потому что тебя снова угощала тешша.
— Нет, буду, дорогой мой Сымон, — ответил я, подражая Лученку, и ударил Звягинцева ладонью по плечу.
— Это ж надо, к чему приводит шефство над школой. Ты так скоро начнешь всем ломать кости.
Утром, при распределении заданий, я сказал Лученку, исполнявшему обязанности командира отделения (Демидченко остался ночевать в штабе дивизиона):
— Товарищ командир, одного комплекта инструментов мало. Так мы будем копаться в этой скале до нового года. Надо организовать две встречных бригады. Но для этого нам нужен еще один комплект инструментов. Да и рабочих рукавиц пар две не мешало бы. Посмотрите на руки Лефера — все в кровавых пузырях. — Я тут, конечно, малость преувеличил. Хотелось выставить Сугако в лучшем свете, как безотказного работягу. А получилось наоборот. Лефер даже обиделся, потому что считал, что пузыри на руках бывают только у тех, кто мало или совсем не умеет работать. С такой характеристикой он, конечно, согласиться не мог и поэтому тут же внес энергичный протест:
— Что он говорит? Пусть лучше сам покажет свои руки, — намекнул Сугако на то, что у меня они, пузыри, действительно есть. А у меня их и в самом деле штук по два с каждой стороны. Получился, как говорят в этих случаях, конфуз.
— Не будем уточнять у кого их больше, — прекратил прения Лученок. — А стыдиться их нечего. Это как медали за трудовую доблесть.
Неплохо сказано. Я обратил внимание, что Лученок, исполняя обязанности командира отделения, говорит не на белорусском, а на русском языке.
— Может, подождем возвращения старшины? — спросил Михась.
— Зачем же время терять?
— Ладно. Выпишем тебе командировочное предписание, требование на шанцевый инструмент, дорожное обеспечение и что еще, машину? Извини, машины, сам знаешь, у нас нет. Так что придется добираться тринадцатым номером.
Ну что ж, пешком так пешком. Это я и сам знал без его разъяснений. На склоне горы, метрах в пятидесяти от вершины, на моем пути оказалась огромная каменная глыба. Ни дать ни взять стол с гладкой горизонтальной поверхностью. Отличное место для наблюдения. Невозможно было воздержаться от соблазна постоять на этой террасе, с которой открывался великолепный вид на балаклавскую бухту. Вокруг непрерывно стрекотали цикады. В этом хоре периодически раздавался чей-то свист. Кто это? Я внимательно присмотрелся. Сравнительно недалеко от меня показались два желтоватых столбика. Сурки! Я спрыгнул с камня и побежал вниз. Один из них тут же исчез, другой стремительно несся к своей норе. Я остановился у того места, где недавно раздавался молодецкий посвист. Вертикально идущее вниз отверстие и рядом с ним бутан — своеобразная завалинка, на которой недавно судачили общительные соседи. Я знал, что сурки живут в горах. Но что они способны вырывать для себя норы в каменистой почве, это мне и в голову не могло прийти. Да будь у меня сейчас полный комплект шанцевых инструментов: лом, кирка и лопата, — я все равно ничего не смог бы сделать с жилищем спрятавшегося сурка. Интересные эти зверушки — сурки. Они охотно ходят друг к другу в гости, любят «поговорить о видах на новый урожай». Но как только где-нибудь появляется опасность, тут каждому, как говорится, давай бог ноги: хозяин проваливается в свою нору, сосед налегает на все лопатки, чтобы поскорее добраться до своего жилища. Разбегаясь, сурки не забывают оповестить об опасности соседей. Раньше они свистели, как, бывало, еще в пятом классе посвистывал мой дружок Тимка Прасолов: «Выходи, мол, гулять». Сейчас совсем другое дело. Тот же Тимкин свист, но означающий уже сигнал опасности: «Полундра на полубаке!» Привольно жить суркам в этих местах. Не обходится, конечно, без тревог, большей частью ложных. Но какая это жизнь без переживаний? Да не гоняй их рыжая лиса или горный ястреб, совсем бы разленились, одряхлели. А так другой раз такого страху нагонят, что где и резвость берется.
В штаб дивизиона я пришел около полудня. В радиорубке все было по-прежнему. Даже рекламный снимок улыбающейся борт-проводницы оставался на том же месте, рядом с коротковолновой радиостанцией.
— Смирно! — иронически скомандовал Олег Веденеев, мой товарищ по службе. — К нам прибыл член экипажа береговой обороны краснофлотец Нагорный.
— Вольно, военные интеллигенты! — ответил я в тон поданной команде.
— Ну как там на подступах к Главной базе Черноморского флота?
— Все нормально. Зорко охраняем ваше подразделение от внезапного воздушного нападения.
С Олегом я подружился после зачисления меня в радиовзвод дивизиона. Никто из нас двоих не напрашивался на эту дружбу. Все получилось как-то само собой. Вначале я почти не присматривался к нему. Парень как парень, ну разве что несколько полнее других. Правда, эта излишняя полнота не раз становилась причиной его глубоких переживаний. Во время занятий по гимнастике, особенно вначале, Олег, бывало, ухватится за перекладину турника и, сколько ни старается, никак не может подтянуться хотя бы до подбородка. Старшина гоняет-гоняет его, а потом снимет фуражку, вытрет вспотевший лоб и скажет: И зарос, как уссурийский медведь, и сила, кажись, должна быть, а зад, прости господи, как у бабы.
Как ни странно, но именно упоминание о волосатых груди и руках больше всего доставляли Олегу огорчений.
— Не горюй, — сказал я ему однажды. — За границей мужчины с лысой грудью заказывают и потом приклеивают себе специальные накладные волосы. Слыхал о таком?
— Нет.
— Выходит, ты самый настоящий мужчина и тебе многие попросту завидуют.
— Ты это серьезно?
— А какой резон мне обманывать тебя?
— Чудно. Слушай, Никола, а что бы ты посоветовал мне для укрепления организма? Как научиться подтягиваться?
— В этом деле может быть только один совет — систематические занятия физкультурой.
— Так я ж занимаюсь столько, сколько и все остальные.
— Сколько и все остальные — мало. Ты попробуй отжиматься от пола. И чем чаще, тем лучше. Дотянешь до двадцати раз — считай дело твое в шляпе.
С тех пор так и пошло. Выдается у Олега свободная минута, он ко мне:
— Давай отжиматься.
— Научил я тебя на свою голову.
— Ничего. Для тебя это тоже полезно.
Так постепенно мы и подружились. И когда стало известно о злополучной радиограмме, Олег сдал свое дежурство, сразу же подошел ко мне и сказал:
— Тебя могут вызвать для беседы по одному неприятному делу, так ты имей ввиду, что я заступил на вахту за полчаса до смены.
— Как это за полчаса до смены? — не понял я.
— Непонятливый ты, Нагорный. За четверть часа до окончания твоей смены полковая радиостанция передала нам радиограмму. Черт знает, что там случилось, но я получил ее только тогда, когда ты уже спал.
Только после этого я понял, что на моем дежурстве действительно случилась неприятность, и всю вину за это Олег хочет взять на себя.
— Зачем тебе понадобилась чужая беда?
— Во-первых, беда эта не чужая, и во-вторых, гауптвахту я как-нибудь переживу. Зато у тебя сохранится воинское звание старшины второй статьи. Правильно я рассуждаю?
— Нет, Олег, — ответил я, немного подумав, — неправильно. Я ценю твою жертву, но принять ее не могу.
— Почему?
— Если я в чем-нибудь и виноват, значит, и наказание должен нести сам.
— А дружба?
— Причем тут дружба? Ну как после этого я буду смотреть тебе в глаза? Да ты же первый потом скажешь...
— Не скажу.
— Не скажешь, так подумаешь: «А друг-то у меня липовый, если согласился, чтобы за вину отвечал я, а не он». Нет, Олег, в жизненном пути как-то легче, если у тебя нет на душе ненужного груза.
— Философ ты, Николай.
— Никакой я не философ. Но надо же как-то по совести.
В то же утро, когда нас построили и с Веденеева сняли поясной ремень, я вышел из строя и рассказал обо всем, как было. Начальник связи дивизиона посмотрел на нас двоих и сказал:
— Обоих на гауптвахту! Одного — за нарушение дисциплинарного устава, другого — чтобы не было скучно первому.
Когда я получил саперные инструменты и принадлежности для учебных занятий в школе, командир взвода спросил:
— Вам что, без шефства мало забот?
— Товарищ главный старшина, ну как же не помочь школьникам?
— Может, школьницам? — засмеялся командир взвода.
— Ну как можно, товарищ главный старшина?
— А что? Над каким классом вы взяли шефство?
— Над десятым.
— А-а, ну если над десятым, то это, конечно, совсем другое дело, — хитро улыбнулся главный старшина.
Со всеми делами в штабе я уже справился. Оставалось взять газеты и письма. По дороге в красный уголок я спросил Олега:
— Какие новости у вас?
— Из военно-морского училища, — понизив голос, сказал Веденеев, — списали десять курсантов. Пять человек направили к нам в дивизион. Одного из них прикомандировали к нашему радиовзводу. Ну и парень, я тебе скажу.
— За что же их так?
— Ну кто тебе скажет?
— Пожалуй, — согласился я, — Ну и как он, этот парень?
— Он же у нас без году неделя. Разве за это время узнаешь человека?
— Тоже верно.
— Слушай, Никола, что у тебя с Демидченко?
— Ничего, а что? — удивился я. Хотя чему тут удивляться? Демидченко мог рассказать обо мне, что было и чего не было. — Натрепался?
— Да нет, говорить он нам ничего не говорил, а вот перед твоим отъездом в Балаклаву категорически требовал не включать тебя в состав поста.
— Это он сам рассказал тебе об этом?
— Как же, жди, расскажет он тебе. Дружок главного старшины похвалялся новостью.
Вот, значит, как. Выходит, Вася пытался решить какую-то проблему еще до нашего отъезда. Значит, ниточка тянется дальше, что-то произошло значительно раньше. Но что? Я перебрал в памяти все, что могло быть связано с нашими отношениями, но разобраться в этом так и не смог.
Нас с Олегом увидел политрук. Он подозвал меня к себе, пригласил в свой кабинет и повел неторопливый разговор.
Некоторые считают, что по чертам лица можно определять характер людей. Говорят, в частности, что жесткие волосы свидетельствуют о крутом нраве человека. Вряд ли это так. У политрука волосы мягкие и светлые, как льняные волокна. Не успеет он отвести рукой пряди своих волос назад, как они снова скользят вниз и закрывают собою высокий крутой лоб. Лицо политрука можно было бы назвать симпатичным, если бы не очень маленький и немного курносый нос. Впрочем об этом сразу же забываешь, как только встречаешься с острым проницательным взглядом его серых глаз. Интересная деталь: одежда у политрука всегда в очень опрятном виде. Не скажешь, что он очень часто меняет ее, но, когда бы ты его не встретил, впечатление такое, что китель и брюки только что из химчистки — чистые, выглаженные, к воротнику подшит снежной белизны подворотничок. У других командиров рукава от долгого ношения кителя собираются в складки. У политрука, к моему удивлению, я таких складок не видел ни разу. После каждого его прихода в радиовзвод все как-то подтягивались, чистили свою одежду и становились прямо-таки неузнаваемыми.
— Ну как служба идет? — спросил политрук.
— Нормально.
— Секретарь комитета комсомола сказал мне, что обязанности комсорга вашего полка возложены на вас.
— Возложить-то возложили, товарищ политрук, но из этого получился только конфуз.
— Какой еще конфуз?
— Когда я сказал на комсомольском собрании о моем назначении, ребята ответили, что это не по уставу. Пришлось тут же исправлять ошибку. Выбрали комсоргом меня, и все уладилось. Но покраснеть перед этим пришлось основательно.
— Как же это он допустил такую ошибку?
— Да вы не расстраивайтесь, товарищ политрук, все уже уладилось, и дела теперь пошли, как следует, — и я рассказал о шефстве над комсомольцами первой Балаклавской школы, о взятых нами обязательствах по укреплению позиции нашего поста и, наконец, о том, что из комсомольских поручений удалось мне выполнить.
— Хорошие ребята у вас подобрались, — политрук немного помолчал, а потом добавил: — Как ведет себя сигнальщик Сугако?
Вопрос показался мне необычным. Почему политрук заинтересовался именно Лефером? Неужели кто-нибудь из наших мог сообщить ему что-либо порочащее Сугако? Вряд ли. Да и не было ничего такого, что могло бы обратить на себя внимание. Ну разве что некоторая обособленность и какие-то туманные рассуждения Сугако о судьбе человека. Ну так и что? Я так и сказал политруку. А потом добавил:
— Но зато, видели бы вы, с каким воодушевлением он работает.
— Это хорошо, что парень проявляет себя в труде. Но вам следует знать, что родители у него баптисты и в свое время так заморочили парню голову, что он даже бросил школу. А это значит, что так быстро освободиться от религиозного мусора он не мог, что это остается надолго. И наш долг помочь ему побыстрее очиститься от этого хлама.
Вот оно оказалось в чем дело. Откуда у политрука такая подробная информация? Наверное, из характеристики, присланной из местного военкомата. Никто другой знать об этом, конечно, не мог.
— Ему об этом говорить не следует, — добавил политрук. — Парень он впечатлительный и может не на шутку обидеться.
Я это и сам понимал и поэтому ответил:
— Обидчивости у него хоть отбавляй. Для меня это стало особенно ясно после того, как сказал ему о благодарности.
— Да вот еще что. Не забывайте о силе хорошего примера. Больше наглядности в воспитательной работе.
— Это мы учтем, товарищ политрук. Но как все это доставить на пост? — тут я решил воспользоваться хорошим настроением политрука и попытаться выпросить у него какой-нибудь транспорт.
— Газеты и письма?
— Так если бы только газеты и письма, а то у меня там еще целый комплект саперного оборудования — лом, кирка и лопата, дюжина радиотелеграфных ключей и столько же наушников.
— Гм. Столько донести на себе, конечно, нелегко. Посидите здесь, а я тем временем попытаюсь кое-что узнать.
Прошло около двадцати минут. За это время я успел перелистать последний номер журнала «Наука и техника» и даже прочитать статью о будущем реактивной техники. Вернулся политрук и сообщил, что меня ждет мотоцикл и что я могу собираться в путь. Молодчина все-таки политрук: он не только может по душам поговорить с подчиненным, но и помочь ему.
Во дворе штаба дивизиона уже стоял готовый к отъезду мотоцикл. Водитель его Саша Переверзев в шлеме танкиста и кожаных перчатках, увидев меня, сказал:
— Аристократы, да и только. Пешочком пройтись мы уже не желаем.
— Ты забыл, как недавно пришлось тебе нести груз на гору? — спросил я Переверзева.
— Так это ж груз.
— Ну вот сейчас я вынесу все, что нужно доставить на пост, и тогда посмотрим, что ты скажешь про мой груз.
Я принес из радиорубки саперные инструменты, ключи, наушники и погрузил их в коляску. Туда же положил газеты, письма и бланки боевых листков.
— Ну что ты теперь скажешь, можно все это донести одному человеку?
Переверзев молча завел мотоцикл и, форсируя подачу горючего, сказал:
— Садись на заднее сиденье и поехали.
Апрельское солнце уже давало знать о себе все сильнее и сильнее. Если бы мне пришлось добираться до поста пешком, моя рабочая одежда не раз бы успела и пропитаться потом, и высохнуть. На мотоцикле же, который шел со скоростью восьмидесяти километров в час, ощущение было такое, как будто ты стоишь на возвышенности, обдуваемой свежим ветром. Чтобы ленты бескозырки не хлестали меня по лицу, я связал концы их под подбородком. Вскоре показался Ванкой, а за ним и Балаклава.
— Лихо ты ездишь, Саша, — сказал я ему, выгружая свое имущество. — Двенадцать минут и, смотришь, мы уже па месте. А ты расстраивался.
— Чудак человек. Да разве ж дело во времени?
— А в чем же еще? Время, знаешь, одна из самых дорогих вещей. Не зря его приравнивают к золоту.
— Может, в чем-нибудь это и так, а лично у меня самое дорогое— бензин. Понимаешь? Нормы-то не хватает, а желающих прокатиться — хоть отбавляй. Вот теперь и соображай, как иногда приходится выкручиваться.
— Ты-то, я знаю, всегда выкрутишься. Ну спасибо тебе, Саша. Теперь я уж как-нибудь сам. Отсюда, можно сказать, рукой подать.
Переверзев развернулся и умчался на север, а я со своей поклажей пошел на восток, в гору. Не прошел я и пятидесяти метров, как впереди показался Музыченко.
— Давай допоможу, бо воно хоч не дужэ важко, алэ незручно.
— Спасибо, Петруша. А кто сейчас дежурит?
— Из радистов?
— Нет, сигнальщиков.
— Лэв Яковыч. Отож вин и повидомыв, що ты йидеш разом з Пэрэвэрзевым. Так я назустрич. Подумав, що як бы ты був з пустыми руками, то краще пишком, чым на отому драндулэти.
Правильно рассудил Музыченко и вовремя пришел на помощь. Все выше и выше поднимались мы вместе с Петром, и все дальше отодвигался горизонт, все больше открывалось виноградников, тропок и дорог. Вон уже и Кадыковка хорошо видна, и часовня на итальянском кладбище, и даже серебристый пунктир реки Черной.
8
Свою кухню мы перенесли на западную часть склона горы, метров на тридцать ниже ее вершины. Во время приготовления пищи на старом месте вершина горы, бывало, курилась, как небольшой дремлющий вулкан. Это, конечно, сильно демаскировало нашу позицию, и мы решили переместить свою пищевую базу пониже. Выбрали место, можно сказать, с природными удобствами: большое углубление, защищенное сверху массивной плоской глыбой камня. После расчистки получилась настоящая веранда. Там-то мы и соорудили нашу кухню, которая служила одновременно и столовой. В ней мы хранили кухонную посуду, запасы воды и хвороста.
Сегодня вновь моя очередь готовить ужин. В печурке, сложенной из камня, горит огонь. В кастрюле греется вода. Я сидел перед очагом и думал, что нужно сейчас делать. Нет, что варить ужин, это ясно. А вот как его приготовить? Вот этот вопрос меня и занимал. Можно было бы, конечно, поступить просто: вбросить в кипящую воду какую-нибудь крупу, очищенный картофель и пусть себе варится. Ну поели бы ребята варева, как, скажем, почистили карабины, и ни у кого не осталось бы после этого никакого воспоминания. А мне хочется сделать так, чтобы после ужина у всех было хорошее настроение, чтобы, скажем, тот же Звягинцев, закуривая, мог бы мечтательно сказать: «А я вот закончу службу, вернусь в свое родное село. Девчата будут смотреть и спрашивать: «Кто этот моряк? Неужели наш Сеня?» И даже сама Вера Самохина остановится и скажет: «Извините, Сеня. Можно вас на минуточку».
В кастрюле уже появляются и всплывают наверх маленькие пузырьки. Пора засыпать крупу. Но какую? У нас есть горох, гречневая и ячменная крупы. А если и то, и другое, и третье? Ведь в каждой из них свои достоинства, вкусовые свойства, и, если соединить их вместе, получится превосходный «букет». Но горох надо вбросить в кастрюлю раньше. Он так высох, что похож на крупную дробь, и для того, чтобы пропитался водой, нужно времени больше, чем при варении другой крупы. Горох уже в кипящей воде. Как только он чуть-чуть сделается мягче, я вброшу ячменную, а потом уже и гречневую крупы. Мелко нарезанный картофель немного подождет. А чем заправить мое блюдо? И тут я вспомнил, что вчера Музыченко получил из дому посылку. Когда он открывал ящик, перед нашими глазами промелькнули три куска сала, чеснок, домашняя колбаса. Аромат пошел такой, что даже дежурный сигнальщик Лев Яковлевич оставил свой пост, подошел к площадке и спросил: «Что это у вас?» Пусть пока варится, а я тем временем сбегаю наверх и попробую выпросить у Музыченко сала. Застал я его в тот момент, когда он «подкреплялся».
— Петруша, — обратился я к нему как можно ласковее. — Там я готовлю для тебя ужин, так надо бы его заправить сальцем и чесночком. Перец и лавровый лист у меня есть. Можно было бы обойтись и маргарином, но это, сам понимаешь, не тот табак.
— Заправляй маргарыном.
— Петя, пойми же, я хочу сделать тебе приятность.
— Нэ трэба. Мэни приемный и маргарын.
— Лученок же всю свою посылку отдал на кухню, — и чтобы окончательно припереть Музыченко к стенке, добавил: — Для тебя, дорогой Петя, двойная выгода: во время ужина я угощаю тебя твоим же салом и чесноком и, кроме того, ты получаешь тминную колбасу Михася.
Видимо, упоминание о том, что Михась отдал на кухню все содержимое своей посылки, все же подействовало на Музыченко. Оп вытащил из ящика все три куска сала, чеснок и два кольца украинской домашней колбасы. Переложил их с места на место. Видно было, что у Петра боролись два чувства: сознание того, что надо поступить так же, как и Лученок, и желание оставить кое-что себе. Какое из них окажется сильнее? Нет, не одолел себя Музыченко. Все-таки кусок сала и половину колбасы он положил на прежнее место, остальное отодвинул в мою сторону.
— Бэры на кухню. Тут бильшэ, чым у Лученка.
— Спасибо, Петя, и за это.
— Нэма за що.
Когда я пришел на кухню, вода в кастрюле кипела так, что заливала огонь. Пошли в ход картофель, а через некоторое время и лавровый лист. Под конец была опорожнена банка консервированной говядины. По первоначальному замыслу заключительным кулинарным аккордом должна быть приправа. Я отмел в сторону все устоявшиеся в этой части каноны и приготовил приправу по-особому: нарезал мелкими кусочками сало и чеснок, растолок эту массу пестиком, добавил немного измельченного в порошок красного перца и тщательно все перемешал. Половину приготовленной массы израсходовал как приправу, оставшуюся же часть употребил для приготовления бутербродов. Ну вот, пожалуй, и все. Нет, не все. У нас же есть украинская домашняя колбаса. Я нарезал ее ломтиками и на каждый бутерброд положил по два кусочка. Вот теперь все. Остается подать команду: «Кушать подано». Для этой цели рядом с кухней был подвешен обломок металлической пластины. Двенадцать склянок (двенадцать ударов по металлической пластине) оповестили о готовности ужина.
— Пожалуйста, дорогие сослуживцы, садитесь за стол. Это место для Пети Музыченко, — говорил я ребятам. — Сегодня он у нас вроде именинника. Правда, Петя?
— Та годи тоби, Мыколо.
— Что это? — удивился Лев Яковлевич.
— Блюдо по-Музыченко, — ответил я.
— Трипло ты, Мыколо, — обиделся Музыченко. — Знав бы, ничого нэ дав бы.
— Не трогай ты его, а то заберет все, что дал, обратно, — догадался, о чем идет речь, Лев Яковлевич. — А суп, или как его назвать, что надо.
— Если есть из чего — и дурак кашу сварит, — не согласился Звягинцев.
Этого я не ожидал даже от Семена. Столько старания и, выходит, все напрасно. Да нет же, я был уверен, что суп получился великолепный. А сказал Звягинцев так потому, что любит говорить наперекор. Даже обидевшийся на меня Музыченко, и тот решил защитить меня:
— Трипло ты, Сэмэнэ. Чого ж ты вчора нэ зварыв такого, як Мыкола? А було з чого.
Звягинцев, несмотря на то, что фактически осудил мое искусство в кулинарии, попросил добавки.
— Що, такый смачный? Щэ закортило? — съязвил Музыченко.
После супа были поданы бутерброды с растолченным салом, чесноком, перцем, а сверху еще и двумя кружочками украинской домашней колбасы. Первому я подал бутерброд (и не с двумя, а тремя кружочками колбасы) Музыченко.
— Петру Ивановичу, — сказал я почтительно, — особый бутерброд, так как все это из его посылки.
Музыченко промолчал, но по его тихой улыбке я понял, что он всем этим доволен. На этот раз даже Звягинцев не мог удержаться от восторга:
— Вот это да! К рюмочке бы такую закуску. Да ей бы цены не было.
Все сошлись на том, что ужин сегодня был почти праздничным. Я радовался, что у всех появилось хорошее настроение.
— Вот теперь можно и закурить, — сказал Звягинцев, доставая кисет.
Потянулись к своим запасам махорки и остальные. И, как водится, в такие минуты начинается беседа о том, кто и что видел или слышал от других, какие диковинные случаи были в жизни рассказчика, и вообще как много в мире вещей, которым человек никогда не перестает удивляться.
— А вот я расскажу вам такое, чего вы наверняка не то, что не слышали, но даже не поверите, — заинтриговал всех Демидченко. — Как, по-вашему, какой мех самый дорогой?
— Из каракульских ягнят, — авторитетно заявил Музыченко. — Та щэ з бобрив та горностайив.
— Куда ты со своими бобрами, — возразил Звягинцев. — Соболю нет равных среди зверей.
— А по-моему, дело не в бобрах и не в соболях, а в том, кто и как выделывает мех, — заявил Лев Яковлевич. — Мой дядя может сделать из шкур простых дворняжек такой мех и потом пошить такую шубу, что ее не постесняется носить самая шикарная баба.
— Мастерство— это вопрос другой. А мы говорим, сколько стоит какой мех. Так вот, — продолжил Демидченко, — можете вы себе представить шубу, которая стоит, как ванна из чистого золота?
— Ты, командир, маленько того, — не согласился Лев Яковлевич. — В Одессе бы знали про такую шубу.
— Выходит, нет.
— Командир, ты не знаешь моего дяди.
— Да причем тут твой дядя? Разговор идет про ценный мех.
— Ну и сколько же она стоит? — проявил нетерпение Звягинцев.
— Сто тысяч долларов. На рубли не знаю.
— Мама! Сто тысяч долларов? Побожись.
— Ну зачем мне божиться?
— Что ж это за зверь такой?
— Шиншилла, называется. А мех у этого зверька густой, с голубым оттенком, крепкий и легкий, как шелк. Лектор рассказывал нам, что дикие шиншиллы купаются в пепле от вулканов. Чтоб мех, значит, держать в чистоте.
— А что, есть и ручные?
— Есть, говорит, и прирученные. Их разводят, как у нас чернобурых лисиц. Эти любят купаться в песке. Вот, значит, какое дело.
— Слушай, командир, а этот лектор не врет, что их можно разводить, как кроликов. В Одессе ж столько песку.
— Вот чего не знаю— того не знаю. Ну ладно, кончай баланду. Кто меняет Лученка и Сугако?
— Я и Нагорный, — ответил Музыченко.
— Между прочим, вы, краснофлотец Нагорный, — обратился ко мне Демидченко, — могли бы сменить своего товарища и раньше. Всегда ждете напоминания.
Огрызнуться? Не стоит. Увяжется потом, как дворняжка, не отцепишься.
Когда я подошел к рации, Лученок внимательно слушал какую-то передачу.
— Что, Михась, концерт слушаешь? — спросил я, присаживаясь к столу.
— Цс-с! — не отрываясь от шкалы настройки и не поворачивая головы, шепотом ответил Лученок.
Может, какой-нибудь личный разговор услышал. Рядом с нашей волной иногда слышатся радиотелефонные разговоры между какими-нибудь геологическими партиями или экспедициями.
— Ты ведаешь што? — заговорщицким тоном сообщил мне Михась, снимая наушники. — Быццам зусим недалёка працавала нямецкая рацыя. Цераз микрафон. Што гэта можа значыць, як ты думаеш?
— Как это недалеко? — не понял я.
— А вось так. Як наша дывизиённая.
— Ты что, Михась? Как же это может быть? На каком хоть языке шла передача?
— У тым-то и справа, што на нямецкай мове.
— А может быть, это какой-нибудь корабль или подводная лодка в нейтральных водах?
— Можа быць. Аб гэтым я не надумав.
— Ну, Михась, ты так можешь такого страху нагнать, что спать не будешь.
— Ды я сам напужався.
Лученок расписался в вахтенном журнале, передал наушники и уступил мне рабочее место.
— Не задерживайся, а то ужин остынет.
— Не, гэта ад мяне не уцячэ, — ответил Михась, направляясь к кухне.
Слушая эфир, я почему-то вспомнил, как врач, выходя из дома Хрусталевых, остановился, внимательно посмотрел на меня и сказал: «Да-с. Идите, молодой человек, вас там ждут». А потом еще эта Лида: «Скажите, Коля, а вам очень нравится Маринка?» И надо же такое сказать. Не просто «нравится», а «очень нравится». Как будто вопрос о том, нравится ли мне Маринка, для Лиды совершенно ясен. Дело лишь в том, сильно или просто так. А вообще, если честно признаться, Маринка — девушка хорошая, самостоятельная и, кажется, с характером. А как она обрадовалась, когда я принес ей цветы. Но где она могла простудиться? Даже мать ее недоумевала. А ведь Анна Алексеевна чуткая женщина и понимает, что к чему.
Солнце уже повисло над горизонтом, как вдруг я услышал чью-то команду «В ружье!». В рубку, которая служила нам и спальней, вбегали, хватали карабины и строились на площадке все, кто был свободен от дежурств.
— Краснофлотец Звягинцев, — услышал я приказ Демидченко, — немедленно заменить на радиовахте Нагорного.
— Что-то стряслось, — шепнул мне подбежавший Семен. — Сдавай вахту и становись в строй.
Я быстро передал наушники Звягинцеву, расписался в вахтенном журнале и стал в строй. Перед нами медленно прохаживался незнакомый морской офицер. Немного в стороне стояли командир радиовзвода из нашего дивизиона главный старшина Литвин и Демидченко. Стал в строй наконец и немного опоздавший Сугако.
— Смирно! Товарищ старший лейтенант, отделение поста номер один построено. Командир отделения старшина второй статьи Демидченко.
— Вольно.
— Вольно! — повторил команду Демидченко.
— Товарищи краснофлотцы, — обратился к нам старший лейтенант. — Наши радиопеленгаторы обнаружили в квадрате тридцать семь вражеский радиопередатчик. Это почти рядом с вашей высотой. Командование отдало приказ: разыскать и обезвредить заброшенного лазутчика. Командир вашего дивизиона выделил на поиски врага и ваше отделение в составе шести человек. На посту останется один радист, который будет и вести наблюдение за воздушным пространством, и держать связь с вашей штабной радиостанцией. Ваша задача — прочесать полосу шириной в сто пятьдесят метров и глубиной в три километра. Вашими соседями будут военные из других подразделений. Ясно?
— Стрелять можно? — спросил Лученок.
— Только в крайнем случае. Вы должны понимать, что для нас очень важно захватить врага живым. Еще вопросы?
— Ясно.
— Разъясняю порядок прочесывания. Держаться парами с интервалами в пятьдесят метров. Проверять все естественные укрытия, в которых может спрятаться человек. Через каждые пятьдесят метров условным поднятием руки поддерживать связь между собою. Не разговаривать, не курить. Какие будут вопросы?
Все было понятно, и поэтому все молчали.
— Командир отделения, распределяйте бойцов.
— В паре со мной идет Нагорный, — отдал приказ Демидченко. — Соседи справа — Лученок и Сугако, еще правее — Танчук и Музыченко. Старшие в парах: я, Лученок и Танчук.
— Сбор вон у той вышки, — пояснил старший лейтенант. — Сейчас все спукаемся вниз по восточному склону горы. У подножья рассредоточиваемся и цепью, начиная вон от тех развалин, идем на юго-восток. Командуйте, товарищ главный старшина.
— Отделение, на исходный рубеж — марш!
Спускались вниз молча. Лишь иногда к дробному стуку башмаков присоединялся звук осыпавшихся камней, и тогда главный старшина шепотом распекал провинившегося:
— Вы что, спите? Внимательнее смотреть под ноги.
Уснешь тут, когда все нервы напряжены, как струны. Рядом шедший Лученок легонько толкнул меня локтем и шепотом произнес:
— А нейтральный воды аказваюцца зусим пад бокам.
— Разговорчики, Лученок.
Ну и слух же у командира взвода. Я и то еле разобрал, что сказал Михась. Хотя одно дело — разобрать и совсем другое — просто услышать звук. Тишина. Я люблю тишину, спокойную, безмятежную. Такая тишина бывает в мирный рассветный час, когда ничто тебя не тревожит. Над восточным горизонтом появляется светлая розовая полоска. Низины и пойменные луга затянуты неподвижной пеленой тумана. Размеренный шум морского прибоя не мешает молчанию. К нему привыкли, как привыкли к сонному бормотанию лесного ручья обитатели леса. Он как тихая колыбельная песня матери, убаюкивающая засыпающего ребенка. Но есть и другой род тишины, пугающей, тревожной. Те же низины, те же пойменные луга, тот же размеренный шум морского прибоя, но после наступления темноты. Плачущий крик филина в полночь леденит душу. Звук от нечаянно сломанного сучка заставляет учащенно биться сердце. Человек, прислушиваясь к тревожной тишине, невольно задерживает дыхание. И хотя поднятая за день пыль давно уже осела и воздух стал чистым, как после грозового дождя, чувство легкого удушья не покидает человека. Именно такой была тишина, когда мы спускались к подножию нашей горы.
Спуск закончился. Шедший впереди старший лейтенант остановился и поднял руку вверх — условный знак «стой».
— Первая пара, — негромко произнес старший лейтенант, — начинает прочесывание прямо отсюда, остальные рассредоточиваются вправо с интервалами в пятьдесят метров. Движение, — командир посмотрел на свои часы, — начнем через десять минут. Крайние пары должны к этому времени установить зрительную связь с соседями. Всем ясно?
— Ясно, — тихо ответили мы.
— Тогда за дело. Первая пара остается на месте, остальные — на исходные рубежи.
Лученок, Сугако, Танчук и Музыченко ушли по направлению к морю, мы с Демидченко остались на месте. Вокруг по-прежнему было тихо. Вскоре, мы знали, кольцо замкнется и на прибрежных отрогах Крымских гор начнется скрытая охота на «лис». Во время ожидания минуты тянутся долго. Особенно долгими они кажутся, когда не знаешь, что тебе угрожает, с какой стороны надвигается на тебя опасность. Оттого в такие минуты мы начинаем волноваться, нервничать. Вот когда проявляются характеры у людей. В минуты опасности внешнее спокойствие человека— только кажущееся. В нем так же, как и у других, все обострено, напряжено до предела. И разница лишь в том, что внешне спокойный человек находит в себе силы подавить волнение, точнее не дать ему проявиться в реакциях, заметных для окружающих людей. Я смотрю на старшего лейтенанта и не замечаю, чтоб он волновался. А ведь хорошо знаю, что это не так. Неужели он из числа людей, которые отличаются от других особой силой воли? Может быть. Но я думаю и о другом. Сознание, что ты командир, что на тебе лежит особая ответственность за порученное дело, помогает человеку мобилизовать силы духа и вести себя так, как подобает командиру.
Демидченко заметно нервничает. И хотя он молчит, видно, что в душе у него творится неладное. То бушлат одернет, то поправит воротник, то переложит руку на карабине с одного места на другое, то переведет взгляд с командира взвода на старшего лейтенанта, будто хочет спросить: «Ну чего мы стоим? Уже давно пора идти».
— Возьмите себя в руки, — сделал ему замечание старший лейтенант. — Ваш подчиненный и то ведет себя спокойнее.
Подействовало, успокоился Демидченко.
— Пора, — сказал старший лейтенант, взглянув на часы.
Я посмотрел влево. Точно, метрах в пятидесяти от нас стояли два морячка, один из которых — с поднятой рукой, что значило: «Вас вижу». Справа от нас на таком же расстоянии стояли Лученок и Лефер. Мы с Демидченко двинулись в путь: я впереди, он— метрах в десяти от меня. Как в авиации — он прикрывает ведущего.
Метров через пятьсот начался подъем на соседнюю возвышенность. Никаких признаков присутствия вражеского лазутчика мы пока не обнаружили. Шли, как и прежде, молча. Я посмотрел назад, чтобы выяснить, где старший лейтенант и главный старшина, не остались ли они на исходном рубеже или же следуют за нами. Нет, идут «во втором эшелоне». Разделили между собою сто пятьдесят метров пополам и оба с пистолетами в руках следуют за нами. Не успел я повернуть голову, как огромная каменная глыба с грохотом проскочила мимо меня, увлекая за собой лавину более мелких камней. Но оказалось не совсем мимо, все-таки зацепило и меня. Рывок был настолько сильным, что я не смог удержаться на ногах и свалился, увлекаемый скользящими мелкими камнями. Не знаю, чем бы это кончилось, если бы на моем пути не оказалось кустарника. Я вначале не понимал, кто и что мне говорит. И лишь минуты через полторы осознал, что меня разносит Демидченко:
— Раззява! Идти, как следует, и то не может. Ну и напарничка я себе выбрал. Где карабин?
Я осмотрелся. Карабин лежал внизу, метрах в двадцати от нас. Прибежал главный старшина.
— Что случилось?
— Вот полюбуйтесь, товарищ главный старшина. Вместо того, чтобы выполнять боевой приказ, он смотрел вверх и считал ворон. А места здесь опасные. Вот и досчитался.
— Как же это ты так неосторожно? — обратился командир взвода непосредственно ко мне.
Я все еще никак не мог толком осмыслить происшедшего. Действительно в тот момент я посмотрел назад. Но чтобы оступиться, такого я не припомню. Предположим, что оступился. Ну и что? Ведь до кустарника, за который я зацепился, всего каких-нибудь два-три метра. Да и что могло рвануть меня с такой силой? Чертовщина какая-то. Вдруг резанула меня мысль: «А что, если... Да нет, ты что? Такого не может быть».
— Ну как самочувствие? — спросил командир взвода.
— Да вроде ничего, — ответил я уже бодро.
— А с ногой что? Покажи.
Я поднял свою рваную штанину и успокоился.
— Пустяки. Маленькая царапина.
— Считай, что тебе повезло. Могло быть гораздо хуже. Иди на пост и смени Звягинцева. Пусть бежит аллюром сюда.
— Товарищ главный старшина, да не найдет он вас. Я же чувствую себя вполне нормально.
— Не врешь?
— Как можно, товарищ главный старшина?
— Ну ладно, пошли дальше. Только брось к черту этих ворон, лучше смотри под ноги да по сторонам.
— Есть бросить к черту этих ворон и лучше смотреть под ноги и по сторонам.
Главный старшина ушел к старшему лейтенанту доложить о происшествии, а мы с Демидченко продолжали двигаться вперед. И чем выше, тем гора становилась круче, и под конец пришлось карабкаться по ее каменистым выступам в буквальном смысле этого слова.
Раздумывая над случившимся, я повернулся к командиру.
— Почему остановились? — шепотом спросил подошедший Демидченко.
— А что если, — предположил я, — этот камень свалил на меня чужак?
— Хоть другим не говорите этой ерунды. Засмеют. Стал бы чужак выдавать себя этим камнем, — потом примирительно добавил. — С перепугу в голову полезет и не такое.
Может, Демидченко и прав. И все-таки мысль, что я не просто оступился, а попал под уже катившийся сверху камень, не давала мне покоя. «Могло ли все это быть случайностью?» — «Могло, — отвечал я самому себе. — Дожди и ветры подточили выступ скалы и он рухнул. А если нет?» Успокоил себя тем, что прочесывание местности идет сплошной цепью моряков и к каким бы хитростям лазутчик не прибегал, спрятаться ему все равно не удастся. Дошли чуть ли не до самой тригонометрической вышки. Нигде никаких следов чужака. Подходивший к нам старший лейтенант вдруг остановился. Где-то у самого берега моря прорезал тишину одиночный выстрел. Гулкое эхо долго плутало, пока не исчезло в сумрачных расщелинах северной гряды Крымских гор.
— Он, гад! — определил старший лейтенант. — Заворачивай левое крыло к берегу моря. Интервалы сократить до двадцати метров.
До берега моря было километра два. Весь оставшийся участок представлял собой плоскогорье, покрытое редколесьем. Начинались сумерки. А на юге они короткие, и это знали все.
— Быстрее, ребята, — торопил нас главный старшина. — Скоро станет совсем темно и тогда враг может уйти.
— Теперь не уйдет, — ответил старший лейтенант. — Наши ребята подходят и со стороны Байдар и со стороны моря.
Точно. Только теперь я увидел два легких катера, курсировавших на взморье южнее Балаклавы. Чуть дальше от берега стоял сторожевой корабль. До наступления темноты был тщательно прочесан весь участок. Но ни мы, ни соседние подразделения, принимавшие участие в этой операции, лазутчика так и не нашли. Он был и исчез. Как сквозь землю провалился. Как в воду канул. «Да как же это получилось, что мы его не нашли? — спрашивал незнакомый капитан второго ранга. — Что же он, невидимка, что ли?» Мы молчали, словно неудача случилась по нашей вине.
— Можете возвращаться в свои подразделения, — сказал капитан второго ранга.
Шли мы мимо Балаклавы строем. Командовал отделением не Демидченко, а главный старшина. Он решил, что возвращаться в Севастополь ночью не имеет смысла. Лучше переночевать у нас. Утром легче встретить попутную машину, а нет, так и пешком пройтись — небольшой труд.
— Товарищ главный старшина, разрешите обратиться с вопросом, — сбиваясь с ноги, нарушил молчание Танчук.
Начался подъем в гору, и командир взвода, прежде чем ответить на обращение Льва Яковлевича, отдал команду:
— Вольно. Можно идти вне строя. Обращайтесь, краснофлотец Танчук.
— Мы вот ни разу не были в городе. Посмотреть бы да и себя показать. А вы повели нас в обход.
— Кого показать? Нагорного с рваными брюками и синяками на лице?
Все засмеялись, но громче всех Демидченко. Подумать только, кому я помогал и с кем, кажется, дружил. Ирония судьбы, да и только. Рассказать бы сейчас всем, что представляет он собою в действительности. Но кто этому поверит? Ведь нет же ни одного свидетеля. Демидченко непременно воспользовался бы этим, потребовал бы наказания за клевету. Бывает же так. Тебе человек делает гадость, и он же потом в насмешку обвиняет тебя в невнимательности, приписывает тебе самые худшие качества, которыми может быть наделен человек. Ирония судьбы, да и только. Но ирония-иронией, а мне от этого нисколько не легче. Танчука словно подменили. Раньше он никогда не нападал на меня, а сейчас будто черт в него вселился.
— А мы при чем, что он все время присматривался, далеко ли ему бежать, если вдруг лазутчик нагонит на него страху.
— С перепугу дал такого деру, что еле удержал его за бушлат, — грубо съязвил Демидченко.
— Товарищ главный старшина, — вновь заговорил Танчук. — Надо бы Нагорного проверить повнимательнее. Может, в его брюках, кроме дыр, есть еще какие неполадки.
Шутки этой не приняли. Смеялся только Демидченко.
— Эх, Лев Яковлевич, хорошо тебе ходить в львиной шкуре. В моей бы ты взвыл не так, а может, чуток погромче.
— Это у тебя звериная шкура, — тут же окрысился Демидченко. — А на таких, как Танчук, держится вся береговая оборона.
— Прекратить разговоры, — вмешался главный старшина.
Оставшуюся часть пути шли молча. Настроение у меня совсем упало. До сих пор я чувствовал себя нормально, а тут почему-то разболелась ушибленная нога, неприятно заныли синяки и ссадины.
9
Близился конец апреля. Солнце поднималось все выше и выше. В полдень становилось уже совсем жарко. За все эти дни я ни разу не был в школе, ни разу не навестил Маринку. Занятия в радиокружке, по распоряжению командира отделения, проводил теперь Михась. Даже когда нужно было принести воды, командир посылал кого-нибудь другого, но не меня.
— Ты не обращай на него внимания. Когда-нибудь это у него перегорит, — успокаивал меня Лученок. С того памятного дня, когда лишь по счастливой случайности удалось избежать свалившейся на меня глыбы, Михась почему-то стал говорить по-русски.
— Ты хоть приветы передавай Маринке, — просил я Лученка. — Только не говори, пожалуйста, об этом командиру.
— Это с какой же стати я стану говорить ему об этом? А ты знаешь, тобой все время интересуется Лида. Помнишь такую?
— Как же не помнить, бойкая такая девчонка, — ответил я и добавил: — И славная.
— Может, и ей передать привет?
— Нет, не надо. Только Маринке. Но так, чтобы не слышали другие. Ребята там такие, что палец в рот не клади. Начнут подшучивать. А она этого не любит.
— Понятно.
— Слушай, Михась, хотелось посоветоваться с тобою. Раз мне все время приходится сидеть на этой макушке, займусь-ка я лучше траншеей. Очищу подход к южному концу, потом поочередно будем долбить ее. У нас же есть бланки боевых листков, в них мы можем отражать, кто сколько сделал.
— Дело говоришь. Давно пора. А то могут спросить: «А что вы, комсомольцы, сделали на своем посту?» И что мы ответим? «Ничего». Стыдно будет. Ништо Микола, — вспомнил свой белорусский язык Лученок. — Мы яшчэ свае вазьмем. Тольки не падай духам, трымай хвост трубой.
Духом я не упаду. У меня такой характер, что если где-нибудь наметится вакуум, он тут же наполняется злостью и я с остервенением берусь за любое дело, пока его не закончу. Тут уж мне не помешает никто, даже сам Демидченко. Сейчас у меня — страшный зуд на траншею. Взяв лом, кирку и лопату, я принялся за расчистку подхода к южному концу траншеи. У меня уже был опыт в этой работе. Да и пласт здесь оказался тоньше, чем на северной стороне. Работа спорилась. Остановился я лишь тогда, когда почувствовал, что кто-то стоит рядом. Оказалось, что на этот раз моей работой заинтересовался Лев Яковлевич.
— А ну дай я.
— Попробуй, может, понравится.
Лев Яковлевич взял лом и принялся ковырять спрессованный временем нанос.
— Ты возьми рукавицы, а то пузыри натрешь, — посоветовал я ему.
Танчук ковырнул еще пару раз, а потом отставил в мою сторону лом и сказал:
— Валяй дальше. У тебя это лучше получается.
Мы оба рассмеялись, так как хорошо поняли друг друга.
— Так и быть. Я расчищу этот подход, но потом, дорогой Лев Яковлевич, всем нам придется строго выполнять свою норму.
— Потом, как говорит уважаемый нами Музыченко, побачымо.
Сейчас Льву Яковлевичу бесполезно внушать какую-либо мысль о необходимости быстрейшего окончания работ по очистке траншеи. Также бесполезно призывать его сейчас же самому взяться за эту работу. Его нужно заставлять работать.
Приступая к расчистке подхода к южному концу траншеи, я не был до конца уверен в том, что и с этой стороны откроется такая же картина поперечного сечения рва, какая была обнаружена Сугако. Поэтому я задал Танчуку вопрос:
— Лев Яковлевич, ты видел с той стороны, что там когда-то была траншея?
— Что за вопрос, — это форма утвердительного ответа Танчука.
— А как ты думаешь, здесь будет то же самое, когда я закончу расчистку, или нет?
— Это надо обмозговать, — ответил явно заинтересованный Лев Яковлевич.
Он взял кирку, пошел к северному концу траншеи и начал что-то измерять. Закончив свои расчеты, он вернулся и сказал:
— Два метра двадцать сантиметров.
— Что это значит, Лев Яковлевич?
— А это значит то, что значит, — ответил загадкой Танчук и принялся за такие же измерения на южной стороне. Вначале он продолбил в радиальном направлении неглубокую бороздку в том месте, где по расчетам должна быть засыпанная траншея, а потом, после повторных измерений, намеченную бороздку углубил.
— А ну иди теперь сюда, — пригласил меня Лев Яковлевич. — Смотри и думай.
Я подошел к Танчуку и внимательно посмотрел на бороздку. В ней явственно обозначился участок, более глубокий и по длине соответствующий ширине предполагаемой траншеи. За пределами этого участка борозда еле намечалась. Видно было, что там был сплошной гранит.
— Ну и что ты теперь скажешь? Что у Танчука на плечах?
— Лев Яковлевич, у тебя же министерская голова! — воскликнул я.
— Мне об этом говорил еще два года назад сам дядя. А дядя, между прочим, всегда говорит дело. Ему можно верить.
— Слушай, Лев Яковлевич, раз у тебя такая светлая голова, — похвалил я его, — придумай что-нибудь такое, чтобы можно было и траншею отрыть, и мозолей на руках поменьше заработать. Можно, конечно, выполнить дело и так, но лучше, если оно делается с головой. А еще лучше, если оно делается с хорошей головой.
— Ты, я вижу, тоже говоришь дело, — засмеялся Танчук.
К полудню я все-таки закончил расчистку площадки с южной стороны. Полностью подтвердилось первоначальное предположение о том, что траншея опоясывает вершину горы полукругом и своими концами выходит с северной и южной сторон на площадку. Теперь осталось самое главное и трудное — очистить ров от слежавшегося наноса. Я взял графики дежурств радистов и сигнальщиков и выписал фамилии тех, кто был свободным от вахт в дневное время. Составленный график расчистки траншеи показал командиру.
— Вы что, может быть, и с командованием дивизиона согласовали этот вопрос?
— А зачем нам такими вопросами беспокоить командование?
— Значит, по-вашему, это мелочи?
— Не мелочи. Но этот вопрос можно решить и нам самим. Я все-таки комсорг и считаю, что главное в комсомольской работе — боевые дела нашего отделения.
— Вот что, краснофлотец Нагорный. Не стройте из себя всезнайку. Работу пока прекратить. Может, у командования есть свои планы, а вы этим только испортите дело. Ясно?
— Да что-то не очень.
— Значит, опять пререкаться? Ну что ж, на этот раз придется писать рапорт. Пусть разбирается с вами командование. Кру-у-гом!
Мне ничего не оставалось, как только повернуться на сто восемьдесят градусов и с приложенной к бескозырке рукой уйти в расположение поста. «Вот ведь до чего дело дошло, — проносились в голове невеселые мысли. — Из-за своей дурацкой амбиции может погубить нужное дело». Лученок, стоявший на площадке, по мрачному выражению моего лица определил, что дела у меня неважные.
— Што здарылася, Микола?
— Дрянь дело, Михась, — и передал ему содержание моего разговора с Демидченко.
— Не, братка, так справы не пойдуць, — неопределенно ответил Михась.
— Ты что надумал? — встревожился я.
— А гэта мая справа.
На площадке появился Демидченко. Я слышал, как Михась просил разрешения съездить в штаб дивизиона по каким-то своим личным делам.
— Нет, краснофлотец Лученок, у меня появились более неотложные дела. Так что оставайтесь здесь за меня, а я поехал в штаб, — ответил ему командир отделения.
— Пачув усе ж, што смаленым запахла, — заключил Михась уже тогда, когда Демидченко был далеко внизу.
Когда у меня портится настроение, я часто ухожу на то место, с которого в первый раз наблюдал орлов. Ляжешь, бывало, под кустом, так чтобы тебя не было видно, и смотришь. Внизу пропасть, а почти рядом с тобой орлиное гнездо. Почти полтора месяца длилось насиживание. В гнезде чаще оставалась орлица, крупная красивая птица. Я смотрю сейчас на нее и вижу, как она нехотя отворачивает свою буровато-охристую голову в сторону от назойливых, уже начинающих опериваться птенцов. Они пытаются достать своими клювами клюв матери. Невдалеке показалась вторая птица. Увидела ее орлица и тотчас же, привстав и взмахнув темно-бурыми крыльями, улетела за добычей. Мне приходилось видеть, как птенцам приносили и мелких грызунов, и рыбу, а однажды где-то раздобыли даже зайца. На этот раз к столу был подан, кажется, сурок. Прилетевший орел был меньше своей подруги, но с такой же гордой и величественной осанкой. Маринка, оказывается, знала, что на этой скале уже не первый год гнездятся орлы. Называла она их орланами-белохвостами. И надо сказать, что это название полностью соответствовало их внешнему виду. На фоне темно-бурой окраски крыльев сильно выделялся белый хвост. Красиво, как королевская мантия, выглядит передняя часть туловища птицы. Беловатые поля перьев чередуются с буроватыми отметинами. Орел, придерживая когтями добычу, отрывал от нее клювом кусочки и протягивал их птенцам. Даже не верилось, что у такой сильной хищной птицы могут быть такие неторопливые, почти нежные жесты. Кормление закончено. Орел отправился на поиски новой жертвы. Один из насытившихся птенцов, если только они когда-нибудь насыщаются, повернулся хвостовой частью к краю гнезда и сильной струей, как выстрелом, отправил свой помет в пропасть. У орлов инстинкт чистоплотности, оказывается, развит гораздо сильнее, чем, скажем, у голубей: Меня поразило, что воробьи могут находиться почти в самом орлином гнезде. Они нисколько не боятся хищных птиц, легко устраиваются рядом с их жилищем, часто ссорятся из-за каких-нибудь объедков, остающихся от принесенной добычи. В этом мирном сосуществовании хищников и их нахлебников кроется, наверное, свой глубокий биологический смысл. Рассматривая этот небольшой уголок живой природы, я почувствовал, что совсем успокоился и могу продолжать заниматься своими воинскими делами.
10
Сегодня Первое мая. Демидченко еще вчера выпросил у командира взвода увольнительную и уехал в Севастополь. Обязанности командира отделения, как всегда, были возложены на Лученка. Сразу же после обеда я подошел к Михасю и прямо ему сказал:
— Ты знаешь, что я уже почти месяц не видел Маринку?
— Ведаю, а што?
— А то, что ты должен дать мне увольнительную.
— А у мяне няма паперы.
— А ты пусти без паперы, — передразнил я Михася.
— А як патруль сустрэне?
— Не сустрэне, — начал я подлаживаться под Лученка. — Я обойду его стороной.
— Ну глядзи мне. Пападзешся — сам выкручвайся.
— Не бойся, Михась, не подведу.
Вначале я направился к Кирюхе Пуркаеву, захватив с собою мои собственные радиотелеграфный ключ и наушники. Без обещанного подарка идти к нему нельзя. Пуркаев был у себя во дворе.
— Кирюха, — позвал я его. — Выйди на минутку.
— Привет, — подбежал он ко мне. — Почему не показывался столько?
— Это долгий и неинтересный для тебя разговор. Поздравляю тебя с праздником. Вот обещанный мною подарок, — развернул я газету.
— Ух ты! Вот здорово! — Кирюха моментально забыл обо мне и помчался показывать подарок своим дружкам. — Вот, смотрите, что у меня, — услышал я слова Кирюхи.
Тройка ребят внимательно рассматривала ключ и наушники.
Они, конечно, знали их назначение, так как Пуркаев тут же надел наушники и начал «передавать» радиограмму.
— Пи-пи-пи-пи-пи-пь, — услышал я имитацию радиотелеграфных сигналов.
После минутной «передачи» Кирюха сбросил наушники, подбежал ко мне и без предисловий спросил:
— А что тебе подарить?
Я улыбнулся догадливости Кирюхи, развел руками и сказал:
— Сам знаешь.
— Это я мигом. Выпрошу у деда Саватея самых-самых.
— Для двоих, — крикнул я.
— Ладно, — не сбавляя скорости, ответил Кирюха.
Оставшиеся мальчишки (один — с ключом, другой — с наушниками) подошли ко мне. Их интересовало все: где я познакомился с Пуркаевым, как сделать, чтобы в наушниках был звук, где можно изучить азбуку Морзе и много других, не менее важных, по их мнению, вопросов. Показался Кирюха.
— Красивые черти, но колючие. Пока донес — весь исцарапался. Осторожно. Не исколись и ты, — давал мне наставления Пуркаев.
— Постараюсь. Руку.
Я шел к Хрусталевым и не отрывал взгляда от цветов. Дед Саватей действительно постарался: срезал десять крымских роз и, перед тем, как передать их Кирюхе, наверное, побрызгал их водою. На лепестках роз дрожали, переливаясь всеми цветами радуги, крупные водяные капли. Что связывало деда Саватея с Кирюхой? Об этом я мог только догадываться. Одно для меня было ясно: они крепко дружили. Иначе не объяснишь такую щедрость деда.
Во дворе Хрусталевых я увидел Анну Алексеевну.
— Пропавший без вести матрос, с праздником тебя!
Я также поздравил Анну Алексеевну с праздником Первое мая и вручил ей половину цветов.
— Ну спасибо, матрос, не забыл, значит, и меня. А цветы, цветы-то какие! Маринка! — позвала свою дочь Анна Алексеевна.
На пороге показалась Маринка. Она была в праздничном наряде: легкое, почти воздушное платье облегало фигурку девушки, голубая атласная лента опоясывала голову в виде короны и своими концами пряталась на затылке под густыми прядями волос. А лицо Маринки, казалось, само излучало свет. «Эх, матрос, — мелькнула у меня мысль, — пропала твоя буйная головушка».
— Здравствуй, Маринка. Прошу принять от меня праздничные поздравления и эти цветы.
— Спасибо. Что случилось? — спросила Маринка, имея в виду мое долгое отсутствие.
— Да так. Небольшие служебные неурядицы. Но это, кажется, уже позади.
— Ты обедал? — она впервые обратилась ко мне на «ты».
— Да.
— Посмотри мне в глаза.
Я повиновался и потом тихо сказал:
— Я готов смотреть в них всю жизнь.
Маринка засмеялась и крикнула:
— Мама!
— Прошу тебя, Маринка, мне будет неудобно.
— А мы с мамой очень большие друзья, и я ничего от нее не скрываю.
Подошла Анна Алексеевна.
— Что случилось?
Маринка зарылась лицом в цветы и, лукаво посматривая на меня, сказала:
— А Коля сказал, что готов всю жизнь смотреть в мои глаза.
Анна Алексеевна долго и внимательно смотрела на свою дочь. Я увидел, как у нее появились на глазах слезы. Может быть, она вспомнила свою далекую юность, как к ним на выпускной бал приехала группа курсантов Качинского летного военного училища и один из них, Хрусталев, пригласил ее на первый вальс. Все они тогда были немного сумасшедшими и настояли на поездке через Байдарские ворота к замку «Ласточкино гнездо». По дороге курсант Хрусталев, наверное, морочил ей голову рассказом о том, что у него есть любимая Аннушка, с которой он не расстается вот уже целый год. «Вот и не расставайтесь со своей Аннушкой», — обиделась тогда Аня. Откуда было знать ей, что курсанты называли Аннушкой свой учебный самолет. Много воды утекло с тех пор. Родилась Маринка. И когда же она успела вырасти? Подумать только, ей уже признаются в любви. Анна Алексеевна вытерла уголком косынки слезы и сказала:
— Удирали бы вы побыстрее, а то вот-вот нагрянут друзья Маринки, и тогда они от вас уже не отстанут.
— Мама права. Побежали! — Маринка взяла мою руку и увлекла меня по тропинке через виноградник в горы.
— Остановись, Маринка!
— Что случилось?
Я остановился возле куста винограда, что рос в пятом ряду возле самой тропинки справа.
— Ну здравствуй, с праздником тебя. У-у, как мы раскучерявились! — я обращался к кусту винограда, как к живому существу. Маринка нисколько этому не удивилась и лишь спросила:
— А когда вы с ним подружились?
— В самый первый приход к вам.
— Ну теперь побежали.
Остановились мы лишь за виноградником. Маринка еще дома предусмотрительно надела спортивные тапки. В них она легко преодолевала самые трудные подступы к горам.
— Ты видишь вон на той скале куст боярышника?
— Вижу.
— Достань мне его веточку.
Мне ничего не оставалось, как только выполнить ее желание. Но как? Склоны горы, на которой красовался куст цветущего кустарника, были крутые. Первая попытка взойти на эту скалу кончилась неудачей. Поднялся я вверх, может быть, на каких-нибудь пять-шесть метров и почувствовал, что начинаю скользить вниз. Вслед за этим посыпались мелкие камни. «Нет, эту гору так не одолеть, — подумал я. — Надо снять ботинки и зайти с противоположной стороны».
— Не надо, Коля. Я пошутила, — сказала Маринка.
— Да нет уж. Ты знаешь — я упрямый. Ты посиди, пожалуйста, здесь.
— Нетушки, — решительно заявила Маринка. Возражать ей, как я убедился, совершенно бесполезно. Мы вместе преодолели небольшой перевал с северной стороны, и тут уже я настоял на том, чтобы Маринка дальше не шла и ожидала меня здесь.
Преодолев восточный склон горы и вскарабкавшись на самую ее макушку, я увидел перед собою куст боярышника. Но как к нему подступиться? Он же весь из колючек. Как я ни старался быть осторожным, все же несколько раз накололся на шипы. Но зато в руках у меня была ветвь цветущего боярышника. В эту минуту скромные цветы дикого кустарника показались мне красивее крымских роз. Не потому ли мы больше и сильнее любим то, что с большим трудом достается. Колючую ветвь я заправил за ленту бескозырки и начал не менее трудный спуск с горы. На этот раз все обошлось благополучно.
— Прими, королева Балаклавских гор, ветвь дикого боярышника. Ты именно эти цветы хотела получить, — сказал я немного напыщенно, подавая Маринке ветвь колючего кустарника.
— Спасибо, мой рыцарь, — в тон моим словам ответила Маринка. Она взяла из моих рук цветы и заправила их за голубую ленту на левом виске.
С чем ее можно сравнить? С крымской розой? Нет. С боярышником? Тоже нет. Если бы ее можно было сравнить с чем-либо в мире, она уже не была бы Маринкой. Как она была хороша. Я пьянел от чувства, которого раньше не испытывал. Во всех десятых классах ее школы есть писаные красавицы. Но я люблю только одну, самую лучшую, какой нет во всем мире.
— Догоняй! — крикнула Маринка и скрылась в ущелье между соседними скалами.
Я побежал за ней. Завернул за одну из скал, но Маринки уже и след простыл. «Нет, догонялки в горах добром не кончаются», — подумал я.
— Мари-и-инка!
Только эхо ответило мне: «Инка-инка-инка!»
— Мари-и-инка! — кричал я.
Лишь на третий зов последовал звонкий ответ:
— А-у!
Я взглянул вверх и похолодел от ужаса: Маринка стояла на остром выступе скалы. Так случилось, что проекция руки, которую вытянула Маринка, совпала с краем диска солнца.
— Зрелище захватывающее, — сказал я как можно спокойнее. — Ты держишь на ладони солнце. Но если вдруг случится непоправимое, имей в виду, я следом за тобой.
— Противный, — деланно строго ответила Маринка. — Ты своим узким рационализмом испортил всю прелесть ощущения высоты.
— Нетушки, как ты говоришь. Лучше я буду сухим рационалистом, но только избавь меня от этих острых ощущений высоты.
— Тогда отвернись.
— Это другой разговор.
Через минуту Маринка была рядом со мной.
— А почему ты считаешь, что тебе рисковать можно, а мне нельзя? — спросила она.
— Да потому что у меня такая профессия. Военный должен уметь все.
— А я, значит, для этой профессии не гожусь? Плохо же ты меня тогда знаешь.
— Гляди, Маринка, генуэзские башни-то почти рядом. Пошли посмотрим.
— Нет.
— Как нет? Я же их ни разу не видел. Это редкий исторический памятник. Ты сама мне об этом говорила,
— Нет.
— Не понимаю. Это же...
— Ты хочешь поссориться?
— Нет. Черт с ними, с этими башнями, — ответил я и подумал: «Почему она избегает этих башен? Что там уже такое может быть? И почему она ходит к ним одна?»
— Видишь внизу ручей? — спросила Маринка.
— Вижу.
— Там есть мое волшебное зеркальце. Мы с ним часто беседуем. Его я могу тебе показать.
Мы спустились вниз и попали в широкое ущелье, на дне которого протекал небольшой ручеек. В одном месте образовалось маленькое озерко. Из него ручеек выбегал и, петляя между прибрежных камней, впадал в Черное море. По бокам ущелья громоздились кустарники диких растений. Стоило мне подойти к ручейку и осмотреться вокруг, как меня охватило странное чувство чего-то необычного, непонятного и даже, я бы сказал, таинственного.
— Не бойся, — сказала Маринка, угадав мои мысли. — Здесь все знакомо мне. Подойди поближе и стань рядом со мною.
Я повиновался и посмотрел на спокойную гладь озерка. В нем отражалась наклонившаяся Маринка. В этом отражении были видны до мельчайших черточек и голова девушки, и платье, подол которого Маринка плотно обернула вокруг своих ног, и даже глаза цвета морской волны.
— Зеркальце мое, здравствуй! — произнесла Маринка. Голосом окружавших скал озерко ответило: «Здравствуй!» — и при этом заволновалось, покрылось мелкой рябью.
— Мое волшебное зеркальце, скажи мне, милое: я красива?
— Красива, — повторили скалы.
Во мне боролись два чувства: смеяться или отнестись к этому вполне серьезно. Я понял, что весь секрет кроется в исключительных акустических свойствах этого ущелья. Резонанс создавался настолько сильный, что при разговоре поверхность озерка начинала волноваться. Критически отнестись к этому природному явлению и рассмеяться я не мог: это нарушило бы ту загадочную торжественность, которой прониклась Маринка. Меня осенила мысль — спрошу и я у маленького озерка:
— Волшебное зеркальце, скажи, пожалуйста, Маринка меня любит?
— Любит, — ответило озерко.
Маринка выпрямилась, улыбнулась, долго-долго смотрела мне в глаза, а потом повернулась к озерку и, наклонившись, спросила:
— Мое волшебное зеркальце, скажи, что это ложь.
— Это ложь, — ответило озерко и заволновалось.
— Весь секрет в том, — сказала Маринка, — что зеркальце говорит правду только мне и никому другому.
Голова моя пошла кругом. Я взял Маринку за локти и попытался привлечь ее к себе.
— Ой, Коля, какие у тебя глаза! — сказала Маринка, высвобождаясь из моих рук. — Такими я их еще не видела.
— Понятно.
Маринка вдруг сделалась серьезной и, подойдя ко мне вплотную и взяв меня за руку, сказала:
— Не сердись, пожалуйста, — и тихо добавила. — Я еще не знаю.
Солнце уже скрылось за морским горизонтом, исчезли тени, из глубины ущелья показалась первая волна стелющегося тумана.
— Здесь становится сыро. Может, пойдем отсюда? — спросила Маринка.
— Да, конечно, — согласился я.
Взявшись за руки, мы медленно начали выбираться из ущелья, теперь уже казавшегося мрачным и неприветливым. По мере того как мы поднимались вверх, закат все больше тускнел, а с востока надвигалась ночь. Слева от нас показались развалины генуэзских башен. Оттуда, казалось, сотнями вылетали летучие мыши. Кружась в воздухе, они издавали какие-то странные звуки, напоминавшие далекий скрип телеги.
— Летают даже в кромешную тьму, и, поди ты, ни одна не разобьется о скалы. Вот приспособились!
— Не люблю я этих противных нетопырей, — ответила на мою мысль Маринка.
— Почему? — удивился я. — Ты знаешь, сколько они уничтожают насекомых и этим приносят пользы людям?
— Может, это и так. И все-таки я не люблю их. Возможно, за их родство с вампирами.
Одна летучая мышь пролетела в полуметре от меня. Я даже попытался схватить ее руками.
— Бесполезно, — сказала Маринка. — У них настолько совершенный эхолокатор, что его чувствительности уступает даже зрение.
Где-то внизу посыпались камни, и вслед за этим раздался душераздирающий крик и какая-то приглушенная возня.
— Что это? Уж не случилось ли какого-либо несчастья? — спросил я.
— Давай послушаем, — предложила Маринка. Прислушались. Возня утихла. Через минуту раздалось хлопанье крыльев какой-то сильной ночной птицы.
— А-а, совушка унесла свою добычу.
— А жертва кто?
— Ну как ты думаешь?
Я вспомнил свою недавнюю встречу с сурками и в связи с этим высказал свое предположение.
— Нет, — поправила меня Маринка. — Сурки ночью спят. Это скорее какой-нибудь заяц.
Мы подошли к винограднику Хрусталевых. Над отрогами Крымских гор уже сияла луна.
— Ты видишь в море скалу? Прямо под луной, — спросила Маринка.
— Вижу.
— На что она похожа?
Я перебрал в своем воображении все, но так и не смог дать определенного ответа.
— Так-таки ничего и не напоминает?
Я пожал плечами.
— Эх ты, — упрекнула меня Маринка. — Никакой фантазии. Ну, присмотрись внимательнее, прибавь чуточку выдумки. Ну?
— Вроде голова человека, — ответил я не очень уверенно.
— Мы делаем успехи. А точнее?
— Русалка.
— Ур-ра! — закричала Маринка.
— Ты что? — засмеялся и я. — Всех на ноги поднимешь.
— Молодец, Коля. Только это не русалка, а спящая красавица. Слышал ли ты когда-нибудь о ней?
— Вообще о спящих красавицах слышал.
— Нет, не вообще, а именно об этой.
— Об этой не слышал.
— Так смотри же на красавицу и слушай.
Я неотрывно смотрел на лицо Маринки, озаренное светом луны.
— Куда же ты смотришь?
— Как ты сказала — на красавицу.
— Не на меня, а на вот ту, что в море.
— Я лучше буду смотреть на тебя и слушать.
— Тогда я не буду рассказывать.
Воздух становился все прохладнее, и я видел, как Маринка временами поеживается от холода. «Что-то надо предпринять, — подумал я. — Ведь совсем недавно она перенесла простуду».
— Давай решим так, — сказал я Маринке. — Я буду смотреть на твою спящую красавицу, а ты прислонись ко мне спиной и рассказывай. Я серьезно. Сейчас уже холодно. А тебе надо беречься простуды.
Маринка посмотрела на меня, словно хотела убедиться в том, что сейчас это самое разумное и необходимое, и ответила:
— Ну ладно.
Она осторожно прислонилась спиной к моей груди и начала рассказывать. От волос Маринки, касавшихся моего лица, исходил какой-то знакомый мне аромат. Где я его встречал? Вспомнил. Там, внизу, когда мы шли по косогору, заросшему редкой травой, я ощутил сильный запах голубых цветов. Я еще спросил тогда Маринку: «Что это за цветы?» — «Лаванда». Значит, Маринка, моя свои волосы, добавляет, наверное, к воде отвар лаванды.
— Раньше Балаклаву называли Симболон, — слышал я певучий голос Маринки. — Это было маленькое царство, которым правила красавица Менатра.
Как я хотел обнять Маринку, эту маленькую царицу моего сердца. Она рядом со мною, касается моей груди. Стоит только сделать небольшое движение рук — и она в моих объятьях. Но я хорошо знаю и другое: это движение было бы последним, я навсегда потерял бы Маринку. Мучительное состояние: быть так близко и в то же время так далеко. А Маринка, как горлинка, продолжала ворковать:
— И вот на это царство напали греки. Мужественно сражались жители Симболона против вторгшихся завоевателей. Но силы их день ото дня таяли. И когда в стане осажденных осталась лишь небольшая горстка защитников, один, самый сильный и мужественный юноша решил проложить мечом дорогу для Менатры и ее коня. Изнемогая от ран и истекая кровью, юноша крикнул: «Скачи, Менатра!» Конь царицы проскочил последнее кольцо неприятельских солдат и по козьим тропам устремился на Бабуган-Яйлу — самую высокую часть гряды Крымских гор.
«Милая моя сказочница, — думал я, слушая Маринку. — Ты рассказываешь мне легенду о спящей красавице — царице Менатре. Но разве ты сама не лучше любой красавицы?»
Маринка почувствовала, что я не очень внимательно слушаю ее рассказ, и поэтому сказала:
— Ты меня не слушаешь.
— Я сердцем слушаю тебя, Маринка. Хочешь, я слово в слово повторю то, что ты сказала.
— Ну так вот. Только Менатра достигла гребня прибрежной скалы, как предательская стрела из засады настигла коня царицы. Неверный шаг и — пропасть. На следующий день напротив места гибели Менатры в море появилась огромная скала в виде спящей красавицы. С тех пор эта легенда передается из поколения в поколение вот уже много веков. Красивая легенда, правда? — спросила Маринка и, не дождавшись ответа, добавила: — Уже поздно. Мама будет беспокоиться.
— Я провожу тебя.
— Не надо.
— Маринка, — я взял ее за локти так же, как там, у ручья.
— Ой, смотри, звезда падает, — кивком головы показала Маринка в сторону моря.
Я повернул голову, и в этот момент Маринка выскользнула из моих рук. Отбежав метров двадцать, она остановилась и сказала:
— Не приходи ко мне целую неделю. Я разберусь и тогда, может, сама тебя позову. До свидания.
Маринка повернулась и исчезла в винограднике. Я долго еще стоял на месте и смотрел в сторону тропинки, ставшей для меня теперь такой же близкой, как и дорога к родному дому.
11
Третьего мая вернулся на пост Демидченко.
— Ну, горные орлы, считайте — вам повезло. Доказал все-таки начальству, что без траншеи нам нельзя. Разрешили.
Слова его настоящая мякина, рассчитанная разве что на совсем неразборчивых людей. Ну кому непонятно, что выполнение любой боевой задачи, которая ставится перед воинским подразделением, начинается с создания элементарного инженерного сооружения — траншеи. Известно немало исторических примеров, когда пренебрежение этим военным правилом приводило к трагическим последствиям. Я почти уверен, что Демидченко говорил командиру взвода, а может быть, и самому помполиту (как мы иначе называем политрука) о начатых нами саперных работах. Но говорил так, будто это его собственная инициатива, что над проектом инженерного сооружения он провел не одну бессонную ночь.
— Вот теперь, — обратился ко мне командир отделения, — когда начальство разрешило, можете размяться. А то вы, как застоявшийся конь. Не дай вам поупражняться, совсем от дела отвыкнете.
— Артыст ды и тольки, — заключил Лученок, когда Демидченко ушел в радиорубку. — Зрабив так, быццам гэта не твая, а яго иницыятыва.
— Да какая разница, Михась, чья это инициатива? Главное, чтобы дело не пострадало.
— Не, братка, — возразил Лученок. — Разница ёсць.
Вернулся на площадку Демидченко.
— Кликните, чтоб все пришли сюда.
Собрались мы на бровке площадки. Демидченко долго и нудно говорил о своей поездке в штаб дивизиона, о том, что командование разрешило начать сооружение траншеи.
— А зачем нужно было обращаться с этим к начальству? — спросил Танчук.
— На все есть порядок, — ответил командир.
— Так мы ж только и будем знать, что ездить в штаб. Вот завтра, к примеру, нам нужно соорудить гальюн, отхожее место, значит. И что, опять к начальству за разрешением?
— Не умничайте, Танчук, — оборвал Демидченко.
— Вне строя я могу говорить все, что думаю, — огрызнулся Танчук.
Ничто так не выдает скрытого гнева командира, как зрачки и белые пятна. Зрачки его, и так узкие, становятся не больше булавочной головки, а пятна словно покрываются инеем. Демидченко промолчал и лишь еле заметно, словно нехотя, улыбнулся, ну что ты, мол, с него возьмешь? Я знал одного человека, который, если его заденешь, вот так же, бывало, нехотя улыбнется, кивнет в сторону головой, и вроде бы все забыто. А потом выясняется, что нет, затаилась в человеке злоба. И при случае так отплатит, что долго приходится помнить. В следующий раз такая улыбка уже леденит душу человека.
— Вы как хотите, а я пошел подавать личный пример, — сказал я и направился за саперными инструментами.
До заступления на вахту оставалось восемь часов. Час на обед, остается семь. А если учесть и перерывы на отдых, не более шести часов. Сколько удастся пройти за это время? Сказать невозможно даже приблизительно, потому что никто еще не пробовал вгрызаться в эту твердь. Впрочем, это не совсем так. Вгрызались и, притом основательно, и, может быть, не один раз. Но кто и когда оставил свой след на этом бородавчатом выступе планеты? Можно почти без ошибки сказать, что последний раз траншею рыли несколько десятилетий тому назад, точнее, перед Крымской войной. Маловероятно, что фортификация начала сооружаться уже после высадки союзнических войск в Крыму. Для этого попросту не хватило бы времени. Да и металлический мостик в то время был бы уже ни к чему, так как опасность грозила больше с суши, чем с моря. Но если вопрос о сроках строительства этого укрепления более или менее ясен, то совсем ничего неизвестно, кто и когда окапывался здесь в более ранние времена. Хотя почему неизвестно? А греческие завоеватели? Разве не они когда-то населяли прибрежные районы Крыма? Разве не они вели потом бесконечные войны с племенами, волнами накатывавшимися со стороны степей полуострова? И разве не об этом свидетельствуют молчаливые руины древних генуэзских башен? Молчит история. Она, как человек, хорошо помнит, что было вчера, хуже, что было несколько лет тому назад и почти совсем ничего не помнит о событиях в раннем детстве.
Принимаясь за работу, я думал о Маринке. Я и теперь почти физически ощущаю этот чудесный запах лаванды, которым пропитаны ее волосы. Где она сейчас? Хотелось сойти вниз, хотя бы к тому месту, на котором стояла Маринка и рассказывала мне легенду о красавице Менатре. Но нет, нельзя. «Не приходи ко мне целую неделю. Я разберусь и, может, сама тебя позову», — сказала она на прощанье. И придумала же это волшебное зеркальце. Вообще-то она большая выдумщица. Не зря избрали ее комсоргом.
Как легче одолеть эту каменистую массу? По кусочкам? Можно, конечно, и по кусочкам, но так много не сделаешь. Лучше по способу Лефера: продолбить поперечно бороздку сантиметров на тридцать, потом так же — снизу, у основания, пока глыба сама не даст трещины. На смену кирке, с помощью которой была намечена поперечная борозда, пришел лом.
— Черта с два усидишь в рубке, — показался Танчук. — Как по голове: гуп, гуп, гуп.
Я думал, что буду ковыряться в горе один. Когда ты один, думается о многом, сокровенном, свято хранимом, о чем не всегда расскажешь даже приятелю. Так нет же, пожаловал Танчук, а за ним вскоре — Музыченко и Звягинцев. Уселись чуть повыше. Ни дать, ни взять — древнеримские патриции в первых рядах Колизея. Только мои сослуживцы не в тогах и римских сандалиях, а в холщевых робах. Все отчаянно дымят цигарками с махрой.
— Вот ты, Нагорный, — начал Лев Яковлевич, — кончил десять классов. Скажи мне, кто твоя мать?
Я не догадывался, куда клонит Лев Яковлевич, но знал, что готовится подвох. На всякий случай ответил:
— Наталья Матвеевна Нагорная.
— Это мы знаем, что твоя мать Матвеевна. Ну, а в переносном смысле?
Чертов Лев Яковлевич. Мне работать нужно, а он урок вопросов и ответов устроил.
— Уж не землю ли ты имеешь ввиду? — спросил я на всякий случай.
— Ее матушку, ее родимую. Я знал, что ты, ну может, не сразу, но все же скажешь дело. Так вот, дорогой наш комсорг, если ты признаешь, что земля — наша, а значит, и твоя мать, то почему тогда терзаешь ее тело, как хищник свою жертву. И не как-нибудь, а киркой и ломом. Ты слышишь, как она стонет, когда вгоняешь в ее тело этот толстый железный стержень? Да по кускам ее сердешную.
— Ну и балаболка ж ты, Лев Яковлевич. Мелешь всякую чепуху. А я, между прочим, для вас же стараюсь.
— Почему чепуху? Разве ты не из тех же химических элементов, что и земля?
— Из тех же.
— Разве эти вещества, из которых ты состоишь, не дала тебе земля?
— Дала.
— Тогда разве она тебе не мать?
— Да мать, мать. И что из этого?
— А то, что мать нужно любить, не огорчать и не кромсать ее так, как кромсаешь. Теперь ты не можешь ждать милостей у природы после того, что сделал с ней.
— Эх, Лев Яковлевич, родиться бы тебе лет на тышшу, как говорит Семен, раньше. Ты бы не только Горгия, но и самого Протагора за пояс заткнул.
— Ты нас с буржуазными элементами не сравнивай, — обиделся Звягинцев.
— Да какие они буржуазные элементы? В те времена и буржуазии-то не было.
— Все равно эксплуататоры.
— Что верно, то верно, эксплуататоры были. Но не Горгий и Протагор. Эти учили других софистике.
— А що цэ за хымэра така софистыка? — поинтересовался Музыченко.
— Учение такое.
— Якэ?
— К примеру, — попытался я объяснить. — Да зачем нам далеко ходить за примерами? Вот то, что болтал здесь Лев Яковлевич, и есть софистика. По форме все вроде бы правильно, а по существу чепуха.
Я говорил, но не забывал и о работе. Под конец почувствовал, что блуза моя пропиталась потом. Оставив лом торчащим в выдолбленной борозде, я отошел на несколько шагов в сторону и стал раздеваться. Едва я расстелил для просушки одежду, как услышал тупые удары лома о каменную породу. «Неужели Танчук? Этого не может быть, — успел я подумать, поворачиваясь лицом к траншее. — Лефер! И когда он появился? Сейчас, если я подойду к нему, он скажет: «Отдохни, Николушка, маленько».
— Лефер, да ты что, я сам.
— Отдохни, Николушка, маленько.
— Ну давай разминайся. Только возьми рукавицы.
Я присоединился к сидевшим на «трибуне». Музыченко глубоко затянулся, выплюнул на ладонь комок слюны и, погрузив в него окурок своей цыгарки, спросил :
— Цикаво, чы захватылы того лазутчика, за якым нас посылалы, чы ни?
— Главный старшина говорил, что после нас искали дня три. И как сквозь землю провалился. А ведь это не иголка в стоге сена. Хитрая бестия орудовала.
— Звидкы ж вин зъявывся?
— Черт его знает. Может, из нейтральных вод на простой лодке пробрался.
— От ты скажы мени, комсорг, чому з нашойи вульци, дэ я жыву, выйихав в Нимэччыну Крюгер? Та хиба тилькы Крюгер.
— Кто же он этот Крюгер?
— Людына як людына. Працював слюсарэм. Так ни ж, потягнуло до фашыстив.
— Он что, немец?
— Нимэць.
— Так чему ж тут удивляться?
— Як чому? А братэрство трудящых?
— Значит, Крюгер нестойкий элемент, если фашистам удалось заморочить ему мозги, или просто шкура. Эрнст Тельман не склонил же своей головы перед Гитлером?
— А как ты думаешь, Никола, будет война с Германией? — остановился Сугако.
— Сложный это вопрос, Лефер. Я уверен, что его задают теперь не только ты и не только мне. Я лично думаю, что войны не избежать. Видишь, что делается в Европе? Гитлер уже прибрал к рукам все, что мог, и остановить его теперь практически невозможно.
— Неужели Гитлер такой дурак, что пойдет против Красной Армии. Да еще когда война с Англией.
— Не приходилось ли тебе замечать, — ответил я вопросом на вопрос, — как ведет себя разбуянившийся пьянчуга, да еще когда его подогревают дружки?
— Как не приходилось, приходилось. Ему, бывает, море по колено. Лезет в драку с любым.
— Вот так и Гитлер со своими генералами да капиталистами-дружками. Дружки-то подогревали, науськивали, значит, на нас, пока кое-кому и среди них не перепало. Франция-то — тю-тю. Нет Франции. Англия — та опомнилась, да поздновато.
— Так я к тому и говорю. Неужели Гитлер такой дурак, что будет воевать на два фронта?
— Да нет, не такой он уж и дурак. Просто раньше у него силенок было маловато, и, значит, побаивался. А теперь, когда он прошелся по Европе, можно сказать, как на прогулке, да подмял под себя всех, вот тут у него и может закружиться голова. Если уже не закружилась.
— Ты, Нагорный, полегче насчет Германии, — заметил Звягинцев. — У нас с ней договор. А ты политику разводишь.
— А как же без политики, Сеня? Мы ж комсомольцы и, значит, должны разбираться во всем, повышать бдительность. Благодушие, оно еще никому не приносило пользы. Видел кинофильм про Чапаева?
— Это две большие разницы.
— Разница между благодушием и бдительностью одна, и наша задача— не пустить волка в свой двор. А если уж и заберется, то тут его и прикончить. Вот для чего, между прочим, мы выдалбливаем траншею.
— Ну даешь, Нагорный, — ехидно заметил Звягинцев. — Мало того, что всякие сомнительные слова говоришь, да еще собираешься пускать немцев на нашу позицию.
— Дурак ты, Звягинцев, беспросветный дурак, если способен на такие слова.
— Та нэ дурэнь вин.
— Как ты думаешь, Сеня, — спросил Звягинцева Лев Яковлевич. — Какой человек умнее: у которого мозг весит больше или меньше?
— Факт, у которого больше, — ответил ничего не подозревавший Семен.
— А какой мозг весит больше: у которого много разных там ложбин или у которого их нет совсем?
— И дураку ясно, что без ложбин вес больше.
Музыченко подобрал нижней губой свои шевченковские усы и, пережевывая их, давился от смеха. А Танчук продолжал свое:
— Значит, Петро прав. Звягинцев умнее нас всех, потому что у него всего лишь одна ложбина и та сзади, в самом низу.
Семен понял, что над ним смеются, лишь тогда, когда Музыченко уже не мог сдерживать себя от смеха.
— Больно все вы умные, — обиделся Звягинцев и, поднявшись, направился в радиорубку.
Грохот свалившейся вниз каменной глыбы оборвал разговор и заставил нас приподняться и посмотреть на открывшееся начало траншеи.
— Ур-ра-а! — закричали мы. — Качать Лефера!
— Ну буде вам, буде, — смущенно бормотал Сугако.
Через несколько минут, когда волнение, вызванное общим восторгом, немного улеглось, я увидел небольшой плоский предмет. Он валялся среди разбросанных камней и мало чем отличался от них. Если бы Анна Алексеевна при первой нашей встрече не рассказала о том, что во время балаклавского боя в период Крымской войны небольшой отряд русских войск, возможно, овладел нашей высотой, я бы, наверное, так и не обратил внимания па этот предмет. Теперь же у меня начала теплиться надежда на то, что эта находка не простая, что между нею и далекими крымскими событиями есть определенная связь. Я бережно взял валявшийся предмет в руки и начал осторожно очищать его от спрессованной десятилетиями породы. И по мере того, как отламывались кусочки окаменевшей массы, предмет начал приобретать форму креста.
— Как он мог оказаться здесь? — спросил Танчук.
— Да в земле чего только не бывает, — пояснил Сугако, искренне убежденный в том, что все это старый хлам, место которому где-нибудь на свалке.
— Да, в земле хватает всего, — согласился я. — Но бывает и такое, ради чего люди трудятся не год и не два, и даже не один десяток лет. Взять, к примеру, Крымскую войну. Что мы знаем о ней?
— Почти все, — ответил Лев Яковлевич.
— Почти, да не все. Через какой порт союзники доставляли подкрепление для своей армии?
— Может, через Балаклаву?
— Именно. Если бы главнокомандующий русскими войсками Меншиков взял Балаклаву, союзники потеряли бы основную базу снабжения, и тогда не известно, как бы все повернулось. Правда, была такая попытка. Русские войска прорвались почти до самой Балаклавы. Но Меншиков струсил, и все дело провалилось.
— Ну, а причем тут эта штучка и Крымская война? — заинтересовался Танчук.
— Как бы это тебе сказать. Один очень знающий человек считает, что русский отряд захватил тогда не только англо-турецкие редуты (это отсюда рукой подать), но и нашу высоту. А высотка эта, как видите, очень выгодное место. Вся Балаклавская бухта и дорога на Севастополь как на ладони. Высотка эта, можно сказать, ключ к Балаклаве.
— А что если нам удастся доказать, — не унимался Танчук, — что здесь действительно были русские?
— Если бы нам удалось сделать это, — ответил я, — в учебниках по истории нашей Родины пришлось бы изменить всего лишь одну фразу: «В октябре тысяча восемьсот пятьдесят четвертого года русские войска овладели не только англо-турецкими редутами южнее Севастополя, но и господствующей высотой у входа в Балаклавскую бухту, основную базу снабжения союзнических войск в Крыму».
— Всего-то? — разочарованно спросил Сугако.
— Лефер, вот если когда-нибудь в твоей биографии можно будет заменить одно предложение, скажем, такими словами: «На военной службе в Севастополе совершил подвиг», как ты думаешь, важно было бы это для тебя или нет?
— Кому же это не приятно.
— Вот видишь, это для одного человека. А для народа?
— Слушай, Нагорный, откуда ты все это знаешь? — спросил меня Танчук. — Да попадись мне эта штучка, которую ты в руках держишь, я бы на нее и внимания не обратил.
Замечание Льва Яковлевича навело меня на одну мысль: наша находка— чистая случайность. Но не знай я истории Крымской войны, не было бы у нас с Анной Алексеевной беседы о балаклавском бое тринадцатого октября тысяча восемьсот пятьдесят четвертого года и незачем было бы ей рассказывать мне о возможном историческом факте овладения отрядом русских войск нашей высоты. И я бы тогда поступил так, как собирались поступить Сугако и Танчук. История многих находок и даже открытий в большинстве своем связана с элементами случайности. Однако случайные открытия никогда не делали случайные люди.
— История историей, а дело делом. Теперь, Лев Яковлевич, — сказал я Танчуку, — слово тебе.
— Что, ты хочешь, чтоб и я такой же кусочек отвалил?
— Да нет, Лев Яковлевич, на это я не рассчитываю. А вот прикинуть, за сколько дней при таких темпах мы можем одолеть траншею, это тебе под силу.
— Ну сразу так бы и сказал, — и Лев Яковлевич тут же принялся за расчеты.
Музыченко постоял немного, отряхнул для видимости пыль с брюк и сказал:
— Розимнятысь и соби хиба трохы?
— Разомнись, разомнись, Петруша, — ответил я ему. — Но только не здесь. В рубке есть еще один комплект инструментов. Пойди возьми его и начинай с другого конца. Можем посоревноваться, если хочешь.
Музыченко смерил меня с ног до головы, словно хотел убедиться, стоит ли со мною связываться, и ответил:
— А що? Давай змагатысь. Ты нэ дывысь, що я мов так соби. Нэ сылою, так хытрощамы, а поборю.
— Идет, — ответил я и обратился к Сугако. — Отдыхай, Леферушка, ты это заслужил. Шутка сказать, первый открыл траншею, первый очистил ее конец, а может быть, начало. Иди разберись теперь, где что.
Мне, если честно сказать, все больше и больше нравится этот немногословный, но трудолюбивый парень. Обидно только, что ему засорили религией голову. Теперь это не скоро выветрится. Как ему помочь? В этом деле наскоком не возьмешь. Нужно сначала завоевать доверие парня, а потом уже постепенно, с тактом начать наставлять его на путь истинный.
Новую борозду поперек наметившейся траншеи я начал прокладывать сантиметров на пятьдесят от свободного края. Это почти в два раза больше того, что сделал Лефер. Сейчас неизвестно, лучше это или хуже. Нужен опыт. А для этого надо испробовать все приемлемые варианты. Вначале работа шла вроде бы ничего, меньше чем за полчаса была выдолблена борозда глубиной с полметра. Глубже стало труднее: мешала осыпавшаяся каменная крошка. Ее то и дело приходилось подбирать расширенным концом кирки и выбрасывать наверх. Глубина траншеи оказалась больше метра. Так что под конец совсем стало трудно. Собственно говоря, не столько трудно, сколько неудобно. Потом, когда ломом совсем уже нельзя было долбить, потому что он почти весь уходил в глубокую щель, я перешел на основание глыбы, дно траншеи. Вначале мне казалось, что здесь будет еще труднее. К моему удивлению, получилось наоборот. Каменная крошка легко выгребалась, не мешала работе. По моим расчетам, основание было подрыто на целых полметра, если не больше. Можно, казалось, попробовать и рычагом, как Лефер. Не тут-то было. Пришлось пробивать борозду и по бокам — вначале сверху, а потом — с торцевой стороны. Два с половиною часа я маялся с этой глыбой, пока наконец она не осела. Танчуку давно надоело смотреть, как я орудую киркой и ломом, и он еще часа два тому назад ушел в радиорубку. Лефер же не только следил за моей работой, но и несколько раз предлагал мне свою помощь.
— Нет, Леферушка, ты уже отвалил свою глыбу. Дай теперь и я доведу свое дело до конца.
Осевшая глыба оказалась настолько тяжелой, что не поддавалась даже рычагу. Лефер правильно оценил ситуацию и, ни слова не говоря, пошел к Музыченко за вторым ломом. Только когда мы оба навалились на свои ломы, глыба медленно сползла с приступка и глухо, как после тяжелого сна, свалилась на площадку.
— Ну и что теперь делать с ней? Оставить так — будет загромождать площадку.
— Под откос, — посоветовал Сугако.
— Под откос, говоришь?
— Сам же сказал, что будет мешать. Если бы это дома — хороший бы материал получился.
— Для чего?
— Для сарая, например. Да мало ли для чего.
— А знаешь, Лефер, ты прав. Не под откос, конечно, а заместо стола. Поставим в уголок, и клади на него все, что хочешь. Ну как, идет?
— Давай попробуем.
Переместить каменную глыбу весом больше тонны не так-то просто, особенно в траншее. В этом я убедился там, когда пытался сдвинуть ее сам без помощи Лефера. Другое дело — передвигать ее с помощью рычагов по гладкой поверхности бетонированной площадки. Тут нам с Сугако, можно сказать, делать нечего. Подводя плоские края ломов под основание камня, мы переместили его к радиорубке и установили в виде небольшой подставки, которая и загораживала часть входа в радиорубку, и служила нам небольшим столиком.
— Ну теперь пошли к Петру. Посмотрим, что успел сделать он, — предложил я Леферу.
Как же я был удивлен, когда увидел, что Музыченко за это время сделал примерно столько же, сколько мы с Лефером вместе. Было тем более удивительно, что Петр значительно уступал в своей силе не только мне, но и Сугако. Значит, Музыченко «поборов нас хытрощамы».
— Петя, — спросил я напрямик, — как же это так? В чем тут секрет?
— Я прыходыв до тэбэ, дывывся, як ты працюеш. Правда, ты так захопывся своею роботою, що навить нэ звэрнув на мэнэ увагы. Спочатку у тэбэ всэ йшло гаразд. Алэ потим ты лышэ марнував час. В глыбыни, як видомо, багато нэ зробыш. От я на цьому й выграв.
Только теперь стало понятно, в чем наш просчет. Полагаясь на опыт Сугако, я долбил ломом поперечную борозду почти до самого дна траншеи. А в глубине, как правильно подметил Музыченко и в чем я сам убедился, многого не сделаешь. К лому применить силу уже нельзя, и удары оказывались слабыми. Музыченко понял это и пошел по другому пути. Рубил спрессованную породу наискось, истонченный край подрубливал со стороны основания и, таким образом, исключал из рабочего процесса малоэффективные приемы. Не знаю, додумался ли бы я до этого или нет, но теперь мне стало еще яснее, что коллективный опыт — это такая сила, с которой не может сравниться никакой индивидуальный труд.
— Ну так що, товарышу комсорг, утэр я вам носа?
— Факт, от которого никуда не уйдешь, — ответил я Петру.
— То-то ж, тэпэр будэтэ знаты, як трэба робыты.
Осматривая груды камней, валявшихся у начала траншеи, я только теперь заметил среди них толстый металлический стержень. Его поверхность была покрыта смесью спрессованной каменной пыли с темно-бурыми струпьями ржавчины. В нашем районном музее я видел старинные кремневые ружья. Они чем-то напоминали этот заржавленный стержень. У его основания сохранились лишь остатки полуистлевшего цевья.
— Петя, — обратился я к Музыченко, — ты тоже, наверное, хотел выбросить оцю бандуру гэть?
— Та як бы нэ ты, закынув бы так, що тилькы й бачыв.
— Давайте решим так, — предложил я ребятам. — Все, что найдем здесь, будем складывать в одном месте. У нас будет свой музей истории Севастопольской обороны.
«Вот чего не хватало в работе Анны Алексеевны», — подумал я. Вспомнились ее слова: «А материал у меня редкостный». Может быть, и редкостный, но не такой, как этот. Подумать только, не успели начать очистку траншеи, и уже такие находки.
— Видвэрто кажучы, я нэ гадав, що всэ цэ можэ буты такым цикавым, — сказал Музыченко. — Тэпэр, товарышу комсорг, прошу видповисты мэни на такэ пытання.
— Что не ясно?
— Колы всэ цэ було?
— В тысяча восемьсот пятьдесят четвертом году.
— Цэ, я знаю. Мэнэ цикавыть другэ. Можэ, тут былысь нэ тоди, колы бралы англо-турецьки рэдуты, а ранишэ, пид час пэршого видступу.
Вот и первая научная дискуссия, первый серьезный оппонент. В самом деле, найденные предметы — еще не доказательство того, что отряд русских войск прорвался дальше англо-турецких редутов и занял господствующую высоту у Балаклавской бухты. Могло быть и так, как предположил Музыченко: войска союзников, высадившиеся около Евпатории, двинулись на юг. Окружая Севастополь, они могли потеснить какой-нибудь отряд русских войск по направлению к Балаклаве. Значение каждого из этих возможных событий далеко не одинаково. Сам по себе отход русского отряда при окружении Севастополя не мог повлиять на исход обороны города. Но если рассматривать бои на высоте как продолжение успешно развивавшегося наступления на юге от Севастополя, то это могло бы свидетельствовать о возможности овладения и самой Балаклавой — основной базой снабжения войск противника. Ведь победила же в Синопском сражении эскадра П. С. Нахимова почти вдвое превосходивший флот Турции. Ведь вывел же из строя севастопольский гарнизон, состоявший всего из пятидесяти тысяч бойцов, семьдесят три тысячи неприятельских солдат и офицеров. Героизм русских войск — факт непреложный. Об этом свидетельствует и балаклавский бой. Он показал, кроме того, что среди русских офицеров было много и талантливых военачальников, понимавших стратегическую важность изоляции Балаклавской бухты. Но для этого нужно было овладеть прежде всего господствующей высотой под Балаклавой. Я должен доказать, что это было именно так. Музыченко смотрит на меня и, наверное, думает: «Если тебе удастся решить эту задачу, ты сделаешь полезное дело и, кроме того, твой авторитет станет непререкаем».
Я знал, что территорию, откуда родом был Музыченко, полтора года назад взяла под свою защиту Красная Армия. Правительство буржуазной Польши бежало, оставив на произвол судьбы не только самих поляков, но и население Западной Украины и Белоруссии. Петр воспитывался в условиях буржуазных порядков.
В нем нет-нет, да и проявятся черты мелкого собственника. Это особенно обнаружилось тогда, когда Петру пришлось решать вопрос, давать или не давать сало и колбасу к общему столу.
Интересно, как бы он поступил в этом случае у себя, если бы на Польшу не напала гитлеровская Германия.
— Петя, вот если бы у тебя при буржуазной Польше был какой-нибудь секрет, ты бы раскрыл его другим или нет?
— Дывлячысь якый сэкрэт, — рассудительно ответил Музыченко.
— Ну, скажем, ты выпускаешь пиво по одному, только тебе известному рецепту.
— Якый жэ дурак розповисть про цэ другому?
Вот она идеология собственника. Нет, еще не скоро освободится он от этих взглядов на жизнь. Хотя не скрыл же секрета своей работы? И, словно угадав мои мысли, Музыченко добавил:
— Цэ друга справа. Тут мы — одна симья.
— А справедливость? — спросил Сугако. — Люди должны жить в мире и согласии.
— Яки люди?
— Все.
— Хто цэ так кажэ?
— Неважно.
— Як цэ нэважно? — настойчиво добивался ответа Музыченко.
Он не знал, что Лефер имел ввиду религиозные догмы, которыми напичкали его в свое время члены баптистской секты. Не дождавшись ответа, Петр спросил:
— Ты знаешь, скильки у нас костёлив, дэ я жыву?
— Сколько?
— Бильшэ ниж шкил. И в кожному костёли ксендзы проповидувалы справэдлывисть, мыр и согласие. А дэ та справэдлывисть, колы всэ багаття було у пана Пшэбыцького, якого до рэчи з прыбуттям Чэрвонойж Армии як витром здуло.
Сугако молчал и не потому, что ему нечего было сказать Музыченко. Он молчал, чтобы не выдать себя как религиозно настроенного человека, как баптиста. Петр же продолжал развивать свои взгляды на жизнь:
— Ты, Лэфэр, нэ бачыв, скилькы у нас було жэбракив, яки просылы мылостыню, скилькы було батракив, яки працювалы на пана Пшэбыцького. А тэпэр зовсим друга справа, тэпэр у нас радянська влада. Бона хоч и нэ прызнае бога, алэ нэ тилькы на словах, алэ й на справи— за справэдлывисть. Та й за мыр и согласие, як ты кажэш.
Разные люди Лефер и Музыченко, совсем разные. И пусть Лефер еще верит в существование бога, пусть кое в чем у него неразбериха. Пусть Музыченко пока еще не в состоянии понять, как это Лученок мог отдать всю свою посылку на общую кухню. И все-таки у них есть одна общая черта — трудолюбие. А это — главное, на чем строится и укрепляется характер человека.
12
Сегодняшний день оказался трудным. Утром я решил проверить свой карабин. Извлек затвор и посмотрел на свет в канал ствола. Только взглянул и пришел в ужас: на поверхности видна была ржавчина. Такого быть не могло! Ведь я чистил свой карабин не далее как вчера. Оружие под дождем не было. Да и дождя как такового тоже не было. Откуда же быть этой ржавчине? Неужели кто-нибудь из сигнальщиков брал с собой на пост? Нет. Тогда в чем дело? Уж не перепутал ли я свой карабин с чужим? Посмотрел на номер. Так и есть, карабин не мой.
— Чей карабин номер 49600117? — спросил я ребят.
— Мой. Ну и что? — ответил Звягинцев.
Я тихонько, так чтобы не слышал командир отделения, сказал:
— Иди сюда.
— Ну чего тебе?
— Сеня, вычисти карабин. Ненароком увидит командир — достанется тебе на орехи.
— Вычищу, не твое дело.
— Смотри. Я предупредил тебя.
Мой карабин оказался чистым. Я заменил на нем лишь смазку. Часа через два Демидченко действительно проверил состояние карабинов. Оружие Звягинцева было в том же состоянии.
— Звягинцева ко мне.
— Сеня! — крикнул сигнальщик. — К командиру.
Прибежал Семен.
— Краснофлотец Звягинцев прибыл по вашему приказанию.
— Интересный вы человек, Звягинцев. Чей это карабин?
— Мой.
— Ваш, значит. Посмотрите и скажите, что в канале ствола?
— Гм.
— Не мычите, говорите внятно.
— Наверное, комочки пакли остались.
— Краснофлотец Лученок, достаньте мне белую тряпицу.
Навернув на конец шомпола кусочек белой ткани, Демидченко провел его через канал ствола. На ткани явственно были видны следы ржавчины.
— Так это, по-вашему, комочки пакли?
Звягинцев молчал, слегка наклонив голову. Казалось, что его глазницы стали еще темнее. Лишь один раз он поднял голову и бросил в мою сторону недобрый взгляд.
— За плохое содержание оружия объявляю три наряда вне очереди. Идите.
Звягинцев с понурым видом медленно повернулся и направился в сторону.
— Отставить!
Семен нехотя повернулся и подошел к Демидченко.
— Вы что, устав забыли? Как следует отвечать командиру?
— Есть три наряда вне очереди за плохое содержание личного оружия.
— Немедленно приведите в порядок свой карабин. После чистки доложить. Идите.
На этот раз Звягинцев приложил правую руку к бескозырке, четко повернулся на сто восемьдесят градусов и, чеканя шаг, ушел к столу, за которым мы обычно чистим оружие. Проходя мимо меня, Звягинцев тихо произнес:
— Ну, падло! Гад буду, если не отомщу. Я тебе тоже когда-нибудь такое устрою, что кровью харкать будешь.
Как же подло поступил Звягинцев. Ведь он же знал, видел, что за эти два часа я не вступал ни в какие разговоры с Демидченко. И грубо оскорбил меня лишь для того, чтобы хоть как-нибудь оправдать себя в своих же глазах, создать видимость, что наказание последовало в результате моего доноса командиру.
Я не сдержался и ударил его с размаху. Звягинцев повалился как сноп. Я увидел его лежащим, с окровавленным ртом. То ли я выбил ему зуб или рассек губу, то ли он ударился лицом о камень при падении. И в том, и в другом случае я, наверное, малость переборщил. Придется, конечно, отвечать. Но если бы все повторилось сначала, я не могу с уверенностью сказать, что в следующий раз поступил бы иначе. Звягинцев, прийдя в себя, стал на ноги. Из рассеченной верхней губы сочилась кровь. Редкими каплями она пятнала рабочую блузу. Не зажимая поврежденной губы, Семен размазывал кровь по лицу и истошно кричал:
— Вот как дружки издеваются над человеком! Один — наряды, а другой — по морде. Но ничего, найдем и на вас управу, липовые комсомольцы.
К Звягинцеву подбежали Демидченко, Музыченко и Танчук.
— Кто это тебя так? — спросил командир.
— Твой дружок! — продолжал кричать Звягинцев. — Кто же еще. Я знаю — вы сговорились, чтоб человека доконать.
— Прекратите истерику! — крикнул Демидченко, после чего обратился ко мне. — Краснофлотец Нагорный, за что вы избили Звягинцева?
— Не избил, а ударил.
— Это одно и то же.
— Нет, не одно и то же.
— Не пререкаться! — закричал командир.
Я умолк. В этой ситуации бесполезно что-либо доказывать Демидченко.
— Я спрашиваю, за что вы избили Звягинцева?
Во мне начал нарастать глухой протест. «Ожидать от тебя справедливого решения, — подумал я, — все равно, что надеяться: Звягинцев признает свой подлый поступок. Ведь сказано же: не избил, а ударил. Нет же, продолжает настаивать на своем. Ну что ж, настаивай. Я буду молчать».
— Ладно, не избили. За что ударили Звягинцева?
— Он знает за что.
— Он, может, и знает. Но я не знаю.
— Можете меня наказывать, товарищ старшина второй статьи, но этого я не скажу. Это — личное.
— За хулиганскую выходку, — продолжал распекать меня Демидченко, — вы заслуживаете наказания, которое может объявить только старший командир. А может, и в трибунал. Об этом происшествии будет доложено командиру взвода рапортом.
«Тут уж ты своего не упустишь, — подумал я. — Тут уж ты постараешься упечь меня туда, куда даже Макар не гонял пасти телят».
Демидченко понял, что объяснения от меня он не добьется, и поэтому обратился к Семену:
— За что ударил вас Нагорный?
— А ни за что.
— Все-таки был же какой-то повод.
— После того, как вы дали мне три наряда вне очереди, я сказал: «Теперь, Сеня, держись. От дружков пощады не жди».
Я рванулся к Звягинцеву, но потом все-таки опомнился, остановился буквально перед его лицом:
— Неужели тебе, подонок, мало одной зуботычины?
Семен не отступился. Он отлично понимал, что формальное преимущество на его стороне.
— Вот, пожалуйста. Меня, значит, можно избивать, оскорблять, угрожать. А с него все это как с гуся вода. А все почему? Командир защищает своего дружка. Ну ничего, посмотрим. Это вам так, даром, не пройдет. Я сейчас иду в санчасть. Пусть мне окажут медицинскую помощь. А потом — к военному прокурору.
Все-таки подлости у Звягинцева оказалось больше, чем я думал. Знает же, стервец, что о дружбе между мною и Демидченко не может быть и речи. Это для всех стало ясно, особенно в последнее время. И все-таки говорит о командире как о моем дружке. Расчет простой: насолить обоим, Демидченко — за три наряда вне очереди, мне — за зуботычину. Вася на слова Звягинцева о дружбе не реагирует, его это, по-видимому, вполне устраивает. При случае он может козырнуть: «Глядите, какой я справедливый человек. Заработал — получай, даже если ты мой друг». Удобная позиция.
— Вычистите карабин, а потом можете идти в санчасть, — сказал Демидченко.
— Значит, человек для вас ничто? — снова начал входить в свою роль Звягинцев. — Пусть гниет, лишь бы железо было в порядке. Ничего. Это мы тоже укажем, где следует.
— Только не пугайте.
— А зачем мне пугать? Я просто выложу еще кое-какие фактики, чтоб, значит, меньше измывались над честным человеком, и все.
— Это ж какие фактики?
— Тебе, командир, очень хочется знать?
— Умные люди говорят, что знания — это сила.
Звягинцев долго смотрел на своего командира, словно решал, стоит или не стоит продолжать начатый разговор. По злобно-насмешливому взгляду Семена нетрудно было догадаться, что он что-то знает, но говорить пока не решается. И может быть, он так и промолчал бы, если бы Демидченко не спросил:
— Что, кишка тонка? На арапа берешь? — перешел Демидченко на «ты».
— Эх, командир, не хотел я говорить, да раз ты человеческого языка не понимаешь — тут уж пеняй на себя.
— Выкладывай.
— Ты дружку своему три наряда дал?
— Заработал — вот и дал.
— А кто приказал снять с батарей изоляционную ленту?
Я посмотрел на Музыченко. Его голова опускалась все ниже и ниже, глаза же продолжали упрямо смотреть из-под нависших бровей на Демидченко. У Петра взгляд выражал чувство негодования на человеческую подлость. Лев Яковлевич, стоявший рядом, хотел было что-то сказать, да так и застыл с приоткрытым ртом. В этот момент Танчук казался еще совсем подростком, который чутко реагирует на малейшую несправедливость.
— Вы, краснофлотец Звягинцев, — опомнился после некоторого замешательства Демидченко, — не перекладывайте с больной головы на здоровую. Я действительно просил вас поискать ленту, но снимать ее с батарей не разрешал.
Сейчас уже не имело значения, кто, кому и что сказал в тот злополучный день. Не имел большого значения и факт наложения на меня дисциплинарного взыскания, хотя, конечно, обидно за поступок человека, которому я так много помогал. Демидченко можно было бы понять и даже простить, если бы он не знал о причине выхода из строя электрических батарей. Но, выясняется, знал и действовал преднамеренно, преследуя все ту же, теперь уже понятную для меня цель. Что могло быть причиной такой ненависти ко мне? Не скажет. И все-таки надежда, что все это — следствие какого-то недоразумения, не оставляет меня, все еще теплится. Правда, она как пепел от только что сгоревшего костра. Он еще не остыл, но уже и не греет, не отгоняет от себя сгущающихся вокруг сумерек.
Долго молчал Звягинцев, потом все же сказал:
— А кто спросил меня, когда была снята лента: «А не замкнет?»
— Ну и гнида же ты, Сеня, — только и смог ответить Демидченко. — Умойся. Приведи в порядок свою робу.
— Не, мне нечего смывать, я человек чистый. А вот свои пятна вы будете смывать слезами.
— Ну и гад же ты, Сымон, — не выдержал даже спокойный Михась.
— Ничего. Я знаю, что все вы заодно. Еще посмотрим. Правда, она свое возьмет.
— Не трогай, пусть катится ко всем чертям, — сказал Демидченко.
— Да он же будет позорить не только себя, но и честь военного мундира, — не выдержал я. — Заставьте его привести себя в порядок.
— Хотите, чтоб все было шито-крыто, чтоб никаких доказательств? Нет, этого приказывать вы мне не имеете права. А в рапорте мы и это укажем, как, значит, заставляли убирать вещественные доказательства.
— Да пусть катится.
Видно было, что командир спасовал. Звягинцев своими рассуждениями, пропитанными наглым шантажом, взял верх. Состояние беспомощности Демидченко, казалось, почувствовали все, и в первую очередь — сам Звягинцев. Он, используя состояние замешательства, сказал:
— Ну я пошел в санчасть. Если спросят, скажу, что вы разрешили.
Вот же бестия. Вынудил командира согласиться с тем, что ему нужна неотложная медицинская помощь, и тут же добился еще и формального разрешения на увольнение. Когда Звягинцев ушел, Демидченко в раздумье сказал:
— Натворили мы делов. Теперь начнут разбираться: кто да что да почему. А все из-за вас, Нагорный, из-за вашего дурного характера. Ну, подумаешь, сказал что-то. Ну и что? Знали же, что Звягинцев — пакостник. Нечего с ним связываться. Лучше обойти стороной. Видать, не зря я не хотел брать вас на пост. Просил даже главного старшину.
Проговорился-таки. Правду, значит, сказал Веденеев. Но какая причина? Теперь-то он может объяснять это моим дурным характером. Но я-то знаю, что это не так, что дело не в моем характере, а в чем-то другом. Но правды Вася не скажет. Демидченко, словно прочитал мои мысли, приказал:
— Заварили кашу, чистите теперь карабин Звягинцева.
— А может, подождем его возвращения? Должен же он понять, что забота о чистоте личного оружия — это его воинский долг.
— Еще неизвестно, когда он вернется. Оставлять же карабин, чтоб его ржавчина портила, нельзя.
Делать было нечего. Я взял карабин Звягинцева и принялся за чистку. Сколько я не протирал канал ствола — на его стенке в одном месте так и не удалось устранить извилистого пятна. По всем признакам, образовалась раковина. Я доложил об этом командиру.
— Не можете даже этого сделать, — пробормотал Демидченко, отбирая у меня карабин и пробуя устранить пятно в канале ствола.
— Стереть раковину никто не может, — огрызнулся я. — Это уже до конца службы.
— Если вашей, так это недолго, — язвительно заметил командир. — Вот через пару деньков загремите в военный трибунал — вот и вся служба.
В памяти почему-то всплыли слова Танчука: «Потом, как говорит уважаемый нами Музыченко, побачымо». Хотелось и мне сказать Демидченко: «Побачымо». Да зачем? А что если и в самом деле ему удастся отдать меня под суд? Я вспомнил Маринку. Что же будет с ней? Я же потеряю ее навсегда. И тут взял меня такой страх, так, наверное, изменилось мое лицо, что даже командир заметил.
— Что, поджилки затряслись?
Не понимает он, что я боюсь не суда, не о себе думаю, а о Маринке. Она же потеряет веру в человека. А это самое страшное для меня. Сказать ему об этом? Нет, не поймет. А если и сможет понять, то не захочет. Да еще и наплюет тебе в душу. Нет, уж лучше переносить все это самому. Плохо, что я не смогу рассказать всего этого самой Маринке. Демидченко строго-настрого приказал Лученку не отпускать меня с поста в его отсутствие ни по каким делам.
Настроение в этот день было испорчено окончательно. Обед прошел в атмосфере подавленности. Никто ни о чем не говорил, каждый был занят своими мыслями.
Под вечер вернулся Звягинцев. Никаких следов крови ни на лице, ни на блузе не было. Лишь на верхней губе справа был наклеен небольшой кусочек белого пластыря. Не прошло после этого и четверти часа, как к нам пожаловали командир взвода и политрук Есюков. Командир отделения подал команду «Смирно!» и доложил политруку о состоянии нашего поста.
— Ну и артисты. Не прошло и двух месяцев, а они уже успели прославиться на всю береговую оборону, — едко заметил командир взвода.
Первый порыв грозового ветра. То, что мы «артисты», еще не сама гроза. Громы и молнии впереди. Сейчас политрук прикажет собрать комсомольское собрание, выяснит, действительно ли я ударил Звягинцева, и потом уже начнется главное. Однако политрук, как будто ничего не случилось, спросил:
— Все что ли собрались?
Демидченко обвел нас взглядом и ответил:
— Кажись, все. Точно, все.
Политрук извлек из планшета карту Европы и попросил прикрепить ее перед собравшимися. Мы знали, что уже более полутора лет полыхает пламя второй мировой войны, что к этому времени под сапогом гитлеровской Германии оказалась почти вся Западная Европа.
— Многие спрашивают, — рассказывал политрук, — может ли напасть на нас Германия? Конечно, такая угроза существует. Но не следует забывать, что остается в силе германо-советский пакт о ненападении. Кроме того, в настоящее время нет никаких признаков готовящейся агрессии против Советского Союза. Но как бы там ни было, мы ни на минуту не должны забывать о бдительности. Наш воинский долг — постоянно крепить оборону нашей Родины.
Далее политрук привел пример мужества советских воинов, когда часовой соседней с нами воинской части, охранявший склад боеприпасов, извлек из горящего здания два огнетушителя и умелыми действиями предотвратил распространение огня на соседние складские помещения.
— Я знаю, — продолжал политрук, — что и у вас есть хорошие дела, что и вы проявляете заботу о боевой готовности вашего поста. Достаточно сослаться на ценную инициативу, которая связана с очисткой траншеи на вашей позиции. Но при всем этом остается непонятным, как могло случиться, что комсорг, вожак комсомольцев краснофлотец Нагорный избил своего же товарища. Что вы, товарищ старшина второй статьи, можете сказать по этому вопросу?
— А что тут говорить, товарищ политрук? Я не зря просил главного старшину не посылать Нагорного на пост. Я видел в нем бандитские замашки и раньше. Думал, перевоспитается. Но, выходит, что перевоспитать его может только военный трибунал. Постоянные пререкания, нарушения воинской дисциплины, а недавно чуть боевое задание не сорвал. Не прошло и недели, как новая бандитская выходка — покушение на жизнь своего же товарища.
Вот когда до конца раскрылся Демидченко. Дождался-таки подходящего случая, чтоб разделаться со мною навсегда. Что он люто ненавидит меня, это теперь ясно не только мне, но, кажется, и всем остальным. Я вижу, как поднял плечи и крайне удивленно посмотрел на Демидченко Михась. Танчук наклонился и не менее удивленно шепотом спросил Лефера:
— Что он говорит?
На этот раз даже немногословный Сугако не мог себя сдержать:
— Буде вам, командир, клеветать.
— Спокойно, товарищи, — сказал политрук. — А что вы скажете, краснофлотец Нагорный?
— Что ударил Звягинцева — это верно, — ответил я.
— За что?
— Заслужил, значит.
— Каким образом?
— Личное это, товарищ политрук.
— Как же это понять? Такой образцовый комсомолец, грамотный, с высоким, как мне казалось, уровнем сознания. И вдруг — хулиганская выходка. Почему вы не хотите объяснить?
— Мне нечего объяснять, товарищ политрук.
— Как же нечего объяснять? — взорвался Лученок. — Тогда я объясню.
— Михась, пожалуйста, не надо, — просительно обратился я к Лученку.
— Нет надо. Так мы, чего доброго, совсем скатимся в болото, — Лученок передохнул и продолжил: — В тот момент, когда Звягинцеву было объявлено дисциплинарное взыскание, я был возле Нагорного. Как хотите, но если бы мне сказали: «Ну, падло! Гад буду, если не отомщу. Я тебе тоже когда-нибудь такое устрою, что кровью харкать будешь», я бы поступил так же, как и Нагорный, а может быть, и круче. Как мог Звягинцев грубо, незаслуженно оскорбить своего товарища? За что? Да за то только, что тот по-товарищески напомнил ему, что нужно, мол, вычистить карабин. Кстати, в карабине Звягинцева теперь уже раковина. Нагорный, которого заставил командир отделения чистить оружие Звягинцева, так и не смог устранить эту раковину. Да разве ее устранишь? Раз у нас комсомольское собрание, то вам, товарищ политрук, как коммунисту не лишне знать, что командир отделения Демидченко не просто ненавидит Нагорного, он... А, что говорить.
— Ну-ну, продолжайте, товарищ Лученок.
— Нет, я тоже, пожалуй, не буду объяснять.
— Как это не буду? Да вы что, сговорились?
— Сговорились — не сговорились, но не буду. Это дело надо еще проверить.
Честно говоря, я не ожидал, что Лученок может так повести себя. Вот уж поистине: чтобы узнать человека, надо не один пуд соли съесть с ним. Но дело тут, конечно, не во времени, сколько в ситуации, которая иногда вынуждает человека делать тот или иной выбор.
Меня освободили от обязанностей комсорга. Комсомольским вожаком выбрали Лученка. После собрания, когда командир взвода проверял вахтенный журнал и состояние радиостанции, политрук взял меня за локоть и повел по склону, горы.
— Так, говоришь, не повезло тебе на командной должности? Я знаю, что тебе не повезло и когда присваивались звания старшин. Невезучий ты какой-то.
— Да не в этом дело, товарищ политрук, — ответил я Есюкову. Обращение его со мною на «ты» как-то растрогало меня.
— И в этом тоже. Ты не удивляйся.
— Ведь я же хотел...
— Знаю, знаю, что хотел как можно лучше. Но не следует забывать, что при искоренении зла часто бывает недостаточно одной правоты. Требуется еще и большая выдержка. А вот ее-то у тебя как раз и не хватило. Поэтому ты и оказался битым. Ну ничего, в народе недаром говорят: за одного битого двух небитых дают. Помогай Лученку. Он, видишь, каким хорошим парнем оказался. Чтобы кончить с этим делом и чтобы ни у Звягинцева, ни у Демидченко не возникало больше никаких вопросов, ты официально передай своему командиру отделения, что я наказал тебя предупреждением. Понял?
— Так точно, товарищ политрук!
— Тут можно и без «так точно». Кстати, почему тебе не присвоили тогда звания младшего командира? Ведь ты, насколько мне известно, все экзамены сдал на «отлично»?
— Ведь вы же сами сказали мне, что я невезучий. Наверное, поэтому.
— Ну, а все-таки?
— Толком я и сам не знаю, как это получилось. Дежурил я у рации, как всегда. На другой день наш командир взвода построил нас и говорит: «Вчера во время вахты Нагорного была передана в штаб дивизиона важная радиограмма. Эта радиограмма не была принята потому, что краснофлотец Нагорный во время своей вахты спал». Ну и расценили это как тяжкий проступок и наказали меня пятью сутками гауптвахты. Командир взвода тогда еще сказал: «Моли бога, что это случилось не во время боевых действий. Загремел бы ты под военный трибунал, как пить дать».
— А ты тогда действительно спал?
— Так в том-то и дело, что нет.
— Ну а как же могло случиться, что ты не принял радиограммы?
— Ума не приложу.
— Подожди. Что значит «ума не приложу»? Давай все по-порядку. Ты серьезно, по-комсомольски говоришь, что не спал?
— Что вы, товарищ политрук, как можно?
— Так значит, если бы передавали радиограмму, ты бы ее принял?
— Конечно.
— Но чудес ведь не бывает.
— Не бывает. Потому и посчитали, что я во время вахты спал. А как я мог доказать, что это не так?
— В юриспруденции это называется казусом — случаем, действием, имеющим внешние признаки преступления, но лишенным элемента вины, то есть таким, в котором его совершитель не проявил ни умысла, ни неосторожности, а поэтому ненаказуемым.
— Сложно, но понятно.
— Это научное определение вот такого, как у тебя, случая. Ведь я, да будет тебе известно, дорогой товарищ Нагорный, в свое время учился на юридическом факультете университета, — политрук немного помолчал, а потом спросил: — Кто-нибудь серьезно разбирался в этом происшествии?
— Этого я не знаю, товарищ политрук. Перед строем мне объявили дисциплинарное взыскание, сняли поясной ремень и тут же откомандировали на «отдых». Я говорил им, что не спал. А мне отвечали: «У нас еще не было случая, чтобы кто-нибудь сам сказал: «Виноват, спал». Даже когда из рук спящего часового брали карабин, то и тогда следовал ответ: «Не спал. Ну, может, чуть-чуть придремнул». Тот факт, что вы не приняли радиограммы, говорит сам за себя».
— Да. Ну ладно. Поживем-увидим. Ты вот что. Мне еще нужно поговорить с Лученком, так ты пойди и скажи ему, что я его жду.
Провожали мы наших командиров все вместе. Не пошел с нами только Звягинцев. По дороге вниз политрук рассказал нам несколько смешных историй. Прощаясь, он обратился к Демидченко с шутливым замечанием:
— Вы, товарищ старшина второй статьи, не очень потакайте тем, кто шефствует над выпускницами школы. А то, чего доброго, снизится успеваемость в классе, и тогда могут посыпаться на нас с вами жалобы. Время-то сейчас ух какое опасное! Соловьи там всякие, не заметишь, как и голову потеряешь.
— Да один, кажется, уже потерял.
— Кто же этот счастливец?
Молодчина все-таки наш политрук. В мягкой шутке он по-хорошему мне позавидовал. Может, он и не знал, что речь шла именно обо мне, но какое это имеет значение? Важно, что он понимает: любящий человек — действительно счастлив.
13
Вернулся наконец Танчук. Почти неделю он осваивал в полковом штабе подрывное дело. Может быть, ничего этого и не было бы, если бы не один случай. Все началось с боевого листка, который был посвящен ходу социалистического соревнования между радистами и сигнальщиками. В статье указывалось, что Лученок очистил за свою смену шестьдесят сантиметров траншеи, а Танчук за это же самое время прошел всего лишь двадцать.
— Зачем писать, кто сколько сделал? — спрашивал задетый за живое Танчук. — Как будто мы не знаем этого без газеты.
— Цэ, Лэв Яковыч, для того, — разъяснил Музыченко, — щоб люды нэ лякалысь.
— Чего лякались? — не понял Танчук.
— Як чого? Чують люды, що у нас е лэв — та й лякаються. А тут тоби газэта поясшое: «Та цэ нэ лэв, а кошэня задрыпанэ».
Видно, крепко задели Льва Яковлевича эти слова. Дня через два Танчук получил разрешение выехать в штаб дивизиона. В тот же день была получена радиограмма, в которой извещалось, что Лев Яковлевич направлен на краткосрочные курсы подрывников.
И вот Танчук у себя в отделении. Пот градом струился с его лица. По краям влажных пятен на спине и под мышками блузы видны были разводы высохшей соли. Несмотря на крайнюю усталость, выражение лица у Льва Яковлевича было радостным.
— Чтоб я пропал, это ж такой народ, с которым человеку нельзя договориться, — делился своими впечатлениями Танчук.
— Левушка, ты подкрепись чуток, а потом уже все и расскажешь, — подошел Сугако, дежуривший сегодня по кухне. Я обратил внимание, что Лефер почти всегда называет уставшего человека ласкательным именем.
— Это можно, — ответил Танчук, довольный проявленной о нем заботой.
Лефер и Лев Яковлевич ушли в столовую, Музыченко стоял на наружной вахте, я сидел у рации и вслушивался в многоголосый хор морзянок. Слышались периодические глухие удары где-то в подземелье. Это Михась долбил ломом породу в траншее. На моей рабочей волне неожиданно зазвучала песня, далекая, незнакомая. Песня чем-то напоминала голос Маринки. Хотя нет. Разве можно передать шелест трав в степи, запах крымской лаванды, звон тишины? Голос певицы исчез, а мне кажется, что я все еще слышу, но уже не песню, а начало легенды: «Это было маленькое царство, которым правила красавица Менатра».
Вернулись в радиорубку Лев Яковлевич и Сугако.
— И что вы думаете, — продолжил свой рассказ Танчук. — Иду я к нашему командиру взвода и прошу у него ерундовую бумажку и чтоб в этой паршивой бумажонке он написал: так, мол, и так. Нет, не хочет. «Это, — говорит, — серьезное дело». — «Какое серьезное дело? Я же не прошу, чтоб вы дали мне зенитное орудие или мотоцикл с коляской».
— А что ты у него просил? — не выдержал Сугако.
— Мелочь. В Одессе мне было бы даже стыдно говорить об этом. Я попросил у него двадцать толовых шашек, полсотню запалов и метров десять бикфордова шнура.
— Ну, Лев Яковлевич, ты даешь! — крикнул Михась. Он стоял у входа в радиорубку, опираясь на лом, и слушал рассказ Танчука. — Это ж целый склад боеприпасов.
— Чтоб я пропал, то же самое сказал мне и командир взвода. Я надавил на чувствительные места, и он сразу понял, с кем имеет дело. «Вы были у нас на посту?» — спрашиваю командира взвода. — «Был», — говорит. — «Видели, какие социалистические обязательства взял па себя комсомолец Танчук?» — «Видел». — «Так что ж вы хотите?» — спрашиваю.
Все от души смеялись над манерой рассказа Льва Яковлевича.
— Подписал, значит? — спросил Михась.
— Подписать-то подписал, но жмотом оказался, все скостил наполовину. Но еще дядя мой говорил: «Если ты не умеешь взять то, что нужно, ты не деловой человек». На складе боеприпасов я доказал-таки командиру взвода, что Танчук — деловой человек.
— Ты что, водил командира взвода на склад? — спросил Михась.
— Это было бы глупо. Мои ребята после этого перестали бы меня уважать, — Танчук развязал принесенный им пакет и продолжил. — В Одессе эти штучки мне не нужны были бы и даром.
Льву Яковлевичу не сиделось на месте. Он сказал Леферу, чтобы тот взял лом и выдолбил у основания неочищенной части траншеи углубление. Лефер безропотно начал выполнять порученное ему дело, словно это был приказ самого командира отделения. Да я и сам чувствовал, что обратись Танчук не к Сугако, а ко мне, я тоже безоговорочно начал бы выполнять его поручение. Сложилась ситуация, в которой Лев Яковлевич стал общепризнанным лидером нашего маленького коллектива. Он превосходил всех нас не физической силой, не остроумием, не правами, которыми наделяется войсковой начальник, а большими знаниями в том, чем все мы были теперь заняты. Изменись ситуация, и нужно было бы определить, скажем, физически наиболее крепкого из нас, лидерство могло бы перейти к Леферу. Но не долго он оставался бы в этой роли: нас поглотили бы другие заботы, и на гребне событий оказался бы уже третий. Леферу больше подходила роль исполнителя воли других. Да оно так и было на самом деле. Лефер уже привык к этому, и то, что Танчук обратился за помощью именно к нему, подтверждало характер установившихся между ними взаимоотношений. После того как Сугако выдолбил достаточное углубление, Лев Яковлевич взял брусок тола, отпилил третью часть и заложил в сквозное отверстие запал. Перед тем, как поместить этот заряд в сделанное углубление траншеи, Танчук отрезал сантиметров двадцать бикфордова шнура и прикрепил один его конец к запалу.
— Ну а теперь все в укрытие! — скомандовал Лев Яковлевич. Через минуту в каземат вбежал и сам Танчук.
— Чтоб я пропал, если не рванет.
Рвануло и довольно сильно. На площадку посыпались камни. Когда облако пыли, поднятое взрывом, улеглось, все выбежали и устремились к северному концу траншеи.
— Ур-ра-а! — закричал первый Танчук. Его восторг был подхвачен всеми остальными.
Картина представлялась внушительной. Огромная каменная глыба, по форме почти соответствовавшая полуметровому участку траншеи, сползла на площадку и загородила подход к самой траншее. Более мелкие камни были разбросаны по всем прилегавшим участкам горы. Что нас больше удивило, так это то, что края траншеи остались почти неповрежденными.
— Лев Яковлевич, — спросил Лученок, — скажи, только честно, неужели ты сам рассчитал все так, как в бухгалтерии?
— Ну что вы, ребята. Я же в этих делах не специалист. Ну пришлось посоветоваться, где надо. Умные люди сказали: «На такую траншею, как у вас, нужна третья часть шашки. Возьмешь больше — может потревожить вас самих».
— Оцэ так-так! — не мог воздержаться от радостного изумления и Музыченко. — Ну и голова в тэбэ, Лэв Яковыч!
— Что, задрыпанэ кошэня? Да? — вспомнил все-таки обиду Танчук.
— Та ни. Ну выбачай, якщо так.
— Та что выбачай. Думаешь, я уже такой паразит, что долго помню гадость?
Лев Яковлевич, где ломом, где киркой, а то и лопатой, очистил траншею от выступов оставшейся породы, определил длину рва и спросил:
— Сколько, Михась, ты вырубил сегодня породы?
— Шестьдесят сантиметров.
— А я?
— Шестьдесят пять.
— А сколько часов ты ковырялся?
— Шесть часов.
— А сколько я был занят своим делом, ты подсчитал?
— Ну, может, минут двадцать.
— Чтоб я пропал, если задам Михасю хоть еще один вопрос.
— Хлопци, — предложил Музыченко. — Давайтэ выкотымо оцю бандуру гэть.
— А что, пожалуй, Петро прав. Когда мы еще соберемся вместе? — поддержал Лученок.
Ребята уже обступили каменную глыбу и готовы были переместить ее на край площадки, как Танчук поднял руку и сказал:
— Стоп! Такой дорогой материал и выбрасывать? Да в Одессе ему цены не было бы. А вы хотите его выбрасывать. Посмотрите на нашу хату. В ней же нет целой стены. А что мы будем делать, когда придет зима и занесет нас снегом? Послушайте меня. Я говорю вам дело.
Всем сразу же стало ясно, что Танчук прав. Действительно, под рукой у нас имеется готовый строительный материал. Уложить друг на друга несколько таких каменных глыб на пороге каземата — и надежное укрытие готово.
— Лэв Яковыч, — сказал Музыченко. — Так я ж и кажу: давайтэ выкотымо оцю бандуру гэть — до нашойи хаты и будэмо потыхэньку класты стину.
— До чего ж ты хитрый хохол. Чтоб я пропал, если ты не хотел выбросить эту вещь вниз.
— Такый дорогый материал. Та ты знаеш, що в Одэси йому цины нэма?
Ребята вновь обступили брус и, пересыпая разговор шутками, покатили его к проходу каземата. Лученок забрал со своей рабочей площадки саперный инструмент и перенес его в общий склад.
— Отныне ручную работу прекращаем и переходим на более прогрессивный метод краснофлотца Танчука, — сказал Михась. Стряхнув с себя пыль, он подошел ко мне и добавил: — Молодцом оказался Лев Яковлевич. Слушай, давай я за тебя подежурю, а ты займись боевым листком.
— Через полтора часа ты так или иначе меня сменяешь. Подожди уже немного. Сменюсь и сразу же займусь боевым листком.
— Понимаешь, в чем дело. Недаром же говорят: дорога ложка к обеду. У ребят сейчас приподнятое настроение. Если выпустить еще и молнию, будет совсем что надо. Да и Лев Яковлевич почувствует, что не зря старался.
— Ты как сват уговариваешь. Ну будь по-твоему, — и передал ему наушники.
Я понимал, что боевой листок должен быть праздничным. Ведь это ж не просто хорошо выполненная работа, не просто хороший поступок комсомольца. Это — всплеск творческого энтузиазма. А значит, и показать его надо таким. Эх, настоящего бы художника для такого дела! Ну ничего. Постараемся и мы не ударить лицом в грязь. Первое, с чего я начал, взял немного красной туши и разбавил ее водой. Потом этот раствор вылил на лицевую сторону боевого листка и размазал по всей площади. А чтоб не было пятен и затеков, подвесил листок за верхние углы. Раствор краски весь стек, и на бумаге остался приятный розовый фон. Через две минуты листок был сухой. Но зато какой вид! Честно говоря, мне самому понравилась моя выдумка. После этого через весь лист я написал насыщенной красной тушью всего лишь два слова: «Молния! Танчук!» Эти два слова выделялись на розовом фоне настолько сильно, что они хорошо были видны с расстояния тридцати метров, а то и больше. Написать сам текст было нетрудно: коротко о трудовом подвиге краснофлотца Танчука, и все. А что тут расписывать, если все было на наших глазах? Я показал боевой листок Лученку.
— Ну ты молоток! — похвалил меня Михась.
— Какой я молоток? Вот Танчук — парень, что надо.
— Это само собой. Ну давай вывешивай.
Когда я прикреплял боевой листок на специальном щитке, возле меня уже стояли Сугако и Музыченко. Лев Яковлевич, будто его ничего не интересовало, прохаживался по брустверу.
— Левушка, подь сюда, — позвал Танчука Лефер.
— Что тебе надо?
— Подь сюды, говорят.
Танчук вроде нехотя подошел к нам.
— Видишь?
— А что видеть? — ответил Танчук вопросом на вопрос.
— Себя что ли не узнаешь?
— Ну Танчук и Танчук. А что тут особенного?
— Да нет, не говори. Приятно все-таки.
Позже, когда возле боевого листка никого уже не было, Лев Яковлевич подошел к Лученку и спросил:
— Михась, когда будете снимать боевой листок, можно я его возьму себе?
— Почему же нет? Пожалуйста.
Танчук немного помолчал, а потом добавил:
— Я пошлю его домой. Пусть дядя знает, что его Лева — все-таки деловой человек.
Удивительным иногда бывает выражение лица у человека. Не тогда, когда он заразительно смеется или горько плачет. Не в состоянии гнева или злой зависти. И даже не тогда, когда человека одолевают мучительные сомнения или разочарование. Меня поразило выражение лица Льва Яковлевича. Я видел его таким впервые. Лицо вроде спокойное: ни тебе улыбки, ни гримасы. Но присмотришься и становится ясно, что человек светится радостью. Именно светится.
14
Уже и май на исходе, а я после того, как вместе с Маринкой бродил по отрогам начинающихся Крымских гор, еще ни разу не видел ее. Занятия по радиоделу в школе теперь проводит сам Демидченко. Я мог бы написать Маринке письмо и передать его через Лученка. Да нужно ли это делать? Ведь не зря же она сказала тогда на прощанье: «Не приходи ко мне целую неделю. Я разберусь и, может быть, сама тебя позову». Прошла неделя, другая, уже и третья на исходе, а Маринка все еще молчит. Уж не случилось ли какого-нибудь несчастья? Да нет. Михась бы знал об этом. Значит, дело в другом. Разобралась, да не в мою пользу. А может, что-нибудь другое.
— Почему бездельничаете? — попался я на глаза Демидченко.
— Через час на вахту заступаю.
— Так это ж через целый час. За это время можно уйму вещей сделать. Ступайте и помогите Сугако.
— Есть пойти помочь Сугако.
Я стараюсь изо всех сил не давать командиру ни малейшего повода для придирок. И все-таки, несмотря на мои старания, это не всегда получалось. «Да, брат, невеселая у тебя история, Нагорный. Трудно, а делать нечего, надо нести нелегкую службу, а сейчас вот помогать Сугако».
Недалеко от поста, на северо-западном склоне горы, я отыскал Лефера. Он, собирая хворост, спустился в выемку, заросшую кустарником, нагнулся и поднял какой-то предмет.
— Что нашел, Лефер? — спросил я его, остановившись на краю выемки в скале.
— Да вот кто-то ножик потерял.
— А ну покажи, — я подошел к Сугако, взял у него перочинный нож, на рукоятке которого были нацарапаны две буквы «М. X.» — «Марина Хрусталева!» — мелькнула у меня мысль. Это же то самое место, где я встретил ее первый раз». — Да, какая-то раззява потеряла. Это, может быть, еще до нашего приезда на эту гору.
— Ты что, Николушка, если бы это было так, он давно бы поржавел, — резонно возразил Лефер. — А этот, смотри, совсем как только что из кармана.
— Пожалуй, ты прав, — не стал я разубеждать Лефера и наводить его на другие мысли. — А если бы я попросил, ты бы отдал его мне?
— Да бери, мне что, жалко?
— А где именно ты нашел его?
— Да вот здесь, — указал Сугако место рядом с нагроможденными плоскими камнями.
Я внимательно осмотрел это место, но ничего подозрительного так и не заметил. Спрятав нож в карман, я сказал Леферу:
— Командир приказал помочь тебе.
— Что помогать? Тут одному делать нечего.
— Я так и сказал командиру, но он настоял на своем.
— Чудно. По-моему он придирается к тебе. В чем-то, значит, ты ему помеха.
Даже Сугако понимает, что Демидченко преследует меня. Несмотря на то, что работы у Лефера было немного, я помог ему собрать хворост и начистить картофеля.
— Да посиди ты, отдохни, — советовал мне Лефер.
— Нельзя. Надо выполнять приказ командира.
— А если этот приказ неправильный?
— Ты понимаешь, Лефер, я тоже думаю, что меня можно было и не отсылать к тебе на помощь. Работы у тебя действительно немного, и ты бы справился с ней запросто.
— Еще бы.
— Но дело в другом. Все мы люди, в том числе и сам командир. Люди мы разные и по-разному думаем, по-разному оцениваем иногда одну и ту же вещь. Представляешь, что было бы, если бы все вопросы, особенно в боевой обстановке, решались, кто как их понимает. Полная неразбериха.
— Ну а если командир неправ, как вот с тобой?
— Выполни приказ, а потом можешь обжаловать его перед вышестоящим командиром. Но какой смысл жаловаться по мелочным вопросам, таким, скажем, как у меня? Мелочь она и есть мелочь, не стоящая того, чтобы из-за нее отрывать от важного дела других командиров. Да не все эту мелочь и поймут, даже если человеку бывает другой раз и обидно. Ну что мне стоило помочь тебе собрать хворост и начистить картофеля? Сделал свое дело и разговаривай теперь с тобою в полное удовольствие. А поступи я иначе? На вечерней поверке командир обязательно спросит: «Краснофлотец Нагорный, выполнили ли вы мой приказ? Помогли ли вы своему товарищу?»
— А я бы сказал, что помог, — прервал меня Сугако.
— Я знаю, Лефер, ты добрый человек. Но у меня вот тут, — и я показал на свою грудь, — сидит несговорчивая сударыня-совесть. Как мне сладить с ней? Нет, уж лучше я сделаю так, как приказал командир.
— Хорошо, если бы все так делали.
— Тут я с тобой, Леферушка, полностью согласен и, даже скажу тебе больше, буду делать все так, чтобы было по справедливости.
— Николушка, — и Сугако оглянулся вокруг, — а ты веришь в бога?
— Ты спрашивал об этом еще кого-нибудь?
— Не, только тебя. Уж очень душевно ты говоришь, как в нашем молитвенном доме просвитер.
Я улыбнулся, но так, чтобы не обидеть Сугако. Это же надо, сравнить комсомольца с пресвитером. В памяти всплыла картина раннего утра на озере, куда я еще подростком любил ходить. В километре от нашего дома, над озером — туман. Слышно, как кричит дергач. Я тихонько вставляю весла в уключины и плыву вдоль зарослей камыша. Стоит только неосторожно всплеснуть веслом или стукнуть им по уключине — и очарование покоя нарушится: поднимется крик уток, начнется хлопанье крыльев, потревожится все озеро. Вот так и с Лефером. Одно неосторожное с моей стороны слово, и человек может замкнуться. А как это хорошо наблюдать, как раскрывается душа человека, говорит в нем все лучшее. Не часто это можно видеть, и не перед каждым она открывается.
— Только, — спохватился Сугако, — ты уж никому об этом.
— Можешь быть спокойным, Лефер. Я умею уважать чувства людей. А насчет веры в бога мы с тобою еще поговорим и не раз. Как, согласен?
— С тобою согласен.
Меня это «с тобою» несколько удивило. Выходит, Лефер готов говорить на эту тему, но не с каждым. Оказывается, нужна еще и вера в человека.
Пора сменять Лученка. Когда я подошел к рации, Михась молча показал мне радиограмму. Текст ее был предельно кратким: «Командируйте штаб дивизиона краснофлотца Нагорного тчк Политрук Есюков тчк».
— Это еще за какие грехи, Михась? — спросил я Лученка, надеясь, что ему что-нибудь известно. — Неужели опять Звягинцев?
— Или Демидченко. Но это лишь предположение, — добавил он после небольшой паузы. — Ты только не говори ему, пожалуйста, что я показывал тебе радиограмму. Хватит нам разных переживаний и без этого.
Я вернул Лученку радиограмму и приготовился к разговору с Демидченко. Но он, к моему удивлению, молчал до следующего дня и лишь после сдачи вахты вызвал меня и спросил:
— Это что у тебя за дела с политруком Есюковым?
— Какие дела?
— Так уж и не знаешь?
— Да о чем вы, товарищ старшина второй статьи?
— Ты же читал радиограмму?
— Вы какие-то загадки задаете.
— Ты что, не знаешь зачем тебя вызывает в штаб политрук?
— Откуда же мне знать? Я — рядовой краснофлотец, и если кто и вызывает, то, верно, для какой-нибудь взбучки.
— Темнишь, Нагорный. Ну да дело твое, — после этого Демидченко сделался строгим и добавил: — Получена радиограмма за подписью политрука Есюкова. Вы должны явиться в штаб дивизиона.
— Сейчас?
— Это дело ваше. Можете хоть сейчас.
Чтобы не дать повода для придирки, я принял стойку «смирно», приложил правую руку к бескозырке и по-военному ответил:
— Есть явиться в штаб дивизиона. Разрешите идти?
— Идите.
Я повернулся и ушел. Сборы были недолгими. Спускаясь вниз, я подумал: «Забегу хоть на минутку. Это же по пути». Маринка была в палисаднике и готовилась к очередным экзаменам.
— Здравствуй, Маринка.
— Здравствуйте.
Что случилось? Почему у нее такой строгий взгляд? Почему она ответила не «здравствуй», а «здравствуйте».
— Ясно, — сказал я.
— Что ясно?
— Ясно, что разобралась, — ответил я и подумал. — «Может быть», которое она тогда сказала, это еще не «да».
— Знаете что, Николай Васильевич, — уже и «Николай Васильевич». И откуда только узнала мое отчество? Я же ей, хорошо помню, этого не говорил. — Я презираю предателей.
— Маринка, опомнись, что ты говоришь?
— О человеке судят не по словам, а по его делам.
— Верно. Так за что же ты меня презираешь?
— Сами знаете. Память у вас, я полагаю, еще сохранилась.
— Это все, что ты можешь мне сказать?
— Все.
— Немного. Ну что ж, как говорят, и на том спасибо, — я извлек из кармана перочинный нож с нацарапанными буквами «М. X.» и положил его на стол, перед лицом Маринки. — Твой, что ли?
— Мой. Откуда он у вас?
— Прошлый раз ты мне запретила даже упоминать о некоторых вещах. Эх, Маринка, Маринка, разобралась-таки, да, вижу, не так, как надо. Когда-нибудь ты поймешь, что незаслуженно обидела человека, для которого... э, да что теперь говорить об этом. Прощай.
Выходя из двора Хрусталевых, я скользнул взглядом по окнам, и мне показалось, что от одного из них отшатнулась Анна Алексеевна. Смотрела на нас, но выйти не решилась. Что же произошло, что случилось? Вот уж поистине, одна беда не ходит рядом. Мало служебных неурядиц, так нужно было случиться еще и этому. Ну предположим, что разобралась и поняла, что не любит. Так можно же обойтись с человеком просто, сказать: «Ты извини, Коля, но я тебя не люблю». И все. Трудно было бы мне, но пережил бы как-нибудь. Ведь не один же я такой неудачник. Но зачем ей понадобилось говорить такие обидные слова: «Я презираю предателей». Прав был политрук, когда говорил: «Невезучий ты какой-то». Невезучий и есть.
Невеселые думы роились в моей голове, когда я шел в Севастополь. В штаб дивизиона я пришел перед полуднем. Приняв мой доклад о прибытии, политрук попросил меня подождать, пока он не закончит беседу с политработниками батарей дивизиона. Через полчаса он пригласил меня к себе и сказал:
— Ну как, очистили траншею?
— Крепкий оказался орешек. Но мы нашли новый способ, и теперь дела, кажется, пойдут быстрее, — я рассказал о том, как Танчук вначале был в числе отстающих, а потом, применив взрывной метод, стал не только передовиком, но фактически оказался единственным исполнителем работ по очистке траншеи.
— Вы хоть догадались поздравить человека с такой хорошей инициативой?
— А как же. Выпустили специальный номер боевого листка. Парень даже попросил, чтобы этот боевой листок мы отдали потом ему. Хочет послать домой.
— Это хорошо. А как вы смотрите на то, чтобы написать об этом в газету «Советский черноморец»?
— Не думали об этом.
— А вы подумайте. Кончите свое дело и опишите. Это будет хорошим примером для других.
— Постараемся.
— Ну а теперь другой вопрос, — политрук открыл ящик стола и достал из него журнал. — Когда, вы говорите, было дежурство, на котором вы не приняли радиограмму из штаба полка?
Вот оно, оказывается, в чем дело. Значит, ради этого политрук вызвал меня к себе. Что же он мог выяснить? Если радиограмма была и я ее не принял, то наказывать меня еще строже вроде бы уже поздно. Как-никак с того времени прошло уже почти три месяца.
— Двадцать первого февраля, — эту дату я буду помнить долго.
— Двадцать первого февраля, — сказал про себя политрук. — В котором часу вы заступили тогда на вахту?
— В восемнадцать ноль-ноль, как сейчас помню.
— В восемнадцать ноль-ноль, — снова повторил мои слова политрук. — А сменились когда?
— В двадцать четыре ноль-ноль.
— В двадцать четыре ноль-ноль, — политрук перелистывал страницы нашего вахтенного журнала. — Кто сменил тогда вас?
— Краснофлотец Веденеев.
— А приняли вахту от кого?
— От старшины второй статьи Демидченко.
— Вашего командира?
— Так точно.
— Рабочая волна, на которой работала ваша рация, менялась на вашем дежурстве?
— Нет. По боевому расписанию, мы переходили на новую рабочую волну только с двадцати четырех ноль-ноль.
— Другими словами, на новой рабочей волне начал дежурить ваш сменщик Веденеев?
— Так точно, краснофлотец Веденеев.
— Это ваш товарищ?
— Дружок, товарищ политрук, — улыбнулся я.
— Дружок, — интересная манера у политрука часто повторять слова собеседника. — А теперь посмотрите в вахтенный журнал и скажите, все ли записано в нем так, как было?
Я перелистал журнал и проверил свои записи во время дежурства двадцать первого февраля. Ничего в них нового не было. Все было так, как и тогда, когда разбирали причины моего проступка.
— Никаких исправлений нет, — ответил я, возвращая журнал.
— А в котором часу была передана радиограмма, которую вы не приняли?
— Из штаба полка сообщили, что как будто ее передали нам в двадцать три часа сорок пять минут.
— То есть за пятнадцать минут до окончания вашей смены?
— Да, за четверть часа до окончания вахты.
— За четверть часа, — снова повторил политрук и достал из ящика второй журнал.
Некоторое время он смотрел в открытое окно, как будто вспоминая что-то, а потом открыл журнал в том месте, которое было заложено закладкой, и протянул его мне.
— Это вахтенный журнал полковой радиостанции. Прочитайте радиограмму, переданную на вашем дежурстве в штаб дивизиона.
Я прочитал время, указанное в журнале против текста этой радиограммы. Сомнений не оставалось никаких. В двадцать три часа сорок пять минут меня начала вызывать полковая радиостанция. Пять раз вызывала, а я не отвечал. Рация нашего дивизиона ответила на вызов лишь в три минуты первого, когда на вахту заступил Веденеев.
— Ну что вы скажете на это? — спросил политрук, наблюдавший за моей реакцией.
— Ума не приложу, — ответил я. — Факты говорят, что меня вызывали, а я не отвечал.
— И какой же следует из этого вывод?
— Вывод один — краснофлотец Нагорный спал, за что и наказан пятью сутками гауптвахты.
— Не только, — возразил политрук. — Не только пятью сутками гауптвахты, но и лишением командирского звания, которое вам собирались присвоить. Вот такой же вывод сделали и все остальные, кто изучал причины вашего проступка. Ну а сами вы как можете объяснить это загадочное происшествие?
— Может, неисправность полкового радиопередатчика, — несмело предположил я.
— Исключается, так как эта радиограмма адресовалась всем радиостанциям дивизионов и приняли ее все, за исключением вашей рации.
— А может такое быть, товарищ политрук, что человек все-таки спал, а ему кажется, что нет.
— Это уже из области медицины. Я же — исследователь фактов и причин, которые вызвали их, — политрук немного помолчал, а потом добавил: — Пусть вас не смущает то, что вам непонятно. В этом деле не смогли разобраться не только вы, но к сожалению, и лица рангом посолиднее. Прочитайте в вахтенном журнале полковой радиостанции текст радиограммы, переданной за десять минут до вашего дежурства.
Я вновь открыл журнал на странице с заложенной закладкой. Двадцать первого февраля в семнадцать часов пятьдесят минут полковая радиостанция передала нам радиограмму с предложением перейти на новую рабочую волну. Не в двадцать четыре часа, как предписывалось боевым расписанием, а именно в восемнадцать ноль-ноль. Рация нашего дивизиона подтвердила факт приема этой радиограммы. Только после того, как я второй раз прочитал эти записи, до меня дошел смысл происшедшего.
— А теперь, — сказал политрук, — возьмите свой вахтенный журнал и поищите запись о приеме этой радиограммы.
Я уже начинал понимать причину этого странного, как мне казалось вначале, происшествия, но все еще надеялся на то, что все это не более чем недоразумение. Нет, в вахтенном журнале никаких записей о приеме радиограммы с предложением перейти на новую рабочую волну не было.
— Это значит...
— Это значит, — перебил меня политрук, — что Демидченко, по-видимому, куда-то очень торопился и впопыхах забыл зарегистрировать в журнале принятую радиограмму. А потом уже не хватило духу в этом признаться. Если бы Демидченко не подтвердил факт приема радиограммы, посланной полковой радиостанцией, все это легко и быстро выяснилось бы. Началось бы повторение, дублирование до тех пор, пока не получили бы ответа. Но Демидченко подтвердил, и все успокоились. Вы же, не зная о принятой радиограмме, продолжали вести прием на старой волне и, конечно, не могли слышать позывных полковой радиостанции.
— Но неужели же старшина второй статьи знал обо всем этом и потом никому но сказал ни слова?
— Сейчас совершенно ясно, что знал и молчал. Молчит и до сих пор. Становится понятным и то, почему он так зло обрушился на вас после истории со Звягинцевым.
Вот оно, значит, в чем дело. Теперь я понял, что Демидченко просто трус. И, как всякий трус, готов на любую подлость. Трусость и подлость — неразлучные сестры. Одна следует за другой, как тень. Все начинается с малого. Боязнь осуждения и наказания за ошибку заставляет труса изворачиваться, лгать. Вовремя неисправленная ошибка может повлечь за собою серьезные последствия, а значит, и угрозу строгого наказания. И если случай дает трусу право выбора — взять вину на себя или переложить ее на плечи другого человека, он, не колеблясь, совершает подлость. Так в сущности произошло и в истории с радиограммой. Демидченко впопыхах забыл зарегистрировать ее в вахтенном журнале. А потом у него не хватило духу признаться в этом. Обстоятельства сложились так, что Демидченко ни в чем даже не заподозрили. Вина же за все случившееся легла только на меня. И, казалось бы, делу конец. Но Демидченко чувствовал, что когда-нибудь все это может всплыть на поверхность. И для него будет лучше, если нас разъединят. Тогда ни ему до меня, ни мне до него не будет никакого дела. Поэтому-то он в самом начале так настойчиво добивался, чтобы в его отделение меня не зачисляли. А когда это ему не удалось, начал провоцировать меня на необдуманные действия. Цель одна: опорочить, а потом отправить меня в штаб дивизиона. На пост присылают замену, и Демидченко, таким образом, раз и навсегда расходится со мною.
— А ведь когда-то даже в товарищи напрашивался.
— Я надеюсь, вы понимаете, что было бы преждевременно говорить об этом своим товарищам, а тем более самому Демидченко. Всякие разговоры о поступке командира поста неизбежно сказались бы на моральном состоянии личного состава отделения, отразились бы на боевой подготовке воинов. Поэтому о нашей беседе вы не говорите никому. Мы сами примем соответствующие меры. Кстати, вы ознакомились с приказом командира дивизиона о вынесении вам благодарности за ценную инициативу по укреплению позиции вашего поста?
— Нет.
— Я так и знал. Демидченко скрыл от вас этот приказ.
— Товарищ политрук, если и выносить кому-либо благодарность за это дело, то в первую очередь краснофлотцам Тапчуку и Сугако.
— Мы не останемся в долгу и перед этими воинами. Но первая инициатива принадлежит вам? Или комсорг Лученок, направивший рапорт с ходатайством о вынесении вам благодарности, неправильно информировал командование?
— Да нет, вроде бы правильно. Только решали мы вместе.
— Ну а теперь, я думаю, это не будет для вас большим секретом, мы обратимся к командованию с ходатайством о присвоении вам воинского звания, которым вас обошли в свое время из-за этой неприглядной истории.
— Спасибо, товарищ политрук. Я постараюсь оправдать ваше доверие.
— Благодарить меня пока еще рано. Постарайтесь не давать Демидченко поводов для придирок.
— Да...
— Знаю, знаю, что стали благоразумнее. И все-таки. Желаю вам успехов.
В радиорубке штаба дивизиона, куда я зашел перед своим отъездом в Балаклаву, все было по-прежнему. Олег Веденеев, по-видимому, готовился заступать на вахту. Увидев меня, он посмотрел на часы и сказал дежурившему радисту:
— Хотел сменить тебя раньше, да, видишь, приехал мой дружок. Пошли, Коля, — и он повел меня в свою казарму.
По дороге Олег рассказал мне, что к ним приходил в радиорубку политрук и взял с собою вахтенный журнал. «Командир взвода волнуется, да и мы тоже. Вроде ничего такого не было. Ну а там, поди знай, что могло случиться. Поговаривают, неспокойно у нас на границах. Того и гляди, может случиться какая-нибудь заваруха. Недавно запеленговали чужую рацию. И где бы, ты думал, она оказалась? Почти рядом с вашим постом. Такие, брат, дела».
Я вспомнил напуганного Лученка, когда он услышал немецкую речь в эфире. Черт его знает, может, это она и была. А мы решили, что рация работала в нейтральных водах.
— Может, все это нервы? — спросил Олег. Я понял, что этот вопрос был задан не столько для меня, сколько для того, чтобы успокоить самого себя. — К лешему их. Пошли к ребятам.
Около казармы под акациями собралась толпа краснофлотцев из персонала обслуживания штаба дивизиона. Кто-то читал письмо, и это чтение буквально через каждые полминуты прерывалось взрывами общего смеха.
— «По вашему почерку нетрудно определить, — читал Ваня Брендев, балагур и весельчак, — что вы человек общительный и любите поговорить не только в свободное время, но и в строю, за что боцман поощряет вас одним, а то и двумя нарядами вне очереди».
— Да, паря, — прервал Брендева Олег, — быстрее поднимай якорь и отдавай концы. С этой девчонкой к теще на блины не попадешь.
— Так это ж еще не все. Слушай, что она дальше пишет: «Кроме того, я очень ревнива. И если бы узнала, что вы ушли в далекое плавание и в каком-нибудь Сан-Пабло пытались ухаживать за молодой креолкой, я бы так разошлась, что меня не успокоил бы ни ваш грозный боцман, ни даже сам командующий Черноморским флотом».
— Ну дает!
— Откуда ты ее знаешь? — спросил Олег.
— Да не знаю я ее совсем. Маманя прислала мне посылку. Ну и завернула там кое-что в газету. А в ней фото физкультурниц-студенток из Минска. Вот я и решил познакомиться. Ну и... познакомился.
— Ну, Коля, мне пора на вахту. Пошли, проведу немного, если хочешь.
Мы ушли, а в толпе ребят еще долго слышался смех, прерываемый репликами острословов.
Возвращался я в Балаклаву на попутной грузовой автомашине. Сегодня по-настоящему жарко. От земли поднимался вверх нагретый воздух, и от этого горизонт переливался, теряя свои строгие очертания. Мне казалось, что в кузове автомобиля не будет так жарко. Но потоки воздуха были так накалены каменистой почвой, что ощущение жары оставалось даже при сравнительно большой скорости машины. Казалось, что там, на турецком берегу, были установлены исполинские вагранки, из которых непрерывно подавался сюда нагретый воздух. Сейчас бы махнуть с Маринкой куда-нибудь на прибережный островок. Ну хотя бы на ту скалу, которую она показывала мне в ту лунную ночь. Она рассказывала бы мне о Менатре, а я бы смотрел в ее глаза и слушал. Рядом ласково плещется море и слышится голос Маринки. Солнце, бескрайнее море и Маринка. Как же я люблю ее. Я почти физически ощущаю тоску от сознания того, что произошло что-то непоправимое. Если бы она была совсем равнодушной ко мне, то, наверное, не сказала бы тогда: «Я еще не знаю». Да и не согласилась бы бежать со мною от своих подруг. Сейчас остановлюсь возле дома Хрусталевых, зайду к ним и скажу: «Маринка, я больше так не могу. Если мне не на что надеяться, то так и скажи». Что я мелю? Да разве ж она не сказала? Да еще как: «Я презираю предателей». Метрах в пятидесяти от дома Хрусталевых я забарабанил руками по крыше водительской кабины, давая знать шоферу, что мой маршрут подошел к концу. Зайти к Маринке? Нет, нельзя. Этим я унизил бы не только себя, но и ее.
Вернувшись на пост, я доложил командиру о своем прибытии. Видя мое подавленное настроение, Демидченко спросил:
— Что-нибудь неприятное?
— Чего-чего, а этого добра у меня всегда навалом.
— А что же все-таки случилось?
Как ему ответить на этот вопрос. Рассказывать о своей размолвке с Маринкой я не могу. Не могу сообщить ему и о содержании разговора с политруком. А отвечать как-то надо.
— Опять расспрашивали о случае со Звягинцевым. Может, он написал куда?
— Почему ты говоришь «расспрашивали»? Разве, кроме политрука еще кто-нибудь был?
— Был еще какой-то военный.
— А кто он?
— Откуда же мне знать, кто он? Задавал вопросы не я, а он. Может, это был военный прокурор или его помощник.
Как ни старался Демидченко скрыть свою реакцию на мое «сообщение», это ему не удалось, выдали знакомые мне сузившиеся зрачки и побелевшие пятна на шее и щеках.
— Да, дело твое дрянь. И чего ты так взбеленился тогда, никак не пойму.
«Понимаешь ты, Вася, все понимаешь. Теперь это я уже точно знаю. Раньше только никак не мог догадаться, в чем дело. И, пожалуй, не догадался бы ни я, ни кто другой. Спасибо политруку. Раскусил-таки тебя, довел до точки. Вот кто настоящий коммунист. За таким пойдешь в огонь и в воду», — думал я.
— А может, тебе попроситься в другое подразделение? Чего молчишь?
— В какое подразделение? — не сразу дошел до меня смысл сказанного.
— В любое подразделение. Как думаешь? Могу помочь.
Это, пожалуй, единственное, в чем он действительно готов мне помочь. Правда, я, как и он, знаем, что это за помощь. Различие состоит лишь в том, что он все еще надеется ввести меня в заблуждение.
— Какая разница, где служить?
— А может, ты темнишь? — вдруг усомнился Демидченко.
— Что темнишь?
— Да нет. Это я в шутку. Ну давай, служи, брат, и дальше.
Только теперь я вспомнил, что еще не обедал.
— Што будзеш есци? — спросил меня Лученок, дежуривший сегодня по кухне.
— Можно подумать, что у тебя ресторан и ты можешь предложить блюда на выбор.
— Рэстаран не рэстаран, але штосьци ёсць.
— Я так проголодался, что съем все, что дашь.
— Тады пайшли. Ты чаго таки смутны?
— Михась, тебе я могу рассказать. Кстати, я рассчитываю и на твою помощь.
— Гавары. Змагу, абавязкова дапамажу.
Я рассказал Лученку о своей размолвке с Маринкой.
— Што, так и не сказала, у чым справа?
— Как же, жди, так тебе она и скажет. Знаешь, какая она гордая?
— Ништо, Микола. Не гаруй. Заутра усё высветлицца. Запытаю Лиду. А яна, я упэвнен, ведае што да чаго.
После обеда я решил навестить орлят. Собственно, не навестить, а только полюбоваться ими из своего укрытия. А полюбоваться есть чем. Орлята выросли и мало чем отличаются от своих родителей. У взрослых птиц голова буровато-охристая, словно покрытая загаром, клюв с налетом желтизны, будто пронизан лучами солнца. У молодых пернатых и голова и клюв черноватые. К этим царственно-величественным птицам совсем не подходит обидное прозвище «желторотые». Зорко смотрят по сторонам молодые орлы. Они теперь часто забираются на край своего огромного гнезда и по очереди тренируют мускулатуру широких крыльев. Тот, который ближе ко мне, взмахнул ими один, второй раз. Кажется, еще взмах, и орленок ринется в свою родную стихию. Но нет, еще не решается взлетать. Он, как авиатехник, проверяющий состояние машины. Заведет двигатель и потом постепенно переводит его на самые высокие режимы работы. Проверит, убедится, что все в порядке, и выключит. Сейчас орлята, кажется, решились на самые сложные элементы физической зарядки. Звуки от взмахов мощными крыльями отражаются от скалы и эхом уходят к взморью. Оттуда родители приносят им пищу. Маринка рассказывала, что орланы-белохвосты очень любят охотиться за рыбой. Парят над морем, высматривают добычу. Стоит какой-нибудь рыбине приблизиться к поверхности воды, как орел камнем устремляется вниз, подчерпывает жертву лапами и уносит ее в горы. Охотится орел и за водоплавающей птицей, сурками, зайцами. Со стороны гор показался старый орел. Он подлетел к гнезду, уселся на толстых сучьях и, удерживая крючковатыми когтями какого-то грызуна, скорее всего сурка, начал разрывать его тельце. Вспоров острым клювом брюшко зверька, хищник оторвал часть добычи и неторопливо протянул ее одному из птенцов. Следующая порция досталась другому орленку. Для подрастающих орлят этого, конечно, мало. Чтобы утолить их голод, к гнезду спешит со стороны моря орлица. Растут орлята. По всему видно, что они скоро, очень скоро станут на крыло, и тогда высоко в небе появится еще одна пара красивых птиц.
15
Расчистка траншеи шла теперь полным ходом.
В процессе освоения взрывного метода работы выяснилось, что лом и кирка помогают не только делать углубления для взрывчатки, но и сохранять форму слепков траншеи, готовых блоков для любых сооружений. У нас произошло даже разделение труда. В группе сигнальщиков Сугако и Музыченко поочередно выдалбливали поперечные и продольные краевые щели в породе — именно это помогало сохранять форму блоков. Танчук готовил взрывчатку, закладывал ее в углубление и производил взрыв. В группе радистов командир назначил было взрывником Звягинцева. Но из этого вышел один конфуз. Лев Яковлевич, как только узнал об этом распоряжении, достал из своей сумки удостоверение, положил его на стол в радиорубке и, не обращаясь ни к кому конкретно, спросил:
— Это что? Если вы думаете, что просто бумажка, то ошибаетесь. Чтоб получить это удостоверение, надо пройти специальные курсы. А ну, если что случится? Вопрос первый: «Кто взрывал?» — «Звягинцев». Вопрос второй: «Где удостоверение?» — «Нету». Вопрос третий: «Кто разрешил?» — «Командир». Вопросов больше нет. Все ясно. Ты этого хочешь, командир, да? Но тогда не говори, что Танчук оказался гадом и не предупредил тебя.
У Льва Яковлевича своеобразная манера доказывать свою правоту. Короткие вопросы и еще более лаконичные ответы на них. Вопросы следуют один за другим, и после того, как абсурдность позиции собеседника становится очевидной, следует заключительная фраза: вопросов больше нет и так, мол, все ясно. Демидченко не любит Танчука не столько за то, что тот позволяет себе возражать командиру, сколько за то, что Лев Яковлевич в своих вопросах и ответах обнажает ограниченность его. Если бы речь шла только о правоте, еще куда ни шло. Показать, что ты благосклонно относишься к одному человеку и неприязненно к другому, в этом иногда кроется весь смысл принимаемого решения. Но если тебе говорят, что дело не в пристрастии, а что ты просто дурак, тут шутки в сторону.
— Ишь ты, умник какой выискался. Сам все хочешь. Боишься, а вдруг Семен переплюнет?
— Чудак человек, — незлобиво ответил Лев Яковлевич, — По мне, командуй, как хочешь. Но я, между прочим, о тебе же и беспокоюсь.
— Ладно, Семен, не унывай, — сказал Демидченко, словно разговор вел не с Танчуком, а со Звягинцевым.
Лев Яковлевич сохранил за собою единоличное право взрывника. Он легко справлялся с работой как на северном, так и на южном участках траншеи. Пройдена уже половина пути. Сегодня на северном конце траншеи подготовку для взрывов вел я. Собственно, теперь уже не на северном, а северо-восточном, так как с этого конца уже было очищено метров пятнадцать траншеи. Примерно столько же прошли и сигнальщики.
Я не помню ни одного случая, чтобы во время подготовки к взрыву Лев Яковлевич не сделал бы мне какого-либо замечания. Вот и сейчас он подошел и наставительным тоном сказал:
— Ты, Нагорный, обижайся не обижайся, но я скажу тебе так: может, в другом каком деле ты и разбираешься, но в подрывном нет. Ну кто же так делает? Углубление для взрывчатки должно быть строго посредине. Иначе что выходит?
Танчук, отстранив меня, начал тщательно измерять расстояние от краев углубления до стенок траншеи.
— Сколько?
— Ну пятнадцать сантиметров.
— А здесь?
— Семнадцать.
— Так что ж ты хочешь?
— Как будто разница в два сантиметра — большое дело?
— В подрывном деле — большое, — ответил Танчук.
Я, хотя и не специалист по взрывному делу, но думаю, что два сантиметра в нашем деле не играют большой роли и что Лев Яковлевич, если и говорит об этом, то лишь для того, чтобы подчеркнуть исключительность своего положения. С другой стороны, Танчук прав в том отношении, что подрывное дело требует большой четкости в работе. А четкость и точность — неразлучные сестры. Допускается в чем-либо неточность, утрачивается вместе с нею и четкость. А там, гляди, появляются и ошибки. А они, ох, как дорого обходятся саперу. Недаром говорят, что сапер ошибается только раз в жизни. Танчук, казалось, прочитал мои мысли:
— Вот теперь ты, я вижу, понял. А теперь жми в укрытие.
Прогрохотал взрыв. Раскатистое эхо долго плутало в горах, пока не улеглось вместе с поднятым облаком пыли. Но еще до того из радиорубки выскочил, как ошпаренный, Звягинцев и заорал благим матом:
— Ты что, мать твою...
Что там могло произойти? Ведь взрывы были и раньше, но тогда Семен не реагировал на них. Я побежал в радиорубку. В ней стояло густое облако пыли, за которым рассмотреть что-либо было невозможно. Вернулся Звягинцев, но уже с Демидченко.
— Вот, командир, что делается.
— Что случилось? — спросил Демидченко.
— Сижу за столом, при исполнении служебных обязанностей, значит. Вдруг как бабахнет, — Звягинцев показал на восточную стену радиорубки, — и камни.
Когда пыль немного улеглась, мы увидели в стене зияющую дыру. Подошли ближе. Не верилось в то, что обнаружилось. В стене зияла не просто дыра, а настоящая амбразура. Толщина стены в этом месте составляла не менее полутора метра.
— Вот это да! — восхищенно заметил Танчук.
— Видел, командир? Дырке обрадовался. А то, что человека чуть не угробил, его не интересует.
— Ну кто мог знать, что тут такое инженерное устройство? — оправдывался Танчук.
То, что все обошлось благополучно, хорошо. Но то, что мы не произвели тщательных измерений и не определили, на каком расстоянии от стен радиорубки проходит траншея, это, конечно, серьезный просчет. Я высказал на этот счет свои соображения и предложил провести геодезическое исследование.
— Чего-чего? — спросил Звягинцев.
— Ну план, значит, составить.
— Командир, скажи ты им.
— Ты хоть понимаешь, что это за дырка? — спросил Семена Танчук. — Да поставь сюда пулемет, и гора станет неприступной.
— Это ж для кого станет неприступной? — спросил Демидченко.
— Как для кого? Для противника, конечно.
— Для какого противника?
— Ну хоть бы для немца, скажем.
У Демидченко сузились зрачки и даже чуть побелели пятна на шее. Обычно это признаки гнева или ненависти. Сейчас же они выражали совсем другое. Мне вспомнилось, как однажды, еще до военной службы, я гладил кошку. Прижмурив глаза, она мурлыкала, и, казалось, в ту минуту ничто не могло потревожить ее. Шурша крыльями, прилетела стайка воробьев и метрах в десяти от меня уселась на заборе. Кошка приоткрыла глаза. В ее позе ничего не изменилось. Но зрачки начали суживаться, и я почувствовал, как в мое бедро, на котором сидела кошка, иголочками начали вонзаться когти животного. Это были признаки ощущения близости жертвы.
— Для немца, значит, — повторил Демидченко. — А вы что же, краснофлотец Танчук, считаете, что на дружбу с Германией можно плевать?
— Ты, командир, брось эти штучки. Меня нечего брать на мушку.
— Мы, значит, заботимся об укреплении дружественных связей с Германией, а Танчук наоборот. Так?
— Нет, не так.
— А как же тогда понимать ваши слова?
— Сказал бы я тебе, командир, да людей много.
— Нечем, значит, крыть?
— Почему нечем?
— Да потому, что, во-первых, у нас с Германией договор, а во-вторых, мы никого не собираемся пускать на свою территорию.
— Товарищ старшина второй статьи, высокая боевая готовность подразделения — это не значит, что кто-то собирается пускать врага на свою территорию.
— А вот Танчук собирается.
— Факт, — поддержал командира Звягинцев. — Мало того, что чуть не угробил своего товарища, да еще и сеет среди населения панику.
— Ты что мелешь? Какую панику?
— Думаешь никто не слышит твоих взрывов? — не унимался Семен. — Думаешь, никто не видит, что делается на нашей горе?
— Краснофлотец Звягинцев прав. Взрывы прекратить, — приказал Демидченко. — А если у кого много жеребячьей силы, тот может упражняться ломом и киркой. Против этого возражений нет. А насчет такого мы еще поговорим где надо.
Я иногда думаю, откуда у человека появляется такая накипь? Когда, на каком этапе жизни происходит у него надлом? Неужели ущербность в характере Демидченко появилась в тот момент, когда он смалодушничал, не признался в том, что забыл зарегистрировать принятую им радиограмму? Вряд ли. К тому времени его духовный мир уже зарос чертополохом. Вспомнилось, как в школе радиотелеграфистов один курсант спросил: «Вася, ну что ты все время копаешься, как жук в навозе?» Демидченко ничего тогда не ответил, но через некоторое время выяснилось, что этого он не забыл. Узнал о предстоящей учебной тревоге и перед отбоем насыпал в ботинки обидчика мелких острых камней. Курсант опоздал в строй и получил за это замечание. Позднее он все же узнал, что эта штука — дело рук Демидченко: «А ты, оказывается, пакостный человек. Повадки у тебя, Вася, как у хорька». Тогда я не придал этому случаю значения, а вот теперь почему-то вспомнил о нем. Дурные поступки, что падающие камни, увлекающие за собою мелкие куски горной породы. Осудительный поступок оправдать нельзя. Всякая попытка добиться этого приводит к осыпанию в характере человека, а иногда и к настоящему обвалу.
Чтобы не вызывать дальнейшего озлобления у Демидченко и не давать повода для новых придирок, я взял лом и начал очищать стены амбразуры от остатков наносной горной породы. Нижняя часть отверстия в стене представляла собою строго горизонтальную поверхность, верхняя же была скошена вниз. На нижнюю можно теперь класть вещи, как на подоконник.
— Приведите в порядок и радиорубку, — приказал мне командир.
Я молча собрал и вынес за бруствер камни, подмел пол и протер ветошью стол и радиостанцию. За это время Танчук обмерил всю нашу позицию, включая рубку и траншею.
— Где амбразура, там толщина стены полтора метра. В других местах — пять, а то и десять метров. Неочищенной траншеи осталось совсем немного. За недельку, смотри, и управились бы, — сообщил Лев Яковлевич. — Может, очистим, командир, а?
— Хватит и того, что сделали. Теперь все сороки знают о нас. Маскировка называется.
Танчук окинул молчаливым взглядом неочищенную часть траншеи и, махнув рукой, пошел в сторону кухни. Бесполезно, мол, говорить теперь об этом. Сколько же дней понадобиться, чтобы закончить работу вручную? С помощью взрывов — около недели, а так не менее месяца.
16
В первых числах июня был отозван в штаб дивизиона Демидченко, а дня через три вызвали и меня. Главный старшина Литвин, которому я доложил о своем прибытии, посмотрел на меня так, словно видел впервые, и сказал:
— Вы хотя знаете, зачем вас вызвали в штаб?
— Меня, товарищ главный старшина, если кто из начальства и вызывает, то лишь по одному делу, очередную взбучку давать.
— Невезучий, значит?
— Точно.
— Да нет, я бы этого не сказал. Веденеев! — обратился командир взвода к Олегу. — Постройте взвод.
— Есть построить взвод! — подмигнул мне Олег. Это значит, что он что-то знает, но раскрывать секрет пока не собирается.
— Станьте в строй и вы, товарищ Нагорный, — приказал старшина, когда взвод был построен.
Олег, стоявший рядом со мною, незаметно толкнул меня в бок и шепнул:
— Поздравляю!
— Смирно! — скомандовал главный старшина. — Мне поручено объявить приказ командира полка. Дисциплинарное взыскание, наложенное на краснофлотца Нагорного за якобы имевший место сон на посту, снять как необоснованное. За отлично выдержанные экзамены по боевой и политической подготовке, а также ценную инициативу, проявленную при освоении местности, которую занимает пост ВНОС номер один, краснофлотцу Нагорному присвоить воинское звание старшины второй статьи. Краснофлотец Нагорный, вам вручается удостоверение младшего командира.
Если честно признаться, я догадывался, что что-то готовится. Ну, может, старшина собирался объявить благодарность. Но чтобы сразу и снятие взыскания, и присвоение звания младшего командира— этого, признаться, я не ожидал. Приятно, черт возьми! Четким шагом я вышел из строя и, взяв руку «под козырек», произнес:
— Служу Советскому Союзу!
Главный старшина поздравил меня и вручил удостоверение за подписью командира полка. Строй был распущен, и тут все наперебой начали жать мне руки.
— Давай теперь в каптерку, — предложил мне Веденеев. — Возьми по удостоверению причитающиеся тебе знаки различия и смени бескозырку на мичманку, а потом сюда.
— Слушай, Олег, мне как-то неудобно. Хотя бы заранее предупредил. Я же должен ребят угостить. Это ж такое событие!
— А еще другом называешься. Да какой же я был бы. тебе друг, если бы не подумал об этом? Жми сначала в каптерку.
В складе имущества мне заменили бескозырку мичманкой и выдали шесть штук нашивок с двумя золотистыми полосками для блузы, бушлата и шинели, по одной на каждый рукав. Когда я вернулся в радиорубку, там царила та оживленная атмосфера, которая бывает только перед застольной встречей. Олег, оказывается, все уже приготовил заранее.
— Вот теперь порядок. Товарищ главный старшина, — обратился к Литвину Веденеев, — вам самое почетное место.
— Так именинник же сегодня не я, а Нагорный.
— Нагорного мы посадим сбоку от вас, вроде пристяжной.
Сегодня обязательно надо зайти к политруку и поблагодарить его. Ведь все это, если строго разобраться, только благодаря ему.
— Товарищ главный старшина, — мелькнула у меня мысль. — А что если мы пригласим и товарища политрука? Как вы думаете, удобно это?
— Правильно. Для тебя, наверное, не секрет, что всем этим ты обязан именно ему. Так что давай аллюром и приглашай его к нам. Помни, не от себя лично, он этого не любит, а от всех нас.
— Может, бутылку вина прихватить?
— Все дело испортишь. Только чай.
Есюков был в своем кабинете, но не один.
— И давно они там? — спросил я дневального.
— Да уже с час.
Я принялся терпеливо ждать. Минут через пять открылась дверь, и в проеме показался политрук.
— Нагорный? Ну заходи.
— Здравствуйте, товарищ политрук.
— Здоров, коли не шутишь, — и потом к уходившим командирам. — Действуйте, как договорились.
— Товарищ политрук, я знаю, что вы здорово помогли мне. Спасибо вам. Наши ребята просят, чтобы вы прочитали им лекцию о международном положении. Все уже в сборе.
— И давно ты научился врать?
— Так ведь из самых же хороших побуждений, товарищ политрук. Уж очень просят ребята.
— Ладно, пошли, посижу с вами немного.
В радиорубке все сидели за столом и ждали нашего прихода.
— Смирно!
— Вольно-вольно. По какому поводу собрались военные интеллигенты?
— Товарищ политрук, радиовзвод собрался...
— Вижу, что собрался и, по всем признакам, не на чай, а, как докладывал Нагорный, на лекцию.
— Маленько приврал он, товарищ политрук, — ответил командир взвода.
— Вот тебе и раз. А я уже и тему прикинул: искусство побеждать врага.
— Товарищ политрук, разрешите вопрос? — обратился я к нему.
— Давай.
— Когда вам присвоили звание политрука?
— Пожалуй, с полгода тому назад.
— А как отметили это событие?
— Меня поздравили, а я пригласил своих товарищей к себе на вечер.
— Так и меня ж поздравили, а я, товарищ политрук, во всем беру с вас пример.
Все засмеялись.
— Ну раз такое дело, посижу немного и я с вами. Что же собирался сказать Нагорный? — спросил политрук, когда все сели за стол.
— Скажите вы, товарищ политрук.
— Ну что ж, упрашивать меня не надо, я не невеста на выданье. А скажу я вам, дорогие товарищи, вот что. Разные судьбы бывают не только у отдельных людей, но и у целых поколений. Не исключено, что именно нам, нашему поколению выпадет доля решать на поле боя судьбы не только нашей Родины, но и других народов. Вот когда может потребоваться предельное напряжение всех наших моральных и физических сил. Не каждому будет дано выдержать это испытание. Кое-кому из нас, возможно, придется отдать свои жизни за правое дело. Но как бы ни сложилась ваша личная судьба, одно я вам желаю: всегда и везде сохранять мужество и достоинство советского человека, воинский долг, беззаветную преданность нашей отчизне.
Я обратил внимание, что политрук, высказывая свои мысли, не упомянул моего имени, ни разу не обратился ко мне с напутственным словом. Не знаю, как реагировал бы на это другой человек, но я нисколько не обиделся. Более того, считаю, что так и надо. Мне кажется, что в речах, обращенных к одному человеку, часто бывает примесь лицемерия. Они являются своеобразной платой за званый обед или ужин. Политрук же умно и тонко понимал это и, обращаясь ко всем, имел в виду прежде всего меня. Я настолько проникся к нему уважением и доверием, что, поинтересуйся он моими личными делами, не колеблясь рассказал бы ему о самом сокровенном. Политрук, словно прочитав мои мысли, негромко сказал:
— Доброго тебе начала.
— И от меня, — добавил Веденеев. — Вы знаете, товарищ политрук, мы с Нагорным вроде как бы побратимы: на гарнизонной гауптвахте вместе отсчитывали срок своей службы.
— И вам досталось на орехи?
— За солидарность, товарищ политрук. Хотелось выручить дружка, да не получилось. Хорошо, что хоть начальник связи душевным человеком оказался: «Обоих, — говорит, — на гауптвахту».
Политрук засмеялся:
— Душевный человек, говоришь. Веденеева, значит, чтоб не скучно было Нагорному?
— Точно, товарищ политрук.
Немного побыл у нас Павел Петрович (так называл его, я слышал, комиссар дивизиона). Прощаясь с ребятами, политрук обратился ко мне с просьбой:
— Товарищ старшина второй статьи, проведите меня немного. — Во дворе штаба дивизиона он остановился и, внимательно посмотрев на меня, спросил: — Что у тебя за история с Хрусталевой?
Признаться, я готов был к любому вопросу, но только не к этому. Откуда он мог узнать о Марине Хрусталевой? Наверное, меня бросило в жар, потому что политрук, глядя на меня, мягко улыбнулся.
— Что, любишь?
— Очень.
— А ты хорошо ее знаешь?
— Знаю не только ее, но и семью. Это замечательные люди.
— А вот Демидченко другого мнения.
— Что вы, товарищ политрук. Отец Маринки летчик, воевал в Испании. Мать учительница, депутат горсовета. Сама Маринка комсорг группы, мастер спорта по стрельбе. Словом, замечательная девушка.
— Почему же Демидченко говорит, что она странная какая-то.
— Может быть, это еще вначале. Тогда поведение Маринки показалось немного странным и мне. Ну и начал знакомиться с ней самой, ее товарищами, семьей. Вот и дознакомился. Влюбился так, что не знаю теперь, что и делать. Об этом только вам, товарищ политрук.
— Спасибо, что доверяешь. Ну а в чем все-таки странность ее поведения?
— Она, конечно, что-то скрывает. Я несколько раз пытался выяснить, но она так ничего и не сказала. Грозилась даже, что если я еще раз спрошу ее об этом, она не захочет больше видеть меня.
— Даже так ставился вопрос?
— Да.
— А не дурачит ли она тебя?
— Что скрывает от меня что-то, это ясно без слов. Кстати, не только от меня, но и от матери. Но чтобы дурачить, нет, исключается. Скорее все это — какие-нибудь девичьи причуды.
— С причудами шут с ними. А вот если что-нибудь серьезное, тогда нам этого никто не простит.
— Товарищ политрук, ну пусть меня, а мать? Сами знаете, материнское сердце обмануть нельзя.
— Сам же говоришь, что скрывает и от матери.
— Так это ж если пустяк.
— Ну ладно, поживем увидим. Так, говоришь, не знаешь, что делать? Кончишь службу, и, если и она любит тебя, будете оба счастливы.
— В том-то все и дело, что ее не поймешь. Гордая она очень.
— Гордая — это хорошо. Лишь бы не капризная.
— Нет, девушка она самостоятельная, но с характером. И все бы ничего, да вот в последний раз, когда я зашел к ней домой, она почти не стала со мною разговаривать. До этого, казалось, радовалась моему приходу, а тут на тебе, сказала такое, что душа заболела. И хотя бы было за что, а то неизвестно. Будто кошка дорогу перебежала.
— Что, без всякого повода?
— Ни за что ни про что.
— Может, обидел чем?
— Если бы так. Я же говорю, что обходился с ней, как с самым дорогим человеком.
Несколько метров шли молча, а потом политрук спросил:
— А траншею так и не закончили?
— Нет, но теперь закончим. За недельку все будет готово, и заметку в «Советский черноморец» напишем.
Политрук остановился, долго смотрел мне в глаза, а потом задал мне еще один вопрос:
— Товарищ Нагорный, думал ли ты когда-нибудь о вступлении в ряды Коммунистической партии?
— Честно сказать, думал, но еще не сделал ничего такого, что было бы достойно звания коммуниста.
— А Сугако как? — без связи с предыдущим спросил политрук.
— Он хороший, трудолюбивый парень, но голова у него, как вы правильно тогда сказали, захламлена религиозным мусором.
— Вот тебе поручение: постарайся очистить его сознание от религиозного дурмана и, если удастся, подготовить к вступлению в ряды комсомола.
— Да я уже кое-что сделал.
— Что именно?
— Кажется, мне удалось завоевать его доверие.
— Немало, прямо скажем. Но это все-таки еще не все. Ну желаю тебе успеха.
— Спасибо, товарищ политрук. За все большое спасибо.
Идти по улицам Севастополя в форменной фуражке, но без знаков различия, нельзя. Первая же встреча с военным патрулем могла принести неприятности. Прикрепить нашивки к рукавам блузы — дело нехитрое. У Олега нашлись нитки и игла, и через какие-нибудь пятнадцать минут командирские знаки различия были на том месте, где им полагалось и быть. В тот же день на посту ВНОС номер один появился новоиспеченный старшина второй статьи.
— Нет, чтоб я пропал, если это не Нагорный, наш новый командир, — объявил Лев Яковлевич, ощупывая нашивки на рукавах моей блузы.
О моем новом назначении, оказывается, все уже знали еще до моего возвращения. Об этом было сообщено на пост специальной радиограммой. Полученной новости были рады все, за исключением Звягинцева. Мое появление в расположении поста Семен встретил, как и следовало ожидать, мрачно.
— Упек все-таки своего дружка.
Что ответить ему на это? Дать в морду? Нельзя. Теперь за такую выходку по головке не погладили бы. Самый верный путь— вести себя сдержанно. «Так что, он будет оскорблять тебя, а в твоем лице и честь командира, а ты будешь молчать или, как ты говоришь, вести себя сдержанно?» — подстрекал меня черт. — «Не молчать, а строго, с достоинством поставить его на место», — говорил здравый смысл.
— Краснофлотец Звягинцев, я предупреждаю вас в присутствии ваших товарищей, что впредь за оскорбление чести и достоинства командира или нарушение воинской дисциплины вы будете строго наказаны.
— Да это мы знаем. Благодарности от вас не получишь, как бы ни старался.
— Вот и хорошо, что знаете. А насчет благодарности, то это зависит от вас самих. Заслужите, получите не только от меня, но даже от высшего командования, как, например, краснофлотцы Танчук и Сугако. Им объявил благодарность сам командир дивизиона.
— Побожись, что не врешь, — не поверил Лев Яковлевич.
— Божиться я не стану, а честное слово дать могу.
— Ты слышал, Лефер, комдив объявил нам благодарность. Это ж что-нибудь да значит?
Лефер молчал, но по тому, как он улыбался и переступал с ноги на ногу, видно было, что сообщением он доволен.
— Ну так что, товарищ комсорг, — обратился я к Лученку. — Закончим траншею?
— Вручную? — спросил Михась.
— Зачем вручную? У нас есть прогрессивный метод краснофлотца Танчука. А для большей безопасности перенесем рацию на это время в другое место, скажем, в столовую.
— Командир говорит дело, — сказал Лев Яковлевич. — За какую-нибудь недельку у нас будет полный ажур, и тогда прохлаждайся в полное свое удовольствие.
Не обошлось, конечно, без вопросов о том, что случилось с Демидченко, почему вызвали его в штаб и где он теперь. Рассказать ребятам обо всем, что известно мне о Демидченко, нельзя было по двум причинам. Во-первых, кое-кто мог неправильно истолковать мое поведение в бытность командования Демидченко, что не способствовало бы укреплению моего авторитета среди подчиненных, и во-вторых, это вряд ли было бы правильно с воспитательной точки зрения. Поэтому, когда спросили меня о Демидченко, я сослался па свою неосведомленность.
— И что, выходит, ты ничего не знаешь о нем? — не поверил Лев Яковлевич.
— Слышал, что его как будто направили в другое место, — и тут никто не мог упрекнуть меня в неправдивости. В действительности так оно и было. — Не будут же держать в отделении двух командиров?
— Видомо, — рассудил Музыченко.
Когда оживление, связанное с переменами в отделении, немного улеглось, я сел на бруствер рядом с Лученком и спросил:
— Ну что, Михась, новостей никаких?
— Ты разумеет што. Яны як змовились. Лида гаворыть, што Маринка сказала ей тольки адно — быццам ты моцна зняважыв яе, зняславив.
— Чем же? Как это может быть?
— Халера яго ведае, у чым тут справа. Магчыма, паклепництва якое.
— Почему тогда не сказать правду?
— Не ведаю, братка.
— Плохо мне, Михась. Хотя бы знал, в чем тут дело, и то, кажется, было бы легче.
— Яшчэ вось што. Лида запрашала нас прыняць удзел у школьнай экскурсии.
— Что это за экскурсия?
— Па гистарычным мясцинам.
— И когда эта экскурсия?
— У ближэйшую нядзелю.
— А Маринка?
— Яна таксама павинна быть. Але дакладна не ведаю.
Зачем я спрашиваю Лученка о Маринке? Ведь от того, пойдет она с экскурсией или нет, ровным счетом ничего уже не изменится. Ну что из того, что я спрошу ее еще раз? Она все равно не ответит.
В тот же день под вечер на пост приехали наш командир взвода Литвин и незнакомый матрос из береговой обороны.
— Принимайте пополнение, краснофлотец Севалин, — представил командир взвода нового парня.
Такого франта я еще не видел. Собственно, на нем ничего особенного не было, такая же, как у всех, бескозырка, фланелевая блуза и все остальное. Но в каком все это виде, трудно передать. Во-первых, бескозырка была без единой морщинки, изнутри чем-то туго натянута, так что поверхность ее представлялась ровной, как наша площадка. Блуза, казалось, сшита по особому заказу из какой-то особой ткани. У всех нас новые форменные воротники или, как мы называем их, гюйсы темно-синего цвета. У этого же парня воротник нежной бледно-голубой окраски. Видно было, что он еще совершенно новый, но как будто выцвел в морских походах под палящими лучами солнца. Я потом узнал, что это делается очень просто: новый воротник погружается в раствор негашенной извести и выдерживается до желаемой степени обесцвечивания. Потом прополаскивается чистой водой, сушится, гладится — и элегантный воротник готов. Поясной ремень у нашего нового товарища тоже, как у всех, но бляха особая, с якорными канатами, которых у нас нет. На внутренних сторонах тщательно отглаженных брюк были аккуратно вточены клинья, делавшие раструбы широкими, почти полностью закрывавшими носки ботинок. Эта форма выглядела особенно красивой еще и потому, что фигура у парня была на редкость стройная.
— Заметны хлопец, — шепнул мне Лученок. — Тольки твар у яго, як у драпежника.
Михась точно подметил. Лицо было вытянутым, нос прямой, сбоку казавшийся прямым продолжением лба. Брови тоже прямые, темные. А вот глаза — светлые, с оттенком голубизны. Может быть, именно это нечастое сочетание светлых глаз и темных бровей и придавало лицу Севалина выражение какой-то дикости.
— Чтобы не было вопросов, кто я, что я и откуда, скажу сразу: я — списанный курсант Севастопольского высшего военно-морского училища, — сказал Севалин, когда уехал командир взвода.
«Ах вот что это за птица», — вспомнил я слова Веденеева.
— С какого же курса тебя списали? — спросил Лев Яковлевич.
— С четвертого.
— О-о! — удивился Музыченко. — За що ж тэбэ, братэ, так ковырнулы? Шутка сказаты — с чэтвэртого. Майжэ готовый командыр.
— Извини, товарищ, я тебя не понимаю.
— Та брэшэ вин, хлопци. Всэ вин добрэ розумие. Нэ хочэ тилькы говорыты.
— Ну чаго ты прычапився да чалавека? Ён жа з дароги, можа, адпачыць хоча, — дипломатично заступился за новичка Лученок.
— Хай видпочыва, мэни що, — согласился Музыченко. Он решил, что время — самый строгий судья поступков людей, не делающий скидки ни на молодость, ни на отсутствие опыта, ни на капризы изменчивой судьбы.
17
Кончилась первая половина июня. В воскресенье я, Музыченко и Севалин (Лученок остался на посту за командира) встретились с экскурсией десятиклассников у подножия нашей горы. Десятый «В» шел немного обособленно от других классов. Но и в нем, если внимательно присмотреться, выделялись небольшие группы, в которых велись горячие споры о том, что ожидает выпускников после окончания школы, какая профессия сейчас самая нужная и, конечно же, следует ли верить слухам о готовящемся нападении фашистской Германии на нашу страну.
Федя Волк из десятого «А» горячо доказывал, что теперь для мальчишек самая главная профессия военная.
— Лично я, — говорил он, — буду поступать в кавалерийское училище.
— Не примут, — возразили Феде.
— Почему?
— Фамилия неподходящая. Кони от тебя будут шарахаться.
Самая большая группа школьников собралась вокруг Бориса Фомича, который руководил экскурсией.
— Ну а как вы считаете, Борис Фомич, нападет на нас Германия? — спрашивали учителя.
Классный руководитель неторопливо нагнулся, поднял с земли небольшой камень, постучал о него потухшей трубкой и сказал:
— Вы же, наверное, все слышали вчерашнее заявление ТАСС. В нем четко сказано, что слухи о намерении Германии порвать пакт и напасть на СССР лишены всякой почвы. А то, что в последнее время германские войска перебрасываются в восточные районы Германии, то это касательства к германо-советским отношениям не имеет.
Я тоже слышал это заявление ТАСС и, признаться, не все понимал из того, что происходит сейчас в мире. Ну для чего, спрашивается, перебрасывать Германии свои войска к восточным границам? Что это, военные маневры? Может быть. А если нет? Успокоил себя мыслью о том, что в Генеральном Штабе люди опытные и уловками фашистов их не проведешь.
По склону горы выше всех шли Маринка, Лида и ее подружка по парте Таня. К ним присоединились и мы. Я и глазом не успел моргнуть, как Севалин представился девушкам:
— Валера.
«Ну и ну! — подумал я. — Этот парень своего не упустит. Идет на штурм любой крепости без какой бы то ни было подготовки. Ждать, чтобы его знакомили с чьей-либо помощью, по мнению Севалина, ненужная условность. Я бы так не смог. Стоило мне подойти к Маринке, как она демонстративно перешла на другую сторону, где был Севалин. Я оказался рядом с Лидой.
— Коля, поздравляем тебя. Ты уже командир, — сказала Михеева.
— А товарищу Нагорному форма краснофлотца идет больше, — бросила реплику Маринка.
— Как Грушницкому серая шинель? — спросил я с оттенком горькой иронии.
Севалину эта мысль, по-видимому, понравилась, и он решил развить ее шире.
— А что? Верно. Возьмите, например, рядовых матросов. Каждый из них может быть незаурядным человеком. А младший командир? Все свои способности он уже проявил, и рассчитывать ему, как правило, больше не на что.
— Как не на что? — мой вопрос прозвучал, наверное, слишком эмоционально, так как Севалин покровительственно улыбнулся и ответил:
— О присутствующих говорить не принято.
«Э, да ты еще и нахал», — подумал я о Севалине.
— В военно-морском училище, — продолжал Валерий, — я относился к рядовым матросам с большим пониманием, чем к младшим командирам.
Севалин говорил так, словно хотел подчеркнуть свое превосходство над нами. В его словах сквозило стремление казаться кичливо высокомерным. Но почему, когда Валерий улыбается, в его глазах появляется выражение чувства растерянности? Его что-то так ошеломило, потрясло, что он уже не в состоянии полностью скрыть своего замешательства. Валерий может улыбаться, смеяться. Но его улыбки и смех кажутся не настоящими. Они вызывают скорее сочувствие, щемящее чувство жалости. Валерий, наверное, родом из какого-нибудь портового города, может быть, даже из самого Севастополя. Он не раз любовался мужественными людьми с золотистыми звездочками и нашивками на рукавах военных мундиров, выступающими из-под кителя узкими ремнями с прикрепленным к ним кортиком. Кавалерийская сабля тоже производит впечатление, но не такое, как маленький, изящно инкрустированный кортик, Можно себе представить, какая великая радость овладела Валерием после зачисления его курсантом Севастопольского военно-морского училища. Эта радость, наверное, не проходила даже в минуты огорчений, которые неизбежны во время учебы в условиях строгой военной дисциплины. Природа щедро одарила его физической красотой. А тут еще форма курсанта военно-морского училища. Что такое счастье? Кажется, сама жизнь— счастье. Но нет. Этого, оказывается, недостаточно. Нужно, чтобы жизнь наполнилась еще и богатым содержанием, чтобы человек ждал завтрашнего дня, как ждут встречи с любимыми, чтобы у него всегда была цель в жизни. Человек становится несчастным не тогда, когда ему чего-то не хватает, а когда делается безразличным. Антитеза счастья— не несчастье, а равнодушие, утрата цели в жизни, веры в свое будущее. У Валерия были все основания считать себя счастливым. У каждого курсанта четвертого года обучения уже завязываются устойчивые дружеские связи, привязанности. Но в жизни не всегда все идет гладко. Иногда благополучие рушится, и человек, как всадник, оказывается выбитым из седла. Впрочем для большинства подобных случаев это сравнение не применимо. Чаще бури ломают те деревья, которые, хотя и казались на вид крепкими, но уже задолго до стихии были поражены червоточиной. Я пока еще не знаю истинной причины отчисления Севалина, но почти уверен, что подготовил почву для этого он сам. Раньше, еще будучи курсантом, Валерий, наверное, чего-то не понимал, или понимал, да не придавал этому большого значения. И произошло непоправимое. Его отчислили. Трудно, очень трудно переносить такие невзгоды. Рана после этого надлома заживает долго, месяцами, а то и годами. Многие из людей, которых постигает крупная неудача в жизни, вначале прибегают к напускной веселости, показной беззаботности. Но запасы защитной реакции постепенно истощаются, и человек либо замыкается в себе, либо опускается, вливается в среду таких же неудачников, как и он сам. Нужно обладать большой силой воли, чтобы найти в себе мужество перенести, выдержать натиск бури и вновь обрести свое место в жизни.
— Валерий, а почему вы говорите о себе в прошлом времени? — спросила Михеева.
— Потому, — пояснил Музыченко, — що його из учылыща турнулы.
— За что?
— За художни справы. Валэра — вэлыкый художнык.
Петру Музыченко вряд ли стоило так резко отзываться о Севалине. Но такой уж он человек. Говорит прямо, не заботясь о том, какое впечатление производят его слова на собеседника. Судить о характере Валерия еще рано, так как узнать человека за несколько дней практически невозможно. И то, что Севалин затеял разговор о рядовых матросах и младших командирах, вряд ли можно расценить как заносчивость. Меньше всего он хотел обидеть меня. Тут, я думаю, дело в наших спутницах. Им, и в первую очередь Маринке, стремился понравиться Валерий. По всем признакам, возникшая ситуация складывается в его пользу. По неизвестной причине Маринка чуть ли не презирает меня, а тут, пожалуйста вам, бывший курсант военно-морского училища, стройный, красивый, элегантно одетый. Такой парень может вскружить голову не одной девчонке. Сейчас мне командирское звание не только не помогает, но скорее, наоборот, настраивает Маринку на еще более отрицательное отношение ко мне. Не даром же она косвенно приписала мне роль Грушницкого. И тут взяло меня такое зло, что я очертя голову, пустился в рассуждения, нисколько не заботясь о том, как отнесется к этому Маринка.
— Шут с ним, с Грушницким, хотя лично для меня сравнение с этим героем и неприятно.
— А кто тебя сравнивает с ним? — спросила Лида.
— Не будем называть имен, как говорили древние римляне. Ты скажи мне, Лида, что такое человеческая гордость?
— Гордость? Кто же этого не знает?
— Знать-то, может, и знают, но не все одинаково представляют значение этого слова.
— Гордость — это чувство собственного достоинства. Тебя, например, кто-нибудь незаслуженно обидел.
— Ты бэрэш карбованця и даеш йому здачу, — шутливо ответил вместо меня Музыченко.
— А если этого карбованца или просто физической силы не хватает, как, например, у меня, тогда как?
— Свит нэ бэз добрых людэй — хто-нэбудь та позычэ.
— Это, конечно, шутка, — возразил я. — А вот если серьезно, то как назвать поступок человека, который без причины начал презирать другого человека?
— А как назвать поступок человека, — вмешалась Маринка, — который без причины начал оскорблять другого человека?
— Маринка, — обратился я к ней, — а ты не допускаешь, что этого человека могут просто оклеветать?
— Мудрая народная пословица говорит: там, где дым — не без огня. Я допускаю, что могут немного преувеличить, приукрасить. Но чтобы выдумать несуществующее — этого не может быть. И я очень хорошо понимаю Александра Сергеевича Пушкина, который, чтобы защитить свою честь, вызвал на дуэль подлеца Дантеса.
— Ты что же, допускаешь, что Наталья Николаевна могла дать повод для светских сплетен?
— Ничего я не допускаю, но хорошо знаю, что в письме Пушкина к барону Геккерену есть и такое выражение: «...чувство, которое, быть может, и вызывала в ней, — то есть в Наталье Николаевне, — эта великая и возвышенная страсть...», — Дантеса, значит.
— По-твоему, в жизни такой клеветы не бывает?
— Нет. Для этого всегда есть хоть какая-нибудь причина.
Хотелось сказать Маринке: «Милая девочка, да тебе просто повезло, что раньше не приходилось сталкиваться с человеческой подлостью. И когда столкнулась, не могла поверить, что клевета, как и глупость, может быть безграничной».
Сейчас уточнять что-либо, даже у Лиды, не имеет смысла. Чем все это кончится? Ответить на этот вопрос не взялся бы, наверное, ни один мудрец. И, словно угадав мои мысли, Лида, не отпуская моей руки, остановилась. Сделав вид, что поправляет тапки, она тихо сказала:
— Не торопись, пусть они уйдут немного вперед.
Любопытная вещь этот предлог. Никакой науки о поводах не было и нет, ни у кого не возникало и не возникает даже мысли об умении пользоваться ими, а вот, поди ж ты, юная Лида настолько правдоподобно изобразила неполадки в своей обуви, что даже я, шедший рядом с ней, поверил было ее предлогу.
— Ты хоть догадываешься, почему Маринка дуется на тебя? — спросила меня Михеева.
— А что тут догадываться? И так все ясно.
— Где теперь ваш командир? — спросила Лида, как мне показалось, без связи с предметом нашего разговора.
— Отозвали в штаб.
— И что, он теперь не вернется?
— Его перевели в другую часть.
— А ты знаешь, что он рассказал Маринке?
— Нет, хотя я и спрашивал.
— Так вот, Коля, ваш распрекрасный старшина рассказал Маринке да еще в присутствии других, что будто она надоела тебе хуже горькой редьки и ты никак не можешь отвязаться от нее.
Я уже привык не удивляться тому, что исходило от Демидченко. Но то, что я услышал от Лиды, привело меня в оцепенение. Как же так? Где предел человеческой подлости?
— Надеюсь, Лида, хоть ты мне веришь, что все это гнусная клевета?
— Я тоже была при этом разговоре и сказала вашему старшине, что он бессовестно лжет. И знаешь, что он ответил? «Спросите, — говорит, — у других, они вам то же самое скажут. Даже добавить могут».
Поднимаясь в гору, я держался левой рукой за поясной ремень, а правой хватал ближайшие ветви дикого кустарника и подтягивался вверх. Лида, обхватив обеими руками мою левую руку, шла слева и спрашивала:
— Тяжело меня тащить, правда?
— Нисколько. Знаешь, какой я сильный? Да согласись ты, на руках вынесу.
— Вот была бы потеха. Маринка лопнула бы от ревности.
— Ей теперь все равно. А тут еще этот франт Севалин, и выпала мне карта, милая Лида, пустые хлопоты.
— Ты это серьезно?
— Серьезнее, пожалуй, не может и быть.
— Вот чудак. Не знаешь ты женщин. Ладно, придет время, она сама тебе скажет.
Мы уже поднялись на гору, на которой стояла небольшая часовня. Наш экскурсовод Борис Фомич остановился перед входом в нее и сказал:
— Вот здесь покоятся останки итальянских солдат, погибших в Крымской войне. Как вы помните, в лагере союзников, осаждавших Севастополь, был и пятнадцатитысячный корпус, который направила на Крым Сардиния. За порядком в часовне присматривает старая гречанка. Давайте теперь войдем в часовню и посмотрим ее внутренний вид.
Мы зашли в часовню, стены которой были украшены различными надписями на итальянском языке, по бокам— списки погибших военачальников.
Борис Фомич остановился в центре, возле металлического круга, и сказал:
— Под нами подземелье с останками погибших воинов.
На круг вышел Кочетков. Он подпрыгивал и ударял ногами по металлу, что вызывало раскатистый подземный гул.
— Гудит. Верно, души усопших тревожатся.
Не успел паренек закончить свою фразу, как тут же провалился в подземелье. Я взглянул на Бориса Фомича. Лицо его покрылось мертвенной бледностью. Все, кто был поближе к зиявшей дыре, испуганно ахнули. Мы не успели еще как следует прореагировать на это происшествие, как Музыченко, не раздумывая, прыгнул в отверстие вслед за исчезнувшим десятиклассником. Стоявшие ближе к центру обступили дыру и смотрели в ее черную пасть. Через полминуты из нее показалась голова неудачливого паренька, а еще через несколько секунд— и все туловище, поддерживаемое руками Музыченко.
Крепкие руки ребят подхватили парня и вытащили из отверстия.
— Ну как ты там? — спросил я его, нагнувшись над темной дырой.
— Старшына, — услышал я, — кынь мени вогню.
Я достал коробку спичек и вложил ее в протянутую руку Музыченко. Подземелье оказалось неглубоким, всего лишь около двух метров. Первое, что сделал Петр, разыскал и поднял металлическую крышку, которой закрывалось отверстие в полу часовни. Через десять минут вылез и сам Музыченко.
— Ну что там? — засыпали вопросами ребята.
— Только говори по-русски, — обратился я с просьбой к Петру, — иначе никто тебя не поймет.
— Ладно. Так вот, — начал Музыченко, — прыгнул я, значит, вслед за вашим пареньком...
— От имени всех ребят, — прервал начатый рассказ Борис Фомич, — я должен искренне поблагодарить вас за смелый поступок. Правильно я говорю, ребята?
— Правильно! — хором ответили десятиклассники.
— Надо ж было выручать парня, — смущенно ответил Петр.
— Это понятно, когда человек видит, с чем имеет дело, — заметил Борис Фомич. — А тут фактически прыжок в неизвестное. Не каждый отважится на такое.
— Ну так вот, — продолжил свой рассказ Музыченко. — Только, значит, я приземлился, понял, что ничего страшного. Паренька я вам вернул, нашел и крышку. А потом начал смотреть, что там. Без огня картина, прямо скажу, жуткая. С четырех сторон какие-то холодные зеленые светляки. Потом уже при спичках я увидел черепа, сложенные пирамидами, и другие кости. Сколько их там — не сосчитать.
— А что это за светляки? — спросил кто-то из ребят.
— Это органический фосфор, входящий в состав костей, — пояснил Борис Фомич.
— От жуть!
— И еще там какие-то надписи на каменных плитках, — добавил Музыченко.
— Какие надписи?
— Пирамиды черепов и при каждой надпись на каком-то иностранном языке.
Как молния сверкнула мысль: «А что если среди этих надписей окажется то, что ты ищешь? Язык, конечно, итальянский, которого я не знаю. Переписывать все тексты — дело хлопотное. Да и нет уверенности, что это что-нибудь даст». Но и махнуть на все рукой я уже не мог.
— Есть у кого-нибудь карандаш и бумага?
Этих простых принадлежностей у десятиклассников хоть отбавляй. Через полминуты у меня было и то, и другое.
— Борис Фомич, — обратился я к учителю, — мне очень нужно кое-что уточнить. Мы с краснофлотцем Музыченко справимся с этим мигом.
— Что, опять в подземелье?
— Да, но теперь это не страшно: там уже побывала наша разведка.
— Раз нужно, уточняйте, что следует, — ответил учитель.
Мы с Музыченко спрыгнули в подземелье. Картина оказалась действительно жуткой. Невольно вспомнился случай в раннем детстве. Год тогда выдался голодный. За краюху хлеба из просяного отсева готовы были на самые отчаянные поступки. Как-то Лерка Корзухин сказал: «Говорят, самогонщица Самсонка, которая умерла, ходит ночами по кладбищу и расшатывает кресты». — «Враки», — возразил я. — «А вот и нет. Скрип слышали многие». — «Ну и что?» — «А вот то. Теперь никто бы не пошел ночью на кладбище». — «Я бы пошел». — «Не пошел бы. Спорим на краюху хлеба». Поспорили. Вечером собрались на улице, примыкавшей к кладбищу. Нужно было дождаться полуночи и только тогда идти к могиле бабки Самсонки. Ночь выдалась пасмурной, темной. И чем ближе время подходило к полуночи, тем сильнее становилось чувство страха перед надвигавшимся испытанием. «А как ты докажешь, что подходил к могиле бабки Самсонки?» — спросил Корзухин. — «Иди вслед за мной и проверяй!» — «Не на того дурака напал. Я знал, что ты так скажешь. Поэтому еще днем после нашего спора положил на могиле свою рогатку. Принесешь ее, докажешь, что ты там был. Не принесешь, с тебя краюха хлеба». — «А если врешь, что положил рогатку?» — «Тогда я пойду за ней. За две краюхи хлеба». Поверил Корзухину, хотя и знал, что по характеру он плутоват. После полуночи перелез через кладбищенский забор, открыл калитку и вышел на дорогу, по которой проходят все похоронные процессии нашего поселка. Тревожно шумели верхушки деревьев. Временами порывы ветра усиливались и тогда к монотонному шуму присоединялся скрип стволов трухлявых деревьев. Я знал, что скрип — признак старости, за которой следует небытие. Может быть, именно это и вызывало во мне чувство тоскливой тревоги, боязни и страха перед могилой бабки Самсонки. Я уже был почти у цели, как вдруг где-то рядом раздался душераздирающий крик филина. Другой на моем месте пустился бы наутек. Я же только присел. Это было не проявлением храбрости, а скорее оторопи, парализовавшей мою волю. Придя немного в себя, я все же нашел силы продолжить свой путь и минуты через две был у могилы бабки Самсонки. Старые кресты и трухлявые пни светились мертвым фосфорическим светом. Никакой рогатки на могиле самогонщицы не оказалось. Корзухин, как и следовало ожидать, сплутовал. Я так ему и сказал, когда вернулся к ватаге своих ребят. «Уговор был? Был. Сейчас принесу тебе рогатку», — ответил Лерка и направился в открытую калитку. «Врет он. Сядет где-нибудь и будет ждать», — сказал я ребятам. Корзухин был меньше меня и заметно уступал в силе. Я подкрался к калитке, подождал несколько минут и затем незаметно осмотрел начало кладбищенской дороги. Лерка сидел на корточках у самых ворот и ждал. Вернувшись к ребятам, я рассказал им, где сейчас находится Корзухин. Кое-кто усомнился в этом, но Комаров, проверив мое сообщение, подтвердил его и добавил: «Сейчас придет». Через несколько минут появился Корзухин и, протягивая мне рогатку, сказал: «Вот что нужно было сделать. А ты побоялся». Я поднес к его лицу кулак и спросил: «Хватит этого или добавить?» — «Ты чего». — «Сам знаешь чего. Пошли, ребята».
Этот случай вспомнился в связи с тем, что здесь, в коридорах подземелья, была такая же непроглядная темнота, как и тогда на кладбище: и странное дело, бледные бесформенные пятна фосфорического света не только не рассеивали темноты, но, наоборот, усиливали ее, вызывали чувство придавленности, пугали своей непонятной таинственностью.
Музыченко зажег спичку, и мы начали присматриваться к надписям у каждой пирамиды черепов. Плоские камни и на них незнакомые слова: «Battaglione... Reggimento...» Но что это? У одной из пирамид — текст и числа: «...13-19 Ottobre nella battaglia vicino a Kephalourisi sono stati periti 287 soldati». Я еще не до конца осознал смысл этой фразы, но уже понял, что в наших руках оказались сведения исключительной важности.
— Петя, ты понял, что все это значит? — спросил я Музыченко.
— Зрозумив, зрозумив. Ты хутчише пэрэпысуй, а то нэ выстачэ вогню.
И по мере того, как я переписывал эту надпись, каждое слово становилось понятным без перевода: «Ottobre», «battaglia», «Kephalourisi», «soldati». Кто скажет, что ему эти термины не знакомы? Я, может быть, и прошел бы мимо этой каменной плиты, если бы не ключевые слова найденного текста: «13-19 Ottobre... Kephalourisi...» Ясно, о чем идет речь. Но они понятны для того, кто изучал эту страницу истории, кто знал, что 13 октября тысяча восемьсот пятьдесят четвертого года произошла балаклавская битва. Но как много случайностей на пути к этой находке? Начать хотя бы с того, что меня направили на военную службу именно в г. Севастополь. Потом курсы радиотелеграфистов, организация поста ВНОС номер один, знакомство с Маринкой и Анной Алексеевной, экскурсия на итальянское кладбище, случай с Толей Кочетковым и, наконец, поиск следов русского отряда на Кефаловриси. Все эти события кажутся случайными и друг с другом не связанными. Но так только на первый взгляд. В действительности же они как высокая пирамида камней. Выпадет один из них — и конструкция рушится, превращается в бесформенную груду кусков горной породы.
Закончив переписывание текста надписи, мы подошли к отверстию и с помощью Севалина один за другим выбрались из подземелья. Нас забросали множеством вопросов. Десятиклассников интересовало все: много ли останков погибших воинов, какая форма подземелья, что искали и чем закончились наши поиски. Я не стал рассказывать о своей находке. Нужно было еще раз взвесить все как следует, посоветоваться с Анной Алексеевной. Ведь она вела научный поиск и знала о балаклавской битве больше, чем кто-либо другой. Как тут не вспомнить старую русскую пословицу: сначала нужно перекреститься, а потом уже браться за святцы. Именно так, а не иначе.
Ребятам я рассказал, что подземелье имеет форму креста, лучи которого сориентированы по направлению стран света.
— А зачем это вам? — поинтересовался Кочетков целью нашего пребывания в подземелье?
— У военных во всем должна быть ясность.
Это объяснение, кажется, удовлетворило не только Толю, но и самого Бориса Фомича. Учитель зачем-то потрогал край крышки, лежавшей у отверстия, и сказал:
— А теперь, ребята, надо заделать эту дыру так, чтобы незаметно было, иначе смотрительница часовни будет недовольна.
Нашлись мастера, и вскоре металлическая крышка была укреплена на своем прежнем месте так, словно никакого происшествия здесь и не было.
На обратном пути Лида взглянула на меня и тихо сказала:
— Дурит Маринка, а придет домой, будет реветь.
— Да нет, не похоже что-то.
У Лиды своеобразная манера: если она берет под руку, то не одной, а обеими руками. Вот и сейчас она охватила кольцом мою руку, слегка оперлась и, лукаво посматривая на меня, сказала:
— В нашем классе был недавно диспут: место человека в жизни советского общества.
— И знаете, что ответила на этот вопрос Михеева? Можно сказать? — спросила ее Таня.
— Говори, что тут такого.
— Выйти замуж за любимого человека и нарожать кучу детей.
— Прости меня, Лида, но это мещанский идеал, — вмешался Валерий.
— И как реагировали на это в классе? — спросил я Михееву.
— Кто как, по-разному.
— Что, были и такие, которые тебя осуждали?
— Были, и не мало. На что Таня и та, правда, только мне лично, сказала: «Вот это идеал — плита да пеленки». Но не всем же быть Жанной д'Арк.
— Правильно, Лида, — поддержал я Михееву. — Нет более благородной цели, чем воспитание детей. Я, например, готов поклониться до земли, стать на колени перед всеми, кто вырастил, растит или готовится растить детей. Мать — это святое слово. Лида сказала на диспуте просто и понятно, и не ее вина, что некоторые за этой кажущейся слишком простой формой не рассмотрели глубокого смысла.
Не успел я закончить свою фразу, как Лида высвободила свои руки, обхватила ими мою шею и при всех звонко поцеловала.
— И мне нисколечко не стыдно, — сказала она, снова беря в кольцо мою руку.
— Это, конечно, трогательно, — с заметной иронией сказал Севалин. — Я не отрицаю, что человек должен приносить пользу обществу. Но должны же быть у человека и свои интересы. И вот тут-то и начинается «но». Я живу один раз и мне не нужно царства небесного. Я хочу прожить свою жизнь так, чтобы всегда мог сказать: «Так держать».
— Ну-ну, и что же дальше? — спросила Лида.
— А что дальше? Вы же не станете отрицать, что есть существа слабые и есть сильные. Я уважаю только сильных.
— Значит, вы должны больше других существ уважать нашего совхозного быка.
— Ценю твой юмор, Лида, но мы говорим о вещах в переносном смысле.
— Ну хорошо. Какие же люди, в вашем понимании, относятся к сильным личностям и какие к слабым?
— Быть сильным — значит, подчинять себе других, слабым — подчиняться самому.
— А без подчинения нельзя? Просто чтоб, по-товарищески.
— Просто, как ты говоришь, не бывает. Люди могут дружить, но при этом кто-то кому-то подчиняется. Вот взять хотя бы тебя и Таню. Ни ты, ни она, наверное, даже не обратили внимания на одну мелочь.
— Какую?
— «Можно сказать» спросила тебя Таня.
— Ну и что тут такого?
— Ничего. Так кажется тебе и, может быть, Тане. А для других вопрос твоей подружки — лакмус, по которому легко определить характер ваших отношений.
— Какими же кажутся вам наши отношения?
— Ты руководитель, она подчиненная.
— Чепуха! — энергично возразила Лида. — Вы знаете, как чистит меня Таня, когда я сделаю что-нибудь не так как надо?
Вообще-то Севалин, как мне кажется, в чем-то прав. Роль лидера в группе людей, в особенности школьников, общеизвестна. Но нельзя не согласиться и с Лидой, которая высказала интересную мысль о возможности таких личностных отношений, которые основаны на принципе, если так можно сказать, взаимного руководства и подчинения. Севалин не допускает возможности таких взаимоотношений. Для него существуют только основные тона. Оттенков он не признает.
— Валерий, в нашей школе работает уборщицей тетя Глаша. Уборщиц у нас несколько. Но школьники знают только ее, знают и уважают больше чем другого учителя. А уважать ее есть за что. Она умеет приструнить не в меру расходившегося мальчишку, отчитает, если надо, беззаботных родителей. Но она и поможет, скажет ласковое слово человеку, который попал в беду. Кто в твоем понимании тетя Глаша?
— Уборщица.
— Нет, я серьезно.
— И я не шучу.
Лида посмотрела на Севалина так, словно усомнилась в правдивости его слов, и сказала:
— Тогда это эгоизм. Маринка, а ты почему молчишь?
— Я не умею целоваться, как ты.
— В переводе на общепонятный язык это значит: мучительное сомнение в верности. Я правильно перевела твои слова?
— Ты правильно не только переводишь, но и поступаешь. Даже тогда, когда даешь согласие, чтобы тебя несли на руках.
— Вот теперь я окончательно убедилась, что перевела правильно.
Неужели Маринка расслышала мои слова, когда мы поднимались в гору? Если это так, то у нее исключительный слух.
— Я не согласен с тобой, Лида, — возразил ей Севалин.
— В правильности перевода? — прикинулась непонимающей Лида.
— Да причем тут перевод? Не согласен, говорю, что касается эгоизма. Разве эгоистическое чувство руководило такими людьми, как Менделеев, Лобачевский, Пастер, Эйнштейн? Да разве всех их перечислишь?
— Валерий, ты хитрец.
— Що правда, то правда, — произнес молчавший до сих пор Музыченко. — Вы знаетэ, навищо бог дав лысыци такый довгый та пушыстый хвист?
— Заметать следы.
— Цилком вирно, Лида. Мэни здаеться, що и у Валэрия волочыться сзади щось подибнэ до лысыного хвоста.
Я не могу сказать, что в Севалине есть черты, которыми бывает наделен неприятный человек. Скорее наоборот. Он опрятен, изысканный в манерах своего поведения, вежлив, предупредителен, особенно по отношению к девушкам. И все же Музыченко почему-то его невзлюбил да так сильно, что, кажется, готов разорвать его в клочья.
Мы уже дошли чуть ли не до окраин Балаклавы, как на склоне горы показалась фигура матроса. Он стремительно, полутораметровыми прыжками мчался к нашем группе.
— Старшина! Старшина! — это кричал Сугако.
— Осторожнее, Лефер! — предупредил я его.
— Вас срочно вызывают по рации, — обратился ко мне запыхавшийся Сугако.
Что там могло стрястись? Что ж, вызов есть вызов. Нужно бежать на пост, а не строить догадки.
— Милые девушки, не грустите. Вас проводят доблестные воины надежной береговой обороны.
Лида пробежала за мной метров десять, а потом, удерживая меня за рукав, остановилась и сказала:
— Хороший ты парень, Коля. Поцеловала бы я тебя еще раз, да боюсь Маринка совсем сойдет с ума. Но беспокойся, я все улажу сама. Не забывай пословицы: где не справится черт, пошли туда женщину.
— Спасибо, Лида. Передать привет Лученку?
Михеева посмотрела на меня своим лукавым взглядом, словно хотела спросить: «И это ты уже знаешь?», и добавила:
— Передай.
— Тогда бывай, как говорит Михась, — и я побежал.
На посту как будто ничего не случилось, но по каким-то неуловимым признакам все же чувствовалось, что что-то произошло. Танчук, не отрываясь от бинокля, тщательно всматривался в морскую даль и так же внимательно вслушивался в далекий шум морского прибоя, как будто именно в нем могла таиться опасность. Лученок сосредоточенно всматривался в шкалу настройки и слушал, готовый в любую секунду распознать позывные штабной радиостанции. Я легонько потрогал Михася за плечо. Увидев меня, Лученок молча пододвинул радиограмму, в которой предписывалось повысить боевую готовность поста. «Не исключено, — указывалось в радиограмме, — провокационное нападение противника с воздуха». — «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день, — подумал я. — Какого ж чёрта не сказал Лефер об этом сразу? Надо было бы вернуть на пост Севалина и Музыченко. А теперь где их найдешь?» Однако долго тревожиться не пришлось: через полчаса они оба были на посту. Откровенно говоря, такое раннее возвращение их меня немного удивило. Удивило раннее возвращение не Музыченко, а Севалина. Валерий не из тех парней, которые так быстро расстаются с девушками. Эту загадку разъяснил Музыченко:
— А Маринка пиднэсла Сэвалину гарбуза. Нэ встыг ты, командыр, видийты од нас, як вона побигла до дому. Валэрий старався и так, и сяк, затрымував йийи. Та дэ там. Вона як гаркнэ на його: «Видстань, — кажэ, — вид мэнэ!» И мусыв наш Сэвалин вэртатысь на пост, нэ солоно хльобавшы.
— Ты уж скажешь, — начал оправдываться Валерий. — Да не было еще такой девки, которая бы ушла от меня. Не таких уламывал.
— Кажы-кажы, — передразнивал Севалина Петр. — А гарбуза всэ такы одэржав.
— Тише вы! — крикнул Лученок. — Радиограмма из штаба: готовность один.
— Готовность один! — повторил я приказ. — Всем занять боевые посты.
18
Трудно объяснить, почему так полюбилось мне место на западном склоне нашей горы, с которого я первый раз увидел сурков. В солнечный день скальная глыба здесь так накаляется, что усидеть на ней нельзя и двух минут. Выручает травянистая подстилка. Расстелешь, бывало, стебли дымчатой полыни, уляжешься лицом вниз — и такой от нее запах начнет исходить, что сразу же находит на тебя сонная одурь. Сурки теперь вовсе перестали меня бояться. Сидят возле своих бутанов и, знай себе, посвистывают: «Приходи, мол, и ты к нам на завалинку».
Я смотрю на морской горизонт и не вижу его. В солнечном свете утопает все: и небо, и бесконечные водные просторы, и даже сторожевые корабли, которые недавно вышли в море. Вот так же солнечно было и вчера. Стоявший на вахте Лев Яковлевич доложил, что со стороны моря слышен гул моторов. Самолет шел со стороны солнца. Как мы ни старались, обнаружить его так и не удалось. Увидели мы его только тогда, когда он был над Балаклавой. Начальство нервничало. А что мы могли сделать, если солнце слепило глаза?
Слышно, как кричит Лефер: «Командир! Командир!» Он знает, где меня искать, и поэтому бежит прямо к камню-площадке. Я закрываю свой дневник, поднимаюсь и спрашиваю:
— Что случилось, Лефер?
— Там на посту у нас Маринка.
— Кто пропустил?
— Лешак его знает, как она попала к нам. С ней еще Семен.
— Порядочки. Ничего не скажешь.
Лефер улыбается, но мне не до шуток, если нарушаются элементарные правила воинского устава. Что могло быть причиной появления Маринки в расположении нашего поста? Глупо, конечно, даже предполагать, что она пришла к нам просто так, а тем более проведать, скажем, меня. Все это вздор. Главное сейчас в другом, как мог Музыченко пропустить ее на пост? Спрашивать об этом Лефера сейчас бесполезно, так как он знает не больше моего, хотя и был на месте событий. Я быстро оделся, привел себя в порядок и минут через десять был на площадке перед радиорубкой. Картина, которую мы с Лефером увидели, была не обычная. На площадке, упершись спиной и руками в каменную стену, стояла Маринка. Своим внешним видом она напоминала мне первый день нашего знакомства. Но тогда она была только грязной, испачканной глиной. Теперь же, кроме того, на ней было порванное платье, на руках и ногах видны царапины, ссадины и кое-где тоненькие струйки запекшейся и уже успевшей высохнуть крови. В первый день нашего знакомства Маринка показалась мне немного жалкой, теперь же все черты ее лица выражали суровость с оттенком презрения. Я до сих пор не могу понять, какая сила у человека с гордой душой, даже если он волею обстоятельств оказался в рваной одежде и не успел очиститься от грязи, заставляет относиться к нему с уважением. Другой человек в таком виде вызывает только чувство брезгливости. И ведь если бы речь шла о людях, которых мы знаем. Так нет же. У совершенно незнакомого нам человека сила духа проявляется не только в его поступках, но накладывает свой неуловимый отпечаток на выражение его лица, осанку и даже походку. Впрочем это, может быть, только так мне кажется. Все поступки Маринки кажутся мне исполненными глубокого, хотя и не всегда понятного для меня смысла. Маринка стояла притихшая, готовая постоять за себя. Лишь время от времени щеки ее вспыхнут, загорятся яркой краской девичьей стыдливости и вновь погаснут.
Но что творилось со Звягинцевым! Он бегал по полуокружности, словно Маринка очертила свою маленькую территорию волшебной линией, и кричал:
— Я сразу раскусил тебя, курва!
— Уберите этого подонка! — сказала Маринка.
— Это мы еще посмотрим, кто из нас подонок! — не унимался Семен.
Только теперь я увидел, что у Звягинцева был рассечен подбородок, а рабочая блуза залита кровью. На мой вопрос: «Что произошло?» Семен ответил:
— Товарищ старшина второй статьи, эта самая оказалась в расположении. Ну я, конечно, как личность задержал. Так она, курва, сигать.
— Краснофлотец Звягинцев, ведите себя достойно, не выражайтесь.
— Так это ж если бы кто другой. А то ведь курва она и есть курва. Вопрос только, кто ее забросил к нам, что она высматривала на военном объекте.
Маринка побледнела, но не проронила ни слова. События принимали неожиданный оборот.
— Краснофлотец Звягинцев, что с вашим лицом?
— Так я ж говорю, товарищ старшина второй статьи, что задерживал, а она сопротивлялась.
— Гражданка Хрусталева, — обратился я к ней официально, — почему вы оказывали сопротивление военнослужащему?
Маринка ответила откровенно презрительным взглядом. Лишь после этого до меня дошел другой, отвратительный смысл моего вопроса и, по-видимому, еще более отвратительный смысл «задержания» Маринки Звягинцевым.
В этой ситуации продолжение расспроса оказалось бы не только бесполезным, но и смешным, ставившим меня, командира отделения, в двусмысленное положение. Выход, как мне казалось, был только в одном: Семена немедленно отправить в санчасть для оказания ему медицинской помощи, Маринке нужно было помочь привести себя в порядок и по дороге к ней домой попытаться узнать, в чем прав и в чем не прав Звягинцев. Дело, как ни крути, становилось настолько запутанным, что разобраться в нем мне одному было уже не под силу. Приняв окончательное решение, я приказал Семену немедленно отправляться в санчасть, Лефера попросил помочь Маринке привести себя в порядок, а сам пошел советоваться с Лученком
— Упэвнен, што Сымон паскудны чалавек. Што рабиць будзем?
— Вот я и советуюсь с тобой: «Што рабиць будзем?»
— Пагавары з ей па-чалавечы.
— Пробовал, Михась, и, кажется, не один раз.
— Паспрабуй ящэ раз.
— Ладно. Но это уже будет последний раз. Пошли посмотрим, как там они.
Звягинцева уже не было, ушел в Севастополь. Маринка выглядела теперь так, словно оправилась от болезни. Мы с Лученком еще только подходили к площадке, а уже слышали звонкий смех Маринки. Ей вторил сдержанный бас Лефера. И когда она успела так привести себя в порядок? Вымыла лицо, руки, ноги, заштопала дырки в своем платье и даже расчесала волосы. Конечно, все это она успела сделать с помощью Сугако. Он держит на полусогнутой руке свое полотенце и нас пока не замечает.
— Обижать девушку, все равно, что обижать мать. А этого делать никак нельзя, — говорит Сугако.
— А почему вас зовут Лефером? — спрашивает Маринка, откусывая нитку и возвращая своему помощнику иглу.
— Ребята прозвали. Должно быть так проще.
— Красивое имя. Лефер, а у вас есть девушка?
Сугако смущенно улыбнулся, но все-таки ответил:
— Есть. Как не быть. Обещает ждать.
— Значит хорошая девушка, если дала слово ждать. Лефер, а ваш старшина строгий?
— Без строгости на военной службе никак нельзя. Наш старшина строгий, но и очень справедливый.
— А он любит хвастаться, особенно своими победами над девушками?
— Ни боже мой. Этого он не уважает. Был тут у нас один. Так тот действительно мог нагородить, что хошь.
— Уж не бывший ли ваш командир?
— Он самый. Отца родного не пожалеет, лишь бы свою корысть, значит, получить.
— А новый командир?
— Он у нас как старший брат, хотя и самый молодой.
После всего услышанного я, кажется, смутился, так как Михась, глядя на глупое выражение моего лица, беззвучно начал хохотать. Он даже сел, уперся сзади руками в каменистую почву и, запрокинув голову, смеялся. Чтобы не выдать себя, Лученок широко открыл рот. Его туловище тряслось, как двигатель на предельных режимах своей работы. Первой заметила нас Маринка.
— И вам не стыдно подслушивать наш разговор?
— Голос Лефера можно, не подслушивая, слышать в самой Балаклаве, — ответил Михась.
— Напрасно вы так говорите о нем. Лефер очень хороший парень.
— А этого никто и не отрицает.
На одном из выступов сложенных нами камней лежал целый набор туалетных принадлежностей: мыло, одежная щетка, расческа и даже катушка ниток. Все это, в чем нетрудно было убедиться, принадлежало Леферу. Маринка в последний раз отряхнула руками свое платье, еще раз посмотрела в карманное зеркальце, тоже принадлежавшее Леферу, и спросила:
— Ну и что будем делать? Маму вызывать?
— Маму на этот раз беспокоить не будем. Лучше я проведу вас домой.
— Что, вы так и отпускаете меня? — не поверила Маринка.
— Не зачислять же вас на матросское довольствие.
— Тогда пошли. Спасибо, Лефер. До свидания, мальчики.
Вначале мы шли молча. Лишь на крутых склонах горы Маринка, чтобы не упасть, хватала меня за руку и тотчас же отпускала. Поспешность, с которой она отпускала рукав моей блузы, как только склоны становились более пологими, подчеркивала, что первой идти на примирение Маринка не собирается. По вопросам, которые она задавала Леферу, нетрудно было догадаться, что ей кое-что уже известно. И если Маринка об этом пока не говорит, то этому мешает только ее самолюбие. Знает ли она, кто меня оклеветал? Знает. Скорее, знает точно. И рассказал ей об этом не кто другой, как Лида. А расспрашивала Маринка Лефера лишь для того, чтобы еще раз убедиться в своей правоте. Теперь можно понять состояние, в котором она находилась во время моего последнего визита к Хрусталевым. Да и не только она, но и Анна Алексеевна. Глядя на меня через окно, мать, наверное, думала: «Как же можно было ошибиться в этом человеке?» Клеветник поступил как нельзя более подло. И какое наказание он понес за это? Никакого. Да и как можно было привлечь его к ответственности? Предположим, попытались бы выяснить обстоятельства дела. С чего бы начали? Ясно, что с вопросов. И первый из таких вопросов был бы следующий: «Товарищ Нагорный, угощали ли вас Хрусталевы обедом?» — «Да, угощали». — «Совершали ли вы с Маринкой прогулки в уединенные места?» — «Совершали». После таких вопросов и ответов, в общем-то ничего осудительного в себе не содержащих, Маринка убежала бы, куда глаза глядят. И выходит, что такое расследование само по себе могло бы причинить пострадавшим не меньшую душевную травму, чем клевета. Сам же клеветник оказался бы в числе торжествующих. Расспрашивать сейчас об этом Маринку не следует. Внутренний мир человека боится сквозняков. Приоткроешь его, и он начинает остужаться. Не следует еще и потому, что чувства молодых людей похожи на неокрепших детенышей диких животных. После прикосновения к ним чужих рук мать иногда бросает их и крошечные живые существа погибают. Ведь было же время, когда Маринка, казалось, не только начала проникаться ко мне доверием, но и радовалась моему приходу. Но стоило какому-то недобросовестному человеку попытаться влезть в ее душу, как она, как мимоза, тут же закрылась, даже для меня. Не выдержала все-таки Маринка, спросила:
— Ты все еще сердишься на меня?
— Если кто-нибудь из нас и сердился, то, по-моему, не я, а ты. Кто-то кого-то даже в предатели зачислил. И вот это клеймо приходится теперь носить как каинову печать.
— Не будь такой букой. Ну хочешь я поцелую тебя?
Я остолбенел. Можно было допустить все, что угодно, но только не готовность Маринки искупить свою вину поцелуем. Хмельная волна захлестнула меня. Сколько же дней прошло с того памятного вечера, когда она сказала: «Не приходи ко мне целую неделю. Я разберусь и, может, сама тебя позову». Прошла не одна, а целых семь долгих недель.
— Значит, разобралась все-таки?
Маринка не сказала, а ответила утвердительным кивком головы.
— Тогда целуй, как обещала.
— Видишь ли, Коля, ты высокий, и мне не дотянуться до тебя. Стань, пожалуйста, передо мною на колени.
Надо же было придумать такое! Сколько стоило ей душевных сил покорить свою девичью гордость, решиться на искупление своей вины поцелуем. И придумала, вышла из положения, поднялась надо мною еще выше. Ну что мне оставалось делать? Я стал перед ней на колени.
— Может, мне еще и лечь у твоих ног?
— Нет, не надо, — Маринка обвила руками мою шею и, целуя, говорила по слогам. — Навязался ты на мою голову. Сколько я наплакалась из-за тебя. А все этот ваш противный Демидченко. Пришел к нам домой и давай рассказывать маме: что было и чего не было. Теперь признавайся, говорил ты все это?
— И ты поверила? Ты помнишь, когда я говорил тебе: «Да знаешь ли ты, что в одну трудную минуту я готов был на все, лишь бы не лишиться веры в человека, твоей веры?»
— Я, может, и не поверила бы, если бы не упоминание о некоторых правдоподобных мелочах. Но теперь хватит об этом. Скажи мне лучше, любишь ли ты свою Маринку так же, как прежде?
Я уже приготовился было ответить, что люблю больше жизни, даже рот приоткрыл, как Маринка закрыла его своей рукой и прижалась к ней щекой. В эту минуту мне показалось, что над моими глазами сомкнулись не волосы Маринки, а подрумянившиеся стебли гречихи. Солнце еще не высоко, и его косые лучи пронизывают раскинувшееся вокруг меня стеблистое море, делают его похожим на радугу: красная полоска — у самой земли, чуть повыше — розоватая линия, еще выше — светлая изумрудная зелень листьев, а на самой вершине — кучевые облака белых соцветий. Чуть подует ветерок — и заколышется это море, переливаясь всеми цветами радуги. Я делаю большие вдохи, хочу вобрать в себя дурманяще сладкий запах нектара. Но разве можно выпить безбрежный океан? Закрываю глаза и слушаю. Тишина. Слабые порывы ветра доносят жужжание пчел. Но это не пчелы жужжат, а шумит морской прибой. И солнце просвечивает не подрумянившиеся стебли гречихи, а густые волосы Маринки. И запах ощущаю не цветочного нектара, а лаванды, отваром которой смачивает свои волосы Маринка.
— Почему же ты не даешь мне ответить на твой вопрос? — спрашиваю Маринку.
— Зачем? Язык болтлив.
— А чему же тогда верить?
— Глазам. Словами говорит разум, взглядом — сердце. Разум, как ты убедился, бывает подчинен и злой воле, и поэтому ему не всегда можно верить. Сердце же лгать не умеет. Оно или любит, или ненавидит, или то и другое. Когда сердце молчит — взгляд равнодушный.
Меня поразила мысль Маринки. Сколько раз я наблюдал за Демидченко. Бывало, либо промолчит, либо скажет что-нибудь мало значащее. А по глазам видел, что ненавидит меня люто. Чувствовал это, а вот такая мысль в голову не приходила. Поразило меня в словах Маринки и другое. Оказывается, можно одновременно и любить, и ненавидеть. Я, кажется, даже содрогнулся, когда осознал значение этих слов.
— Ну а что говорят тебе мои глаза?
— Что любишь. Вижу, любишь свою Маринку. Хотя что-то в них не так. Лучатся, лучатся, а потом вдруг проплывет в них искристая льдинка. Что это, Коля? Неужели ты меня еще и ненавидишь?
— Цыганка — вот ты кто.
— А может, я действительно цыганка и есть.
— Теперь уже все равно. Пошли, обо всем скажем Анне Алексеевне.
— А мама уже знает. Когда она увидела, что я плачу, сразу же догадалась.
Мы уже шли через виноградник. Как он изменился за это время! Листья стали широкими, узорчатыми. Между ними и стеблями вились шершавые завитки. Они извивались, искали для себя опору и, если находили, обхватывали ее, вонзались тончайшими иглистыми выступами. Отвести завитки не просто: они рвутся, но опоры не отпускают. А вот и пятый ряд. Сколько же мы не виделись с моим зеленым другом? Столько же, сколько и с Маринкой. Как он вытянулся. Перерос свою молодую хозяйку и стал почти вровень со мною.
Анна Алексеевна была дома. Встретила меня хотя и радушно, но как-то настороженно. Мало расспрашивала, больше смотрела и слушала. Наверное, жизненный опыт подсказывал ей, что жертвой подлости и хитроумных замыслов чаще бывает наивность. Но не только она. В сети коварства часто попадает и подозрительность. Как заблуждаются умные, но подозрительные люди. Их так же легко обмануть, как и легковерных. Я заметил на лице Анны Алексеевны тень озабоченности. Причиной ее могли быть какие-нибудь служебные неурядицы или переживания, связанные с моим вторжением в жизнь Маринки, а может быть, и то, и другое. Да нет же, при чем тут я? Конечно, Анна Алексеевна, как всякая мать, беспокоилась о своей дочери, но это беспокойство было вызвано не мною, а совсем другим — какой-то еще до конца не осознанной тревогой. Нечто похожее бывает в состоянии многих животных накануне землетрясения. Еще нет ощутимых признаков его, а животные начинают беспокоиться, метаться, издавать звуки тревоги и страха перед надвигающейся бедой.
Заметив выражение тревоги на лице своей матери, Маринка спросила:
— Мама, ты что, не рада приходу Коли?
— Глупости говоришь. Ты хорошо знаешь, что я рада всему, что доставляет тебе радость. А о счастье и говорить нечего, — ответила Анна Алексеевна, после чего обратилась ко мне: — Значит, это у вас серьезно?
— Я очень люблю Маринку, — этот ответ, казалось, удовлетворил Анну Алексеевну, и она задала мне еще один вопрос, но уже не связанный с первым. — А у вас как там?
— В экипаже береговой обороны полный порядок. Бдительность на уровне. Вот и сегодня, не успела Маринка появиться в расположении поста, как ее тут же заметили, и я привел ее к вам.
Не успел я закончить фразу, как Маринка сильно побледнела и почти закричала:
— Коля! Не смей говорить этого маме!
Наступила гнетущая тишина.
— Вот, значит, за какой куст боярышника ты зацепилась, — тихо произнесла мать. По-видимому, она заметила следы зашитых дырок в платье своей дочери в самом начале. На вопрос: «Как это случилось?» Маринка, наверное, ответила: «Зацепилась за куст боярышника». Теперь Анне Алексеевне стало ясно, что это была неправда.
— Мама, ты только не волнуйся, пожалуйста. Это пустяки. Я когда-нибудь расскажу тебе все.
— А Коле? — спросила Анна Алексеевна.
— И Коле тоже, но не сейчас.
— Маринка, — обратился я к ней, полагая, что теперь настало время вмешаться в разговор и мне. — Случись все это где-нибудь в другом месте, а не в расположении поста, я бы не сказал тебе и слова. Но пойми, я же должен объяснить Звягинцеву.
— Звягинцеву? — последовал негодующий вопрос.
Я увидел, как после моих слов изменилось лицо Маринки. Они причинили ей боль. Ну когда я научусь понимать простые человеческие истины? Ведь не только можно, но и нужно высказываться прямо, но так, чтобы не задевать самолюбия человека, не наносить ему незаслуженной обиды.
— Прости, пожалуйста, — попробовал я исправить свою оплошность. — Но я же должен все это как-то объяснить ребятам.
— Ты сталкивался с фашистами? — без всякой, казалось бы, связи с предыдущим спросила меня Маринка.
— Ну какое отношение имеют к этому фашисты?
— Значит, не сталкивался. А я уже осталась без отца. Ты можешь это понять? — и две крупные капли слез, похожие на прозрачные горошинки, скатились по лицу Маринки и упали на ее ситцевое платье.
Мне стало теперь ясно, что прогулки Маринки по склонам нашей горы — не просто прогулки. В них было что-то осмысленное, имело какое-то отношение к нашим воинским делам. Но что? Расспрашивать ее об этом сейчас бесполезно. Она ясно ответила на вопрос матери: «Но не сейчас».
Возвращался я к себе на пост тем же путем. За виноградником остановился. И вдруг ощутил такую тревогу за Маринку, что невольно вынужден был сесть на ближайший каменистый уступ. Я не так понял, как почувствовал, что на этот раз дело оказалось куда более серьезным, чем казалось раньше. Слишком тревожное сейчас время, чтобы не придавать всему этому значения. Маринка не захотела посвятить меня в свою тайну. И пусть бы оставалась она со своей тайной, если бы это не имело отношения к нашим военным делам. Куда пойти, с кем посоветоваться? И тут я вспомнил, что лучшего советчика, чем Павел Петрович, мне не найти. Он не просто офицер, а военный с юридическим образованием, и не только юрист, но и самый отзывчивый, человечный из тех, кого я знаю по службе.
Часа через полтора я был в штабе дивизиона. Не заходя в радиовзвод, отправился к политруку. Видно, не вовремя я попал в штаб. Там шло какое-то экстренное совещание. Приезжали нарочные, вручали дежурному офицеру пакеты и срочно отбывали. Из совещательной комнаты выходили возбужденные офицеры, звонили в штабы своих батарей, передавали какие-то закодированные приказы и вновь возвращались в кабинет командира дивизиона. Доложил дежурному офицеру о своем прибытии и я. Он посмотрел на меня, коротким движением руки немного сдвинул на затылок свою форменную фуражку и сказал:
— Понимаешь, старшина, не ко времени ты. Тут у нас такая заварушка, что того и гляди объявят тревогу и тогда давай всем бог ноги.
— Понимаю, товарищ младший лейтенант. Но у меня тоже серьезное дело. Можно сказать, военной тайны касается. И я не к товарищу командиру, а к помощнику военного комиссара.
— Тогда жди. Может, перерыв какой будет или выйдет по делам.
— Есть ждать, товарищ младший лейтенант!
Когда ждешь, время тянется долго. Чтобы не мозолить начальству глаза, а если честно сказать, то чтобы поминутно не козырять проходившим мимо командирам, я зашел в безлюдный коридорный тупичок и погрузился в свои невеселые думы. Через окно тупичка видна бухта Северная. От причала на противоположном берегу только что отошел катер. Трудно ему преодолевать крутую волну, поднимаемую встречным ветром. Это видно по килевой качке. Нос катера то поднимается вверх, почти на самый гребень вспененной волны, то опустится вдруг вниз, в убегающую борозду моря. И тогда кажется, что маленькому суденышку не справиться со стихией, не добраться ему до берега. Но нет, катер упрямо идет к южному причалу. Я не сразу услышал голос дежурного офицера:
— Старшина! Старшина! Ну что же ты. Его зовешь-зовешь, а он, как сурок, забился в угол, и никаких признаков жизни. Иди, там уже ждет тебя политрук.
В кабинете политрука никого, кроме него самого, не было. Павел Петрович выглядел, как всегда, подтянутым, но немного уставшим. По тому, как он молча указал мне на стул, а сам продолжал смотреть в сторону Херсонесского маяка, словно именно оттуда должен был прийти ответ на какой-то очень важный для него вопрос, я понял, что сейчас ему не до меня, что именно теперь у него своих дел, куда более важных, чем мои, невпроворот. Все это так. Но как же быть с моими-то делами? Если бы они были только личного характера, то я, конечно, не рискнул бы в такое время обращаться с ними к политруку. Павел Петрович, казалось, понимал мое состояние и поэтому не торопил меня, давал возможность прийти в себя, собраться с мыслями.
— Тут у нас, товарищ политрук, дела круто заварились, — и я рассказал о происшествии на нашем посту.
— Так ее что, Звягинцев привел?
— Нет, товарищ политрук. Она от него убегала. Ну вот, как бывает с жертвой какого-нибудь хищника. Чтобы спастись, бежит иногда к людям.
— Неужели поганец надумал обесчестить ее?
— Думаю, что так оно и было. Но дело не только в этом. Почему Маринка оказалась рядом с нашим постом? А потом, товарищ политрук, слышали бы вы, как она закричала, когда я заикнулся о задержании перед ее матерью. «Коля, не смей говорить этого маме!»
Павел Петрович прошелся по кабинету, подошел к окну, долго всматривался в очертания северного равелина у входа в Севастопольскую бухту. Не поворачивая головы, он спросил:
— На каком расстоянии от поста обнаружил ее Звягинцев?
— Метров сто, говорит.
— А до подножья горы сколько будет?
— Все триста.
— Может человек пройти такое расстояние незамеченным?
— Вахтенным сигнальщиком?
— Да.
— Нет, товарищ политрук, такого не может быть.
— Но Хрусталева же не дьявол, который может перевоплощаться в птицу.
Кто сегодня дежурил в это время? Танчук. Неужели же он мог не заметить Маринку, когда она поднималась на гору? Вряд ли. Лев Яковлевич глазастый парень. Он увидел бы ее раньше, еще когда она выходила из своего виноградника. Может быть, увлекся в это время каким-нибудь видом на море? Стыд какой! Перед помполитом сами себя в дурацкое положение поставили.
— Виноваты, товарищ политрук. Могло случиться, что и не заметили.
— Ну а с вахтенным-то вы хоть говорили?
— Клялся, что никого не было.
— Не иначе как нечистая сила замешана, — с иронией заметил Павел Петрович. — Ладно. Может, вы тут и ни при чем.
В коридоре кто-то пробежал. Вслед за этим с силой хлопнула дверь. Во дворе уже подавалась команда: «Первое отделение, становись!»
— Наверное, тревога, — заметил политрук, быстро направляясь к двери своего кабинета. Однако первым открыл дверь не он, а дежурный офицер: «Боевая тревога, товарищ политрук!» — Ну вот и поговорили, товарищ старшина второй статьи. Правда, выяснить так ничего и не удалось. А дела у вас чудные, под стать тем, которые прославили в свое время знаменитый хутор Диканьку. Бегите на свой пост, а я попробую разобраться в этом по своим каналам.
Опять пришлось преодолевать бегом дистанцию в двенадцать километров. Правда, теперь не было дождя. Зато немилосердно жгло солнце. Уже на втором километре я вспоминал свой бег во время ливня как о совсем нетрудной прогулке. Тогда бег горячил мое тело, а дождь остужал его, и я находился, как теперь казалось, в условиях почти полного комфорта. Совсем по-другому чувствуешь себя, когда бежишь под палящими лучами солнца. Справа от дороги и до самого берега моря протянулись виноградники. Смотришь па широкие узорчатые листья растений, и хотя бы один из них шелохнулся, все кустарники стояли как зачарованные. Одежду я снял сразу же, как только остались позади последние пригородные строения. Но и это не спасло от жары. Пот заливал лицо, мелкими ручейками затекал в глаза, рот, попадал на язык, вызывал ощущение соленого с примесью горечи. Казалось, я плыву к берегу и никак не могу справиться с зыбью, соленая вода все время захлестывает мое лицо и не дает мне дышать. А бежать еще добрый десяток километров. Не знаю, как бы я справился с оставшейся частью пути, если бы не полуторатонная грузовая машина, которая шла на Балаклаву. Обогнав и обдав меня дорожной пылью, она остановилась метрах в тридцати впереди.
— Что, матрос, увольнительная кончилась? Так вроде бы еще рановато! — крикнул водитель, выглядывая из полуоткрытой дверцы своей кабины.
— Да нет, тревогу объявили. А тут еще такая жара.
— Эк тебя развезло. Прямо как из парной. Залазь в кузов. Там быстрее придешь в себя. Не садись только на борт, — предупредил меня водитель.
— Ладно, трогай. Тут есть где устроиться, — ответил я, перелезая через борт машины.
Через полчаса я был уже в расположении поста, а еще часа через два вернулся и Звягинцев.
Раньше мы как-то не обращали внимания на физические недостатки Семена, мешковатый вид его одежды. Теперь же, когда рядом оказался Севалин с его тонко и строго подогнанной формой, нескладность Звягинцева казалась почти уродливой. Даже немного великоватая бескозырка, упиравшаяся своим околышем в ушные раковины, выглядела как-то нелепо и только подчеркивала несоразмерно маленькую голову ее хозяина. Уродство боится контрастов, так же, как боятся их подлость, ложь, безнравственность, трусость, предательство. Может быть, именно поэтому Звягинцев с первой же встречи не взлюбил Севалина, не взлюбил его за опрятность, подтянутость, бросавшееся в глаза сознание собственного достоинства. Поведение Звягинцева по отношению к Севалину напомнило мне один случай. Однажды я шел из дому. Мимо меня проходили навстречу и в том же направлении знакомые односельчане. Чуть впереди от меня шел наш новый учитель. Вдруг из переулка выбежала худая, с облезшей шерстью собака. Она увязалась не за кем-нибудь, а именно за этим учителем. Он не обращал на нее внимания, полагая, что ей в конце концов надоест лаять и она отстанет от него. Не тут-то было. И где столько злости бралось у животного. То она забежит справа и чуть ли не хватает его за брюки, то, злобно рыча, пронесется мимо и с оскаленными зубами загородит ему дорогу, сделав круг, пытается напасть слева. До самого магазина сопровождала его лаем собака. И сколько я ни оглядывался, она все время стояла и лаяла в сторону исчезнувшего учителя. Звягинцев, встретив осуждающие взгляды товарищей, понял, что ввести их в заблуждение ему не удастся. Он взял из пирамиды свой карабин и с ожесточением начал его чистить.
— Ты не переживай, Сеня, — попробовал успокоить его Севалин. — Шрамы на лице, это как символ мужества. Их девушки ценят больше, чем красоту.
— Так цэ ж шрамы вид бойовых ран. А як вид укусив, так дивчата тилькы рэгочуть над нымы, — уточнил Музыченко.
Парадоксальный факт. Казалось бы, что Звягинцев должен был обрушиться на Музыченко. Но нет. Удар пришелся по Севалину, который пытался ободрить Семена.
— Ты, исусик, не бери на себя много. Наружность она такая: сегодня есть, а завтра, гляди, ее уже коты съели, нету ее, малость попортили.
— Гад жа ты, Сымон, — заключил Лучепок. — Да цябе па-добраму, а ты зверам огрызаешся.
Никто после этого не захотел продолжать начатый разговор.
Лучший способ отвлечь свои мысли от огорчений — наблюдение за семейством орлов. Я смотрю на них из своего укрытия, и мне кажется, что сегодня у них как в доме, который собираются покидать. Забивают досками окна, выносят и укладывают в телегу домашнюю утварь. В орлином гнезде, правда, ничего подобного нет. И все же какие-то неуловимые признаки наводят на мысль, что сегодня орлы покинут свое жилище. Недаром и орел и орлица не покидают гнезда, суетятся, время от времени подталкивают к краю обрыва то одного, то другого птенца. Слышатся какие-то гортанные звуки, в ответ на которые раздается жалобный писк. Похоже, родители пытаются убедить своих детенышей, что пора решаться на первый взлет. Птенцам страшно. Они боятся лишиться твердой опоры и поэтому, как могут, сопротивляются родительской воле. Орлица настойчиво добивается своего. Она подтолкнула мощным туловищем орленка к краю гнезда и затем сбросила его в пропасть. Вначале птенец пытался удержаться на краю обрыва. Но потом, окончательно потеряв равновесие, вынужден был распластать свои крылья и впервые в своей жизни перейти на свободное парение. С радостным клекотом ринулась за ним и орлица. Она опередила орленка и как ведущий повела за собою ведомого в горы. В гнезде гортанные звуки усилились. Это старый орел, должно быть, стыдил оставшегося орленка в его нерешительности. По отношению к детям меры принуждения иногда просто необходимы. Словно понимая это, орел энергично столкнул птенца в пропасть и, тут же опередив его, улетел с ним в том же направлении, в котором скрылась первая пара птиц. Опустело орлиное гнездо. На душе стало немного тоскливо. Так иногда тоскуют по хорошим друзьям, которые покидают твой город и больше в него не возвращаются.
19
Раньше, при Ваське Демидченко, я просыпался, когда меня будили, медленно. Теперь же вскакиваю с постели при первом дотрагивании или достаточно громком обращении. Нельзя сказать, что у меня ухудшился сон. Нет, я могу крепко спать даже при громком разговоре. Но при одном условии: если этот разговор— просто беседа о чем-нибудь обыденном, житейском. Так, я слышал, в старину мельники спокойно засыпали под мерный гул жерновов. Но как только утихал ветер и переставали вращаться крылья мельницы, как только останавливались жернова и наступала тишина, мельник мгновенно просыпался. Было за полночь, когда я услышал сквозь сон негромкое, но тревожное:
— Старшина! Старшина!
Я вскочил с постели.
— Что, тревога? Буди остальных.
— Да нет. Тревоги не объявляли. Тут вот, — и Севалин, дежуривший у рации, протянул мне бланк заполненной радиограммы.
Я уже привык к выражению лица Севалина. Оно не такое, как у других. У Лефера, например, лицо как открытая книга. По нему можно определить: радуется он или печалится, одобряет поведение человека или осуждает, рассказывает откровенно или что-нибудь скрывает. Определить чувства Валерия по выражению его лица не так-то просто. Чтобы установить истинный цвет крыши какой-либо постройки покрытой слоем пыли, нужен ливень. Временами мне кажется, что понять характер Севалина можно лишь в условиях какой-нибудь серьезной встряски. Приходя после сна в себя, я смотрел на Валерия и не узнавал его. Раньше мне ни разу не приходилось видеть его в состоянии настоящей тревоги. И только теперь я понял, что произошло что-то серьезное.
— Почему не расшифровал?
— Абракадабра получается.
— Какая еще абракадабра? — не понял я.
— Пробовал декодировать — несуразица выходит.
— А кому адресована радиограмма?
— А черт его знает. В кодовой таблице нет таких позывных.
Я смотрел на бланк с аккуратно записанными цифрами. Шесть групп. В каждой группе по пять столбиков из четырех цифр. Позывные станции, которой была передана радиограмма, состояли всего лишь из одной буквы и двух цифр. Такими же, короткими были и позывные станции-отправителя.
— Ты знаешь, сколько сейчас работает станций с неизвестными нам позывными? — пробовал я успокоить себя мыслью о том, что радиосигналы в ночное время могут доходить до нас не только из других городов, но даже с другой стороны планеты. — Их тьма тьмущая.
Валерий молча, но с явно иронической улыбкой выслушал до конца мое объяснение и ответил:
— Догадываюсь, что морзянок сейчас в эфире, как цыплят в инкубаторе. Но эта морзянка, дорогой товарищ старшина, особая. Ее выпустили не на западном полушарии, а где-то здесь, может, совсем рядом.
— По каким это признакам ты так точно определил место расположения станции?
— По очень четким и ясным сигналам.
Это уже серьезный довод. Работу далеко расположенных радиостанций, особенно ведущих передачу в ночное время, можно слышать с помощью нашего приемника четко. Но при этом неизбежно проявляется эффект так называемой интерференции волн — явления периодического усиления и затухания сигналов.
— А как насчет судна в нейтральных водах?
— Я уже слышал историю с нейтральными водами, — улыбнулся Севалин. Дальше продолжать он не стал, хотя чувствовалось, что эта история, в том числе и мои приключения, ему известны во всех подробностях. Пока мы решали, как лучше поступить в создавшейся ситуации, с наружного поста наблюдения послышался окрик: «Стой! Кто идет?» Ответ был невнятным. Судя по звукам осыпавшихся мелких камней, к нам на вершину кто-то спешно поднимался. «Стой! Стрелять буду! — послышался лязг затвора и громкое обращение Танчука к Севалину. — Валерий! Разбуди старшину».
Пришлось поторопиться. Выяснив у дежурного сигнальщика, что внизу какая-то небольшая группа людей направляется к нам на пост, я приказал Танчуку поднять всех по тревоге, занять посты по боевому расписанию и ждать дальнейших распоряжений. Сам я спустился вниз к остановившейся группе людей. Их оказалось три человека: уже знакомый мне старший лейтенант, старшина первой статьи и матрос.
— Проведите нас на пост, — распорядился старший лейтенант.
Недавно к нам протянули телефонную линию, и теперь у нас была более надежная связь с нашим командованием. Нежданных гостей я оставил в помещении радиостанции, а сам пошел к дежурному сигнальщику связаться по телефону со штабом дивизиона. Дежурный командир потребовал к телефону прибывшего к нам старшего лейтенанта. Принимая от меня телефонную трубку, наш гость назвал какой-то номер и сказал, что будет ждать ответа. Через минуту старший лейтенант протянул мне трубку.
— Вас.
— Старшина второй статьи Нагорный слушает вас.
— Вы переходите в полное подчинение прибывшего к вам старшего лейтенанта. Выполняйте.
— Есть! — ответил я и тут же доложил стоявшему рядом командиру о том, что весь личный состав поста в его подчинении.
— Вот что, старшина, — старший лейтенант как-то не по военному взял меня за локоть и повел меня по гребню горы к северному краю траншеи. — Тут, брат, серьезная петрушка получается. Кто сейчас дежурит у рации?
— Севалин.
— Вы давно его знаете?
— Да нет, не очень. Его недавно списали с училища и затем перевели к нам.
— За что?
— Не знаю. Сам он ничего об этом не рассказывал.
Старший лейтенант остановился, извлек из кармана пачку папирос, растер одну из них и хотел было закурить, да передумал. Минуту стоял, словно решал, стоит ли посвящать меня в свои дела. Потом все же сказал:
— Дело в том, что недавно с вашей радиостанции была послана радиограмма с неизвестными позывными ни того, кому передавались сведения, ни того, кто их передавал. Расшифровать радиограмму пока не удалось. Что вы скажете на это?
Что я мог сказать стоявшему и ждавшему ответа командиру? С одной стороны, мне казалась чудовищной даже мысль о возможности передачи радиограммы, адресованной не посту дивизиона, а кому-то другому. С другой стороны, полностью поручиться за Севалина я не мог, так как практически не знал его. Не знал ни о том, что он за человек, ни о том, за что исключили его из военно-морского училища.
— Не знаю, товарищ старший лейтенант, что и думать. А может, эта станция подстроилась под нашу: расположилась где-нибудь рядом?
— Не исключается. Для этого ваш квадрат оцепляется сейчас нашими подразделениями. Утром начнем прочесывать.
— Вы знаете, товарищ старший лейтенант, ведь первым о радиограмме сообщил мне никто другой, как Севалин. Он для этого меня и разбудил.
— Разбудил он вас, когда принимал радиограмму или после того как ее принял?
— Радиограмма уже была принята.
— Тогда, что это доказывает?
— Неужели можно специально все подстроить? Да никому и в голову не пришло бы так сделать.
— Если все это камуфляж, то вашему Севалину в изобретательности не откажешь.
— Просто не верится.
— Подождем до утра. Тогда сразу все и выяснится. Не зря же говорят, что утро вечера мудренее. А пока никому ни слова. Наружный пост усильте еще одним вахтенным, остальным можно отдыхать.
В помещении радиостанции собрались Лученок, Звягинцев, Сугако, гости и я. Севалин продолжал нести дежурство у радиостанции. Старший лейтенант взял заполненную Валерием радиограмму, несколько раз пробежал глазами по цифровому тексту, прикидывая, наверное, с какой стороны лучше подойти при ее расшифровке. Решив, что сейчас это совершенно бесполезное занятие, он едва заметно махнул листом и спрятал его в планшет.
— Время указано точно, — все сидевшие в помещении восприняли эти слова командира, как похвалу в адрес Севалина, который не только внимательно следит за тем, что делается в эфире, но и точно фиксирует время происходящих событий. Я же теперь знал, что старший лейтенант вкладывал в свои слова другой смысл. Он не только не исключал причастности Севалина к передаче злополучной радиограммы, но по всем признакам все больше склонялся именно к этой версии. Казалось, его только удивляла тонкость, с какой была проведена эта операция. Сам Севалин продолжал спокойно вслушиваться в эфир. Лученок, поняв, что гости пожаловали к нам именно в связи с принятой радиограммой, спросил:
— А работавшую станцию засекли?
— Засекли, засекли, — многозначительно ответил старший лейтенант.
— Наверное, опять там же, где и первый раз.
— Нет, на этот раз не там, а здесь.
— Как здесь? — не понял Лученок.
— Так вот. Здесь, и все.
Наступила звенящая тишина.
Несмотря на то, что у дежурного радиста наушники были плотно прижаты к голове, все отчетливо слышали не только писк морзянок, но даже фоновый шум с периодическими потрескиваниями электрических разрядов.
— Тогда надо оцепить этот район, чтобы не успел уйти гад, — предложил Лученок.
— Уже оцепили, — ответил старший лейтенант, взглянув на часы. — Теперь не уйдет. Подождем только до рассвета. В темноте лучше стоять, слушать и наблюдать. Лазутчик, если только он попробует выбраться из окружения, обнаружит себя на расстоянии.
— Верно, — согласился молчавший до сих пор Сугако.
Потянулись минуты напряженного ожидания. Странное, какое-то раздвоенное чувство овладело мною. Я знал то, чего не знали другие. Лученок, конечно, не допускает даже мысли о том, что радиограмма могла быть передана с нашей радиостанции. Он просто уверен, что вражеский лазутчик где-то притаился и ждет удобного момента, чтобы уйти из зоны, взятой под наблюдение специальными подразделениями. Все понимали, что тишина обманчива, что ее в любой момент могут разорвать гулкие выстрелы флотских карабинов. Несколько раз Михась выходил на площадку, медленно поворачивался вокруг, вслушивался в мерный шум морского прибоя, пытаясь не пропустить первых звуков потревоженной тишины. Он опытный радист. Оступись лазутчик на склонах какой-либо возвышенности, Лученок разобрался бы, осыпались ли это мелкие камни или ударила о берег морская волна.
Пришедшие к нам старшина первой статьи и матрос сидели молча, не проявляя никакого интереса к нашим делам, но готовые к немедленному выполнению приказания своего командира.
Старший лейтенант вел себя особо. Он все время наблюдал за Севалиным. Но смотрел при этом не прямо на него, а на предметы, расположенные поблизости. Я попробовал сделать так же: смотрю на анодные батареи и, не переводя взгляда на Валерия, пытаюсь определить, чем он занимается. Оказывается, видно отлично. Хитрец старший лейтенант, внешне ведет себя спокойно, делает вид, будто ему скучно, что он с удовольствием завалился бы сейчас спать. Чтобы «осилить» дремоту, он время от времени неторопливо достает папиросы и также неспешно закуривает.
Начал светлеть восточный край неба. На юге рассветы короткие. Через какие-нибудь полчаса стали резче выделяться силуэты горных вершин. Самая высокая из них Роман-Кош уже светилась яркой короной солнечных лучей. Лишь внизу, у подножия горы, все еще было сумрачно. Туда тонкой пеленой сползал из ущелий туман. Удивительная пора раннее утро. Все словно зачаровано, пронизано величественным первозданным покоем. В такие минуты забывается мелочное, суетное. Мир представляется не просто прекрасным, а таким, в котором все постоянно совершенствуется. Некоторые люди склонны проводить аналогию между природой и мастерской художника. Это наивное упрощение. Творя произведение, художник делает мазки, снимает их, кладет новые. Иногда изменяет, казалось бы, уже законченный труд. Природа так не поступает. Она совершенствует свои творения только в замыслах. Уже созданное, каким бы прекрасным или уродливым оно ни было, не меняется. У природы нет своего архива, нет музея. Остаются иногда только кладбища, по которым мы судим о ее прошлом.
— Вы в чем-то меня подозреваете — произнес Севалин, сдвинув наушники.
Сказанное было настолько неожиданным, что даже Лученок, обычно спокойный, крикнул:
— Ты что, рехнулся?
— Нет, Михась, не рехнулся. Сейчас все в оцеплении. И место наших гостей тоже там. Но они предпочитают оставаться здесь. Ты не скажешь, с чего бы это?
Вопрос Севалина был настолько логичным, что с этим Лученок не мог не согласиться. Он перевел вопросительный взгляд на старшего лейтенанта, и тому нужно было что-то сказать.
— Сейчас все выяснится, — ответил он, приглашая всех свободных от дежурства на площадку. Проснулись Сугако и Звягинцев. Они молча, не спрашивая, куда мы направляемся, последовали за нами. На площадке старший лейтенант остановился, достал ракетницу и выстрелил по направлению генуэзских башен. Красная ракета взвилась в воздухе, описала крутую дугу и медленно, оставляя за собою белый шлейф дыма, спустилась на землю.
— Вы остаетесь у рации. Дежурного радиста не выпускать, — приказал старший лейтенант сопровождавшему его старшине первой статьи. — Ни при каких обстоятельствах! Все остальные за мной.
Район оцепления, как выяснилось, представлял собою довольно обширную территорию, включавшую окраины Балаклавы, Кадыковки, склоны возвышенности, на которой находилось итальянское кладбище, восточное отделение местного виноградарского совхоза. Спускались молча, не торопясь. Метрах в пяти от меня бугор и за ним выемка. Бугор зарос густым кустарником, за которым человек мог стоять во весь рост и оставаться невидимым. Сколько таких складок на этой горе? Я исходил ее вдоль и поперек и знаю, что их, этих складок, бесчисленное множество, и за каждой из них можно легко укрыться. Легко потому, что здесь, кроме них, еще и густые, местами непролазные кустарники. Метр, еще метр. Неужели это случится сейчас? Вряд ли. Противник, решивший сопротивляться, не подпустит человека на такое близкое расстояние. С другой стороны, почему бы и нет, если он надеется на то, что его не заметят и пройдут мимо. Выстрелить он всегда успеет. Можно ли в этих условиях перехитрить человека. Наверное, можно. Противник перейдет к активным действиям лишь тогда, когда встретится с чужим для него взглядом. А если поступить так, как вел себя старший лейтенант, наблюдая за Севалиным? Обойти наиболее углубленное место чуть сбоку и смотреть при этом прямо, не заглядывать в выемку и делать вид, что прочесывание надоело тебе до чертиков и ты ждешь не дождешься, когда кончится эта канитель. Я сломал стебель какого-то растения и, размахивая им по сторонам, начал обходить кустарник. Глядя сейчас на выражение моего лица, каждый мог бы подумать, что я из рук вон плохо выполняю боевую задачу. Смотрю на вершины гор и совсем не замечаю, что делается у меня под носом. Остроту бокового зрения я проверял еще у себя на посту. Все видно было отлично. Сейчас, когда склоны горы, по которым мы спускались вниз, уже были освещены лучами восходившего солнца, все просматривалось до мелочей. Даже углубление, заросшее полынью. Стебли растений стояли прямо. Нигде ни малейших признаков присутствия чужого человека. Напряжение спало. Сейчас можно повернуться и проверить выемку со всей тщательностью, так, чтобы не остался незамеченным даже заяц, если бы он решил облюбовать это место для своего лежбища. Тревога, связанная с возможной опасностью встречи с вооруженным врагом, исчезла. Но ее место начало заполнять другое тревожное чувство. А что если противника нет, точнее, если мы его не обнаружим? И не только мы, но и все, кто участвует в прочесывании местности. Я гоню от себя эту мысль, которая, как назойливый слепень, преследует и больно жалит. Факты, которыми располагает старший лейтенант, еще не доказательство того, что радиограмма была передана нашей радиостанцией. Но и отмахнуться от них тоже нельзя. Кто-то выдвинул предположение о нашей причастности к происшедшим событиям. Теперь мы, не имеющие никакого опыта в этих делах, должны по своему разумению доказывать свою невиновность. Впрочем, говорить об этом пока еще рано. Прочесывание местности продолжается и, возможно, если не на нашем, то на одном из соседних участков враг будет обнаружен. Впереди показалась цепь моряков, шедших к нам навстречу. Еще до полного сближения отрядов вперед выбежал лейтенант и доложил нашему командиру, что на участке никаких следов нарушителя не обнаружено.
— Подождем остальных, — ответил старший лейтенант. Он сел на один из уступов и, не скрывая своего раздражения, ломал одну спичку за другой, пытаясь зажечь папиросу.
По всем признакам сбор командиров подразделений всего отряда моряков был назначен именно здесь. Старший лейтенант, зло бросив так и незажженную папиросу в сторону, раскрыл планшет, извлек бланк с заполненной радиограммой и долго его изучал. Он, конечно, понимал, что, сколько бы ни смотрел на него, загадка так пока и останется загадкой.
Прибежал последний из командиров групп.
— Конечно, и вы тоже с пустыми руками? — Спросил старший лейтенант, уже не надеясь на удачу.
— С пустыми, товарищ старший лейтенант, — виновато ответил командир группы.
Минуту все молчали, после чего старший лейтенант поднялся с уступа и сказал:
— Сиди не сиди, но так ничего не высидишь. Разводите людей по подразделениям. А вы, — обращение было адресовано нам, — пойдете со мной.
Поднимались мы на свой пост угрюмыми, с тяжелым чувством какой-то вины. Лученок тоже был в состоянии какой-то растерянности. Поэтому он и спросил:
— А если этот гад успел проскочить раньше, чем мы опомнились?
— Исключается, потому что в оцеплении участвовали подразделения гарнизонов не только Балаклавы, но и окружающих населенных пунктов. Все они были подняты по тревоге сразу же, как только засекли работавшую станцию.
— Товарищ старший лейтенант, — не сдавался Лученок, — а вы помните работу Владимира Ильича «Материализм и эмпириокритицизм»?
— А какое отношение имеет эта работа к нашим делам?
— Помните, как Ильич объяснил факт «исчезновения» материи?
— Философ вы. Как ваша фамилия?
— Лученок, товарищ старший лейтенант.
— Философ вы, краснофлотец Лученок. Вражеский лазутчик не электрон, который не разглядишь даже под самым сильным микроскопом. Он человек. А люди еще не научились становиться невидимками. Так что пример не подходящий.
— А вдруг, — упрямо стоял на своем Лученок. — Может, он был и исчез. Только мы не знаем как.
— Да поймите же вы, неисправимый фантазер, что факты— упрямая вещь. Их никто не может отрицать.
— Какие факты?
— Вы знаете, что такое радиопеленгация?
— Слышал.
— Знаете или только слышали?
— Знаю.
— Ну так вот. Местонахождение работавшей станции совпадает с вашим постом. Это факт?
— Факт.
— И второе. Предположим, что эта станция действительно находилась рядом с вашей. Мы оцепили большой район. Подождали до утра, чтоб в темноте не пропустить лазутчика. Прочесали местность. Результаты прочесывания вы знаете. Это факт?
— Факт.
— Какие выводы следуют из этого?
— Да ясно какие.
— То-то и оно.
— И все-таки я не согласен.
На эту реплику Лученка старший лейтенант ничего не ответил, решив, по-видимому, что если человек не хочет считаться со столь очевидными фактами, то продолжать спорить с ним, а тем более разъяснять ему абсурдность позиции, которой он придерживается, по меньшей мере бесполезно.
На посту, по докладу дежурных сигнальщиков, никаких происшествий не произошло. Севалин продолжал дежурить у радиостанции. По мрачному выражению его лица видно было, что он догадывается о возникшем подозрении. Да и как было не догадаться, если рядом неотлучно находился «дежурный» гость. Когда мы вошли в помещение радиостанции, Валерий, еще надеясь на что-то, произнес:
— Ну вы-то можете сказать!
Не только могли, но и говорили. Но наши доводы повисли в воздухе. Для доказательств нужны факты, их у нас не было. Радиограмма, принятая Севалиным, не может служить серьезным аргументом в его пользу. Скорее наоборот. Но разве скажешь обо всем этом Валерию? Нет. Нам стыдно было смотреть в его глаза, и мы избегали встречи с его взглядом. Отвратительное это состояние не иметь возможности честно и прямо смотреть товарищу в глаза. Ощущение такое, что ты предаешь его, спасая свою шкуру. Валерий смотрит то на Лученка, то на меня, то на Сугако. Звягинцева он в расчет не принимал. Тот, по мнению Севалина, может поступить против совести даже в таком серьезном деле, как это. Но мы — я, Михась и Лефер — как мы можем молчать? Мы же не верим в то, что он предатель. Так почему же мы не сказали об этом старшему лейтенанту? Но мы молчим, боимся встретить его укоряющий взгляд.
— Никак не думал, что вы окажетесь такими, — произнес Севалин. Он понимал, что сейчас он должен сдать вахту и уйти вместе со старшим лейтенантом и его сопровождающими моряками.
— Оружие оставьте на посту, — распорядился старший лейтенант.
— Что же это за полоса невезений. Недаром говорят: одна беда не ходит рядом; пришла беда — отворяй ворота, — говорил вполголоса скорее самому себе Валерий, собирая нехитрые свои пожитки.
Провожая старшего лейтенанта, я спросил его:
— Могу я доложить своему командованию о случившемся?
— Это ваша прямая обязанность. Но пока вы сообщите, ваше командование обо всем уже будет знать.
По телефону я связался с командиром взвода и просил у него разрешения прибыть в штаб дивизиона для доклада о происшествии на посту. Разрешение было получено, и я, немедля, отправился в Севастополь. Как ни странно, в радиовзводе уже знали о случившемся. Веденеев, тот прямо сказал:
— Так что, гадом оказался курсант? Не зря, значит, его турнули из училища.
— Ладно, Олег, где сейчас командир взвода? — я не хотел распространяться на этот счет, а тем более давать какое-либо толкование страшным событиям. Личное убеждение — убеждением, а что окажется в действительности, пока никто сказать с уверенностью не может.
Командир взвода не заставил себя ждать. Он вызвал меня к себе, уточнил подробности происшествия и задумался. Видно, и у Литвина было много забот. Продольные морщины на щеках углубились. Кадык и тот, кажется, стал острее.
— Помполит предупредил, что если появитесь, сразу к нему.
К нему, так к нему. Этого следовало ожидать. Теперь придется давать объяснения не одному помполиту. К моему крайнему удивлению, Павел Петрович встретил меня очень радушно. Встал из-за стола, опрятный, подтянутый, и, приглашая сесть, сказал:
— Я не зря в свое время сравнил ваш пост с гоголевским хутором близ Диканьки. Дела у вас, прямо скажем, чудные. Как вел себя Севалин?
— Ведь я его, товарищ политрук, плохо знаю. Даже причина его исключения из училища...
— Мальчишеская драка, — перебил меня Павел Петрович. — И куда бы еще ни шло, если бы подрались между собою. А то со студентами. Да так, что одного пришлось отправить в больницу. Обыкновенная мальчишеская драка. Из-за какой-то девчонки, тоже, кстати сказать, студентки. Солидарность друзей, видите ли.
Павел Петрович помолчал, побарабанил пальцами по столу, встал и начал ходить по кабинету. Потом остановился и спросил меня:
— Интересно, а как бы вы поступили, будь на месте Севалина? Я имею в виду драку из-за девчонки.
Я пожал плечами, так как просто не знал, что ответить. Драться нехорошо. У меня уже есть на этот счет некоторый опыт. Правда, не из-за девчонки. Но как бы я поступил в конкретной ситуации, сказать трудно.
— Впрочем отвечать не надо, — сказал Павел Петрович. — Однажды я уже видел, как вы поступаете в подобных случаях. Да. Ну а как же все-таки быть с Севалиным?
— Вы знаете, товарищ политрук, что он сказал перед уходом. «Никак не думал, что вы окажетесь такими». Это он нам так сказал. Стыдно было, хоть сквозь землю провались.
— А пытались объяснить?
— По-всякому. Только старшему лейтенанту нужны были факты, и ничего другого. А где их взять? Только я так думаю, что для обвинения нужны прямые, а не косвенные факты. Их же практически нет.
— Пресловутая презумпция виновности и вытекающий из нее вывод о необходимости превентивной изоляции подозреваемого, — вслух рассуждал на своем юридическом языке Павел Петрович. — Это я так про себя. Ну а что думаете обо всем этом лично вы?
— Думал по-всякому и ни до чего не додумался.
— Ну хоть какое-нибудь предположение все-таки возникало?
— Возникало, товарищ политрук, но боюсь об этом даже думать.
— Ну-ну.
— А что если к этому имеет какое-то отношение тайна Хрусталевой?
— Ты что, подозреваешь ее? — перешел на «ты» Павел Петрович.
— Да нет, что вы. Об этом не может быть и речи. Но случайно эти звенья где-то сомкнулись. А где — это загадка. Разрешите, товарищ политрук, поговорить с ней начистоту. Она поймет. Тем более, что при матери обещала когда-нибудь рассказать. Ждать-то больше нельзя. Может, Севалин напрасно в беду попал.
— Возможно. Но слишком серьезное это дело. Кустарщины нам не простят. С другой стороны, кому же, как не тебе, она первому должна доверить свою тайну? Ладно. Отправляйся к Хрусталевой и сразу же, как только что-нибудь прояснится, позвони мне.
20
В доме Хрусталевых была одна Анна Алексеевна. Женщина как-то изменилась, хотя с того момента, когда я видел ее последний раз, прошло всего лишь три дня. Лицо стало строгим, даже суровым. Что могло быть причиной такой перемены? Заботы о судьбе своей дочери? Но за этот короткий срок они вряд ли могли стать большими. Атмосфера общей тревоги, вызванной все новыми слухами о готовящемся нападении на Советский Союз фашистской Германии? Но последнее сообщение ТАСС о необоснованности этих слухов, казалось бы, наоборот, должно было успокоить Анну Алексеевну. Значит, случилось еще что-то.
— Хотел с Маринкой повидаться да расспросить ее кое о чем, — сказал я Анне Алексеевне.
— О чем же, если не секрет?
— Да все о том же, что держит в тайне.
— Было бы из чего делать тайну.
Я насторожился. По этому ответу можно было предположить, что Маринка наконец рассказала своей матери о том, что так долго скрывала от меня. Да и не только от меня. От всех. Как поступить сейчас? Начать расспрашивать Анну Алексеевну, делая вид, что все это для меня десятое дело? Или, может, рассказать ей об аресте Севалина? Нет, этого делать нельзя. Правило остается правилом: в воинских делах пусть разбираются сами военные. И еще: военная тайна перестает быть тайной, если в нее посвящаются люди, которым знать ее не обязательно.
Анна Алексеевна выжидающе помолчала, а потом спросила:
— Коля, ты хорошо знаешь Маринку?
— Кажется, да.
— А знаешь ли ты, чем она увлекается?
— Отчасти.
— То-то же, что отчасти, — Анна Алексеевна встала и подошла к этажерке с книгами Маринки.
— Эту книгу ты видел у нее когда-нибудь?
На обложке книги, которую держала в руках Анна Алексеевна, была надпись: «Карстоведение». Об этом предмете у меня было самое смутное представление.
— Если бы ты знал, Коля, сколько я пережила за эти дни. Эта негодная девчонка надумала, видите ли, сделать открытие. Без чьей-либо помощи. Она действительно открыла карстовую пещеру. Когда мне рассказала об этом Маринка, я так начала изучать это чертово карстоведение, как не изучала в школе самый любимый мой предмет. Я теперь знаю все: как вязать узлы брамштоковый, штык простой, штык с двумя шлагами. Но самое страшное для меня оказалось, когда я узнала, какие опасности подстерегают человека в пещере. Обвалы и камнепады, взрывы метана, провалы в междуэтажных перекрытиях, заклинивание в лазах и щелях, сцепление одежды с вязкой глиной, внезапный подъем уровня подземных вод при ливнях. Даже специалисты, мастера спорта по спелеотуризму, бывает, гибнут. А тут девчонка, которая ни черта в этом не смыслит.
Анна Алексеевна все говорила и говорила, словно сдавала экзамен по карстоведению. На меня обрушился целый поток информации об условиях образования и строении карста, о температурном режиме и движении воздуха в карстовых массивах, о пещерном жемчуге и других не менее удивительных формах отложений в пещерах. Временами рассказ Анны Алексеевны прерывался жалобами на то, что Маринка не вполне ей доверяет. Иначе как могло случиться, что обо всем этом ей стало известно только на этих днях. В самом деле, почему Маринка не поделилась своей тайной с матерью раньше? Что касается меня, то тут вопрос ясен. Я еще не заслужил того доверия, на которое мог рассчитывать. А мать? Ведь Маринка когда-то сказала, что они с ней большие друзья. Оказывается, что в некоторые секреты не посвящают даже больших друзей. И не потому, что дочь не вполне доверяла матери. Вовсе нет. Все дело в том, что узнай Анна Алексеевна об одиночных путешествиях своей дочери по сложным и опасным лабиринтам карстовых пещер, она бы запретила эти путешествия раз и навсегда. Маринка понимала это и огорчать мать не стала. Но и отказаться от мысли самой изучить то, что удалось ей открыть, она уже не могла. Не могла, хотя и сознавала, что вся ее затея может кончиться для нее катастрофой.
— Обидела меня Маринка. Обидела до слез, — пожаловалась Анна Алексеевна.
— Она вас пожалела. Как вы этого не хотите понять? — заступился я за Маринку.
— Пожалела?
— Да, пожалела.
— Да я же пока при своем уме.
— Ну посудите сами. Маринка рассказывает вам о своем открытии и собирается в путешествие. Что бы на это ей сказали?
— Чтобы и думать не смела.
— Правильно. Но она уже взрослый человек и может принимать самостоятельные решения.
— Что же это за решение, если его принимает человек, который в этом деле не имеет ни опыта, ни знаний? Ладно бы человек не разбирался в чем-нибудь простом. Ну а если это дело связано с большой и никому не нужной опасностью? Какой в этом смысл, скажи мне, пожалуйста? Она первая, видите ли. Больше никто не знает об этой пещере.
Здравому смыслу рассуждений Анны Алексеевны не откажешь. Все в них правильно, все логично. Как в постулатах евклидовой геометрии. Мы легко можем представить себе точку, линию, плоскость, трехмерное пространство. Но это уже предел. Вообразить себе пространство с четырьмя измерениями мы не в состоянии. Математик же оперирует понятиями не только четырех, но и пяти, и каких угодно измерений. Маринка, может, сама того не сознавая, ушла дальше обычных представлений о здравом смысле. Как математик. Врач дивизиона рассказывал нам о том, что в тысяча восемьсот семьдесят шестом году Мочутковский привил себе возбудителя сыпного тифа, а в тысяча девятьсот двадцать седьмом году Латышев посадил себе на предплечье тринадцать клещей и через десять дней после их укусов заболел клещевой лихорадкой. Разве с позиций обычных представлений о здравом смысле можно назвать разумными поступки этих врачей? Ведь они рисковали не только своим здоровьем, но и самой жизнью. Добровольно обрекали себя на смертельный риск. Во имя чего? Вот тут-то и начинается непостижимое четвертое измерение. Рисковать жизнью могут многие. Даже трусы. Казалось бы, ну что общего между трусостью и способностью к риску. Они просто несовместимы. Но это только на первый взгляд. В действительности дело обстоит гораздо сложнее. Трус и умирает по меньшей мере дважды и рискует столько же. Первый раз — когда предает от страха за свою шкуру, второй раз — когда делает отчаянные попытки избежать неминуемой расплаты за предательство. Трусы, уголовные преступники, избравшие своим ремеслом бандитизм, рискуют и умирают как загнанные волки. Их риск — не четвертое измерение, а элементарная кривая или ломаная линия.
Я не услышал, когда вошла Маринка. Не услышала этого, наверное, и Анна Алексеевна.
— Перемываем косточки? — спросила Маринка, стоявшая в проеме полуоткрытых дверей.
— Ты, оказывается, здесь? — удивилась мать. — А я уже рассказала обо всем Коле. Думала, он поймет меня. Но не тут-то было. Он, представь себе, заодно с тобой. Ты, небось, довольна этим?
— Нет, — ответила Маринка. Мать ее, словно после тяжелой ноши, вздохнула и сказала:
— Наконец-то ум твой прояснился.
— И все-таки я не раскаиваюсь. Если бы мне пришлось начинать все сначала, я, не задумываясь, сделала бы то же самое.
Вот тут я уже совсем перестал понимать Маринку. Что-нибудь одно: либо да, либо нет. Но совместить и то, и другое, мне казалось, невозможно. Интересно было наблюдать за выражением лиц матери и дочери. Маринка выглядела спокойной. Она даже чуточку улыбалась, словно недоумевала: «Ну что же тут непонятного?» Анна Алексеевна, наоборот, помрачнела. Ею снова овладела тревога за свою дочь. Минуту она молчала, словно взвешивала эти «да» и «нет» своей дочери, а потом обратилась с вопросом ко мне:
— Ты что-нибудь понимаешь в этом?
Я неопределенно пожал плечами.
— Я так ничего не понимаю. Ладно, оставим эти споры. Но с этого дня, Маринка, чтобы твоя нога не ступала в эти проклятые пещеры.
— Можешь быть спокойной, мама. Я уже дала тебе слово, что туда больше не пойду.
— Ну вот так-то лучше.
Лучше-то лучше, а как быть мне? Я понимал, что обращаться сейчас к Анне Алексеевне за разрешением пойти в пещеру вместе с Маринкой бесполезно. Но не рассказывать же ей в самом деле о том, что произошло у нас на посту и где теперь Севалин. Невнятно, словно мой рот был набит ватой, прозвучало мое обращение к Анне Алексеевне:
— А если бы Маринка пошла вместе со мной?
Женщина посмотрела на меня, как смотрят на неразумных детей, не отдающих себе отчета в своих поступках. В ее взгляде был немой укор, который следовало понимать так: «Маринка в сущности еще ребенок. Ну а ты-то? Ты же старше ее. Пусть на год, но старше. И уже командир. Как же ты не понимаешь этих простых вещей?» Я бы попытался найти подходящий аргумент. Вроде того, что в воинском подразделении должны хорошо знать не только то, что делается у них над головой, на земле, но и под землей. Но тут неожиданно вмешалась Маринка.
— Я дала маме слово и сдержу его.
После этого всякие аргументы, которые я собирался приводить Анне Алексеевне, отпали. Я натолкнулся на неподатливое, ничем непреодолимое препятствие. Бессмысленно было упрашивать Анну Алексеевну. Еще бессмысленнее уговаривать Марину. Я знаю ее характер: чем настойчивее просьба, тем упорнее отказ. Исчерпано все. Резервов у меня никаких. А делать что-то все равно надо. И я на свой страх и риск глухо промолвил:
— Сегодня ночью арестовали Севалина.
— Валеру? — не поняла Маринка.
— Да.
Наступила гнетущая тишина. Арест сам по себе факт не обычный. В данном же случае он представлялся из ряда вон выходящим. Хрусталевы же знают, какую непомерную тяжесть взваливает подобное горе на плечи близких. Севалин в сущности еще мальчишка. Что он мог натворить такого, что могло вызвать его арест? Ведь он еще только учился, готовился стать флотским командиром. Правда, его списали с военно-морского училища. Ну и что? Дисциплинарный проступок — это еще не преступление.
— Думаю, что это какая-то ошибка, — пояснил я. — Работала чужая радиостанция рядом с нашим постом. А в это время дежурил Севалин.
— Но чужих людей, если бы они находились рядом с вашим постом, вы бы, наверное, заметили?
— Конечно, заметили бы. Но и это еще не все. Сразу же после выхода чужой радиостанции в эфир вся наша местность была оцеплена войсками. Проверили все.
— И никого не обнаружили, — продолжила мою мысль Анна Алексеевна.
— Да, и никого не обнаружили, — повторил я.
— Так что, выходит, Севалин?
— Вот так подумал и командир, который руководил прочесыванием нашей местности. После этого он Севалина и забрал.
Все это время Маринка молчала. И чем дольше длилось молчание, тем шире становились ее глаза. Казалось, она начинала о чем-то догадываться. Но как допустить невероятное? Как можно допустить, что огромное нетающее озеро Эльгыгытгын образовалось от удара о землю метеорита величиной с километровую глыбу? История земной цивилизации не помнит таких катастроф. И все-таки это так. Пусть с тех пор прошли тысячи, а может, и миллионы лет. Волнение Маринки заметила и мать.
— Ты что?
— Может, об этой пещере знает еще кто-нибудь?
— Ну и что? — испуганно спросила мать.
— А вдруг там чужая радиостанция?
— И думать не смей! — закричала мать.
— Но, мама, как ты не понимаешь, что это серьезно? Мало того, что, может, напрасно пострадал Севалин, так еще какой-то гад будет продолжать вредительство. Ты это можешь понять?
— Так я и знала, что эти проклятые пещеры до добра не доведут! — уже по-бабьи заголосила Анна Алексеевна. — Коля, ну растолкуй ты ей, пожалуйста, что это не ее дело.
Что ответить напуганной женщине? Она теперь полностью отдавала себе отчет в том, что это слишком серьезно для всех, кто пойдет в пещеру. Вдвойне опасно для Маринки, так как именно она должна быть проводником и, следовательно, впереди всех, кто будет участвовать в прочесывании пещеры. Первый отпор врага, если только он окажется в подземелье, придется по Маринке. Эту суровую необходимость понимали все, в том числе и Анна Алексеевна. И чем больше она осознавала неотвратимость надвигавшейся опасности, тем сильнее протестовало ее сердце. Это было видно по мертвенной бледности, покрывшей ее лицо. Удивительное дело: Маринка, которая больше, чем другие, подвергалась опасности, была относительно спокойной. Но что творилось с Анной Алексеевной, которой непосредственно ничто не угрожало? Она то сядет на стул и тут же встанет, го поспешно застегнет верхнюю пуговицу кофточки и тут же ее расстегнет, как будто что-то ее душило, то передвинет на столе глиняную вазочку и тут же поставит ее на прежнее место. Я нисколько не сомневался, что если бы можно было, она с радостью, не задумываясь, заменила бы Маринку и пошла бы на самое опасное дело, не колеблясь, встретила бы самое смерть. Так готовы поступить многие матери своих детей. Самка воробья, обычно пугливая, превращается в отважную пичужку, готовую на самопожертвование, как только ее птенцу начинает угрожать хищник.
— Коля, ну придумай, пожалуйста, что-нибудь, — умоляла меня Анна Алексеевна, еще на что-то надеясь.
Я смотрел на ее заплаканные глаза, и мне по-человечески становилось жаль этой убитой горем женщины. Неужели для одного человека мало того, что уже свершилось? Неужели беда и впрямь не ходит одна? Если с Маринкой и в самом деле что-нибудь случится, то Анна Алексеевна этого уже не перенесет. Сомневаться в этом уже не приходилось. И я, чтобы хоть как-то смягчить удар надвигавшейся опасности, сказал:
— А мы сделаем так: Маринка расскажет нам, как расположены эти чертовы лазы, и мы без лишних хлопот все проверим.
— Правильно! — обрадовалась Анна Алексеевна.
— Что же тут правильного? — возразила Маринка. — Да их же, как куропаток, могут перехлопать. Свет от фонарей, это же такая мишень, что лучше и не надо. А уйти от преследователей, так и вовсе ничего не стоит: грохот от осыпающихся камней слышен далеко.
— Ты такого страху нагонишь, что лучше и не трогать этих залетных птиц, — ответил я Маринке.
— Оставлять их в покое нельзя. Ловить их нужно. Только делать это надо знающему человеку.
— Ты-то знающий человек? — с иронией и тревогой спросила мать.
— А кто же лучше меня знает эти пещерные ходы? — искренне удивилась Маринка.
— Ну что мне делать с этой неразумной девчонкой?
— По всему видно, отговорить ее нам не удастся, — ответил я Анне Алексеевне. — Но тогда нужно поступить так: я буду идти впереди, прикрывая Маринку. А вообще, может, все это напрасно, зря только страху на себя нагоняем.
— Если бы все это было так, — заметила Анна Алексеевна. Высказанная мною идея прикрытия Маринки, по-видимому, немного успокоила женщину, но выражение тревоги на ее лице все еще оставалось.
— Медлить больше нельзя, — закончил я разговор. — Мы должны подготовиться, да и Маринка тоже. Через час я зайду к вам.
Я побежал к себе на пост, оставив женщин в тревожном ожидании. Нужно было сообщить политруку о новых сведениях и попросить у него разрешения на прочесывание пещеры. Первый, кто из наших ребят попался мне на глаза, был Лученок. По моему виду он сразу определил, что где-то что-то произошло и это касается непосредственно нас.
— Вахтенных оставить на своих местах, остальным приготовиться к выполнению боевого задания.
— Что-нибудь серьезное? — спросил Лученок.
— Потом, Михась. Собирай ребят.
— Такие, значыць, справы.
Пока свободные от вахты краснофлотцы готовились к неизвестному для них делу, я связался по телефону с политруком и доложил ему обо всем, что удалось выяснить из разговора с Анной Алексеевной и Маринкой.
— Кто еще знает об этом? — спросил Павел Петрович. По интонации его голоса можно было определить, что и он не на шутку встревожен новостью.
— Кроме Хрусталевых и меня, больше никто.
— Никому и не рассказывайте. Дело серьезнее, чем можно было предположить. Личный состав приведите в состояние боевой готовности номер один, а сами в полном снаряжении встречайте меня у Балаклавы.
Томительно тянутся минуты ожидания. Я с карабином в руках и двумя патронташами на поясном ремне сижу на придорожном камне у окраины Балаклавы. Высоко в небе парит орлан. Не из той ли он пары, что недавно покинула свое гнездо па нашей высотке? Может быть. Орланы, говорят, не залетают далеко от своих родных мест. Привольно им здесь: и сурки, и зайцы, петляющие по склонам гор, и косяки рыбы в прибрежных водах— все подвластно этой гордой птице.
Солнце еще не дошло до зенита, а его лучи уже так нагрели разбросанные вокруг камни, что от них, как от невидимого пламени костра, струится вверх, переливается своей прозрачной тканью воздух. От этого стебли растений, кустарники, расположенные за камнями, колеблются, волнуются, как отражения прибрежных зарослей в потревоженной воде.
Прошло с полчаса. На дороге со стороны Севастополя показалось облачко пыли. Время от времени оно, казалось, то стояло на одном месте, лишь немного увеличиваясь в размерах, то перемещалось со стороны на сторону, то вдруг исчезало, когда двигавшаяся впереди точка скрывалась за складками начинавшегося предгорья. На какое-то время пыльное облако ушло за выступ ближайшей горы. А спустя две-три минуты на дорогу вырвались два мотоцикла, мчавшиеся на предельной скорости. Я встал, показывая своим видом, что все уже готово и остановка только за дальнейшими распоряжениями начальства. С остановившихся мотоциклов быстро соскочили: помполит, в таком же звании еще один командир и, кроме них, два краснофлотца. Торопливо приложив руку к козырьку, Павел Петрович спросил:
— Ну и где же эта строптивая девчонка?
— Дома ждет.
— Нам, что, к ней идти?
— Не стоит, товарищ политрук. Мы подойдем к их дому со стороны виноградника, я вызову ее и обо всем договоримся.
— Она готова нам помочь?
— Еще и как! А вот мать ее — та сама не своя.
— На то она и мать.
У виноградника Хрусталевых мы остановились. Маринка, оказывается, заметила нас еще на подходе и теперь торопливо шла нам навстречу. У дома одиноко стояла Анна Алексеевна, ссутулившаяся, придавленная тревогой за свою дочь.
— Коля! — позвала она слабым голосом.
Я понимал, что сейчас не время заставлять командиров ждать. Да и дело такое, что не терпит отлагательств. Сам же я в эту минуту вряд ли мог чем-нибудь помочь этой женщине. И все же, не очень, правда, надеясь на то, что моя просьба будет удовлетворена, я сказал Павлу Петровичу:
— Совсем плоха ее мать. Может, сбегать успокоить?
— Только мигом.
— Есть только мигом, — и я бросился к Анне Алексеевне. Как она изменилась за последнее время! Словно предчувствовала, что ее ждет такое испытание. Раньше у нее волосы были свежими, отдававшими блеском. Теперь они потускнели, утратили свою прежнюю яркость. В глазах невыразимая грусть. Такое выражение бывает у людей, которые много пережили и в конце концов смирились, насколько это возможно, с необходимостью того, что еще предстояло им перенести.
— Анна Алексеевна, вы не переживайте, — пытался я успокоить ее.
— Понимаю. Я прошу тебя, Коля... ты уж, пожалуйста...
Какие слова нужно найти, чтобы она поверила в меня? Нет, слова останутся словами, как бы их не подбирали. И все-таки сказать ей что-то нужно.
— Все будет хорошо.
— Убереги Маринку, — почти шепотом произнесла Анна Алексеевна.
— Постараюсь, — и, немного помедлив, добавил. — Чего бы это мне ни стоило.
Пока я говорил с Анной Алексеевной, Маринка стояла на тропинке между виноградными лозами и ждала меня. Идти к незнакомым военным одна не решалась.
— Что, трусишь? — спросил я нарочито насмешливо, желая подбодрить ее.
— Еще чего.
— Тогда пошли к моему начальству.
Маринка первая поздоровалась со всеми военными, а потом перевела взгляд на меня и спросила: «Что будем делать?» Павел Петрович видел Маринку впервые. Глядя на нее, он, казалось, мысленно говорил мне: «А ты, брат, не промах. За такую девку стоит драться». А Маринка выглядела в эти минуты просто неузнаваемой. Ожидание надвигавшейся опасности наложило на нее отпечаток строгости, придало чертам ее лица выражение суровости и даже некоторой резкости. Сейчас это впечатление несколько смягчалось при взгляде на ее фигуру. Маринка надела на себя спортивный трикотажный костюм, плотно облегавший ее тело. Природа не часто наделяет женщин такой стройностью, которой одарила эту девушку. Она оделась по-спортивному по чисто практическим соображениям. В пещере, особенно в узких лазах, такая одежда просто незаменима. Но сейчас в обществе молодых военных Хрусталева вдруг смутилась. И хотя присутствовавшие делали вид, что их ничто, кроме предстоящего боевого задания, не интересует, замешательство девушки заметно усилилось. Женское чувство подсказывало ей, что молодые парни не могут хотя бы украдкой не бросать на нее восхищенных взглядов. И виной этому не только ее глаза, но в какой-то мере и спортивный трикотажный костюм. Павел Петрович первый заметил смущение Маринки. И чтобы ни у кого не возникало даже мысли о том, что наша проводница оделась по-спортивному из чисто женского кокетства, сказал:
— Это вы правильно сделали, что надели такой костюм. А вот нам, наверное, придется нелегко. Ну ничего. Приспособимся как-нибудь.
— Как-нибудь нельзя, — ответила Маринка. — Стук от ваших ботинок будет слышен далеко, и это может испортить все дело.
— Но не босиком же нам идти, — возразил другой, до сих пор молчавший командир.
— Босиком тоже не дело. Придется надеть какие-нибудь чехлы на обувь.
— Да вы что, девушка. Возвращаться в штаб?
— Зачем же? Моя мама сошьет их вам за полчаса.
— Разумно, — согласился Павел Петрович.
Пришлось ждать еще некоторое время, пока не будут изготовлены хотя бы наскоро чехлы для обуви. Анна Алексеевна приняла гостей с тем радушием, которое только позволяло ее душевное состояние. Она приветливо улыбалась, но выражение затаенной грусти в глазах оставалось. «Вы уж извините, пожалуйста, что так получается, — казалось, хотела сказать хозяйка. — У каждого из вас есть мать, которая вас любит. Я тоже люблю свою Маринку».
Из всех присутствовавших лучше других знал ситуацию Павел Петрович. Поэтому он старался держать себя как можно мягче, не причиняя женщине дополнительных переживаний. Лучший способ отвлечь внимание человека от его главных забот — тактичный переход к разговору на отвлеченную тему. Этим испытанным средством не замедлил воспользоваться политрук.
— А вы знаете, Анна Алексеевна, что я в свое время занимался еще и сапожным делом?
— Шутите.
— Нисколько. Могу доказать хоть сейчас. Вот только бы мне кусок брезента, да шпагата метра три, да острые ножницы, да кусочек мела.
— Почти как в той притче, — бросил реплику другой командир. — Закурил бы, да жаль табачку нет, потому что забыл дома бумагу и спички.
Все сдержанно засмеялись. Улыбнулась уголками рта и Анна Алексеевна.
— Что ж, за этим дело не станет. Да только мужское ли это дело заниматься кройкой и шитьем? — заметила хозяйка.
— В самый раз мужское, — ответил Павел Петрович.
При других обстоятельствах он, я знаю, не стал бы заниматься этим делом, а поручил бы его кому-либо из своих подчиненных. В сложившейся же ситуации поступить иначе он не мог. И дело тут не столько в том, чтобы проявить традиционное внимание военных к женщине, сколько в том, чтобы показать свое знание жизни, умение легко ориентироваться в любой обстановке и тем самым успокоить Анну Алексеевну как мать. Она должна быть уверенной, что ее дочь будут оберегать знающие и опытные люди, что они пойдут на риск лишь в безвыходном положении.
Вскоре на столе лежали брезент, шпагат, ножницы и мел. Павел Петрович взял брезент и постелил его на пол. Встал одной ступней на край разостланной ткани и очертил мелом границы подошвы. Отступив на ширину двух пальцев от намеченной линии, прочертил мелом еще одну линию и по ней разрезал брезент. Такую же операцию политрук проделал, поставив на ткань другую ступню. Затем в нескольких местах по намеченному краю подошвы проткнул ножницами заготовку. Через эти отверстия был протянут шпагат в виде кисета. Его концы, выведенные сзади, были связаны вокруг голеностопного сустава. Когда такая же операция была закончена и на другой ноге, политрук, отряхнувшись и притопнув ногами, сказал:
— Чем не чуни? Да еще какие! — Павел Петрович прошелся по комнате, и все вынуждены были признать, что шаги его почти не слышны. Эта дополнительная экипировка остальных заняла не более двадцати минут.
— Вот теперь, кажется, все, — произнес Павел Петрович.
— В добрый час, — напутствовала нас Анна Алексеевна.
21
Мы остановились на склоне горы метрах в пяти-десяти от виноградника Хрусталевых. Нужно было обсудить план операции. Но этот вопрос нельзя было решить без предварительного ознакомления со схемой расположения пещеры. Маринка, как выяснилось, знала не все. Ею была обследована лишь часть системы карста. Но то, что она знала, оказалось главным. Система каналов, по словам Марийки, схематически представлялась в виде рогатки, рукоятка которой начиналась около вершины нашей горы. На глубине около пятидесяти метров она заканчивалась вилкой. Один ее зуб направлялся в сторону Балаклавы, к генуэзским башням, другой — на восток. Припомнился случай с перочинным ножом, который Маринка потеряла у входа в пещеру. Отверстие, расположенное на дне довольно значительной впадины на склоне горы, так прикрывалось густым кустарником, что его трудно было заметить. Собиравшаяся на дне этой впадины дождевая вода за сотни, а может, и тысячи лет постепенно растворяла горные породы и в конце концов образовала причудливой формы пещеру. Длина западной ее части около километра. Как далеко тянется восточная часть пещеры, где она кончается — Маринка не знала. Но именно через нее, судя по всем признакам, враг проник в подземелье. У меня мелькнула догадка, что история со свалившимся камнем не простая случайность. Во время прочесывания местности я оказался первым на пути вражеского лазутчика. И он, чтобы отвлечь наше внимание и вовремя спрятаться в одном из скрытых входов в пещеру, свалил на меня каменную глыбу. Но об этом теперь можно было только догадываться. Следы присутствия человека у генуэзских башен заметила бы Маринка, у вершины горы — дежурный сигнальщик.
В плане предстоявшей операции едва ли не самым важным был вопрос: с какого конца пещеры начинать прочесывание? Вершина горы исключалась. В этой части канал был очень крутым. И если бы враг находился у развилки пещеры, то при спуске через ее «рукоятку» мы могли бы попасть прямо в его лапы. Расположения восточного канала мы не знали. Оставался только вход у генуэзских башен.
Сколько человек пойдет в подземелье? Много людей посылать нельзя. Они только мешать будут друг другу. Решено, что в прочесывании пещеры примут участие: политрук, Маринка, я и Лученок. Краснофлотцы, приехавшие из Севастополя, займут пост у генуэзских башен, Танчук и Лефер — у входа на вершине горы. Остальные будут находиться в состоянии боевой готовности номер один. Руководство операцией снаружи примет на себя командир, прибывший вместе с политруком.
Остается решить вопрос о личном оружии тех, кто пойдет в пещеру. Брать с собою карабины опасно. При необходимости сделать резкий маневр или развернуться они могут не только помешать, но и быть причиной обвала горных пород. Опасна и гулкая стрельба из них. Поэтому решено взять с собою кинжалы и пистолеты, которые политрук предусмотрительно захватил с собою, выезжая к нам на пост.
— Вы хоть раз держали в руках эту игрушку? — спросил Маринку Павел Петрович.
— У моего папы был такой же пистолет. Он и научил меня обращаться с ним.
— Мы, товарищ политрук, — бросил я реплику, — как-то даже опозорились перед Маринкой.
— Перед Маринкой — это еще ничего, а то перед всем классом, — уточнил Лученок.
— Как же это вас угораздило?
— Хотели помочь ребятам научить их метко стрелять из боевого оружия. Но из этого вышел только конфуз. Один паренек ответил мне: «Обучать меткой стрельбе можно. Но лучше, если это будем делать мы, а не вы».
— Так и сказал? — засмеялся политрук.
— Да еще и добавил: «Наша Хрусталева — мастер спорта и не по какому там бегу на короткие дистанции, а именно по стрельбе».
Когда все было готово, мы подошли к развалинам генуэзских башен. Чтобы не стать видимой мишенью для врага, было условлено ни при каких обстоятельствах не зажигать фонарей. Передвигаться должны по очереди, держа в руках бечевку. Первая Маринка, за ней я, потом политрук. Замыкает цепь Лученок. На участках с широким проходом договорились идти по левой стороне. При первых же сигналах опасности — делать бросок вправо. Главное условие — соблюдение тишины.
В «вестибюле» пещеры нас поразил очень неприятный запах помета летучих мышей. Их тут тысячи. Ухватившись когтистыми лапками за выступы скальных пород, они свешивались вниз головой и в таком положении оставались до наступления вечерних сумерек. Изредка какая-нибудь из мышей просыпалась, издавала скрипучий писк и, оторвавшись от скалы, перелетала на другое место. Слой помета был довольно толстым, и мы передвигались по нему, как по высохшему болоту. На этот счет хотелось высказать свое мнение. Но на все звуки было наложено табу, и нам ничего не оставалось, как только молча переносить неудобства. Метров через пятьдесят пещерный проход несколько сузился, заметно уменьшилось количество летучих мышей, а вместе с этим стала несколько тверже и почва. Еще через несколько десятков метров мы окончательно вышли за пределы царства летающих животных. Стало заметно холоднее. Ощущение холода усиливалось от дувшего нам навстречу сквозняка. Это скорее благоприятный фактор: больше слышим мы, чем кто-то там, впереди нас. Я стою вплотную к Маринке и жду условного дотрагивания до моего плеча руки Павла Петровича. Он тоже ждет, пока к нему не подойдет Лученок. Мы прошли сто пятьдесят метров. Пройденное расстояние определяется по количеству остановок. Длина расправленной бечевки между соседями пять метров. У каждого из нас было по тридцать остановок. Почувствовалось легкое прикосновение к моему плечу руки политрука. Это значит, что уже подошел Лученок. Я не прикасаюсь, а легонько сдавливаю плечо Маринки. После этого она кошачьими шагами уходит вперед. Иногда она стоит и не двигается, несмотря на поданный мною сигнал. Чаще это бывает после того, как тишину нарушит падение кусочка породы. Чтобы разобраться в том, что потревожило покой подземелья, нужно не только обладать хорошим слухом, но и умением ориентироваться в новой для нас обстановке. В этом мы полностью полагались на Маринку. Через полкилометра пещерный проход стал уже. В одном месте Маринка после поданного мною сигнала обхватила рукой мою шею и пыталась нагнуть голову. Я потянулся к ее щеке, но встретил энергичный отстраняющий жест другой рукой. Маринка ушла вперед. Я стал ждать, пока не натянется бечевка. Пошел и я. Метра через три почувствовал острый удар в голову, вслед за чем посыпались мелкие камни. До сознания дошла собственная оплошность. Маринка предупреждала меня, что потолок станет ниже и нужно нагнуть голову. Я же истолковал ее предостережение как жест порыва нежности. И поделом. Здесь не место для таких мыслей. Когда я подошел к Маринке, она положила палец на мой лоб и мягким его нажатием дала понять, что была допущена не просто оплошность, а настоящее безрассудство. Оно могло стоить очень дорого для всех нас. Не знаю, как истолковал все это Павел Петрович, но мне перед ним было стыдно. В дальнейшем я вел себя уже осмотрительно.
Чем дальше мы уходили от генуэзских башен, тем дольше стояла и прислушивалась ко всему Маринка. Чувствовалось по всему (и по пройденному пути — преодолено уже более восьмисот метров — и по увеличившемуся углу подъема), что скоро окажемся у основания разветвления. Но пока что никаких, даже малейших признаков присутствия человека мы не обнаружили. Тихо было и в начале пути. Но теперь эта тишина давила на всех нас стопудовой тяжестью. Неприятное чувство усиливалось еще и сознанием того, что мы изолированы от открытого простора многометровой толщей горных пород. Казалось, что мы добровольно загнали себя в какой-то глубокий каменный мешок. А что если все наши предположения окажутся напрасными? В том смысле, что на знакомом Маринке участке пещеры мы ни с кем не встретимся, ничего не увидим и не услышим. Такое не исключается. Оно вполне вероятно. Случилось же нечто подобное при прочесывании войсками района нашей горы. Если допустить, что враг все-таки был или есть и что он обосновался не в обследованной Маринкой части карстовой системы, а где-нибудь дальше на востоке, то как нам поступить в этой ситуации? На подобный случай у меня (наверное, и у остальных) нет даже мало-мальски продуманной рабочей гипотезы. Идти в неизвестное? Это было бы безумием. Во-первых, ни у кого нет уверенности, что там может оказаться враг; во-вторых, мы не знаем строения этой части карста и поэтому можем стать легкой добычей противника; в третьих, не имея возможности пользоваться светом, мы заведомо обрекаем себя на опасность, которую нельзя ни предвидеть, ни тем более предупредить.
После одного очень суженного прохода, который пришлось преодолевать по-пластунски, пещера расширилась. Я уже готов был идти вслед за Маринкой, как вдруг почувствовал частое подергивание бечевкой — сигнал «Остановись!» Все замерли на месте. Неслышно вернулась Маринка. Она долго и настороженно прислушивалась, а затем притронулась к моему левому плечу. Это означало, что ничего не произошло и что никаких оснований для тревоги нет. Во время последнего ожидания мне показалось, что направление сквозняка изменилось. До сих пор слабый ветер дул со стороны Маринки, а тут вдруг потянуло слева. Ощущение меня не подвело: в этом направлении ушла и наша проводница. Когда бечевка натянулась, двинулся и я. Начался крутой подъем, который тянулся метров двадцать и затем переходил в большой, почти горизонтальный уступ. Здесь сквозняк заметно усилился, но темнота по-прежнему была непроницаемой. Не успела Маринка отойти от меня и на шаг, как послышался приглушенный, но полный ужаса ее крик. Я бросился вперед, схватил Маринку и оттолкнул ее в сторону. Лихорадочно начал шарить по углам, готовый вступить в смертельную схватку с невидимым врагом. При этом больно ушибся о какой-то металлический предмет. Никого я не нашел, не услышал и топота убегающего от нас человека. Когда волнение немного улеглось, все собрались вместе и шепотом начали совещаться. Спокойно обследовали уступ. Оказалось, что металлический предмет, о который я ударился и на который перед этим наткнулась Маринка, был портативной радиостанцией. «Что будем делать?» — спрашивали мы друг друга. Политрук шепотом приказал: «Постоим и послушаем». Стояли мы молча, не шелохнувшись, минут десять. Но ни малейший шорох, ни случайное падение камешка не нарушили пещерного безмолвия. «Маринка остается у радиостанции, а мы еще раз проверяем все ближайшие углы. Бечевку не отпускать!» — последовал новый приказ. Тщательная проверка уступа и подходов к нему ни к чему не привела. Пришлось советоваться снова. Все высказали мнение, что непрошенные гости отлучились либо с целью запастись провиантом, либо для того, чтобы отдохнуть на открытом воздухе. Спать в этой пещере, продуваемой сквозняком, небезопасно.
— Мне кажется, что в этой компании есть кто-то из местных жителей, — заметила Маринка.
— Почему? — спросил Павел Петрович.
— Чужой человек так знать пещеру не может.
— Логично. Что будем делать дальше?
— Ждать. Должны же они когда-нибудь прийти за своим имуществом, — пробасил Лученок.
— Конечно, ждать, — согласилась и Маринка. — Но нам нужно быть уверенным, что нас не подведет тыл.
— Наружные посты, что ли?
— Нет. Пещера со стороны вершины горы.
— Маловероятно, чтобы там был кто-нибудь. Но сомнений, действительно, не должно оставаться. Нагорный и Хрусталева проверяют, как несут вахту Танчук и Сугако, а мы с Лученком будем готовиться к встрече гостей, — распорядился политрук.
Оставшаяся часть пещеры была гораздо круче, чем та, которую мы прошли. Поэтому приходилось быть вдвойне внимательным. Но чем выше мы поднимались, тем больше спадало напряжение, а вместе с этим ослабевала и бдительность. Я понимал, что это очень опасно, так как именно в такой ситуации мы можем столкнуться с неожиданностью, которая будет стоить жизни не только нам, но и оставшимся Павлу Петровичу и Михасю. Мысленно я окунулся в холодную воду и стал более внимательным, предельно сдержанным при каждом подходе к Маринке. Она оценила это и один раз, прислушиваясь к тишине, погладила рукой мою щеку и тут же прикрыла ладонью рот. Это означало: «Ты у меня паинька. Так надо вести себя и дальше». Начали появляться едва заметные контуры выступов породы. Так бывает очень ранним утром после темной ночи. До восхода солнца еще далеко, но на фоне низко плывущих облаков уже появляются темные силуэты строений, гнущихся под натиском ветра макушек высоких деревьев. Выше стало еще светлее. И вдруг где-то далеко блеснула ослепительно яркая точка. Полумрак прорезал тоненький, как лезвие бритвы, лучик. Пещера постепенно заполнилась светом. Я и не подозревал, что можно так неистово радоваться солнцу, от которого мы всегда прятались в тень. Мы уже отчетливо различали тонкий голос Танчука и вторивший ему густой баритон Лефера.
— Нет, чтоб я пропал, если этих гадов не найдем, — это Лев Яковлевич обсуждает ход нашей операции.
— Будет тебе раньше времени говорить, — отвечает осторожный Лефер.
— Гадом меня назовешь, если будет иначе, — убеждает Танчук своего собеседника и швыряет в пещеру мелкие камешки. Они летят мимо нас, гулко ударяются о стены прохода, или понора, как говорят специалисты. Камешки рикошетом ударяются о противоположную стену и, подпрыгивая, уходят в темную бездну. Вместе с ними удаляются, постепенно замирают и звуки.
Пещера пройдена. Мы остановились недалеко от входа, прикрытого кустарником. Непосредственная опасность теперь нам не грозила, и это дало волю моим чувствам. Я порывисто привлек к себе Маринку и прижался к ее губам. Пытаясь протестовать, она легонько захлопала ладошками по моим щекам. Но потом обвила меня руками и сама начала целовать, тихо приговаривая: «Сумасшедший! Горе ты мое луковое. И как только я буду жить с тобой!»
Очнулся я от довольно сильного удара по щеке камнем. Угодил-таки в меня Лев Яковлевич. Вначале мы не собирались вступать в разговоры с Танчуком и Сугако. Но после удара немного протрезвели и подумали, что это швыряние камешками может помешать нашей операции.
— Краснофлотец Танчук! — дан знать ему о своем присутствии. — Прекратите свои забавы!
— Чтоб я пропал, это наш командир!
— Мы идем дальше, а вы будьте внимательнее.
— Командир! Командир! Ну что там? — одолевало любопытство Танчука.
— Пока все спокойно.
Обратный путь мы преодолели быстро.
У радиостанции обстановка была спокойной. Никто из гостей еще не появлялся. Я доложил командиру, что в тылу у нас также спокойно. Теперь все наше внимание было сосредоточено на восточном рукаве пещеры. Было очевидно, что гости не допускали даже мысли, что в глубокой пещере, кроме них, может появиться еще кто-то. Иначе радиостанция не осталась бы без присмотра. Они спокойны и возвращаться будут, не принимая сколько-нибудь серьезных мер предосторожности. Надо прямо сказать, что нам сильно повезло, хотя и неизвестно, чем кончится встреча с ними. При любых обстоятельствах у нас появилось серьезное преимущество. Мы точно знаем, что противник рано или поздно придет прямо к нам. Мы находимся под прямым углом к рукаву, по которому пройдут неизвестные люди и, следовательно, можем не опасаться, что нас преждевременно обнаружат. Это невозможно сделать даже с помощью самых сильных источников света. Последнее обстоятельство едва ли не самое важное, так как у врага почти наверняка имеются фонари, сфокусированные на далекие предметы. Находись мы где-нибудь в прямой части пещерного канала, любая наша попытка захватить врага успеха не имела бы. С помощью мощного фонаря нас обнаружили бы метров за сорок, а то и больше. В этой ситуации не нужно даже отстреливаться. Достаточно разрядить обойму патронов в потолок над нами, и мы могли бы быть заживо похоронены под обвалившейся горной породой.
Оставалось решить последний вопрос. Для успешного исхода операции на нашей стороне должно быть не только позиционное, но и численное превосходство. Нас четверо. А сколько человек на стороне противника? Неизвестно. Перед выходом на задание было принято решение не создавать большого оперативного отряда. Многочисленная группа в условиях пещеры лишается основного — маневренности. Нет сомнений, что такими же соображениями руководствовался и противник. Более того, он побывал в пещере, установил радиосвязь и при этом не обнаружил никаких признаков нашей осведомленности о его действиях. В сложившейся ситуации для поддержания радиосвязи достаточно одного, в крайнем случае двух человек. С проводником— три. Но и нас, строго говоря, только три человека. Маринку принимать в расчет нельзя. Она свое дело сделала. Вовлекать же девушку в опасную схватку, значит подвергать ее неоправданному смертельному риску. И чтобы поставить точки над «i», политрук обратился к Маринке с просьбой привести сюда Сугако, а самой потом уйти на пост к Танчуку. Минут через двадцать Лефер, сопровождаемый Хрусталевой, был возле нас. И как наша проводница не просила оставить ее хотя бы возле радиостанции, Павел Петрович оставался непреклонным. Под конец он смягчился и сказал:
— Мы за тебя в ответе перед твоей матерью. Пожалуйста, пойми это.
Вот теперь, кажется, все в порядке. Один Лефер чего стоит. Ему только попадись в руки, сомнет в дугу за милую душу.
Ждем уже шесть часов, но нет никаких признаков появления чужого человека. На часах политрука одиннадцать вечера. Остается всего лишь час до полуночи. Во время томительного ожидания мы обсудили план задержания диверсантов. Лученок был за то, чтобы сделать внезапный бросок, как только они подойдут к развилке пещеры.
— Даже до того, как мы увидим, сколько их? — спросил политрук.
— Внезапность — наш главный козырь, — пытался убедить Михась.
— Элемент внезапности в этой ситуации, конечно, играет большую роль, — тихо рассуждал Павел Петрович. — Но его надо использовать иначе. Как только гости подойдут к развилке пещеры, мы, все четверо, выбегаем им навстречу и ослепляем их светом от фонарей. Под угрозой пистолетов приказываем им бросить оружие. Чтобы не мешать друг другу, старшина второй статьи Нагорный и краснофлотец Лученок приседают, а мы с краснофлотцем Сугако стоим за их спинами. Стрелять лишь в крайнем случае. Надо взять их живыми.
Без четверти двенадцать послышался неясный шум со стороны восточного рукава пещеры. Мы насторожились и тихо придвинулись вплотную к угловому выступу скалы. Шум постепенно усиливался.
— Приготовить фонари и пистолеты! — тихо предупредил политрук.
Уже отчетливо слышались шаги кованых сапог. Шаги были не одного человека, а по меньшей мере двух. Появились пляшущие тени выступающих скальных глыб. Когда свет усилился, во мне появилось какое-то смешанное чувство крайнего напряжения и восхищения. Напряжение было естественным следствием длительного ожидания, которое вот-вот должно закончиться опасной схваткой с врагом. А восхищение? Раньше я никогда не видел подобной картины. Потолок пещеры, казалось, был украшен люстрами из драгоценных камней. Мигающий свет переливался в диковинных наростах, вспыхивал ослепительными искрами, гас, снова загорался, как загораются капли росы в лучах восходящего солнца. Всего лишь на один миг мелькнула мысль, что все это сказочное богатство когда-то было спрятано в подземелье крымским ханом Менгли Гиреем, что сейчас выйдут из таинственных глубин одалиски и будут пытаться обворожить нас своими восточными песнями и игрой на лютнях. «Наваждение какое-то!» — встряхнул я себя и приготовился к броску. Теперь мощный пучок света бил прямо в противоположный угол. Вот-вот покажется человек, идущий с фонарем.
— Вперед! — тихо скомандовал политрук.
Мы одним прыжком бросились наперерез идущим и загородили им дорогу. Наш бросок был настолько неожиданным, что из рук шедшего впереди человека вывалился фонарь. Сам человек как бы споткнулся, упал на колени и поднял вверх руки. Другой быстро повернулся назад и бросился бежать. Никакие окрики и предупреждения не могли его остановить. Преследовать было не только бесполезно, но и опасно.
— Бить по ногам! — приказал политрук и первый выстрелил в убегавшего человека. Посыпались с потолка камни. Грянуло еще два выстрела. Человек споткнулся, упал и забился в судорогах.
— Нагорный, со мной! Остальным охранять задержанного! — подал новую команду политрук.
Мы побежали, освещая перед собою дорогу. Картина, которую я увидел на месте, потрясла меня. Из бедра раненого хлестала кровь, заливая одежду и разбросанные вокруг камни. Видно было, что вначале человек пытался зажать рану рукой, но потом, слабея, забился в конвульсиях и впал в беспамятство.
— Не повезло нам, — огорченно заметил политрук. — В ногу-то попасть попали, да, к несчастью, пробили и крупный сосуд. Затяни ремнем потуже ногу выше раны и тащи его наверх. Может, удастся спасти.
Я снял с раненого ремень и стянул им окровавленное бедро. Кровотечение остановилось.
— Помочь?
— Да тут одному нечего делать.
Браться за окровавленную одежду раненого неприятно. Но делать было нечего. Я взял ослабевшее тело на руки и направился к развилке. Всю дорогу меня не покидало чувство тошноты.
Лученок и Сугако, как выяснилось, уже успели провести дознание. Задержанный оказался местным жителем из ближайшего поселка и назвался Ахметом Хабибулиным. Это был тщедушный, уже пожилой человек, с заискивающим выражением лица. На покатом его лбу складки, казалось, перекатывались вниз и волной наплывали на веки. От этого глаза делались узкими, открытыми лишь наполовину.
— Хабибулин, говоришь? — спросил политрук.
— Хабибулин, Хабибулин, началнык.
— Кроме вас двоих, есть ли там еще кто-нибудь?
— Нэт, началнык.
— Где первый раз вышли в эфир?
— С бэрэг морэ, с бэрэг морэ, началнык, — скороговоркой ответил Хабибулин.
— Долго же вы нам голову морочили, Хабибулин. Наконец-то поймались. Ну да ладно. Разберемся.
Когда выбрались наверх, раненый, не приходя в сознание, скончался. Политрук не стал расспрашивать Хабибулина больше ни о чем, а сразу же начал звонить по телефону в штаб дивизиона. Через полчаса к окраине Балаклавы подошли две автомашины, которые увезли Хабибулина, убитого и захваченную радиостанцию.
Павел Петрович снял фуражку, вытер носовым платком вспотевший лоб и сказал:
— Возвращайтесь на свой пост. Мы немного разберемся и тогда обязательно поговорим обо всех ваших геройских делах. Краснофлотца Лученка прошу подняться на пост, взять с собою Хрусталеву и проводить ее домой. А мы с вами, товарищ старшина второй статьи, должны сейчас пойти к Анне Алексеевне и поблагодарить за помощь, которую оказала нам ее дочь.
Уже занималась утренняя заря. Хотя в эту пору на улицах Балаклавы еще никого не было, мы решили идти в обход ее окраины. Анна Алексеевна, оказалось, не спала. Она всю ночь простояла у своего виноградника и все высматривала, не появится ли ее Маринка. Увидев меня с политруком, она глухо простонала и, ухватившись за ближайшую подпорку виноградной лозы, начала медленно сползать на землю.
— Помоги! — крикнул политрук. Но я и без этого напоминания быстро подбежал к женщине, поднял ее и сказал:
— Дорогая Анна Алексеевна, жива и здорова наша Маринка. Сейчас она будет здесь.
Минуту Анна Алексеевна молча смотрела на меня, словно все еще никак не могла понять смысла сказанных слов, а потом обвила меня руками, положила голову на грудь и судорожно забилась в тихом плаче.
— Да все хорошо. Ну... Анна Алексеевна, — пытался я успокоить ее.
Подошел политрук, а вскоре на склоне горы показались Маринка и Лученок.
— Посмотрите, вот и Маринка.
Анна Алексеевна бросилась навстречу своей дочери. Побежала и Маринка.
— Пусть выплачутся, — заметил политрук. — Говорят, после этого становится легче. Не каждой школьнице выпадает такое испытание. А о матери и говорить не приходится.
Когда вошли во двор, Анна Алексеевна первым делом принялась приводить всех в порядок: приготовила воду и тряпку для мытья обуви, вынесла полотенце и мыло, щетку для чистки одежды, заставила всех снять носки, тут же их выстирала, просушила и прогладила горячим утюгом. Маринка привела себя в порядок раньше остальных и принялась за приготовление завтрака. Закончив свои хлопоты, она пригласила всех за стол. Павел Петрович, поблагодарив, начал было отказываться, на что Маринка ответила:
— Здесь, товарищ политрук, командуют женщины. А им надо подчиняться так же, как подчиняются вам краснофлотцы и младшие командиры.
— Что ты на это скажешь, Нагорный?
— Скажу, что надо ужинать, потому что мы, кажется, даже не обедали.
— Об этом, я вижу, ты не забываешь.
— По уставу положено, товарищ политрук. А устав, как вы знаете, нарушать нельзя.
— Молодежь теперь пошла, Анна Алексеевна. Ты ему слово, он тебе два, да еще с подковыркой.
— Грех осуждать ее. Молодежь у нас хорошая.
За завтраком, к которому Анна Алексеевна подала и маленький графинчик барбарисовой настойки, политрук долго тер переносицу, словно решал трудный для себя вопрос, пить или не пить после такой трудной бессонной ночи. А потом, подумав, что отказаться от маленькой рюмки домашней настойки, значит, обидеть радушных женщин, решил все же выпить. Он встал и неторопливо сказал:
— Дорогая Анна Алексеевна! Большое счастье для родителей воспитать хороших детей. Вы можете гордиться своей дочерью. Она проявила мужество, на которое способен не каждый мужчина. Можно по-хорошему позавидовать тому, кого она выберет себе в спутники жизни. За вас, милая Анна Алексеевна, и вашу достойную дочь!
За сердце тронули Анну Алексеевну слова политрука. Она поспешно достала платочек и вытерла навернувшиеся слезы. Отпив маленький глоточек настойки, женщина только и смогла сказать:
— Спасибо вам, мои родные.
Я смотрел на Маринку и думал: «Сколько же времени прошло с того памятного дня, когда я впервые встретил ее на склоне нашей горы? И этот нелепый мой вопрос: «Телят что ли искала?» — «Бычков таких, как ты», — нашлась тогда Маринка. Думал ли я, что так все обернется? За каких-то несколько месяцев. А вчера: «Горе ты мое луковое! И как только я буду жить с тобою?»
— Ну что ж, — поднялся из-за стола Павел Петрович, — пора, как говорится, и честь знать.
— Я сбегаю на пост и позвоню, чтоб за вами прислали автотранспорт, — предложил Лученок.
— Что же это за порядок был бы в береговой обороне, если бы о своем политруке не позаботились его подчиненные? — ответил Павел Петрович, показывая рукой на набережную.
Действительно, там уже стоял мотоцикл, возле которого прохаживался Переверзев. Он, как всегда, даже в самую жаркую погоду, был в кожаных перчатках с широкими раструбами. Проводив политрука, мы вернулись в дом Хрусталевых. Анна Алексеевна немного побыла с нами, а потом, сославшись на срочные дела, ушла к соседям.
— Мне тоже пора, — поднялся из-за стола Михась.
Пока Маринка провожала его, меня вдруг одолела такая усталость, что я, не поднимаясь со стула, почти мгновенно уснул. Не слышал, как расшнуровывали и снимали ботинки, поднимали и перетаскивали на кровать. Лишь в последний момент, когда удержать меня уже было невозможно, я повалился на постель и проснулся. Под моей рукой в неудобной позе лежала Маринка. Не меняя положения, она тихо оправдывалась:
— Я не хотела тебя будить. Но ты такой тяжеленный, что нельзя было удержать.
— Вот возьму и не отпущу.
— Я сейчас, — еще тише ответила Маринка.
— Обманешь, как с той падающей звездой.
В ответ Маринка, не раскрывая рта, засмеялась. И нельзя было понять, что означал этот смех: то ли снисходительное осуждение упрека, то ли игривое лукавство любящей женщины, которым она волнует своего избранника. Маринка задернула занавески в окнах, повернула ключ в замочной скважине дверей и после этого подошла ко мне. Присев у края кровати, она уперлась подбородком в скрещенные руки и спросила:
— А ты меня не разлюбишь? — потом немного подумала и добавила: — Глупо поступают, когда задают такие вопросы, и еще глупее, когда отвечают на это клятвами.
— Почему?
— Потому что в этих вопросах и клятвах неуверенность и сомнение, а иногда и фальшь. Любовь же — неповторимый дуэт, и фальши в ней, как и в дуэте, быть не должно.
Я бережно приподнял Маринку над собой. Кофточка ее натянулась и распахнулась. Я едва расслышал лукаво укоряющий шепот Маринки:
— Знала бы я, что ты такой, — отправила бы тебя на пост вместе с Лученком.
22
Еще не было случая, чтобы после отбоя тревоги нам не разрешали выходить за пределы поста. После «готовности один» была объявлена «готовность два». Это означало состояние повышенной боевой готовности. Свободные от дежурств краснофлотцы могли ходить, но только в пределах расположения поста, могли отдыхать, спать, но только при полном боевом снаряжении. Значит, неладное что-то у нас на границах, и, судя по тому, как стремительно развернулись за последние годы события в Европе, перед нами возникла реальная угроза нападения фашистской Германии. Об этом не пишут в газетах, не сообщают по радио. Такое впечатление, что мы едем на пароходе и пассажиры, чтобы не накликать беды, избегают говорить о несчастных случаях, авариях морских судов. Вспомнились слова политрука: «Не исключено, что именно нам, нашему поколению выпадет доля решать на поле боя судьбы не только нашей Родины, но и других народов». Неужели все-таки война?
У нас остался совсем небольшой участок нерасчищенной траншеи — метра три, не более. Как-то само собою получилось, что всеми саперными работами руководил Лев Яковлевич. С улыбкой вспоминалась моя первая попытка привлечь Танчука к расчистке площадки. «Валяй дальше, — ответил тогда Лев Яковлевич, ковырнув ломом каменную породу. — У тебя это лучше получается». Когда я напомнил Танчуку об этом случае, он рассмеялся:
— Так это ж было давно и неправда. Знаешь, сколько часов прошло с тех пор? Больше тысячи.
— Ты переведи на секунды. Получится больше четырех миллионов.
— Что ты говоришь? Между прочим тогда было неинтересно.
— А теперь?
— Совсем другое дело.
Меня заинтересовала перемена отношения Танчука к труду и я спросил:
— Лев Яковлевич, что собственно изменилось? Тогда мы рыли траншею и теперь делаем то же самое.
— Так я же тебе говорю, что тогда было неинтересно, — слово «неинтересно» Танчук произносил твердо — «неинтерэсно». — Вот если бы ты, скажем, работал на заводе и придумал какую-нибудь новинку, как бы ты работал после этого?
— С интерэсом, — ответил я, подражая Танчуку.
— Так что ж ты меня тогда спрашиваешь?
Подошел к нам Лученок. Он сел на бруствер траншеи, свесив ноги в ров, закурил и сказал:
— Сягоння закончым, падравняем и потым можам выкликаць дзяржавную камиссию для падписаная акта аб прыёме абъекта в эксплуатацыю.
— Если бы такие объекты, как наш, принимали комиссии, знаешь, сколько нужно было бы людей?
— Не, братка, не кажы. Таких абъектав, як наш, не вельми шмат. Другая справа, ци нэтазгодна вызываць камисию, кали мы сами сабе камисия.
— Лев Яковлевич будет председателем комиссии, а мы с тобой, Михась, членами. Как-никак Лев Яковлевич у нас, можно сказать, военный инженер, и кому, как не ему, легче разобраться в этих делах.
И хотя все мы, в том числе и Лев Яковлевич, понимали, что разговор о нашей комиссии, не более чем шутка, сам Танчук отнесся к этому вполне серьезно.
— Принять-то мы примем, а вот как нам замаскировать все это? Маскировочных сеток у нас нет.
— Саправды, як жа мы не надумали аб гэтым?
— Придется, Михась, отбить радиограмму с просьбой разрешить тебе выезд в штаб за получением маскировочных сеток.
— У Льва Якавлявича гэта атрымливаецпа лепш, яго и трэба накираваць.
— Как, Лев Яковлевич, согласен?
— И что б вы делали без меня? Ладно, отбивайте свою радиограмму, а я пока со своими помощниками буду справляться с этим оставшимся кусочком, — и Танчук показал нам нерасчищенную часть траншеи.
Думая о своем маленьком коллективе, я все чаще спрашиваю себя, что нужно, чтобы воин был не просто бойцом, не просто исполнительным краснофлотцем и даже не только сознательным человеком, но еще и личностью, в которой проявлялось бы творческое начало. Одно дело, когда человек должен просто выполнять требования воинского устава, более того, выполнять с сознанием долга перед отчизной, и совсем другое, если, кроме этого, он ощущает и свою значимость в коллективе, видит, что коллектив обойтись без него не может. И пусть каждый ощущает это по-разному, важно, чтобы выполнение долга сочеталось с интересным для человека делом. С Танчуком этот вопрос решился просто. Лев Яковлевич, что называется, нашел себя в подрывном деле. Он увидел перед собою цель. Правда, не сразу, а после некоторых раздумий, особенно после того, как о его заурядных способностях отозвался в обидной форме Музыченко. Я представляю, как будет чувствовать себя Лев Яковлевич после окончания наших работ. Он поедет в штаб дивизиона, достанет маскировочную сеть, укрепит ее над траншеей и площадкой. После этого он станет на вахту и с гордостью будет посматривать на дело своих рук и разума. Конечно, он не станет отрицать, что расчищали траншею все. Но сознание того, что без его творческого труда мы не сделали бы и десятой части того, что удалось нам сделать, будет укреплять его чувство собственного достоинства, сплачивать его воедино с коллективом.
О Лученке много говорить не приходится. Это особый человек. Я не знаю, как бы сложилась моя личная судьба, если бы не моральная чистота, непримиримость к подлости и лицемерию, стойкость и принципиальность Михася. Когда политрук спрашивал, за что избил меня Звягинцев, я, возможно, так и не сказал бы о причине этого конфликта. А при такой ситуации неизвестно, как бы повернулись мои личные дела и стал ли бы политрук возиться с моей личной персоной. Но при всем этом у Лученка есть большое дело, которым он увлечен, Михась — комсорг, которого все уважают, на которого всегда можно положиться и который никогда не подведет, как бы трудно ни было ему самому.
Леферу тоже есть чем гордиться. Это он первый открыл траншею и сделал при очистке ее столько, сколько, может быть, не сделали и двое. Сугако видит во мне товарища, с которым можно делиться своими мыслями, не опасаясь, что эти мысли могут потом превратиться в предмет насмешки. Правда, с тех пор, как меня назначили на должность командира отделения, Лефер не решается приближаться ко мне, а у меня еще не нашлось времени поговорить с ним как следует. Но это дело поправимое. Закончим расчистку траншеи, и за дело. Надо же выполнять поручение политрука. А поручение трудное. Легко сказать, очистить от религиозного мусора голову Лефера, очистить от того, что годами да еще с детства, когда душа человека особенно восприимчива, укреплялось, наслаивалось пласт за пластом, как каменная порода в нашей траншее. Одними словами Лефера теперь уже не переубедишь, нужны доводы покрепче слов, факты, которые били бы не в бровь, а в глаз. А где их возьмешь в это время, когда мы находимся в состоянии боевой «готовности два», когда мы работаем, едим и спим, не снимая с себя ремней с патронташами?
Приятно удивил меня во время экскурсии Музыченко. Откровенно говоря, я не ожидал от него такого смелого поступка. Не раздумывая прыгнуть вслед за провалившимся в подземелье учеником, на это действительно не каждый решится. Мне кажется, что на него в тот момент сильно повлияло присутствие десятиклассников. Совершить прыжок в подземелье на глазах полсотни ребят, половина из которых миловидные девушки, это значит стать героем дня. Разве не приятно парню увидеть восторженный взгляд какой-нибудь сероглазой красавицы? Но, конечно, далеко не только это руководило поступком Петра. Человек попал в беду, и его надо выручать. Как тут остаться равнодушным воину, на котором форма — символ мужества и отваги. Такой в бою не подведет, не оставит в беде.
Севалина я знаю мало. Его путаные разглагольствования о личности кажутся мне этакой бравадой, которая рассчитана на не очень разборчивых девиц с чувствительными сердцами. Интересно, как бы он повел себя в серьезном деле? Вообще-то парень он, наверное, не из трусливого десятка. Мне перед ним немного стыдно. Хотя что я мог сделать в том сложном запутанном деле? Бывает же, что ситуация так неблагоприятно складывается для человека, что все, кажется, против, ни одного оправдывающего аргумента. В истории криминалистики, наверное, немало случаев так и не опровергнутых ложных обвинений в каком-нибудь преступлении. Но нам все-таки повезло: удалось выручить парня из беды. По-моему, он оценил это и теперь относится к нам без прежнего высокомерия.
Беспокойство вызывает Звягинцев. И вовсе не потому, что когда-то он оскорбил меня, а затем провоцировал на драку, и даже не потому, что в последнее время был заодно с моим обидчиком Демидченко. Больше всего Семен беспокоит меня тем, что стал замкнутым. Раньше бывало вспылит, поднимет крик, а теперь все делает молча. Если кто-нибудь и отпустит шутку по его адресу, он все равно промолчит. Лишь глаза в темных орбитах сверкнут недобрым блеском да тут же и погаснут. Раньше бывало Музыченко устраивал с ним словесные турниры, а теперь и он избегал вступать с ним в разговоры. Семен не пререкается, выполняет все приказания, не делая при этом никаких замечаний. Кажется, этому надо бы только радоваться. Меняется человек в лучшую сторону. А меня как раз именно это и беспокоит. Замкнулся и неизвестно, что у него на душе. Я уже пытался поговорить с ним по душам, но лучше бы и не начинал этого разговора. «Хватит! — зло ответил он. — Досыта уже наговорились. Ничего, придет еще время, кровью будете харкать». Поставить бы его тогда по стойке «смирно» и спросить: «Как вы смеете так разговаривать с командиром!» Но нельзя. Я сам начал этот разговор в неофициальной обстановке, надеясь на взаимопонимание. Но понимания с его стороны я не встретил и откровенной беседы не получилось. Только и смог ему сказать: «Зря ты, Семен, так». — «Ничего не зря! — и Звягинцев вложил в свой ответ всю злобу. — С вами иначе нельзя». Советовался я и с Лученком, просил его поговорить с Семеном. «А ты сам прабавав?» — «Пробовал да лучше бы и не начинал. Озлоблен он дико». — «Гэта дрэнна, — согласился Михась. — Паспрабую тады я». Через несколько дней Лученок сказал мне: «Я думав, што ты перабольшваеш. Аказалась, не. Я таксама атрымав ад варот паварот. И ты разумеет, якую линию взяв сцярвец? Што належыць па уставу, — гаворыць, — я все раблю. А в душу пускаць усякага неабавязкова». По-человечески жаль Звягинцева. Но что поделаешь? Остается только одно— держаться объективно.
Наконец полностью закончена расчистка траншеи. Танчук привез из штаба маскировочные сетки с лоскутками материи под цвет неприметных камней. Сетку закрепили с помощью металлических прутьев над траншеей и площадкой перед входом в радиорубку.
— Вот теперь попробуй обнаружить нас! — восторженно заметил Лев Яковлевич.
— Да кому ты нужен со своей рыбачьей сеткой, — презрительно сказал Звягинцев. — Что малые дети, радуются всякой чепухе.
— Ты, Семен, или дурак, или паскудный человек.
— Зато вы все умные и благородные.
— Жалеешь, небось, что твоего единомышленника Демидченко турнули отсюда?
— Жалею, — откровенно признался Звягинцев. — И еще жалею, что Васька не упек кое-кого в трибунал.
— Нет, не такой уж ты дурак, Сеня. Просто паскуда.
Под вечер снова была объявлена «готовность один». Никто не ложился спать. Все находились в полной боевой готовности. Уже и полночь, а сигнал «отбой» или хотя бы «готовность два» так и не поступал. Часа в два ночи была принята новая радиограмма: «Всем занять боевые посты. Усилить воздушное наблюдение. Быть готовыми к уничтожению возможного десанта врага».
Дело принимает серьезный оборот. Мы рассредоточились по траншее и стали ждать, напрягая слух.
— Со стороны моря слышу звук моторов! — крикнул Танчук. Ну и острый же слух у Льва Яковлевича.
— Передать в штаб дивизиона донесение, — приказал я Лученку. — Со стороны моря слышен звук моторов!
— Есть передать в штаб дивизиона донесение: со стороны моря слышен звук моторов!
Я машинально посмотрел на часы. Было три часа десять минут. Небо ясное. Над западным горизонтом ровно, не мерцая сияла самая яркая звезда. Это не звезда, а планета Венера. С севера на юг тянулся Млечный Путь. Если посмотреть в бинокль, то кажется, что это не дымчатое растянутое облако, а россыпь переливающихся самоцветов. Почти надо мной, в зените, сверкает созвездие Кассиопея. Не верилось, что такую красоту, предрассветную тишину может что-либо потревожить. А где же луна? Луны в эту ночь не было. И, словно восполняя недостающий ее свет, в небе вспыхнули яркие лучи прожекторов. Все они наклонили свои щупальцы в море, откуда все явственнее слышался звук многих моторов. Как огромные исполинские маятники, лучи прожекторов колебались над нами, скрещивались между собою и вновь расходились. Вдруг один из них замер, уцепившись в яркую точку. Через несколько секунд светящуюся точку пересек еще один луч. Образовались гигантские световые ножницы, бранши которых были скреплены между собою ярким шурупом. Рядом со светящейся точкой начали появляться белые облачка разрывов зенитных снарядов. Самолет в лучах, сопровождаемый все новыми и новыми облачками разрывов, шел по направлению к Севастополю. Над нами уже жужжали падающие осколки разорвавшихся зенитных снарядов. В лучах прожекторов появился еще один, а затем и третий самолеты, которые шли тем же курсом, что и первый. И не стало звезд. Небо заволокло облаками.
Горизонт над Севастополем, в районе Северной бухты, осветился двумя яркими вспышками, и лишь через минуту донесся приглушенный звук далеких взрывов. Где-то полыхал пожар. Нижний слой облаков над городом окрасился багряным отблеском бушевавшего пламени. Отраженный свет колебался: то ярко вспыхивал, то ослабевал, и тогда облака темнели, становились похожими на сгустки запекшейся крови. Начинался рассвет, и вражеские самолеты, прорываясь через заградительный огонь, как ночные стервятники, боящиеся дневного света, с клекотом улетали на запад, в сторону моря. Канонада вдруг прекратилась. В бинокль уже было видно, как сизая пороховая дымка, окутавшая грохотавшие батареи, медленно стлалась, заполняла собою низменности и овраги. Никто не решался произнести слово «война». Все молчали, ошеломленные страшной бедой.
— Ништо, браточки! — твердо сказал Лученок. — Яшчэ не было выпадка, каб нямчура адолела нас.
И ребята пришли в себя. Лица их посветлели и от слов Лученка, и от первых лучей восходящего солнца.

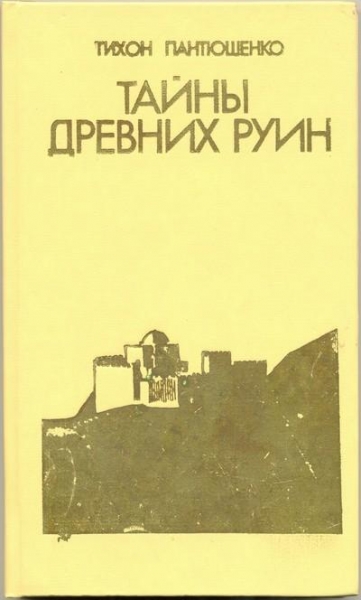





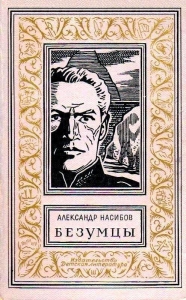

Комментарии к книге «Тайны древних руин », Тихон Антонович Пантюшенко
Всего 0 комментариев