Карина Дёмина Серые земли
Глава 1. В которой Себастьян Вевельский делает предложение руки и сердца, но получает категорический отказ
Ночь была на диво хороша.
В меру темна, в меру тепла. Маслянисто поблескивала полная луна, стрекотали сверчки, пахли розы… баронесса Эльвира Чеснецка, третья и единственная, оставшаяся незамужней, дочь барона Чеснецкого розы весьма любила. Во многом любовь сия происходила от того, что некий студиозус, обезумев от любви, не иначе, сложил сонету в честь Чеснецкой розы, и титул этот, пусть и не означенный ни в одном из геральдических справочников, Эльвире пришелся весьма по сердцу.
В отличие от студиозуса.
Нет, она вознаградила его за старания милой улыбкой и поцелуем, последним не без умысла — Элечка собиралась в Познаньск, где не хотела показаться провинциальной глупой девкой, которая и целоваться‑то толком не умеет.
Вот и потренировалась.
На студиозусах тренироваться всяк удобней, нежели на кошках.
Как бы там ни было, история та случилась в далеком прошлом, памятью о котором остался девичий альбом со злосчастным сонетом, писаным красными чернилами — а врал, будто бы кровью! — да Эльвирина страсть к розам.
Розы окружали ее.
И не только в саду, где они росли, постепенно вытесняя прочие растения. Нет, розы были повсюду. Роскошные золотые цветы распускались на обоях и гардинах, на обивке кресел, козеток, диванов и диванчиков. На коврах и дорожках. На зеркалах. На посуде… и даже ночная ваза Эльвиры была украшена золотыми розами.
Что уж говорить о нарядах?
Элечка вздохнула.
Розам свойственно увядать, а она… она, пожалуй, заигралась… были кавалеры, признавались в любви. Говорили о том, что бросят к Элечкиным ногам весь мир… куда подевались?
Сестры злословят, что, мол, сама виновата… чересчур горда была.
А ведь казалось, что жизнь только — только начинается. И куда ей замуж? В шестнадцать‑то лет… и в семнадцать… и вот уж двадцать три, старость не за горами, а где женихи?
Исчезли.
Не все, конечно. Папенька за Эльвирой хорошее приданое положил, вот только… на приданое или красавцы молодые без гроша за душой слетаются, уверенные, будто Эльвира любови их неискренней рада будет, или старичье, которому деньги без надобности…
Не то все, не так… но ничего, даст Иржена — милосердница, все у нее сладится. Ныне же вечером сладится.
С этой, несомненно успокаивающей мыслью, Эльвира устроилась перед зеркалом.
А все ж хороша.
И не та, не девичья красота, но все же… лицо округлое с чертами мягкими, пожалуй, чересчур уж мягкими. Но кожа бела. Глаза велики, а подведенные умело и вовсе огромными кажутся. И что до того, что появились в уголках их морщинки?
Губы бантиком.
На щеках слабый румянец…
Шея длинная. Волос темный по плечам разметался, будто бы в беспорядке…
Эльвира взяла хрустальный флакон. Капля розового масла на запястья. И другая — на шею. Не переборщить бы… впрочем, она уже давно освоила сию науку и с запахами обращалась столь же свободно, сколь и с красками… румянец вот идеального оттенка вышел.
Соловей смолк, видеть, притомился. Зато сверчки застрекотали, действуя на нервы… время‑то позднее… третий час… а он все не идет и не идет…
Обещался ведь!
И Эльвира готовилась… папенька ждет… и братья… главное, чтоб ожидание это, которое затягивается несколько, не решили они скрасить игрой да выпивкой. Папенька‑то меру знает, а вот за братьев Эльвира не поручилась бы.
И послать бы горничную, чтоб проверила, да… нельзя. Девка, конечно, служит давно, но все одно нету веры прислуге, тут обидится, там денег предложат… а то и просто по глупости разболтается.
Нет уж.
Все самой надобно, а Эльвире из комнаты не уйти. Да что там, комната, окошко и то не прикроешь, хотя тянет оттуда сыростью…
Эльвира зябко повела плечами, прелестно обнаженными, и набросила‑таки на них белоснежную шаль, расшитую золотыми розами.
Этак и вовсе околеть можно, в тоненькой ночной рубашке, которая не рубашка — название одно…
— Эля! — раздался свистящий шепот, когда она уже почти решилась выйти из комнаты: следовало сказать папеньке, что сегодняшний план не удался. — Эля, ты тут?
— А где мне быть? — не сдержала раздражения Эльвира.
Но тут же себя одернула: не время для ссор.
Сердце сжалось от нехорошего предчувствия, и Эльвира поспешила себя успокоить: все пройдет замечательно. Себастьян пришел.
Как приходил вчера.
Позавчера.
И весь этот месяц…
Сейчас подхватит на руки, закружит, скажет, какая Эльвира ныне красивая… или еще что‑нибудь этакое. Язык у него хорошо подвешен… а после к кровати понесет… и там останется потянуть за ленточку… колокольчик зазвенит, призывая папеньку с братьями…
Себастьян Вевельский тяжко перевалился через подоконник.
Что это с ним?
Прежде взлетал легко по виноградным лозам, шутил только, что каждый вечер совершает подвиг ради прекрасной дамы…
— Элечка! — он встал на колени и протянул руки.
Пахнет от него… дурно пахнет.
Выпил, что ли?
Нет, не перегаром вовсе, запах перегара Элечке распрекрасно знаком. Тут иное… дым? И будто бы сточная канава… и… и одежда в грязи… да что это за одежда?!
— Элечка, у нас мало времени, — Себастьян вытащил мятый клетчатый платок, которым отер лицо.
Пиджачишко серый двубортный. Лацканы лоснятся, рукава и вовсе затерты безбожно. И главное, что в плечах пиджачишко этот тесен, рукава коротковаты, а из них пузырями серыми рукава рубахи выступают.
Штаны мятые.
На шее желтый платок кривым узлом повязан, а под мышкой Себушка котелок держит.
— Себушка… — Элечка закрыла глаза, втайне надеясь, что престранный князев наряд ей примерещился, скажем, спросонья. Но когда она глаза открыла, ничего не изменилось.
Распахнутое настежь окно.
Луна желтая.
Сладкий аромат роз… соловей и тот очнулся, защебетал о своей, птичьей, любви. Но сейчас трели его, прежде казавшиеся уместными — даром что ли Эльвира самолично в саду место для клетки искала? — действовали на нервы.
Не исчез и престранный костюм, который удивительным образом подчеркивал некоторую нескладность Себастьяновой фигуры.
— Что случилось?! — осторожно поинтересовалась Эльвира, обходя потенциального мужа.
А в нынешнем наряде он какой‑то… жалкий.
И спину горбит… или не горбит? Поговаривали, что в прежние‑то времена с горбом натуральнейшим ходил, а после выправили, но видать, не до конца… а еще плечо левое ниже правого… странно, в постели оба плеча были одинаковы.
Или Элечка просто на плечи внимания не обращала? В постели‑то помимо сравнивания плеч было чем заняться.
Себастьян взмахнул ресницами и сказал:
— Выходи за меня замуж!
Это она, конечно, с радостью, но…
…он был хорошим любовником. Пожалуй, лучшим из тех, с которыми Элечку сводила судьба, вот только не чувствовала она в нем желания связать жизнь с нею, да и вовсе готовности к женитьбе. А потому сие неожиданное предложение, каковое должно было бы порадовать, донельзя встревожила Эльвиру.
— Выходи! — повторил Себ и, затолкав несчастный платок в рукав, вытащил колечко. — Вот! Это для тебя… сам выбирал!
— Спасибо, но…
Папенька ждет.
И братья, если, конечно, не сильно набрались. Выпить‑то они много могут, и на ногах держатся долго, только вот способность здраво мыслить теряют.
Впрочем, эта способность у них и в трезвом состоянии не часто проявляется.
— Выйдешь? — меж тем поинтересовался Себастьян Вевельский, и такая надежда в его голосе прозвучала, что Эльвире стало неловко.
Выйдет.
Наверное. Колечко она приняла и мысленно скривилась: оскорбительная простота! Не золотое. И не платиновое… серебро?
Не похоже на серебро.
Зато с камнем зеленым, крупным. Слишком уж крупным для того, чтобы быть настоящим.
— Что это? — севшим голосом поинтересовалась Эльвира и ногтем по камню постучала.
— Синенький. Как твои глаза, — сказал Себастьян и широко улыбнулся. — Прости, Элечка, но некогда разговаривать… я тебя люблю!
— И я тебя, — Эльвира покосилась на камень.
Зеленый.
Определенно зеленый.
А глаза у нее и вовсе серые… и если Себастьяну они синими казались, то стало быть, он и цвета не различает. Нет, конечно, сие недостаток малый, несущественный можно сказать, но в сочетании с иными…
— Я знал! — с пылом воскликнул Себастьян, прижимая руки к груди, отчего пиджачишко опасно натянулся, затрещал. — Знал, что ты от меня не отвернешься! Собирай вещи. Мы уезжаем.
— Куда?
— Туда, — Себастьян ткнул пальцем в открытое окно. — А потом дальше. Бери самое необходимое…
— Стой, — Эльвира положила кольцо на туалетный столик и глубоко вдохнула, чтобы успокоиться. — Объясни, пожалуйста, что происходит. Зачем нам куда‑то уезжать. И встань, наконец!
Голос подвел, сорвался.
Себастьян поднялся, как‑то неловко, боком.
— Прости, Элечка… такое дело… папенька вновь проигрался крепко… скандалить начал… в клабе… с обвинениями полез… драку устроил… он норова буйного…
Эльвира осторожно кивнула: понимает. Ее собственный батюшка тоже горазд приключения искать. А братья в него пошли, чем батюшка немало гордится, не разумея, что от фамильного этого характеру одни беды. Помнится, в прошлым‑то годе, когда Зденек в кабаке пляски пьяные учинил, а после к купцам привязался, едва до суда дело не дошло…
— Кто ж знал, что Его Величество там будут, — с тяжким вздохом продолжил Себастьян. — А отец позволил себе… некоторые неосторожные высказывания…
Нехорошо…
Одно дело — купцы, люди второго сословия, и совсем другое король…
— И… что теперь? — Эльвира подняла колечко, мысленно прощаясь и с ним, и с Себастьяном.
— Меня предупредили…
Себастьян опустил голову.
— Батюшку арестуют… не за пьяную драку, конечно. В злоумышлении против государя обвинят…
…серьезно.
…и если вину докажут, а при желании доказать ее не так и сложно, то грозит Тадеушу Вевельскому плаха, а семейству его — разорение…
— Сестрам моим — или в монастырь, или оженят по государевой воле. А нам с братьями — на границу путь — дорожка… вот я и подумал… чего мне тут терять‑то? Уеду я… подамся на Север.
— К — куда?
— На Север, — с чувством глубокого удовлетворения повторил Себастьян. И оказавшись рядом, приобнял. — Вот представь только, Элечка…
Представлять ей не хотелось совершенно.
От Себастьяна пахло прокисшим пивом, дешевой кельнскою водой, которой, помнится, папенькин конюх пользовался, а еще потом. И Элечке подумалось, что ныне эта преотвратная смесь запахов будет сопровождать ненаследного князя по жизни…
— Снега… кругом снега! Налево посмотришь — снега! Направо — снега! Вперед — сколь глаз видит, снега, даль белоснежная! Позади…
— Снега, — мрачно произнесла Эльвира.
Думалось ей вовсе не о снегах, но о том, не пропитается ли ее льняная рубаха сими мерзкими запахами.
— Точно! — восхитился Себастьян. — Неистовая белизна и чистота! Мы в прошлым годе саамца одного взяли… тот еще прохвост. Представлялся шаманом, амулеты вечной жизни продавал. Хорошо шли… так он красиво про родину свою баял… мне еще тогда поехать захотелось.
— Так езжали бы…
— Так не мог. Работа… а сейчас вот… я уж и собак купил.
— Зачем?
— Для упряжки, — Себастьян погладил Эльвиру по голове. — Там без собачьей упряжки никак… поставим юрту на берегу реки… или сразу дом? Простенький, маленький, чтоб только для нас… ты и я… я буду нерп бить и на медведей охотиться…
— К — каких м — медведей?
— Белых, вестимо. Еще на волков. Волки там, говорят, зело свирепые и умные. Но ты не бойся. Я хорошо стреляю… шкуры станем выделывать.
— Я не умею.
— Научишься, — Себастьян смотрел прямо в глаза и улыбался счастливой улыбкой абсолютно безумного человека. — Небось, нехитрое дело… а хочешь, оленей стадо заведем.
— З — зачем?
— Ну… олени — это и мясо, и молоко… или ты доить тоже не умеешь?
Эльвира покачала головой и подумала.
— Еще их чесать можно. Из оленьего пуха вяжут удивительно теплые носки!
Он сошел с ума.
Или она?
И если это все‑таки сон, то на редкость бредовый. Эльвира тайком ущипнула себя за руку, и вынуждена была признать, что происходящее — как нельзя более реально.
— Представь, — меж тем продолжал Себастьян. — Наш маленький дом над бурной рекой…
…воображение Эльвиры мигом нарисовало и реку, и покосившуюся хижину на берегу ее… а еще стадо нечесанных оленей, из шерсти которой ей предстояло связать несколько дюжин носков.
— Тихую обитель вдали ото всех… жизнь на лоне природы… преисполненную опасностей и невзгод…
…белых медведей.
…волков.
…и нерп, которых Себастьян станет свежевать на заднем дворе.
— Нам они по плечу… наши дети вырастут в настоящем мире, где нет зависти и злобы…
…а также водопровода, доктора или хотя бы аптекарской лавки на мили вокруг.
— Наши души очистятся от смога цивилизации, станут чисты и прекрасны…
…разве что только души.
Тело Эльвиры, которое было ей куда дороже души, требовало серьезного ухода.
— Послушай, — перебила она Себастьяна. — Мне очень жаль, но… у нас не получится.
— Думаешь, мне не стать охотником? Ладно. Мы можем заняться золотом… слышала, там золото на каждом шагу!
Слышала. Об этом многие газеты писали, как и о том, что на одного разбогатевшего старателя приходится две сотни безвестно сгинувших.
— Нет, Себастьян, — Эльвира высвободилась из объятий и с раздражением смахнула листик, прилипший к белой ее рубашке. — У нас ничего не выйдет. У тебя… у тебя, быть может, и получится…
Не разочаровывать же его сходу!
Пусть уезжает.
К медведям, нерпам и золоту. Пусть строит свой дом, а Эльвира… она подыщет себе другого мужа… в конце концов, зря что ли привечала графа Бойдуцкого? Ему, правда, под семьдесят… зато богат.
И главное, что королю угоден.
— Я поняла… — Эльвира сделала глубокий вдох. Все‑таки она была сердобольной женщиной, и отказывая очередному искателю ее руки и капиталов, испытывала некоторую печаль. Правда, длилась оная печаль недолго, но неудобства доставляла. — Я поняла, Себастьян, что мы с тобой слишком разные.
Она взяла кольцо.
— Мне жаль, но… я не могу уехать… бросить отца, братьев… матушку больную…
…болела она давно, с немалым удовольствием, которое, впрочем, умело скрывала и от докторов, и от супруга, свято верившего, что жена его пребывает едва ли не на смертном одре.
— Да и подобная жизнь не по мне… я…
— Элечка… — Себастьян упал на колени.
— Нет. Послушай. Я уверена, что ты найдешь другую женщину… ту, которая поймет и примет тебя… и разделит все трудности…
— А ты?
— А у меня свой путь, — решительно произнесла Эльвира. — Я буду помнить о тебе… а теперь уходи!
Она сунула кольцо в его руку.
— Но как же ты… я ведь… уеду, — ненаследный князь шмыгнул носом.
— Как‑нибудь. Я справлюсь.
В конечном итоге, это не первый любовник и не первое расставание.
— Элечка…
— Уходи, — жестче произнесла она. — Пока нас кто‑нибудь не увидел…
…например, батюшка, которому должно было бы надоесть ожидание… или братья… а то, не приведи Иржена, и вовсе родственники, которые в питии порой теряли меру, исполнят первоначальный план, тогда Элечке и вправду останется одна дорога — к снегам да оленям.
— Уходи, уходи, — Эльвира подтолкнула несостоявшегося супруга к окну. — Ты же не хочешь, чтобы обо мне нехорошие слухи пошли?
— А поцеловать?
Целовать Себастьяна ей не хотелось совершенно. Она коснулась ледяными губами щеки.
— Я буду помнить о тебе! — сказал он.
— Я тоже, — соврала Эльвира и, дождавшись, когда ненаследный князь исчезнет в оконном проеме, выдохнула с немалым облегчением.
Вот уж верно сказано: поспешишь…
Эльвира присела перед зеркалом… нет, надобно брать графа… конечно, ходят слухи, что в свои семьдесят он весьма по мужской части активен… но и лучше, меньше проживет… а вдовой быть не стыдно…
Дверь открылась без стука:
— А хто тут?! — пьяный батюшкин бас перекрыл соловьиное пение.
Эльвира и сама пуховку выронила.
— Никого, батюшка…
— Элечка, ты одна? — барон Чеснецкий покачнулся, но на ногах устоял.
— Одна, батюшка…
— Сбег?
— Он нам не нужен.
— А… — барон хотел спросить, отчего вдруг случилась столь резкая перемена, но передумал. Во — первых, на грудь он принял изрядно, а потому в голове шумело, и шум этот мешал должным образом вникнуть в объяснения. Во — вторых, избранник дочери ему не нравился.
А в — третьих, князю зверски хотелось спать.
— Не нужен, — с нажимом повторила Эльвира, проводя по волосам щеткой.
— Ну… — барон понял, что должен изречь что‑то глубокомысленное, этакое, но не знал, что именно. — Затогда ладно… пущай… а ежели чего… то мы его того! Во!
Во устрашение беглого жениха, он стукнул кулаком по каминной полке, которая хрустнула.
— Ах папенька, — Эльвира вымученно улыбнулась: спорить с папенькой не имело смысла. С другой стороны, управлять им было легко. — Отчего мне так не везет‑то?
Папенька лишь крякнул и вновь по полке кулаком шибанул, избавляясь от эмоций, выразить которые иным способом он не был способен.
— Так это… того, — ласково произнес барон, за дочь свою, излишне разумную, переживавший вполне искренне. И пускай не по нраву ему был выбранный Элечкой жених, но смирился бы.
Принял бы как родного.
А глядишь, лет через пару… или не лет, но бочек семейной настойки, каковую готовили по древнему рецепту — по слухам, именно благодаря ему Чеснецкие и вышли в бароны, а потому рецепт оный берегли крепко — и сроднились бы…
— Ты только словечко скажи, — он дыхнул Элечке в шею перегаром.
И та покачала головой: оно верно, стоит слово сказать, и батюшка Себастьяна за хвост к алтарю приволочет, а братья помогут, да только… что с того?
Не ехать же и вправду к светлой жизни на лоне природы?
Нет, на подобные подвиги Эльвира Чеснецка готова не была.
— Нет, батюшка, не надо, — она взмахнула ресницами. — Ты прав был всецело. Не тот он человек, который нам нужен… не тот…
А может, поискать кого похожего на батюшку?
Сильного и не особо умного?
Папенька там про какого‑то своего приятеля сказывал… граф‑то никуда не денется, а на приятеля этого можно глянуть… если, конечно, он не мечтает отбыть на край мира оленей пасти… или медведей стрелять.
— Ты у меня такой сильный… и что бы я без твоей защиты делала?
Барон лишь крякнул.
Дочь он любил, как и прочих своих детей. И за них не то, что князю, королю бы рыло начистить не побоялся. Впрочем, мысль сия была крамольной и даже во хмелю барон осознавал это, а потому прогнал прочь. Благо, Его Величество поводов для баронского гнева не давал…
— Ниче, Элька, будешь ты у меня княжной, — он ободряюще похлопал дочь по плечику, как по мнению барона чересчур уж узенькому, тощему. Сам‑то он предпочитал женщин солидных, в теле и нынешней моды на тщедушных красавиц не разумел. Но раз уж дочери хотелось голодом себя морить, то пущай. А что до обещания, то даром что ли молодой Дагомысл Ружайский, который не столь уж и молод, но ума невеликого, в грудь себя бил, что любого перепить способный… и еще спор предлагал…
В хмельной голове мысли заворочались быстро, причиняя барону едва ли не физическое неудобство. Его аж замутило слегка, но Вотан не дал перед дочерью опозориться.
— Станешь княжной. Чтоб мне век бутылки не видать!
Клятва была серьезна.
И следует сказать, что слово свое он сдержал. Месяца не прошло, как Чеснецка роза переехала в Ружайский розарий. К слову, победа эта далась барону нелегко, и к зятю он проникся великим уважением, которое выказывал громко, искренне, добавляя, что крепка княжья кровь.
А баронская — и того крепче.
Эльвира предпочитала помалкивать…
Ненаследный князь с легкостью перемахнул через витую ограду. Она, с коваными розами и стрелами, была красива, но и только.
Впрочем, Бяла улица Познаньска являла собой место тихое, спокойное. Преступления здесь случались редко.
Себастьян потянулся, подпрыгнул на месте и, поморщившись, сел на мостовую. Он стянул неудобные штиблеты, купленные, как и костюм, в лавке старьевщика, и с немалым наслаждением пошевелил пальцами.
— Жмут, — пожаловался он.
И сняв носок, пощупал мизинец.
— Мозоль натер… это ж надо…
— А я между прочим, говорил, что так и будет, — темная фигура отделилась от могучего платана.
— Накаркали, ваше высочество.
Мизинец в лунном свете был бел и мал, и красная бляха свежего мозоля бросалась в глаза. Себастьян с кряхтением подтянул ступню к лицу и подул на пострадавший палец.
— Я не каркал. Было очевидно, что туфли тебе малы.
— Зато какой фасон! — сдаваться Себастьян не привык, хотя ноющие пальцы свидетельствовали в пользу королевича. И ворчливо добавил. — С тебя двадцать злотней.
— Начинаю разочаровываться в женщинах, — проигрыш Его Высочество не огорчил.
— Только начинаешь?
Королевич не ответил, но присел на мостовую, которая была довольно‑таки чиста, и отсчитал двадцать золотых монет. Потянулся. Вдохнул свежий, напоенный ароматом роз воздух.
— Хорошо‑то как…
Пел соловей.
И круглая луна опустилась еще ниже, дразня маслянистым блискучим боком. Себастьян снял желтый платок, и пиджачишко стянул, оставшись в мятой рубахе.
— Слушай, — королевич первым нарушил молчание. — А если бы она согласилась бежать?
— К саамам?
— К ним… вдруг бы и вправду любила?
— Ну… побежали бы. Мне тут отпуска обещались дать две недели, хватило бы, чтоб прогуляться… вагон третьего класса. Гостиницы… ты когда‑нибудь останавливался в привокзальных гостиницах?
Матеуш пожал плечами: этаких конфузов с ним не случалось. Нет, ему доводилось путешествовать, но сии путешествия как правило происходили в королевском поезде, где помимо спальных вагонов, нескольких гостиных, библиотеки и столовой имелись купальни, игровой салон и иные, несомненно, важные в путешествии вещи.
О привокзальных гостиницах он имел представление весьма туманное.
— Клопы, блохи… поезда… не знаю, что раздражает сильней… я как‑то жил три месяца… искали одного… клиента, который по оным гостиницам отирался. Жертв выглядывал… так бывало чуть заснешь, а за стенкой песню начнут… или поезд какой прибудет…
Себастьян вздохнул, воспоминания эти вызвали внеочередной приступ ностальгии, от которой стало тяжко в груди и спина засвербела.
Он даже наклонился, прижался к могучему стволу вяза и почесался.
— А если бы… — не оставил свое королевич.
— Если бы не сбежала за две недели? — Себастьян чесался о вяз, но зуд не стихал. Напротив, с каждой секундой он креп, будто под кожу Себастьяну сыпанули крошек.
Что это с ним?
— Тогда б я признался.
Он встал и, стащив рубашку, позволил крыльям появиться.
Стало легче.
Немного.
— И если бы она меня не убила, женился б не глядя.
— Ты ее не любишь.
— И что? Ты вон любишь, а толку‑то…
Не следовало заговаривать на эту тему, поскольку Матеуш разом помрачнел, видать, вспомнив и о невесте своей, которая того и гляди с посольством заявится, чтобы раз и навсегда положить конец привольной жизни королевича, и о Тиане Белопольской… с нею Его Высочество не был готов расстаться. Упрямство его донельзя огорчало, что матушку, проникшуюся к Тиане искренней нелюбовью, что отца, куда более благорасположенного, но тем не менее, в первую очередь заботившегося о благе государственном. А Тиана с ее козой этому благу грозила воспрепятствовать.
Королевские проблемы Матеуша угнетали, ввергая в бездну тоски.
А в перспективе и вовсе ссылкой грозились.
От печальных мыслей, как это случалось во все прежние дни, вновь отвлек Себастьян.
— Слушай, Матеуш, у тебя с собой ножа нет?
— Ножа? — королевич явно удивился. Нож у него был. И даже два. Метательные, спрятанные в рукавах. Один с ядом, другой — с проклятьем смертельным.
— Кортика. Шпаги на худой конец. Чего‑нибудь…
— А тебе зачем?
— Почесаться…
Матеуш ножи отверг, князь, конечно, из метаморфов, так и королевские ведьмаки с алхимиками вкупе не даром хлеб едят.
А Себастьяну становилось хуже.
На коже проступала чешуя, и Себастьян с удивлением осознал, что не способен контролировать это превращение. Да и зуд не стихал.
Королевич же молча протянул стилет с королевским гербом на рукояти. Трехгранный клинок был узким и в достаточной мере острым, чтобы ощущать его через плотную чешую.
— А плечи почешешь?
— А больше тебе ничего не надо? — с подозрением осведомился Его Высочество.
— Еще спинку… не дотянусь…
Пробившиеся клыки делали речь невнятной, и Себастьян замолчал.
Приворотное?
Он ничего не пил и не ел, да и Эльвира не похожа на тех дурочек, которые с приворотами балуются… она выглядела такой очаровательно милой.
Серьезной.
И Себастьяну весьма импонировала ее целеустремленность…
Но все‑таки…
Спина чесалась.
И крылья.
И даже хвост, который нервно елозил по мостовой, оставляя на камне длинные царапины. Себ испытывал преогромное желание упасть на землю, покатиться…
Не хватало еще.
Навоз тут, конечно, убирают, но все ж не дело это, цельному ненаследному князю на земле валяться. Только подумал, как зуд исчез.
А с ним и чешуя.
Крылья же безвольно обвисли, и королевский кортик из руки выпал.
— И что это было? — осведомился Матеуш, кортик подбирая.
— Понятия не имею, — честно признал Себастьян. — Но… полагаю, пока не разберусь, нам лучше не встречаться. А то мало ли…
Луна ухмылялась.
И в желтоватом свете ее лицо королевича сделалось еще более некрасивым. Матеуш скривился, точно собираясь расплакаться, но все ж сдержанно кивнул.
— Спасибо.
— Та не за что, — Себастьян неловко поднялся. Им овладела престранная слабость. Неимоверно хотелось спать, можно — прямо здесь, у корней дерева… Он тряхнул головой, силясь освободиться от наваждения. — Разберусь и тогда… продолжим… надо же мне невесту подыскать…
— Зачем?
— А почему нет? — чтобы не упасть, Себастьян оперся на вяз. — Лихо вон женат… счастлив… чем я хуже?
— Ну… — королевич печально усмехнулся. — Женат — это не всегда означает счастлив. Возьми.
Он стянул с пальца перстень — печатку.
— Ежели вдруг… можешь действовать моим именем.
Перстень Матеуш положил на землю и отступил на два шага.
— Да и в самом‑то деле, в отпуск бы тебе, князь…
Он сделал еще шаг и растворился в сумерках. Себастьян моргнул и потер сонные глаза кулаком… был королевич… не было королевича… ну да, естественно, что без охраны он из дворца не выйдет… после прошлогоднего‑то приключения к вопросам собственной безопасности Матеуш стал относиться куда серьезней, нежели прежде.
От и ладно.
До королевских проблем Себастьяну дела нет. С собственными разобраться бы.
Он наклонился, с немалым трудом, странная слабость не отступала, и Себастьян вдруг ощутил себя неимоверно старым, если не сказать — древним. Заныли суставы, и мышцы, и старые шрамы, которые, казалось, затянулись без следа.
Что за…
Он упал на четвереньки и затряс головой.
Не выходило избавиться…
Себ стиснул зубы и потянулся к перстню. И дотянулся. И поймал, сдавил в кулаке, а в следующий миг едва сдержался, чтобы не закричать. От перстня полыхнуло жаром.
И жар этот, прокатившись по крови, избавил от слабости.
— Вот значит как, — сказал Себастьян сам себе, когда сумел вновь говорить. И на этих словах его вывернуло. И выворачивало долго, болезненно, внутренности горели, и горло драло, а после на мостовую вывалился волосяной ком.
Черный.
Осклизлый.
И тотчас распался…
— Вот значит… — Себастьян отполз под тень вяза.
Волосы шевелились, точно черви…
— Князь, вам к ведьмаку надобно бы… — раздалось вдруг сверху, и массивная рука сгребла Себастьяна за шиворот, дернула, поднимая. — Королевич приказали сопроводить…
Королевич…
Что ж, к ведьмаку — это верно…
— Погоди, — Себастьян отер рот ладонью. — Надо это взять… только не руками… нельзя руками…
— Понял. Стойте.
Себастьяна прислонили к многострадальному вязу, и как ни странно, но прикосновение к теплой древесине его принесло немалое облегчение.
Охранник же отломил веточку и споро ткнул в шевелящийся ком. Тонкие нити взметнулись, оплели ветку плотным коконом. А охранник, подобрав с земли ботинок, кинул ветку в него.
— Так‑то сойдет… от же дрянь!
— Ты… как тебя зовут?
— Агафьем… — смутившись произнес охранник и, кажется, покраснел. — Мама девочку хотела очень… сыновей‑то у нее семеро было… говорит, замаялась имена придумывать, чтобы все на «А»… вот и…
— Зато оригинально. С фантазией.
Охранник со вздохом кивнул. Кажется, от этой родительской фантазии ему в жизни досталось.
— Агафь… Агафий… ты сталкивался с этаким… прежде? — речь давалась с трудом. Себастьян пощупал горло, которое по ощущениям судя было разодрано. Ан нет, целехонько…
— А то… в позатом годе королевича проклять пыталися… колдовкина штучка… черноволос. Ох и поганая‑то!
С данным утверждением Себастьян охотно согласился. Как есть погань.
— Оно во внутрях пухнет и кишки дерет, пока вовсе не издерет…
Вот же… сходил на свидание.
Эльвира?
Себастьян перевел взгляд на особняк.
За что ей?
Вернуться? С вопросами… с обвинением… нет, в таких делах спешка лишнее… надо сперва до ведьмака добраться… до штатного… а лучше к Аврелию Яковлевичу… час поздний, вернее, ранний… не обрадуется… но поможет…
Меж тем Агафий подобрал и пиджачок, и второй ботинок, поинтересовался:
— Сами пойдете, княже, аль подсобить?
Себастьян убрал руки и сделал шаг. Земля качалась, слабость была… но обыкновенного свойства.
— Подсоби, — пришлось признать, что самостоятельно он до пролетки не дойдет. И Агафий безмолвно подставил плечо. — Спасибо…
— Та не за что, княже… работа у меня такая… к Аврелию Яковлевичу везть?
Себастьян кивнул, сглатывая кислую слюну, которая подкатывала к горлу. Он стискивал королевский перстень, который, впрочем, оставался холодным, и прислушивался к урчанию в животе.
Чудилось — шевелится в нем нечто…
Шевелится и растет, того и гляди разрастется настолько, что и вправду кишки раздерет.
Помирать не хотелось.
Уж лучше бы и вправду под венец.
Глава 2. Где Аврелий Яковлевич вершит волшбу, а тако же совершается душегубство
По дороге Себастьян вновь стошнило.
И Агафий, вздохнув, привстал на козлах:
— Держитеся, княже. Скоренько поедьма.
Он сунул два пальца в рот, а после свистнул так, что каурая лошаденка, в пролетку запряженная, завизжала со страху да не пошла галопом — полетела. И пролетка с нею полетела, с камня да на камень. Себастьяну пришлось вцепиться в борта.
Он думал об одном: как бы не вывалится.
И мысли эти спасали от тянущей боли в животе. Агафий же, стоя на козлах, знай себе, посвистывал, и этак, с переливами, с перекатами…
Кажется, на площади Царедворцев, Себастьян‑таки лишился чувств, ибо ничего‑то после этой площади и не помнил, и не мог бы сказать, каким таким чудом вовсе не вылетел из несчастной пролетки, и как она сама‑то опосля этакой езды уцелела.
Он очнулся у дверей знакомого особняка, удивившись, что стоит сам, пусть и обняв беломраморную и приятно холодную колонну. Над нею, по широкому портику, расхаживала сторожевая горгулья да подвывала тоненько. Она то распахивала короткие драные крылья, то спину по — кошачьи выгибала, то трясла лобастою уродливой башкой и, грозясь незваным гостям страшными карами, драла каменный портик. Звук получался мерзостнейший, и вызывал он такое душевное отторжение, что Себастьяна вновь стошнило, прямо на розовые кусты.
— Эк вас, княже… — сказал кто‑то, но кажется, уже не Агафий.
Тот был за спиной, грозил горгулье не то пальцем, не то бляхой королевское особой стражи, главное, что та от бляхи отворачивалась и мяукала.
В дом Себастьяна внесли на руках.
— Э нет, дорогой, не вздумай глаза закатывать, чай не барышня обморочная…
Под нос сунули нечто на редкость вонючее…
— Вот так‑то лучше… пальца два в рот сунь… а лучше три, — посоветовал Аврелий Яковлевич, подсовывая медный сияющий таз.
Себастьян совету последовал.
Рвало его насухую…
— Черноволос, — Агафий сунул ведьмаку Себастьянов ботинок. — Во какой!
— Знатный, — Аврелий Яковлевич вытащил веточку с волосами. — Жирный какой… ишь, насосался кровей… ничего… ты, главное, Себастьянушка, помереть не вздумай.
Себастьян собирался было ответить, что скоропостижная кончина в его жизненные планы не входит, но согнулся в очередном приступе рвоты.
В медный таз плюхнулся очередной кроваво — волосяной сгусток.
— Вот так… ладненько… пей, — к губам прижался край глиняной кружки, и Себастьян послушно сделал глоток.
Питье было…
Кислым? Горьким? Перебродившим явно… и острым запахом плесени.
— Пей, будет он мне тут носом крутить, — тяжелая ладонь ведьмака легла на затылок, не позволяя отстраниться. — Давай… за матушку… за батюшку… за родню свою… по глоточку…
Аврелий Яковлевич или издевался, или заботу проявлял, но забота его во многом была сродни издевке. Себастьян глотал питье, которое с каждым глотком становилось все более омерзительным.
И сквозь сладковатый запах ныне отчетливо пробивался крепкий дух падали.
— Вот молодец, а теперь зубы стисни и терпи… сколько сможешь, столько и терпи.
Себастьян подчинился.
Он чувствовал, как ведьмаковское зелье растекается по желудку, по кишкам, как обволакивает их густым, будто масляным слоем. На мгновенье ему стало почти хорошо.
А потом плохо.
Так плохо, как не было никогда в жизни…
— Вот так… правильно… — густой бас Аврелия Яковлевича причинял невыносимые мучения, и Себастьян хотел бы попросить ведьмака помолчать, но для того пришлось бы выпустить тазик.
Его не рвало — его выворачивало наизнанку.
И эта изнанка была утыкана черными крючками…
— Терпи, — Аврелий Яковлевич поднес вторую кружку. — Эту дрянь вымывать надобно… ничего, ты у нас парень крепкий… Агафий, попридержи князя…
Агафий попридержал.
Чтоб его…
Когда Себастьян открыл глаза, светило солнце.
Ярко так светило. Пробивалось сквозь кружевную занавесочку, ложилось кружевом же на широкий подоконник, на листья герани, на белоснежную подушку… Себастьян закрыл глаза.
Он лежал.
Определенно лежал. На спине. Пряменько… и руки на груди скрещены, точно у покойника. Мысль эта категорически Себастьяну не понравилась. Он попытался пошевелиться, однако понял, что не способен.
А что если и вправду за покойника приняли?
Отравили… лечили… а лечение такое, что почище отравы в могилу сведет… вот и…
Нет, если бы в могилу, то лежал бы он не в кровати, а в гробу… да и одеялом навряд ли укрывать стали бы. В гробу да с одеялом неудобно.
Мысль показалась здравой и даже вдохновляющей. И Себастьян вновь глаза открыл. Солнце было ярким, а из приоткрытого окна приятно тянуло сквознячком. Он осознал, что, верно, лежит давно, оттого и тело затекло, занемело. Под пуховым одеялом было жарко, и Себастьян вспотел.
От пота шкура чесалась.
Или не от пота?
— Живой… — раздался над головой знакомый голос, преисполненный удовлетворения. — Эк ты, князюшка, везуч…
Припомнив вчерашний вечер, Себастьян согласился: и вправду везуч, только везение это какое‑то кривое.
Меж тем Аврелий Яковлевич поднял Себастьяна, подпихнул под спину подушку, а потом и вторую, преогромную, набитую пухом столь плотно, что подушка эта обрела каменную твердость. Наволочка ее была расшита голубками и незабудками, и Себастьян эту хитрую вышивку чувствовал шкурой, сквозь мокрую ткань рубахи.
— Пей от, Себастьянушка, — в руки Аврелий Яковлевич сунул кружку, огромную, глазурованную и с теми же голубками. — Пей, а после поговорим.
У самого князя кружку удержать не вышло бы. Он и рук‑то поднять не в состоянии был, но с ведьмачьей помощью управился и с ними, и с кружкой, и с густым, черным варевом, которое имело отчетливый привкус меди.
Но хоть внутренности не плавило, уже радость.
На самом деле с первого же глотка по крови разлилась приятная теплота. А на последнем Себастьян и кружку сам удержать сумел.
— Живучий ты, — с непонятным восторгом сказал Аврелий Яковлевич.
— Упрекаете?
— Восхищаюсь. Другой бы давно уж лежал бы ровненько, смирненько, как приличному покойнику полагается, а ты знай себе, хвостом крутишь.
Хвост дернулся и выскользнул из‑под одеяла, щелкнул по теплой половице.
Нет, умирать Себастьян точно не собирался.
А собирался найти того, кто одарил его этаким подарочком…
— Лежи, — рявкнул Аврелий Яковлевич. — Успеешь еще с подвигами…
— Кто… меня… — голос, однако, был сиплым, севшим. И горло болело невыносимо.
— Это ты мне расскажи, кто тебя и где…
— Когда?
Безумный разговор, но Аврелий Яковлевич понял.
— Думаю, денька два тому… вспоминай, Себастьянушка. С кем ел. Что ел… эта пакость сама собой не родится, она под человека делается, из его собственных волос… волоса… надобно снять, а после изрубить на мелкие куски. И проклясть. Про то уж я тебе подробно сказывать не стану, лишние знания — лишние печали…
Себастьян согласился, что лишние печали ему в нынешней ситуации совершенно ни к чему.
— Одно скажу, что на то не менее десяти ден надобно, — Аврелий Яковлевич отступил от кровати, решив, что ненаследный князь в обозримом будущем не сомлеет. — А держится наговор еще денька этак три… в том его и неудобство.
Значит… две недели… примерно две недели.
Себастьян постарался вспомнить, где был… а где он только не был! И премерзко осознавать, что любой мог бы…
Или нет?
Волосами своими он не разбрасывается, и линять не линяет… и значит, человек, который волосы взял, достаточно близкий… настолько близкий, что явился бы в гости…
И кто являлся в гости в последние‑то недели?
Лихо?
Быть того не может!
Нет, конечно, нет… у Лихо нет мотива… а если… являться не обязательно… панна Вильгельмина — хорошая женщина, только не особо умна… и подружки ее… или не подружки?
Допросить бы, кого она в Себастьяновы комнаты запускала…
Панна Вильгельмина запираться не станет.
Не Лихо… конечно, не Лихо… кто‑то пробрался, взял волосы… волос, если Аврелий Яковлевич утверждает, что будто бы и одного довольно.
Взял.
Заговорил.
Подлил… подлить тоже непросто, но ничего невозможного… Себастьян в последнее время частенько в кофейню на Залесской улочке наведывается, уж больно там кофий хороший варят, с перцем да кардамоном, с иными приправами. И столик всегда один берет, у окна, чтоб люди проходящие видны были. Интересно ему за людьми наблюдать…
— Тебе повезло, Себастьянушка, — Аврелий Яковлевич придвинул кресло к окошку. Сел, закинув ногу за ногу, из кармана вытащил портсигар.
Закурил.
— Будь ты человеком, я б, конечно, постарался, но… тут уж как боги ссудили бы. Но в постели б надолго оказался… а после всю оставшуюся жизнь питался б овсяными киселями.
Аврелий Яковлевич выглядел утомленным. И на темном его лице морщины проступили глубже, будто и не морщины, но зарубки на мореной древесине.
Глаза запали.
И сосуды красные их прорезали.
— И королевичу спасибо скажи…
— Заговоренный?
Перстень лежал на столике у кровати.
— А то… на нем, небось, через одну вещицы заговоренные… вот тебя и шибануло маленько… не тебя, а тварюку эту… только мне другое интересно. Почему тебя?
Этот вопрос Себастьяна тоже занимал.
Оно, конечно, врагов у него имелось вдосталь, что в Познаньске, что на каторгах, и многие людишки с превеликою охотой выпили б за упокой мятежной княжеской души. Вот только с волосьями возиться… нет, лихой народец к этаким вывертам непривычный.
Ему б попроще чего…
Как в позатом годе, когда повстречали Себастьяна четверо да с гирьками на цепочках…
…семь лет каторги за разбой.
Или три года тому… темный переулок да нож, который о чешую сломался.
Или в тот раз, когда в управление бомбу прислали… бомба, оно куда как проще, понятней…
Аврелий Яковлевич не столько курил, сколько вертел папироску в пальцах, казавшихся на редкость неуклюжими.
— И отчего именно теперь…
— То есть? — силы медленно, но возвращались. И Себастьяну удалось сесть самому. Он стянул пропотевшую рубашку, отер ею плечи и лицо. — Какая разница, когда?
— Может, — согласился Аврелий Яковлевич, — и никакой. А может… может, тебя не просто травили, а убрать хотели, чтоб, значит, под ногами не путался… дело‑то такое… полнолуние было…
Ведьмак говорил медленно, подбирая слова, а этаких политесов за ним прежде вовсе не водилось. И оттого неприятно похолодело в груди. Хотя, конечно, может, и не внезапная перемена, случившаяся с Аврелием Яковлевичем, была тому причиной, но банальнейшие сквозняки.
— Убили кого? — облизав сухие губы, поинтересовался Себастьян.
Ответ он знал.
— Убили.
— Кто?
— А мне откудова знать, кто? — Аврелий Яковлевич с немалым раздражением цигаретку смял. — Это ты у нас, мил друг, опора и надежда всея познаньской полиции.
Ведьмак поднялся.
— Ты у нас и выяснишь. Коль уж жив остался…
— Аврелий Яковлевич!
— Чего?
— На меня‑то вы чего злитесь? Я‑то ничего не сделал…
Аврелий Яковлевич нахмурился, и уголок рта его дернулся, этак недобро дернулся.
— Старею видать… вот и злюся без причины… слухи пошли, Себастьянушка… а это дело такое… и королю неподвластно их остановить. Поговори с крестничком, чтоб поберегся, чтоб не натворил глупостей…
Ведьмак прошелся по комнатушке, которая, надо сказать, была невелика и на диво прелестна. Светлая. Яркая. С мебелью не новой, но весьма солидного вида. Единственно, что солидность эту портило — статуэтки из белого фарфору.
Голубочки.
Кошечки… вот как‑то не увязывались у Себастьяна кошечки с характером Аврелия Яковлевича. Он же, подняв статуэтку с каминной полки, повертел, хмыкнул и на место вернул:
— Экономка моя… все уюты наводит… пущай себе…
— Аврелий Яковлевич! — Себастьян попробовал было сидеть сам, без опоры на подушку, и понял, что получается. — Рассказывайте.
Неприятное чувство в груди не исчезло.
И значит, не сквозняки были ему причиной.
— Рассказывать… рассказать‑то я расскажу, да только показать — оно всяк быстрей.
И на одеяло упал характерного вида бумажный конверт.
— Аккурат с утреца и вызвали — с… только — только тебя, мил друг, откачал, умыться не успел даже, а тут, нате, пожалте, Аврелий Яковлевич, на место преступления, долг свой обществу, значит, отдать…
Пальцы все еще слушались плохо, и Себастьян несколько раз сжал и разжал кулаки.
Конверт был жестким, из шершавой плотной бумаги с острыми уголками, о которые в прежние времена ему случалось и пальцы резать. В левом углу виднелась лиловая печать полицейского управления. В правом — красная полоса предупреждением, что содержимое сего конверта является государственной тайной, а потому доступно не каждому.
Себастьян провел по полосе большим пальцем и поморщился, обычная процедура ныне показалась на диво болезненной. И кожа на пальце покраснела, вспухла волдырем.
— Это нормально? — он продемонстрировал палец Аврелию Яковлевичу, который лишь плечами пожал да заметил философски:
— А что в нынешнем‑то мире нормально?
Из конверта выпал пяток снимков. Видно, делали в спешке, по особому распоряжению… и получились снимки вроде бы и четкими, да в то же время какими‑то ненастоящими, что ли?
Не снимки — картинки из театра теней.
Глухой проулок. И кирпичная стена, получившаяся на редкость выразительно. А вот край вывески на этой стене размыт, и сколь Себастьян ни вглядывался, букв не различил.
— Переулок Сапожников, — подсказал Аврелий Яковлевич, вытаскивая очередную цигаретку. Эту он покатал в пальцах, разбивая комки табака. Дунул. Прикусил белую бумагу, вздохнул. — Спокойное местечко… мирное…
Не столь мирное, как Бяла улица, но все же…
Себастьяну доводилось бывать в этом переулке, и он с неудовольствием отметил, что мог бы и сам узнать, без подсказки. По кирпичу, темно — красному, особого винного колера, который встречался лишь на старых улочках Познаньска. По характерному фонарному столбу с желтою табличкой, где выгравировано было имя благодетеля, сей столб поставил, по камням мостовой, круглым, аккуратным.
По витрине на втором снимке.
И флюгере — сапоге на третьем…
Впрочем, ныне его интересовала вовсе не мостовая, и даже не флюгер, каковыми местные сапожники донельзя гордились, сказывая, что будто бы делали эти флюгера в незапамятные времена, по особому разрешению…
Женщина сидела. Пожалуй, на первый взгляд могло показаться, что ей, уже немолодой, стало дурно, вот она и присела прямо в лужу…
Дождей в Познаньске уже недели две как не было. И все мало — мальски приличные лужи высохли. Толька эта, темная, черная почти, появилась не так давно.
И в ней отражалась бляха луны.
Себастьян сглотнул, сдерживая тошноту. Ему случалось повидать всякого. Вспомнился вдруг утопленник, которого месяц тому выудили, а с ним — и ведра два раков, которых санитары разобрали… съедят и не побрезгуют.
Еще шутили, что так оно в природе положено, сначала раки едят человека, а опосля наоборот…
…или та старушка, которая кошек держала, а после померла, сердце прихватило… и нашли ее только на третий день…
…или одержимая, своих детей зарубившая…
Нет, случалось повидать всякого, а потому Себастьян и сам не понял, отчего эта картина, почти мирная, почти пристойная, вызывала в нем столь неоднозначную реакцию.
И он поспешил взять другой снимок.
Лицо крупным планом.
Искаженное страхом, и еще, пожалуй, болью.
Разодранная шея… и не просто разодранная, гортань вырвали…
Живот — дыра. Змеи кишок, стыдливо прикрытые подолом длинной черной юбки.
— Это… не мог быть… человек? — говорить было тяжело, но Себастьян заставил себя пересмотреть снимки.
Лихо…
Не стал бы убивать. Он ведь совестливый. Он первый бы себя на цепь посадил, пойми, что с ним неладно… а ведь не далее как вчера встречались…
Позавчера уже…
Само то время, чтобы плеснуть в кофий заговоренного зелья.
Нет, гнать такие мысли поганой метлой надобно. Лихо никогда бы… ни за что бы… и эту женщину он не убивал. Но кто‑то хочет, чтобы подумали именно на него… и ведь подумают.
— Кто ее нашел?
— Дворник, — ответил Аврелий Яковлевич, дыхнув едким табачным дымом. — И да, сообщил он не только полиции… к моему прибытию от репортеров не протолкнуться было…
Плохо.
Мигом вспомнят прошлогоднюю историю, и Вевельского волкодлака приплетут, не разбираясь, виновен он или нет. Виновного так еще и отыскать надобно, а Лихо — вот он, в городе…
Сказать, чтоб уехал?
Оскорбится, дурья башка… или подумает, что и Себастьян поверил.
Успокоиться.
Лихо не при чем. Но вот отравление это своевременное весьма… будь Себастьян человеком… или не попадись ему в руки королевское колечко, как знать, чем нынешняя ночь закончилась бы…
— Аврелий Яковлевич, — Себастьян перебирал снимки, осторожно поглаживая и острые углы карточек, и глянцевую поверхность. — А с вами‑то ничего за последние дни не происходило… странного?
Ведьмак усмехнулся, этак, со значением.
— Верно мыслишь, Себастьянушка… приключилось. Цветы мне прислали. Лилии…
Он тяжко вздохнул.
— С проклятьем? — поинтересовался Себастьян.
— Что? А нет… с ленточкою черной и открыткою.
— Шутите?
— Да какие тут шутки, — Аврелий Яковлевич стряхнул пепел на ладонь, а затем высыпал в раззявленный клюв фарфоровой утки. — Или думаешь, что у меня поклонница тайная завелась…
— Ну почему поклонница… может, и поклонник…
Ведьмак хмыкнул.
— Венок болотных белых лилий… короной на твоем челе…
— Это что, стихи?
— Вроде того.
— Аврелий Яковлевич!
— Она очень любила лилии… колдовкин цветок, — он говорил, разглядывая несчастную утку с превеликим вниманием. — А я любил ее… и стихи вот писать пытался. Оду во славу… дурень старый… нет, тогда‑то еще молодой, но теперь…
Аврелий Яковлевич тяжко вздохнул:
— Предупреждает она…
О чем предупреждает, Себастьян уточнять не стал, чай, сам понимает, что ни о чем хорошем. А ведь почти поверил, что та, прошлогодняя история, в прошлом осталась.
Демон сгинул.
Колдовка мертва.
Черный алтарь вернулся в Подкозельск, где ему самое место…
На Лихо и то коситься перестали, говорил, вроде, что даже приглашали куда‑то, не то в салон, не то на бал, не то еще куда, где людям на живого волкодлака глянуть охота…
Себастьян тряхнул головой, что было весьма неосторожно, поелику голова эта сделалась вдруг неоправданно тяжелою, и он едва не рухнул с кровати. Подушка спасла. И одеяло, то самое, пуховое, в которое Себастьян обеими руками вцепился.
— Полегче, — велел Аврелий Яковлевич, заметив этакую маневру. — Тебе, мил друг, в этой постельке до вечера лежать…
— А…
— А труп от тебя никуда не денется, — ведьмак дыхнул дымом, и Себастьян закашлялся.
— За между прочим, курение вредно для здоровья! — заметил Себастьян, разгоняя сизый дым ладонью. — А у меня его и так немного осталось…
— Так кто ж в том виноватый? — притворно удивился Аврелий Яковлевич. — Нечего всякую пакость жрать, тогда и здоровье будет.
Замолчали оба.
Следовало сказать что‑то… но ничего в голову не шло. Вообще голова эта была на редкость пустой, и непривычность подобного состояния донельзя смущала Себастьяна.
Он вновь поднял снимки…
— Кто она?
— Сваха, — Аврелий Яковлевич прикрыл глаза. — Профессиональная… заслуженная, можно сказать…
О чем это говорило?
А ни о чем.
— Ты, Себастьянушка, не спеши… успеешь… крестничка моего пока не тронут, а с остальным управишься… только на будущее… перстенек королевский я силой напитал. Прежде, чем в рот чего тянуть, ты его поднеси. Ежель нагреется, то…
— Понял.
— От и ладно, — ведьмак поднялся. — Это хорошо, что ты у нас такой понятливый. И еще, вещицы какие, ежели вдруг в руки проситься станут, не бери.
— Это как?
— Обыкновенно… вот пришла, к примеру, тебе посылочка… от поклонницы… иль еще от кого… ты ее открывать не лезь. Али еще бывает, что идешь по улочке себе, а тут под ноги чужой бумажник…
— Аврелий Яковлевич, да за кого вы меня принимаете! — Себастьян оскорбился почти всерьез. Он, быть может, и не образец благородства, но чужими бумажниками до сего дня не побирался.
— Экий ты… все торопишься, торопишься… я ж не в том смысле. Лежит бумажник, прям таки просится в руки… нет, ты у нас человечек приличный, а неприличных вокруг полно. А ну как возьмут и с концами? Вот и тянет вещицу поднять, пригреть, до тех пор, само собою, пока истинный хозяин не сыщется… или вот и вовсе блеснет монетка, медень горький, но тебя такая охота ее поднять разберет, что…
— Не брать.
— Не брать, — важно кивнул Аврелий Яковлевич. — И вообще, Себастьянушка, купи себе перчатки и очки…
Очки Аврелий Яковлевич к вечеру самолично преподнес: круглые и со стеклами яркими, синими.
— Брунетам, говорят, синий идеть, — сказал он и на стеклышки дыхнул, протер батистовым платочком, отчего рекомые стекла сделались какими‑то неестественно яркими.
Глава 3. Где имеет место быть семейный ужин и высокие отношения
Тихие семейные вечера Евдокия успела возненавидеть.
Нет, ей было немного совестно, поелику нехорошо ненавидеть родственников мужа, тем паче, что сам супруг к вышеупомянутым родственникам относился с нежностью и любовью.
А она…
Она старалась.
Весь год старалась.
А вышло… что вышло, то вышло.
Музыкальная комната в пастельных тонах. Потолки с лепниной. Люстра сияет хрусталем. И сияние ее отражается в натертом до зеркального блеска паркете.
Темные окна. Светлые гардины обрамлением.
Низкая вычурная мебель, до отвращения неудобная… Евдокия с трудом держит и осанку, и улыбку… собственное лицо уже задеревенело от этой улыбки, маской кажется.
Тихо бренчит клавесин.
Играла Августа, а Бержана перелистывала ноты… или наоборот? Нет, ныне Августа в зеленом, а Бержана в розовом… или все‑таки?
У Бержаны мушка на левой щеке… точно, в виде розы. Августа же на правую ставит, и над губой тоже… и пудрится не в меру, по новой моде, которая требовала от девиц благородного происхождения аристократической бледности.
…Бержана же предпочитала уксус принимать, по пять капель натощак.
И Евдокии советовала весьма искренне, средство хорошее, авось и поможет избавиться, что от неприличного румянца, что от полноты излишней…
Клавесин замолк.
И сестры поклонились. Близняшки, хоть и рядятся в разное, а все одно Евдокия их путает…
— Чудесно! — возвестила Богуслава.
Как у нее получается быть такой… искренней?
— Вы музицируете раз от раза все лучше… в скором времени, я уверена, вы сможете и концерты давать…
…Евдокия благоразумно промолчала.
Чего она в музыке понимает? Вот то‑то и оно… ни в музыке, ни в акварелях, которые сестры демонстрировали прошлым разом и Богуслава пообещала выставку организовать, хотя как по мнению Евдокии акварели были плохонькие… ни даже в столь важном для женщин искусстве, как вышивка гладью.
Вышивка крестом, впрочем, также оставалась за пределами Евдокииного разумения.
— Вы так добры, дорогая Богуслава! — воскликнула Августа.
Или Бержана?
— Так милы!
— Очаровательны!
— Мы так счастливы принимать вас…
Евдокию, как обычно, не заметили. И в этом имелась своя прелесть. В прежние‑то разы ее пытались вовлечь в беседу, во всяком случае, она по наивности своей видела в этих попытках участие.
Добрую волю.
— И я счастлива, дорогие мои… — Богуслава обняла сначала Бержану, затем Августу… — В детстве я мечтала о сестре… а теперь получила сразу троих…
Все‑таки голова разболелась.
И не только в мигрени, которая вот — вот накатит, дело. Этот дом будто высасывал из Евдокии силы. И всякий раз она давала себе слово, что нынешний визит будет последним.
Она поднялась и вышла.
Никто не заметил.
Своего рода перемирие. Евдокия старается его не нарушать.
В соседней комнате темно, и лакей не спешит зажечь газовые рожки, надо полагать, не считает Евдокию достойной этаких трат.
Обидно?
Уже нет.
Она ведь поняла, что в этом доме ее никогда не примут. Зачем тогда она мучит себя, являясь сюда раз за разом? Чего проще, отговорится той же мигренью или занятостью… хотя нет, занятость — неподобающий предлог для женщины. Впрочем, чего еще ждать от купчихи, помимо денег?
Деньги они бы приняли.
И готовы были бы терпеть Евдокию, если бы она…
Не плакать.
Было бы из‑за чего слезы лить… небось, маменьке с ея свекровью благородных эльфийских кровей тоже нелегко приходится…
Смешно вдруг стало, только смех горький, безумный почти… а ведь дай только повод и станет объявить. Нет, хватит с нее игр в приличия.
Глаза Евдокии привыкли к сумраку.
Нынешняя гостиная была невелика и, пожалуй, не столь роскошна. Дом требовал ремонта. Об этом Лихославу напоминали постоянно, и еще о его долге перед сестрами, которые были уже достаточно взрослыми, чтобы устроить их судьбу… настолько взрослыми, что через год — другой это самое устройство судьбы станет мероприятием затруднительным, если и вовсе не невозможным.
Сестрам требовался новый гардероб.
И драгоценности.
Коляска.
Выезды, приемы, для которых опять же, надобно было привести дом в порядок…
Евдокия коснулась шершавой чуть влажноватой стены. Странное дело, сейчас, наедине, дом, в отличие от хозяев его, Евдокии нравился. Было в нем нечто спокойное, сдержанное… Лихослава напоминал.
…если рассказать…
…получится, что Евдокия жалуется, он поверит, конечно… и огорчится.
Он ведь действительно любит сестер, а те… те любят Богуславу и желают быть на нее похожими…
— Я тобой займусь, — пообещала Евдокия дому. — Но позже… сначала надобно с поместьем разобраться. Ты не представляешь, до чего там все запущено… а ведь хорошая земля… сытная… и лес опять же. Его за копейки продавали, штакетником, а меж тем — первоклассная древесина. Дуб.
Вряд ли дому было интересно слушать об этом.
А кому интересно?
Разве что Лихославу, который вполне искренне пытался вникнуть в дела поместья, и вникал же, разбирался понемногу, пусть и давалась ему эта наука с немалым трудом.
Шутил, будто бы уланская голова для того не предназначена, чтоб в нее цифры укладывать.
…надобно рассказать.
…по — честному оно будет, потому как хватит Евдокии себя мучить.
В тиши и темноте и головная боль притихла.
Евдокия обошла комнату.
Деревянные панели… дуб или вишня? Мягкий шелк стен… камин, облицованный не иначе, как мрамором, и скорее всего, облицовку надо бы менять, поелику мрамор без должного ухода имеет обыкновение желтеть…
Полка над камином пуста, мебели почти нет.
И на пальцах остается пыль. Стало быть, комната из тех, в которые гостей не водили… вот и продали отсюда все, что можно было продать. Гардин и тех не осталось, окна голы, и бесстыжая луна заглядывает в них… и так она близка, так огромна, что манит — не устоять.
Евдокия и пытаться не стала, благо, обнаружилась и дверь. Вывела она на террасу.
Ночной воздух был приятно прохладен. А скоро полыхнет в полную силу лето, опалит Познаньск жаром солнца, раскалит каменные противни мостовых да короба домов, иссушит яркую зелень парков да аллей. И запахи смешает…
…уехать бы…
…в том годе уехали, в свадебный вояж, который продлился целый месяц, а в нынешнем дела и бросить их никак неможно…
…магазин только — только открылся… и склады… и тот маленький свечной заводик, который удалось прикупить по случаю за цену вовсе смешную, поелику свечи ныне вовсе не в моде.
Мысли о делах дарили желанное успокоение.
Пахло жасмином и еще лилеями, что Евдокию удивило — не их время. Они‑то в самое пекло расцветают, дополняя дымные душные городские ароматы сахарно — сладкими нотами.
…а сахар в цене поднялся, и вновь заговорили, что виной тому вовсе не неурожай тростника, а едино Корчагинская монополия, которую давно пора было порушить, да только Корчагины под рукою Радомилов живут, и оттого за монополию свою спокойные.
Соловей замолчал.
И Евдокия услышала нервный голос.
Бержана? Августа? А то и вовсе обычно молчаливая Катаржина…
— …ах, Богуслава, как нам жаль! — голос нервозный, и в нем слышится все то же болезненное треньканье клавесина. — Княжной следовало бы тебе стать…
Окна…
Верно, окна приоткрыты… и Евдокия не желала подслушивать…
Или все‑таки?
По всем правилам приличий ей следует развернуться и уйти, но… к Хельму все приличия вместе с правилами. О Евдокии ведь говорят.
Ей и слушать.
— Мы, признаться, думали, что дело в привороте… — Бержана, у нее есть приобретенная привычка слегка картавить, словно бы она — малое дитя, не способное правильно выговаривать буквы. — И купили отворотное зелье…
Сердце заледенело.
— Думали, выпьет, поймет, чего натворил и отошлет ее куда‑нибудь, — поддержала сестрицу Августа.
— А он выпил и ничего!
— Совсем ничего.
И лед тает.
Если ничего, то… то это ведь хорошо, не так ли? Замечательно даже. И надо быть практичною, правда, получается не очень. Мысли крутятся — вертятся, что те мельничные колеса…
…на старой усадьбе поля засевали плотно, однако же, судя по отчетным книгам, урожаи там были слабые, такие, что едва — едва само высеянное зерно окупалось.
…а мельница развалилась, потому как зерно, то самое, не уродившееся, продавали на сторону, взамен покупая муку втридорога.
…и надо бы решить, то ли мельницу ставить, то ли…
…а если ставить, то нового образцу, и молотилок закупить, сеялок новых… но это, конечно, на следующий год уже…
— Вотан ниспослал нам испытание, — а этот скрипучий низкий голос принадлежит Катаржине. — И мы должны нести его с гордо поднятой головой…
Гордости у княжны хватит на двоих, а то и на троих, и пусть говорит она о смирении, пусть молится, но и молитва ее какая‑то… нарочитая, что ли? Слова произносит медленно, да по сторонам поглядывает, всем ли видна глубина ее благочестия?
Это все ревность говорит злая. Обида.
Заставляет кулаки стиснуть и губу прикусить, до боли, едва ли не до крови…
— И молить богов о терпении…
Бержана фыркнула.
А может не она, но сестрица ее, близняшка.
— Еще скажи, что мы небесам спасибо сказать должны, — это раздалось совсем рядом, и Евдокия отступила. Почему‑то ей стыдно было от мысли о том, что ее могут обнаружить на этом вот балкончике, ведь тогда подумают, будто она, Евдокия, подслушивает…
И правы будут.
— Лихослав поступил безответственно, — низкий грудной голос Богуславы очаровывал. Эта женщина, с которой Евдокия тоже пыталась быть вежливой, признаться, внушала ей страх.
Она была…
Слишком?
Пожалуй, именно так… слишком красива… слишком совершенна… учтива, вежлива… безупречна в каждом слове своем, в каждом взгляде. Именно таковой и должна быть княгиня Вевельская.
А не…
В темном стекле Евдокия отражалась нелепой.
Платье это… шелк и муслин. Вышивка ручная. Деньги, выброшенные на ветер, потому как второй раз его не наденешь, ибо неписанные правила светских визитов то запрещают. И главное, жаль, потому как Евдокия себе в этом платье нравилась.
Она становилась стройней.
И моложе… и с Богуславой все одно не сравниться, почти десять лет разницы.
— Я допускаю, что он испытывает… влечение, к этой женщине…
…именно.
…Евдокия для них всех не была человеком, но лишь абстрактной «женщиной», которая едва ли не обманом в семью проникла. И теперь все ждали, когда же сей обман вскроется, и Лихо, разочаровавшись, отошлет ее…
…не разведется. Разводы не приняты…
…или не были приняты? Собственная матушка Лихослава, которая вышла замуж повторно, не подала ли дурной пример?
Впрочем, лучше уж развод, чем жизнь по обязательствам.
— Мужчины во многом примитивные существа. Они поддаются собственным низменным желаниям, порой не задумываясь о последствиях их, — в этом низком голосе звучала печаль.
И Евдокия прижала ладони к горящим щекам.
— Эта женщина миловидна, а ваш брат так долго служил на границе, то отвык от женского общества… вот и взял первую, которая показалась довольно доступной…
— Ты думаешь…
— Я почти уверена, — с ноткой пренебрежения отозвалась Богуслава, — что к алтарю она шла вовсе не невинной… ваш брат — благородный человек…
Щеки не горели — пылали.
— Он пока еще ослеплен ею, но вскоре эта ослепленность уйдет. И он поймет, сколь глубоко ошибался.
Если уже не понял.
— Если уже не понял, — Богуслава озвучила украденную мысль. — Он, конечно, станет все отрицать…
Вздох.
Громкий. Совокупный.
— К тому же Евдокия принесла в семью деньги, и он будет чувствовать себя обязанным…
— Если бы от этих денег еще польза была… представляешь, я попросила у Лихо денег… всего‑то двести злотней. А он не дал! Говорит, что мы и без того много тратим.
Зачем Евдокия это слушает?
Неужели и вправду надеется услышать нечто, для себя новое.
— Но я же должна хорошо выглядеть! — Августа едва не кричала, но вовремя спохватилась: высокородные панночки следят за своей речью, которой надлежит быть тихой и плавной. — Ты же понимаешь, Славочка, каково ныне молодой бедной женщине…
Евдокия фыркнула.
Не были они бедными, несмотря на все долги князя Вевельского, на проданные картины, на исчезнувшие в ломбардах статуэтки… на фамильные драгоценности, которые пришлось‑таки выкупать, хотя Евдокия с гораздо большей охотой оставила бы их в закладе. Куда ей надевать тот сапфировый гарнитур, который якобы ей принадлежит, да только от той принадлежности — слова одни.
— Тише, дорогая, — Богуслава улыбалась.
Евдокия не видела ее лица, но точно знала — улыбается, ласковой правильной улыбкой, именно такой, какая и должна быть у родовитой панны.
— Все еще наладится…
— Как?! — это хотела знать не только Августа. — Мы же пробовали…
— Вы поспешили… погодите…
— Год ведь…
— Год — это слишком мало… и в то же время много… ты права. Целый год прошел, а она еще не объявила о том, что ждет наследника…
— Она старая…
— И хорошо. Для вас, мои дорогие. Княгиня Вевельская не может быть бесплодной… если она желает оставаться княгиней.
Вот уж чего Евдокия точно не желала. Но разве ж у нее был выбор?
Был.
Отказаться.
Он ведь забрал перстень и… и не следовало принимать его.
Любовь?
Любовь — это хорошо… но не получится ли так, что ее будет не достаточно?
Нет, она не сомневается в Лихо… пока не сомневается? Или, если все‑таки думает о том, что однажды он попросит развода, все‑таки сомневается?
Это дом… или не дом, но люди в нем обитающие… сестры Лихослава… и отец, который до Евдокии не снисходит, и всякий раз, встречая ее, кривится, будто бы сам вид Евдокии доставляет ему невыразимые мучения.
— Поэтому и говорю я, дорогие мои, что надо немного подождать… ни один мужчина не потерпит рядом с собой бесплодную жену…
— А если вдруг?
Робкое сомнение, которое отзывается злой исковерканной радостью. Действительно, а если вдруг боги окажутся столь милостивы… если вдруг не так уж Евдокия и стара… она ведь ходила к медикусу… поздний визит, маска… пусть и говорят, что медикусы хранят свои тайны, но под маской Евдокии спокойней. И он уверил, будто бы все с нею в порядке.
И в тридцать рожают.
И в сорок… и если так, то… то до сорока она сама с ума сойдет.
— Хватит уже о ней, — Катаржина произнесла это с немалым раздражением, точно эти разговоры о Евдокии вновь обделяли ее.
В чем?
В восхищении ее рукоделием? О да, вышивала она чудесно, что гладью, что крестом, что бисером… пыталась, помнится, и волосом, как святая ее покровительница, создавшая из собственных волос гобелен чудотворный с образом Иржены — Утешительницы…
Правда, свои тяжелые косы Катаржина не захотела остригать, удовлетворилась купленными… может, оттого у нее и не вышло?
Какое чудо из заемных волос?
Евдокия стянула перчатки и прижала холодные ладони к щекам. Вотан милосердный, какие у нее мысли появились. Самой от них гадко, ведь никогда‑то прежде Евдокия не радовалась чужим неудачам, а тут… будто отравили, только не тело, а душу.
Нет, хватит с нее…
Хватит…
Она уже совсем решилась уйти, когда…
Звук?
Стон… или крик… такой жалобный…
— Вы слышали?
— Это всего лишь птица, — с уверенностью заявила Богуслава.
Птица?
Евдокии случалось слышать и густой бас болотной выпи, и жалобное мяуканье сойки, и разноголосицу пересмешников, которые спешили похвастать друг перед другом чужими крадеными голосами, но вот такой…
Плач.
И снова.
— Птица, — Богуслава повторила это жестче, точно не желала допустить и тени сомнения.
Евдокия же наклонилась.
Не темно, луна, благо, полная, яркая. И висит над самым садом. Но в желтоватом неровном свете ее сам этот сад выглядит престранно.
Чернота газонов.
Стены кустарников.
Уродливые, перекрученные какие‑то дерева в драных листвяных нарядах.
И человек.
Он медленно шел по дорожке, которая гляделась белой, будто бы мукой посыпанной. И сам этот человек…
…Лихо надел белый парадный китель.
Он? Окликнуть?
Но куда идет… от дома… и походка такая… пьяная словно. То и дело останавливается, руки вскидывает к голове, но прикоснувшись, опускает. Или нет, сами они падают безвольно, точно у человека нет сил совладать с их тяжестью.
И все‑таки, кто это… не Лихо…
Похож и только.
И то стоит присмотреться, как сходство это призрачное растает. Просто человек…
…человек которому плохо.
И Евдокия отступила от парапета. Она найдет кого‑нибудь из слуг, пусть выйдут в сад… найдут и помогут… скорее всего какой‑то гость князя, из тех, что задерживаются в доме непозволительно долго, отдавая должное и самому дому, и винным его погребам.
Благо, стараниями Лихо, эти погреба вновь полны.
Богуслава старательно улыбалась.
О когда б знала она прежде, до чего тяжелое это занятие — улыбаться. Хотелось закричать.
Схватить вазу.
Вон ту вазу, будто бы цианьскую, но на деле — подделку из Гончарного квартала — и обрушить на голову Августе.
Или Бержане.
То‑то потешно было бы… или сразу на обе? Благо, девицы склонились друг к другу, шепчутся… о чем? Ясное дело, наряды обсуждают или потенциальных женихов, или еще какую глупость, но главное, что к этой глупости следует относится с превеликим снисхождением.
От Богуславы его ждут.
Ей верят.
Восхищаются. И следует признать, что это восхищение, которое порой граничило с помешательством, было ей приятно.
Хоть какая‑то польза…
— У вас чудесный вкус, — польстила Катаржина, перекусывая шелковую нить ножничками. — Мне тоже неимоверно больно видеть, во что превратился этот дом… а все — стараниями нашего батюшки. Вы не подумайте, я, как и полагается доброй дочери, чту его. Но почитание не туманит мой разум. Я вижу, сколь сильно он погряз в пучине порока.
Тонкие пальцы Катаржины, вялые, белые, копошились в корзинке для рукоделия, перебирая нитяные комки…
…виделись черви.
…тонкие разноцветные черви, которые спешили опутать эти пальцы, поймать Катаржину.
— Теперь вашими стараниями этот дом возрождается, но до былого великолепия ему далеко.
Катаржина поймала нить — червя.
Потянула.
Вытянула и привязала к стальной игле. Она действовала с хладнокровием, которое импонировало бы Богуславе, если бы нить и вправду была бы червем. Вот только к настоящим червям княжна Вевельская не прикоснется и под страхом смерти.
Слишком брезглива.
Горда.
И забывает, что гордыня — тот же грех в глазах ее богов.
Ее ли?
Именно так, те боги давно уже перестали что‑то значить для Богуславы. Когда? Прошлым летом… или уже осенью, когда вместе с последней листвой догорело и сердце ее.
Болело?
Истинно так, болело, особенно в ночной тишине, когда становилось пусто… и супруг уходил… он быстро потерял к Богуславе интерес, а быть может, никогда его не имел, желал лишь денег…
…к счастью, оказался слишком слаб, чтобы деньги забрать.
О нет, Богуслава позволяла себе щедрость и супруга баловала. Ни к чему слухи, будто бы в жизни семейной их что‑то там не ладится… пусть он и ходит по девкам… а кто не ходит?
Лихослав?
Он волкодлак, а эти — верные… и смешно, и горько от того… и тогда, осенью, как раз под дожди, которые были будто бы слезы, только не Богуславины — способность плакать она утратила гораздо раньше — ей и пришла в голову удивительная мысль, что если бы Лихослав выбрал ее…
…глядишь, любви его хватило бы, чтоб заполнить пустоту внутри Богуславы. И эта пустота не пожрала бы ее…
Впрочем, дожди закончились, а после появились морозы, и землю, и душу Богуславы прихватило ледком. Кажется, тогда‑то ей и пришла в голову замечательная мысль…
Она улыбнулась, на сей раз без принуждения, но самой себе, собственным тайным планам…
Она раскрыла веер из перьев сойки.
И провела пальцами по костяной резной рукояти… уже скоро… совсем скоро…
— Мои родители повели себя безответственно, — Катаржина выводила дорожку из стежков… что это будет? Очередная накидка на подушки, украшенная очередным же высоконравственным изречением?
Картина?
Носовой платок с монограммой?
— И нам суждено отвечать за грехи их, — Катаржина была некрасива.
Быть может, в том истоки ее желания уйти в монастырь?
Ей к лицу будет монашеское облачение, а вот темно — зеленое платье не идет. Кожа желтовата. Узковато лицо. Лоб чересчур высок, а подбородок — узок. Шея длинна, но как‑то нелепо, по — гусиному, и гладко зачесанные волосы лишь подчеркивают некую несуразность ее головы, будто бы сплющенной с двух сторон.
— И мои сестры пока не осознали, что Боги приготовили для них путь…
Августу и Бержану, пожалуй, можно было назвать хорошенькими.
Сладенькими, как сахарные розы.
И такими же бессмысленными. Батист и муслин. Перламутровые пуговицы. Кудельки — букли, которых навертели столько, что появилось в образе сестер нечто такое, весьма овечье…
Быть может, оттого и в самой речи сестер нет — нет да проскальзывало блеяние.
— У каждого своя дорога, — Богуслава сказала чистую правду.
В нынешнем ее состоянии, пожалуй, все еще зимнем, несмотря на близость лета и жару, которая в иные времена выматывала, напрочь лишая сил, правда была роскошью.
Все изменилось.
И силы у Богуславы имелись… то‑то супруг ее удивился, когда… и испугался… и страх этот сделал его хорошим мужем… удобным.
Богуслава коснулась пальцами губ, вспоминая сладкий вкус крови.
Тоскуя по этому вкусу.
И по утраченной силе… тогда она, глупая, не сумела сберечь демона. А ныне вынуждена прятаться, поскольку все же слишком слаба, чтобы устоять перед людьми.
Перед всеми людьми.
Хлопнула дверь, громко, пожалуй что, раздраженно, и мысли разлетелись осколками. Богуслава поморщилась, все же в нынешнем ее состоянии ей было тяжело сосредоточиться на чем‑то, что касалось чужих забот, до того пустыми, никчемными казались они.
И от маски Богуслава уставала…
Домой бы… она бросила взгляд на каминные часы — еще одна жалкая подделка, исполненная столь грубо, что поддельность эта становилась очевидна каждому. И часы наверняка врали, но… ждать.
Еще полчаса?
Час?
Сколько получится. Богуслава лишь надеялась, что ожидание это будет вознаграждено.
— Евдокия, — меж тем Катаржина, которой было невыносимо молчание, обратила свой взор на купчиху, которая вернулась в гостиную, — а вы что думаете о служении Богам?
— Ничего не думаю, — спокойно ответила Евдокия.
Хорошо держится.
С должно отрешенностью, с подчеркнутым равнодушием, которое и бесит глупеньких девиц Вевельских. Им‑то мнилось, что Евдокия станет заискивать, золотом осыпать в попытке снискать расположение новоявленной родни.
Богуслава осыпает.
Но ей не расположение надобно, а поддержка, когда…
…все ведь изменится.
И скоро.
Катаржину этакий ответ не порадовал. Она поджала губы, и без того узкие, а ныне превратившиеся вовсе в черту. И лицо ее сделалось еще более некрасивым.
Не в отца пошла, тот хорош, Богуслава видела портреты.
И не в матушку…
— Вы не чувствуете в себе внутренней потребности очиститься? — Катаржина раздраженно воткнула иглу, будто бы не канву перед собой видела, но врага… воплощение порока, которое и собралась одолеть железом да шелком.
Железо Богуславе не нравилось.
Холодное.
И холод этот отличался от зимнего, поселившегося внутри.
— Не чувствую, — Евдокия присела на софу и расправила юбки.
…и платье ей идет.
…у кого шила? Надобно будет выяснить…
…и намекнуть, что нехорошо истинно верующим людям потворствовать нечисти. Сегодня они волкодлачью жену одевают, а завтра, глядишь, и сами на луну выть начнут…
Богуслава потерла виски пальчиками. Она сама чувствовала близость луны, и странный бессловесный ее зов, который, впрочем, был слишком слаб, чтобы увлечь ее…
— И все же, — Катаржина не собиралась отступать. — Вам следует больше уделять внимания своей душе… вы слишком погрязли во всем этом…
Катаржина взмахнула рукой, едва не выпустив при том иглу.
— В мирском… в суетном, — она вновь склонилась над вышивкой. — Вы только и думаете, что о деньгах, меж тем сказано в Великой книге, что золото мостит Хельмовы пути.
Это прозвучало почти вызовом.
Или упреком?
Или и тем, и другим сразу?
Но Богуслава не собиралась вмешиваться в сии семейные дела. Она откинулась в кресле, довольно удобном, пусть и перетянутом дешевою тканью, каковой она сама побрезговала бы…
…вечер, кажется, переставал быть томным.
Глава 4. В которой речь идет о многих достоинствах женщин, а тако же о благотворительности
Уже вернувшись в гостиную, Евдокия пожалела о том, что не осталась на балкончике… или вот в саду можно было бы прогуляться… или в библиотеку заглянуть, которая была хороша и почти не пострадала…
А она, глупая, в гостиную…
К беседам изящным.
К рукоделию.
— Значит, — Евдокия вдруг осознала, что неимоверно устала, не столько от их нападок, сколько от собственного покорного молчания, которое было ей вовсе несвойственно. — Значит, вы полагаете, что золото — от Хольма?
Катаржина кивнула.
Медленно. Снисходительно. И с этаким… пренебрежением? Дескать, что еще ждать от купчихи…
— И ратуете за благочестие, дорогая сестрица? — Евдокия не отказала себе в удовольствии отметить, как дернулась щека Катаржины.
— Ратует, — подсказала Августа и модный журнал отложила.
Чего вычитала?
Что ей понадобится? Веер из страусовых перьев?
Или шляпка с дюжиной дроздов?
Горжетка на кротовьем меху? Или новый корсет, который сделает ее еще стройней, еще тоньше?
Экипаж?
Лошади? Собственный выезд, чтобы как у взрослой дамы?
Чемоданы из крокодиловой кожи, пусть бы и вовсе она не собирается путешествовать… или собирается с Богуславой на воды, да не наши, а заграничные… и на водах тех без чемоданов крокодиловошкурых отдыхать вовсе невозможно…
— Благочестие — вот истинная добродетель любой женщины, особенно — женщины знатного рода. Ибо сказано, что дева благородная благочестива и смиренна, и свет ее души ярче света звездного, ярче солнца самого и светил иных. И не шелками она богата, но лишь делами добрыми…
Катаржина уставилась на Евдокию холодным рыбьим взглядом.
— Та же, — медленно продолжила она, — которая позабудет о предназначении своем, отринув свет небесный по‑за делами земными, будет наказана…
И в гостиной воцарилось тревожное молчание.
— Что ж, — Евдокия усмехнулась. — Я рада, если тебе… дорогая сестрица, хватает малого. Полагаю, добрых дел ты совершила предостаточно…
Катаржина важно кивнула.
О да, помнится, она упоминала о том, что состоит в благотворительном комитете.
И самолично вышивает салфетки для благотворительной ярмарки и учит детей — сирот вышивке, и плетению кружев, и кажется, созданию кукольной мебели…
…и чему‑то еще, столь же ненужному…
— И я горжусь тем, что Боги соединили нас узами родства, — Евдокия поклонилась, прижав ладони к груди, стараясь не слушать, как колотится нервно собственное ее сердце. — И зная о твоем тайном желании покинуть сей мир, всецело посвятить себя служению Богам…
Младшие княжны синхронно вздохнули.
— …имела беседу с настоятельницей монастыря святой Бригитты… она будет рада принять тебя…
Катаржина скривилась.
О да, монастырь святой Бригитты… тихая скромная обитель, которую в народе именуют Домом Кающихся… принимают туда всех, вот только идут большей частью уличные девки в попытке переменить жизнь, и крестьянки, и вдовицы либо женщины одинокие, от одиночества уставшие.
— Эта обитель… — мрачно начала было Катаржина.
— Скромна, — Евдокия перебила ее. — И весьма добродетельна. Они не так давно открыли больницу для бедных. И приют при ней. Я готова пожертвовать ему еще пять тысяч злотней… скажем, в качестве приданого невесты господней.
Катаржина отложила шитье и сложила руки на груди.
Она думала.
Искала.
И злилась за то, что ее поймали в ловушку собственного благочестия. Увы, монастырь святой Бригитты недостаточно хорош для княжны, ей хочется белых одежд и белых же деяний, совершать которые можно, сии одежды не пачкая. И желание это написано на челе Катаржины.
Как и честолюбивая мечта однажды стать не просто монахиней, но матерью — настоятельницей…
…почему бы и нет?
…если у нее будут деньги… за нею будут деньги и связи семьи… а лучше двух семей, связанных брачной клятвой…
…и если бы Евдокия еще тогда, осенью, выслушав бессвязный лепет Катаржины о Богах и предназначении дала бы деньги, то…
…то их бы приняли, как должное.
— Боюсь, я еще не столь добродетельна, чтобы идти путем мучеников, — произнесла Катаржина и поднялась. — Полагаю, вы просто не способны понять, что женщина моего рода… моего происхождения… не может жить среди тех, кто…
— Беден?
— Бедность из происходит единственно от лени или порока, — Катарина остановилась у камина, пустой зев которого был прикрыт ширмой. — Ибо сказано, что каждому воздастся по трудам его. Вот к примеру, возьмем… вашу матушку… она ведь женщина простая… не поймите превратно, я вовсе не осуждаю, ибо мы не выбираем семью, в которой рождены, но праведным трудом и милостью Богов ей удалось снискать благополучие для себя и своей семьи…
Наверное, это могло бы быть похвалой, если бы не слышалось за словами скрытое презрение?
Или раздражение?
Ей, должно быть, обидно весьма, что рожденная в княжеской семье, она вынуждена просить денег у купчихи. И эта Катаржинина обида странным образом примиряла Евдокию с ней.
С ними всеми.
Она вдруг ясно поняла, что нелюбовь их происходит естественным образом от собственной несвободы, зависимости от ее, Евдокии, капризов.
А они ведь и вправду полагают ее капризною, вздорной и ничего‑то не разумеющей в нарядах.
— И вы честным своим трудом его укрепляете, тогда как люди иные, дурного свойства, тратят жизнь попусту… взять тех падших женщин, которые спешат укрыться в обители. Разве достойны они милости Богов?
Катаржина раскраснелась.
И стала почти красива.
— А разве нет? — тихо поинтересовалась Евдокия.
— Они согрешили.
— Все грешат.
— Они отринули заветы Иржены, опорочили и тело свое, и бессмертную душу, а теперь мыслят, что стоит помолиться и будут прощены. Но сколько правды в их молитвах? Сколько искренности?
Всяко побольше, чем в ее собственных, только говорить это Катаржине нельзя. Не обидится — оскорбится смертельно, заподозрив, что Евдокия равняет ее с гулящими девками… или не самому сравнению, но тому, что сделано оно не в пользу Катаржины.
— Нет! Только тяжкий труд во благо общества способен искупить содеянное ими, — она сложила тощие цыплячьи руки на груди.
— И где же им трудиться? — Евдокия провела пальцами по кружеву.
Жесткое какое… и накрахмаленные нитки — будто проволока… если сжать в кулаке, то кружево захрустит… кто его плел?
Кружевницы на той фабрике, которую матушка еще прикупила…
…и в рабочем поселке…
…и брали туда всех, кто готов был работать. Не во искупление призрачной вины, конечно, но за деньги. Пусть и труд кружевниц был тяжек, но и платили за него щедро.
Учили.
И выучивали.
И было ли это благотворительностью? О том Евдокия не думала.
— В работных домах, — ответила Катаржина, гордо вскинув голову. И на блеклой шее ее вспухли синие сосуды. — Вот прекрасный пример цивилизованного решения проблемы. Всех бедняков, а также грешников, следует отправить в работные дома, где их будут кормить…
— …проповедями, — тихо сказала Евдокия.
— А хоть бы и так! — Катаржина не собиралась отступать. — Слово божие никому еще не вредило.
— Кроме слова божия людям многое еще надобно. К примеру, еда… одежда…
…сама жизнь, которая возможна вне клетки работного дома. Евдокии не случалось бывать в подобных заведениях, но матушка рассказывала… вот только вряд ли ее истории Катаржину впечатлят.
Грешники — уже не люди.
И стоит ли тратиться на сочувствие им.
— Вы, дорогая Евдокия, вновь ставите материальные блага поперек духовных. Тогда как сказано, что спасши душу, обретет новую жизнь, тогда как спасший тело душу утратит… но полагаю, в том не ваша вина. Вы с младенчества были приучены тело пестовать…
И надо полагать распестовала она это тело так, что едва — едва в корсет оно помещается…
— А вы, дорогая сестрица, плоть умерщвляли.
— Я соблюдаю посты, — острый подбородок Катаржины задрался так, что видна стала и родинка под ним, круглая, аккуратная, с торчащим из нее черным волоском. — И придерживаюсь умеренности во всем…
— Кроме веры.
— Вера не может быть неумеренной!
С этим Евдокия спорить не стала. Ни к чему…
— А вы что скажете, Богуслава, — Катаржина обратилась к той, от которой ждала поддержки и понимания. — Вы ведь много занимаетесь благотворительностью…
Легкий наклон головы, надо полагать, согласие.
И улыбка, преисполненная участия.
— Я полагаю, что судить — это дело богов, — голос медвяный, сладкий до одури, и хочется слушать его, внимательно, чтобы ни словечка не пропустить… и даже не в словах дело, но в самом звучании этого голоса. — Людям же следует в меру сил соблюдать их заветы… и помогать оступившимся… я делаю ничтожно мало… вы, моя дорогая Катаржина, говорили о золоте… золото я получила едино по праву рождения. И до того несчастного случая со мной полагала сие единственно возможным… правильным даже… я думала лишь о себе, о собственных желаниях… и к чему все привело?
Богуслава потупила взор.
И руки ее в кружевных перчатках дрогнули. Тонкие пальцы скользнули по изумрудному атласу, комкая… точно желая продрать плотную ткань.
Или содрать?
Евдокия с немалым трудом отвела взгляд.
— Но Иржена в своей милости преподала мне хороший урок… я поняла, то жизнь наша скоротечна, что душа — беззащитна пред созданиями Хольма… и что путь праведных тяжел… да, признаюсь, я и сама думала о том, чтобы уйти от мира, но…
Ресницы дрожат.
А взгляд… не во взгляде дело, но в самих глазах, неестественно — зеленых, ярких чересчур.
— Мне не хватило смелости. Я слишком люблю эту жизнь… и вашего брата…
Ложь.
У лжи сладковатый вкус, но нынешняя горчит. И Евдокия касается собственных губ, слишком жестких, несмотря на все бальзамы и восковые помады, которыми ей приходится губы мазать в попытке сделать их хоть сколь бы подобающими даме ее положения.
Как же ненавидит она собственное это положение!
— И потому остается малое. Я помогаю иным, тем, о ком некому позаботиться… или тем, кто имел неосторожность оступиться… мне ли осуждать их? Я ведь знаю, сколь сильны порой искушения… — батистовый платочек у щеки.
И странно, что щека эта белей платочка.
А слез нет. И сам платочек этот — часть представления. Вот только для кого его играют? Для Катаржины, которая глядит на Богуславу с восторгом, едва ли не как на святую… для Евдокии?
Для близняшек, которые застыли, склонив головы друг к другу…
— В моем приюте примут всех и дадут укрытие. Накормят. Утешат. Научат полезному делу, а после обучения определят в хорошее место. Я сама беру девушек в свой дом горничными, а после, когда вижу, что они освоились, даю им рекомендации…
— Вы так добры! — хором выдохнули Августа с Бержаной.
Добра.
И странно, ведь не вяжется эта доброта с обличьем Богуславы. Никак не вяжется, однако же…
…есть приют, о нем писали газеты.
…и Евдокии пришлось побывать на открытии, потому как она ведь родственница ныне…
…будущая княгиня…
…княгине надобно заниматься благотворительностью и делать это правильно, не роняя своего, княжеского, достоинства…
— Более того, — платочек выпал из пальцев Богуславы. — Я помогаю этим девушкам устроить свою жизнь. Кому как не мне знать, что истинное счастье женщины — в ее семье. Я хочу, чтобы мои подопечные были счастливы…
…снова ложь.
Но в чем? И не может ли случится такое, что Евдокия в своей иррациональной неприязни отвергает поистине доброго человека? И пускай Богуслава надменна, но так она, в отличие от Евдокии, урожденная княжна…
— Я пригласила сваху, хорошую проверенную женщину, которая осознает все тонкости… положения моих подопечных…
— И у нее получается? — шепотом поинтересовалась Августа.
А Бержана кивнула, присоединяясь к вопросу.
— Получается. Конечно, не в Познаньске, здесь мужчины избалованы. Кому нужна бесприданница? А вот на границе… там трудолюбивую сироту встретят с радостью…
Наверное, она бы еще рассказала, о границе ли, о приюте и его обитательницах, но дверь в гостиную распахнулась:
— Доброго вечера, дамы, — Себастьян отвесил шутовской поклон. — Хотелось бы надеяться, что вы мне рады, но давно уже не тешу себя иллюзиями…
Катаржина поморщилась.
Близняшки вздохнули.
— Себастьян такой…
— …невежливый.
— …совершенно невоспитанный…
— …мы здесь беседуем…
Они говорили по очереди, в этой речи дополняя друг друга.
— Катаржина, ты с прошлой нашей встречи стала еще благочестивей, — Себастьян поцеловал сестре ручку, близняшкам кивнул, а Богуславу и вовсе будто бы не заметил.
— С чего ты взял?
Как ни странно, но Катаржина зарозовелась, верно, эта похвала была ей приятна.
— Чувствую, — вполне серьезно сказал Себастьян и, отстранившись, внимательно оглядел сестру. — Ты уж поаккуратней, дорогая… а то этак и нимб скоро воссияет…
— Какой нимб? — улыбка Катаржины мигом исчезла.
А вот румянец сделался красным, болезненным.
— Обыкновенный. Такой, знаешь… — Себастьян поднял над головой растопыренную ладонь. — Нимб, конечно, не рога, но сомневаюсь, что к нему в обществе с пониманием отнесутся.
— Ты… все шутишь!
— Стараюсь.
Близняшки вновь вздохнули.
— А вы, дорогие, смотрю цветете, что майские розы… сиречь, пышно и бессмысленно… впрочем, я ж не о том… то есть, о том тоже, но это к случаю. Дусенька, отрада сердца моего, а также разума, которому общение со слабым полом всегда дается тяжко, не соблаговолишь ли ты уделить мне минуту твоего драгоценного времени? Можно пять. От десяти тоже не откажусь.
Себастьян оказался вдруг рядом.
Руку подал.
И хвост его скользнул по юбкам.
— А мне вы ничего не хотите сказать… любезный родственник? — голос Богуславы утратил прежнюю сладость.
Теперь каждое произнесенное ею слово отдавалось в висках тянущей болью.
— Ничего, — Себастьян рывком поднял Евдокию. — Боюсь, у нас с вами не осталось общих тем…
— Пока не осталось.
— В принципе, — жестко отрезал он.
— Вы злитесь… интересно, что же стало причиной вашей злости? И почему вы готовы обвинить во всем меня?
Ноющий тон.
Зудящий.
Будто комар над самым ухом вьется… и Себастьян тоже слышит этого комара. Встряхивает головой и, стиснув зубы, бросает:
— Прекратите…
— Что прекратить?
Богуслава улыбается. У нее белые красивые зубы, и почему‑то за этими зубами Евдокия не видит лица.
— Вы знаете, — ненаследный князь держал за руку и крепко, и пожалуй, Евдокия была ему благодарно. — Или вам помочь? Знаете… ходят слухи, что в Совет подали проект… об особом учете лиц, наделенных даром… и о мерах, направленных на выявление оных лиц…
— Разве это не замечательно? — улыбка Богуславы стала шире. Ярче.
— А еще об ограничениях… ведьмаков и колдовок надобно контролировать… особенно колдовок.
Себастьян произнес это медленно, глядя в глаза.
— Вы что, намекаете, будто бы я… — притворный ужас.
И оскорбленная невинность, которая фальшива насквозь. Невинность у Богуславы плохо получается играть.
— Себастьян, дорогой. Вы только скажите, и я завтра же… сегодня пройду освидетельствования… — и вновь платочек батистовый в пальцах. — Мне оскорбительны подобные подозрения, но я понимаю, что после всего… у вас есть причины меня ненавидеть…
— Себастьян, ты поступаешь дурно! — возвестила Катаржина, должно быть, уже сроднившаяся с мыслью о нимбе. — Богуслава — пример многих добродетелей…
Близняшки кивнули.
А ненаследный князь, стиснув пальцы Евдокии, пробормотал:
— Идем, пока я не сорвался… нервы, чтоб они…
— Он стал совершенно невозможен… — донеслось в спину. — Я слышала, что они были любовниками…
Уши вспыхнули.
И щеки.
И вся Евдокия, надо полагать, от макушки до самых пяток.
— Спокойно, — не очень спокойным тоном произнес князь, к слову, тоже покраснев. А Евдокия и не знала, что он в принципе краснеть способный. — Мои сестрицы в своем репертуаре…
Он шел быстрым шагом, не выпуская Евдокииной руки. И ей пришлось подхватить юбки, которых вдруг стало как‑то слишком уж много.
Слуги сторонились.
Провожали взглядами. И если так, то… сплетни пойдут…
Себастьян меж тем свернул в коридор боковой, темный и дверь открыл.
— Прошу вас, панна Евдокия…
И снова коридор.
Дверь.
И пустая комната с голыми стенами.
Темный пол. Белый потолок.
Узкие окна забраны решетками. Запах странный, тяжелый, какой бывает в нежилом помещении, то ли пыли, то ли плесени, а может, и того, и другого сразу.
Себастьян дверь прикрыл.
И засов изнутри задвинул.
Вот как это понимать? Будь Евдокия особой более мнительного складу, она всенепременно возомнила бы себе нечто в высшей степени непристойное.
…хотя куда уж непристойней‑то?
Наедине.
С мужчиной… пусть родственником, но не кровным… и с его‑то репутацией…
…и с собственной, Евдокии, напрочь отсутствующей.
— В заговор меня вовлечь решили? — поинтересовалась Евдокия, заставив себя успокоиться.
Лихо не поверит.
Он всегда смеялся над слухами… а уж о нем‑то самом после той статьи чего только не писали…
— Почему сразу в заговор? — Себастьян одернул белый свой пиджак.
Костюм на нем сидел, следовало сказать, отменно. Вот только выглядел Себастьян несколько… взъерошенным?
И бледен нехарактерно, даже не бледен — сероват.
Щеки запали.
Скулы заострились. И нос заострился тоже, сделавшись похожим на клюв.
— А потому как в этаких помещениях только заговоры и устраивать… и еще козни плести, — Евдокия успела оглядеться.
А ведь некогда мебель была… и ковер на полу лежал, на стенах висели картины… куда подевались? А известно куда, туда, куда и большая часть ценных вещей, каковые были в этом доме.
— Козни… козни строить — дело хорошее, — Себастьян подошел к двери на цыпочках и прижал к губам палец. Наклонился.
Прислушался.
Кончик носа у него дернулся, точно Себастьян не только прислушивался, но и принюхивался.
— Вот же… любопытные… идем, — он в два шага пересек комнату, взлетел на подоконник и что‑то нажал, отчего окно отворилось, вместе с кованой рамой. — Евдокиюшка… ну что ты мнешься? Можно подумать, в первый раз…
— Что в первый раз? — радость от этой встречи, а Евдокия вынуждена была признаться себе самой, что ненаследного князя она рада видеть, куда‑то исчезла, сменившись глухим раздражением.
И главное, ни одного канделябра под рукой…
— Через окно лазить, — шепотом ответил Себастьян, который на подоконнике устроился вольготно и этак еще ручку протянул, приглашая присоединиться.
А главное, что отказать не выйдет.
Нет, конечно, можно потребовать… чего‑нибудь этакого потребовать… скажем, дверь открыть, убраться из этой странной комнаты в иную, более подходящую для беседы.
Вот только чуяла Евдокия, что эти фокусы — неспроста. И как знать, о чем разговор пойдет. А потому вздохнула, сунула веер в подмышку и юбки подобрала.
— Отвернись, — буркнула.
— Увы, это выше моих сил!
На подоконник он Евдокию втянул, а после помог спуститься.
— Лихо так из дому сбегал… мне вот и рассказал…
— А зачем нам сбегать?
Сад.
И кусты роз, которые разрослись густо, переплелись колючими ветвями, сотворив непреодолимую стену. Во всяком случае, у Евдокии не появилось ни малейшего желания ее преодолевать. А Себастьян знай, шагал себе по узенькой дорожке, которую выискивал, верно, наугад, и заговаривать не спешил.
Остановился он у крохотного прудика, темную поверхность которого затянуло ряской.
— Может, конечно, и незачем… а может… — замолчал, вздохнул, и хвост змеей скользнул по нестриженной траве. — Евдокиюшка… друг ты мой сердешный… скажи, будь добра, что вчерашнюю ночь мой драгоценный братец провел в твоих объятьях. И желательно, что объятий этих ты не размыкала ни на секунду.
— Скажу.
— От и ладно… а на самом деле?
Вот что он за человек такой?
Почему бы ему не удовлетвориться этаким ответом?
— Что произошло?
Замялся, прикусил мизинец, но ответил:
— Убийство.
— И Лихо…
— Волкодлак в городе.
Сердце ухнуло в пятки, а может и ниже, на зеленую влажную траву, в которой виднелись голубые звездочки незабудок.
— И на Лихо подумают, — Евдокия слышала себя словно бы со стороны. Глухой некрасивый голос, встревоженный, если не сказать — изломанный.
— Подумают… но наше дело, доказать, что он не убивал… то есть, что убивал не он. А потому, Евдокия, я должен знать правду. Где он был?
— Не знаю.
— Дуся…
— Я и вправду не знаю, — как ему объяснить то, что Евдокия не могла объяснить самой себе?
Себастьян не торопит.
Стал, руки скрестил, и только кончик хвоста подергивается, аккурат, как у кошака, за воробьями следящего… нет, себя Евдокия воробьем не чувствовала, скорее уж курицей, которая погрязла во всех женских проблемах сразу…
— Он… в поместье остался… реорганизация… и дел много… — Боги всемилостивейшие, что она лепечет? Вернее, почему лепечет, будто провинившаяся гимназисточка перед классною дамой.
Вот уж на кого Себастьян не похож совершенно.
И правду ведь сказала!
Себастьян склонил голову.
— И… часто он остается в поместье ночевать?
Осторожный такой вопрос.
Не из пустого любопытства задан, и потому ответить придется честно:
— В последние месяцы часто…
— В полнолуние?
— Нет… не только… — Евдокия обняла себя, приказывая успокоиться.
Глубоко вдохнула.
Настолько глубоко, насколько корсет позволил.
И подумалось, что зря Евдокия его купила. Как‑то ведь прожила двадцать семь лет без корсета, и даже двадцать восемь, а тут вдруг… мода, понимаешь ли. И очередная ее неуклюжая попытка стать кем‑то, кем она, Евдокия Парфеновна, не является.
— Все началось с весны… не с ранней, с месяца кветня где‑то… с середины… он беспокойный сделался… я спрашивала, а он говорит, что за сестер переживает… и за отца, который опять играть начал… к Лихо пошли кредиторы… еще и с поместьем… много забот по весне. У меня же магазины и производство… за ним тоже приглядывать надобно…
Тяжело рассказывать, верно, оттого, что сама Евдокия не понимает, когда и, главное, как случилось, что ее Лихо вдруг переменился.
Разом.
— Ясно, — задумчиво протянул Себастьян и ущипнул себя за подбородок. — Ясно, что ничего не ясно…
— Чего тут не ясно‑то? — Евдокия выдохнула и мазнула ладонью по сухим щекам. — Он понял, что я не та женщина, из которой получится хорошая жена…
— Евдокиюшка, солнце ты мое ненаглядное, — Себастьян вновь оказался рядом, и хвост его раздраженно щелкнул по атласным юбкам. — Не разочаровывай меня. С чего тебе в голову этакая престранная мысль пришла?
— А разве нет?
От Себастьяна пахло касторкой.
И еще чистецом, который Евдокиина нянюшка заваривала, когда животом маялась, и запах травы, резкий, едкий, пробивался через аромат дорогой кельнской воды, причудливым образом его дополняя.
— Как по мне, Евдокиюшка, — Себастьян приобнял ее и наклонился к самому уху, — то твоя беда в том, что ты сейчас пытаешься влезть в чужую шкуру… а оно тебе надо?
Шкура была атласной.
Из дорогой лоснящейся ткани.
И тесной до невозможности. В ней и дышалось‑то с трудом, а любое, самого простого свойства движение и вовсе превращалось в подвиг. Впрочем, благородной даме, на чье чело давит княжеский венец, двигаться надлежало мало, в каждом малом жесте выражая собственное величие…
— Не надо, — сам себе ответил Себастьян. — Я так понимаю, мои сестрицы на тебя дурно повлияли… вот скажи мне, звезда очей моих, сколь часто ты здесь бываешь?
— Раз в неделю…
— Раз в неделю, — Себастьян укоризненно покачал головой. — Я от силы раз в полгода, а то и реже… а теперь скажи, доставляют ли тебе сии визиты удовольствие?
Евдокия фыркнула.
— Значит, нет… тогда, быть может, тебе больше заняться нечем?
Дел у нее имелось сполна…
— Вот, — Себастьян руку убрал и отстранился. — Итого, что мы имеем? А имеем некую, с позволения сказать, престранную тягу к общению с людьми неприятными, которым в радость сделать тебе больно… и вот ответь мне, Евдокиюшка, чего ради?
— Ты знаешь.
— Не знаю, — ненаследный князь перекинул хвост через руку и кисточку погладил. — Ради Лихослава? А он тебя о том просил?
— Нет.
— Или быть может, упоминал, что тебе следует подружиться с нашими сестрицами?
— Н — нет…
— Итак, не просил, не упоминал даже… а знаешь, почему, Евдокиюшка? А потому как он распрекрасно понимает, что этакая дружба невозможна.
— Я недостаточно хороша?
— Они недостаточно хороши… а если серьезно, то вы слишком разные. И да, происхождение играет свою роль… а также воспитание. Характер. Привычки. Мечты и желания…
— Ты сегодня на редкость красноречив.
— Стараюсь.
Он не улыбнулся, и глядел серьезно, так, что от этого взгляда стало не по себе.
— Евдокия, скажи, тебе и вправду так хочется стать похожей на них? Целыми днями сидеть и перебирать, что бисер, что сплетни… кто и с кем встречается, кто и с кем рассорился… кто на ком вот — вот женится или не женится… это интересно?
— Нет.
— И шляпки с веерами тоже, надеюсь, душу не греют?
— Нет такой женской души, которую не согрела бы шляпка. Не говоря уже про веер…
Себастьян рассмеялся.
— Я ведь не о том!
— Не о том, — Евдокия вынуждена была согласиться. А соглашаться с сим высокомерным типом ей не позволяла гордость, вернее, те ее остатки, которые еще были живы. — Ты… возможно… и прав, но… теперь я — часть этой семьи…
— Как и я…
— Да, но… я должна…
— Кому и что? — вкрадчиво поинтересовался Себастьян. — Евдокиюшка, единственное, чего они от тебя ждут, это деньги. И я подозреваю, что об этом ты уже догадалась. А остальное… ты хоть всю подборку «Салона» наизусть вызубри, одной из них не станешь. К счастью.
— Они родичи!
— Не твои. Мои. Лихослава. И да, у него чувство долга по отношению к родне переходит все разумные пределы, но… ты‑то здесь не при чем?! Не мучь себя. Не мучь его.
— Я его…
— Не мучишь? Разве? Ты старательно прячешь себя прежнюю, потому как тебе, вроде бы неглупой женщине, вбили в голову, что та Евдокия Парфеновна нехороша для высшего света… если тебе нужен высший свет, тогда да, меняйся. А если мой бестолковый братец, то вернись. Он ведь полюбил девицу с тяжелой рукой и револьвером…
— Револьвер и сейчас при мне.
— Замечательно! — Себастьян расплылся в улыбке. — И держи его под рукой… а эту дурость брось. И сестриц моих не слушай… у них головы кисеей набиты… а сердца, подозреваю, и вовсе плюшевые.
— Почему?
— Потому, — ненаследный князь сложил руки за спину и отвернулся. — Ты ведь матушке моей писала…
— Д — да… не надо было?
— Спасибо… а вот они — нет… репутацию им, видите ли, испортила… знать больше не хотят… не становись на них похожей, Евдокия. Ладно?
— Постараюсь.
Почему‑то после этого разговора на душе стало легко — легко… плюшевое сердце? Евдокия прижала ладонь к груди. Не плюшевое — живое еще, и знать, поэтому болело, беспокоилось. А ныне стучит быстро — быстро, тревожно.
— Лихо…
— Я с ним сам поговорю… — Себастьян развернулся было, но Евдокия его остановила.
— Стой. Погоди. То убийство… быть может, нам стоит пока уехать?
Он задумался, но покачал головой:
— Поздно. Теперь если исчезнет, то скажут — сбежал. А что есть побег, как не признание вины? Нет, Евдокиюшка, надо искать настоящего убийцу.
— И ты…
— Найду, только сначала выясню, где мой дорогой братец по ночам пропадает. Но идем… и не приезжай больше сюда. Не надо оно, увидишь, сами к тебе придут. А в своем доме — ты хозяйка.
…ее дом.
…славный старый дом на Чистяковой улочке, купленный у вдовицы… от нее в доме остался запах мурмеладу, который вдовица варила из крупных красных яблок, щедро сдабривая корицей. И разливая по склянкам, аккуратно подписывала каждую. В подвале выстроились целые ряды склянок.
А на чердаке — короба с кружевными салфетками.
Окна дома выходили на Старую площадь, в народе именуемую Кутузкиной, не из‑за тюрьмы, но из‑за памятника графу Кутузкину… он стоял, окруженный старыми тополями, покрытый благородною патиной, и печально гляделся в мутные воды фонтана…
О доме стоило вспомнить.
И Евдокия улыбнулась, что воспоминаниям, что собственным мыслям. Она ведь была счастлива… и будет… конечно, будет, ведь счастье — стоит того, чтобы за него повоевать.
Войны же Евдокия не боится.
У нее вот револьвер есть.
— Погоди, — она не позволила Себастьяну уйти. — Богуслава… с ней что‑то неладно.
Помрачнел.
— Я не могу сказать, что именно, но… рядом с нею плохо. И мигрень начинается… и ее слушают… я не уверена, что это чародейство… и быть может, злословлю, но она говорила о приюте, и…
Евдокия замолчала, не умея объяснить собственное смутное беспокойство.
— Приют проверяли трижды, — вынужден был признать Себастьян. — Ничего. Там все чисто и благостно, как на свежем погосте… то есть, никаких правонарушений. Есть девицы. Есть наставницы. Сидят, крестиком скатерочки вышивают, рубахи сиротам чинят, молятся хором…
— А те, которые… уехали?
Себастьян развел руками:
— Проверяли по спискам… отсюда уехали, а там, куда уезжали, то и прибыли… Евдокия, я ж тоже не дурак, мыслю. И не нравится мне ни она, ни приют ее. Но повода, такого, чтоб настоящий, закрыть это богоугодное заведение, я не имею. Я беседовал с девицами… сам, по своей инициативе, так сказать… все в голос ее славят. Этак, впору и поверить, что на нее и вправду милость Богов снизошла.
— Но ты не веришь?
— Как и ты?
— Так заметно?
— Теперь — да… и пускай будет. Тебе не обязательно дружить с Богуславой. Более того, скажу так, этаких друзей поболее, нежели врагов, опасаться надобно. В лицо будут улыбаться, в спину нож воткнут, а после скажут, что так оно и было…
Об этих словах Себастьяна Евдокия вспомнит позже, когда столкнется с Богуславой в холле старого особняка. Та будет одна, без свиты из княжон Вевельских, но и одиночество ей пойдет к лицу. Евдокия поразиться тому, сколь чудесно вписывается Богуслава Вевельская в интерьеры старого дома. И песцовый палантин на плечах ее будет донельзя походить на княжескую мантию, а диадема в рыжих волосах почти неотличима от венца…
И князья с родовых портретов будут взирать на Богуславу весьма благосклонно.
— Вижу, прогулка удалась, — скажет она низким голосом, в котором Евдокии послышится рычание.
Эхо.
Всего‑то эхо, рожденное пустотой.
В старом особняке ныне множество пустот, и звуков он рождает тоже немало.
— Вы так стремительно исчезли… — Богуслава коснется губ сложенным веером. — И так долго отсутствовали… мы, признаться, даже начали беспокоиться.
— Не следовало.
Богуслава не услышала.
Она улыбалась собственным мыслям, в которые Евдокия не отказалась бы заглянуть, хотя и подозревала, что ничего‑то для себя лестного в них не увидит.
— Позвольте дать вам совет, — Богуслава почти позволила ей дойти до лестницы. — Будьте осторожны… женщина вашего положения должна иметь безупречную репутацию…
Евдокия оперлась на перила, широкие и гладкие, украшенные традиционными завитушками и бронзовыми пластинами, которые, правда, нуждались в чистке.
Промолчать?
Не сейчас.
— На что вы намекаете?
— Я не имею привычки намекать, — Богуслава провела пальчикам по палантину, оставляя на белом мехе белый след. — Я говорю прямо. Ночная прогулка в компании мужчины… столь сомнительных моральных качеств… если об этом происшествии узнают, то дадут ему весьма однозначную трактовку… а добавить, что вернулись вы в платье измятом… грязном… и прическа в некотором беспорядке…
Евдокия коснулась было волос, но тут же одернула себя: хватит.
В беспорядке? Пускай.
Платье измято? Есть немного… и на подоле влажные пятна, поскольку вел Себастьян окольными тропами, по нестриженным лужайкам, а то и вовсе прямиком через кусты…
— Узнают? — переспросила Евдокия, прижимая локтем ридикюль, сквозь тонкие стенки которого явственно ощущалась холодная сталь револьвера.
А ведь смешно… в гости к родственникам да при оружии… матушка бы не одобрила.
Или наоборот?
Наверное, сказала бы, что, значит, родственники такие… а Евдокия дура, ежели старалась в дружбу играть.
— И откуда, простите, узнают?
— Мало ли, — Богуслава ответила безмятежной улыбкой. — Слуги расскажут…
— Или вы…
— Намекаете, что я…
— Говорю прямо, раз вы уж намеки не любите, — Евдокия усмехнулась. — Я вам не по вкусу, верно?
Богуслава повела плечиком, и меховой палантин соскользнул, обнажая его, острое, мраморно — белое.
— Вы сами желали выйти замуж за Лихо…
— Отнюдь, Дусенька. Я желала выйти замуж за князя, а кто уж этим князем будет — дело третье… или четвертое… не важно. Но в остальном… да, вы мне глубоко не симпатичны. Видите ли, я испытываю глубокую антипатию к женщинам, вам подобным…
— Это каким же?
— Наглым. Бесцеремонным. Полагающим, будто бы деньги дают им какие‑то права… делают равными…
Она поправила съехавший палантин.
— Вы и подобные вам рветесь к власти, пытаетесь зацепиться на вершине, не замечая, до чего смешны…
— Лучше смеяться, чем плакать, — пробормотала Евдокия, но не была услышана.
— Ты купила себе мужа… и платье купила… и драгоценностями можешь обвеситься с головы до ног. Но правда в том, что никакие драгоценности не исправят тебя. Ты как была купчихой, так ею и осталась. Твое место — в лавке, среди унитазов. И потому, дорогая Дусенька, я даже не могу винить твоего мужа за то, что он завел себе любовницу.
Прав был Себастьян.
Нож.
Слово тоже может быть ножом, и путь не в спину, в лицо, но в самое сердце.
— Ложь, — Евдокия заставила себя выдержать взгляд Богуславы, и колдовкина зелень ее глаз в кои‑то веки показалась отвратительной.
Болотной.
Богуслава хотела сказать что‑то еще, но губы дрогнули.
Сложились в улыбку.
И захотелось стереть ее, вцепиться ногтями в лицо, разукрасить его царапинами, выдрать клочья рыжих волос, и катать по полу с визгом, с руганью…
…не по — княжески.
Зато действенно…
— Что ж, — Евдокия поднялась на ступеньку. — Я рада, что мы, наконец, все выяснили.
Богуслава ответила величественным кивком. Верно, слова, каковые можно было бы потратить на никчемную купчиху, у нее закончились.
И к лучшему оно.
Глава 5. Где случается разное, но явно недоброго толку
Отец Себастьяну не обрадовался. Тадеуш Вевельский на приветствие ответил взмахом руки, и, отломив столбик пепла с сигары, вяло произнес:
— Мог бы и предупредить о своем визите…
— Ну что ты, батюшка, и узнать, что ты или болен, или в отъезде? — Себастьян вдохнул горький дым. В курительной комнате ничего‑то не изменилось.
Кофейного колера обои.
И старая мебель с бронзовыми вставками.
Низкий столик, карты россыпью и стопка фишек перед отцовским местом. Выиграл? Пусть не на деньги игра, но и этот малый успех весьма радовал Тадеуша Вевельского, приводя его в преблагостное расположение духа.
Правда, появление старшего отпрыска благости поубавило, но…
— Мне кажется, дорогой мой папа, — Себастьян произнес слово с ударом на последнем слоге, — что вы меня избегаете.
— Кажется, — не моргнув глазом, ответил Тадеуш.
И с радостью немалой продолжил бы избегать.
— Я рад это слышать! — воскликнул Себастьян и пнул низкое кресло, в котором устроился Велеслав. — Уступи место старшим…
Велеслав побагровел, но поднялся.
— Вы же представить себе не можете, как я мучился!
Он вытянул тощие ноги, и треклятый хвост, от самого вида которого князя Вевельского передергивало, устроил на коленях. При том, что кисточку пышную, несколько растрепанную, Себастьян поглаживал.
Извращенец.
— Как? — высунулся со своего угла Яцек. И темные глаза блеснули.
— Страшно, Яцек. Страшно! Я даже начал подозревать, что папа меня не любит!
Князь Вевельский почувствовал, что краснеет.
— Но теперь я уже склоняюсь к мысли, что ошибся…
— Ошибся, — подтвердил князь, пытаясь сообразить, что именно привело Себастьяна в отчий дом. Он надеялся, что дело вовсе не в клубных делах… и не в той певичке, которая одарила его своей благосклонностью… не даром, естественно…
Следовало признать, что чем старше он становился, тем дороже эта самая женская благосклонность обходилась… и ведь пришлось занимать…
…а все почему?
Потому что Лихо, бестолочь, контракт подписал… честный он больно.
И что с этой честностью делать?
На векселя ее не изведешь.
— Я несказанно рад, дорогой мой папа! — Себастьян сидел вальяжно, и ногой покачивал, и выглядел до отвращения довольным собой. — Раскол в семье — дело дурное… а скажи‑ка, будь так ласкав, где же братец мой разлюбимый…
— Который? — Тадеуш с трудом сдерживал внезапно нахлынувшее раздражение. Он и сам не мог бы сказать, что же именно было истинной его причиной. То ли, что сын его старший не спешил подчиняться родительской воле, но глядел на отца сверху вниз, с этакой насмешечкой, а то и вовсе — презрением, то ли, что он не поспешил отречься от Ангелины, которая в своем втором замужестве посмела быть счастливой, о чем и писала пространные письма, верно, из желания позлить бывшего супруга, то ли просто сам по себе.
Чужой он.
Непонятный.
— Это который? — поинтересовался Велеслав.
Он успел выпить и оттого чувствовал себя престранно. С одной стороны старшего братца Велеслав не то, чтобы боялся — он не боялся никого и ничего, как и подобает королевскому улану — разумно опасался, с другой — Себастьянов наглый вид и, особенно, хвост его вызывали вполне естественное в Велеславовом понимании желание дать братцу в морду.
Может, конечно, хвост и не самый лучший повод для мордобития, но и не худший.
— Лихослав, — Себастьян развернулся к братцу, на круглой физии которого была написана вся палитра испытываемых им чувств.
И раздражение.
И отвращение.
И вовсе нехарактерная для Велеслава задумчивость.
— Так это… он ушел, — наконец, соизволил сказать он, и Тадеуш кивнул, подтверждая слова сына.
— И давно ушел?
Вопрос Себастьяна прозвучал тихо, но услышали его все, и Яцек из своего угла дернулся было, чтобы ответить, но был остановлен ленивым взмахом княжеской руки.
— Давно, — Тадеуш сгреб фишки.
— Ага, — подтвердил Велеслав. — Гордый он… и пить не захотел, и играть не захотел… сказал, что, мол, дела у него неотложные…
Врет.
— Вот так взял и ушел? Невежливо как… и жену свою оставил…
Яцек вновь открыл было рот, но Велеслав поспешил с ответом:
— Так… сказал, чтоб, мол, приглядели… он вернется…
— И ты не стал спрашивать, куда он ушел?
Не стал, потому как знал, но Себастьяну не скажет… или… Велеслав с отцом обменялись быстрыми взглядами. И Тадеуш, тасуя карты, лениво произнес:
— Мало ли куда надобно уйти мужчине так, чтобы жена о том не ведала?
— Мало.
Себастьян поднялся.
— Видите ли, дорогой папа, Лихослав, к счастью, не в вас пошел…
Тадеуш лишь плечами пожал.
Ему было все равно.
Или казалось, что ему было все равно?
Яцек вышел следом за Себастьяном и дверь придержал, прикрыл аккуратно. Выглядел младший братец донельзя виноватым.
— Ну? — Себастьян чувствовал, что вот — вот сорвется.
Он устал.
И голова болела.
И не только голова, но и желудок, который с утра ничего‑то, помимо овсянки на воде сваренной, не видел. А овсянка на воде еще никому хорошего настроения не прибавляла.
Дом злил.
Отец.
Велеслав, который что‑то задумал, и не сам, потому как сам он категорически думать не способен. Богуслава… она не колдовка, ведь проверяли и не единожды, но уже и не человек в полном на то смысле.
Еще и Яцек мнется, краснеет…
— Мне кажется, я знаю, где Лихослав…
Он покраснел еще сильней.
Уши и вовсе пунцовыми сделались, а на щеках проступили белые пятна. И Яцек волнуется, потому как не привык до сих пор к этой скрытой семейной войне, и знать не знает, под чьи стяги становится.
Ему хочется мира.
Только и он уже понимает, что мир невозможен.
А Себастьяну надо бы мягче… брат все‑таки…
— Я… я видел его у конюшен… подошел спросить… думал, что может ему плохо… а он зарычал и… и велел убираться.
Яцек вздохнул.
— Я бы не ушел. Только там Велеслав появился… и сказал, что приглядит, что… Лихо… он на порошок счастья подсел… еще там, на Серых землях… он борется, только не выходит. Об этом никто не знает и знать не должен… и мне тоже молчать надо. Велеслав посидит рядом, пока ему… пока лучше не станет. А меня отец заждался уже…
— А он заждался?
— Не знаю… ругался, что я поздно… а так больше ничего…
…если бы Яцек не появился вовсе, его отсутствие вряд ли бы заметили. Но его беда в том, что он появился весьма не вовремя.
— Мне не надо было уходить?
— Идем, — решился Себастьян. — Покажешь, где…
И Яцек коротко кивнул. Он чувствовал себя виноватым, пусть и внятно не мог бы сказать, в чем же именно его вина состоит.
В том что ушел?
Или в том, что не сохранил чужую тайну?
Но Себастьяну было не до размышлений.
Порошок, значит… в том, что Лихо порошок сей пробовал, Себастьян не сомневался. Но пробовать — одно, а сидеть — другое. Он бы заметил… точно заметил.
Или не он, но Евдокия… те, которые на порошке сидят, меняются… а она сказала, что за последние месяцы Лихо крепко переменился…
…или он не сам, но его подсадили? Подсыпали раз, другой, а потом…
Нет, с выводами спешить не следовало.
Яцек вел окольной тропой, тоже спешил.
Тощий.
И высокий, едва ли не выше Себастьяна. И уланский мундир на нем висит, а штаны и вовсе мешком, пусть и затягивает Яцек ремень до последней дырочки.
Ничего, пройдет.
Себастьян себя таким вот помнит, только, пожалуй, наглости в нем было куда побольше, и самоуверенности…
— Тебя надолго отпустили? — молчание сделалось невыносимым.
— К утреннему построению должен вернуться.
— Вернешься.
Яцек вздохнул.
— Тебе вообще служба нравится?
Он покачал головой и признался:
— Не особо.
— Тогда зачем пошел?
Конюшни были старыми, построенными еще в те далекие времена, когда и сам Познаньск, и Княжий посад только — только появились. И если дом не единожды перестраивали, то конюшни так и остались — длинными приземистыми строениями из серого булыжника. Помнится, в прежние времена Себастьяну казалось, что строения эти достоят до самой гибели мира, а может, и после останутся, уж больно надежны.
Правда, коней здесь ныне держали не сотню, а всего‑то с дюжину. Оттого и переделали левое здание под хранилище. Держали в нем, что сено, что тюки золотой соломы для лошадок простых, что опилки, которые сыпали в денники господским жеребцам. Нашлось местечко и для старое упряжи.
А под крышей, вместе с голубями, поселились мальчишки — конюхи.
— Да… отец сказал. Я в университет поступить хотел, — признался Яцек, остановившись. — На правоведа… а он сказал, что среди князей Вевельских никогда крючкотворов не было и не будет… я все равно хотел, но как без содержания? Мне стипендия не положена… и жилье тоже не положено… и вот…
— А ко мне почему не пришел?
Яцек вздохнул.
Понятно.
Потому и не пришел, что стыдился этакого своего выбора. И денег, в отличие от Велеслава, просить не умел.
— Послушай, — Себастьян редко испытывал угрызения совести, — если не передумаешь, то я помогу…
— Но…
— Если действительно хочешь. Отца не особо слушай, он много о княжеской чести говорит, да только мало делает. Уже взрослый, сам понимать должен.
Яцек тяжко вздохнул.
Понимает.
Небось, доходили сплетни всякие да разные, и злили, и обижали… сам‑то Себастьян к батюшке завсегда с немалым подозрением относился и ничего‑то хорошего от него не ждал, но Яцек — дело иное.
— Так вот, жизнь твоя и тебе решать, какой она будет. А как решишь, то скажи… с деньгами я вопрос решу. И Лихо, думаю, не откажется… да и Евдокия против не будет. Семейный законник — человек в высшей степени пользительный…
— Он тут сидел, — Яцек указал на старую бочку у дверей конюшни.
Над бочкой висел старый же масляный фонарь. Под закопченным колпаком трепетало пламя, и отсветы его ложились, что на бугристую стену, что на жухлую траву.
Пахло сладко, но не розами.
Себастьян присел.
Трава жесткая, будто бы одревесневшая, и ломается под пальцами, а острое былье так и норовит впиться в кожу.
А земля мягкая, что пирог непропеченный.
И больная словно бы, цепляется за когти белесыми корнями, а может и не корнями вовсе, но паутиной… откуда паутина под землею?
Себастьян аккуратно вытер пальцы платочком, который сложил и убрал в карман. Аврелий Яковлевич разберется… хотелось бы верить, что Аврелий Яковлевич во всем разберется.
Пальцы жгло.
Себастьян поднес их к фонарю: красные, точно опаленные, и мелкая чешуя пробивается, спешит защитить… от чего?
— Ты что? — Яцек посторонился, когда Себастьян вскочил на бочку.
— Ничего…
Керосина в фонаре оставалось на две трети.
Себастьян плескал его щедро, горстями. Яцек не спешил помогать, но и не мешал, верно, рассудив, что ежели старший брат вдруг обезумел, то это исключительно его личное дело. Этакую позицию Себастьян всецело одобрял.
— А теперь отойди…
Полыхнуло знатно.
И пламя поползло по керосиновому пятну, изначально рыжее, оно как‑то быстро сменило окрас, сделавшись темным, черным почти. И спешило, растекалось, грозя добраться до Себастьяна.
— Что это…
— Понятия не имею, — Себастьян на всякий случай снял ботинки, в отличие от прошлых, эти ему нравились, однако обстоятельства требовали жертв.
Платок с остатками странной паутины он вытащил двумя пальцами и сунул в ботинок.
Меж тем пламя отыграло, и побелело, и белым, оно гляделось ненастоящим. Не пламя — марево. Но стоило поднести руку, и жар ощущался, да такой, что того и гляди — вспыхнет не только попорченная паутиной трава, земля больная, но и камень конюшен.
— Лошади волнуются, — Яцек на огонь смотрел вполглаза.
— Что?
— Лошади, — повторил Яцек, отступая. — Волнуются. Слышишь?
Слышит.
И нервное надсадное ржание, в котором слышится не то крик, не то плач. И грохот копыт по дощатым стенам денника. И сдавленный хрип…
В конюшне пахло кровью.
Остро.
И запах этот тягучий обволакивал.
— Стой, — велел Себастьян, но Яцек мотнул головой: не останется он на пороге, следом пойдет. И руку на палаш положил, с которым он, конечно, управляться умеет, да только не знает, что дуэли — это одно, а жизнь — совсем иное…
Темно.
Окна тут маленькие, круглые, под самой крышей.
И луна в них не заглядывает. А фонарь в руке Себастьяновой еле — еле дышит, керосину в нем капля осталась.
— Яцек…
— Я тебя одного не оставлю.
Вот же холера… упертый…
— Не оставляй. Сходи за керосином. Должен быть где‑то там…
— А ты?
— А я тут постою.
— И не полезешь?
Дите дитём… такому и врать стыдно.
Немного.
— Что я, дурень, в темень этакую лезть?
Дурень. Как есть дурень, потому что темнота живая… она прячет… кого?
Кого‑то, кто пролил кровь.
…пусть это будет животное…
…кошка…
…или даже лошадь… лошадь, конечно, жаль, но… лошадь — все ж не человек… пусть это будет всего лишь животное…
Яцек сопел.
И значит, не отступит…
— Тут свечи есть, — сказал он, наконец. — У дверей лежат.
— Неси.
Принес. Толстые сальные, перевязанные черной ниткой, с острыми фитилями и оплавленными боками. Свечи хранились в холстине, которую Яцек держал во второй руке, явно не зная, что с ней сделать: выкинуть или погодить.
— Дай сюда, — Себастьян нить разрезал когтем. — Держи в руке. Да оставь ты палаш в покое, тоже мне, грозный воитель выискался…
…и не поможет палаш.
…если вдруг Лихо, то не поможет… напротив, только хуже будет.
— Оставь его здесь, — попросил Себастьян.
— Но…
— Или оставь, или убирайся!
Все ж таки сорвался, не со зла, единственно — от страха, и за него, молодого, не способного поверить, что и молодые умирают. Небось, кажется, вся жизнь впереди и ничего‑то плохого с ним, с Яцеком Вевельским произойти не может… и за Лихо, с которым плохое уже произошло, а Себастьян сие пропустил.
Решил, что будто бы прошлогодние игры закончились.
Яцек прислонил палаш к деннику.
А лошади‑то успокоились, не то устали бояться, не то почуяли людей. Груцают копытами по настилу, всхрапывают тревожно… и вздыхает кто‑то совсем рядом, да так, что волосы на затылке шевелятся.
— Яцек, — Себастьян переложил свечу в левую руку, — ежели ты мне этак в шею дышать будешь, то вскоре одним братом у тебя меньше станет.
— Почему?
— Потому что сердце у меня не железное… а нервы и подавно.
Узкий проход.
Темные двери с латунными табличками.
И отцовский Вулкан пытается просунуть морду сквозь прутья. В темноте глаза его влажно поблескивают, будто бы жеребец то ли плакал, то ли вот — вот заплачет…
…тяжеловоз Каштан бьет копытом по настилу. Мерно. Глухо.
И вновь звук искажается, мерещится, будто бы не Каштан это, но некто идет по Себастьяновому следу, переступает коваными ногами.
Догоняет.
Нервишки шалят.
Этак и сомлеть недолго, как оно нервической барышне подобает, а ведь говорил Евстафий Елисеевич, любимый начальник, что следует Себастьяну отпуск взять. И не только он…
А все работа — работа… как ее оставишь, когда кажется, что никто‑то другой с этою работой и не управится… тщеславие все, тщеславие… боком выходит.
Запах крови сделался резким, на него желудок Себастьянов отозвался ноющей болью, а рот слюной переполнился. Пришлось сплевывать.
Некрасиво‑то как…
— Чем это пахнет так? — поинтересовался Яцек и свечу поднял.
Бледное его лицо выглядело совсем уж детским, и пушок над верхней губой лишь подчеркивал эту самую детскость.
— Ничем, — Себастьян вытер рот рукавом. — Может, все‑таки уйдешь?
— Хватит. Ушел уже один раз.
Вот ты ж…
Дверь в предпоследний денник была распахнута. И Себастьян вдруг вспомнил, что некогда в этом самом деннике держали толстого мерина, ленивого и благодушного…
…давно это было…
…тот мерин, соловый, вечно пребывающий в какой‑то полудреме, давно уже помер, небось…
— Не ори, ладно, — сказал Себастьян, и Яцек обиженно ответил:
— Я и не собирался.
— Вот и ладно…
Не было мерина, но была толстая коротконогая лошадка вороной масти. Лежала на боку, на соломе некогда золотистой, а ныне — побуревшей.
— Лихо… — тихонько позвал Себастьян.
Разодранное горло.
И на боку глубокие раны, их не сразу получается разглядеть, черное на черном… но Себастьян смотреть умеет, а потому подмечает и кровь спекшуюся, и толстых мясных мух, которые над лужей вились.
И сгорбленную тень в дальнем углу.
— Лишек, это я… Бес…
Он переступает порог, и под ногою влажно чавкает… кровь?
Не только…
Стоит наклониться, поднести свечу, и огонь отражается в глянцевом зеркале кровяной лужи…
Яцека стошнило.
Себастьян отметил это походя, с сожалением — теперь станет думать… всякое.
— Лишек, ты давно тут сидишь?
Над кровью поднимался белый пушок паутины. Легкие волоконца ее оплели мертвую лошадь, затянули глаза ее, будто третье веко.
— Лишек, я за тобой пришел, искал… а мне сказали, что ты исчез куда‑то.
Тень вздрогнула.
— Н — не… н — не подходи…
— Как это не подойти? А обняться?
Он бы сбежал, если бы было куда бежать.
— Я ж за тобой пришел.
— Ар — р–рестовать? — глухой голос, и рычащие ноты перекатываются на Лихославовом языке. Вот только рычание это Себастьяна не пугает, молчание — оно куда как страшней.
А раз заговорил, то и думать способен.
— За что тебя арестовывать?
Хорошо, Яцек не лезет, сообразил держаться по ту сторону порога.
— Я… не помню, — тень покачнулась и поднялась. — Я ничего не помню…
— Случается. Перебрал?
— Н — нет…
— Принимал что?
— Нет! — резкий злой ответ, и тут же виноватое: — Извини… запах этот… мне от него дурно…
— Тогда выйдем.
Предложение это Лихославу не понравилось. Он стоял, покачиваясь, переваливаясь с ноги на ногу, не способный все ж решиться.
— Выйдем, выйдем, — Себастьян взял брата за руку.
Влажная.
И липкая… в крови… да он весь, с головы до ног в крови…
— Я… — лицо искаженное, а пальцы вцепились в серебряную ленту ошейника, не то пытаясь избавиться от этакого украшения, не то, напротив, боясь, что оно вдруг исчезнет. — Я здесь… и лошадь… я ее?
И сам себе ответил:
— Я… кто еще… лошадь… хорошо, что лошадь, правда?
— Замечательно, — Себастьян старался дышать ртом.
Запах дурманил.
Отуплял.
И надо выбираться, а там уже, вне конюшен, Себастьян подумает… обо всем хорошенько подумает. А подумать есть над чем.
— И плохо… я не должен был убивать… я не должен был оставаться среди людей… ошибка, которую…
— Которую кому‑то очень хочется исправить.
— Что?
Яцек держался позади, безмолвной тенью. И только когда до двери дошли, он скользнул вперед:
— Погодите, я гляну, чтобы… нехорошо, если его таким увидят.
Правильно.
Слухи пойдут, а вкупе с убийством, то и не слухи…
Отсутствовал Яцек недолго, вернулся без свечей, но и ладно, лунного света хватало.
Белое пламя уже погасло, оставив круг темной спекшейся земли, будто и не земли даже, но живой корки над раной. Лихо дернулся было, зарычал глухо.
— Что чуешь?
— Тьму…
Глаза его позеленели, и клыки появились, впрочем, исчезли также быстро.
— Там это… бочка с водой… и корыто… он грязный весь, — Яцек переминался с ноги на ногу. — И… может, мне одежды принести? В доме осталась старая…
— Принеси, — согласился Себастьян.
И младший исчез.
А неплохой парень, как‑то жаль, что раньше не случалось встретиться нормально. И в том не Яцекова вина…
— Лихо ты… бестолковое, — Себастьян не отказал себе в удовольствии макнуть братца в корыто с водой. Тот не сопротивлялся, хотя водица и была прохладной, а корыто — не особо чистым. — Раздевайся давай… хотя нет, погоди. Покажи руки.
Лихослав молча повиновался.
— Рассказывай.
— Нечего. Рассказывать, — он говорил осторожно, еще не до конца уверенный в том, что способен говорить.
— Как ты здесь оказался?
— Не помню.
Он вновь нырнул под воду, и стоял так долго, Себастьян даже беспокоиться начал, мало ли, вдруг да братец в порыве раскаяния, которое, как Себастьян подозревал, было несколько поспешным, утопнуть решил? Но Лихо вынырнул, отряхнулся и с немалым раздражением содрал окровавленный китель.
— Что помнишь?
— Ужин помню. Потом… потом мы перешли в курительную комнату… с Велеславом говорил.
— О чем?
Лихослав нахмурился, но покачал головой.
— Он чего‑то хотел…
— Денег?
— Наверное… или просил помочь… точно, просил помочь…
— В чем?
— Не знаю! — Лихо стиснул голову руками и пожаловался. — Она зовет… тянет… и с каждым днем все сильней… я иногда… как проваливаюсь. Однажды на улице очнулся… а как попал… как пришел? И еще раз так было…
— Евдокия знает?
— Нет.
— Зря.
— Нет, — жестче повторил Лихослав. — Это… моя беда. Я с ней разберусь… наверное.
— В монастыре? — Себастьян присел на край корыта.
— Это был не самый худший вариант… если бы я ушел, то…
— Велеслав очень бы порадовался. А уж супруга его вовсе вне себя от счастья былаа б.
Лихо вздохнул.
— Я не хочу быть князем.
— Понимаю. И в чем‑то разделяю, но… дело не в том, что ты не хочешь. Дело в том, что он хочет. До того хочет, что пойдет на все.
— Лошадь убил не он.
— Да неужели! Ты помнишь, как ее убивал?
— Нет.
— Тогда с чего такая уверенность.
Лихо молча сунул палец под ошейник.
— Именно… он на тебе, поэтому обернуться ты не мог, — Себастьян заложил руки за спину. Теперь, когда отступили и вонь, и дурнота, и беспокойство, думалось не в пример легче. — Я понимаю, что ты у нас — создание ответственное, родственной любовью пронизанное до самых пяток, только… Лихо, да пойми ж ты, наконец, что родственник родственнику рознь!
Понимать что‑либо в данный конкретный момент Лихо отказывался.
О вновь окунулся в корыто, а вынырнув, содрал рубашку. Прополоскав ее — на белой ткани остались розовые разводы — Лихо принялся тереть шею, руки, грудь, смывая засохшую кровь.
— А теперь давай мыслить здраво…
— Давай, — согласился Лихослав, отжимая волосы. — Я — волкодлак…
— У всех свои недостатки… и вообще, ты не с того начинаешь. Итак, ты пришел на семейный ужин… поужинал, надо полагать, неплохо? Ты голоден?
Лихо покачал головой.
— Вот… ты не голоден… заметь. Далее ты имел беседу с Велеславом, после которой у тебя напрочь отшибло память. И ты оказался у конюшен, где на тебя, маловменяемого, и натолкнулся Яцек.
— Он…
— Он хотел тебе помочь, но тут же объявился Велеслав, который заявил, что ты у нас любитель серого порошка.
— Что? — у Лихо от возмущения рубашка из рук выпала, плюхнулась на траву влажным комом. — Я не…
— Верю. И не только верю… видишь ли, Лишек, мне по работе доводилось сталкиваться с любителями серого порошка… и вот если поначалу они от обыкновенных людей неотличимы, то со временем у них на руках проступают вены… и не только проступают, черными становятся.
— Ты поэтому на руки смотрел?
— Поэтому, — согласился Себастьян. — А еще потому, что рубашка у тебя хорошая… была.
Он поддел влажный ком носком сапога.
— Манжеты узкие… на запонках… кстати, запонки подбери, небось, не дешевые… и главное, что на месте, и запонки, и манжеты целые… и мундир твой… а в тот раз, когда тебе обернуться случилось, от одежды одни лохмотья остались.
Лихослав, склонившись к самой земле, перебирал травинки.
— Значит, ты не оборачивался…
— Или оборачивался, но не полностью…
— Руки все одно изменились бы… а рубашка целая… нет, Лишек, ты не оборачивался… и отсюда вопрос. Как ты эту лошадь убил?
— Загрыз? — без особой, впрочем, уверенности, предположил Лихослав.
— Загрыз… зубами и в горло… очень по — волкодлачьи.
— Издеваешься?
— Пытаюсь представить.
Себастьян сцепил за спиной большие пальцы.
— Темная — темная ночь… зловещая такая… хотя нет, луна же ж светит… как там писала одна моя знакомая, зыбкий ея свет проникает сквозь… в общем сквозь куда‑то там да проникает. И князь — волкодлак на цыпочках крадется к лошади.
— Почему на цыпочках?
Лихослав аж приподнялся.
— Для полноты образа и пущей зловещести.
— Я в сапогах!
— Это твои проблемы. В сапогах аль нет, но злодей обязан красться на цыпочках… а вообще, дорогой мой братец, я что‑то в этой жизни упустил или ныне принято на семейные ужины по форме являться?
— Отец просил.
— Интересно… — Себастьян принялся расхаживать, при том, что шаги он делал неестественно широкие, от бедра. Дойдя до угла конюшни он развернулся. — И чем мотивировал? Любовью к форме?
— Почти, — Лихо сумел улыбнуться, пусть улыбка и вышла кривоватой. — Сказал, что ему приятно будет осознавать, что…
— Ясно, — махнул рукой Себ. — Итак… в сапогах и на цыпочках ты крадешься к конюшне… кстати, Яцек ушел, а куда подевался Велеслав?
— Ты у меня спрашиваешь?
— Я думаю.
— Как‑то ты громко думаешь, — Лихо все‑таки нашел запонку, которую подбросил на ладони.
— Как уж получается… допустим, он не захотел вести тебя в дом… и почему к лошадям? Бочка‑то у левой стоит… и логичней, проще отвести тебя туда. Дать отсидеться, отойти… а он потащил к конюшням…
— А если так и было? Если он меня оставил…
— Ага, ненадолго. Сам отошел по великой надобности… карты стыли. Или коньяк… и вообще, не его это забота тебя сторожить… Лихо, да очнись ты уже! Велеслав тебя тихо ненавидит. Он все ждал, когда ж ты уйдешь к богам, а ты, паскудина этакая, не ушел, а вернуться соизволил… и венец отцовский из‑под носу увел… не жди от него добра!
Наверное, Себастьян был прав.
Скорее всего Себастьян был прав.
И сквозь туман в голове, густой, сероватый, характерного жемчужного отлива, какой бывает только над клятыми болотами, Лихо эту правоту осознавал.
Но просто взять и поверить…
Нет, с Велеславом никогда‑то не получалось особой дружбы. Приятельствовали — это да… и письма он писал длинные, в которых делился всем…
…жаловался.
…в основном на то, что денег нет, а каков улан без родительского золочения? И смеются над ним… и выслужится не дают.
В тумане думалось тяжко, и сами мысли, им рожденные, были гнилыми, а потому Лихо оставил их. Лучше Беса послушает… Бес, небось, знает, о чем говорит.
— Ладно, оставил он тебя на сеновале и ушел… а тебе вдруг захотелось крови. Да так вперло, что прям невмоготу было ждать… и вышел ты, обуянный этою жаждой, из тьмы во лунный свет…
— Бес!
— Что?
— А ты не мог бы… ну, нормально говорить?
— Это как? — поинтересовался Себастьян и голову набок склонил, черные глаза блеснули, точь — в–точь как у того ворона, что повадился к дому летать.
Ворон садился на окно спальни и сидел смирнехонько, всем видом своим показывая, что вовсе не желает беспокоить занятых людей, что он, ворон, птица разумная, с пониманием, не чета суматошным галкам или, простите Боги, воронам… и лишь когда люди сами вставали, он приветствовал их вежливым стуком в окно.
Евдокия держала на подоконнике плашку с кусками вяленого мяса.
И ворон принимал эти куски из рук, аккуратно, точно зная, что клюв его остер и опасен, а Евдокиины пальцы — тонки.
— Не знаю… без этого… твоего…
Ворон кланялся.
И улыбался, хоть бы и казалось, что на улыбку вороны не способны… а если и эта птица неспроста появилась? А и вправду, откуда бы ворону в городе взяться?
Ведьмакова птица.
Или колдовкина.
На Серых Землях вороны селились стаями. И, стоило их потревожить, поднимались на крыло. Молча… и небо, низкое, свинцовое, полнили медлительные тени.
Вороны кружили.
Порой спускались низко, будто дразнясь, норовя мазнуть крылом по конской голове… или, зависнув на мгновенье, раззявить клюв, и тогда становился виден тонкий птичий язык, весьма похожий на червя…
— Без этого, как ты выразился, моего, жизнь, дорогой братец, сделается вовсе невыносима, — Себастьян погладил бугристую стену. — Потому продолжим… ты у нас там крадешься… крадешься…
— На цыпочках.
— А то… зловеще позвякивая шпорами.
— Шпоры не взял.
— Упущеньице… ладно, зловеще клацая клыками… и прокрадываешься на конюшню… что там тебя ведет?
— Голод?
— Нет, Лихо, мы выяснили, что за семейным ужином тебя неплохо накормили… знать бы еще, чем именно… но таки не голод.
— Жажда крови.
— Точно! — Себастьян поднял тощий палец. — Неуемная жажда крови, которая затмила твой благородный разум…
— Почему благородный?
— Не придирайся. Просто разум не звучит… итак, жажда толкает тебя на преступление… но скажи, Лишек, чего ты в такую‑то даль поперся? Чего не выбрал первую же лошадь…
Лихо задумался.
Первая… огромный битюг по кличке Качай, купленный по случаю… не для городского дома он, для поместья, где его силе найдется применение.
— Побоялся, что не справлюсь?
— Допустим… то есть, способность думать ты сохранил?
— И волки выбирают себе добычу по силе…
— А вот тут, Лишек, я и поспорить могу… нормальный волк, да, не полезет туда, где ему хвост прищемить могут. Но бешеный… бешеному все равно, кто перед ним. Ладно, допустим эту коняшку ты решил не трогать… следующая чем не угодила?
Аккуратная кобыла, взятая на племя…
— Не знаю…
— И я не знаю… и главное, заметь, убил ты не просто коняшку, а думаю, самую неказистую… такую, которой не жаль было… экие ныне волкодлаки хозяйственные пошли.
— Издеваешься, — констатировал факт Лихо.
Себастьян молча развел руками: мол, он не виноват, природа такая.
— То есть… — Лихо зачерпнул затхлую воду, которая ныне пахла кровью, и сладковатый этот аромат дурманил. Лихо подносил ладони к носу, вдыхал его, позволяя воде спокойно течь сквозь пальцы.
Не пробовал.
Боги ведали, чего ему стоило удержаться. А еще и луна зовет, манит в дорогу… его, Лихо, ждут… там, за краем мира, где небо смыкается с землей. Где неба вовсе нет, оно серое и гладкое, что начищенный доблеска серебряный поднос.
В том краю обещали покой.
Нет нужды прятаться.
Таиться.
Притворяться человеком. И всего‑то надобно, что снять ошейник… по какому праву его вовсе на Лихо нацепили… люди… думают, что имеют право…
…их право — быть добычей.
Прятаться в страхе, заслышав голоса Зимней охоты…
…их право — лить кровь, поить ею землю… и плотью своей питать тех, кто стоит несоизмеримо выше.
Луна, отраженная в корыте, насмехалась над Лихо, который, дурень, решил, что будто бы сумеет остаться человеком.
И он ударил по этой луне, такой обманчиво близкой, кулаком.
— То есть, — повторил Лихо, поражаясь тому, до чего неразборчива стала его речь, — ты полагаешь, что Велеслав… нарочно?
— Ну не нечаянно, это факт… вот только не он один…
— Надо поговорить, — луна, та, водяная, исчезла.
А другая, светило небесное, на небе и осталась. Выпялилась. И клокочет, хохочет в крови далекий смех ее. Мол, и вправду решил, Лихо — волкодлак, что луну одолеешь?
— Надо… — Себастьян будто бы очнулся. — Но не теперь.
— Почему?
— Потому что предъявить ему нечего… он все так повернет, что ты виноватым будешь…
Туман отступал.
И голос в крови становился все тише и тише. Еще немного, и к Лихо вернется разум, верней, те его остатки, которые еще позволяют ему оставаться человеком.
Какое нелепое для нежити желание.
— Чего он добивался? — Лихослав вытер руки о жесткую траву.
— Думаю, того, чтобы ты очнулся там и решил, будто загрыз несчастную коняшку, проникся чувством вины и ушел в монастырь… я надеюсь, что только на это.
Себастьянов хвост раздраженно щелкнул, а после обвился вокруг ноги.
И значит, все не так уж просто, как хочется старшему братцу.
— Договаривай…
— В городе объявился волкодлак…
Луна на небе ухмыльнулась особенно широко: вот так, Лихо… а ты, наивно, полагал, будто бы мертвая лошадь — самая большая твоя беда?
— Когда?
— Вчера убил… Лихо, будь так добр, успокой меня… где ты провел вчерашнюю ночь?
— В клабе…
— И видели тебя…
— Видели.
— Вот умница моя, — Себастьян погладил брата по мокрой голове. — Только с каких это пор ты стал по клабам ночевать…
Лихослав поморщился: эта тема была ему неприятна, однако же Бес не отцепится, пока не докопается до правды. Или почти до правды.
— Отец вновь проигрался… расписки давал…
— Много?
— Полторы тысячи злотней…
Себастьян присвистнул.
— Он неисправим… и ты поперся расписки выкупать?
— Вроде того… — Лихо вдруг понял, что замерз. Странно, ночь‑то теплая, летняя, а он дрожит мелкою дрожью, и зуб на зуб не попадает.
От этого холода так просто не избавится.
Кровь поможет.
Горячая, человеческая…
Себастьянова… он рядом, и сердце его громко стучит.
Лихо слышит.
Лихо видит… и горло белое с острым кадыком… и натянутые до предела жилы… рвани такую, и рот наполнится горячею солоноватой кровью.
Лихо ведь помнит вкус ее… и холод уйдет, надолго уйдет…
— Отойди, — попросил Лихослав сквозь стиснутые зубы. — Пожалуйста…
Себастьян отступил.
На шаг.
И еще на один. И лучше бы ему вовсе убраться… в дом… правильно, в дом — оно надежней. Лихо не станет убивать своего брата.
Никого убивать не станет.
— Отец… проигрался… барону Бржимеку… знаешь его?
Себастьян кивнул.
Надо думать не о нем, но о бароне… Витовт Бржимек… на гербе — вепрь с оливковой ветвью. На вепря барон и похож. Коренастый. Короткошеий. И с лицом квадратным, со щеками темными.
Он бреется трижды в день, но щетина все одно растет быстро.
Говорят, что некогда все семейство прокляли… щетина — это такая мелочь… у барона крохотные глаза, сидящие близко к переносице.
Красные.
И оттого кажется, будто Бржимек вечно пребывает в раздражении.
— Проигрался… и не нашел ничего лучше, как заявить, что игра была нечестной… он выпивши был.
Себастьян тяжко вздохнул и сел рядом.
Земля же мокрая… и грязная… и он все равно изгваздал белый свой костюм, когда Лихо выводил. И теперь братец, локоток отставивши, с видом в высшей степени задумчивым, ковыряет кровавое пятно.
— Лихо… вот за что нам такое наказание?
Лихо пожал плечами.
Холод уходил. И не понадобилась кровь, чтобы согреться, хватило и тепла, того самого, человеческого, которое ощущалось сквозь ткань пиджака. А Бес пиджак стащил.
— На вот… а то еще околеешь… и где это Яцека носит?
Лихослав не знал.
От пиджака пахло анисовыми карамельками и еще, кажется, касторовым маслом.
— А ты рассказывай, чего замолчал…
— Так… повздорили они с Бржимеком… и тот грозился, что по распискам этим через суд долги стребует, только не сейчас, а попозже… когда их побольше наберется… ты же отца знаешь… он решил, что раз есть деньги, то можно и жить по старому порядку…
— И ты всю ночь с бароном…
— Он поначалу со мной и говорить не хотел. Пришлось пить…
— Много?
Лихо кивнул и поморщился: пить он не любил.
Опасался.
— И где пили?
— Да в клабе и пили…
— Значит, помимо Бржимека найдутся люди, которые подтвердят, что ты там был… очень хорошо…
Себастьян почесал подбородок.
— А жене почему соврал?
— Да как‑то… — Лихо покосился на луну, которая так и висела, точно к небу приклеенная.
Слушала.
Подслушивала.
— Стыдно было, что он такой… она ж еще тогда старые долговые расписки повыкупила… а он снова…
— Дурень.
— Кто?
— Оба, Лишек, оба… он, видать, от природы. А ты — от избытку совести… — Себастьян повернулся и постучал пальцами по лбу Лихослава. — Вот скажи, мой любезный братец, чего должна была подумать твоя женушка, когда ты ночевать домой не явился…
— Я сказал, что…
— В поместье отправляешься… ну да, на ночь глядя отправился, а утречком рано вернулся. Чего ездил? Не понять… и учти, она ж не дура. Она понимает, что ты врешь. Вот только не понимает, в чем врешь. И значит, придумает себе то, что за правду примет. А главное, что потом ты ее не переубедишь…
Шаги Яцека Лихо издалека услышал. Быстрые. Торопливые даже. Яцек спешил и порой сбивался на бег, но тотчас вспоминал, что человеку его возраста и положения подобало и спешить, приличия соблюдая.
— Братец, — Себастьян поднялся первым и руку подал. — Тебя только за смертью и посылать…
— Там это…
Яцек выглядел растерянным.
И встрепанным.
— Там…
Себастьян забрал сверток, в котором обнаружилась собственная Яцекова рубашка, которая Лихославу была безбожно мала, некий широкий и мешковатый пиджак с крупными перламутровыми пуговицами, а еще зачем‑то кальсоны с начесом.
— Яцек, Яцек… — Себастьян поднял кальсоны двумя пальцами. — Старания в тебе много, а вот ума пока не хватает… но ничего, это дело наживное… так чего там?
— Отец велел панну Евдокию из дому выставить и назад не пускать…
— Что?
В глазах потемнело.
Лихослав раньше не понимал, как это, чтобы потемнело… оказалось — просто. Пелена на глаза, темная, за которой ничего‑то не видно.
Собственный пульс в ушах гремит.
А в голове — одно желание — вцепиться в глотку…
— Спокойно, Лишек… на вот, пиджачок примерь… — Бес сунул упомянутый пиджак в руки. — И угомонись… отомстить мы всегда успеем. В конце концов, Яцек мог недослышать… или сказать не так.
— Я так сказал! — возмутился Яцек, обиженный до глубины души. — Панна Евдокия обозвала панну Богуславу колдовкой… а та Евдокию — купчихой и… и нехорошей женщиной… и потом оказалось, что у панны Евдокии с собою револьвер имеется. И значит, она Богуславе грозилась, что без суда ее пристрелит серебряною пулей… а потом голову отрежет и чесноку в рот натолкает. Рубленого.
— Сам слышал?
Яцек покачал головой.
— Бержана сказала…
— Бержана тебе еще не то скажет…
— Панна Богуслава от волнения в обморок упала… а панна Евдокия стреляла и люстру попортила…
— Стреляла, значит…
— Я пришел, когда отец кричал на нее… и я решил, что лучше бы ей там не оставаться.
— Это правильно.
— А она уезжать одна не желает… и велел экипаж заложить…
— Очень интересно.
— Так не пешком же…
— Я его…
— Лишек, сейчас ты пойдешь к жене и выяснишь, чего случилось… заодно и поговорите по душам. А я… я с батюшкой нашим побеседую. Есть у меня одна интересная мыслишка…
Глава 6. В которой речь идет о новых неожиданных знакомствах и о вреде поздних прогулок
Аврелий Яковлевич здание Королевского театру покинул в числе последних зрителей. Вот не любил он толпы, сутолоки, которая случалось сразу по окончании спектакля, а потому предпочитал выждать, когда обезлюдеет мраморное фойе.
Была в этом своя романтика.
И опустевшая сцена гляделась брошенной. Медленно угасали газовые рожки, и на зрительный зал опускалась тень. Порой Аврелий Яковлевич видел ее огромною птицей с серыми пропыленными крыльями. Она свивала гнездо под самым куполом, средь поблекших нимф и печальных кентавров, чьи лики были почти неразличимы по‑за ярким светом новомодное эдиссоновское люстры.
Птица боялась шума.
И сторонилась людей. Она взирала на них сверху вниз, с любопытством и недоумением, весьма Аврелию Яковлевичу понятным.
Нет, он отдавал себе отчет, что никаких таких теней, во всяком случае тех, которые бы проходили по полицейскому аль ведьмачьему ведомству, в театре не обреталось, однако же именно здесь не мог отказать себе в удовольствии представить, будто бы…
…не сегодня.
Сегодняшняя опера не принесла и малой толики обычного удовольствия.
Тревожно.
И тревога не отпускала ни на мгновенье.
И оттого рисованными казались лица актрисок, а в голосе несравненной панны Ягумовской слышалось дребезжание… и страсти‑то, страсти наигранные… ненастоящие страсти…
Аврелий Яковлевич вздохнул и поднялся.
Нет, ежели бы он захотел, шубу его принесли бы прямо в ложу, подали бы с поклоном, однако же по давней традиции Аврелий Яковлевич предпочитал в гардеробную спускаться сам.
Традиций же он рушить не любил.
Театральные ступени скрипели.
А тень кралась следом.
Она были столь любезна, что проводила до широкого фойе, и кланялись вместо лакея, шубу подавшего, низко, искренне. Тень легла, прочертив путь до дверей, проводила бы и дальше, но ей, привыкшей к театральным пустотам, к миру, вычерченному на льняном полотне да деревянных щитах, было боязно. И Аврелий Яковлевич в этом тень понимал.
— Сам я, — сказал он, махнув рукой, и она с немалым облегчением истаяла.
Почудился тяжкий вздох: театр, в отличие от людей, Аврелия Яковлевича очень даже жаловал за сердечную чуткость и понимание.
Аврелий Яковлевич тоже вздохнул, но совсем по иной причине.
Прохладно.
Лето уже вспыхнуло, того и гляди разгорится костром бесстыдного червеньского солнца, а все одно прохладно… и луна вновь полная, что вовсе непорядок, поелику приличной луне в теле надлежит быть день — другой, не более. Эта же, знай, прибавляет, круглеет, будто и впрямь не луна — апельсина на ветке. Или глаз чей‑то желтый, насмешливый.
— Вот тебе, — сказал Аврелий Яковлевич, поплотней запахнув шубу из кротовьих шкурок шитую. И совершенно по — детски скрутил ночному светилу кукиш. — Уходи. Буде уже…
Почудилось, луна мигнула…
От же ж…
Почудилось… конечно, почудилось…
Аврелий Яковлевич взмахом руки отпустил извозчика, и тот с непонятной прытью хлестанул по спинам лошадей, точно в облегчение ему было уехать поскорей от театру.
Странно…
Аврелий Яковлевич перехватил поудобней трость.
Что ж… ночь, луна… самое подходящее время для прогулок в парке. Благо, до него было недалече. И гулять он любил, особенно по ночному часу, когда и воздух свежий, да и сам парк избавлен от людского присутствия… не то, чтобы люди Аврелию Яковлевичу вовсе были не симпатичны, нет, под настроение он к ним проникался то сочувствием, то вовсе — жалостью, но вот жалеть предпочитал на расстоянии. Оно, расстояние, избавляло Аврелия Яковлевича и от докучливых бесед, от лживых заверений в том, что, де, нынешняя встреча, несомненно случайная, ниспослана богами… и что боги желают, дабы Аврелий Яковлевич, отказавшись от дел иных, немедля проникся к новому знакомцу расположением и взял на себя все его беды… или же не к знакомцу, но к знакомой, которая лепетала, бледнела, краснела и норовила спрятаться за маменькиными юбками, верно, не полагая престарелого ведьмака хорошей партией.
Ночной парк был свободен.
От собак и лакеев, от детей с няньками да гувернантками, от дам и кавалеров, немочных девиц и компаньонок в серых скучных нарядах, от торговцев и торговок, уличных актеров, вечно пьяного шарманщика, который устраивался у фонтанов и к вечеру засыпал, обняв короб шарманки.
Ночной парк дышал горячим камнем.
И расправлял примятую траву. Он раскрывал белесые глаза бутонов, и резковатый аромат чубушника вытеснял чуждые запахи… кусты ныне цвели буйно. И Аврелий Яковлевич ступал по мощеной дорожке неспешно, получая от этакого позднего променаду немалое удовольствие. У фонтана он остановился, стянул перчатку и сунул пальцы в теплую воду.
Каждый год в фонтан, на радость детям и чувствительным к очарованию парка барышням, выпускали золотых рыбок. И тут же торговали мотылем. К серпню рыбки отъедались, делались ленивы и толсты. Они переставали бояться людей, а порой и вовсе наглели, подплывали к краю, разевали толстогубые некрасивые рты, будто бы ругаясь…
…нынешние скрылись в рыхлом иле, что успел покрыть дно мраморное чаши. Вода была теплой, застоявшейся, с гниловатым душком.
Аврелий Яковлевич стряхнул капли с руки, кое‑как отер пальцы перчаткой и обернулся.
Моргнул.
Сзади, шагах в трех от фонтана стоял человек.
Аврелий Яковлевич моргнул, надеясь, что примерещилось ему. Но человек не исчез, как положено приличному мороку. Стоял он спокойно, позволяя себя разглядеть, и место, признаться, выбрал удачное, под самым фонарем, каковой разнообразия ради горел ярко.
Человек был… странен?
Пожалуй.
Невысокий. Сутуловатый.
В пальтеце из серого сукна. Дрянное, шитое по кривым лекалам, оно было изрядно заношено. Аврелий Яковлевич отметил и крупные костяные пуговицы, через одну треснутые, а то и вовсе обломанные, и широкий пояс, и кривовато обрезанные полы. Ниже пальтеца виднелись колени, крупные и узловатые, а еще ниже — тощие голени, поросшие черным густым волосом.
На них красными ниточками выделялись подвязки. Некогда белые носки успели изрядно утратить белизны, а в левом виднелась дыра, из которой выглядывал большой палец.
— Чем могу помочь? — поинтересовался Аврелий Яковлевич, перекладывая тросточку в левую руку.
Левой — оно завсегда бить сподручней.
Ежели тросточкой.
С правой и зашибить недолго…
— Возьмите меня! — неожиданно заговорил человек и руку из кармана пальтеца вытащил.
— Куда?
— К себе…
— Зачем?
Аврелий Яковлевич пошевелил плечами, и шуба покорно сползла наземь. Вымокнет, конечно, но лучше так, чем продранную чинить.
Ночной же гость сделал шаг. Ступал он осторожно, по — балетному вытягивая ногу и ставя ее на цыпочки, а после уже и вес тела на нее переносил. И смотрелось сие престранно.
— Я хочу нести добро людям, — доверчиво произнес незнакомец.
А ведь молодой совсем.
Дикий.
Взъерошенный… масти не пойми какой, не рыжий, не черный и не блондин, но будто всего сразу понамешали. И волосы дыбом стоят. Лицо узенькое, некрасивое. Нос крупный, лоб тяжелый. И уши оттопыриваются.
— Так, мил человек, разве ж я мешаю?
А вот при всей своей неказистости, незнакомец ступал мягко, под ногой ни песчинки не шелохнулось.
— Бери свое добро и неси…
Аврелий Яковлевич посторонился, прикинув, что по голове этакого и бить боязно, небось, косточки птичьи, тоненькие… этак силушку не рассчитаешь, а после, ежели выйдет ошибочка, до конца дней грех нечаянный отмаливать станешь.
— Гавриил я, — он остановился и сунул руку в карман пальтеца.
— Аврелий Яковлевич.
— Я знаю… я следил за вами, — признался он с неловкою улыбкой. — Я… хотел поговорить. Я все о вас знаю!
— Да неужто?
Аврелий Яковлевич подивился: он и сам‑то о себе знал далеко не все, а тут вдруг…
— Я читал! Вот! — Гавриил вытащил из кармана смятую газетенку. — Я читал…
Газетенку Аврелий Яковлевич узнал.
Крякнул только.
Вот же… привела нелегкая… год уж минул, а те статейки аукаются… и главное, что людишки‑то в глаза улыбаются, мол, не поверили ни слову, а за спиною только и говорят. И ведь не сказать, чтоб разговоры их сильно Аврелия Яковлевича тревожили, не было дела ему ни до людишек, ни до любви их к сплетням, но поди ж ты…
— Дружочек, — Аврелий Яковлевич тросточкой в газетенку ткнул. — Шел бы ты домой… и не верил всему, что в газетах пишут…
Гавриил покачал головой.
Не волкодлак, значит, а еще один безумец, которому втемяшилось странное.
— Я не хочу домой.
— А куда ж ты хочешь? — с безумцами Аврелий Яковлевич не очень хорошо умел ладить, у него‑то и с нормальными людьми не всегда получалось. А блаженные — существа иные, тонко чувствующие, им чего не так скажешь, и вовсе остатки разума утратят.
Потому и решил он не перечить…
— В ведьмаки хочу…
— Ну, дорогой, это не так и просто… тут дар нужен… сила… и коль ее нет, то и я ничего‑то не сделаю…
Гавриил газетку погладил и к груди прижал.
— Скажите, — со вздохом произнес он, — только честно. Я красивый?
— Очень, — не мигнув глазом, солгал Аврелий Яковлевич.
Ежели ложь во благо, боги простят.
— И я вам нравлюсь? — он склонил голову набок и кончик длинного его носа дернулся.
— Нравишься.
— Тогда хорошо, — Гавриил почесал одной ногой другую. — Тогда у нас все получится.
— Что получится?
На всякий случай Аврелий Яковлевич сделал еще один шаг назад. Правда, тут стало ясно, что отступать ему более некуда — за спиной фонтан во всем его королевском великолепии.
Стоит чаша — дура перевернутым черепашьим панцирем, а из нее позеленевшей горой вырастает раковина вида преудивительного, на которую уже взгромоздился Водяной царь, ликом своим весьма на Канделя Благословенного подобный, правда, статей куда как более впечатляющих.
— Все! — сказал Гавриил и руки на поясок пальтеца положил. — Вы и я… мы вместе понесем людям добро…
— Помилуйте, молодой человек, ну сами подумайте, ежели мы да с вами… да понесем… — Аврелий Яковлевич начал злиться, он уже искренне жалел, что встреченный им человечек — вовсе не волкодлак. Небось, с волкодлаком было бы куда как проще.
Тросточкою да помеж глаз… да проклятьицем в зубы… или наоборот.
— Куда людям столько добра‑то?
Гавриил нисколько не смутился, но наставительно произнес:
— Добро лишним не бывает!
С этим утверждением Аврелий Яковлевич мог бы и поспорить: бывает, еще как бывает, особенно, ежели добро чужое… за чужое добро, анонимными добродеями принесенное, по совокупности до восьми лет каторги получить можно — с.
— Послушай, дорогой мой человек, — ведьмак со вздохом трость опустил, во избежание искушения членовредительства. — Не знаю, чего там ты в этой пакостливой газетенке вычитал, но коли хочешь стать ведьмаком, пиши заявление, плати в кассу пять сребней да жди, когда на освидетельствование вызовут. А ежели денег нет…
— Есть у меня деньги!
— Вот и ладно… вот и молодец…
— И освидетельствовался я уже… — Гавриилов палец, который выглядывал из драного носка, зашевелился. — Сказали, что нету у меня дара… нулевой потенциал…
Сказал и вздохнул горестно.
— Помогите!
— Чем?!
— Сделайте меня ведьмаком! Я знаю, вы можете! В газетах писали…
— В них намедни писали, что конец света того и гляди начнется…
Гавриил не услышал. Он рванул пояс, который от этакого неуважительного обращения затрещал и порвался, однако Гавриилу не было дело до этакой мелочи.
Решалась его судьба.
Он ведь читал… нет, газетам случалось врать аль преувеличивать, однако же гишторию некоего Г., который из полюбовников Аврелия Яковлевича ведьмаком сделали, они излагали с такими подробностями…
И Гавриил сам расследование проводил.
В Гданьск наведывался, в гостиницу коронную, где и беседовал сначала с неуживчивым управляющим, каковой велел Гавриила гнать, заподозривши в нем еще одного жадного до сенсаций крысятника, а после с коридорным, куда как более ласковым.
Он Гавриила выслушал.
И рассказал, как оно было, и про нумер, где на паркете огненные письмена месяц не сходили, а запах серы и вовсе всю меблю пропитал, оттого и пришлось ремонту делать. И про торт, и про баню, и про иные чудеса, свидетелем которых случалось быть… если и привирал, то немного.
А значит, имелся тайный способ!
— Возьмите меня! — Гавриил, преисполнившись решимости — за — ради светлой мечты всеобщего блага он готов был пожертвовать собой и не только собой — распахнул полы плащика. — В ведьмаки! Я хороший…
Аврелий Яковлевич крякнул и отвел взгляд.
Нет, в жизни ему случалось повидать всякого… особенно опосля тех пасквильных статеек, которым «Охальник» опровержение дал, но как‑то стыдливо, неуверенно, а потому вышло лишь хуже — все разом вдруг уверились, что Аврелий Яковлевич именно тем и занимался, о чем в статейках писано.
Двери старого клаба не открылись.
Зато однажды в черном конверте, розовой ленточкой перетянутом, появилось приглашение вступить в тайное сообщество содомитов почетным членом. Аврелий Яковлевич конвертик спалил с немалым удовольствием, радуясь, что Лукьяшка при всем его любопытстве не имеет обыкновения нос совать в почту ведьмакову… но приглашение приглашением, содомиты содомитами… и томные юноши, которые взяли за обыкновение появляться на ведьмаковом пути в тайной надежде устроить собственное бытие хоть и не законным браком, да методой обычно дамскою, вели себя прилично.
А этот…
Плащ повис тряпичными крылами, и драная подкладка его лоснилась в свете фонаря.
Гавриил был худым.
Жилистым.
И каким‑то несуразным. Его бочкообразная грудь густо поросла курчавым волосом, а впалый живот, напротив, был лыс, и белые шрамы на нем гляделись своеобразным узором.
Сероватая шкура Гавриила от холода пошла гусиной сыпью, и натянулась на острых костях до предела. Одно неловкое движение, и прорвется она…
— Угрожаешь? — осведомился Аврелий Яковлевич.
— А говорили, я вам нравлюся, — Гавриил переминался с ноги на ногу, втайне уже понимая, что замысел его, казавшийся великолепным, не удался.
А ведь по книге делал.
И неожиданная встреча… и предельная откровенность, которая по мнению некоего пана Зусека, которого в лавке весьма нахваливали — книги его пользовались небывалым спросом — должна была расположить сердце особы капризное к просителю. Не помогли и особые духи с вытяжкой из яичек химеры, которые должны были бы пробудить влечение, а ведь за них Гавриил золотом платил.
Или надо было брать другие? «Ночную страсть», которая с железами бобра… но сказали же, что бобер — вчерашний день, вот химера — дело иное…
— Прикройся, болезный, — Аврелий Яковлевич переносицу почесал. — А то девок пугать нечем будет.
И на всякий случай, убеждения ради, добавил:
— А то прокляну.
Гавриил плащ прикрыл, потому как и вправду, было прохладно, а снизу так еще и поддувало, и шелковые трусы романтичного красного колеру не спасали.
— Всех не проклянете, — сказал он, потому как замечательная книга пана Зусека рекомендовала в любой ситуации сохранять чувство собственного достоинства.
— Это смотря как постараться…
Ведьмак хотел добавить еще что‑то, однако же его перебил тоскливый вой. Он раздавался где‑то совсем близенько, конечно, не настолько близенько, чтоб сразу за нож хвататься, благо, в плащике имелись карманы, куда Гавриил и сложил все необходимое, включая не только нож, но и книгу с советами, склянку с остатками духов и два носовых платочка. Чистых.
Один, чтоб если признание делать, на одном колене стоя — пан Зусек правильно заметил, что от этакого признания после пятно на брюках останется, каковое навряд ли получится вывести, а другое — для обыкновенной надобности. В Познаньске запахов было чересчур уж много, оттого и приключилась с Гавриилом неприятность, насморк начался…
И ныне он, поведя носом, не учуял зверя.
Слышал.
Волкодлак выл, ажно заходился. И главное, нагло так, с переливами, со вздохами. То оборвет песню, то вновь затянет…
— Стой здесь, — велел Аврелий Якволевич и тросточку свою перехватил, будто бы и не тросточка это, но дубинка. Гавриил и прикинул, что весу тросточка эта должна быть немалого, с полпуда где‑то… а еще завитушки всякие, серебреные…
Ведьмак двинулся на голос.
Ступал он широко, не таясь, и ветки громко хрустели под узконосыми, по новой моде, штиблеты. И сами эти штиблеты поблескивали лаковой белою кожей.
Жаль, что навряд ли волкодлак красоту эту оценит… и Гавриил поскреб ногу — носок продрался уже по всей длине и внутрь успели залететь мелкие камушки, песчинки и иной сор, который ныне чувствовался, мешая сосредоточиться.
Оставаться на месте, как то было велено, Гавриил не собирался.
Он двинулся не по тропе… зря говорят, что во второй своей ипостаси волкодлаки — твари безмозглые, ведомые лишь желанием убивать. Молодняк‑то, может, и не особо сообразительный, но вот ежели волкодлак старый, не один оборот переживший, он с желаниями своими вполне себе управляется.
И на ведьмака сдуру не полезет.
Дразнится… вой стих.
И Гавриил пожалел об одном, что из‑за клятого насморку не способен нормально след учуять. Он потер кончик носа, сунул мизинец в левую ноздрю, а после и в правую, однако с немалым огорчением вынужден был признать, что сии манипуляции помогли ему не больше, нежели патентованные чесночные капли…
Парк был темен.
Луна поднялась выше. Цикады смолкли… и вовсе установилась такая тревожная тишина, что Гавриил сунул руку в карман…
…зверь возник на тропе.
Старый.
Он был огромен, вдвое выше Гавриила. Широкогрудый, с черной длинною шерстью, с когтистыми лапами, которые оставляли на земле глубокие следы. Он ступал осторожно, но не потому, что боялся, скорее уж позволял себя разглядеть.
— Ишь ты какой… — в руку скользнула склянка, которую Гавриил и швырнул в приоткрытую волкодлачью пасть. А после сообразил, что не с благословенною жрецами водой она, а с духами…
Челюсти волкодлака сомкнулись.
Захрустело стекло.
Крепко запахло «Страстной ночью», той самой, которая с вытяжкой из яичек… и запах этот густой был столь силен, что Гавриил ощутил его и заложенным носом.
Волкодлак же взвыл и скакнул вбок.
Завертелся, точно дурное щеня, что пытается собственный хвост уцепить… но встал, заверещал вдруг тоненько, жалостливо… и прежде, чем Гавриил нож вытащил — зацепился, треклятый, за дыру в подкладке, волкодлак скокнул в кусты.
— Стой!
Кусты хрустели, а след духов таял… и Гавриил бросился по нему, жалея об одном: нынешний его наряд, быть может, и являл собой большой сюрприз, как то рекомендовал пан Зусек, да только мало подходил для охоты…
— Стой, падла! — отпускать волкодлака Гавриил намерен не был.
Аврелий Яковлевич опоздал.
Он понял, что опоздал, едва лишь заслышав грозный вой, но все одно понадеялся, что быть может боги будут милосердны к тому несчастному…
Несчастной.
Она лежала в боковой аллее, под единственным горевшим фонарем. И Аврелию Яковлевичу подумалось, что во всем этом есть привкус некоей театральщины. Не той, что достойна подмостков Королевского театру, но иной, более примитивного свойства, тяготеющей к балагану.
Широкие темно — зеленого колера юбки разметались, точно даже после смерти женщина стремилась прикрыть распухшие ноги, а может, и не их, но черную лужу крови.
Она была мертва.
Чтобы понять это, не было нужды подходить близко — с развороченным животом человек не живет, но Аврелий Яковлевич подошел, стараясь ступать аккуратно, дабы не затоптать ненароком следы… впрочем, когтистые характерного вида продержатся долго, уж точно не исчезнут до появления следственное бригады.
И присев у тела, Аврелий Яковлевич прижал пальцы к шее.
Ни пульса. Ни дыхания.
И сердце в разверстой грудине мертво, лежит черным комком… отчего не тронул? Впрочем, сей вопрос Аврелий Яковлевич отложил на иное время.
Он огляделся.
Нахмурился.
И заприметив в кустах некий предмет, направился к нему.
В крохотном дамском ридикюле, которому случилось знавать лучшие времена, обнаружилось немногое: связка ключей да пухлый ежедневник с замочком. Справился с ним Аврелий Яковлевич легко. Пролистал. Хмыкнул. А после сунул за пазуху.
И только после этого извлек зачарованный свисток… волкодлака уже не выследят, однако, глядишь, свезет отыскать хоть что‑нибудь.
Глава 7. Повествующая о тайных женских мечтаниях и явных разочарованиях
Панна Акулина фон Хоффель маялась бессонницей. Напасть сия, случавшаяся с нею год от года все чаще, ежели верить медикусу, была явлением преобыкновенным в том возрасте, в котором панна Акулина изволила пребывать. Медикус являлся по первому зову баронессы, с немалым почтением выслушивал многочисленные жалобы, потчевал клиентку травяными отварами и самолично делал массаж пяток по цианьской методе…
Но желаемого облегчения сии процедуры не приносили.
И панна Акулина маялась.
Бессонницей.
И еще немалой к себе жалостью. Лежа в постели, она разглядывала балдахин, лениво раздумывая над тем, устроить ли хозяину пансиона скандал, ибо балдахин сей был пылен и стар, либо же просто выказать жалобу, как и подобает даме благородной.
Тут же вспомнилось, что воистину благородной дамой панна Акулина стала тогда, когда престарелый барон фон Хоффель, прельстившись очарованием юной певички, предложил ей морщинистую руку, ослабевшее сердце и свое немалое состояние… правда, после смерти родня баронова изволила судиться, но…
Нет, подобные мысли приводили панну Акулину в волнение, а волнение не способствовало доброму сну. И она перевернулась на другой бок… в конце‑то концов, сколько уж лет минуло? И пускай состоянием пришлось делиться, но титул, титул остался Акулине.
Баронесса фон Хоффель.
Вдовствующая баронесса фон Хоффель… звучит много лучше, нежели панночка Акулина Задвиженска… да, и на афишах титул смотрелся прельстительно… жаль, что состояние оказалось не столь велико, но… были поклонники.
Были.
И подарки дарили… и сыпали к ногам очаровательной баронессы, что обещания, что цветы, что драгоценные каменья, которые она, в отличие от обещаний и цветов, подбирала да, предварительно оценив, определяла на хранение.
В отличие от многих, Акулина и в молодые годы проявляла редкостное трезвомыслие. Лишь однажды она поддалась зову сердца, о чем впоследствии неоднократно сожалела… особенно, когда пришлось расстаться не только с большей частью драгоценностей, но и с городским домом…
В груди заныло.
Ах, Зозо, Зозо… последняя страсть, если не сказать — единственная… как пылали твои глаза… как горячи были руки… какие слова ты говорил, как клялся, что никогда‑то не оставишь… а ревновал‑то, ревновал люто, исступленно, и виделось в том лучшее доказательство любви…
И что с того, что был ты моложе на двадцать три года? Себя старухой Акулина не ощущала… и сейчас не ощущает, а уж тогда…
Она решительно перевернулась на другой бок, хотя и знала: не придет сон. А вдруг и вправду возрастное это? С чего‑то она, баронесса… несмотря ни на что все еще баронесса, трясется над этими воспоминаниями? Последняя любовь… и первая, ежели разобраться. До Зозо, славного мальчика, Акулина не позволяла себе с ума сходить, а тут… треснуло запертое сердце, и разум сгорел в пламени чувств.
Красиво звучит.
Некогда она весьма ценила красивые слова, и красивых людей… а Зозо был красив. И как же хотелось ему верить… и верила ведь, сама себя ослепляла, и счастлива была в этакой слепоте. Он беден?
Ничего, состояния Акулины хватит на двоих…
Он берет деньги без особого стеснения? Пускай, ей в радость делать мальчику подарки… Играет? А кто не играет ныне… проигрывается? Бедолаге не везет в картах, зато в любви…
Неромантично заурчало в животе, и это урчание заставило панну Акулину отрешиться от воспоминаний. А ведь казалось ей, что молоко подали несвежее. Нет, еще не прокисшее, но уже и не то, которое можно пить безбоязненно. Того и гляди расслабит…
…тогда вновь будет повод медикуса пригласить. Один он слушает… да еще и пан Бершовец, но тот вечно занятой и женушка его… панна Бершовец баронессе не нравилась категорически, поскольку была молода и хороша собой. Акулина не знала, что раздражало ее больше.
И потому перевернулась на спину, руки на животе сложила.
Уснет.
Еще немного полежит, послушает, как гудят в стене трубы… пансионат старый, в ремонте нуждается. А хозяин все денег жалеет… скупой ничтожный человечишко, который посмел намекнуть, что баронесса оплату задерживает.
Лет десять тому был бы рад, что она поселилась в этом захолустье… лет десять тому ей казалось, что все еще можно исправить. Ныло раненое сердце. И злость душила, бессильная, беззубая.
Исчез Зозо.
Прихватил и деньги ее, и векселей выписал, по которым Акулине придется платить, и шкатулку выгреб до дна… да что шкатулку, серебряные ложечки и те вынес.
Но простила бы… когда б один сбежал, а не с этой девкой из кордебалета… и ведь знали, шептались, посмеивались. В глаза, конечно, не решались, но за спиной… а она держала спину. И лицо держала. И день за днем платила, платила по счетам, которых не становилось меньше…
Надеялась, исправится.
Был же контракт. И голос ее звучал по — прежнему чудесно… и поклонники, которых Зозо распугал своей ревностью дикой, вернутся, а с ними — и драгоценности…
Кто знал, что в театре Королевском новый директор объявится? А у того собственная протеже… молодая. Красивая.
Безголосая напрочь.
Но разве это кому мешало?
Ах, сколько всего осталось в прошлом… и обиды, и ссоры… и война, закончившаяся поражением… зато война помогла забыть о предательстве.
Долги.
И опустевший дом… прислуга, что разбежалась, поскольку не было у баронессы денег платить прислуге… и вовсе как‑то вышло так, что истаяли капиталы, обратились в ничто ценные бумаги, на которые она так рассчитывала. А ушлый поверенный только и шептал, что, де, дом надобно продавать, что лишь тянет он из баронессы последнее.
Поддалась.
Продала. И теперь вот вынуждена доживать век в месте столь непрезентабельном. И пусть комнаты, которые она занимает, именуются апартаментами — люкс, но баронессе ли не знать, что сие наименование — лишь насмешка. Всего‑то четыре комнатушки, одна другой меньше.
Мебель старая.
Убираются редко… и норовят намекнуть, что за капризы Акулине доплачивать надобно…
Она вздохнула, чувствуя, как тело становится легким, невесомым, как некогда. И унимаются ноющие суставы… а в голове звучит музыка… ария брошенной княжны… и баронесса готова исполнить ее… Голос по — прежнему полон силы…
Она, или уже не она, но княжна, предавшая родных, бросившая свой дом за — ради любви к чужаку, стоит над пропастью.
Клубится в рисованных глубинах ея театральный туман.
И проступает сквозь него смуглое лицо Зозо…
…по что ты предал…
Первые аккорды тяжелы, что падающие камни… а туман густеет. И вот уж из пропасти тянет сквозняком…
…едва слышно скрипит окошко.
Какое окошко?
И пропасть исчезает. А с нею и неверный возлюбленный, которого Акулина вновь успела и проклясть, и простить. Но остается постылый нумер — люкс пансиона.
Окно открытое, сквозь которое тянет прохладцей.
И человек на подоконнике…
Голый человек на подоконнике…
Нет, конечно, в бурной жизни баронессы случалось всякое… иные поклонники вели себя безумно, но те безумства, как ей виделось до сегодняшнего дня, остались в прошлом.
— Вы… — дрогнувшим от волнения голосом произнесла Акулина, — ко мне?
Гавриил шел по следу.
Благо, след волкодлак оставлял широкий, из мятой травы и поломанных веток… и характерного сладковатого духа «Страстной ночи», которая и вела Гавриила по парку. Следовало сказать, что коварная тварь не давала себе труда выбирать дорогу, но перла, что называется, напролом, сквозь кусты. И если волкодлаку эти кусты вовсе не были преградой, то Гавриилу приходилось тяжко.
Он падал.
И вставал.
Выдирал треклятый плащ из цепких веток. Матерился, продираясь сквозь колючую стену шиповника, и выл от бессилия, обнаружив, что стоит возле парковой ограды. Обходить?
Тварь навряд ли даст себе труд подождать… а потому пришлось лезть. Плащ, который лишь мешался, пришлось бросить, не то, чтобы нем осталось что‑либо ценное, но… книги вот жаль.
Книгу Гавриил не дочитал, а там наверняка много полезных советов.
Ничего. Вернется.
Или новую купит.
Он сунул рукоять ножа в зубы и перемахнул изгородь, едва не свалившись на голову полицейскому.
— Жвините, — сказал Гавриил.
Полицейский моргнул и потянулся за тревожным свистком.
— Спшу. Птом, — говорить с ножом во рту было затруднительно, да и не оставалось у Гавриила времени на то, чтобы объясняться с полицией. Он распрекрасно отдавал себе отчет, что нынешний эксцентричный облик его, быть может, и подходит для сюрприза, но большинству горожан покажется чересчур уж вызывающим.
Да и волкодлак опять же…
Гавриил принюхался, радуясь тому, что выбранные им духи оказались столь ядреными. Сладкий аромат их разлился по мостовой, перебивая и запах навоза, и вонь стынущего металла.
В спину донеслось:
— Стой! Стой, кому говорят…
Гавриил ускорил шаг. Полицейского он слышал: тот бежал, однако, будучи человеком в теле, бежал неспешно, тяжко переваливаясь с боку на бок, то и дело останавливаясь, чтобы перевести дыхание.
Гавриил слышал и тонкий судорожный свист, неслышный обычным людям.
Ничего.
Он успеет… главное, на след выйти, а после уже и с полицией можно будет объясниться.
След оборвался в тупике, у низенького кирпичного строения, будто бы придавленного чересчур тяжелой для него крышей. Эта крыша нависала, скрывая в своей тени и ряд узких чердачных окон, в которые не то, что волкодлак, не всякая кошка пролезет. По краю ее свинцовой лентой тянулся водосток, а к нему чьи‑то заботливые руки прикрепили деревянные короба с петуниями. Верно, петуниям сие понравилось, поелику разрослись они густо и цвели буйным цветом.
Водосток же спускался, у самой земли задираясь крючком.
Гавриил вздохнул и огляделся, в тайной надежде, что треклятый волкодлак просто отыскал лазейку… но нет. Слева высилась серая громадина банка. И редкие окна были забраны крепкими решетками. Справа — здание почтового ведомства, которое, как поговаривали, было богаче иного банка… здания смыкались углами, будто норовя раздавить сие кирпичное недоразумение…
И Гавриил решился.
Водосточную трубу он не стал тревожить, благо, кладка и узорчатый фриз, некогда весьма богатый, оставлял довольно места для маневру.
По стене он вскарабкался с легкостью, только нож в зубах все ж немного мешал.
Зато меж старыми рамами тонкий клинок вошел легко…
В комнате пахло духами.
Не «Страстной ночью», иными, куда более резкими. И запах их был столь силен, что Гавриил едва не расчихался.
Темно.
Шторы завешены плотно, однако он сумел разглядеть, что комната, в которую угораздило попасть, довольно велика.
Светлые стены.
Светлый потолок. Темный круг зеркала, закрепленного в узорчатой раме. И массивная кровать под балдахином.
— Вы… ко мне? — раздался низкий грудной голос.
— Не знаю, — честно ответил Гавриил. — А вы кричать не станете?
— Не знаю…
Женщина села в кровати.
Она была чудовищно толста, и рубашка из тончайшего батиста не скрывала ни складок на боках, ни выпирающего рыхлого живота, ни груди, которая на оном животе возлежала холмами из розовой плоти.
— Вы… вы собираетесь покуситься на мою честь? — гулким шепотом поинтересовалась дама и на всякий случай подалась вперед, изогнулась, отчего рубашка ее соскользнула с полного округлого плеча.
— Нет, что вы…
Гавриил сглотнул.
Разом подумалось, что, возможно, прав был пан Зусек, когда говорил, будто бы в страстях надобно проявлять настойчивость по отношению к объекту сих страстей.
— Вы лжете, — с надрывом произнесла баронесса фон Хоффель, прижимая ладони к груди, в которой вяло трепыхалось сердце. — Зачем еще вы могли проникнуть сюда, негодник?
Не Зозо…
…Зозо любил делать сюрпризы, и однажды украл ее из гримерки, на руках вынес, пусть бы и тогда панна Акулина весила чуть больше, нежели положено весить красивой женщине. Но Зозо нравилась ее полнота… он говорил, что настоящая женщина и должна быть такой: мягкой да округлой.
Ночной гость не спешил набрасываться на трепещущее тело Акулины.
Он стоял, переминаясь с ноги на ногу, и лишь алые трусы его призывно пламенели, указывая на скрытую страсть…
— За волкодлаком, — выдавил он, отступая зачем‑то к окну.
Забавный…
Зозо тоже выдумщиком был… говорил, что на родине его в лесах волкодлаки во множестве водятся, и люди благородные первейшею забавой полагают вовсе не охоту на лис, а нечисти истребление.
Лжец.
Акулина поднялась.
Гавриил следил за тем, как медленно встает она, как колышется плоть, и трещит батист, и вот уже крохотная ступня, почти кукольная, касается пола.
— Ты следил за мной, негодяй…
— Н — нет!
Женщина ступала почти беззвучно.
Грудь ее колыхалась, и живот колыхался, и вся она, розовая, пахнущая теми самыми резкими духами, колыхалась.
— Выслеживал, как дикий тигр трепетную лань…
Гавриил отчаянно замотал головой и попятился.
— И теперь явился, чтобы воплотить в жизнь свои непристойные фантазии… — она не глядя взяла с туалетного столика флакон с мятным настоем и осушила его одним глотком. — И я беззащитна пред тобой…
Она схватила Гавриила за руку. Толстые пальчики пробежались по предплечью, ущипнули плечо.
Гавриил уперся в грудь дамы в тщетной попытке ее оттолкнуть, но панна Акулина лишь испустила томный вздох.
— Ах, я чувствую, как в тебе кипят дикие страсти…
— У… уйдите…
Гавриил пожалел, что не дочитал книгу. Наверняка мудрейший пан Зусек знал, как надлежит вести себя мужчине в подобной ситуации…
Женщина наступала, тесня от окна, норовя загнать к кровати, которая ныне казалась Гавриилу предметом в высшей степени зловещим.
— Вы… вы неверно все поняли! Я на волкодлака охочусь!
— Я невинная жертва твоей похоти…
Она покачнулась, оседая на Гавриила всем своим немалым весом.
— И молю не чинить вреда… я сделаю все… — пообещала она, дыхнув в лицо мятой.
…крик о помощи, донесшийся из покоев панны Акулины, встревожил всех обитателей пансиона «Милый друг».
Залаяли шпицы панны Гуровой, отозвался на их голос ленивая дворняга, прикормленная кухаркой из жалости. Захлопали двери, и в коридор выглянул пан Зусек, вооруженный преогромной устрашающего вида секирой.
— Откройте, полиция! — раздалось следом.
И пан Зусек секиру опустил, бросив:
— Не волнуйся, дорогая. Полиция уже здесь.
Его супруга, обычно молчаливая, на редкость не любопытная, в коридор не выглянула. Сам же пан не спешил возвращаться. Он был босоног и нелеп в длинной ночной рубахе, с секирой в одной руке и ночным колпаком в другой.
И панна Гурова, обладавшая воистину удивительной способностью знать все и обо всех, заметила:
— А где это вы сегодня гуляли?
— Нигде! — нервозно ответил пан Зусек.
— Я слышала, как ваша дверь отворялась, — панна Гурова запахнула цианьский халатик с золотыми драконами на спине.
— А мне представлялось, что вы давече на слух жаловались.
— Не настолько. Ваша дверь отвратительно скрипит!
Появление полицейских заставило панну Гурову замолчать. Пятерка померанских шпицев, как на взгляд пана Зусека обладавших на редкость скверным норовом, под стать хозяйскому, прижались к ее ногам. Глаза — бусины следили за каждым движением пана Зусека, и тому вдруг подумалось, что секира — вовсе не то оружие, которое поможет, если…
— Откройте, полиция! — городовой бухнул кулаком в дверь.
— Господа, господа… прошу вас… произошло недоразумение… — пан Вильчевский, хозяин пансиона, появился со свечами и метлой, которую отчего‑то держал под мышкой, и когда кланялся — а кланялся он часто, суетливо — прутяной хвост метлы подымался. — Верно, панне Акулине пригрезилось…
— О да, ей часто грезится в последнее время, — бросила панна Гурова и скрылась в своих покоях. Пан Зусек последовал ее примеру.
Дверь он прикрыл, оставив узенькую щелочку. Не то, чтобы пан Зусек любил подсматривать, нет, он лишь предпочитал быть в курсе происходящего. Особенно, ежели все происходило в непосредственной близости от его особы.
Он и разглядел, что полицейских, от которых в коридоре стало тесно, что тощего мужичка в красных трусах. Его вели, скрутивши руки за спину, а он порывался что‑то объяснить… но тычки под ребра заставляли его замолчать.
— Что там, дорогой? — спросила Каролина, позевывая.
— Видать, вор пробрался… — пан Зусек повесил секиру на крючки, которые самолично вбил в стену и тем немало гордился: в отличие от многих, он — человек хозяйственный.
— Вор… какой ужас…
— Не бойся, дорогая. Я тебя защитю! — пообещал пан Зусек, погладивши секиру. Затем надел сползший было колпак, поправил сеточку для волос — при его профессии выглядеть надлежало должным образом, и пятку поскреб.
— Я знаю, любимый, — Каролина села в постели. — Но быть может, пусть полиция разберется?
Полиция ушла.
Лишь из соседнего нумера, если прислушаться — очень — очень хорошо прислушаться — доносились сдавленные рыдания панны Акулины.
— Я сразу поняла, что он не просто так здесь появился, — панна Акулина рыдала профессионально, самозабвенно и почти искренне. — Он был так… огромен… силен… что могла я, слабая женщина, противопоставить его силе?
— Может… того… медикуса? — полицейский, широкую грудь которого баронесса фон Хоффман соизволила орошать слезами, пребывал в растерянности. С одное стороны было велено запротоколировать показания, а с другой… женщину было жаль.
Вон как изволновалась вся.
— Нет… медикус не поможет… — панна Акулина всхлипнула и, оторвавшись от груди, заглянула в серые полицейские очи. — Я чувствую себя потерянной…
— Так это… может, того… выпить?
— Кларету?
— Кларету нет… самогон имеется.
Панна Акулина, упав в кресло, махнула рукой. Она не имела ничего против самогона, и фляжку приняла с благодарностью.
— Вы представить себе не можете, что я испытала… — она занюхала самогон рукавом халатика. — Оказаться наедине с этим… с этим…
— Не волнуйтеся… посадим.
— За что?!
— За все, — жестко отрезал полицейский. — Заявление подадите…
Отчего‑то вспомнились печальные, преисполненные мольбы глаза незнакомца…
— Нет, — покачала головой панна Акулина. — Мальчик поддался страсти… все мы были молоды… все мы…
И фляжку протянула. Полицейский принял, глотнул…
— Это да, — сказал он. — От я сам, помню… когда за женкой своею ходил… ох она и норовистая была…
— А вы женаты?
— Вдовый, — признался полицейский и фляжку протянул. — В позатом годе не стало… хорошая была баба… большая… прям как вы…
Панна Акулина зарделась и вновь всхлипнула, для порядку.
— Бедный парень… совсем обезумел от любви…
— Во — во… ненормальных ныне развелося… на той неделе один, не поверитя, залез на окно и кукарекать стал… а другой и вовсе вены резал из‑за любови.
— Как романтично…
— Оно, может, и романтично, — возразил полицейский усы оглаживая, а усы у него были знатные, толстенные, соломенного колеру, — а как по мне, так, вы незабижайтесь, панна Акулина, на простого‑то человека… я так вам скажу. Дурь это все от безделия исходящая. Вот кабы…
…проговорили они до утра.
И когда за окном задребезжал рассвет, квелый, блекло — розовый, что застиранные панталоны, панна Акулина вынуждена была признать, что зевает.
То ли самогон стал причиной тому, то ли беседа с сим милым человеком, что слушал о ее жизни внимательно, да еще и по ручке гладил, успокаивая, но заснула она быстро, и в кои‑то веки сны ее были спокойны. В них панна Акулина вновь блистала на сцене. И благодарная публика рыдала от восторга… а под ноги сыпались цветы и драгоценные камни, все как один, преогромные…
Хороший был сон.
И пан Куберт, обещавшийся заглянуть намедни, был рядом, покручивал свой ус да приговаривал:
— Так‑то оно так, панна…
А темные глаза его лукаво поблескивали, обещая, что сие знакомство будет долгим…
Глава 8. В которой речь пойдет о семейных неурядицах и обидах
Евдокия мяла платок. Она собирала его в горсть, стискивала влажный батистовый комок, будто бы он был виновен во всех сегодняшних неприятностях. И опомнившись, руку разжимала.
Выдыхала.
Вдыхала.
Злилась на корсет, который с каждой секундой все сильней стискивал тело, на нижние рубашки, ставшие вдруг жесткими, на платье… на себя, дуру ряженую.
Княгиня Вевельская… будущая… а разоралась, что торговка на рынке… и то, иные торговки себя приличней ведут. И накатывала странная тоска, до глаз слепых, до слез, готовых пролиться по взмаху ресниц. И сидела Евдокия, не моргая, к окну отвернувшись.
Лихо молчал.
А Себастьян ерзал, но стоило открыть рот, как тотчас замолкал, прикусывал палец.
Что оставалось?
В окно глядеть, на луну круглую, сытую… на мостовую, светом лунным залитую, на дома и дерева, которые стояли, подернутые будто бы туманом… и от тумана этого вновь глаза резало.
Что с нею?
Неужто так обидно было услышать от Богуславы… та ничего не сказала… ничего такого, что Евдокия вспомнила бы.
И уронив платочек, Евдокия стиснула виски ладонями. Надобно вспомнить…
Был Себастьян.
И беседа в парке… и возвращение в дом… кажется, тогда она о Лихославе беспокоилась… о том, где был… а Себастьян обещал, что братца найдет… и ведь нашел, да в таком виде… почему‑то вид этот вызывал глухое раздражение.
Одежда явно с чужого плеча, так еще и грязная. Сам встрепанный, хмурый, забился в угол и руки на груди скрестил, словно от нее, Евдокии, защищается. И глаза отливают характерною волчьей желтизной… и сесть бы рядом, прижаться, обнять, чтобы и его страхи ушли, и собственные, да только не время.
Не место.
— Знаете, давненько мне на похоронах бывать не доводилось… — Себастьянов хвост пощелкивал по дверце экипажа, и звук, надо сказать, получался преомерзительный. — Но помнится мне, что и там оно как‑то все веселей… покойничек лежит, люди празднуют.
— Бес, давай… потом…
— Лишек, да куда уж еще потомей?
Экипаж остановился.
— Потом, — повторил Лихо, и как‑то так нехорошо… вроде и негромко произнес, но Евдокия похолодела.
— Что ж… потом так потом… Евушка, радость моя, а скажи‑ка мне, с какой это вдруг напасти ты в Богуславу стрелять удумала. Нет, я понимаю распрекрасно, что она и святого до ручки доведет, но ты мне прежде казалась девицей сдержанной, разумной даже…
— Потом, — в третий раз произнес Лихо и руку протянул. — Идем. Ей надо отдохнуть.
— Я… не знаю.
Пальцы у Лихослава были ледяными.
— Не помню… я не помню, что она мне сказала. Просто вдруг очнулась… а в руках револьвер… и кажется, я выстрелила, — Евдокия произнесла то, о чем и подумать боялась.
Стреляла.
Едва не застрелила… и еще бы немного…
— Ева, — Лихо сел рядом. — Все хорошо…
— Плохо, — она покачала головой. — Все очень плохо… я… я действительно ведь не помню, что произошло…
— Как знакомо.
— Бес!
— Что? — Себастьян подался вперед и платочек протянул, наверное, тот самый, Евдокиин, измятый до крайности. — Я лишь пытаюсь сказать, что как‑то странно, когда два вполне адекватных человека вдруг разом начинают страдать провалами в памяти… в гости бы вам наведаться… к знающему человеку.
Евдокия покачала головой.
Нервы.
И только…
— Ева, он дело говорит… отправляйся, — Лихо держал крепко, и гладил по плечу, и от этого становилось только хуже.
— Нет! Я… — от одной мысли, что надобно куда‑то отправляться, становилось дурно. И дурнота подкатывала к горлу, еще немного и Евдокию стошнит.
Она представила, как ее выворачивает…
На бархат обивки.
На кожаные сиденья… на белый некогда костюм Себастьяна и туфли его, заляпанные бурой грязью…
— Нет! — она вскочила, но упала бы, если бы не Лихо. — Не сегодня! Завтра… я обещаю, что завтра… куда хотите… а сегодня мне отдохнуть надо.
Евдокия уцепилась за эту спасительную мысль.
Ей надо отдохнуть.
И все пройдет.
Конечно, пройдет… она ведь женщина, в конце‑то концов… с ней случаются недомогания… и волнения… и все то, что происходит обычно с женщинами.
Евдокия выбралась из кареты, вцепилась в мужа, силясь справится и с дурнотой, которая и не думала отступать, и с головной болью. И с раздражением.
— Лихо, ты же понимаешь, что это ненормально, — Себастьян не остался в экипаже.
Видеть его было неприятно.
И Евдокия отвернулась.
— Уйди, — попросил Лихо. — Пожалуйста… я все понимаю, но не сейчас. Ладно?
Не сейчас.
Правильно.
Потом. Завтра или позже… послезавтра… в конце концов, что страшного случилось? Ничего… Евдокии отдохнуть надобно, поспать… сон от всего спасает.
— Пойдем, — попросила она мужа. — Пожалуйста…
И он согласился.
На руки подхватил, а Евдокия и забыла, до чего он сильный. И пахнет от него свежескошенной травой, и еще солнцем, деревом горячим… а в руках уютно, спокойно, что в колыбели.
Колыбель и есть.
Из нее Евдокия не желает выбираться.
— Не уходи, — просит она, обнимая его за шею. Пальцы соскальзывают с холодной полосы ошейника, которого не должно бы быть, но он есть.
Неправильно как.
— Не уйду, конечно, — Лихослав касается холодными губами виска. — Куда мне от тебя?
— Жалеешь?
— О чем?
— О том, что женился на мне…
Пусть скажет правду. Или солжет. Евдокия не знала сама, чего ей хотелось больше. Наверное, не следовало спрашивать о таком… надо было просто сидеть, слушать его дыхание, мечтать… мечтать ведь легко… придумать себе жизнь, которая длинная — длинная и счастливая, чтобы каждый день и по — своему.
Как в сказке.
— Нет, — он вытянул из волос шпильку. И вторую… и третью. Лихослав вынимал их осторожно, но у Евдокии было такое чувство, будто бы шпильки эти вытягивали прямо из головы.
Она терпела.
И все одно застонала.
— Себастьян сказал, что я меняюсь…
— Все меняются.
И еще одна… к ней прилип светлый волос, обвил шпильку тонкой змейкой…
— Я к худшему.
— Бес говорит, не думая…
— Неправда. Это только кажется, что не думая. А на самом деле… он умеет думать… и думает… и когда говорит, то всегда очень точно… я хотела быть как они, но у меня не выйдет.
— К счастью.
Шпилек в прическе больше не осталось, и голова сделалась легкой, чужой. Лихослав разбирал волосы по прядям, и каждую пропускал меж пальцев.
— Почему ты не сказал…
— О чем?
— О том, что тебе плохо…
— Думал, получится перетерпеть… и получалось… тебе надо уехать.
— Куда?
— Не знаю… к матери? Тебя ведь приглашали в гости…
— О да… Приглашали, только все равно подозреваю, что мне особо не обрадуются…
— Кто?
— Эльфы.
— Какое тебе дело до эльфов? — он вытягивал прядь за прядью, и становилось легче. Отступила дурнота, и слезы ушли, и страх непонятный.
Раздражение.
— Не знаю. Никакого, наверное… и мы можем вместе отправиться.
Лихослав покачал головой.
— Не поедешь?
— Извини, Евушка, но… ты права, Бес иногда говорит такие вещи, о которых сам думать не хочешь. И не будешь. Я должен во всем разобраться.
Он разжал руки.
— Как ты?
— Лучше.
— Хорошо… я велю, чтобы молока горячего принесли. Хочешь?
И Евдокия поняла, что не просто хочет, она умрет, если немедля не получит кружку горячего молока с медом.
— С медом…
— Липовым?
— Конечно… молоко если пить, то только с липовым… и… и еще хлеба… с солью.
Лихо кивнул, но уходить не спешил, встал на колени, собрал шпильки, подкинул их на ладони.
— Евушка, скажи, а где ты их взяла?
Смотреть на шпильки было неприятно, Евдокия пыталась вспомнить, но почему‑то не могла…
— Там… наверное… в шкатулке.
— В шкатулке, значит… и шкатулка…
Стоит на столике, глянцевая, нарядная.
— Евушка… ты переживешь день — другой без шпилек? И без шкатулки твоей?
Переживет.
— Думаешь, что…
— Думаю, — согласился Лихослав. — Ты и вправду вела себя немного…
— Странно?
— Да. Я бы сказал, пугающе странно, — он поднялся и вновь коснулся волос. — Ложись. Я упакую, пускай Себастьян взглянет. А к ведьмаку мы и вправду завтра сходим, ладно?
Да.
Завтра. Утром. Утро уже близко, и когда наступит, то все наладится.
— Я скоро, — пообещал Лихослав.
И ушел.
Сонная горничная помогла снять платье, и корсет расшнуровала, помогла избавиться от влажной, пропотевшей рубашки. Она зевала и терла глаза…
…молока принесла горячего, с медом.
Горбушку ржаного хлеба, густо посыпанную солью. И Евдокия, сидя на кровати, собирала крупные крупицы, клала под язык, закрывала глаза…
…шпильки…
…шпильки в волосы, мелочь из тех, дамских, которых у любой девицы множество…
…и если бы прокляты были, сразу стало бы плохо… или нет?
…отсроченное проклятье…
…или не проклятье, но заклятье на помутившийся разум…
…Евдокия слышала…
Она допила молоко, и забралась в постель, на душноватую, но такую уютную перину, накрылась пуховым одеялом… Лихо вернется… скоро совсем вернется… а она, Евдокия, поспит… или нет, не будет спать, но лишь полежит с закрытыми глазами.
Недолго.
Всего секунду… или две… и сон был ярким, с липовым ароматом, с гудением ветра в ветвях вековых деревьев, с небом, расшитым серебряной нитью, а оттого неправдоподобно ярким. И глядеть на такое было больно, потому Евдокия глядела под ноги.
На поля первоцветов.
Одуванчики золотыми монетами по траве рассыпаны… и желтые яркие пятна куриной слепоты…
— Осторожней, — сказал кто‑то, стоявший за спиной, — не трогай эти цветы, если хочешь видеть.
— Что видеть?
Ветер крепчал, еще немного, и повалит деревья, или же подхватит Евдокию, будто бы она пушинка, понесет за тридевять земель да во дворец к королевичу, чтоб как в сказке. От этакой фантазии самой смешно стало: на кой Евдокии королевич, когда у нее Лихо имеется?
— Не забывай об этом, — велел тот же голос, и Евдокия обернулась.
Никого?
— Не забывай…
— Не забуду, — пообещала она, разжимая кулак, и ветер подхватил глянцевые лепестки курослепа, поднял, закружил в вихре — танце… когда она сорвать успела‑то?
Шпильки жгли ладонь.
А с виду обыкновенные, тоненькие, легонькие. С синими головками из аквамарина, да только в лунном свете камень глядится почти черным.
Но ведь жгут.
И острые… тянет потрогать, да только Лихо знает, сколь опасно поддаваться таким вот желаниям. И шпильки ссыпает на стол.
Наклоняется.
Вдыхает запах…
Металл. И волос… Евдокиины волосы пахнут по — особенному, жасмином и еще сухими осенними листьями. Медом — самую малость. Молоком. Хлебом.
Нет, не то ему…
…запахи сползали один за другим.
Снова металл.
И на сей раз тяжелая вонь, каковая бывает на скотобойнях. От этого смрада губа подымается, а в горле клокочет ярость. Но Лихо справляется, и с нею, и с собой…
…шпильки из шкатулки.
…шкатулка на столике резном, том, который матушка в подарок прислала…
…столик Евдокии нравился. На нем чудесно помещались и шкатулка вот эта, и зеркальце круглое на подставке, и склянки — скляночки, множество склянок — скляночек… но в ту комнату чужие не заглядывают. И значит, из своих кто‑то.
Лихо открыл глаза и отстранился.
— Панна Евдокия спят ужо, — сказала горничная и зевнула. Сонная девица. Даже днем сонная, дебеловатая… сестры прислали с рекомендациями, а Лихо и принял… тогда‑то казалось, что помочь хотят.
Наивный.
Родня…
— Иди сюда, — велел он. — Садись.
Села.
Широкоплеча, по — мужски. Круглолица. Некрасива, пожалуй, но это не недостаток для горничной. Что Евдокия о ней говорила?
Ничего, пожалуй. Не жаловалась, но…
— Ты взяла шпильки?
Молчит. Смотрит коровьим безропотным взором.
— Как тебя зовут?
— Геля…
— Послушай, Геля… скажи, пожалуйста, ты брала шпильки?
— Брала. Как есть, барин. Брала.
— Когда?
— Сення. Аккурат как барыню наряжала, так и брала… она ишшо сама велела, возьми, мол, Геля те самые шпилечки, которые синенькие… а так бы я…
Издевается?
Или на самом деле настолько глупа?
Сидит, выпялилась, и не моргает даже. Глаза темные. Ресницы светлые, длинные… и выражение лица такое, что поневоле глаза отвести охота.
— Геля, — Лихо наклонился, вдохнул запах девки.
Сено. И молоко.
И еще пыль… тело распаренное, сонное… моется она нечасто, верно, полагая сие делом дурным, а волосы пивом полощет, оттого и прицепился к ней особый дух, который бывает у пива и свежего хлеба, чуть кисловатый, но приятный.
— Послушай, Геля… я не хочу привлекать к этому делу полицию. Но если ты станешь упрямиться, то позову.
— Навошта?
— Потому как кто‑то взял вот эти шпильки, — Лихо коснулся их когтем. — И отнес к колдовке, а та навела порчу. И моей жене теперь дурно… она и умереть может…
— Неа, не помре, — с уверенностью заявила Геля. — Бабка казала, это с ее болезня выходит.
— Какая болезнь?
— Так вестимо какая, — Геля шмыгнула носом. — Женская. Когда болезня выходит, то оно завсегда тяжко. Я в тым годе как слегла с лихоманкою, так тая все косточки крутила. Я уж думала, конец настанеть. Ан нет, болезня вышла, и усе.
Лихо заставил себя сидеть спокойно.
Улыбаться.
Правда, улыбка вышла не такой, потому как Геля отшатнулась и перекрестилась даже.
— Богами всеми клянуся! — залопотала она. — Не мыслила я дурного! Подмогчи хотела! Барыня вон скока замужем, а деток нету и нету… она‑то гордая, молчит… мне маменька ишшо казала, что городския все занадто гордыя. А от гордости одни беды…
— И от глупости.
Геля не услышала, а быть может, и не поняла.
— Я‑то сразу смекнула, что у нее болезня во внутрях живет. И надобно болезню тую прогнать. Тогда и ребеночек будет.
— Моя жена…
— Несчастливая, барин. Вы хоть меня прямо туточки покусайтя, не боюся я правду говорить. Баба без ребятеночка счастливою быть не могет. А что молчала, так, небось, боялася, что сошлете ее…
— Куда?
— В монастырь. У благородных же ж так водится, коль женка не по нраву, то в монастырю ее… и про то все говорят…
…этим «всем» Лихо сумеет языки укоротить. Только сначала с одной дурой разберется.
— А мне хозяйку жалко, аж прям до слез! А туточки одна бабка есть, которая женские все болезни на раз выводит…
…подсунули.
…сначала девку безмозглую… навряд ли сестрицы по злому умыслу действовали, скорее уж шутка дурная, дать негодную прислугу, будто бы любезность оказав.
Будет им и ответная любезность.
Хватит. Наигрался Лихослав в родственную любовь.
— …и я, значится, к ней… а она мне и велела, чтоб вещь какую принесла, которую барыня носит часто… и чашку, с которое она пила… и недорого взяла‑то! Всего‑то три сребня! Мне для барыни не жалко…
— Писать умеешь? — перебил Лихослав.
— Ученая я, — важно кивнула Геля.
— Ученая, только недоученная. Садись. И пиши.
— Чего писать?
— Всего. Тьфу, все пиши. Кто говорил про эту бабку, где она живет, как выглядит, что ты ей носила, что она с этим делала… пиши все, что помнишь, Геля.
— Так то долго выйдет, — Гелины бровки сдвинулись над переносицей.
— А я не спешу, — Лихо оскалился. — Так что пиши, Геля… пиши…
Евдокия спала, и сон ее был спокоен.
Лихослав присел на кровать, отбросил со лба влажную прядку… глупость какая… монастырь… и прав Себастьян, что надобно поговорить…
Геля писала, медленно, старательно выводя каждую букву, и эта старательность, и сама она, сгорбившаяся над листом бумаги, несказанно злили Лихослава.
Русая коса.
Серая лента.
Серое платье, измятое, в пятнах… личная горничная? Эту девку дальше кухни выпускать нельзя. Сидит, горбится, мнет перо, и по бумаге расползаются чернильные кляксы, которые Геля, вздыхая и причитая, пытается платочком затереть.
А платочек беленький… чей?
И спрашивать не стоит.
— Вот, — с тяжким вздохом сказала Геля. — Усе. Написала. Як яно было, так и написала… только ж вы, барин, зазря злуетеся. Бабка‑то справная. Мне ее ре — ко — мы — до — ва‑ли.
Сложное слово Геля произнесла по слогам.
— Она так сразу и сказала, что, мол, болезня будет барыню крутить, а после и выйдет вся. И станет хорошо…
— Геля, — Лихо сгреб листы.
— Че?
— Ступай…
— Куды?
— К себе. И больше не показывайся мне на глаза.
Выставить бы ее… но нельзя.
Свидетель. А свидетелей лучше держать под присмотром… ничего, потом, позже Лихо разберется и с Гелей, и с прочею прислугой… и с сестрицами…
Р — родственнички, чтоб их.
— Я скоро вернусь, — Лихо сказал это шепотом, зная, что не будет услышан. — Обязательно… но нельзя упустить момент. Бес прав… и поможет… а ты спи, ладно?
Во сне она улыбалась.
И тревога, не отпускавшая последние дни, отступила.
— Проснешься, и все будет хорошо…
Лихо поцеловал ее в горячую щеку, и ресницы дрогнули, показалось — сейчас откроет глаза, сонно потянется… или спросит, куда это он, Лихо, заполночь собрался…
Туда.
Все одно ведь не спится… и не ему одному… бабка уйдет, а ведь неспроста она объявилась, не случайно Гелю — дуру на нее вывели, и потому спешить надобно.
Он сложил и листы, и шпильки в конверт из плотной бумаги, запечатал сургучом. Подписал. Вся его натура требовала немедля бросить эту бумажную возню, ведь стынет след, того и гляди уйдет добыча, но Лихо заставил себя отложить перо.
Вытер руки.
Сыпанул на конверт мелкого речного песка. Каждое малое действие давалось с трудом, и желтый глаз луны вновь пробуждал голоса.
Шепот ветра.
И шелест мертвого рогоза, скрип старых сосен, от которых остались лишь перекрученные стволы да ветви… и всхлипы болота. Оно многоголосо, то урчит внутри него нечто, то вздыхает, то с шумом подымаются пузыри газа…
Переоделся.
Собственная одежда показалась неудобной, тесной.
Зачем она нужна?
Достаточно пожелать и… луна поможет. Висит низко, руку протяни и сорвется гесперидовым яблоком, которое только и спрятать за пазуху, утащить…
Пуговица за пуговицей.
Негнущимися пальцами. Воротничок поправить.
Перевязь палаша. Прикосновение к холодной стали причиняет боль, но она скоротечна.
…люди слабы. Им нужно оружие, чтобы почувствовать себя хоть сколько бы сильней. А Лихо и без палаша обойдется… к чему сталь, когда клыки есть?
В черном зеркале лицо размыто, Лихо не способен выдержать собственный взгляд.
…медлит, медлит…
…думает, что позволят ему уйти. Глупец…
Он отступил.
Развернулся.
Конверт взял, чувствуя сквозь бумагу горячие угли проклятых булавок. А наваждение отступило. Он, Лихослав, будущий князь Вевельский, человек.
В какой‑то мере.
Из дому вышел, пошатываясь. Коня седлал сам, пусть бы и проснувшийся конюх суетился, лез под руку, приговаривая, что ежели пан Лихослав обождет…
…он больше не имел сил ждать.
И взлетев на конскую спину, хлестанул по вороному боку.
— П — шел!
Жеребец, хороший, злой, с места в галоп взял, да понес по ночному Познаньску, только мостовая под копытами заискрила.
Хорошо.
Ветер соленый в лицо.
И глотать, пить бы, напиться допьяна, чтобы вынес, вычистил все дурное, которое вновь ожило… нельзя отвлекаться, ни на луну, ни на шепоток в голове… пройдет… всегда проходит…
Надобно до цели добраться…
Себастьянова хозяйка, панна Вильгельмина, открыла не сразу и была недовольна, но увидев Лихослава, смягчилась.
— Нет его, — ответила она, кутаясь в меховой халат розового колеру. — Нарочным вызвали… так даже переодеваться не стал, сразу уехал… передать что?
— Передайте, — человеческая речь давалась с немалым трудом.
И Лихо протянул конверт.
— Скажите… на словах… что я сам… к ней… сам к ней наведаюсь…
Панна Вильгельмина конверт взяла не без опаски, и на Лихослава она столь старательно не смотрела, что ему совестно сделалось.
Ночь на дворе, а ему неймется… мечется, безумец, приличных женщин пугает… и если Себастьяна вызвали, стало быть в управе знают куда…
…до управы далеко.
…а там могут и не сказать… и что толку ловить тень хвостатую, когда самому можно? Геля ведь написала, где искать ту любезную бабку, которая шпильки заговорила.
Недалеко.
Конь хрипит, пляшет, роняет пену на мостовую. И плеть не нужна, только повод ослабь и полетит, понесется, норовя при том седока неудобного сбросить.
Лихо удержится.
Даром что ли улан?
Он и коня осадит на неприметной тихой улочке, которую именуют Пекарниковой, пусть бы и пекари здесь никогда‑то не жили. Однако в воздухе витает сладковатый аромат ванили, имбиря и корицы. Смутно поблескивают витрины кондитерских лавок.
А фонари не горят.
Вместо них — луна, размноженная стеклами, близкая такая, яркая.
Лихослав бросил коня у ближайшей ограды, зацепив повод за острый штырь.
Искомый дом был рядом.
Небольшой. Неряшливый. Не иначе как чудом затесавшийся меж строений куда более приличного обличья. На левом вывеска бакалейной лавки, на правом — ножницы. Домик отстоит от улицы, и прячется, кутается в тени, что старуха — нищенка в тряпье.
Ставни заколочены.
А дверь открыта. И тянет из нее дымом, белым, волглым. Такой рождают не печи, но колдовкины котлы. И зверь внутри унимается.
Нельзя туда идти.
Не одному. Себастьян… или хотя бы околотничий… хоть кто‑то, кто станет свидетелем, что он, Лихослав, будущий князь Вевельский, не причастен к тому…
К чему?
К запаху крови, сладкому, одуряющему… так пахло на конюшне, когда он, Лихо, очнулся… и здесь тот же аромат, но он крепче.
Ярче.
— Заходи, Лихослав, — донеслось из‑за двери, и та беззвучно отворилась. — Гостем будешь…
Хотел отступить, как то подсказывал разум, но шагнул навстречу и голосу, и темному провалу.
— Что ж ты, княжич, такой упрямый‑то? — на ладони Богуславы загорелся болотный огонек. — Сам не живешь… другим не даешь…
— Ты?
— Я.
От нее пахло болотом, трясиной, которая живет под зеленым покровом болотное травы, глядится землею, но ступи — провалишься, ухнешь в черную ледяную воду.
— Зачем?
— Мешаешь, — Богуслава тронула огонек, и тот вырос.
Мертвое пламя плясало на ладони, и отсветы его ложились на Богуславино лицо.
— Кому?
— Всем, Лихо… мешаешь брату… он так хочет стать князем…
— А ты княжной?
Пламя раскрывалось. Оно наполняло комнатушку, снимая покровы темноты, один за другим.
Потолок.
Вязанки трав, запаха которых он не ощущает.
Стол. Стулья.
Склянки… на полу и стекло трещит под сапогом… останутся следы, и на крови тоже. В мертвом огне кровь выглядит черной.
— Согласись, из меня вышла бы куда лучшая княжна, чем из твоей…
— Ты ее прокляла?
— Нет, — Богуслава покачала головой. — Она.
Тело в углу, скрюченное, переломанное, на которое и смотреть‑то больно.
— Проклятье?
— Небольшое… не переживай, ничего страшного с твоей женой не будет… голова немного поболит и забудется… все забудется, Лихо, — она протянула руку, но Лихослав не позволил прикоснуться. — У людей ведь короткая память…
— Ты уже не человек.
— В какой‑то мере…
— И не Богуслава…
— Тоже в какой‑то мере, — она позволила себе улыбнуться.
— Зачем было убивать эту… женщину?
— Жалеешь? — она склонила голову. — Такие как ты не способны на жалость… а она ее не достойна. Она ведь прокляла твою жену… по моей просьбе… и знаешь, Евдокия ведь не первая. Она часто бралась за запретную волшбу… порчу навести… нет, не смертельную. За это и посадить могут, а она была трусовата. Но по мелочи… вот на головную боль… на неудачу… на отворот… на слабость… на то, чтоб девка плод скинула… или сама усохла. Красоту ведь легко забрать… она говорила, что нет на ней греха, те, кто с просьбами приходили, брали его на свою душу. Что они кого иного нашли бы, но ведь это ложь…
— Не нашли бы?
— Не о том, Лихо, нашли бы… человек тьму везде найдет. Или тьма человека. Она заслужила свою смерть. Что до остального, то…
— Обвинят меня.
— Тебя… не ты ли пришел в ярость, узнав, что эта женщина прокляла твою жену? И не ты ли понесся к ней посреди ночи? Не твой ли конь стоит у привязи… не твои ли следы останутся на полу… ты, конечно, расскажешь, что все было не так… если сумеешь.
Колдовка вдруг оказалась рядом, плеснула в лицо зеленым светом.
— Чтобы рассказать, нужно уметь говорить…
Холодные пальцы коснулись шеи, размыкая серебряную ленту ошейника.
— Что ты…
— Ничего, Лихо… просто помогаю тебе понять, что ты — не человек…
— Я…
Он отступил, держась за шею.
— Я тебя не держу, — та, которая притворялась Богуславой, смеялась. — Иди, Лихослав… иди, если можешь. Возвращайся домой…
…домой…
— …быть может, хоть так поймешь, где твой настоящий дом…
…дом.
…Евдокия…
…хлеб и молоко…
….луна в витринах… множество лун, само небо, многоглазый зверь, смотрит на Лихо, щерится звездами. И тянет упасть на брюхо, признавая собственную слабость, никчемность.
Князь?
Что ему до титулов… что ему до людей, когда небо касается загривка, шерсть тревожит… и ветер пахнет кострами, далекими, теми, что жгут за городом…
— Беги, — донеслось в спину. — Торопись, волчий князь… подданные уже заждались.
Камень и железо.
Люди.
И город, который того и гляди, сомкнет зубы свои, переломит хребет. Прочь надобно…
…нельзя.
…дома ждут…
Дома. В серых простынях болот, на которых шитыми узорами лежат нити клюквы, и кислые прошлогодние ягоды еще остались… Лихо собирал их. Раньше.
Он остановился у старого особняка, который был смутно знаком, и Лихо даже шагнул к кованой узорчатой ограде, но тотчас отступил. Низкая луна звала.
Прочь из города.
От людей.
Туда, где его, Лихо, и вправду ждут… и слышался, подгоняя плетью, чей‑то смех развеселый.
— Хороший песик… — сказала луна.
А может, и не она, потому как Лихо знал, что луна не способна говорить.
— Иди ко мне… иди…
Придет.
Чтобы вцепиться в глотку и заставить замолчать. Быть может, тогда у него выйдет вернуться.
Глава 9. О сложностях супружеской жизни и иных, занимательных вещах
Богуслава очнулась уже в экипаже и, поморщившись, тронула виски. Голова ныла, а пальцы были испачканы чем‑то черным… Богуслава коснулась их губами.
Кровь.
Она прекрасно помнила ее вкус, и запах, и цвет… и силу, которая была в крови и только в крови. Эту силу легко было взять тем, кого Боги наделили даром, пусть бы и люди полагали этот дар проклятым. Богуславе не было дела ни до людей, ни до богов.
Ее ведь даром обошли.
И потом, после, обманули… поманили властью и бессмертием, но бросили… и брошенной она себя ощущала, пока однажды не получила письмо.
Белый лист.
И запах полыни. Флакончик красного стекла. Две капли в вино и станет легче… ей обещали.
О нет, конечно, она не сразу решилась.
Это ведь безумие… так она себе говорила, и молилась… молилась и снова молилась, глядела на все лики Иржены, пытаясь найти средь них тот, который поймет.
Подскажет.
Защитит, ведь она, Богуслава, так нуждается в защите и подсказке… но храмовые статуи оставались статуями, а жрицы, принимая подношения, кивали… они походили на жирных пулярок, столь же преисполненные важности, неторопливые, с курлыкающими голосами и крохотными глазенками. Глазенки эти поблескивали, и Богуслава не могла отрешиться от мыслей, что блестят они не сами по себе, но отраженным светом ее драгоценностей.
И все‑таки голова ныла преотвратно… а флакон почти опустел.
Доставят новый.
Она обещала.
Сделка… честная сделка… в прошлый раз Богуславу обманули, но нынешний… нет, все изменится. Все уже изменилось… и вытащив флакон, скользкий, грязный отчего‑то, Богуслава зубами впилась в пробку.
…в тот день ей было особенно плохо.
…она чувствовала себя такой бессильной… и муж, вместо того, чтобы поддержать, загулял, актриску завел… Богуслава видела ее, никчемное создание, у которого из достоинств лишь грудь да голубые глазищи, по малейшему взмаху ресниц наполнявшиеся слезами…
Актриска умела вздыхать.
И руки заламывать.
А Богуслава подумала, что неплохо было бы ей шею заломать, да так, чтобы шейка эта, белоснежная, тонюсенькая, перехваченная широкой лентой фермуара, треснула. Она почти услышала звук, сладкий хруст ломающихся костей. Рот наполнился кисловатой слюной…
Не слюной — кровью.
Такой обманчиво сладкой…
Тогда Богуслава сдержалась. И вернулась домой. Достала флакон, который не раз и не два подумывала выбросить, однако же оставляла… две капли в бокал вина. И горничную прочь выставить… чересчур она любопытная…
Услужлива.
От того вина вдруг стало легко — легко, как некогда в детстве, когда Богуслава представляла себе, что у нее есть крылья. И рассмеявшись от счастья, которое ее переполняло, она закружилась по комнате.
— Хочешь, она умрет? — раздался шепот рядом.
Богуслава обернулась.
Нет никого.
— Хочешь… она умрет…
— Кто ты?
— Ты.
— Нет.
— Не совсем.
— Покажись…
— Подойди к зеркалу.
У Богуславы было много зеркал, но она выбрала подаренное отцом, круглое, в полторы сажени размахом, закрепленное в серебряной раме. Это зеркало особенно любило Богуславу. И показало ее же…
— Смеешься? — захотелось ударить отражение, и так, чтобы треснула зеркальная гладь. Но та, которая стояла по другую сторону, покачала головой:
— Нет. Здесь я — это ты… и если ты захочешь, я уйду.
— Лжешь.
— Зачем?
— Не знаю, — Богуслава не способна была устоять на месте. Она расхаживала, едва не путаясь в юбках, раздражаясь от этого. — Ты мне скажи, зачем…
— Хочу предложить сделку, — отражение наблюдало за Богуславой. Его губы шевелились, но шепоток раздавался в ушах.
Отчетливый.
Чужой.
— Неужели?
Богуслава остановилась у окна и повернулась к зеркалу спиной, но долго не выдержала, она ощущала на себе чужой внимательный взгляд.
— Я тебе нужна, — сказала она той, имени которой пока не знала.
— А я тебе, — согласилось отражение. — И едва ли не больше, чем ты мне… видишь ли, в этом городе полно девиц, которые мечтают… о чем только не мечтают девицы… о красоте, богатстве… о парне, который заглядывается на подружку… я могу дать многое…
— Красота у меня есть. Богатства хватает… парень… — Богуслава фыркнула. — Что ты мне можешь предложить?
— Жизнь, — отражение больше не улыбалось. — Ты ведь чувствуешь, как она утекает? Вода в руке. Ты сжимаешь пальцы, пытаешься удержать ее, а она все одно просачивается… капля за каплей… знаешь почему?
— Демон?
— Он выел твою душу… и да, ты можешь попытаться спастись. Уйти в монастырь. Запереться в келье, дать обеты и остаток никчемной жизнь посвятить молитвам. Раны начнут заживать. Не сразу. Год или два… десять… двадцать… однажды ты поймешь, что избавилась от того… прикосновения. Но сумеешь ли вернуться? И кем? Никому не нужною старухой, которая забыла обо всем, кроме молитв?
Богуслава стиснула кулаки.
— Я могу дать другое лекарство.
— Это? — Богуслава коснулась флакона, который стоял тут же, на туалетном столике. — Что в нем?
— Какая разница, если это помогает?
Пожалуй, и вправду никакой.
Но как долго будет длиться эта помощь?
— Долго, — отражение усмехнулось. — Я, в отличие от матушки, людьми не разбрасываюсь…
Богуслава ей не поверила.
После демона сложно верить кому‑то, но…
— Не спеши… подумай… прочувствуй… мир ведь стал ярче. После демона он должен был… измениться, верно? Я видела, каково это… выцветают краски, радость уходит. И каждый новый день ничем не лучше предыдущего… ты пытаешься жить, как‑то, по привычке, но не выходит… без руки жить можно. Без ноги… ослепни, останутся звуки и запахи. Оглохни — сохранишь краски… а у тебя ничего не осталось.
Богуслава зажала бы уши, чтобы не слышать вкрадчивого этого голоса, но откуда‑то знала — не спасет. Да и правду говорила та, которая…
…она ушла, оставив Богуславу наедине с флаконом и зеркалами.
Мыслями.
Чашкой кофею, который горничная подала с поклоном, думая, будто бы этот поклон скроет усмешку. Треклятая девка знала и про Велеслава, и про актриску его… и про то, что княжич Вевельский не только до актрисок снисходит, небось, успел уже приобнять, сказать, до чего девка миловидна… дать надежду… этакие легко поддаются на надежду.
Да и не только они… надежда — лучшая приманка.
Но кофий вновь был горек, а шоколад — сладок. И роза пахла розой… и лишь наглая девка раздражала… если та, которая в зеркале, попросит жертву, то Богуслава, пожалуй, согласится.
И отдаст ей горничную.
— На сегодня можешь быть свободна, — сказала Богуслава.
Колдовка вернулась спустя три дня, когда Богуслава уже почти отчаялась. Нет, у нее был флакон, но… он ведь такой крохотный. Даже если принимать зелье раз в три дня, то как надолго его хватит?
Месяц?
Два?
Год? Год жизни, а что потом…
— Я согласна, — сказала Богуслава отражению в зеркале. — Слышишь, я согласна!
— Ты не знаешь, чего я хочу.
— Не важно… я… я понимаю… я ведь не смогу без этого, да?
— Не сможешь, — согласилось отражение. Сегодня оно было более темным и каким‑то размытым, точно смотрелась Богуслава не в зеркало, но в грязную болотную воду.
— Значит, я буду от тебя зависеть… и если ты вдруг решишь, что я тебе больше не нужна… я ничего не смогу сделать. А раз так, то к чему эти игры… я понимаю… и принимаю твои условия. Я… хочу жить. Здесь и сейчас… не старухой… не в монастыре, ты права, монастыри не для меня… я… я ведь княжна…
— Княгиня. Будешь.
— Буду ли…
— Будешь, — отражение качнулось, и на мгновенье Богуславе показалась, что зеркало прорвется рыбьим пузырем, выплеснув болотную воду прямо на ковер. — Мне нужна своя княгиня… красивая княгиня… яркая… женщина — свеча, к которой полетят глупые мотыльки…
Ее голос звучал уже не в ушах, в голове.
— Ты красива… а станешь еще более красивой… притягательной… и не найдется мужчины, который способен устоять перед тобой.
— Зачем это тебе?
— Месть. И власть. Сила… я ведь тоже хочу жить… не там, где сейчас живу. Монастырь, Богуслава, это не самое худшее, что может приключиться в жизни.
И Богуслава поверила.
Но… это не значит, что она пересмотрит свое решение.
— Не думай обо мне, Богуслава… для начала займемся твоими бедами…
…и актриска умерла.
…Богуслава видела эту смерть. Она выскользнула из дому, и никто из дворни не заметил Богуславу, как и было обещано… извозчик вмиг домчал до площади… актриску Велеслав устроил неплохо, снял ей квартирку в приличном доме…
Пять этажей.
И зимний сад на крыше… она и вышла в этот зимний сад, а затем и на крышу. К самому краю… и шагнула, руки раскинув. Летела.
Упала.
Разбилась. Богуслава зажмурилась за мгновенье до удара, не потому, что не желала видеть его, напротив, она хотела слышать, еще дома она дрожала, предвкушая этот сладкий звук…
Не обманулась.
Домой она вернулась счастливая и этого счастья хватило на несколько дней…
…давно это было…
…три флакона тому… Богуслава и сама не заметила, как стала отмерять время не часами и минутами, но именно флаконами.
Каплями темно — рубинового колера, которые окрашивали вино в темные тона. И во вкусе появлялась такая характерная горечь… Богуслава старалась пить это вино неспешно, с трудом удерживаясь от того, чтобы не подобрать капли, что оставались на дне бокала.
Это ведь несколько секунд ее, Богуславы, жизни…
…экипаж остановился. И Богуслава не без сожаления вышла, тело еще было немного чужим, неподатливым. Всегда по возвращении Богуславе приходилось наново привыкать к нему, такому… неприятному… тяжелому… и еще одежда эта…
— Держи, — она бросила извозчику сребень, не сомневаясь, что монету он поймает, а после и не вспомнит, откуда она взялась.
Никогда ведь не вспоминали.
И к лучшему…
Она дернула ленты, испытывая преогромное желание содрать неудобную шляпку, а следом за ней — и шпильки из волос вырвать… мелькнуло смутное воспоминание, что‑то такое, со шпильками связанное… и с колдовкой, которая жила на окраине… склочная старуха, способная лишь ныть да жаловаться. Ко всему близость смерти заставила ее о душе думать… а душа давненько заложена и перезаложена…
И Богуслава от этих воспоминаний отмахнулась: ни к чему ей ни лишние знания, ни лишние печали.
Да и некогда стало в своей — чужой памяти копаться.
— Где ты была? — Велеслав выступил из сумрака.
Снова пьян.
И зол.
Бестолковый… воображает себя сильным, а на самом деле слаб, но так даже проще… сильный супруг мешал бы, а этот…
— Я же не спрашиваю, где бываешь ты, — Богуслава бросила шляпку на столик.
…а перчаток жаль, хорошие, из тонкой лайки, Богуслава только — только привыкла к ним. В последнее время ей тяжело приходится с одеждой, уж больно та мешает.
— Прекрати! — Велеслав заступил дорогу.
Наклонился, дыхнув в лицо перегаром.
За руку схватил.
— Отпусти, — Богуслава не испугалась, напротив, она замерла, предвкушая…
…а ведь он сам боится.
…у страха потемневшие глаза.
…острый запах алкоголя, который дает супругу иллюзию смелости.
…дрожащая жила на шее, перетянутой жесткой петлей галстука.
— Ты… ты… — он не выдерживает прямого взгляда и не отпускает, отталкивает Богуславу от себя. — Отродье… тьмы… завтра же… подам… жалобу… пусть разбираются… где ты по ночам шляешься… и чего творишь…
— Глупый, — на запястье остались красные следы от его пальцев. И Богуслава потрогала их. — Чего ты боишься?
— Ничего я не боюсь!
— Неужели?
Она протянула руку, но Велеслав не позволил коснуться себя, попятился, едва не сбив столик, тот самый, со шляпкой.
— Ничего не боишься… ты напишешь донос… и его рассмотрят… полагаю, быстро рассмотрят… особенно, если ты к братцу обратишься. Себастьян ведь не откажет в помощи… он меня ненавидит.
Богуслава отступала к лестнице.
Шаг за шагом, на цыпочках, и юбки приподняла, чтобы видны были и туфельки ее, некогда светлые, и ноги стройные… не хуже, чем у актриски…
— Он ухватится за такой шанс… и я отправлюсь в лечебницу. Или в монастырь.
Велеслав смотрел на эти ноги.
— Меня это опечалит, но пожалуй, я утешусь тем, что твоя печаль будет столь же глубока…
Смотрел.
И дышал. Тяжело дышал… судорожно… и покачнулся, сделал шаг навстречу, но Богуслава вытянула руку.
— Не спеши, дорогой… подумай… ты ведь подписал договор, верно? И папенька мой помнит о том… о том замечательном пункте, который говорит, что если вдруг со мной случится какая‑нибудь неприятность… скажем, вздумаю я в монастырь уйти… или в лечебницу… то приданое вернется к нему…
— Ты…
Хриплый голос.
Злится дорогой супруг… такой забавный… такой глупый… и Богуславе нравится его дразнить. Она крутанулась на носочках, словно та балеринка, которая была после актриски… тщедушное немочное создание… никто не удивился, когда она заболела…
…чахотка случается со всеми.
А балеринки еще и питаются плохо, фигуру блюдут. Будто бы там было, что блюсти.
— Я, дорогой, всего лишь я… я буду в монастыре, папенька при деньгах… с монастырем он, пожалуй, поделится… конечно, поделится… полмиллиона — хорошее приданое для Вотановой невесты… а четыре с половиной папеньке отойдут. Прямая выгода.
Шаг в сторону.
И навстречу.
На сей раз супруг не ускользнул, отшатнулся только, когда острые коготки Богуславы коснулись щеки.
— Не бойся, дорогой. Я тебя не трону. Мне ведь не хочется в монастырь. А ты привык к нынешней жизни… я ведь подписываю чеки, не спрашивая, куда уходят деньги… я терплю твои попойки…
Она гладила Велеслава по голове, перебирала пряди волос, жирноватые от бриллиантина, пахнущие кельнской водой и дешевыми пошлыми духами… мог бы хотя бы ванну принять.
Но ванна — слишком сложно для будущего князя Вевельского.
— …я не мешаю тебе заводить любовниц…
— Только почему‑то они умирают…
Он попытался отстраниться, но запахи, близость мужчины неожиданно взбудоражили Богуславу, и мужа она не отпустила, прильнула к груди, царапнула шею.
— Разве я в том виновата? Выбирай девок покрепче…
— Выберу, не сомневайся…
— Не сомневаюсь. Велеслав, если ты хочешь разговора, — она поднялась на цыпочки и теперь шептала в ухо, касаясь губами его, дразня близостью, на которую супруг отзывался, пусть бы и сам ненавидел себя за эту слабость. — То мы поговорим… откровенно… мне безразличны твои увлечения… а взамен я прошу лишь не обращать внимания на… мои слабости… мы вполне можем ужиться. Более того…
Она лизнула его во влажную щеку и закрыла глаза, наслаждаясь вкусом.
Кровь была бы слаще… но не время, не сейчас…
— Более того… я помогу тебе стать князем… ты же желаешь избавиться от братца, верно? Но та выходка с лошадью — глупость, Велеслав… детская выходка…
Его сердце колотилось, что сумасшедшее.
— Если бы ты посоветовался со мной…
— Ты…
— Помогла бы…
— Я не хочу, чтобы он умер…
Какая умиляющая наивность… но запах вина опьяняет и Богуславу…
— Он мой брат. Я люблю его…
— Он не умрет, — с чистым сердцем пообещала Богуслава. — Он просто исчезнет… уйдет туда, где самое место таким, как он…
— А купчиха?
Теперь страх сменился надеждой, и Богуслава с трудом удержалась от того, чтобы не рассмеяться: и это женщин называют ветреными? Не так давно супруг кричал, грозился расследованием, а теперь смотрит, ожидая, что Богуслава одним взмахом руки решит все его проблемы.
На его проблемы ей плевать.
Но есть общие…
— Она тоже уйдет. В монастырь…
— Когда?
— Скоро, дорогой… не надо спешить…
…колдовку найдут не раньше, чем дня через два.
…тогда же панна Вильгельмина вспомнит о письме, которое по рассеянности и с недосыпу, не иначе, сунет в секретер, к счетам. Она будет искренне раскаиваться, просить прощения и, быть может, ее простят, потому как княжичу самому следовало проявить благоразумие и письмо сие оставить в полицейской управе.
…Геля о письме и не вспомнит, как не вспомнит о шпильках и собственных откровениях, день нынешний вовсе сотрется из ее памяти, смешавшись с днями иными.
…а Лихославов конюх преисполнится уверенности, что ехать княжич собирался до поместья.
Жаль, что Себастьяну Вевельскому нельзя просто подправить память, но у него найдутся иные неотложные дела, глядишь, и позабудет ненадолго о младшем брате.
Два дня… и Лихослав Вевельский навсегда исчезнет из Познаньска, Евдокия отправится в монастырь, Богуслава станет княжной Вевельской, а там… сколько прилично будет выждать? Месяц? Два? Старый князь донельзя раздражал ее, что взглядами, что шуточками сальными, что намеками, будто бы ему одному известна превеликая тайна Богуславы… нет, пожалуй, месяца будет достаточно.
— Ты все хорошо придумала, — Велеслав все же отстранился, — а что будет со мной?
— Ничего.
Пока ничего…
Глава 10. Где речь идет о неких странностях, которые пока кажутся мелкими, не имеющими особого значения
Аврелий Яковлевич в покойницкой гляделся этаким случайным гостем, каковой направлялся в клаб либо же иное место, более соответствующее благообразному его обличью, однако свернул не туда. И ему бы раскланяться да убраться восвояси, выкинув из памяти пренеприятнейший эпизод, а он не спешит, прохаживается по зале, тросточкой постукивает да головою вертит, не иначе, как из любопытства.
Сии мысли с легкостью читались по лицу молодого медикуса, которого только — только к госпиталю святой Бонифации приписали, и оттого был он счастлив, что в неведении своем относительно неурочного гостя, что в раздражении, возникавшем единственно от неспособности гостя оного выставить прочь.
— Примите, милейший, — Аврелий Яковлевич скинул кротовую шубу, оставшись в черном фраке, и вправду, несколько неуместном в нынешних обстоятельствах. Однако же покойники были чужды этикету, а медикус, вспыхнув маковым цветом, шубейку взял.
— Знаете, — произнес он, гордо вздернувши остренький подбородок. И реденькие усики, отпущенные, вестимо, солидности ради, вздыбились, отчего медикус сделался донельзя похожим на помойного кота.
— Не знаю, — почти благодушно ответил Аврелий Яковлевич и подал медикусу перчатки. Белые.
Театральные.
Пальцы сплел, потянулся так, что косточки захрустели… подумал было скинуть и фрак, но все ж в покойницкой было прохладно.
Аврелий Яковлевич помнил еще те времена, когда место сие располагалось в подвалах госпиталя святой Бонифации, где и стояли огромные ванны с зачарованным льдом. В лед трупы и скидывали, порой по два, по три… порой и поболе, особливо, если то были трупы бродяг, каковые надлежало передать университету. За этими хирурги спускались самолично, желая выбрать, что получше. И порой устраивали свары прямо там, не чинясь покойников, а бывало, что и до кулаков дело доходило.
Нынешние медикусы, те послабей будут. Небось, этот вот, что суетится зазря, едва из костюмчика своего не выпрыгивая, вряд ли б осмелился могильщиков нанять, чтоб принесли труп — другой — третий помимо положенных от больнички…
Аврелий Яковлевич покачал головой и взмахом руки отогнал назойливые воспоминания. Славные были времена… все времена в чем‑то да славные.
— Вы… вы…
— Из управы я, — Аврелий Яковлевич втянул тяжелый воздух, в котором мешалось множество запахов, и в совокупности своей не способных перебить один — мертвечины.
Остались в прошлом ванны со льдом.
И холодные столы.
Ныне чары лежат на самой стене, в которой и обустроили ячейки для хранения тел. Морозят их крепко, оттого и на вскрытие загодя извлекают, позволяют оттаять. Либо же вовсе не морозят, ежели труп свежий, как тот, что должны были уже доставить.
— Извините, — буркнул медикус, щипая себя за ухо. — Вы не похожи на полицейского.
— А я не полицейский.
От того тела пахло свежей кровью, и Аврелий Яковлевич вынужден был признать, что запах этот куда более соответствовал месту, нежели его собственная кельнская вода с ея сандалом и цитроновыми нотами.
— Ведьмак.
— Извините, — повторил медикус и отступил, а руки за спину спрятал, небось, кукиш крутит, наслушавшись бабьих сказок про то, что кукиш от сглаза самое верное средство.
— Извиняю, — Аврелий Яковлевич был настроен благодушно. — Покажи тела… сегодняшнее и вчерашнее заодно уж, и можешь быть свободен. Хотя нет…
Он огляделся.
— Инструмент подай. И пошли кого в управу. Пусть князя Вевельского сюда пришлют… могут и еще кого, но князя — точно…
— Х — хорошо.
Медикус отступил еще на шажок.
— Инструменты мы здесь храним, — двигался он бочком, верно, стесняясь кукиша, и все же не решаясь остаться без этакой надежной защиты. — В шкафчике… вот…
Он попытался открыть шкафчик левой рукой, но хлипкие дверцы проявили вдруг неожиданное упрямство, и медикус покосился на Аврелия Яковлевича, подозревая в том упрямстве его ведьмаковскую злую волю…
— Иди уж, — Аврелий Якволевич шевелил пальцами, разминая. Давненько ему уже не случалось вскрытий проводить. — Про князя не забудь…
А сам спиной повернулся и тоже кукиш скрутил.
Из вредности.
— Сердце красавицы… — в опустевшей зале, освещенной троицей новомодных эдиссоновских ламп, голос звучал глухо, некрасиво. И Аврелий Яковлевич замолчал… в воцарившейся тишине стало слышно, как возится ветер, где‑то там, наверху, где стояли еще древние хрупкие оконца в истлевших рамах, как стрекочут электрические сверчки, грозясь темнотой…
— Уж я тебе, — мигнувшей было лампочке Аврелий Яковлевич погрозил пальцем. И та послушно вспыхнула, загудела, точно оправдываясь.
Следовало признать, что свет, рождаемый ими, был ярким, пусть и несколько желтоватым, но для работы он подходил куда лучше газового или же свечного.
Начал Аврелий Яковлевич со свежего тела.
— Сердце красавицы… — забывшись было, начал он, но осекся. Сердца в груди как раз и не нашлось. — От же, затейник… а фрак следовало бы снять… испортится теперь. Но ничего… фрак — это по сути ерунда… многое тут ерунда, но понимать это начинаешь не сразу.
Он привычно заговорил с покойницей, которая лежала смирнехонько, тихая, некрасивая.
— Вот ты поняла? Навряд ли… о вас плохо говорить не принято, но скажи, кто скажет о тебе хорошо? То‑то и оно… впрочем, сомневаюсь я крепко, что есть тебе ныне дело до людей с их разговорами. А божий суд, говорят, справедлив…
Аврелий Яковлевич работал неспешно, в свое удовольствие, и к появлению Себастьяна с покойницей уже закончил.
— Развлекаетесь? — ненаследный князь спускался бегом.
— Да и ты, вижу, не скучаешь…
— Есть такое… с Лихо неладно.
— Зовет?
— Зовет, — Себастьяну в покойницкой было неуютно. Сразу возникали мысли о высоком, духовном… тянуло перекреститься и помолиться, просто на всякий случай, авось в милости своей Вотан и попридержит слепую жницу… или сама она отступится, потом‑то, конечно, вернется, но…
Сразу заныли старые шрамы.
— И с Евдокией…
— Завтра гляну, — Аврелий Яковлевич запустил пятерню в бороду и поскребся. — Неладно что‑то в Познаньске…
— Да я уж понял, — стол, на котором возлежали останки, аккуратненько простыночкой прикрытые, Себастьян обошел стороной. — Хреновый из вас предсказатель…
— Какой уж есть…
Простыночку ведьмак сдернул.
— Посмотри, что видишь?
— Трупы.
И весьма неприглядные, пусть и случалось Себастьяну всякого повидать, но до сих пор не сумел он привыкнуть к виду мертвых тел. Все удивительным казалось, как это так, что вот еще минуту, час или день тому жил человек, ходил, разговаривал, а вот уже его и нет, но есть груда мяса.
— Себастьянушка, ты нос не вороти, гляди хорошенько, — Аврелий Яковлевич пальцы переплел, вытянул руки так, что косточки премерзко хрустнули.
Вспомнились сразу и привычки его нехорошие, заставившие Себастьяна отступить.
— Вы… это… с оплеухами погодите.
Аврелий Яковлевич голову к плечу склонил.
— Я, может, еще не до конца здоровый… потравленный, между прочим…
Ведьмак хмыкнул.
— Трупы я вижу! Два трупа! Женских… это вот, — Себастьян вытянул палец и ткнул в замороженный, — панна Зузанна Вышковец, сваха… сорок три года. Вдовая. Сватовством занимается уж десять лет как, переняла опыт от матушки, а та… в общем, потомственная сваха. А это — Нинон… некогда была известною особой, да и теперь славы не утратила. Правда, сама уже старовата стала для работы с клиентом, но для сводни — самое оно… на нее мы давненько заглядывались…
— Что ж не брали‑то?
— Да не за что! Почтенная вдовица… живет наособицу, тихо… просто благостно. В храм вот ходит каждую неделю, свечи ставит, голубей покупает… а заодно и девчонок, которые в Познаньск за лучшей жизнью едут. Она им курсы обещает… рекомендации… место хорошее…
Нинон некогда была красива, Себастьян видел магснимки: крупная статная женщина, с копною светлых волос, с раскосыми лядащими глазами, в которых даже на снимках сохранилась этакая характерная кошачья ленца.
Нинон была из центровых, из особых, пока не завязалась с Яшкой — Соловьем… а тот уже, одуревши от любви, и полетел по красной дорожке. Банду собрал, беспредельничать начал… да в кровавом угаре много крови полиции попортил.
Но и на плахе Нинон в любви клялся, просил, чтоб передали… и перед казней письмо слезливое писал, умоляя помнить «сваво Яшаньку». Нинон, верно, помнила или хотя бы поминала недобрым словом, поелику свои десять годочков, от судейской милости перепавших, отбыла до самого распоследнего дня.
А после нашла олуха из ссыльных, оженилась да, супруга в Вотановы выси спровадив — ссыльные народец слабый, сплошь чахоточный — вернулась в Познаньск честною бабой.
Везло ей, шлендре этакой… правда, вынужден был признать Себастьян, любому везению конец приходит. И ныне от той, легендарной красоты, что Яшку с ума свела, остались лишь полные налитые губы. И пожалуй, глаза, которые Нинон подводила густо, выбиваясь из созданного кем‑то благообразного образа. Краска размазалась, смешалась с кровью, и ныне лица Нинон было не разглядеть за буро — черной маской.
— В последний раз нам удалось найти свидетеля… уже надеялись, что все…
— Помер?
— Скоропостижно… почечная колика.
— Экая незадача. Следить за здоровьем надобно.
— А то… Аврелий Яковлевич, хоть вы мне хвост оторвите, но она это заслужила… и значит, есть в жизни справедливость.
Хвост щелкнул по каменным плитам, и Себастьян поморщился. Все ж таки, плиты были, во — первых, холодными, а во — вторых, твердыми.
— Есть, — почти добродушно согласился ведьмак. — Где‑то справедливость наверняка есть… но мы не о том, Себастьянушка. Вот представь, что ты волкодлак.
Представлять себя волкодлаком Себастьяну совершенно не хотелось. Все ж воображением он обладал не в меру живым, а спать предпочитал спокойно, без кровавых кошмаров.
— И подумай… в городе этом тьма тьмущая народу… а ты выбираешь двух костлявых теток преклонного возраста…
— Не такого уж преклонного, — возразил Себастьян, обходя Нинон с другой стороны.
— Но все одно, не то, что молодая девица…
— Молодые девицы не имеют обыкновения разгуливать по ночам… хотя…
— Именно, Себастьян. Если б он хотел жрать, сожрал бы кого… посочней. Только сердце и выдрал, — Аврелий Яковлевич постучал по краю стола. — Хотел бы убить… убил бы не двоих…
— Ясненько, — Себастьян погладил хвост. — Убивал нехотя. Жрал вообще через силу…
Аврелий Яковлевич, каковой к покойникам имел куда больше расположения, полагая, что смерть сама по себе многие прегрешения списывает, хмыкнул.
— Вроде того…
— И если так, то выбрал он их неспроста…
Себастьянов хвост метался, касаясь то одного стола, то другого.
— Но ладно бы сваха… может, она ему такую жену сосватала, что я этого волкодлака первым оправдаю, когда найду…
— Смотрю, весело тебе.
— Да… Аврелий Яковлевич, сами понимаете… при моей‑то работе лучше веселиться, чем печалиться… от печали до винца зеленого короткая дорожка. А от вина до револьвера…
А у свахи лицо нетронутое… или уже тут, в покойницкой обмыть успели? Ледяное, синюшное, и будто бы не человеческое, до того перекрутила, перекосила ее гримаса боли. Хорошо, что глаза закрыты. Себастьян старался в глаза мертвецам не смотреть: мало ли, запомнят, после вернутся…
Детский страх.
Или уже взрослый? Всякое ведь случается, Себастьяну ли не знать.
— Лихо не убивал. Вторую точно не он… он сегодня со мной был.
— Всю ночь?
— Нет. Но до того с братьями и… он ведь не мог. Вы сами говорили, что пока на нем ваш ошейник, то не обернется…
— Угомонись ужо, — Аврелий Яковлевич ногой подвинул табурет и сел, тяжко вздохнул, сунул пальцы под узел галстука — бабочки, показавшегося вдруг неимоверно тугим. А ведь только — только научился сам завязывать, чтобы прилично. — Крестничек тут не при чем, хотя на него подумают… сделано так, чтобы подумали… но у крестничка пасть поширше будет. Да и зубы подлиньше… это легко доказать.
— Тогда зачем…
— Себастьянушка, не пугай старика… помнится, прежде ты посообразительней был…
— А трава позеленей, небо синьше и далее по списку.
От затрещины спасло лишь то, что Аврелий Яковлевич сидел, и вставать ему было лень. Пальцем погрозился, да только эта угроза больше не пугала.
Пугало другое.
Прав ведьмак. Доказательства нужны королевскому суду, который Лихо оправдает… скорее всего оправдает, да только кто в Познаньске поверит, будто бы убивал не волкодлак.
Убивал не этот волкодлак.
— Проклятье… — Себастьян тряхнул головой, пытаясь отделаться от липкого страха.
Толпа.
И волнения.
Король пойдет на все, чтобы их унять… а многого не потребуют… всего‑то казнь… одна жизнь за многие… хороший размен… и даже если тот, другой, продолжит убивать.
— Погоди впадать в меланхолию, — сказал Аврелий Яковлевич. — Это завсегда успеется. Найти его надобно… и на костер.
— Костры уж лет сто как отменили.
— Это они поторопились, — Аврелий Яковлевич покачал головой, сетуя на этакую неразумную поспешность. — Костер супротив матерого волкодлака — первейшее средство, а то гуманизму развели, костры не жгут, голов не секут. Вешают, чтоб их… а нам опосля бегай, лови упырье, проводи разъяснительную работу…
Тяжкий вздох увяз в каменных стенах, и ежели был здесь кто, способный посочувствовать ведьмаку, то виду не подал.
К счастью.
Все ж таки Себастьян предпочитал мертвряков, которые лежат себе спокойно, сообразно натуре.
— Ну что встал? — сам Аврелий Яковлевич поднялся, руки потирая. — Иди работай… и мне не мешай…
— Так вы ж меня…
— Знаю. В шубе, в кармане, возьми книженцию… занятная весьма.
Кожаный блокнотик явно принадлежал не Аврелию Яковлевичу, хоть и любил он всякие интересные штукенции, да навряд ли впечатлился бы алою кожей с тиснеными розанами. Да и почерк, мелкий, бисерный, принадлежал не ему.
— Подарок, — сказал ведьмак, выдвигая нижний ящик, где тоже хранился инструмент, но судя по черным коробкам, иного, не хирургического свойства. — От красавицы нашей. Подумалось, тебе интересно будет глянуть.
— Аврелий Яковлевич! Вы… вы что, взяли его с места преступления?!
— Взял.
— Это же улика!
— А то.
— Ее же в опись не внесли… и в суде не предъявить будет…
Аврелий Яковлевич вытащил черные свечи, перевязанные кружевною подвязкой — Себастьян не хотел даже думать, откуда она взялась — и произнес.
— Радуйся, бестолочь. И иди… братцу своему отпишись. Пусть сгинет на недельку — другую…
Уже поднявшись — после покойницкой червеньский воздух покажется горячим, влажным, словно пар в бане — Себастьян пролистает книжицу.
Имена.
И снова имена… женские и мужские… женских больше. И эти имена нарочито вычурные, выдуманные, но за каждым — чья‑то переломанная жизнь. Имен много, оттого уже и не кажется смерть Нинон достаточною карой.
Справедливость?
Прав был Аврелий Яковлевич, где‑то она есть, знать бы еще, где именно. Тогда б Себастьян сходил бы, поглядел… а он листает блокнотик.
И водит пальцем по именам, первые — затертые, почти исчезнувшие… а некоторые вычеркнуты. И гадай теперь, что стало с теми девушками, то ли погибли, то ли перепродала их Нинон…
А ночь того и гляди закончится, вон и небо забронзовело, плеснуло зыбким светом. Того и гляди, вынырнет из‑за горбатой крыши раскаленный шар, поползет на небо по реденьким ступеням из облаков. И вскарабкавшись, плеснет жаром щедро, от души.
Себастьян закрыл блокнот.
Не в этих именах дело… иное что‑то увидел Аврелий Яковлевич, важное, что заставило его преступить закон. А у Себастьяна в голове вот солнце, и ночь бессонная, и душный аромат чубушника, кусты которого у покойницкой разрослись особо буйно.
Надо бы поспать.
Час или два… или сколько получится, потому как на свежую голову и думается легче. Да только нет у него ни часа, ни двух.
И открыв книжицу на заломанной странице, Себастьян пробежался по именам, уже не девичьим, но…
…князь — волкодлак…
…вот как она его обозвала… князь… волкодлак… и шесть имен. Три позапрошлым месяцем. Два — прошлым… последнее — нынешнею ночью…
— Твою ж… чтоб тебе… — Себастьян облизал пересохшие губы и книжицу убрал во внутренний карман. Он вернет улику.
Позже.
Когда сумеет с этим делом разобраться… и от Лихо беду отвести.
До управы он добрался аккурат, когда каемка солнечного шара поднялась по — над тополиной аллеей. Коляска катилась по мостовой, дремал извозчик, самим видом своим дразня Себастьяна этакой недоступной ныне роскошью. И ненаследный князь, сколь ни боролся с собой, а проиграл, поддался на секундочку, смежил веки, он не спал, пусть и качало, что в колыбели. И колеса по горбылю катили мягко, и мерно шаркали дворницкие метлы… старые грачи, что давно облюбовали тополя, и те по утреннему часу переговаривались тихо, вполголоса, будто бы не желая мешать княжескому сну.
А сна все одно не получалось.
Кому выгодно?
Велеслав… на лошадь его хватит, а вот человека убить… да и не волкодлак он, и навряд ли хватит сил, чтобы с истинным волкодлаком управиться.
Богуслава? Колдовка… пусть проверяли ее, и Старик глянул, поморщился, сказав, что гниль из души вычищать надобно, но то личное, Богуславово дело… а так — нет в ней силы… но ведь сумела же как‑то Евдокии голову заморочить.
И не только ей.
Тянуло от Богуславы падалью. Пусть и никому, кроме Себастьяна, запах этот не слышен, а все одно… не верит он ей.
Но не — веры недостаточно, чтобы обвинить. Могла?
Могла.
Ей человека убить просто…
Но где она волкодлака нашла? Весь последний год новоявленная княжна Вевельская жила под присмотром. И образ жизни самый благочестивый вела… храмы… комитеты… благотворительность.
Не сходится… если бы желала Лихославовой гибели, то… иначе можно было бы. Проще. Действенней. Ядом или нанять кого… против пули в голову и волкодлак не устоит, особенно, если пуля заговоренная. А она все так хитро… зачем?
Скандал нужен, тут Аврелий Яковлевич прав. И выйдет скандал… вон, прошлая смерть мути со дна газетного подняла изрядно, а новая волна грядет…
Газеты остановить?
Так слухи пойдут, один другого краше… надо искать, и волкодлака, и тому, кому это представление понадобилось… наверное, за этими мыслями Себастьян все же уснул, потому как не заметил, как пролетка свернула с аллеи. Он очнулся от вежливого покашливания извозчика, и долго тер глаза, не способный сообразить, где же находится и как в этом месте оказался.
Шея затекла, руки левой он и вовсе не чувствовал, а хвост давно уж собственной жизнью жил, метался, мел тротуару, который, пусть и выметенный дворником, но все не отличался чистотой.
По ступенькам Себастьян поднимался, покачиваясь.
Дверь управления, отличавшаяся крайне паскудным характером, и вовсе заклинило.
— Твою же ж… — Себастьян пнул ее, и от сего действия, напрочь лишенного смысла, полегчало. — Спать… надо поспать…
Он закрыл глаза, живо представив себе даже не кровать в мебилированных комнатах панны Вильгельмины, кровать солидную, с железным панцирем да медными шишечками на спинке, о трех пуховых перинах, о груде подушек, самая крупная из которых была едва ли не с Себастьяна размером. Нет, эта кровать ныне была несбыточной мечтою, в отличие от узенького диванчика, в прошлым годе списанного судейским приказом за старостью лет, но чудом и скопидомством главного эконома управы, после списания диванчик сей дивный оказался в Себастьяновом кабинете.
Он был хромоног, потрепан и деревянная спинка его несла множество следов — свидетельств судейской бурной жизни, большей частью, бранных, вырезанных неблагодарными подсудимыми. Пожалуй, человек сведущий сумел бы прочесть по ним многое о сомнительном моральном облике королевских судей, о строгости прокуроров и общей жизненной несправедливости.
Мысль о диванчике не отпускала.
Напротив, с каждой ступенькой Себастьян все яснее осознавал свою глубокую сердечную привязанность к сему предмету мебели. И ведомый этой привязанностью, он не обратил внимания, как слетела с брюк белая тонкая нить, верно, привязавшаяся еще в пролетке… и как нить эта, коснувшись порога, вспыхнула и осыпалась белым пеплом, который в порог и впитался.
Но заклятие было слабым, оттого и не шелохнулись тревожные колокольцы над стойкой дежурного. Сам же он, с тоской перелистывавший последний нумер «Охальника», каковой держали в управлении исключительно порядка ради, встрепенулся.
— Пан Себастьян, вам тут письмецо доставили.
И конверт подал.
А Себастьян принял, с трудом сдерживая зевок. Спать по — прежнему хотелось неимоверно… и образ верного дивана маячил пред внутренним взором. Оттого и письмо Себастьян читал в неподобающей спешке.
«Дорогой брат.
По здравым размышлениям, я все же решил воспользоваться твоим советом и временно покинуть Познаньск. За сим ставлю тебя в известность, что мы с супругой отбываем утрешним поездом на Барвино, а оттуда — до моря. Полагаю, в нынешних обстоятельствах смена обстановки будет более, чем уместна. А морской воздух благоприятно скажется на здоровье Евдокии.
Желаю тебе всяческих успехов в расследовании.
Лихослав»
Письмо покажется несколько странным, и Себастьян прочтет его во второй раз… а в третий — присядет на диванчик, который покажется куда более мягким, нежели утром.
— Потом, — лист Себастьян сунет под голову и, стащив ботинки, кое‑как на диванчике устроится. В конечном итоге, что такое пара часов?
Ничего.
И многое… сон, в который он провалится, будет глубок, но тревожен.
Глава 11. Где речь идет о некоем пансионе и его обитателях
Пансион «Три короны» короны имел исключительно на вывеске да еще на челе государевом. Последняя была огромна и даже с виду тяжела, оттого, верно, и взирал государь на гостей пансиона хмуро, недобро, будто бы загодя подозревая в них недоброе, не то склонность к заговорам да изменам государственным, не то потаенное желание умыкнуть махровые полотенца, каковым пан Вильчевский вел особый учет.
Впрочем, учитывал он не только полотенца. В доме было превеликое множество ценных вещей, к каковым постояльцы, даже те, что поначалу казались приличными, не имели никакого уважения! Так и норовили потрогать, попользоваться, а то и вовсе в негодность привести. Еще и жаловались, дескать, карниз сам треснул, от старости, гардины расползлись, потому как гнилые, обивка на креслах затерлась в силу исконного дурного качества…
Нет, дом был стар. Он перешел пану Вильчевскому в наследство от матушки, женщины в высшей степени рачительной. Сам дом некогда являлся обыкновенным особняком, купленный Стахом Вильчевским, купцом средней руки опосля одной его удачной сделки. Стах, которого пан Вильчевский помнил смутно, мало, что свято верил в собственную удачу, так еще и повадился оную удачу проверять за ломберным столом. Опосля очередного проигрыша и пачки векселей, погасить которые он не имел возможности, Стах упился с горя, а после, в пьяном угаре, вышиб себе мозги.
С долгами пришлось рассчитываться вдове.
Она, продав и лавку, где почти не осталось товара, и собственные, от матушки доставшиеся драгоценности, и все вещи, имевшие хоть какую‑то ценность, осталась с огромным пустым особняком да малолетним сыном.
Тогда‑то панна Вильчевская и решила сдавать комнаты.
А после и пансион организовала.
От тех времен у пана Вильчевского остались в памяти запах горелой гороховой каши — готовила матушка неважно, и множество незнакомых людей, которые появлялись и исчезали… исчезали и появлялись…
Еще темнота — матушка экономила на свечах.
Лютый холод.
И страх, что однажды наступит день, когда уже у него, пана Вильчевского, не останется денег. Нет, пансион, несколько облагороженный, имел успех, благо, был недорогим и располагался едва ли не в самом центре Познаньску, но все же… все же… жильцы ныне стали капризны, избалованы.
То им кофий поутру подавай в нумера, да не простой, а высшего сорту. То белье меняй ежедневно, а не раз в седмицу, то еще какую глупость придумают… одна вон повадилась купаться каждый день, расходует воду почем зря. Другой читает до полуночи, а после спит до полудня. И не важно, что за газ пану Вильчевскому платить приходится, тогда как дневной свет, небось, бесплатный… нет, пусть и приносил пансион доход, но от жильцов в нем было одно беспокойство. Оттого и был пан Вильчевский мысленно согласен с государем — портрет намалевал художник, не имея иной возможности оплатить долг — что относиться к ним следует с подозрением.
И нового гостя разглядывал пристально, через лупу — оставил старый академик, имевший дурную привычку курить у окна, все гардины своими цигаретками завонял. После прачке пришлось доплатить два медня, чтоб их в ароматном растворе пополоскала. Оттого и забытую лупу пан Вильчевский себе оставил, во восполнение ущербу, его имуществу нанесенного.
Гость терпеливо стоял, прижимая к груди фетровую шляпу с лентой. Глядел он прямо, и в лупе выпуклый глаз гостя был особенно кругл, темен и смотрел этак, с ленцою, а лень пан Вильчевский почитал первейшим из грехов человеческих, поелику сам он вставал засветло, ложился заполночь, и даже во снах продолжал работать…
— Чем могу помочь? — поинтересовался пан Вильчевский, еще не решив, готов ли он принять этакого постояльца…
Нет, одет гость был прилично.
Костюмчик шерстяной, светленький, маркий. Рубашечка белая. Гальштук новомодного оттенку салатной зелени, да и в клеточку, и булавочкой этак к рубаке пришпилен.
Перчатки белые.
Саквояж кожаный, с бронзовыми острыми уголками да круглою рамочкой, куда бумажку с именем вставлять надобно, только гость до сего не дошел, вот и красуется в бронзовой рамочке название лавки, из центральных, в которых честных людей вдвое, а то и втрое супротив истинной цены переплачивать заставляют.
Сам пан Вильчевский к подобному транжирству относился с осуждением, предпочитая закупки делать на старом городском рынке, да и средь старьевщиков он был гостем частым, зная, что иные бестолковые людишки, за модой угнаться силясь, скидывают в лавки вещи новые, хорошие совсем и за малую цену…
— Мне бы нумер, — с запинкой произнес гость и покраснел.
Небось, только — только приехал в Познаньск и, заместо того, чтоб жилье приличное сыскать, по лавкам кинулся, за лоском столичным.
Пан Вильчевский покачал головой.
И как быть? Нумера‑то простаивали… но нынешний гость… не принесет ли он, вырвавшийся из‑под папенькиного крыла, больше беспокойства, нежели прибытку? Не станет ли кутить, просаживая отцовские деньги? А то еще и с компанией дурною свяжется. Был тут один, который поначалу сребнями направо и налево швырялся, да когда закончились, вынес под полой три канделябра бронзовых и фарфорового ангелочка, оставшегося от матушки…
Отказать бы…
Но гость извлек кошель приятной толщины и веса с виду немалого, и по стоечке покатился злотень.
— За два месяца вперед плачу, — сказал гость.
Пан Вильчевский смотрел на монету. Разве ж можно этак с деньгой… а злотень все катился и катился, поблескивая заманчиво, очаровывая. И рука сама собой потянулась, спеша перехватить монетку, пока не достигла она края стойки да не сверзлась на пол…
— Кутежей не устраивать, — пальцы вцепились в злотень, и пан Вильчевский осознал, что при всем его нежелании — а гость‑таки вызывал смутное беспокойство неясного характеру — он не сумеет заставить себя расстаться с этою монетой.
Ныне же вечером, после обычного обходу — пан Вильчевский самолично проверял, заперты ли все окна, погашены ли газовые светильники, да и вовсе, не случилось ли за день какой беды, как в тот раз, когда в гостиной, на софе, почти новой, обнаружилось ужаснейшего вида кофейное пятно…
Пан Вильчевский вздрогнул и перекрестился: вывести пятно стоило трех сребней!
— За ущерб, ежели случится по вашей вине, платите отдельно.
Гость кивнул и выложил на стойку еще четыре монеты. Новехенькие, блестящие, небось, только — только покинувшие тишь и уют королевского монетного двора. Пану Вильчевскому заранее сделалось за них, таких беззащитных пред потными людскими руками, боязно.
Ничего, он не позволит обидеть их.
Спрячет.
Нет, не в банк отнесет, банкам он не доверял, предпочитая золото держать в надежном месте — огромной склянке, каковую прятал в камине собственной комнаты. Благо, камин оный пан Вильчевский даже зимой не растапливал, экономя… ему и без того приходилось на жильцов тратиться, коим просто‑таки жизни без каминов не было.
— Столоваться у нас будете? Питание оплачивается отдельно…
Гость добавил еще монету.
Сколько ж их в кошеле‑то? Бедных, обреченных пойти в уплату прихотей человека недостойного… и сердце пана Вильчевского разрывалось от боли.
— Ежели что понадобится… я к вашим услугам.
Пан Вильчевский покосился на короля, который по — прежнему взирал на гостя хмуро, недовольно, еще не убедившись в его благонадежности.
— Прошу за мной.
Отправив злотни в карман, пан Вильчевский запер конторку. Он не держал ни коридорного, ни лакеев, полагая сие зряшною тратой денег, ему и самому несложно гостя проводить, а что возраст и больная спина не позволяют с багажом управляться, так нынешний гость молод, сам свой саквояжик донесет…
— Погодите! — пан Вильчевский вовремя спохватился. — Как вас в книге записать‑то?
— Гавриил… — сказал гость и, густо покраснев, добавил. — Волчевский…
— А занимаетесь чем?
— Всем понемногу…
Главное, чтобы не коммивояжер, ибо это племя, бестолковое, суетливое, пан Вильчевский на дух не переносил опосля того случая, когда заезжий мошенник, коммивояжером представившийся, выманил целых сорок злотней за новую мебель для пяти спален… а после исчез, паскуда этакая.
— Не торгуете? — пан Вильчевский указал мизинчиком на саквояж, который гость нес бережно, держа за пухлые кожаные бока, не замечая, что мнет светлый свой пиджачок.
— Нет.
Пан Вильчевский кивнул, не сказать, чтобы он был удовлетворен ответом, однако же злотень, который гость протянул заместо благодарности, послужил достойной компенсацией.
И страхи хозяина «Трех корон» утихли.
Ненадолго.
В покойницкой табачный дым мешался с иными, куда более привычными месту сему ароматами, и кисловатая смесь их, как вынужден был признать Аврелий Яковлевич, портила всякое удовольствие от цигаретки. Оттого и бросил он ее, недокуренную, на пол, растер носочком туфли и, наклонившись, носочек этот отер платком: налипли на лаковую кожу и травинки, и кусочки земли.
Нехорошо.
К обуви Аврелий Яковлевич относился с особым пиететом, помня еще те времена, когда случалось ему носить, что лапти, из лозы плетеные, что грубые матросские ботинки, от которых по первости ноги кровавыми мозолями покрывались.
Вздохнул.
И разогнав редкие дымы, принялся за дело.
Благо, пол в покойницкой был ровный, плита к плите, а в особом закутке, которым штатный ведьмак пользовался, и знаки вычертить не поленились белою заговоренною краской. Конечно, лучше бы вовсе на камне выбить, но то дело марудное, затратное…
Знаки Аврелий Яковлевич подновил.
Отступил, окинув картину критическим взором, почесал бороду и добавил несколько собственных, тайных, печатей. Мыслилось ему, что покойницы нынешние, ежели и соизволят для беседы восстать, то всяко возвращению в мир живых не обрадуются.
Привычная работа помогала отрешиться от тревоги, и Аврелий Яковлевич даже запел, благо, из нынешних его слушателей не сыщется такого, кому пение сие не по нраву будет. Мертвецы большею частью — народец тихий, незлобливый, и к чужим слабостям относящийся с пониманием… не станут носами крутить да говорить, что, дескать, голосина у ведьмака знатная, а слуха вовсе нету…
Нету. И что?
Он, небось, в операнты не рвется. У него собственное дело есть… даже два, ежели по нынешнему времени.
Первой Аврелий Яковлевич в очерченный круг положил сваху. Оттаявшее тело было неудобно тяжелым, каким‑то неправильным, точно лишенным костей. И Аврелий Яковлевич долго маялся, силясь придать ему позу хоть сколько бы привычную.
— Ну что, хорошая моя, поговорим? — произнес он, вытаскивая очередную цигаретку. Но затянувшись, лишь крякнул да сплюнул: табак имел отчетливый привкус сивухи.
Вот же незадача… и примета дурная: не выйдет ничего из этакой затеи.
Однако Аврелий Яковлевич был не того характеру, чтобы взять и отступить. Он цигаретку докурил, исключительно из упрямства, а окурок втоптал в щель меж каменными плитами. Потянулся, расправляя плечи, чувствуя, как тянутся мышцы, хрустят под тяжестью их и чего‑то неявного, неведомого, кости.
Вихрь пронесся по покойницкой, хлопнул дверцами шкапа, лизнул изъеденную норами — ячейками стену. И успокоившийся, покорный ведьмацким рукам, сплелся хитровязью тайных знаков.
Похолодало.
В покойницкой и без того не было жарко, но вихрь принес призрачные снежинки, которые заплясали, закружили в круге, оседая на синюшном лице мертвой женщины. И дрогнули веки, отзываясь на чужую волю, чужую силу.
Приоткрылся рот.
И черная жижа хлынула из глотки.
— Твою ж… — Аврелий Яковлевич отступил от края.
Тело плавилось.
Оно оплывало восковою фигурой, растекаясь по камням, затапливая рисованные знаки. И венчики свечей колыхнулись, потревоженные незримою рукой. Не погасли…
И не погаснут.
Хорошие свечи, правильно сделанные.
— Ш — шалишь…
От лужи воняло.
Сточною канавой, водой болотною затхлой, мертвыми колодцами, на дне которых давно истлела заемная луна. Пахло смертью подлою, той, что не отпускает души, но вяжет их к земле путами неисполненных обещаний, утраченных надежд.
— Прочь, — Аврелий Яковлевич вскинул руки. — Уходи…
Белое пламя поднялось над тем, что некогда было человеком. Вспыхнуло ровно, яростно, обдав не жаром, но опаляющим лютым холодом, от которого и борода побелела.
— Я… силой, данною мне… — каждое слово давалось с трудом, каждый вдох раздирал легкие, каждый выдох оседал на губах мелкой кровяной капелью. — Отпускаю душу… Зузанны Вышковец… покойся с миром.
Сомкнулись ладони над головой.
И пламя погасло.
Ведьмак же опустился на пол и головой покачал, облизал губы, поморщился… по — хорошему следовало бы кликнуть кого на подмогу, да только куда потом этого свидетеля девать?
— Ну что, красавица? — Аврелий Яковлевич не знал, сколько времени прошло, пока ему полегчало настолько, чтобы подняться.
Много.
Больше, чем в прежние времена… стареет, значит. Все стареют, даже боги, а ведьмакам до богов далеконько…
— Ты‑то как? Снизойдешь до Старика‑то?
От Зузанны Вышковец осталось черное пятно сажи.
Рисунок Аврелий Яковлевич чертил наново, благо, имелся и мел заговоренный, и мыло, на жиру висельника вареное, дефицит‑то по нынешним, гуманным временам… а слухи ходят, что в разрезе новомодных эуропейских тенденций, смертную казнь и вовсе запретят.
С чем работать тогда?
Самоубийц на всех не хватит…
Рисунок стал ровно, аккуратно, и свечи вспыхнули одновременно. А Нинон, лежавшая до того смирнехонько, аккурат, как полагается приличной покойнице, глаза открыла.
Секунду или две лежала, разглядывая сводчатый потолок.
Усмехнулась кривовато.
Пальцами пошевелила, подняла руки, повертела, разглядывая их, белесые, пухлые… лицо отерла да и села, с трудом.
— Нехороша? — спросила, голову наклонив. И этак, с намеком, простыночку белую, которой Аврелий Яковлевич тело укрыл, с плечика спустила.
— Хороша… была… когда‑то, — почти дипломатично заметил Аврелий Яковлевич.
Покойница фыркнула и простынку приспустила.
— Что, совсем не нравлюсь?
— Извини, — он развел руками. — Но я как‑то больше по живым…
— Ах да… — точно спохватилась она, всплеснула руками, и простынка съехала на пол. — Живые… живые всем нужны… хочешь, песенку спою?
— Скажи лучше, кто тебя так…
— А то сам не знаешь… а ведь не знаешь, — она рассмеялась гортанным хриплым смехом. — И никто не знает… не узнает…
— Тебе не обидно?
— За что мне должно быть обидно?
— За то, что тебя убили…
— Ай, брось, дорогой… золотой ты мой, яхонтовый, — Нинон неловко сползла со стола. — Дай ручку, погадаю… все как есть расскажу про судьбу твою, про зазнобу сердечную, про дорогу дальнюю… дай ручку…
Она протянула собственную, пальцы которой скукожились, точно бумага над огнем. И черными иглами выглядывали из них когти.
— Боишься Нинон?
— Мала ты еще, чтоб тебя боялся.
Она шла, неловко переваливаясь с ноги на ногу, и наспех зашитый живот расползался черною раной. Нинон, спохватившись, что еще немного и кишки выпадут, прижала к животу растопыренную пятерню.
— Не боишься, значит… — вздохнула с притворным огорчением, — тогда позолоти ручку… и Нинон все тебе скажет, как есть, ничего не утаит… о жизни своей да горестной.
Говорила она с переливами, и голос ее, то становился тоненьким щебещущим, то превращался в скрежет, то и вовсе скатывался до шепота. И хотелось шагнуть навстречу, к черте заговоренной, чтобы, не приведите Боги, не упустить и словечка.
— Ишь ты, — восхитился Аврелий Яковлевич, сплюнув под ноги. — Какая ныне нечисть бойкая пошла. Только вылупилась, а уже голову морочит… аль ты у нас и при жизни одаренною была?
— Росла сирота сиротинушка… матушка померла, батюшка продал… как в той песне, знаешь? Ехал из ярмарки ухарь — купец, ухарь — купец, удалой молодец… — завела Нинон, притаптывая на месте. Обвислые груди ее покачивались, но черные глаза неотрывно следили за каждым движением ведьмака. — Продал… продал и не спросил… а тот перепродал… и пошла Нинушка по рукам…
Всхлипнула, уставилась выжидающе.
— Не жаль ее?
— Ее — жаль. Тебя нет.
— Хитрый… ведьмак… вот скажи, ведьмак, отчего в жизни этакая несправедливость? Кому я зла желала… Яшку, говорят, сгубила… а разве ж просила я его люд мордовать? Нет… он и меня бил смертным боем… после каялся, золотишко нес… душегуб, как есть душегуб… меня на каторгу услали… Милосердные наши батюшки, милосердные наши матушки, помогите нам несчастненьким… — заскулила она, ударяя себя кулаком в грудь. — Дай денежку… хоть медень… а медня нет, то хоть былиночку кинь…
— Прекрати, — Аврелий Яковлевич протянул раскрытые ладони к стене, и Нинон покачнулась, но отпрянула, зашипев.
— Дразниш — ш–шь… — меж белых зубов мелькнула черная жила языка. — Смотри… не удержи — ш–шь…
— Говори.
— А не то?
— Я ведь и иначе могу… — он повел рукой, и стена задрожала.
Нинон попятилась, оскалившись.
— Больно будет, — предупредил Аврелий Яковлевич. Она же тряхнула головой, взметнулись космы слипшихся волос, и Нинон заголосила:
— Утром рано крикнет грач и подымется палач. Он в тюрьму к тебе придет и с конвоем поведет… хорошая песня, ведьмачок… там и дальше есть… аккурат про тебя… Там в лесочке ель стоит, и на нем петля висит… На тебя петля висит, ведьмачок… висит да качается, шеи дожидается… и дождется… думаешь, она позабыла? Нет… помнит… и просила передать, что соскучилась, прямо сил нет…
Свечи вспыхнули ярче. И потянулись от огоньков черные нити дыма, к самому потолку, к закопченным сводам его. Загудел генератор.
И мигнули толстостенные лампы, чтобы вспыхнуть одна за другой.
Сыпануло стеклом.
Затрещало. Запахло паленым. А Нинон в круге заметалась, закружилась, вереща:
— Дай, дай, дай… ручку дай, золотой… яхонтовый… все скажу… как есть скажу… все вы в могилы ляжете… все вы сгниете… корм воронам… собаки воют…
Она сама вдруг упала, вцепилась когтями в лицо, выворачиваясь, будто в судороге. И опасно накренились огоньки свечей.
— Уходи, — Аврелий Яковлевич бросил горсть белого света, который накрыл скулящую нежить пологам. — Уходи к богам… да упокоится душа твоя…
Пламя окутало Нинон, и та покатилась по полу, вереща тоненько, страшно. И от голоса этого дрогнули свечи.
Погасли.
И чувствуя волю, нежить рванулась.
— От же… — Аврелий Яковлевич встретил ее пинком в рыло. — Никакого понимания…
Удар отбросил Нинон обратно в круг, а следующий, тростью, перебил хребет. Но нежить жила, ползла, оставляя за собой широкий кровяной след, за который обрывками цеплялось пламя.
— Упокойся, кому сказал, — трость с хрустом проломила череп.
— Она… — Нинон перевернулась на спину, уставилась черными провалами глаз. — Она помнит… петля… твоя…
— Моя, так моя… я от своего в жизни не отказывался.
Ведьмак взмахнул рукой, и свечи вспыхнули ярким спокойным огнем.
— Дура ты, Нинон…
— Все мы бабы… дуры…
Наверное, в чем‑то она была права.
Милосердная, песня сибирских нищих и бродяг.
Палач (Колыбельная) (Акатуевская каторга)
Глава 12. О сложностях торговли и превратностях бытия
Евдокия проснулась с тяжелой головой.
Она с трудом разлепила веки, заставила себя подняться, пусть бы испытывала преогромнейшее желание остаться в постели.
Велела подать кофе.
И пила, горький, черный и крепкий, закусывая шоколадом, а подобное баловство Евдокия позволяла себе в исключительных случаях.
Нынешний был… странным.
Хмурая Геля, лишившаяся обычной своей говорливости, то и дело позевывающая и широко, не давая себе труда прикрывать рот… Она чесала волосы, больно дергая, останавливаясь, то и дело проваливаясь в странную дрему, и когда Евдокия отобрала гребень, лишь рукою махнула.
— Тяжко в грудях, — пожаловалась она. — Небось, дожж будет. Вот поглядите. На дожж завседы мляво…
Мляво.
Хорошее слово. Тягучее, как мысли Евдокии. Беззубое, что утренние ее страхи… влажная, червеньская истома, душная, невыносимая, рождающая одно желание — лечь и позволить себе уснуть.
Нельзя.
Работа есть… отчет квартальный в проверке нуждается, потому как приказчик, которого рекомендовали, как человека знающего, в последние дни уж больно хитро на Евдокию поглядывает. И на складах следует проверку провести, подсказывает Евдокиино чутье, что далеко не все там радужно…
…в банк заглянуть…
…и в магазин, только — только открывшийся, а потому требующий беспрестанного контроля…
Мысли о делах отрезвили лучше кофе. И Евдокия сумела‑таки косу заплести.
Письмо она обнаружила на туалетном столике, серый конверт, к которому и прикасаться‑то желания не было. Но Евдокия конверт взяла, подивившись тому, что на ощупь он еще более неприятен, нежели на вид: жесткая шершавая бумага.
А в конверте — белая, скользкая.
Почерк аккуратный.
Знакомый такой почерк.
Евдокия читает. И снова читает… и в третий раз, шевеля губами, проговаривая каждое слово, потому как иначе не понять. Она слишком… слишком рассеянна сегодня, чтобы понять.
«Милая Евдокия.
Обстоятельства ныне сложились так, что эти несколько дней мне лучше провести вдали от тебя и людей. За сим я отбываю в нашу усадьбу, где хоть как‑то могу быть полезен.
Умоляю не держать на меня зла, поскольку решение сие далось мне нелегко.
Твой Лихослав.
P. S. Я был бы очень благодарен, если бы ты никого не ставила в известность о моем отъезде, а такой же постаралась избежать общения с моими родственниками, поскольку я не уверен, что они не причинят тебе вреда».
Евдокия сложила письмо и убрала в сумочку.
Она понимала, что должна бы испытывать обиду… или гнев… или хоть что‑то, но не испытывала ничего. И это странное безразличие даже не пугало.
Лихослав вернется.
Конечно.
И эта мысль окончательно успокоила, правда, спокойствие это было немного неудобным, сродни чужим перчаткам, которые, вроде бы и сели по руке, однако же сели не так, как должны бы…
Перчатки Евдокия забыла.
И зонт.
И выйдя из дому, зажмурилась: яркий солнечный свет вызвал престранное желание немедля вернуться в дом, спрятаться за закрытыми ставнями, да не выходить, пока желтый шар не скроется с горизонту… и после не выходить.
И вовсе не выходить.
Никогда.
Мысль была настолько притягательной, что Евдокия споткнулась, с удивлением подумав, отчего прежде не испытывала этакого желания, спрятаться от мира. В конце‑то концов, разве не в тиши, не в уединении истинное ее счастье?
— Ну уж нет, — она запустила пальцы в волосы. — Это… это как‑то неправильно.
Собственный голос показался неуместно громким, неприятным.
И черный грач, слетевший с забора под самые ноги, отозвался хриплым криком.
— Кыш пошел… — Евдокия кинула в грача камушком, но зловредная птица только отлетела шага на два, чтобы вновь распластаться на дорожке. И крылья растопырила, тощую, какую‑то обскубанную шею вытянула, заверещала.
— Кыш!
Присев, Евдокия принялась собирать мелкие камушки. Сам вид птицы вызывал непонятное ей отвращение, а ведь прежде‑то Евдокия к грачам относилась с полнейшим равнодушием.
— Кгрыыы, — грач смотрел, не мигая.
И крик его — не крик, но глухой скрежет, точно гвоздем по стеклу… а от камня увернулся, заскакал по дорожке, чтобы вновь распластаться, всем видом своим показывая, что не выпустит Евдокию из дому.
— А вот шиш тебе! — она скрутила кукиш. — Пшел…
Камушки падали.
Грач скакал, норовя обойти Евдокию то с одной, то с другой стороны, и подобрался вдруг так близко, что ухватил блестящим клювом за подол.
— Ах ты!
Евдокия вдруг остановилась.
А ведь птица… странная птица, обыкновенные грачи не ведут себя подобным образом. Они наглы порой, но не настолько, чтобы на человека нападать.
И не пахнет от них тленом.
Запах же был столь силен, что Евдокия нос зажала… попятилась, выставив руку… а грач захихикал, совершенно по — человечески.
— В дом иди, — сказал он.
— Иду, — Евдокия юбки подобрала.
Мертвый.
Как есть мертвый, вон и перья пооблетели, проглядывает через оставшиеся белая птичья шкура, местами треснувшая… и крылья вывернуты так, как у живой птицы сие невозможно.
— Уже иду, — голос предательски дрогнул, что грачу весьма понравилось.
И смех сменился клекотом, а из раззявленного клюва показался тонкий змеиный язык.
— Уже… иду…
Она поднялась на первую ступеньку.
И на вторую.
На третью… положила руку на дверь… грач следил.
Хихикал.
Пускай смеется… пускай думает, что с Евдокией вот так просто управиться… и что сумочку она к себе от страха прижимает… страх‑то есть. Она, небось, живой человек и всякой погани боится… и руки у нее дрожат. Дрожали.
Рукоять револьвера была приятно холодна.
— Домой, значит? — переспросила Евдокия, и грач поспешно закивал, сделавшись похожим на цианьского болванчика из тех, которые продают по сребню за дюжину, да еще и размалевывают по желанию заказчика.
— А если я домой не хочу?
Птица зашипела.
И скокнула на ступеньку.
— Дур — р–ра…
— Сама дура, — спокойно ответила Евдокия, нажимая на спусковой крючок. И привычно дернулся в руке револьвер. Громыхнуло. Запахло порохом и… гнилью.
Разлетелось черное перо.
Плеснуло жижею болотной на ступеньки. И Евдокия поспешно подняла юбки: не хватало еще платье испортить…
— Вот же… — она и спускалась так, придерживая левой рукой подол и сумочку, а в правой неся револьвер. — Чтоб тебя…
Перо кружилось, норовило прилепиться не то к волосам, не то к платью, оседало на траве, превращаясь в темные капли, которые уходили в землю.
— Определенно, — Евдокия почесала рукоятью переносицу, — это ненормально… все это совершенно ненормально.
Она оглянулась на дом, который стоял рядом, безучастный и будто бы чужой.
Возвращаться?
Ни за что!
И пусть голова до сих пор тяжелая, но Евдокия точно знает, что если и вернется в родной особняк, то только с ведьмаком на пару, хотя и сама мысль о ведьмаках вызывала отвращение, едва ли не дурноту. Ничего, Евдокия с дурнотой справится. Уже справляется.
Идет по тротуару, простоволосая, растрепанная и с револьвером в руке… люди сторонятся… верно, револьвер убрать надобно в сумочку, поелику неприятности с полицией Евдокии без надобности. Она и остановилась у перекрестка, огляделась, убеждаясь, что нет поблизости ничего‑то подозрительного, ни грачей, ни галок, разве что пара откормленных голубей возится у лавочки, кланяется благообразной старушке, выпрашивая булку…
— Извините, — Евдокия присела на лавочку.
От старушки пахло цветочною водой и еще мятой.
— Я… передохну и дальше… вот только…
В барабане осталось два патрона.
Один в грача… и выходит, что еще три она вчера выпустила, в Богуславу… и повезло, что не задела. А пули посеребренные.
Заговоренные.
Специального заказу… и по — хорошему, надо бы револьвер убрать, да только в нынешних престранных обстоятельствах мысль о том, чтобы остаться без оружия, Евдокии претила.
— Перезаряжу, — пояснила она старушке, которая к вящему неодобрению голубей булку отложила. Подняла лорнет на отполированной до блеска рукояти, смерила Евдокию внимательным взглядом…
— Перезаряжу и уйду…
Пальцы дрожали, а запасные патроны, как назло, застряли в обойме.
— Не спешите, милочка, — произнесла старушка. — Оружие требует аккуратного обращения… в кого стреляли?
— В грача.
Евдокия выдохнула.
Успокоиться надо, а то она, на безумицу похожа… безумица с револьвером… то‑то своячницы порадуются, когда Евдокию в лечебницу заберут.
А может…
Нет, рановато делать выводы.
— В грача… — старушка мечтательно прикрыла глаза. — А я вот на воронах руку ставила… позволите дать вам совет?
— Конечно.
Если Евдокия хоть что‑то понимала, то совет она услышит вне зависимости от позволения.
— Цельтесь в ноги…
— Почему? Мне казалось, что в голову — оно как‑то верней…
Патрон все‑таки поддался.
— В голову?! Милочка, конечно, немногие мужчины используют голову по назначению, но это еще не повод в нее стрелять! Поверьте моему жизненному опыту! Мужчина с простреленной головой в хозяйстве совершенно бесполезен! В ноги, милочка, целиться надо… в ноги…
— З — зачем?
— Чтоб далеко не ушел… — старушка смахнула остатки булки. — Помнится, в вашем юном возрасте был у меня один поклонник… не один, конечно, далеко не один, но его я выделяла… сразу решила, что если замуж, то только за Николауса… он был само очарование, но ветреник — с…
Голуби устроили возню, они копошились у самых ног, толкали друг друга, теснили, норовя вырвать кусок побольше, и разевали клювы, давились булкой.
— Все на свидания звал… я соглашалась… ах, молодость — молодость… кровь горячая… а после мне донесли, что он с другой прогуливается… дочерью одного… не важно, главное, что у нее приданого на тысячи злотней. У меня же из достоинств — револьвер папенькин…
Щелкнул барабан, встав на место.
— Но ведь главное, правильно распорядится тем, что имеешь. Вот я и распорядилась. Встретилась и поставила условие. Или он на мне женится…
Старушка замолчала, мечтательно улыбаясь.
— Или? — Евдокию вдруг заинтересовала эта история.
— Или женится на той, другой. Если нужен он ей будет после моего выстрела… он‑то не поверил, думал, шучу…
Губы старушки тронула улыбка.
— Тогда‑то я ему ногу и прострелила… в знак серьезности моих намерений. Сбежать попытался, дурашка этакий. Ох и кричал же он… ругался матерно… но выбор сделал верный. Сорок лет душа в душу прожили… он мне и не изменял никогда.
В этом Евдокия не сомневалась.
Старушка же, приложив к глазам кружевной платочек, легонький, невесомый, как она сама.
— Я ему на свадьбу подарила… — она наклонилась и прошептала, — костяное достоинство…
— Что?
— Достоинство, — с достоинством произнесла старушка и глазки опустила на голубей, которые от этаких откровений всяческий интерес к булке потеряли. — Костяное… знаешь… есть умельцы, которые по кости режут. Скажем, глаза, если кто глаз потерял. Или руку, ногу… или вот нос… у моего папеньке на войне срезало, так он накладным пользовался… я вот достоинство заказала. Двадцать два злотня стоило. Но сделали с большим мастерством.
Воображение Евдокии живо представило и этакий подарок, отчего‑то в соломенной коробочке с бантом из органзы, и жениха, весьма оным подарком впечатленного.
— Вот и Николаус оценил… на Вотановой книге поклялся, что до гроба будет верным…
Оно и правда, небось, не рискнул клятву нарушить, потому как одно дело с костяным глазом жить, а другое — с достоинством…
— Вы, милочка, конечно, можете сказать, что сие несправедливо и бесчеловечно, — старушка спрятала лорнет в расшитую бисером и перьями сумочку. — Да только разве справедливо было мне про любовь врать? А если не врал, то…
Она пожала узенькими плечиками:
— Я свое защищала. Чужого мне не надобно, а своего не отдам…
Голуби согласно закурлыкали, своим они считали булку, от которой остались одни воспоминания, и птиц это весьма печалило.
— Так что, милочка, отбросьте сомнения… и ежели оно ваше, то стреляйте по ногам. Мужик с простреленной ногой далече не уйдет…
В магазине пахло корицей и ванилью.
Было спокойно.
Белели в полумраке унитазы и эльфийские шпиры, на постаментах возвышались массивные раковины ванн. Плескал прохладною водицей фонтанчик.
Молчали канарейки, щебетали продавщицы, Евдокию они заметили не сразу, увлеченные сплетнями и свежими ватрушками, вид которых заставил Евдокию вспомнить, что она голодна.
Со вчерашнего дня не ела.
— Ой, — сказал кто‑то, обернувшись. — А вы… тут?
— Тут, — мрачно ответила Евдокия, не зная, как быть дальше.
Отругать за безделье?
Или ватрушку попросить? Или не попросить, но пользуясь положением, изъять? В конце концов, обедать на рабочем месте…
— А булочки хотите? — шепотом поинтересовалась новенькая чернявая продавщица.
— Хочу.
— С чаем? — уточнила вторая, на всякий случай от новенькой отодвигаясь.
— С чаем…
Пускай.
Все одно сегодня день странный…
Кружку подали, и ватрушку в руку сунули, и усадили, правда не в кресло — кресла стояли исключительно для посетителей, из красного бархата, с позолотою обильной — но на унитаз, застеленный чистым покрывалом.
— Тихо сегодня? — поинтересовалась Евдокия, чтобы хоть как‑то нарушить воцарившуюся тишину.
— Тихо… — хором вздохнули продавщицы.
Ватрушка была удивительно сладкой, травяной чай — ароматным. И с каждым глотком его становилось легче. Исчезала непонятная тяжесть, и желание немедля вернуться домой уходило, и мысли появлялись, этакие нехорошие мысли про ведьмаков и проклятия.
Головную боль.
Грача.
Посестриц дорогих, которым было бы в радость, случись с Евдокией какое несчастье.
И верно задумалась она прекрепко, оттого и не услышала, как зазвенел колокольчик, возвещая о появлении клиента, и продавщицы, позабывши о ватрушках, поспешили к двери, дабы клиента оного встретить…
— Дуся! — сей бас заставил вздрогнуть и очнуться. — Дуся, ты тут!
— Тут, — согласилась Евдокия и поспешно слизала с пальца сахарную пудру.
— Дуся! Я счастливый тебя видеть!
— А я уж как рада… — она поднялась аккурат вовремя для того, чтобы уклониться от объятий. — Вижу, у тебя все хорошо…
За прошедший год Аполлон изменился мало, разве что обрел некий столичный лоск, во всяком случае нынешняя рубаха его, ярко — алая, шелковая, расшитая по вороту псевдонародным орнаментом, явно была куплена в центральной лавке. Как и полосатые штаны, перехваченные золоченым кушаком. Золотые Аполлоновы кудри были завиты и уложены, обильно смазаны воском и бриллиантином, отчего казались литыми. И Евдокия испытала преогромное желание пощупать их.
— Плохо! — возвестил Аполлон и, верно, в избытке чувств, ударил себя в грудь кулаком. Кулак был внушителен, и грудь загудела.
А может, не грудь, но железный статуй, которого Аполлон держал под мышкой.
— У меня все плохо!
Он даже всхлипнул и статуй поставил на крышку ближайшего унитаза.
— Ты погляди только!
Статуй оказался козлом, слегка кривобоким, на редкость тощим, как сказала бы матушка — лядащим. Левый рог его был чуть короче правого, спина подымалась горбом, а ноги и вовсе в стороны пузырями расходились.
— Козел, — сказала Евдокия и потрогала статую.
Металл был холодным.
— Козел! — Аполлон произнес это слово так, что сразу стало ясно: козел не просто так себе парнокопытное, но сокрыт в нем некий тайный, сакральный даже смысл. — Они вручили мне козла!
Он тоненько всхлипнул и смахнул пальчиком крупную отборную слезу, что выкатилась из левого глаза. Правый оставался сух и смотрел строго, ожидая от Евдокии сочувствия.
Но ныне не было у нее желания козлам сочувствовать.
От продолжения беседы ее избавил тот же колокольчик и новые посетительницы, вид которых напрочь лишил Евдокию способности мыслить здраво, если сия способность, конечно, еще оставалась при ней.
— Аполлон! — густой бас Гражины Бернатовны заполнил зал. — Аполлон, мальчик мой!
— Полечка, ты ведешь себя не совсем верно…
— Мой сын сам знает, как себя вести!
— Комиссия ждала благодарственной речи… мы приготовили фуршет… — Брунгильда Марковна сделала попытку обойти свекровь, но была остановлена взмахом могучей руки.
— Твоя фуршета никому не надобна! — Гражина Бернатовна ступала тяжко, важно. В новом парчовом платье, с юбками столь пышными, что не ясно, как они в дверь прошли‑то, она гляделась весьма внушительно. — Полечка, ты страдаешь?
— Страдаю, — Аполлон смахнул вторую слезу. — Мама! Они мне козла сунули!
— Полечка, ты все неправильно понял…
— Мой сын страдает! — возвестила Гражина Бернатовна, краснея лицом.
А Евдокия мысленно отметила, что красное лицо с цветом платья весьма гармонирует… почти как широченный воротник, на котором голова Гражины Бернатовны лежала, будто бы на блюде.
Высокую прическу ее украшали восковые яблоки и груши, а из темечка торчало длинное петушиное перо. Когда Гражина Бернатовна наклонилась, Евдокия разглядела и птичку, крохотную колибри, не то свившую гнездо, не то запутавшуюся, в темных, явно подкрашенных, волосах.
— Я чувствовала, что этим все закончится! — от голоса Гражины Бернатовны позвякивали хрустальные подвески на люстре, а тяжкая ее поступь заставляла покачиваться и унитазы. Из‑под вороха юбок, щедро отделанных кружевом, выглядывали квадратные носки кавалерийских сапог. — Чувствовала всем своим материнским сердцем! А оно не вреть!
— Матушка! — взревел Аполлон, попытавшись увернуться от матушкиных объятий. — Они… козла… мне…
От обиды нижняя губа Аполлона выпятилась и затряслась, нос непостижимым образом сделался длинней, а лоб — уже, отчего само лицо обрело престранное сходство с козлиною мордой. Евдокия перевела взгляд на статую.
И вновь на Аполлона.
Красота неописуемая.
— Полечка, солнышко… конечно, они вручили тебе козла. Они всем козлов вручают, — Брунгильда Марковна была в желтом. Платье из яркое парчи, щедро расшитой стеклярусом, облегало тощее ее тело, узкие рукава подчеркивали неестественную худобу рук, а в треугольном вырезе виднелись полупрозрачные, синюшные какие‑то ключицы.
— Ты… знала?!
О, сколько праведного возмущения было в этом голосе.
— Знала, — покаялась Брунгильда Марковна, поглаживая козлиные кривые рога. — Это не просто козел…
Она вздернула остренький подобородок, смерив Гражину Бернатовну взглядом, полным превосходства.
— Это Познаньский Козел! — ударение Брунгильда Марковна поставила на первом слоге. — Тот самый Познаньский Козел, который вручается за особые достижения…
Она перевела дыхание и ткнула в круглый козлиный глаз.
— За индивидуальность. Непримиримость… за яркий талант…
Аполлон шмыгнул носом и на козла посмотрел без прежней обиды.
— Получить Познанского Козела — это величайшее счастие! Мне стоило немалого труда уговорить пана Стрижецкого, чтобы номинировали именно тебя…
— Полечка гений! — Гражина Бернатовна подобралась к козлу с другой стороны и ткнула в бок кривоватым пальцем. — Полечка и без твоей помощи получил бы любого козла… хоть познаньского, хоть краковельского…
— Ай, не скажите, — Брунгильда Марковна скрестила руки на впалой груди. — Вы не представляете, какая в этой среде конкуренция…
— Ты мне про конкуренцию не сказывай…
— А вам, мама, ни про что сказывать не надобно. Вы слишком закостенелы…
— Я костенелая? — Гражина Бернатовна уперла руки в бока, и юбки ее опаснокачнулись. — Это я‑то костенелая? На себя глянь!
— Дуся, — Аполлон дернул Евдокию за рукав. — Дуся… они сейчас снова…
— Между прочим, ныне стройность в моде…
И Евдокия решилась.
— Идем, только тихо…
— А вам, мама, не мешало бы заняться собой… вы слишком много едите.
— Ты меня куском хлеба попрекаешь?! — взвизгнула Гражина Бернатовна, хватаясь за козлиные крутые рога. — Поля, твоя жена меня не уважает!
— Я не уважаю?! — Брунгильда Марковна от козла не отступилась и схватила за тощую заднюю ногу. — Да я вас так уважаю, что слов нет! А вы меня…
— А за что тебя уважать?!
— Я вашего сына в люди вывела! — Брунгильда Марковна дернула козла на себя, но отпускать сей символ вящей гениальности сына Гражина Бернатовна не собиралась. Евдокия пятилась, Аполлон пятился с нею, он пригнулся, сделавшись меньше, тусклей. И даже рубаха его сделалась не такой яркой.
— Ты вывела?! Да он же ж гений!
— И что? В Познаньске каждый третий гений, а в люди выходят единицы…
— …соблазнила невинного мальчика…
— …и если бы не мои связи, никто бы…
— …развратила… диету не блюдет…
— …сами эту диету блюдите!
Дверь на склад подалась легко, отворилась беззвучно, и Евдокия выдохнула с немалым облегчением. Аполлон, просочившись следом за ней, лишь обессиленно рукой махнул.
— И часто так?
Из‑за двери доносились раздраженные голоса.
— Да каждый день, — он почесал живот, который за прошедший год вырос, приятно округлившись, отчего вид Аполлон приобрел несколько беременный. — Любят меня, страсть… заботятся…
Он поскреб щеку и добавил:
— Громко заботятся…
— Устаешь?
— А то… мне, за между прочим, медикус покой прописал. И еще настойку для нервов… только она горькая, я ее пить не можу. И маменька говорит, что от медикусов вред один… народ, он лучше знает.
— Что знает?
Аполлон нахмурился, но тут же ответил:
— Все знает!
— Народ… да, народ — наверное, — унитаз оказался на редкость удобным, пусть и исполненным в ярко — розовом колере, который пользовался немалым спросом.
— Поля должен уважать жену!
— А любить — маму!
Тонкая дверь не защищала от громких голосов, и Евдокия лишь надеялась, что нехитрое их убежище обнаружат не сразу.
— И этот козел, если хотите знать, моих рук дело!
— Конечно! От тебя только козла и следует ждать…
— Наверное, зазря я сбег, — Аполлон испустил тяжкий вздох и понурился. — Брунечка речь написала… красивую… всю ночь учил. Хочешь послушать?
— Нет, — искренне ответила Евдокия.
— Там про словесность нашую… про литературу, которая ноне в кризисе пребывает… — он оседлал другой унитаз, вида весьма зловещего: черный и с серебряными рунами на крышке, о коих имелся соответствующий сертификат, что руны сии — пользительные весьма, облегчающие работу кишечника и тем самым привносящие в организм гармонию. — И про это… как его… поиск альтернативных форм, как единственный действенный путь возрождения.
Аполлон произнес это, ковыряя ноготочком серебряную руну.
— Брунечка умеет красиво писать…
— А ты?
— А у меня, Дуся, кризис… — новый вздох был тяжелей предыдущего. Аполлон сгорбился и руки в подмышки сунул. — Я, Дуся, если хочешь знать, себя исчерпал… вот третий день сижу… думаю…
И снова вздох.
— Думаю и думаю… а оно не идет.
— Рифмы нету?
Евдокия прислушалась: за дверью царила подозрительная тишина.
— И рифмы нету… и ничего нету, — толстый Аполлонов палец, описав полукруг по крышке унитаза, замер. А затем уперся в толстый же Аполлонов лоб. — Мысля не идет. Понимаешь?
— Куда не идет?
— Никуда… вот давече маменька напекла пирожков со щавелем. Я их страсть до чего люблю, а еще щавель пользительный, он живот прочищает… у меня три дня бурлило…
— От кризиса? — сердобольно поинтересовалась Евдокия.
— Не… от молока кислого. Кухарка казала, что попортилося оно, но страсть до чего пить хотелось. Вот я и выпил жбанок. А после понял, и вправду попортилося… пронесло меня… и бурлило ишшо.
Он осторожно погладил округлый животик.
— Вот маменька и напекла пирожков, чтоб, значит, я хоть крошечку съел… принесла на блюде фарфоровом… и квасу свежего. А я смотрю. Лежат пирожки. Румяненькие. С корочкой. Жаром исходят. Жбанок запотевший. Кваском пахнеть… а мне не хочется. Вот совсем не хочется!
— Может, переел просто?
— Нет, Дуся… это кризис… мне медикус сказывал… сначала оно всегда так… то пирожков не хочется, квасу… а после раз и ты в бездне депрессии.
Новое слово Аполлон произнес медленно, с немалым вкусом.
— Брунечка пахлавы медовой принесла и орешков засахаренных… матушка колбас наделала с чесночком… а я вот, веришь, Дуся, ем… скрозь силу ем. И ничего не хочу… тоска душу гложет!
— Ужас какой, — Евдокия поднялась и на цыпочках подошла к двери. Затянувшаяся тишина ее несколько настораживала.
— А то… я вот и в кровать лег… сготовился, значит.
— К чему?
— К кончине, Дуся… к кончине, — Аполлон тяжко поднялся, но вновь сел. — Гениям суждено оставлять мир молодыми…
— Так то гениям, — пробормотала Евдокия.
— Что?
— Ничего, Поля, я слушаю тебя внимательно.
И ободренный Аполлон продолжил.
— Лежу в кровати… гляжу в потолок… сочиняю Реквиему…
— Чего?
— Реквиему. Поэму, значится, чтоб потомки меня помнили… надобно мощно. Так, чтоб каждое слово разило…
— …главное, чтоб в конец не заразило…
— Чего?
— Ничего, Полюшка, ничего… это я проникаюсь… — Евдокия дверь приоткрыла и в щелочку выглянула.
— А слова‑то не идут…
— Может, тебе рано еще?
— Думаешь?
— Думаю… — на первый взгляд в зале было пусто, лишь стальной козел со слегка погнутыми рогами взирал на Евдокию, и виделся в очах его немой укор.
— Так я и другого писать хотел, — Аполлон поерзал по унитазу. — Слушай, а удобно… у Брунечки в туалете узенький стоит… как присесть… а тут…
Он похлопал по крышке и, поднявшись, крышку откинул.
— И во внутрях черный… концептуально.
Евдокия толкнула дверь.
— Белый вот — это пошло… белый унитаз у всякого есть, — Аполлон присел и задумался. — Слушай… а ведь проходит…точно проходит…
Он откинулся на бачок и руки скрестил на груди.
— Страдав от боли, я ревел, стальной козел в глаза мои глядел. Он знал, что близок мой конец. И жизни настает… — Аполлон задумался, наверняка подбирая альтернативную рифму, поелику та, что пришла на ум самой Евдокии, вряд ли могла претендовать на публикацию. — …венец… жизни настает венец. Как оно?
— Гениально! — тоненько воскликнула Брунгильда Марковна, поднося к подбитому глазу желтый платочек. — Поленька… ты вышел на новый уровень.
Евдокия со вздохом от двери отступила.
— Прячешься? — Гражина Бернатовна ткнула пальцем в грудь. — Недоброе задумала?
Она вошла бочком, высоко подняв юбки, заголив массивные ноги в синих сетчатых чулках. Но поразили Евдокию не чулки, а ярко — красные, весьма неприличного вида, подвязки.
— Задумала… семью разбить хочешь? А и раньше думать надо было! — сказала она, нехорошо усмехнувшись. — Упустила свой шанс. А вот тебе!
Скрутив кукиш, она сунула Евдокии под нос.
От рук Гражины Бернатовны пахло квашеною капустой и копченостями.
— Нет, — поспешила заверить Евдокия. — Я замужем.
Но похоже, что и уверение это, и кольцо обручальное Гражину Бернатовну не убедили. Она хмыкнула и огладила черные усики.
— За спиною мужа шашни крутишь…
— Мама, прекратите говорить ерунду, — вспыхнула Брунгильда Марковна и для надежности вцепилось в Полечкин рукав. — Мы счастливы в браке. Правда, Полечка?
— Д — да, — он торопливо закивал.
А Гражина Бернатовна пошевелила нижнею губой и, окинув Евдокию придирчивым взглядом, поинтересовалась:
— Тогда чем вы тут занималися? — серые глазки ее оценили и растрепанную косу Евдокии, и наряд ее, не самый лучший, и бледность. — Двери закрыли… спряталися… Как есть роману крутят! Смотри, Брунька, уведет она у тебя мужика, я таких‑то знаю!
Она уперла руки в бока, и кружевной воротник угрожающе поднялся.
— Сама‑то тихая, тихая… а бочком — бочком и шасть в постелю супружью…
Брунгильда Марковна побелела, а подбородок ее мелко задрожал.
— Я‑то таких на раз чуяла… как какая прохвостка начнеть муженьку мойму глазки строить, так я ее за косу…
— Мама!
— А ты, Поленька, молчи! Небось, сам жену выбирал? Без материного благословения! То и живите тепериче… — Она сунула кулак под нос Аполлону, и тот смешался. — Вона, пиши стихи… получай своих козлов…
— Козелов, — встряла Брунгильда Марковна, ободренная этакой нежданной поддержкой.
— А хоть кого… но в мире и радости, мы вот с папенькой твоим десять лет прожили…
— Прекратите! — Евдокия ощутила, как приливает к лицу кровь. — Мы… мы ничего такого не делали!
Гражина Бернатовна недобро прищурилась, не убежденная словами, и под взглядом ее колючим Евдокия окончательно смешалась, пробормотав:
— Мы… мы просто унитаз примеряли.
— Что? — женщины растерялись. Аполлон же, вдохновленный идеей и шансом избежать очередного скандала, поспешил заверить.
— Примеряли.
— Именно… унитаз — это очень важно! У Аполлона кризис творческий… ему душевного комфорта не хватает…
— Поэт должен страдать, — тихо заметила Брунгильда Марковна, оглядываясь. Она словно лишь теперь очнулась, обнаружив, что находится в месте престранном.
Огромном.
Полутемном. И сплошь уставленном фарфоровыми унитазами. Она даже закрыла глаза, втайне надеясь, что сие место исчезнет, однако же желанию этому не было суждено исполниться.
Белые.
Розовые.
И черные, исписанные странными знаками, унитазы окружали Брунгильду Марковну. Иные стыдливо прикрывались узорчатыми крышками, с других за критикессой наблюдали голые посеребренные младенчики с мрачными лицами, третьи и вовсе являли собой нечто невообразимое, этакие слепки фарфора и серебра…
— Должен, — согласилась Евдокия, успокаиваясь. — Но не от отсутствия же удобного унитаза.
Аполлон кивнул.
— У него, может, и кризис начался исключительно от невозможности… побыть наедине с собой…
— Но у нас есть…
— Есть, — Евдокия погладила розовое изделие, украшенное раковинами и морскими коньками. — Но оно Аполлону… как бы выразиться… маловато. Неудобно. А всякое неудобство… не дает правильно расслабиться.
В животе Аполлона опасно заурчало.
— Вы же понимаете, к чему это приводит? — поинтересовалась Евдокия громким шепотом.
Брунгильда Марковна кивнула: она не понимала, но чувствовала, что нынешняя тема весьма… тонка. И требует особого подхода.
Свекровь же сковырнула позолоту с раковины и по крышке постучала:
— Значит, примеряли…
— Именно, — Евдокия не собиралась отступать от озвученной версии. — Мы не могли допустить, чтобы новый унитаз причинял дискомфорт… в конце концов, Аполлон — выдающийся литератор…
— Гений! — корявый палец ткнул в глаз морского конька, чешуя которого несколько поистерлась.
— Гений, — покорно согласилась Евдокия. — А раз так, то он требует индивидуального подхода…
— Полечка такой чувствительный…
— Весь в маму! — и Гражина Бернатовна, задрав пышные юбки, присела на розовый унитаз, поерзала слегка, устраиваясь поудобней. Морщины на лбу ее стали глубже, щеки надулись пузырями, а на усиках появился бисеринки пота. — Эк оно… и вправду ничего так… фаянс?
— Фарфор.
— Небось, не самого лучшего качеству…
— Обижаете, Гражина Бернатовна, — Евдокия оскорбленно вздернула подбородок. — Высочайшего! И сертификат о том имеется…
— Знаю я энти ваши сертификаты… бумажки одни. Вона, на Вороньей слободке по сребню за дюжину дают…
— Так то поддельные, а наш печатью Королевской палаты заверен…
Гражина Бернатовна нехотя поднялась и обошла полюбившееся изделие кругом.
— Позолота‑то тоненькая… слабенькая…
— Для вас хоть тройным слоем сделаем.
— И денег сдерете столько, будто бы он целиком из чистого золота…
Евдокия скромно промолчала, потому как в словах Гражины Бернатовны имелась своя правда: унитазы в столице стоили много дороже, нежели в Краковеле, но сие происходило единственно от странной убежденности столичных покупателей в том, что качественная вещь должна быть дорогой.
Эксклюзивной…
Что ж, сие устремление было Евдокии лишь на руку… а эксклюзиву у нее вон, целый склад имеется.
— И почем ныне? — Гражина Бернатовна подобрала юбки, протискиваясь меж полюбившейся ей розовой моделью и массивным глянцево — белым монстром, изготовленным по особому заказу.
— Сто двадцать злотней.
— Грабеж! — она схватилась за сердце, после вспомнила, что сердце это с другой стороны находится и поспешно руку переметнула. — Не больше двадцати сребней…
— Для вас готовы сделать скидку… ежели еще и ванную закажете… есть в розовом цвете… с морскою тематикой… вы ведь бывали на море?
Гражина Бернатовна поджала губы: на море она не бывала, но признаваться в том наглой девице, которая посмела отказать Поленьке в законном браке, не собиралась. Мало того, что замуж не пошла, так и ныне расстроенной не выглядела, не смешила ни плакаться, ни косы рвать… унитазы у нея… ванны с морскою тематикой…
— Вот посмотрите, — Евдокия поманила несостоявшуюся свекровь. — Представьте себе ванную комнату в розовом цвете… «Пламенеющий фламинго».
Как на ее взгляд, несчастный фламинго чересчур уж пламенел, и колер получался вызывающе ярким, но клиенткам нравилось.
— Здоровая какая, — оценила ванну Гражина Бернатовна. — Это ведер двадцать будет?
— Вся сотня войдет…
Ванна была исполнена в виде раковины, с узорчатой золоченою каймой по краю, которая Гражине Бернатовне весьма приглянулась. И то сказать, в прежние‑то времена тяжкой достоличной жизни она этак не роскошествовала.
Покосившись на невестку, она вздохнула… тоща и непригожа, зато и дом свой имеет… и со свекровью ладит, хотя и лается порой… а кто не лается? Небось, свою‑то свекровушку, не к ночи она помянута будет, Гражине Бернатовне случалось и за волосы таскать…
— Неэкономно.
— Мама, стоит ли думать об экономии, если вопрос касается здоровья! — Брунгильде Марковне ванна тоже глянулась. Она даже представила себе, как возлежит в этой раковине прекрасною жемчужиной, и сквозь витражные окна ванной комнаты проникает пламя заката… и она, Брунгильда Марковна, в этом пламени пламенеет, подобно тому самому фламинго. В этих грезах присутствовали и свечи, и длинные волосы, романтично разметавшиеся по краю ванны, и пена с запретным ароматом заморского иланг — иланга, каковой Брунгильде Марковне поднесли намедни…
И серебряное блюдо с фруктами.
Полюшка, который стихи читает… на этом месте греза дала трещину, поелику стихи Полюшка читал, восседая на унитазе, и отчего‑то не Брунгильде Марковне, каковую ласково именовал Брунечкой, но стальному козлу.
— Ванна… ванна — это очень важно для здоровья… а у вас спина побаливает.
— Верно, — важно качнула головой Гражина Бернатовна. — Щемит так, что прям спасу нет…
— Вот! А эльфийская глина, она целебная…
— Дорогая…
— Ах, в деньгах ли дело…
…благо, почивший супруг оставил Брунгильде Марковне помимо полного собрания собственных сочинений, недвижимость и неплохой счет в гномьем банке.
— Берем!
— Брунька, вот же… — Гражина Бернатовна нахмурилась, сетуя на этакую невесткину непонятливость. Пусть и добрая она баба, а бестолковая. Кто ж так сразу покупает?
А по лавкам иным пройтись?
Глянуть, кто и где, чем торгует? Побеседовать с приказчиками, медень сунув… небось, приказчики‑то верней знают, каков товар на самом‑то деле… потом поторговаться, цену сбить…
— Два комплекта берем, — уточнила Брунгильда Марковна. — С полною отделкой…
— А я? — Аполлон взирал на розовую ванну с нескрываемой обидой. — Я в ёй мыться не буду…
И ножкой топнул.
— Не хочу розовую унитазу!
— Полечка…
— Аполлон! Ты ведешь себя, как маленький! — Гражина Бернатовна мысленно уже полагала ванну своею, а потому мысль, что сыновний каприз способен лишить ее этакого чуда, вызывала глухую обиду.
— Не хочу!
— И не надо, — Брунгильда Марковна погладила Аполлона по руке. — Полечка, мы тебе другой купим… только скажи, какой.
И Аполлон приободрился:
— От этот! — и пальцем в унитаз ткнул. — Черный — это концептуально!
— У Полечки чудесный вкус… — восхитилась Брунгильда Марковна, а Гражина Бернатовна мстительно добавила:
— От мамы достался…
— На унитазе я сижу… и думу тяжку бережу. Судьба страны гложет меня… без ей прожить не могу дня! — возвестил Аполлон.
— Гениально… — мрачно заметила Евдокия, в мыслях накинув еще пару десятков злотней за моральный ущерб.
Все‑таки она оставалась чужда к модным веяниям современной литературы.
Глава 13. О проблемах свах и свидетельницах
Разбудил Себастьяна запах.
Нет, аромат… нежнейший аромат свежей выпечки.
— С чем пирожки? — поинтересовался Себастьян, не открывая глаз.
— С грибами есть… со щавелем… с кислою капустой, — Евстафий Елисеевич разломил один. — А! Еще с луком и яйцами…
Он отправил пирожок в рот и замолчал.
— На Острожской брали? — Себастьян глаз открыл, левый, и поморщился: светло было в кабинете. Свет исходил из окна, и окутывал дорогое начальство золотистою дымкой. Над лысиной эта дымка становилась особенно плотною, почти осязаемою, донельзя смахивающей на нимб, каковой обычно святым малюют.
— А то, — с набитым ртом ответил Евстафий Елисеевич, что, впрочем, не поубавило в нем святости. — Тепленькие еще…
Себастьян не без труда сел.
Голова была тяжелой, словно после попойки…
— Тепленькие, — пирожок попался с грибами, начинка была сладковатой, щедро сдобренной, что жареным луком, что маслом, Себастьян лишь надеялся, что грибы в ней — съедобные, а то с его удачей в последнее‑то время, станется. — Евстафий Елисеевич…
— Ась? — начальство ело пирожки сосредоточенно, можно сказать с немалым увлечением, в котором Себастьяну виделись последствия очередной диеты.
Капустная?
Гречневая? Или снова кислое молоко? Но та, помнится, закончилась печально: диетическое молоко прокисло как‑то не так, и Евстафий Елисеевич неделю провел в палате…
— А чего это вы такой добрый сегодня? Пирожками угощаете…
— Так… — он понюхал рукав и признался: — Данечка совсем уж лютует… салатою меня кормит.
И уточнил:
— Одною, почитай, салатою и кормит. На завтрак — три листика. На обед — пять и половинку яйца крутого… а ужина и вовсе нет…
— Сочувствую, — второй пирожок, с маслянистой хрустящей корочкой и щавелевой сладкою начинкой, пошел лучше первого.
— И главное, повадилась меня обнюхивать! Так я, ежели вдруг, то скажу, что для тебя брал…
— Скажите, — милостиво разрешил Себастьян, почти поверив этакой начальственной откровенности.
— А ты мне, Себастьянушка, скажешь, что с тобою творится, — пальчики Евстафий Елисеевич отер платочком.
— Ничего не творится.
Пирожок, на сей раз, кажется, с мясом, застрял в горле. И начальство укоризненно покачало головой, а нимб света сделался ярким. Этакий не всякому святому положен, разве что мученикам… Себастьян даже задумался, можно ли Евстафия Елисеевича считать святым мучеником, когда тот ласково так произнес:
— Вот являюсь я в присутствие… а тут, заместо того, чтобы новостями порадовать, что, дескать, изловили душегуба этого, мне дежурный доклад сует. Мол, так и так, Евстафий Елисеевич, а ваш старший актор изволил явиться на работу спозаранку да в виде самом, что ни на есть, непотребном…
— Что?!
От этакой новости остатки сна как рукой сняло.
— Да я… я просто две ночи кряду не спал! И днем не спал! И в конце концов, я живой человек…
— Живой, Себастьянушка, — отвечало начальство, и в глазах его виделось понимание. — Я‑то знаю, что живой… и что давече с тобою некая неприятность случилась, которая здоровьице твое подорвала… крепко так подорвало.
— Вы…
Евстафий Елисеевич взял последний пирожок и, разломив, поморщился:
— От с яйцами не люблю… раньше‑то жаловал, а ныне смотреть на них не могу… — однако пирожок в рот отправил. — Так о чем я? О том, Себастьянушка, что в отпуске ты давно не был… работаешь, не щадя живота своего… и моего заодно… пиши заявление.
— Что?
— Пиши заявление, — повторило начальство, улыбаясь еще более ласково, нежели прежде, и от улыбочки этой, от нимба треклятого, который не собирался исчезать, Себастьяну стало несколько не по себе. — Что, мол, отпуск тебе надобен по состоянию здоровья… срочнейше… и исчезни. Да так, чтобы ни я, ни кто из нашей братии, найти тебя не сумел.
— Но…
— Думай, Себастьян, — взгляд сделался жестким. — Хорошенько думай…
Отпуск?
Почему сейчас? Ведь все некогда было… Себастьян особо не рвался, а Евстафий Елисеевич и не настаивал… тем летом позволил недельку погулять, а после завертелось — закрутилось.
Воры и душегубы, небось, по отпускам не рассиживаются… душегубы…
— Газеты?
— Уже окрестили его Волкодлаком…
Волкодлак.
Лихо.
Лихослав уехал, Себастьян помнит… письмо получил, точно, аккурат перед тем как уснуть… а ведь и вправду, похоже, укатали его… прежде и по два, и по три дня, а то и по неделе спал вполглаза, но этакого, чтоб прям с ног валило, не случалось.
Случилось.
Не о том надобно… почему отпуск? Евстафий Елисеевич не торопит, но и не уходит, сидит, поглядывает искоса… думает не о своем, но…
…конфликт интересов.
…Лихослав Себастьяну брат. Об этом знают. И вспомнят. И отстранят… странно, что до сих пор не отстранили… если приказ будет отдан прямой, однозначный, то ослушаться его Себастьян не сможет.
И ежели завтра его именем короля и прокуратуры отправят Хельмову задницу в Подкозельске стеречь, то поедет он…
— Знаете, — Себастьян облизал пальцы. — А я ведь и вправду себя нехорошо чувствую… голова вот болит, кости ломит.
— Старость, Себастьянушка, она такая…
— Спасибо.
— За что? — Евстафий Елисеевич бровь приподнял.
— За понимание… Евстафий Елисеевич, а если вдруг… поймают меня за чем‑нибудь предосудительным.
— Если поймают, — познаньский воевода протер сияющую в солнечном свете лысину, — то я в тебе очень разочаруюсь. А разочаровывать начальство чревато, Себастьянушка…
С родною конторой Себастьян расстался мужественно, кончиком хвоста смахнул несуществующую слезу и, протянув к серому зданию, на которое извозчик поглядывал с опаской, руку, произнес:
— Жди меня, и я вернусь!
Извозчик только головой покачал: люд в Познаньске ныне пошел престранный, верно, лето выдалось чересчур уж жарким, вот солнцем в головы и напекло. Он тронул поводья, спеша убраться от места пренепреятного, помнилось оно по молодым годам, далеким и весьма буйным, о чем ныне извозчик желал бы забыть. Да вот взгляд клиента, черный, цепкий, заставлял нервничать и крепче сжимать поводья.
— А отвези‑ка меня, милейший, на Цветочный бульвар, — на площади Согласия, едва ли не самой старой в Познаньске, хотя на тему того, кто и с кем о чем согласился анналы расходились — клиент встрепенулся, потянулся и широко, заразительно зевнул. — А багаж доставишь по адресу…
Багажа того — картонная коробка, перевязанная серой бечевой.
— Не боитеся?
— Чего? — клиент ерзал и вертел головой, принюхиваясь. И ежели б не спокойствие лошадки, извозчик решил бы, что он — из оборотней, но коняшка, к волчьему духу чувствительная, мирно цокала, знай, покачивала лохматою башкой да хвостом себя нахлестывала, гоняя полуденных сонных мух.
— Ну… авось не доставлю?
— Авось, лучше доставь, — оскалился клиент, и поверх коробки легло нечто, сперва принятое извозчиком за змею. — А то ж грустно станет.
— К — кому?
Клиент змею поглаживал… не змею — хвост, толстый и покрытый мелкою чешуей.
Жуть какая…
— Всем. Мне — без вещей сразу, а вам — с вещами, но позже… когда найду.
Извозчик сразу поверил, что этот найдет всенепременно, и проклял свой длинный язык. Он же ж в жизни чужого не брал! И брать не собирался… а теперь выходит, будто бы…
— Не волнуйтеся, — буркнул он, лошадку подстегнув, — доставлю все в наилучшем виде…
— Замечательно, — улыбка клиента стала шире. — Видите, как все просто…
До самого Цветочного бульвара извозчик помалкивал, да и клиент его, погруженный в собственные мысли, не спешил говорить. Оно и к лучшему, ибо порой попадаются люди, которым мнится, что будто бы у извозчика иных дел нету, окромя как об их горестях выслушивать.
И каются.
Жалятся.
Кто на жену, кто на тещу, кто на работу свою, на начальство… будто бы у самого Митрофана нет ни жены, ни тещи и работа легкая… этот‑то, нынешний, не из тех. Барчук, вона костюмчик дорогой, беленький. Рожа холеная, пущай и недокормленная: нос птичьим клювом торчит, губы узенькие, глаза черные из‑под бровей зыркают недобро… абы не сглазил, лошаденка‑то зело на сглаз чутка, сляжет потом, и где новую брать?
Извозчик, помрачнев еще больше, нащупал вотанов крест и мысленно молитву вознес: авось и заступится Могучий за слабого человечка, оборонит… даром что ли Митрофан кажную неделю до храму ходит и свечи стави, восковые, по медню…
— Останови, — велел барчук и хвостом ляснул.
— Так ведь… — только — только свернули на Бульвар, а он длиннехонький, ровнехонький, красота по такому дамочек катать. Чтобы поважно, лошаденка ступает, дамочка сидит, глядит по сторонам, зонтиком кружевным покачивает…
Нынешний клиент на дамочку вовсе не походил.
Спрыгнул на землю, ногой постучал, аккурат, что жеребчик, которому до бегу неймется, и головою мотнул. Кинул сребень, велев:
— Коробку отвези на Оружейную, третий дом, отдашь панне Вильгельмине.
А сам бодренько этак по тротуару зашагал.
Вот же ж…
И куда это он так торопится‑то? На Цветочном‑то бульваре лавки с большего женские…
Панна Зузанна Вышковец обреталась в крохотном домике, донельзя похожем на пряничный. Розовые стены, гладенькая крыша, которая поблескивала свежею краской. Окна с резными ставенками и длинные горшки с цветами.
Дверь, выкрашенная в белый.
Аккуратненький молоточек на цепочке, за который и браться‑то было боязно, а ну как рассыплется в руках сладкою крошкой.
Не рассыпался.
И дверь открыли сразу.
— Старший актор, — представился Себастьян, мысленно понадеявшись, что о бляхе эта махонькая женщина, завернутая в несколько слоев черного крепу, не спросит. — У меня есть вопросы по поводу вашей… а кем вам приходилась Зузанна Вышковец?
— Тетей, — всхлипнула женщина и посторонилась. — Двоюродной…
В доме весьма гармонично пахло булками.
— Вы… проходите… меня уже спрашивали…
— Новые обстоятельства, — туманно ответил Себастьян, сии обстоятельства, разглашать которые он не имеет права, не единожды его выручали. — Новые вопросы… или старые…
Узенький коридорчик, обои в старомодную полоску.
Вязаные салфетки на стенах.
И магснимки.
Мужчины и женщины, слишком не похожие друг на друга, чтобы быть родственниками, взирали на Себастьяна с мрачным неодобрением.
— Это пары, которые тетушка соединила… — пояснила женщина, шмыгнув носом, которые, не иначе как от постоянного шмыганья, разбух и покраснел. — Она была удивительной женщиной… каждого чувствовала… а это в ее деле важно…
Гостиная, куда Себастьяна привели, оказалась крохотной.
Те же полосатые обои.
И полосатые же креслица, махонькие, кукольные будто бы, полосатый кот на полу… портреты… вновь кружевные салфетки, что на стенах, что на креслицах, что на круглом столике.
— Вы… присаживайтесь… я… я до сих пор не могу поверить, что это с ней случилось…
— Как вас зовут?
— Что? Ах, простите… Аниела… Аниела Зазбога… по мужу… теперь‑то я вдова… тетушка все порывалась подыскать мне кого достойного, но я… я Мишека своего очень любила… — нос ее пришел в движение. Он был крупным и приплюснутым, чем‑то смахивающим на утиный клюв.
— Расскажите, пожалуйста, о панне Вышковец…
— Что?
— Все.
— Все не могу, — Аниела шумно высморкалась.
— Почему?
— Так всего не знаю, — она уставилась на Себастьяна серыми круглыми глазами. — Всего мне тетушка не рассказывала.
— А что рассказывала?
Аниела задумалась, узенький лоб ее сморщился, а подбородок выпятился вперед. Губы шевелились, но Аниела не издавала ни звука. Себастьян ждал.
Тикали старые часы.
Мурлыкал кот.
Аниела молчала.
А терпение медленно истощалось, избытком терпения Себастьян никогда не мог похвастать. И сдался первым.
— Вы переехали сюда после смерти вашего мужа?
Аниела вздрогнула и сжалась:
— А вы откуда знаете?
— Предположил.
Кажется, ему не поверили.
— Вы сами сказали, что ваш супруг умер, а тетушка предложила найти нового…
— Я любила Мишека.
— Верно. Любили. И отказались… но вы ведь остались жить с тетей?
— Д — да…
— Почему?
— Так… я одна… и она одна… и тетя предложила, а я согласилася, — Аниела вновь шмыгнула носом. — Она учить меня стала… говорила, что дело свое передаст… потом, когда помреть… но она крепкою была… и помирать не собиралась.
— Никто не собирается.
Аниела кивнула.
— И как давно вы сюда переехали, — Себастьян повторил вопрос, и свидетельница вновь задумалась. Думала долго… минут пять.
— Так это… пять лет тому выходит… и месяц. Аккурат в травне Мишека схоронили… и я к тетушке… погоревать… на две недельки… а потом еще дом продавали… — она загибала пальцы, старательно перечисляя события, для нее, несомненно, важные, но Себастьяну совершенно не интересные.
— И тетушка вас учила… чему?
— Свахою быть.
Креповый платочек коснулся красной, натертой щеки.
— А ваша тетушка была хорошей свахой?
— Лучшей… только… — Аниела замолчала, прикусив бледную, точно тряпичную, губу.
— Что «только»?
Вздох.
И вновь платочек, который трет уже другую щеку.
— У нее… не ладилось в последнее время… люди стали другими… так она говорила. Все сами начали жениться… знакомиться… а разве так можно?
— А разве нельзя?
— Конечно, нет! — Аниела платочек отложила, а из рукава ее появились черные четки, бусины которых она перебирала ловко, почти профессионально. Бусины скользили, ударялись друг о друга с глухим неприятным стуком. — Люди… люди ведь не знают, чего хотят! А еще врут!
С этим утверждением Себастьян не мог не согласиться.
— И вот что получается? — тема, похоже, была Аниеле близка, оттого и раскраснелась она пуще прежнего.
— Что?
— Вот, скажем, у тетушкиной знакомой дочь… познакомилась с парнем сама… и письма ему писала… и он ей… и пожениться решили….
— А что в этом плохого?
— Ничего, наверное. Только ж после свадьбы выяснилося, что врал он все в письмах. И про то, что дом свой имеет… и про учебу… и про работу… они‑то думали, что дочь за приличного человека отдают, а оказалось — за обманщика, которому только приданое и надобно!
Себастьян покачал головой, сочувствуя, и ободренная Аниела продолжила:
— А ведь после свадьбы может оказаться, что жених кутежник… или игрок… или норов имеет дурной. Аль у невесты в роду безумцы… о таком‑то, небось, люди таятся, не спешат говорить. Тетушка же про каждого клиента вызнавала…
— И часто ей случалось обнаруживать… — Себастьян замялся, не зная, как назвать это, — брак?
— Постоянно почти! — воскликнула Аниела. — То парня колченогого пытаются за здорового выдать… то еще девку кривую подсунут, думают, что ежели стеклянный глаз ей вставили, то и проблемы нету… еще намедни одна лысая была… соперница ее прокляла да так крепко, что волосья повылазили, а новые не росли. Той‑то штрафу дали, но штрафом волосы не возвернешь… так тетушка девку ту лысую выгодно к цирюльнику пристроила. Каждый день парики меняет, прически показывает, и счастливая… и он довольный, прежде‑то нанимал кого, а тут жена есть. Все экономия.
С этой точки зрения Себастьян женитьбу как‑то не рассматривал. Признаться, он ее вовсе не рассматривал и надеялся, что в обозримом будущем избежит страшной участи быть счастливо отбрачеванным.
— Тетушка всегда знала, кого и с кем свести… а то иные порой… вот заявится, бывает, мужичок и начинает говорить, что, дескать, ему нужна жена… чтоб знатного роду, сама красавица, да с приданым, да чтобы и в доме чистоту держала, и готовить могла… и детей его любила.
Аниела вздохнула:
— Крепко мы тогда намаялись, пока выяснили, что подойдет ему одна вдовица… бездетная, одинокая… хорошая очень женщина, она к тетушке потом частенько наведывалась, рассказывала, что про мужа этого, что про детей… и когда услышала, что тетю… — Аниела зарыдала, и рыдала громко, самозабвенно.
Себастьян не мешал, разглядывая вязаные салфеточки и кота, который к хозяйским переживаниям отнесся с полнейшим равнодушием, лишь на другой бок перевернулся да лапы вытянул.
— Хорошо, — Себастьян дождался, пока всхлипы стихнут. — Я правильно понял, что ваша тетушка была успешной свахой, настоящим профессионалом в своем деле…
— Как вы хорошо говорите…
— …но в последнее время испытывала некоторые… затруднения…
— Д — да…
— И клиентов у нее осталось мало?
— Трое…
Трое — это хорошо… трое — это не дюжина и даже не полдюжины.
— Панна Бершкова… или уже Мишковец? Надо глянуть. Она постоянная клиентка…
Себастьян прикусил язык, решив, что выяснит подробности у самой панны не то Бершковой, не то Мишковец.
— Панночка Глуздова… очень неподатливая… и был еще пан Охимчук, но они с тетушкой намедни поспорили крепко…
— О чем?
— Он решил, что сам справится… записался к этому ужасному человеку на курсы!
— К какому человеку?
— С — сейчас, — Аниела неловко поднялась. — Я… принесу…
Она вышла, оставив Себастьяна наедине с десятками снимков и котом, который все ж соизволил проснуться и ныне лежал, изучая Себастьяна.
Кошачьи глаза были опасно желты и виделось в них сомнение.
— Не нравлюсь? — шепотом поинтересовался Себастьян, кот широко зевнул и покосился на хвост, который заинтересовал его куда больше гостя.
И то, в этом доме гости появлялись частенько, но вот хвостатых средь них кот не помнил…
— Жаль, что ты не разговариваешь, — Себастьян протянул руку и коснулся жесткой колючей шерсти. — Уж ты точно знаешь, куда больше хозяйки…
Кошачьи усы дрогнули.
Он и вправду знал довольно много, поскольку в дом этот попал задолго до Аниелы, которую полагал особою излишне трепетной, чтобы от нее был толк. И ныне, оставшись наедине с ней, испытывал некоторые весьма обоснованные сомнения относительно собственного будущего.
Не справится Аниела ни с делом, ни с домом… это кот понимал, как и то, что отныне лишен будет маленьких кошачьих радостей, навроде свежей печенки по четвергам…
— Вот, — Аниела вернулась с огромным альбомом в кожаной обложке, который с немалым трудом удерживала на весу. Ручки ее были тонки, а альбом — внушителен даже с виду. И на стол он не лег — упал, царапнув коваными уголками полировку. — Это тетин альбом… она туда все записывала… о клиентах и вообще…
— Вы его показывали? Тем, кто был до меня?
Аниела покачала головой.
— Почему?
— Они… они не спрашивали… только о том, были ли у тетушки враги.
— А были?
— Нет, откуда…
— А пан Охимчук, с которым у нее ссора вышла…
— Так он не враг… писарь судейский, третьей коллегии… очень приятный мужчина, — Аниела вдруг смутилась. — Только очень нерешительный…
Она открыла альбом.
— Вот…
На волкодлака пан Охимчук походил не более чем мышь на паровоз. И пусть снимок был высочайшего качества, но тем явнее проступали недостатки. Сплюснутая голова, покрытая редкими волосами, которые росли ко всему клочьями. Вытянутая передняя губенка со щеткой усиков. Жиденькие бакенбарды и острая бородка. Пан Охимчук был невзрачен и сутуловат, темный сюртук, явно скроенный по моде двадцатилетней давности, сидел на нем криво, оттого сам пан Охимчук гляделся горбатым.
— Не очень удачный снимок, — признала Аниела. — Тетушка уговаривала его сделать другой. И гардероб обновить… она всегда плотно занималась каждым клиентом…
— Пан Охимчук отказался?
Аниела перевернула страницу.
— Вот, — она протянула визитную карточку яркого красного колеру, — из‑за него все!
Карточка плотная, глянцевая, явно не из дешевой бумаги. А шрифт рубленый.
Черное на красном.
«Курсы настоящих мужчин»
И ниже, меленько: «мы поможем раскрыть внутренний потенциал».
На обратной же стороне и вовсе значилось:
«Разбуди в себе варвара!»
Отчего‑то представился пан Охимчук, но не в сюртуке, а в леопардовой пятнистой шкуре да с дубиной, которую он норовил примостить на узеньком плечике.
— Этот человек имел наглость сюда заявиться! — Аниела подняла кота, который проявил неожиданное для полосатой его натуры смирение. — Они с тетушкой беседу имели…
— О чем?
— Не знаю, — она чесала кота за ухом, отчего кошачье ухо нервно подергивалось, а хвост и вовсе стучал по обтянутому полосатой тканью подлокотнику. — Но после того разговора тетушка выставила его из дому… так и сказала, мол, уходите, пан Зусек, видеть вас не желаю! А после еще капли сердечные пила…
Интересно получается… очень интересно.
— Вы об этом рассказали, надеюсь?
— А надо было?
Себастьяну показалось, что он услышал, как тяжко вздыхает кот, хвост его замер, а глаза закрылись, и на морде появилось выражение бесконечной тоски.
— Они… не спрашивали про пана Зусека… только про врагов… про конфликты… а то ж не конфликт. Он предложение тетушке сделал… так она сказала…
— Какое? — без особой надежды на ответ, поинтересовался Себастьян.
— Тетушка не сказала… обмолвилась только, что это бесчестно… и дурно пахнет…
Все любопытней и любопытней.
— А когда пан Зусек заходил?
В альбоме ему места не нашлось. Себастьян перелистывал плотные страницы серого картона, к которым крепились и снимки, и узенькие бумажки, надо полагать, с информацией о людях, на снимках представленных.
Он прочтет.
Позже.
В месте тихом и спокойном… в таком, где его не станут искать. А если и станут, то вряд ли найдут. И Себастьяну было известно лишь одно такое.
— Так… так на позатой неделе… нет… дальше… тридцать первого травня! — Аниела обрадовалась, что вспомнила. — Я помню, мы первого завсегда по счетам платим, и я раскладывала на кухне… нам бакалейщик выставил совсем уж непомерный, и я сверялась… а тут он. Заявился… время позднее, я еще подумала, что это просто‑таки неприлично, заявляться к людям без приглашения… улыбается весь такой, ручки целует…
Она на ручки эти, упрятанные в перчатки явно не новые, хоть и добротные, вздохнула.
— Красавицей меня назвал…
Кот, приоткрыв один глаз, фыркнул: этакой‑то лести и поверить… нет, к Аниеле он был по — своему привязан, но меньше, нежели к дому и собственной плетеной корзинке.
— А выходил… сунул карточку, сказал, ежели тетушка образумится, чтоб нашла его…
— Но она не образумилась?
— Я карточку ей положила… и… и понимаете, клиентов не осталось… а денег… мы ремонт сделали… и еще на воды съездили… и вот… а он был одет так хорошо… и я подумала, что, может, зря тетушка гневается… она вспыльчивой женщиной была. Но отходила легко… и если бы отошла, подумала… глядишь и…
— Но она не отошла?
Аниела понурилась и призналась:
— На третий день, когда я думала, что все уже… то подсунула ей визиточку… а она на меня накричала, чтоб я не смела с этим… с этим человеком связываться. Назвала его бесчестным… и карточку в мусорное ведро выкинула.
— А вы достали?
Аниела покачала головой.
— Я подумала… он такой обходительный… и…
— Вы встречались?
На сей раз кот определенно испустил тяжкий вздох.
— Он… он меня встретил… помог корзинку поднести…
— Когда?
— Позавчера… — теперь она говорила шепотом, избегая смотреть в глаза. — Он мне так сочувствовал… так сочувствовал… и сказал, что если вдруг помощь понадобится… и что у него к тетушке был деловой интерес…
— Какой?
Слишком все просто… но кто сказал, что надо искать сложности?
— Он… он был родом с Приграничья… а там много мужчин одиноких… у него имелись анкеты с собой… но вот с женщинами пан Зусек совсем не умеет работать. А у тетушки получалось… с ее репутацией… она бы легко подыскала невест…
— А вы?
— Я… я не знаю… я не уверена, что сумею…
— Вы отказались?
Красная карточка раздражала самим своим видом.
— Н — нет… он был так настойчив… я говорила, что, наверное, дом продам… и уеду… наверное, уеду… но обещала, что подумаю…
Убрать упрямую старуху, чтобы дело перешло к наследнице, которая куда более сговорчива?
Возможно, но… он ведь не мог не понимать, что первым делом проверят именно его. И то, что пропустили пока, случайность, не более…
— Но я… понимаете, у меня нет тетушкиного таланта… — Аниела комкала платочек и остервенело чесала за кота за ухом, отчего и ухо, и сам кот, несколько подрастерявший прежнее равнодушие, подергивался. — И я… я не смогу… к тому же, тетушка говорила, что он бесчестный человек… но такой обходительный.
— Все мошенники обходительны, — заметил Себастьян, поднимаясь. — Могу я осмотреть комнату вашей тетушки?
Аниела рассеянно кивнула, мысли ее явно были заняты уже не тетушкой, и не Себастьяном, но предложением пана Зусека, которое и хотелось принять, и все же было боязно.
В комнате Зузанны Вышковец вязаных салфеток не наблюдалось.
Здесь было чистенько.
Аккуратненько.
Безлико. Ни тебе статуэток на полочке, ни картинок с котятами аль младенчиками, ни иных мелочей, до которых так охочи женщины.
Кровать металлическая.
Цветастое покрывало и подушки, выставленные башней. Кружевная накидка, единственной, пожалуй, уступкой женской натуре хозяйки. И тяжелый секретер заместо туалетного столика.
На секретере — снимок. Зузанна Вышковец, еще живая, дама весьма и весьма строгого вида, стоит, придерживает под локоток Аниелу в траурном ее облачении.
Себастьян снимок сдвинул и провел по секретеру пальцами: убирались в комнате постоянно.
— Вы ничего отсюда не выносили?
Аниела всхлипнула и покачала головой:
— Тетушка не любила, когда я ее вещи трогала…
Себастьян выдвигал ящик за ящиком.
Счета. И снова счета, на сей раз перевязанные красною лентой, с пометками об оплате… пачка красных листовок, из тех, которые бросают в почтовые ящики.
Знакомый призыв:
«Разбуди в себе варвара!»
Себастьян немедленно ощутил просто‑таки небывалое желание этого самого варвара раскрыть, желательно, при непосредственной встрече с паном Зусеком. Чувствовал, пригодится.
Ежедневник… список покупок… заметка заглянуть к портнихе…
Мелочи чужой жизни. И странно, потому как жизни больше нет, а вот эти мелочи остались.
На последней странице размашистым почерком значилось: «неч. 9–17, ВВ».
Любопытно.
Страницу Себастьян вырвал и, сложив, убрал в карман. Чуял: пригодится еще.
Глава 14. О новых подозрительных знакомых
Когда острые зубки померанского шпица панны Гуровой сомкнулись на щиколотке, Гавриил лишь стоически стиснул зубы, сдерживая весьма естественный в подобной ситуации порыв: дать наглой собаченции пинка.
— Ах, простите… Мики, шалун, фу… он такой непоседа…
Шалун Мики щиколотку отпускать не пожелал, но заворчал и головой мотнул, пытаясь выдрать кусок мяса. Однако хищным намерениям сим помешал шелковый носок: ткань затрещала и порвалась…
— Я возмещу, — поспешила уверить панна Гурова, перехватывая пекинеса с несвойственным дамам преклонного возраста прытью.
— Что вы, не стоит… такая безделица…
Нога саднила.
А в глазах — бусинах шпица виделась Гавриилу мрачная решимость.
— Он еще совсем молоденький… — в хозяйских руках Мики виделся этаким клубком рыжей шерсти, совершенно очаровательным созданием, конечно, если не обращать внимания на пасть с мелкими, но до отвращения острыми зубами. — Мусечкин сыночек… всего‑то два в помете было…
Мусечка ввиду преклонного возраста и лени, вызванной немалым ее весом — панна Гурова не могла отказать себе в удовольствии побаловать любимицу — лежала спокойно, вывалив розовый, будто тряпичный язык. На морде ее было написано величайшее отвращение к миру и людям, за исключением, пожалуй, хозяйки, с мнением которой Мусечке приходилось считаться.
— Одного утопить пришлось, — со вздохом закончила панна Гурова и погрозила Мики узким пальчиком.
— Зачем?
— Дефектный был, — панна Гурова во избежание конфликта с новым жильцом, который был весьма ей любопытен — а следовало сказать, что панна Гурова не привыкла отказывать себе в утолении любопытства — усадила Мики на колени и сунула в пасть кусок сухой свиной шкуры. — Мусечка уже не в том возрасте… но все ж ожидала от нее большего. Стало быть, вы сирота?
— Круглый, — признался Гавриил, озираясь.
В отеле он был уже несколько часов, но прошли они на редкость бездарно. Гавриил обыскал собственный нумер, состоявший из нескольких комнат, чистых, но в целом каких‑то убогих.
Старый ковер.
Бумажные обои, которые легли неровно, местами уже выцвели, а местами цвет переменили, оттого и сами стены гляделись будто бы плешивыми. Старая кровать скрипела, от матраца неуловимо пахло плесенью. А на простынях обнаружились аккуратные латки.
Ковер был чинен, как и гардины. А вот стулья и махонькая, явно в прежние, славные времена, обретавшаяся в дамской комнате, козетка могли похвастать новою обивкой. Правда, ткань была жесткой, дурно прокрашенной.
Однако Гавриила смутило не это, но запах…
Зверя?
Пожалуй… и духов, той самой «Страстной ночи», флакон которой он припрятал на дне чемодана. Гавриил нутром чувствовал, что флакон пригодится, в отличие от прочих вещей, которые он приобрел единственно для того, чтобы соответствовать собственной, почти выдуманной истории.
— Сирота, — ответил он и, наклонившись, потер щиколотку. — Круглый…
— Бедняжка, — неискренне посочувствовала панна Гурова и придвинулась ближе. — У меня тоже никого не осталось, кроме моих деточек…
Мики зарычал.
Деточек у панны Гуровой было шестеро, и Гавриилу они казались одинаковыми, будто скроенными из одной огромной лисьей шкуры. И всем шестерым он активно не нравился…
Правда, прежде собаки его боялись.
— Тише, Мики, тише дорогой… значит, вы не тут родились? — продолжила допрос панна Гурова, пользуясь тем, что давняя ее соперница, панна Ангелина, еще изволила почивать.
Эта ее привычка, пребывать в постели до полудня, а после жаловаться на бессонницу и слабые нервы, весьма злила панну Гурову, которая вставала засветло и полагала, будто бы именно так надлежит поступать всем разумным людям.
Нового знакомца она причислила именно к ним.
— Не тут, — ответил он, косясь на крайний столик.
Столовая в пансионе была невелика и бедна. Пять разномастных столиков, явно приобретенных в лавке старьевщика, стояли тесно, так, что между ними с трудом можно было протиснуться. Стульями, число которых ежедневно менялось — пан Вильчевский полагал, что мебель в столовой изнашивается чересчур уж быстро, а потому давал стульям «отдых» в гостиных и нумерах.
Застиранные скатерти.
Вазочки из дешевого фаянсу, крашеные не иначе, как самим хозяином. И тряпичные цветы, которые пан Вильчевский тако же творил самолично из тех гардин, что окончательно утратили внешний вид.
Готовили, однако, сытно, хоть и блюда простые.
И перед Гавриилом исходила паром пшеная каша, щедро заправленная маслом.
— А откуда? — панна Гурова подвинулась еще ближе, едва не смахнув миску острым локотком. Она вся была какая‑то, точно из углов составленная. Тоненькие ножки, худенькие ручки, длинная шея, вокруг которой панна Гурова наматывала вязаные шарфы, и старомодная шляпка — таблетка на седых волосах.
— Сколуво. Это около границы…
Гавриил прикусил губу, уже жалея, что сказал… следовало бы назвать иное место, потому как если старушка и есть волкодлак, то…
…псы с волкодлаками плохо уживаются, а у панны Гуровой шестеро.
Лежат у ног, глядят на Гавриила, и кажется, были готовы вцепиться в глотку, дай только повод. Гавриил благоразумно повода не давал и в свою очередь шпицев из поля зрения старался не выпускать.
— Около границы… как романтично, — панна Гурова сухою ручкой взяла сухую же галету и, отломив кусок, сунула его в пасть Мики, не особо озаботившись тем, желает ли шпиц есть галету.
Шпиц не желал.
И захрустел подачкой мрачно, выразительно даже.
— Говорят, там ныне неспокойно… призраки, упыри… — она романтично воздела очи к потолку, который явно нуждался в том, чтобы его побелили.
— Моровая дева, — подсказал Гавриил и вновь ногу почесал.
Мики, как показалось, усмехнулся.
— И ваши родители там жили?
— Пока не умерли.
— Логично, — вторую половину галеты панна Гурова сунула себе за щеку, жевала она сосредоточенно, и судя по смачному хрусту, ее нельзя было отнести к тем старушкам, которые собственные зубы сменили на фарфоровые. — Жили — жили, а потом умерли… мой супруг тоже скончался…
— Соболезную…
— …пятнадцать лет тому. Редкостного сволочизма был человек… после него я собак и завела. Милейшие создания. А вы вот в Познаньск решили податься… с целью или так, путешествие совершаете? Помнится, прежде молодые люди все больше по Эуропе путешествовали — с… Венеция, Рим… Париж… вы бывали в Париже, Гавриил?
— Нет, — вынужден был признаться он. — Только в Подкузьминках…
— Подкузьминки, — со странным выражением произнесла панна Гурова. — Подкузьминки — это совсем не то… хотя, конечно, и в Подкузьминках есть своя прелесть… вот помнится…
Что именно ей вспомнилось, Гавриил так и не узнал, поскольку дверь распахнулась и в столовой появился мужчина весьма и весьма своеобразного вида.
Он был невероятно высок и худ до того, что казался истощенным. Крупная голова его, почти лишенная волос — реденький пух Гавриил при здравом размышлении решил волосами не считать — каким‑то чудом держалась на очень тонкой шее. Шею эту украшал желтый шелковый платок, который являлся единственным ярким пятном в обличье господина, поелику костюм его был черен, как и рубашка, и ботинки.
На сухопаром костистом лице застыло выражение неясной тоски, и взгляд, которым господин окинул столовую, задержался на Гаврииле.
— Знакомьтесь, — панна Гурова произнесла это громким шепотом. — Наша местная знаменитость… пан Иолант Зусек.
— Тот самый? — сердце Гавриила пропустило удар.
— Тот самый, — ответил уже сам пан Зусек, благосклонно кивнув новичку. — Вижу, вы читали мою книгу…
— Читал…
— И в мое время люди читали всякую чушь, — в голосе панны Гуровой появилось раздражение. — А читать надо классику…
И Мики тявкнул, должно быть, соглашаясь.
— Гавриил, — Гавриил поспешно вскочил и руку протянул, которую пан Зусек пожал осторожно, при том выражение тоски сменилось иным — несказанной муки.
— Он у нас терпеть не может прикосновений, — пояснила панна Гурова. — И собак.
Шпицы зарычали.
— Прекратите, — шикнул пан Зусек, и псы действительно смолкли. — Видите ли, юноша, любое прикосновение к человеку — в высшей степени интимный жест…
Он взмахнул рукой, и шпицы расступились.
— Он означает высшую степень доверия… а вы ведь осознаете, что нет у меня причин доверять малознакомому человеку.
Гавриил был вынужден согласиться, что у пана Зусека и вправду нет ни одной причины доверять.
— Вот видите… но я безусловно рад, что вас заинтересовал мой скромный труд…
— И вправду, скромный, — фыркнула панна Гурова, отпуская Мики.
Однако и он присмирел, а быть может, костлявые щиколотки пана Зусека не представлялись ему хоть сколь бы привлекательной добычей.
— Не обращайте внимания. Панна Гурова любит позлословить. Но в душе — она одинокая несчастная женщина…
Панна Гурова молча поднялась и шпицы тотчас встали.
— Уверяю вас, я совершенно счастлива…
Она поправила шарф — хомут и, подхватив зонт, удалилась.
— Она обиделась, — заметил Гавриил.
— Ничего страшного, — пан Зусек махнул рукой, жест получился вялым, сонным. — К вечеру отойдет. А то и раньше… но держите с ней ухо востро.
— Почему?
— Любопытна…
Хмурая девица, служившая при доме и кухаркой, и горничной, и официанткой, подала обед, на который пан Зусек посмотрел мрачно.
— Опять он экономит.
— Кто?
— Хозяин наш. Редкостный скупердяй… — он ковырнул кашу, которая была ароматна и свежа.
Гавриил вот сахарком ее посыпал, правда, сахару в сахарнице было на самом донышке, и теперь Гавриил слегка смущался, поскольку, ежели и пану Зусеку вздумается пшенку подсластить, то выйдет неудобно. Но тот лишь скривился и миску отодвинул.
— Мы договаривались, что на обед должно быть мясо. Пшенка хороша для старух, а мужчина без мяса — это… — он воткнул ложку в кашу так, будто бы именно она была виновата в том, что появилась ныне перед паном Зусеком. — Это не мужчина…
— А мне нравится.
Гавриил ложку облизал.
— Мне вот… мама всегда кашу готовила.
— Расскажите о ней, — пан Зусек вдруг наклонился и весьма резко, заставив Гавриила отпрянуть.
Впрочем, пахло от него не зверем и не духами, а… терпкий резкий аромат, который, пожалуй, перебьет и тот, и другой запах.
— З — зачем?
Пан Зусек воздел ложку, с которой отвалился желтый ком каши и плюхнулся аккурат на скатерочку.
— В ней я зрю исток всех ваших бед.
— Каких? — осведомился Гавриил, на всякий случай отодвигаясь от собеседника столь прозорливого. И еще кукиш скрутил, естественно, под столом, потому как крутить кукиши в лицо людям — дурной тон.
Пан Зусек, высунув розовый и чересчур уж длинный язык, ложку лизнул.
— Я зрю, — повторил он, прищурившись. В складочках темных, будто бы подкрашенных, век его глаза терялись, казались махонькими и какими‑то бесцветными.
Неприятными.
— Я зрю, — это слово, надо полагать, пану Зусеку было очень по вкусу, оттого и произносил он его медленно, со вкусом, — что вы обладаете преогромной чувствительностью. А еще стеснительностью во всем, что касается женского общества. Скажите правду…
Гавриил к правде готов не был, а потому головой мотнул.
— Вам стыдно признаться, — облизанная ложка блестела, и похоже, пшенная каша не была столь уж неприятна пану Зусеку, как он то говорил. — Это вполне естественно.
Ноздри его дрогнули.
Он ли… нехорошо получится… умный человек и волкодлак. А в том, что пан Зусек умен, Гавриил нисколько не сомневался: вон, целую книгу написал!
— Она с рождения внушала, что мужчине стыдно выказывать свою слабость… — он зачерпнул каши и отправил в рот, проглотил, не жуя, и острый кадык, выдававшийся на узкой шее, некрасиво дернулся. — Она подавляла вас… была авторитарна и нетерпима…
— Вы были знакомы? — Гавриил похолодел.
— Они все таковы. Истинная суть женщины — хищница. И только мужчина, всецело уверенный в себе, способен управиться с нею.
Пан Зусек похлопал Гавриила по руке. Ладонь его была горячей, сухой.
…а у волкодлаков температура тела выше, чем у обыкновенного человека. Ненамного, но все же…
— И оттого молодые люди, сами не понимая причин, робеют в присутствии женщин. Испытывают порой преотвратительные ощущение. Сухость во рту. Внезапную немоту. Слабость во всех членах, — пан Зусек перечислял, не забывая глотать кашу, а Гавриил смотрел на широкий его рот, на розовый язык и ровные белые зубы. — Они списывают это на урожденную скромность, тогда как дело в ином!
— В чем?
Пан Зусек оскалился.
— В голосе инстинкта! И его надо слушать… женщины опасны… они способны свести с ума, лишить воли… обобрать до нитки… сколько несчастных каждый день лезут в петлю… — он сделал паузу, позволяя Гавриилу обдумать услышанное, что тот и сделал, ответив:
— Не знаю.
— Чего не знаете?
— Сколько несчастных каждый день лезут в петлю. Это полицейские сводки глядеть надобно.
Пан Зусек коротко хохотнул:
— А вы шутник.
Смех у него оказался неприятный, тоненький.
— И это хорошо… очень хорошо… — пан Зусек поднялся. — Приходите…
На стол легла красная карточка.
— Уверяю вас, будет интересно. А вам, как соседу, и скидку сделаю… полный курс обойдется всего‑то в двадцать злотней. И я научу тебя стать собой.
— Спасибо, — вежливо поблагодарил Гавриил, хотя не совсем понял, зачем ему учиться быть собой, если он и так есть?
А каша за этими разговорами остыла.
Панночка Розалия Бергуш — Понятовска обреталась на Ковыляйской улочке, известной тем, что некогда, лет этак триста тому, всецело принадлежала королевской пассии, Алиции Ковыляйской. Та прослыла особою вольных нравов и большой придури, каковая и воплотилась в стремлении сделать сию улочку идеальной. И подчиняясь приказу, старинные дома были снесены, а на месте их выстроены новые, по особому проекту самой панны Алиции… поговаривали, что имелись у нее планы не только на улочку, но и на весь квартал белошвеек, а то и на Познаньск. Однако милосердные боги не допустили произволу, наградив бледную даму чахоткой, а уж тогдашнее лечение, с пиявками и кровопусканиями, сократили и без того короткий срок ея жизни.
Памятью о панне Алиции осталась широкая улица с белыми тополями, домами, облицованными розовым камнем да бронзовая статуя женщины в роскошном старинном наряде.
Ныне место сие было престижным и дорогим, невзирая на некоторые неудобства, каковые испытывали жители, поелику и сама улочка, и дома, на ней возведенные, были признаны историческим наследием, а потому обращения требовали бережного…
С этой мыслью Себастьян торжественно опустил бронзовый дверной молоток на бронзовую же нашлепку, прикрепленную к двери недавно. Вместо обычного стука раздался мелодичный перезвон, в котором можно было угадать фривольную мелодию из популярной оперетты.
Дверь открыл высокий мрачного вида господин в сюртуке и парике.
— Полиция, — сказал Себастьян, разглядывая сюртук, расшитый золотом по золоту. — К панне Эугении…
И карточку положил на золоченый поднос, который господин держал на вытянутой руке.
В дом впустили не сразу.
Сперва, когда дверь закрылась, Себастьян удивился: этакого не позволяли себе даже титулованные обитатели Белого города.
Потом разозлился.
И почти отступил, желая заглянуть в узкие окна, забранные решетками, но дверь вновь открылась. И давешний господин, отвесив низкий поклон, пророкотал:
— Ждут — с. В гостиной — с. Извольте ваши шляпу и хвост…
— Не изволю, — буркнул Себастьян, по ступенькам подымаясь с немалою опаской. Господин, служивший при доме не то дворецким, не то лакеем, доверия не внушал. — Хвост не отстегивается.
— Сочувствую.
И физия‑то каменная, аккурат такая, которая бывает, что у хороших дворецких, что у отменных мошенников, притворяющихся дворецкими. Но шляпу и перчатки все ж пришлось оставить на очередном подносе, то ли золоченом, то ли золотом, всяко вида превнушительного.
— Прошу вас. Следуйте — с…
В доме было богато.
Многоцветные обои. Картины, висевшие столь густо, что разглядеть эти самые обои, появись у Себастьяна подобное желание, было бы презатруднительно.
Статуи мраморные.
Вазы золотые.
И чучело бурого медведя, стоящего на задних лапах. В передних медведь держал очередной поднос — Себастьяну подумалось, что покупали их, верно, оптом, спросив за то немалую скидку. На подносе лежала книга внушительных размеров, в красной сафьяновой обложке, щедро украшенной каменьями.
— Это что? — книга выглядела подозрительно и вызывала вполне естественное желание — изъять.
— Благодарности, — лакей глядел на Себастьяна свысока, и в глазах его пустых виделась жалость. — Гости благодарят панну Эугению…
— За что?
— За все.
— Ах, за всякие пустяки… не стоит вашего внимания… Лютек, спасибо… можете быть свободны… хотя нет, пусть в малую гостиную подадут чай… у нас ныне замечательный чай. Мой супруг прикупил по оказии, истинно цианьский. По пятнадцати злотней за гривну.
Этакий чай и поперек горла встать может.
— И пирожных подай! — крикнула панна Эугения вслед. — Тех самых, которые из королевской кондитерской…
Повернувшись к Себастьяну, она пояснила:
— Мы для родственников берем, которые попроще, в местечковой… все одно Жоржиковы тетки в хороших пирожных ничего не понимают, так что зазря тратиться? Вы уж извините, что ждать пришлось… Лютеку велено, чтоб без докладу никого не пускал, а то ходят тут и ходят…
— Кто ходит?
— Ах, кто только не ходит! Все больше просители… знаете, почему‑то думают, что ежели Жоржику удалось заработать злотень — другой, то он просто обязанный этим поделиться… он, конечно, делится. Давече вот храму отписал пять тысяч на кровлю. Памятную табличку за то обещались. Но ведь всем и каждому давать, этак и разориться недолго…
Она шла по узкому коридорчику, и пышные розовые юбки колыхались, задевая стены.
— Ваш супруг…
— Жидомир Бергуш — Понятовский… вообще‑то он урожденный Цуциков, но взял мою фамилию. Согласитесь, что Жидомир Бергуш — Понятовский звучит куда как благозвучней.
Себастьян согласился.
— У него заводики… мыловаренные… с дюжину. И еще иного, по мелочи… там мануфактурка, там фабрика… понимаете.
— Понимаю.
— Чудесно! Мы в Познаньск недавно перебрались, в позатом годе. Я Жоржику говорила, что нечего в провинциях делать. Там, небось, ни обчества пристойного, ни жизни светское…
Панна Эугения остановилась у двери и опустила очи долу. А Себастьян не сразу понял, что дверь эту требуется отворить.
— У вас… чудесный дом, — сказал он, стараясь сгладить неловкость.
— Ах, вы мне льстите…
Льстил.
И лесть эта далась Себастьяну нелегко.
Золото.
Всюду золото.
Золотой шелк стен. И золотой бархат гардин. Золотой атлас с золотым же шитьем на низеньких креслицах. Золоченое дерево… золотые узоры на мраморе камина.
Золотая посуда.
— Неужели вы самолично… — Себастьян обвел все золотое великолепие рукой.
— Конечно… неужели я могла доверить свой дом кому‑то?
Платье на панне Эугении тоже было золотым, чрезмерно тяжелым для лета, но явно недешевым.
— Столько труда… столько труда… вы представить не можете…
Себастьян такое действительно представлять не мог и, главное, не желал.
— Вы присаживайтесь, а Розочка сейчас спустится… ей надобно туалету обновить, — панна Эугения присела на самый краешек кресла и, проведя по обивке ладонью, пожаловалась. — Цены в Познаньске несусветные! Приличную ткань дешевле, чем по двадцать сребней за аршин не сыскать… эта и вовсе сорок стоила…
— Скажите, вы были знакомы с Зузанной Вышковец? — Себастьян разглядывал собеседницу.
Недавно в Познаньске… насколько недавно? Впрочем, явно не месяц и не два… но ежели она волкодлак, то знает об этом, и способ нашла, как проклятье усмирить.
Или выход нашла…
— Зузанна… — панна Эугения нахмурилась, была она худа, однако эта худоба не придавала фигуре ни легкости, ни изящества, напротив, она словно подчеркивала недостатки — чрезмерно широкие плечи, коротковатую шею, перехваченную золотой лентой фермуара, и плоскую грудь. — Ах, та Зузанна… конечно… сваха… мы читали об этом ужасе…
Дверь отворилась, и давешний лакей вкатил столик, на котором громоздилась посуда, к счастью, серебряная.
— Уж извините, — панна Эугения, отпустив Лутека взмахом руки, сама взялась за сервировку стола. — Но пристойного сервизу я до сих пор не нашла… чтобы и проба хорошая, и исполнение… все норовят подсунуть какую‑то ерунду дешевую. Я так и сказала пану ювелиру, мол, сделайте, как я прошу, а Жоржик не поскупится. В конце концов, тут же ж столица! Небось, генерал — губернатор из серебра не пьет.
Себастьян охотно подтвердил, сказав при том чистую правду: чай генерал — губернатор предпочитал потреблять из высокого стеклянного стакана, который повсюду возил с собой. Ну, или же, на худой конец, из фарфоровой посуды.
Чай в серебре выглядел преподозрительно.
— Но я право не знаю, чем могу помочь… — панна Эугения держала чашечку двумя пальчиками и при том манерно оттопыривала мизинчик.
— Расскажите о ней.
— Обыкновенная женщина… средний класс, если вы понимаете, о чем я… изо всех сил стремилась казаться богаче, чем есть… но происхождение чувствовалось. Не было в ней… лоска не было.
Панна Эугения пригубила чай и зажмурилась.
— Превосходно… удивительно тонкий вкус… а уж аромат…
Себастьян осторожненько понюхал: от чая отчетливо пахло сеном. И оттенок он имел бледно — желтый, какой бывает, когда кипятком заливают спитую заварку.
— Удивительно, — согласился он. — Никогда подобного не пробовал!
— Это Жоржику по особому заказу… я говорила, да?
— Говорили. Так, значит, Зузанна вам не нравилась?
— Не нравилась? — панна Эугения отставила чашечку. — Ну что вы! Не могу сказать, что она мне не нравилась… или нравилась… я не имею обыкновения испытывать симпатию к прислуге. Или тем, кто вроде прислуги… это некоторые вольнодумцы полагают, что ежели вырядить горничную в дорогое платье, то из нее мигом принцесса выйдет.
— Не выйдет?
Панна Эугения носик сморщила.
— А воспитание как же? Манеры? Вкус утонченный… я сама два года уроки брала.
— Вкуса?
— Естественно. Я ведь должна соответствовать столице…
— У вас получается.
— Вот видите! — воскликнула панна Эугения. — А Зузанна… она была простенькой. Всю жизнь в Познаньске провела, а в результате что?
— Что? — послушно спросил Себастьян и покосился на массивный фикус с вызолоченной листвой.
— Ни — че — го! — панна Эугения произнесла это по слогам. — Совершенно ничего! Обыкновенная женщина, которых в любом городе множество… когда нам порекомендовали сваху, я, признаться, ожидала кого‑то более… более яркого… вдохновенного… она меня совершенно разочаровала…
— Чем?
Фикус был близко, достаточно близко, чтобы поделиться с ним чаем. Себастьян крепко подозревал, что этакая его щедрость не найдет понимания у несчастного фикуса, однако же сам пробовать изысканный напиток он тем более не желал.
Оставалось надеяться, что панна Эугения, увлеченная рассказом, отвернется.
— Категорической неспособностью понять наши желания…
— Это какие же?
— Розочка… вы скоро увидите ее… моя маленькая девочка… мы переехали в Познаньск отчасти для того, чтобы устроить Розочкину судьбу наилучшим образом. В провинции какие женихи? Баронет там… или вовсе купец средней руки… нет, Розочка — достойна самого лучшего! Мы с Жоржиком так считаем.
Панна Эугения, точно чувствуя, что Себастьян задумал недоброе, отворачиваться не спешила, напротив, она устремила на него столь внимательный взгляд, что ненаследный князь испытал некую неловкость. В его жизни, конечно, случалось встречать дам, которые, что называется, раздевали взглядом… а порой и не взглядом, но обыкновенно делали сие под влиянием страсти. В панне Эугении страсти не ощущалось вовсе, скорее уж некая деловитая сосредоточенность, которая и заставляла Себастьяна нервничать. Он старался сидеть смирно, чувствуя себя не то шкапом, не то очередным подносом, присмотренным панной Эугенией для украшения дома. Того и гляди протянет костлявую свою ручку, поскребет ноготочком, дабы убедиться, что не подсовывают ей золоченую медь под видом литья…
— Нам сказали, что Зузанна — лучшая сваха в Познаньске… и что в результате? Мы рассчитывали минимум на графа… но лучше — князя. А она нам все тех же баронетов сватала… да у нас в Клятчине баронетов, что собак бродячих… тьфу.
Сплюнула она изящно, на блюдечко, и после губки отерла платочком.
Себастьян кивнул.
— Еще посмела говорить, будто бы у нас чрезмерные запросы… да мы за Розочкой знаете, что даем?
— Что?
Это был неправильный вопрос, судя по тому, как блеснули глаза панны Эугении. Она подалась вперед, и Себастьян отпрянул настолько, насколько позволила высокая спинка дивана.
— Три дюжины простыней шелковых, качества найвысочайшего. Одна — десять злотней стоила! Подушки, гусиным пухом набитые. Двадцать две… пододеяльники, наволочки, естественно… дюжина перин…
Голос ее звенел и звенел, а Себастьян с тоскою думал, что приданое неведомой ему Розочки и вправду было обильно…
…пожалуй, как и сама Розочка.
Она вплыла в гостиную, прерывав поток матушкиного красноречия, и уже за одно это Себастьян воспылал к ней невероятною симпатией.
— Ах, дорогая… — панна Эугения поднялась навстречу и руки протянула, желая обнять дочь. — Мы тут как раз о твоем приданом говорили… князь Вевельский так внимательно слушал!
Себастьян кивнул.
Слушать он умел, не важно, шла ли речь о шелковых простынях с монограммами, о соленой селедке аль о новом увлечении пана Бжузека, о котором он имел обыкновение повествовать пространно и занудно.
— Это Розочка…
Розочка присела в неловком книксене и юбки кружевные, золоченые, приподняла.
— Бесконечно рад видеть, — Себастьян поспешно поднялся и ручку поцеловал. — Ваша матушка много лестного рассказала о вас…
Розочка зарделась.
И веер раскрыла в неловкой попытке спрятаться.
— Она у нас такая скромница… Розочка, милая, присядь… вы видите? Чистое дитя! Юное! Невинное!
— Мама!
— Мама правду говорит… воспитание отменное. Мы гувернантке десять злотней в месяц платили и еще премию… а потом наняли учителя танцев. И этикету… учителя ныне дорогие. По семь сребней за урок! Но для Розочки ничего не жаль.
— Мама… — прогудела Розочка и веерочек приопустила. Теперь по — над пушистым краем крашеных страусовых перьев виднелись огромные, преисполненные какой‑то неизбывной тоски, Розочкины глаза.
Глаза были огромными, впрочем, как и сама Розочка.
Пудов десять неописуемой красоты.
Волосы темно — морковного колеру щедро были смазаны воском и уложены ровненькими кудельками, в каждый из которых вставили шпилечку с матерчатою розой. И оттого сама Розочкина голова гляделась похожею на клумбу. И без того бледная кожа была присыпана белилами в попытке скрыть явно неблагородные веснушки. Розочкины щеки были пухлы, аки подушки из ея приданого. Вереница Розочкиных подбородков скрывала шею. А грудь ее, подпертая корсетом, который не столько подчеркивал талию, сколько в целом придавал Розочкиному необъятному телу форму, норовила выпрыгнуть из тесноватого декольте. И на оной припудренной груди гордо возлежало золотое ожерелье с каменьями столь крупными, что Себастьян, пусть и не был ювелиром, но разом заподозрил подделку.
— Разве она не прелестна? — всплеснула руками панна Эугения. И Себастьян кивнул: слов, чтобы описать всю прелесть Розочки, у него не нашлось.
— И вот представьте, эта женщина… она заявляет, будто бы Розочке надобно работать над собой!
Розочка вздохнула, и колючее золотое кружево, что топорщилось над декольте, шелохнулась.
— Мама… — теперь в голосе ее звучал упрек.
— Молчи. Мать лучше знает! Розочка так расстроилась… так расстроилась… — панна Эугения подала дочери поднос с пирожными. — Она и теперь переживает.
Розочка величественно качнула головой и отправила пирожное в рот.
Проглотила, не жуя.
И потянулась за следующим.
— Видите, как переживает? Розочка всегда, когда волнуется, ест…
Судя по объемам, Розочкина жизнь была полна волнений и тревог.
— И мы, если хотите знать, вовсе собирались расторгнуть договор… я не сомневаюсь, что Розочка и без помощи этой женщины составит чье‑нибудь счастье. Вот вы, сколь я понимаю, не женаты…
Розочка прекратила жевать и повернулась к Себастьяну. Поворот она совершала всем телом, медленно, и Себастьяну почудилось, что слышит он и натужный скрип корсета, и хруст золотой ткани, готовой вот — вот расползтись по шву.
— Не женат, — вынужден был признать он.
— Какое замечательное совпадение!
— Это не совпадение, — Себастьян покосился на дверь, которая была заманчиво близка. — Это жизненный принцип…
— Хочу, — произнесла Розочка и, вытянув руку, ткнула в Себастьяна пальцем.
— Роза!
— Прости, мама, — она опомнилась, но руку не убрала, а лишь мизинчик оттопырила. — Купи…
— Что ж, — Себастьян поднялся, — если ничего больше о панне Вышковец вы сказать не можете…
— Купи! — Розочка топнула ножкой, и креслице под нею опасно захрустело.
— Роза! Многоуважаемый Себастьян… вы к нам не иначе, как чудом попали…
— Да нет, извозчик довез…
— …и мы просто обязаны использовать этот шанс! Поверьте, мы можем быть полезны друг другу…
— Верю, — Себастьян осторожно отступил к двери, но панна Эугения с неожиданной прытью заступила дорогу.
— Вы ведь князь…
— Ненаследный, — уже без особой надежды на спасение, уточнил Себастьян.
— Это мелочи… главное, что князь… а права наследования Жоржик купит… поймите, — на локоть Себастьяна легла сухонькая ручка. — Розочка — нежное дитя, которое не привыкло к отказам… и если вы сейчас просто уйдете, это нанесет ей огромную рану…
Розочка следила за матушкой, но и о пирожных не забывала.
Волновалась, надо полагать.
— Простите, но…
Слушать панна Эугения не стала. Она заговорила быстро, но громким шепотом:
— Сами посудите, когда вам еще подвернется подобная невеста! Вы в полиции служите, верно? Небось, не от хорошей жизни? Сколько получаете?
— Десять злотней в месяц, — честно ответил Себастьян. — И еще премия бывает. До пяти.
— Пятнадцать злотней?! Боги милосердные… как вы живете?
— С трудом…
— Очень вам сочувствую… я сразу поняла, что вы в затруднительном положении пребываете… где это видано, чтобы князь в этаком, уж не обижайтесь, бедненьком костюмчике ходил. Небось, шерстяной?
Себастьян кивнул: как есть шерстяной, из аглицкого сукна, шитый, естественно, не за акторскую зарплату.
— Вот! А женитесь на Розочке, в атласах ходить будете!
— Золотых?
— Золотых, — подтвердила панна Эугения. — И цепочку на шею вам купим. Золотую. Толстую.
— Чтоб не сбег?
— Простите?
— Ничего… это я так… вслух думаю.
— Думайте, — милостиво позволила панна Эугения. — Только не слишком долго. Небось, Розочка с ее приданым, долго ждать не станет.
И Себастьяна, наконец, отпустили.
— Мама! — в очах Розочки появились крупные слезы.
— Он вернется, дорогая…
…к золотой цепи и наморднику, который всенепременно всучат вместе с цепью, выбрав тот, который подороже…
Нет уж, в ближайшие пару лет Себастьян сию улочку будет обходить стороной.
В собственном кабинете Евдокии царил беспорядок, устроенный ею же. Вот что‑то не ладилось с расходными книгами. Нет, сходилось все до мелочей, но… не давала покоя некая несуразица, не позволявшая Евдокии с чистой совестью убрать книги в сейф.
И она вновь и вновь перелистывала плотные страницы, хмурилась, выписывала то одни цифры, то другие, сравнивала… складывала… делила… и отвлекаясь, гоняла серебряные бусины по нити счетов.
Не складывалось.
Ничего не складывалось… и не только в книгах.
Вчерашний вечер. И мигрень. Шпильки, которые Лихо вытягивал из волос, и каждую — с болью. Сон глухой.
Письмо.
Сегодняшнее утро, которое не утро вовсе, а полдень…
Письмо.
Грач и револьвер.
Собственное престранное состояние, когда буквально все из рук сыплется.
И снова письмо.
Почему он утра не дождался? Уехал именно сейчас… однако же почерк Лихославов, в том сомнений нет.
Евдокия с раздражением захлопнула книгу и листки мятые на пол смахнула: с деньгами она после разберется, есть дела и поважней.
Она достала пистолет и конверт, от которого пахло порохом и… и еще чем‑то, Лихо точно сказал бы чем именно, а у Евдокии нос человеческий, слабый. Она и так, и этак поворачивает конверт, бумагу ноготком царапает, хотя в том толку никакого.
Перечитывает.
И почти понимает, в чем дело. Мысль скользкая, что угорь, но Евдокия поймала бы ее… еще немного и поймала бы.
Но скрипнула дверь, протяжно так, резанув по ушам. И счетная доска выпала из онемевших вдруг пальцев.
— Вижу, вы все работаете, — Богуслава вошла без приглашения. — Вы слишком много работаете, дорогая.
Лиловое платье с высоким воротником, с тремя рядами аметистовых пуговиц, с рукавами узкими, присобранными. На них тоже пуговки поблескивают вороньими внимательными глазами.
Шляпка.
Вуаль густая, по‑за которой не разглядеть Богуславиного лица. Только губы и видны, вишнево — красные, яркие.
— Что вы здесь делаете?
Евдокии стало стыдно и за невзрачное свое платьице, и за косу, что в конец растрепалась, и за чернильные пятна на пальцах… и вовсе за кабинет этот, сделанный под ее вкус, оттого лишенный женственности.
Слишком тяжелая мебель. Ни виньеток, ни резьбы, одни шкапы во всю стену чего стоят. Или вот секретер этот, на котором громоздились, что книги, что папки с текущими счетами. Кассовый тяжелый аппарат, приткнувшийся у окна заместо фикусу, каковому в подобных кабинетах самое место. Да вот беда, фикусы рядом с Евдокией не уживались.
— Была рядом, решила заглянуть… — на руках Богуславы черные перчатки. Под горлом единственным светлым пятном во всем наряде — брошь — камея. — Вчера вы мне показались нездоровой. Слишком… возбужденной. Агрессивной, я бы сказала.
— Извините, если испугала.
— Ну что вы, — Богуслава, не дождавшись приглашения, присела. — Я понимаю… на вас столько всего навалилось в последнее время… да и сама я, признаться, повела себя не лучшим образом.
Она приподняла вуаль и повернулась.
Белая кожа. Фарфоровая. Оттого и синяк на скуле видится ярким, нарисованным будто. И тянет прикоснуться, проверить, существует ли он на самом деле.
— Вы…
— Будем считать, что неудачно упала… мы, женщины, порой бываем столь неловкими… — ее пальчики дрожали. — Велеслав был очень недоволен мной…
— И часто он бывает… недоволен?
— Случается. Как правило, мы неплохо ладим… не надо думать, что он жесток.
Именно так Евдокия и подумала.
— Не более чем другие мужчины… при том, что его тоже понять можно.
Вуаль опустилась, скрывая позорное свидетельство чужого разлада.
— После того… происшествия… со мной иногда происходят вещи… — Богуслава поднялась. — Мне сложно рассказывать о подобном… и медикус советует больше отдыхать, хотя я и так ничем не занята… но вчера… в доме что‑то такое произошло… признаться, я совсем не помню, как получилось, что я… что мы с вами…
Пальчики коснулись виска, и вуаль не способна оказалась скрыть болезненной гримасы.
— Я даже не помню, что именно говорила вам… наверняка, что‑то неприятное… и мне очень стыдно…
— Мне тоже, — была вынуждена признать Евдокия. — Что бы вы ни сказали, это еще не повод, чтобы в вас стрелять.
— Да? Вы стреляли? — удивление и тут же взмах рукой, точно Богуслава сим жестом желала перечеркнуть все, что было. — Надо же… совершенно ничего не помню!
Какое совпадение.
Случайное?
— Но… но я не только за тем приехала, чтобы извиниться перед вами. И это тоже, конечно… я совершенно не умею извиняться, не было в жизни повода, — она вернулась к креслу и присела, на самый краешек, и поза ее, сдержанная, скованная даже, говорила о том, что чувствует себя Богуслава на редкость неловко. И надо было бы утешить ее…
Или хотя бы чаю предложить.
Но Евдокия молчала. Она тяготилась как и этим внезапным визитом, так и извинениями, которым не верила.
— В любом ином случае я бы промолчала, — ладонь Богуславы обвили аметистовые четки, слишком красивые, чтобы служить лишь четками. — Но вчерашнее происшествие обязывает меня… считайте это извинением.
Пальцы перебирали граненые бусины да столь ловко, что Евдокия лишь подивилась.
— Дело в том, что мне по чистой случайности стало известно кое‑что, о чем я считаю необходимым вас предупредить… и конечно, вы скорее всего откажетесь мне верить, но… я всегда считала, что лучше знать наверняка, чем гадать… или же вовсе закрывать глаза. Вы, как мне представляется, не из тех женщин, которые слишком глупы… или слишком умны, чтобы притворяться дурами.
И не понять, то ли похвалила, то ли в лицо плюнула, но ядом, как есть ядом.
— Говорите уже, — не выдержала Евдокия, испытывая преогромное желание выставить незваную гостью за дверь.
Грубо… и скажут, что Богуслава первой мириться пришла, а Евдокия повела себя аккурат как торговка, которою и является… вспомнят все, что только вспомнить можно, чего нельзя — придумают.
— О таком говорить непросто, — Богуслава улыбнулась, и розовый язычок скользнул по губе. — У вашего мужа есть любовница…
Ложь.
— Ложь, — Евдокия поднялась.
— Ваша воля… но выслушайте хотя бы, после будете решать. Я понимаю, что вы вышли замуж по любви… но любовь имеет обыкновение изживать себя. Особенно часто это приключается с мужчинами… мужчины вообще не склонны хранить ревность. Велеслав вот…
— Прекратите!
Богуслава замолчала.
Поправила вуаль. Коснулась губ.
— Мне жаль, что я причиняю вам боль, но… вы знаете, где сейчас ваш муж?
— Да.
А ей не поверили.
— Вам кажется, что вы знаете… и быть может, в неведении есть свое счастье, — Богуслава поднялась. — Но я опасаюсь за вашу жизнь.
— Что?
— Я не враг вам, пусть между нами и были… разногласия. Ей девятнадцать. Она красива… очень красива, уж я‑то знаю, что говорю… и она в положении.
— Нет.
Это не может быть правдой… не может…
— Вы уже не так молоды… и Лихослав понимает, что вряд ли стоит ждать детей от вас…
Страхи оживали. Серыми тенями, шепотком, которого не было, но он слышался, и Евдокия изо всех сил старалась отогнать мысль о том, что Богуслава права.
Может оказаться права.
— А наследник ему нужен.
— Уходите.
— Конечно, — Богуслава наклонила голову. — Но если вы вдруг решите, что мои слова следует проверить, то…
В ее руке появился сложенный лист.
— Это адрес. Отправляйтесь… взгляните. А уж потом решите, что делать.
Евдокия не собиралась брать этот листок, но протянула руку.
— Велеслав не самый лучший муж, — произнесла Богуслава прежде, чем закрыть дверь. — Но у него хотя бы нет повода избавиться от меня…
…а на петлях проступила ржавчина, такая яркая, что Евдокия даже залюбовалась ею… на золото похоже, на то грязное золото, которое вымывали в верховьях Сарынь — реки.
Лист она положила на стол: никуда Евдокия не поедет.
Или все‑таки… просто взглянуть…
Просто убедиться, что она лжет…
Конечно, лжет… как иначе.
…очнулась Евдокия на площади. Шумно. Людно. Суета царит, снуют лоточники, дерут друг перед другом горло, расхваливая нехитрый товар. Орут извозчики, что на коней, что друг на друга, что на мальчишек, которых на площади множество. Мельтешат серой воробьиной стаей, хватают дам за длинные юбки, дразнят мелких собачонок, а порой, на спор, лихость свою доказывая, ныряют под самые колеса. И тогда раздается:
— Ишь я тебя!
Щелкает в воздухе хлыст, пугает очередного смельчака.
— Звиняйте, панночка, — извозчик в черном косматом жилете потеет. Солнышко‑то припекает ярко, и Евдокие видна красная шея с тремя складочками да седой затылок.
— От ить… хельмово отродье, — извозчик сплевывает на толстые голубиные спины, и птицы отвечают слаженным воркованием, явно не одобряя этаких вольностей.
— Поворачивайте, — вся эта суматоха вдруг отрезвила.
Боги милосердные, что она делает?
Едет?
Чего ради… посмотреть… выследить. Это мерзко. Евдокия себя после такого уважать перестанет… а без уважения, как жить.
— Чего?
— Поворачивайте, — упавшим голосом произнесла она. — Обратно. Вдвое заплачу.
Извозчик лишь хекнул, дивясь этакой барское придури. Но спрашивать не стал… хорошо, что не стал. Евдокия не сумела бы ответить.
Она откинулась на жестком сиденье и прикусила палец.
Было муторно.
Глава 15. Где почти ничего не происходит, однако же становится тревожно
Панна Бжеслава Занятовская, четырежды вдова, обреталась в куда менее помпезном месте, нежели прелестная Розочка, при вспоминании о которой у Себастьяна нервически вздрагивал хвост. Улочка Забожская, хоть и считалась чистою, но примыкала к Разбойничей слободке. Была она приятно крива и несколько неопрятна, в чем походила на легкомысленную бабенку, которая рядилась то в одно, то в другое платье, не особо разбираясь, из атласу ли они или же из дешевенького ситца, каковой продавали по пяти медней за аршин. Бабенка эта, чумазая, расхристанная, обвешивала себя стеклянными бусами да позолоченными украшениями, каковые тут продавали прямо с лотков. И диковато скалясь, готовая зайтись не то смехом, не то слезами, но и тем и другим от самого сердца, глядела она на Себастьяна, приценивалась.
— Дай погадаю, добрый княже! — вылетела из переулочка цыганка, схватила за руку, залопотала про жизнь, которая покатится хитрою дорожкой, про недругов сглазливых, про то, что скоро, прямо‑таки за ближайшим поворотом, поджидает Себастьяна судьба его.
— Спокойно, красавица, — Себастьян руку забрал, и по другой, что рыбкою в карман пиджака нырнула, шлепнул. — Смотри, заарестую за воровство.
Хмыкнула, сплюнула под ноги, разом преобразившись. И появилось в чертах ее лица нечто этакое, диковатое, первозданное.
— А за что Зару заарестовывать? — заголосила она на всю улицу, так, чтобы услышал каждый из семейства ее многоликого, в котором хватало и воров, и попрошаек и ласковых черноглазых мошенников, что любят рядится в алые рубахи да скрипучие хромовые сапоги. — Ай, люди честные, поглядите, чего творится…
Она голосила, вилась вокруг Себастьяна, не трогая, однако же и не пуская дальше, пока не собрана карта крапленая, кости особые, покорные едино хозяйской руке, пока не исчезли чужие кошельки да перстни…
— Пусти, оглашенная, — Себастьян отступил и раздраженно хвостом дернул. — Уймись. Не по твою душу пришел.
Цыганка смолкла, хотя все одно провожали и взглядами настороженными, и вороньей стайкой пацанов. Благо, держались те поодаль, пересвистываясь друг с дружкою… у самого дома отстали, хотя навряд ли вовсе ушли.
Дожился, что называется, до почетного эскорту.
Но дверь открыли сразу, на сей раз не дворецкий в вызолоченном сюртуке, а квадратная бабища, на ходу отиравшая мокрые руки фартуком. И руки, и фартук особою чистотой не отличались.
— Чего? — поинтересовалась бабища и, не дав ответить, сказала: — Пылесосу нам не надыть. Утюху тож.
— Рад за вас.
— И на храму не дадим.
— Не надо. Панна Бжеслава дома?
— А тебе навошта?
— Будьте любезны, — Себастьян подал визитную карточку. — Скажите, что князь Вевельский мечтает о встрече…
— Князь? — карточку бабища взяла за уголок, осторожненько, не то не желая измазать, не то ожидая некоей пакости. — Взаправду, штоль?
— Взаправду, — заверил Себастьян.
— Ну тады заходь. Князь… — она отступила, позволяя Себастьяну войти. — Славка! Славка, хватит дрыхнуть! Туточки тебя цельный князь…
Она кашлянула, ударила себя кулаком по груди и сказала:
— Звиняйте. Туточки тебя князь испрошают. А ты ходь он туды, — она махнула рукой в темный коридор. — Першая дверь… только знай, князь ты аль так пришел, но я за тобой пригляжу!
В доме пахло… странный запах, какой бывает в больнице или, пожалуй, еще в мертвецкой. Формалин и канифоль. Воск. Бальзамический раствор.
И само местечко, стоило заметить, было жутковато. Темный пол. И темные стены. Черные рамки траурных портретов, с которых взирают на Себастьяна старики, до того схожие друг с другом, что поневоле возникает подозрение об их родстве между собой.
Дверь отворилась со зловещим скрипом.
Пахнуло тленом и свежей выпечкой.
— Булки! Кому булки с пылу, с жару… — голос торговки проникал через приоткрытое окно.
— Славка, чтоб тебя…
Второй голос доносился откуда‑то сверху.
— Вставай ужо!
И над головой поскрипывало, похрустывало, заставляя вспоминать, что дома сии были построены в незапамятные времена, и хоть бы горела Разбойничья слободка частенько, да, видать, пожары миловали Веселую улочку. И стоял дом, старел, пока вовсе не постарел, того и гляди рухнет под собственным немалым весом.
— Славка! — раздалось над самой головой.
И на плечо рухнул кусок серой штукатурки.
— Князь ждеть… да не знаю я, какой князь… но рожа, я тебе скажу, хитрая… так что иди давай, а то сопреть чего, опосля будешь плакаться… а что я? Чего пустила? Так, а может, взаправду князь… потом будешь плакаться, что проспала счастие этакое…
Себастьян отступил к окну и огляделся.
Гостиная была невелика и впечатление производила престранное: черные стены и мебель в черных же чехлах, украшенных многочисленными черными бантами. Огромная, пожалуй, чересчур уж тяжелая люстра, украшенная антрацитовыми подвесами. Столы и столики, расставленные вольно, отчего комната обретала некое неявное сходство с музеем.
Стеклянные колпаки.
И чучела под колпаками.
Черный ворон в жреческом облачении и пара кроликов — жених с невестой.
Серьезная ласка в черном фраке раскланивается перед парой котят, ряженых в кружево… десяток малиновок водят хоровод вокруг мертвого дрозда. Он уложен в махонький гроб, исполненный с величайшим искусством… рыжий разбойного вида кот, разодетый под цыгана, держит под руку толстую курицу, которая на этакого провожатого глядит с недоверием…
— Вижу, вас заинтересовала моя маленькая коллекция… — панна Бжеслава была хороша.
Чересчур уж хороша для безутешной вдовы.
Почему‑то Себастьяну она представлялась иначе.
Дамой? Пожалуй. Полноватой, неторопливой, медлительной, какой и подобает быть четырежды вдове. И возраста почтенного, седины, которую подчеркивала бы черная кружевная мантилья…
Волосы панны Бжеславы были цвета золота, того самого, высшей пробы, на которое едино позволено ставить клеймо королевского казначейства. Кожа — бела, что фарфор. Очи голубые взирали кротко, трепетно…
Себастьян моргнул, отгоняя наваждение.
— Панна Бжеслава? Прошу прощения, мы не были представлены друг другу, — эту ручку Себастьян поцеловал с превеликою охотой, пусть и пахло от ручки аптекарской лавкой. Он оценил и короткие кружевные перчатки с обрезанными пальчиками, и сами пальчики, нежные, гладенькие, и розовые острые ноготки. — Себастьян Вевельский… старший актор…
— И князь, — она говорила низким грудным голосом, и глядела с усмешкой, будто бы наперед знала обо всем, что случится — а случится оно всенепременно — и, невзирая на это знание, давала Себастьяну играть в его игру. — Наслышана…
— Если вы о тех слухах, которые…
Панна Бжеслава махнула рукой.
— Бросьте, князь…
— Себастьян… просто Себастьян.
Аккуратное личико, но не сказать, чтобы идеальной красоты, меж тем невероятно притягательное в своей неидеальности. И эти чуть раскосые глаза, и нос курносенький, и губы пухлые, пожалуй, чересчур уж пухлые. А уж эта очаровательная щербинка между передними зубами.
— Слава… просто Слава.
Ей идет и траурное платье из черного тяжелого бархата.
— Слава, — повторил Себастьян, не без сожаления отпуская ручку. — Это ваши… работы?
— Да.
— Несколько неожиданно для женщины… но вам такое, наверное, уже говорили.
Не могли не говорить.
— Полагаете, оно меня не красит?
— Отнюдь.
— Я их не убиваю. Мне приносят мертвых животных, а я делаю их немножечко живыми, — Слава провела пальчиками по стеклу и поморщилась. — Опять она забыла пыль протереть…
Раздражение ее портило, и Слава об этом знала, а потому не позволяла чувству столь низкому портить себя. С чувствами она управлялась на редкость легко.
И это настораживало.
— Марта вас не… смутила? Порой она ведет себя ужасно, но…
— Вы привыкли?
— Увы. Она сестра второго моего мужа… этот дом принадлежал ему. Не выгонять же бедняжку? — прозвучало фальшиво, и Слава, поняв, что фальшь эта чувствуется слишком явно, пояснила. — Я бы выгнала, но увы, по условиям завещания не имею на это права. Марта будет жить здесь до самой своей смерти. И полагаю, назло мне она постарается прожить подольше…
Она вздохнула и постучала пальчиком по стеклу.
— Мои зверушки весьма ее раздражают.
— И это доставляет вам удовольствие?
— Считаете меня ужасной?
— Нет. Почему вы просто не съедете?
Четверо мужей.
Четверо небедных мертвых мужей. И панна Бжеслава вполне способна позволить себе дом, если не на королевской площади, то всяко в месте более приличном, нежели Веселая улочка.
— И оставить ее в уверенности, что она победила? Увы, порой доводы разума — ничто перед самолюбием. Да и привыкла я к ней. Вносит, знаете ли, в жизнь некое разнообразие.
— Мне казалось, ваша жизнь и так довольно… разнообразна.
Она присела и юбки расправила.
Картинная поза, но не смотрится неестественной, скорее уж подчеркивает хрупкую красоту честной вдовы. И вид на грудь открывается преотменный.
— Ну что вы… какое разнообразие… свадьба — похороны…
Вздох.
И улыбка.
— И так четыре раза, — завершил Себастьян. — Позволите узнать, почему?
— Что конкретно вас интересует? Свадьбы или похороны?
— Пожалуй, мне кажется, что одно тесно связано с другим…
Она засмеялась, и смех был приятен.
— Надеюсь, вы не думаете, что это я виновата в их смерти… меня проверяли. Трижды… Марта постаралась. Она мечтает о том, что однажды меня посадят.
— Но вы не виновны?
— Никоим образом. Видите ли, Себастьян, — его имя она произносила нараспев, и в голосе проскальзывали мурлычущие ноты. — Но все мои дорогие супруги пребывали в том почтенном возрасте, когда смерть их — явление вполне естественное… о том у меня и заключение имеется.
Лукаво улыбнувшись, она добавила:
— Четыре заключения.
— Очень предусмотрительно с вашей стороны.
— Увы, положение обязывает… люди любят позлословить, а молодая вдова — существо уязвимое…
— И все‑таки… почему старики? Вы ведь могли бы составить партию куда более интересную… с вашей внешностью, с вашим очарованием…
— Вы мне льстите и безбожно…
— Нет, что вы, я вам льщу вполне по — божески… пока.
Ресницы Славы затрепетали, а на щеках появился румянец, фарфорово — нежный, притягательный. Она наклонилась и мягкий локон скользнул по шее, лаская.
— Князь… вы ведь не станете осуждать девушку за ее маленькие слабости…
— Вам нравятся старики?
— Не то, чтобы нравятся… но у меня с детства была мечта…
— Какая?
— Она покажется вам… немного странной…
— Ничего…
— …и быть может, совершенно неправильной…
Она говорила все тише и тише, заставляя Себастьяна наклоняться, чтобы расслышать:
— Многие женщины мечтают о странном…
Запах ее духов, густой и сладковатый, обволакивал. А на белой шее, притягивая взгляд, дрожала синяя жилка.
— Я мечтала… — Слава смотрела сквозь ресницы. — Я так мечтала… похоронить мужа…
Себастьян от неожиданности закашлялся, и Слава любезно похлопала по спине.
— С вами все хорошо?
— Замечательно, — соврал Себастьян и взгляд от белой шеи отвел, устремив на пухлого щеночка, выряженного шутом. В стеклянных глазах его почудилось сочувствие.
— Вы разочарованы.
— Скорее удивлен. Не подумайте, что я вас осуждаю… по роду своей деятельности я знаю, что многие женщины желают похоронить мужа. А некоторые и не отказывают себе в реализации оного желания… по разным причинам. Но вот все‑таки обычно уже после свадьбы… у вас же, так понимаю, наоборот.
Слава кивнула и замерла.
Воплощенная кротость.
— Чаю! — дверь распахнулась без стука, и давешняя бабища, которая успела переодеться в ярко — красное миткалевое платье, вкатила тележку. — С булками.
— Спасибо, Марта, — шепотом ответила Слава. — Ты очень заботлива.
По лицу Марты нельзя было понять, расстроила ее похвала, либо же наоборот.
— Можешь идти…
— Куда?
— На рынок, — с некоторым раздражением произнесла Слава.
— Так вчерась была.
— И сегодня сходи.
— А чего мне там сення делать‑то? — подивилась Марта.
— Яиц купи.
— Есть две дюжины.
— Тогда мяса.
— И свининка в леднике лежить — с, и говядинка… и баранья четвертушка… кролики, — она перечисляла старательно, загибая могучие заскорузлые пальцы, и с каждым словом панна Бжеслава бледнела все сильней. Кажется, в нынешней схватке победа грозила остаться за Мартой.
И та сжалилась.
— А вот меду нету. Прошлым разом порченый был.
— Хорошо… купи тогда меда…
— И пряников.
— И пряников, — согласилась Бжеслава, и когда Марта вытянула руку, вложила в нее черный, с изящною вышивкой, кошель. — Иди… погуляй… сделай себе подарок.
— Уж не сумлевайся. Сделаю.
Прозвучало почти угрозой.
Уходила Марта нарочито медленно, в дверях и вовсе замерла, косяк разглядывая, ворча что‑то о погоде, ремонте и больных костях… Бжеслава слушала молча, только фарфоровый румянец на ее щеках сделался чересчур уж ярким. И когда внизу хлопнула дверь, она выдохнула:
— Вот так и живем… а чай пить не советую.
— Отравит?
— Отравить — это вряд ли, Марта хорошо готовит, но приворотного подлить вполне способна. Все надеется, что я выгодно выйду замуж и съеду.
— А вы?
Она печально улыбнулась:
— Я привыкла и к дому… и к Марте… и наверное, мы с ней, как в сказке, умрем в один день. Что до моей мечты, которая показалась вам странной, то я сама много думала над всем этим…
Взмах рукой, и широкий рукав соскальзывает, обнажая белое хрупкое запястье, перечеркнутое черною лентой траурного браслета.
— И к каким же выводам пришли?
— Мне действительно нравится их хоронить… у моего отца была похоронная контора. Хорошая. И я с малых лет наблюдала за похоронами, — она склонила голову чуть набок, разглядывая Себастьяна уже откровенно, не чинясь. — Вдовы… они казались мне особенными… стоят в сторонке, все гости подходят, чтобы выразить им сочувствие, поддержать… говорят красивые слова… понимаете, для меня похороны — это почти как вторые именины! И даже лучше… хотите я покажу вам мою коллекцию траурных платьев?
— Не сомневаюсь, что она великолепна…
— Особенно одно хорошо… оно наверху…
…помимо платьев, траурными были и чулки, и подвязки, и даже шелковое белье, и странным образом это вовсе не отпугивало.
Хотя подумалось, что Евстафий Елисеевич этакое обращение со свидетельницей навряд ли одобрил бы… с другой стороны, Себастьян ныне не пре исполнении. И в этом, как выяснилось, были свои преимущества.
Старичок ловко орудовал крючком, выплетая кружево удивительной красоты.
— Все думают, что повесить человека просто… а это, я вам скажу, цельная наука! — он поднял сухонький пальчик, ткнув им в потолок.
— Неужели? — Гавриил на потолок глянул: серый. Скучный. Некогда был расписан фресками, однако со временем фрески поблекли, потрескались, а реставрация из, надо полагать, оказалась делом дорогим, куда дешевле стало потолок просто побелить. Но то ли побелка оказалась дрянной, то ли клали ее тонким слоем: сквозь белизну проступали контуры — пятна не то людей, не то зверей.
— А то… вот вспомнить Джона Хазера, аглицкий палач… большим специалистом был. Он‑то и придумал, как исчислять длину веревки через рост повешиваемого, — старичок расправил работу, вгляделся в переплетение тонких нитей и головой покачал. — Но и у него случались неприятные прецеденты. То воскреснет покойник, а значится, недодавленный… то помирает долго. А однажды и вовсе голову оторвало… неправильно вес измерили…
— Ужас какой.
Старичок покивал головой и добавил:
— И на репутации пятно. Всех судейских кровью забрызгало… кляузы потом писали… ему пришлось уехать из Лондону… хороший был человек.
Старичок выглядел на редкость благообразно. Махонький. Сухонький. С аккуратною лысиной и бороденкой, которую он стриг клинышком да подкрашивал.
— А то ж обыкновенное повешение, представьте, что было, когда головы секли!
Этакого ужасу Гавриил представлять не желал.
— И ведь секли‑то по — разному… кого мечом полагалось, кого — секирою… это ж при моем тятеньке только гильотину привезли, и то он говаривал, что по первости приговоренные зело ее опасалися. Палач‑то, ежели хороший, оно верней. А там аль механизму заклинит, аль нож кривой попадется… аль вес малый поставят, вот и застрянет лезвие… нехорошо. Папеньке хранцузскую поставили, это уже опосля он римскую сам приобрел…
— А какая разница? — Гавриил смотрел, как старушечьи пальчики ловко управляются с кружевом и представить себе не мог, что некогда им случалось касаться и веревки, и секиры.
— Огромная, молодой человек! Огромная! Хранцузская со скошенным лезвием идеть, и оттого требует особой балансировки. Чуть криво поставь, и все, заместо казни, зрелища назидательного, для грешников и вовсе необходимого, за — ради духовного их спасения, будет комедьен. У италийской же лезвие прямое. Да и механизмус не такой капризный. Но все одно папенька мой гильотину не больно жаловал. Вот руки — дело иное, им и вера есть, и человеку какое — никакое уважение… слава богам, не дожил папенька до расстрелов. Вот уж вовсе безбожная казнь… поставят перед строем и палят по живому‑то человеку, будто по вепрю какому.
От возмущения старичок едва не упустил петлю.
Звали его Жигимонт Занятуйчик, и ныне пребывающий в почтенном возрасте, некогда служил он королевским палачом, сохранивши о тех временах самые благостные воспоминания, каковыми делился щедро. А Гавриил слушал, гадая, могло ли случиться, что этот старичок и есть волкодлак?
Ему, конечно, восемьдесят три и ходит он с тросточкою, медленно, то и дело останавливаясь, чтобы дух перевесть. Однако же слабость сия может быть показною. Да и до времени недавнего имел он распрекрасную возможность утолять голод волкодлачий, что называется, за государственный счет.
— Нет, ныне к палачу никакого уважения… вот помнится, прадеду моему, который к италийцам ездил, учился… как это… квали — фи — кацию повышал, горожане всегда в пояс кланялися… а деда и вовсе Мастером величали. Разумели, небось, что жизнь, она такая… сегодня ты на помост смотришь, а завтра уже и с помоста.
Крючок замер, и пан Жигимонт замолчал, устремив взгляд на дверь. Обернулся и Гавриил.
Сперва ему показалось, что это лишь тень.
Не тень — женщина в лиловом платье.
— От же, — пан Жигимонт торопливо убрал рукоделие в корзинку, отделанную розовыми лентами, — нигде от них спасу нет. Племя колдовкино…
На колдовку женщина не походила.
Она выглядела… бледной.
Больной?
Немочной точно, и темный, почти траурный колер платья лишь подчеркивал болезненную белизну ее кожи.
— При тятеньке колдовок на костер отправляли… и правильно, я вам скажу, делали.
Женщина шелохнулась. Она ступала очень медленно, неуверенно как‑то, и складывалось престранное ощущение, будто бы не она шла, а ее вели.
— От колдовок все беды… теперь‑то вешают… оно, конечно, в чем‑то разумней, с костром возни много да и дорого. Попробуй‑ка на кажную колдовку оплати, что хвороста подводу, что масла. И главное, за всем глаз да глаз надобен был. Чтоб хворост не сырой, чтоб масло не порченное… а опосля пиши казначею челобитную, объясняй, что сгорело все вместе с колдовкою… нет, жечь колдовок — экономически невыгодно.
Женщина, поравшявшись с креслом, в котором сидел пан Жигимонт, обернулась.
Некрасивая.
И все же… все же было в ее лице что‑то такое…
Пан Жигимонт смолк и торопливо поднялся.
— Прошу простить, но мне пора… и вам тут засиживаться не стоит, — он покосился на женщину, которая остановилась у пустого камина, — послушайте совета старого человека…
— Пан Жигимонт! Вновь пугаете людей своими домыслами?
На этот голос обернулся не только Гавриил, но и незнакомка в лиловом, которая вдруг сгорбилась, точно желая стать меньше.
— Панна Каролина, — королевский палач поклонился. — Ну что вы! Какие домыслы! Я почти уверен, что ваша сестрица, уж простите, волшбой запретною балуется.
— Глупости… а вы Гавриил? — статная брюнетка протянула руку в перчатке.
Перчатка была атласной и алой.
Вызывающий цвет.
— Мне муж о вас рассказывал…
— Муж?
— Вы встречались с ним за обедом. Произвели самое благоприятное впечатление, а уж ему понравится непросто…
Она была высокой, чересчур высокой для женщины, и Гавриилу приходилось задирать голову, чтобы смотреть в глаза, а не в бюст, пусть бы оный и заслуживал всяческого внимания.
— Агата, — представилась дама. — Агата Зусек. А там моя бедная сестрица Каролина… не слушайте этого старого маразматика…
…хлопнула дверь, стало быть, последние слова пан Жигимонт слышал и весьма разозлился.
— Ему повсюду мерещатся, что ведьмы, что разбойники. Вот погодите, пройдет месяц — другой и он придумает, в чем обвинить вас.
— В чем?
— Не знаю, — она повела пухлым плечиком.
Обнаженным плечиком.
Алое платье, в которое облачилась панна Агата, было столь же роскошным, сколь и вызывающим. Шелк плотно облегал статную ея фигуру, подчеркивая и высокую грудь, которая так и норовила выпрыгнуть из излишне вольного выреза, и тонкую талию… от обилия обнаженного тела голова пошла кругом.
А может, не от тела, но от терпких травяных духов Агаты.
— Но придумает всенепременно. И казнь подберет. Каролина, дорогая, как ты?
Она коснулась светлых волос сестры, и та вздрогнула.
— Извините, она несколько нелюдима. Медикусы утверждают, что это пройдет. Когда‑нибудь пройдет, — теперь в голосе панны Агаты слышалась печаль. — Дорогая, да у тебя руки ледяные!
Две сестры.
Но до чего не похожи. Агата — высокая и красивая, пожалуй, чересчур уж красивая, чтобы в обществе ее Гавриил чувствовал себя спокойно. Каролина бледная, изможденная и до времени состарившаяся. Что же с нею произошло?
И как узнать?
— Дорогая, тебе лучше вернуться в комнату… помнишь, мы договаривались, что одна ты не будешь ее покидать? Пойдем…
Каролина поднялась.
— Осторожней, милая… ты еще слишком слаба, чтобы гулять в одиночестве… хочешь, мы отправимся в парк? Погода сегодня чудесная…
Агата обнимала и поддерживала сестру, а та словно и не замечала этой поддержки, шла, глядя исключительно под ноги. Поравнявшись с Гавриилом, Каролина остановилась.
Узкое лицо.
И черты его лишены гармонии. Они существуют словно бы сами по себе, что тяжеловатый крупный нос, который скорее подошел бы мужчине, что лоб, тоже узкий и скошенный, и брови на нем темные, чересчур уж яркие. А глаза вот блеклые.
— Ты… кто? — сиплый голос. И Каролина трогает шею.
— Гавриил, — он поднялся и поклонился. — Вам помочь.
— Нет… да… не знаю.
— Мы справимся сами, — уверила Агата.
— Д — да… наверное… мы справимся?
— Справимся, дорогая. Несомненно справимся… ты у нас сильная, — она гладила Каролину по плечам, а та мелко дрожала. — Но тебе пора отдыхать… ты же устала.
— Да?
— Да, — с убежденностью произнесла Агата. — Прилечь… поспать немного. А когда проснешься, мы пойдем гулять…
— В парк?
— Да.
О Гаврииле они словно бы и забыли. И ладно… и даже хорошо…
Вернувшись в магазин, Евдокия поднялась к себе.
Телефон.
Всего‑то и надобно, что позвонить в поместье… позвонить и спросить… ежели Лихослав там, то… то получится, что она его проверяет. Не проверяет, беспокоится, потому как чувствует, что происходит нечто престранное…
— Это просто звонок, — Евдокия глядела на аппарат едва ли не с ненавистью, которая, впрочем, оставалась безответной.
Телефон поблескивал металлическими боками. Гордо поднимались вилки, на которых возлежал отделанный серебром рожок. И надо лишь поднять его.
Дождаться ответа…
Шелест.
И шорох. И страх, что связь, которой Евдокия пользовалась не так уж часто, откажет. Но вот раздался характерный щелчок и женский далекий голос произнес:
— Слушаю.
— Будьте добры, — Евдокия старалась говорить спокойно. — Соедините с нумером тринадцать — двадцать три. Пятая ветка.
Пауза.
И ответ:
— Соединяю.
И вновь шум, который прежде представлялся ей успокаивающим, слышался в нем голос моря, пусть и не настоящего, рукотворного, электрического, а все же… сердце колотится пойманною птицей.
Ничего.
Недолго уже осталось… но как же медленно… поместье большое… а людей в нем мало, ни к чему держать штат прислуги, если в доме никто не живет… поэтому надо погодить… и если вдруг случится обрыв, набрать вновь…
И когда Евдокия почти убедила себя, что этот звонок не будет услышан, трубку сняли.
— Доброго дня, — этот густой тяжелый голос сложно было не узнать. Пан Юзеф, новый управляющий, говорил медленно, растягивая слова, отчего они причудливым образом сливались друг с другом, и речь его превращалась в монотонное гудение.
К новациям пан Юзеф относился с немалым подозрением, и телефона остерегался, но ежели на звонок ответил, стало быть, никого иного, кому сие неприятное дело перепоручить можно, поблизости не оказалось.
— И вам доброго дня, пан Юзеф, — Евдокия заставила себя сесть. — А Лихослав далеко?
— Далеко.
Она почти видела, как стоит пан Юзеф, вытянувшись в струнку, силится и живот подобрать, да только тот чересчур тяжел.
Непослушен.
— И где же?
— Так… в Познаньске…
— Уже уехал? — Евдокии давно не случалось чувствовать себя такой дурой.
— Уехал, — согласился управляющий.
Трубку он наверняка держал осторожненько, сперва обмотавши платком. И к уху подносил с опаскою, поелику прочел в некоем медицинском журнале, несомненно уважаемом и стоящем доверия — ведь медицина само по себе занятие уважаемое и к доверию располагающее — что от трубки этой исходят волны незримые волны, способствующие разжижению мозга.
От волн и вытекания разжиженного мозга через уши полагалось защищаться комками корпии, которые пан Юзеф засовывал в левое ухо, когда трубку подносил к правому. Или в правое, ежели подносил к левому. Комочки эти он повсюду носил с собой, завернутыми в бумажный платок.
— И давно?
— Давно. Уж недели две как. Вы, панна Евдокия, вдвоем же были, — теперь в голосе ей почудился упрек. — Неужто запамятовали?
— Нет, — поспешила уверить Евдокия, которая и вправду прекрасно помнила ту поездку.
— Вы, конечно, извините, — пан Юзеф обладал еще одной чертой весьма сомнительного качества: он любил помогать людям. И вроде бы не было в том плохого, ежели бы не помогал пан Юзеф в собственном своем понимании того, как оным людям надлежит поступать. — Но вы, панна Евдокия, слишком много говорите по телефону. Этак и вовсе можно без мозгов остаться! Вытекут все и что тогда?
— Неужели…
В данный конкретный момент времени Евдокию занимали вовсе не вытекающие мозги, тем паче, что отсутствие их иным людям жить вовсе не мешало, но исчезновение дорогого супруга. Выехал он ночью, стало быть, к утру в поместье добрался бы… если бы направлялся в поместье.
А если нет?
Если все это — ложь, которая…
— Знаете, вы, пожалуй, правы. Потому, до свидания, пан Юзеф. Доброго вам здоровья.
— И вам, панна Евдокия.
Кто лгал?
Лихослав?
Или Богуслава с ее притворным желанием помочь… нет, ей верить точно нельзя.
Евдокия повесила телефонный рожок и, упав в кресло, сжала голову.
В поместье Лихослава не было. А где был? В том доме, адрес которого с такой готовностью подсунули Евдокии?
Чушь.
И не в любви дело… любовь — материя тонкая, сегодня есть, а завтра уже и развеялась туманом осенним. Дело в порядочности. Не стал бы он заводить любовницу развлечения ради, поскольку бесчестно это… а если бы вдруг случилась страсть неземная, то… то и не оскорбил бы Лихо женщину подобным предложением.
Да и то… был ведь вчерашний вечер, пусть тревожный, но и ласковый. Была нежность, которую не подделаешь… и значит, врет Богуслава…
А Лихо пропал.
Пропал.
Евдокия произнесла это слово вслух и сама удивилась, как это вышло, что она не поняла очевидного.
Беда.
А она тут с глупостями своими.
Следующий звонок был в управление, однако Себастьяна застать не удалось. И квартирная его хозяйка, которая говорила медленно, точно пребывая в полусне, знать не знала, где его демоны носят.
И что дальше делать?
Возвращаться домой.
Там вещи Лихослава, без которых ни один ведьмак не возьмется человека искать.
Страшно?
Вспомнился вдруг давешний грач. И сонное состояние, которое вернется… и значит, в самом доме беда, и не след туда соваться одной…
Помощи ждать?
От кого?
Имен не так и много, да и те люди, которые в голову приходили, не друзья, так, приятели, случайные знакомые… самой надобно.
Ничего… с револьвером она как‑нибудь управится. В конце концов, револьвер — это именно то, что придает женщине уверенности в себе.
Спешил.
Он слышал зов, противиться которому не мог. И потому летел — летел, задыхался от бега, от горького ветра, который вымывал из шкуры чуждые запахи.
Дыма.
Камня.
Людей. Странное место, где он некогда обитал, давным — давно осталось позади, и лишь во сне, а спал он редко, чутко, не способный еще управиться с новым своим телом, Лихослав возвращался на каменные улочки Познаньска.
Там, во снах, у места было имя, как и у него самого, и там, во снах, это казалось правильным. А очнувшись — зов будил на закате — он пытался справиться с собой.
С тягой вернуться.
Однажды Лихослав — имя это удерживалось недолго — сумел пройти по своим следам до железных путей, по которым медленно, пыхая паром и вонью раскаленного метала, ползла железная тварь. Чужая память подсказала, что тварь эта не опасна, что прочно привязана она к вбитым в землю колеям. И прежде Лихославу доводилось путешествовать в ней.
Он помнил смутно.
Вагон.
Женщина, от которой сладко, невозможно пахло хлебом. И запах этот позволял вернуться.
Обернуться.
Почти.
Он шел за железным зверем долго, пока тот не добрался до реки. И Лихослав, вытянувшись в кустах малины, следил, как медленно, натужно зверь вползает на мост. Дым из пасти его спускался к воде, с водой мешался и таял.
Тогда зов, мучивший его, почти исчез. Стало больно, и от боли этой, раздирающей изнутри, Лихослав взвыл. Он катался по колючей малине, оставляя на ней ошметки шкуры, пока не осталось ни единого клочка. И тело расплылось, переменилось.
Еще немного, и он вновь стал бы человеком.
Но залаяли псы, где‑то совсем рядом, а следом донеслось:
— Ату его! Ату… — и голос этот был подобен хлысту.
Лихослав вскочил на четыре лапы, отряхнулся, сбрасывая с новой шкуры, которая была куда плотней прежней, мелкую листву. Он зарычал, когда из колючей стены выкатилась собачонка, мелкая, беспородная, она не испугалась рыка, но заскакала, оглушительно лая, норовя ухватить за хвост…
От собаки несло человеком.
И запах этот пробудил доселе неведомое желание убить.
Сейчас и здесь.
Он бы поддался, наверное, этому желанию, но псина, почувствовал, как изменилось настроение того, кого она еще недавно полагала добычей, отступила.
Лихослав мог бы убить и ее. Чего проще? Рывок. И челюсти смыкаются на горле. Рот наполняется солоноватой кровью, которая утолит голод…
…а он был голоден.
Зов не позволял отвлекаться на поиски еды, но сейчас отступил.
Уступил.
И та, которая ждала Лихослава, была бы рада, если бы он…
…никогда.
Он соступил со следа и тряскою рысцой двинулся прочь. Остановился на опушке, чтобы погрызть мягкие сосновые побеги. На вкус они были омерзительны, и та, которая ждала, смеялась над Лихославом. К чему он мучится?
Кого ради?
Ради той, которая осталась в каменном городе.
Ради запаха хлеба и голоса, который звал, но дозывался лишь во снах. Однако, в отличие от прочих голосов, и наяву не спешил оставить Лихослава. И если так, быть может, у него все получится.
Главное, успеть до нового полнолуния.
Дом гляделся мрачным.
Евдокия разглядывала его, не решаясь ступить за ограду. И удивительно было, глядя на преобразившееся место, думать, что еще вчера дом этот был обыкновенен.
Что изменилось?
Ничего.
И ограда знакома. И дорожка, желтым камнем вымощенная. И, небось, будут по камню этому звонко цокать каблучки, как день тому… и дверь заскрипит, пусть бы и смазывают петли ежедневно, однако же у двери этой на редкость несговорчивый характер.
Надо решаться.
И Евдокия, нащупав револьвер — прикосновение к теплой рукояти придало смелости — шагнула.
Каблучки не цокали.
И тишина… неестественная такая тишина, которой и на погосте‑то не бывает. Звуки будто бы остались снаружи, за оградой.
Воздух сырой.
И зябко.
Солнце светит, над самой крышей, почитай, зависло, а все одно зябко. И Евдокия лишь прибавляет шагу, а на ступеньки и вовсе взлетает, перепрыгивая через одну. Юбки подхватила, того и гляди завизжит всполошенно, по — девичьи.
Встала.
Заставила себя стоять. И сердце колотящееся успокоила, как сумела. Сказала себе:
— Это просто дом. Мой дом.
Шепот глухой, и голос здесь переменился, и надо уходить… за полицией… или к ведьмаку… но к таким, которые подобными делами занимаются, очередь расписана на месяцы вперед, а Евдокия ждать не может. Ей всего‑то надо, что войти и взять Лихославову вещь. Какую‑нибудь.
И подниматься‑то нужды нет.
Сойдет и кружка его, которая на кухне… или еще что, главное, чтобы он этой вещи касался.
Мысль о муже — теперь Евдокия не сомневалась, что исчез он не сам собою, помогли добрые люди — избавила от страха.
— Это мой дом, — сказала она громче и дверь толкнула. — И мой муж.
Дверь отворилась легко, беззвучно. А внутри… пустота.
Сумрак.
Запах пыли… явственный такой запах пыли, нежилого помещения, в которых Евдокии доводилось бывать. Ощущение брошенности, потерянности.
Зевота…
Нахлынувшее вдруг желание лечь… подняться к себе… ей надобна Лихославова вещь? В его гардеробной множество вещей. Евдокия выберет любую… она ведь за этим явилась?
— Есть тут кто? — голос Евдокии увяз. — Ау…
Прислуга куда‑то подевалась…
Куда?
— Геля!
Евдокия чувствует, что кричит, но все одно голос ее звучит тихо.
Проклятье!
Она стиснула кулаки, и ногти впились в ладонь, но боль отрезвляла. Надо подняться. И спуститься. Быстро. Однако собственное тело вдруг сделалось невыносимо тяжелым, и каждый шаг давался с боем.
Кресла… она сама выбирала их… и эту обивку, с розами и райскими птицами, заказывала… а низенький длинный диванчик с резными ножками, удобен… Евдокии ли не знать, сколь удобен… и если присесть на мгновенье, просто перевести дух.
День хлопотный выдался.
Ночь и вовсе бессонная почти… это логично, что она устала. Она ведь женщина.
Обыкновенная женщина. С револьвером.
Тяжелый какой… зачем он нужен здесь, в доме? Кто будет угрожать Евдокии? Да и негоже благородной даме да при револьверах… княгине будущей…
Дом нашептывал о том, что безопасно.
Спокойно.
Сонно.
Спит прислуга на третьем этаже. И конюх Васька, который повадился захаживать на кухню, к молоденькой поварихе… она тоже спит, легла на столе, забыв про тесто, а то, злое, пыхает, норовит выползти из миски.
Не слышат.
Спит брехливая собачонка, прикормленная на конюшне.
Спит и Геля, которая вечно жалуется, что мыши шубуршат… и втайне принесла кота, а хмурая экономка, которая и с Евдокией говорила так, что Евдокия чувствовала себя виноватой, разрешила кота оставить, если тот не будет спускаться на господские этажи.
Она спит с котом на руках, который вовсе не спешит охотиться на мышей. И смуглая рука экономки некрасиво свесилась, она и сама накренилась, того и гляди, упадет, но и тогда не проснется. И если так, то стоит ли сопротивляться?
— Стоит, — сказала Евдокия не дому, но тому, что поселилось в нем. И тронула княжеский перстень.
Стало легче.
Быть может, именно потому она до сих пор на ногах? Как бы то ни было, но Евдокии удалось подняться, пусть и с немалым трудом. И до спальной комнаты дойти. И даже выйти, прижимая к груди добычу — Лихославову рубашку, которую должны были отнести в прачечную, но не отнесли…
К счастью не отнесли.
А внизу ее ждали.
Как вошли?
Когда?
Или не вошли, но были уже здесь? И Евдокия остановилась на лестнице, разглядывая незваных гостей. Те же молча глядели на Евдокию.
— Чем могу помочь?
Монахини.
Белые рясы, перепоясанные грубою веревкой, и белые же платки.
Молчаливые сестры? Что надобно им, отвергнувшим мирскую жизнь, в перерожденном доме Евдокии.
Трое.
Крупные, некрасивые, и яркая белизна одежд, почему‑то не спасает, но лишь подчеркивает синюшный цвет лиц, которые странным образом похожи одно на другое, будто бы монахинь этих сотворили под единым божественным прессом.
— Зря ты вернулась, — Богуслава вышла из тени, или скорее тени выпустили ее, но не отпустили совсем, прилипли к подолу, протянулись по полу лиловым шлейфом. — И зря не поехала… все могло бы быть гораздо проще.
Евдокия провернула кольцо.
— Он мне не изменяет.
Молчание.
И монахини не спускают с Евдокии взгляда. Глаза пустые, не глаза — пуговицы, которые пришивают на лица тряпичных кукол. Они и сами — почти куклы.
Откуда Евдокия это знает.
— Ты выдумала любовницу. Зачем?
— Просто так…
— Нет.
Евдокия не верила этой женщине, единственной живой среди кукол.
— Я тебе не нравлюсь…
— И не могу себя за это винить, — усмехнулась Богуслава, поднимая руку. В ладони ее свернулся пыльный клубок сумрака, который потек сквозь пальцы, вязко, медленно, провисая тонкими нитями — паутиной.
— Я от тебя тоже не в восторге, — слабость отступала. То ли то, что поселилось в доме, обессилело, то ли гости его спугнули, а может появление кого‑то живого, кто самим своим видом вызывал злость, придавало Евдокии сил. — И да, ты не упустишь случая указать мне мое место. Но вот выдумывать эту историю с любовницей… искать встречи… а я почти тебе поверила. Нет, слишком сложно для дурной шутки. Тебе надо было, чтобы я отправилась по тому адресу. А я…
— Подвела. Испугалась?
— Чего?
— Правды, — она перевернула ладонь, позволяя сумраку стекать свободно. — Все боятся правды. Решила, что твой муженек и вправду завел любовницу… что счастлив с нею… а тебе врет… ты бы этого не пережила, да?
— Не знаю. И надеюсь, что не узнаю. Зачем ты здесь? Зачем здесь они?
— Неверный вопрос. За кем.
Она отряхнула руку, и сумрак разлетелся каплями грязи, Евдокия едва — едва успела юбки поднять.
— Если бы ты осталась в доме, все было бы немного иначе… возьми.
Конверт.
Темный конверт, перетянутый бечевой. И красная сургучная нашлепка, которая в полумраке глядится чрезмерно яркой.
— Если ты действительно не боишься правды.
— Правды — нет. А вот очередной лжи…
— Не возьмешь — не узнаешь, — Богуслава дразнила ее, а Евдокия ясно осознала: с конвертом или нет, но ей не позволят уйти.
А она…
Бежать?
И как знать, только ли монахинь Богуслава привела с собой… револьвер, конечно, неплохое подспорье в родственных спорах, но стрелять по божьим сестрам как‑то неудобственно… да и выйдет ли из этой стрельбы толк?
Одна против четверых… в лучшем случае, против четверых.
Нет, не стоит спешить. Надобно потянуть время, пока она хочет играть с Евдокией… а там, глядишь, и Себастьян объявится. Должен же был посыльный его отыскать.
— Давай, — Евдокия спустилась на ступеньку.
И еще на одну.
К конверту прикасаться, право слово, брезговала, потому как даже на вид бумага гляделась грязной, липкой. Но Евдокия себя пересилила.
Сухая.
И сургуч плотный. Печать знакома, такая у Лихослава имеется…
Треснул не сразу. Богуслава следила за Евдокией жадно, и губы облизывала, предвкушая… что? Очередную пакость? Письмо на первый взгляд писано было рукой Лихослава… и на бумаге, которую Евдокия заказывала… целая стопка такой, глянцевой, с водяными знаками и выдавленным гербом князей Вевельских, лежала в кабинете.
Кто угодно мог взять.
Дорогая супруга…
…он никогда не называл ее так, чересчур уж чинно, правильно, как надлежит обращаться к супруге в письмах, не важно, любишь ли ты ее, ненавидишь, либо же испытываешь столь обыкновенное для людей твоего положения безразличие.
…к преогромному стыду своему вынужден я обратиться к Вам подобным образом, поелику признание мое таково, что лишь бумага способна его выдержать.
…какая несусветная чушь!
…Для Вас не является тайною мое искреннейшее желание уйти в монастырь и посвятить остаток своей жизни служению во славу Вотана. Однако желанию сему не суждено было сбыться, поскольку связан я был некими обязательствами по отношению к Вам.
…обязательства?
Такой, как Богуслава, обязательства куда понятней некоей призрачной любви. Но читать следует. Ведь ждут… чего, того, что Евдокия так увлечется чтением, что забудет о револьвере?
Еще одна глупость.
…смею уверить, что не испытывал сожаления, пусть и решение мое о женитьбе было несколько опрометчивым.
Да неужели?
…я нашел бы в себе силы быть с Вами счастливым.
Стало вдруг смешно.
Она, эта женщина, которая больше не притворяется ни другом, ни сочувствующей, и вправду думает, что Евдокия поверит, будто бы это письмо писал Лихо?
Ее Лихо, который сидел с нею в кабинете заполночь, рассказывая… обо всем рассказывая, будь то истории Серых земель, либо же недавнее глупое происшествие с сапожником, от которого заместо домашних туфель доставили атласные бальные башмачки, очаровательные, несмотря на то, что пошиты были они по Лихославовой мерке.
Ее Лихо умел смеяться.
И слушать.
Молчать, когда на Евдокию нападала вдруг хандра. Он подарил ей букет из влажных черных веток, украшенных лентами. И ту ночь на Вислянке, когда лодку нанял… он пытался поймать луну на крючок, но вытянул лишь серебряный браслет эльфийского плетения.
Он был счастлив, ее Лихо. Без сил и без усилий.
Они оба были счастливы, а теперь ей пытаются скормить эту неуклюжую ложь и ждут, что Евдокия ей поверит.
…однако обстоятельства вынудили меня покинуть Вас. С величайшим прискорбием сообщаю, что моя болезнь, о которой Вы, без сомнений, знаете, вновь овладела моим разумом. И в прошлом месяце, не способный устоять перед нею, я совершил деяние, которого стыжусь.
Возлюбленная моя супруга. Вынужден признаться вам, что в минувшее полнолуние я стал убийцей. И первая моя жертва — безымянный бродяга, встреченный мною в поместье — не будет последней. Весь месяц я боролся с собой, желая сознаться в содеянном, но тогда я покрыл бы позором и свое имя, и Вас, и весь род князей Вевельских, что вовсе недопустимо.
Нельзя улыбаться.
Или эту улыбку сочтут наигранной? Если так, то пускай… главное, время еще есть, немного времени, немного надежды… что бы она, странная женщина, да и женщина ли, человек ли, ни задумала, Евдокия не сдастся просто так.
У нее револьвер, в конце‑то концов…
— Ты медленно читаешь, — с неудовольствием заметила Богуслава.
— Как уж получается. Учителя тоже маменьке жаловались, — Евдокия страстно желала смять этот никчемный клочок бумаги и швырнуть в лицо.
Нельзя.
Бумага — это улика. И каждое слово, выведенное таким родным почерком. И надо прочесть, до конца, заставив себя не упустить ни буковки. Вдруг да свезет, вдруг да скользнет между строк намек, куда пропал Лихо.
…как недопустимо и решить дело единственным надежным способом. Боюсь, самоубийство мое породило бы множество слухов, каковые нанесли бы немалый вред репутации семьи. Да и вряд ли моя собственная смерть искупила бы содеянное.
Моя дорогая супруга, за сим сообщаю Вам, что я нашел в себе силы смириться с неизбежностью.
Высокопарно.
В том самом штиле, в котором надобно писать письма, потому как вдруг да попадет какое в руки потомков… нет, ну что за мысли в голову лезут‑то?
Зато в сон больше не тянет.
От злости. Определенно.
…я удаляюсь в монастырь. Прошу простить за спешный отъезд и отсутствие объяснений. Пребывая в смятении, я не имел сил выслушать Вас и отвечать на вопросы, которые Вы, несомненно, в праве задать. Мои душевные силы оставались на исходе, и я не сумел бы выдержать Ваши упреки. На них вы тоже имеете полное право.
Евдокия фыркнула: какая доброта.
…Вы бы стали отговаривать меня. А я, будучи слаб душой, возможно и не устоял бы, что привело бы к новым смертям, которые бы тяжкой ношей легли бы на мою совесть. А потому нижайше прошу у Вас, любезная супруга, прощения.
Она перевернула лист.
Все ж таки в письмах Евдокия была не сильна. Как по ее мнению, вышло весьма многословно и путано. Но она подозревала, что этакий чрезмерно критический подход к эпистолярному жанру не оценят.
…вместе с тем я осознаю, что мой уход ставит князей Вевельских в неловкое положение. Я не имею морального и юридического права и далее претендовать на наследие, поелику, приняв постриг, в котором мне не откажут, я отрекусь от всего мирского. Вместе с тем, Вы, моя любезная супруга, получите некую эфемерную возможность, каковой могут воспользоваться нечистоплотные люди, подговорив вас судиться. С Вашими родственными связями и благоволением к Вашей особе короля, сей суд имеет все шансы быть затянутым, что обескровит и без того наш бедный род. Я не могу допустить подобного, а потому прошу Вас о великой жертве во благо ваше и мира.
Жертвовать Евдокия не привыкла.
Он и милостыню‑то подавала с опаской, зная, что серед истинно обездоленных людей полно мошенников, гораздых притворяться несчастными.
…орден Молчаливых сестер издревле славится тем, что дает приют женщинам любого рода и звания, позволяя им служить Иржене и сим искупать вину, свою ли, чужую ли. Тако же в Закатном храме находили пристанище и особы королевской крови, зачастую против собственной воли, но по повелению государя. А потому прошу Вас, любезная супруга, не противиться неизбежному.
Как муж и господин Ваш, повелеваю отправиться с этими добрыми женщинами и смиренно принять свою судьбу.
— Хрена с два, — спокойно ответила Евдокия, складывая письмо.
— Что? — Богуслава нахмурилась.
— Ты и вправду думала, что я в это поверю? — письмо отправилось в сумку, где уже лежала Лихославова рубаха. И Евдокия лишь порадовалась, что сумка сия, веселившая Лихо тем, что была вовсе не женских крохотных размеров, столь вместительна. — И если поверю, то… что? Разрыдаюсь? Брошусь тебе на шею? Или и вправду в монастырь уйду?
— Попытаться стоило, — равнодушно заметила Богуслава, которая вовсе не выглядела разочарованной. — С другой стороны… так даже веселей.
— Как?
— Так. Не уйдешь ты. Уйдут тебя.
— Я не хочу в монастырь…
— А кто тебя спрашивает?
— Сейчас не смутные времена…
— Какие бы времена ни были, кое‑что не меняется. Настоятельница монастыря — моя родственница. И она умеет обращаться со строптивыми послушницами. Поверь, очень скоро ты изменишь свое отношение к храму…к вере…
— Иди ты…
— Взять, — сказала Богуслава, и монахини, стоявшие неподвижно, словно вовсе неживые, качнулись.
— Не подходите, — Евдокия вытащила револьвер.
— Ай, как нехорошо… неужели ты, безбожница, будешь стрелять по святым сестрам?
— По святым сестрам, по святым братьям… — Евдокия отступала, — и святой матери, если понадобится, нимб поправлю. Стоять! Стреляю!
— Смирись, — низким голосом пророкотала самая крупная из монахинь. — В лоне Иржены найдешь ты счастье свое.
— Знаете, почтенная, — Евдокия опустила дуло револьвера. — Не обижайтесь, но я лучше свое счастье где‑нибудь в другом месте поищу…
Они, наверное, не поверили, что Евдокия способна выстрелить.
Она и сама не верила до последнего.
Но от монахинь вдруг пахнуло тленом, разрытою свежей могилой, тьмой склепа, самой близостью смерти. И палец надавил на спусковой крючок.
Громыхнуло.
И револьвер дернулся, точно пытаясь вырваться. Засмеялась Богуслава:
— А у тебя, дорогая, нервы‑то шалят…
Монахини же покачнулись, но не отступили:
— Не доводите, — Евдокия облизала разом пересохшие губы.
Не попала.
А ведь могла бы и насмерть… могла бы… насмерть… она не хочет убивать, но и позволить увести себя нельзя, потому как и вправду сгинет, в монастыре ли, в каком ином месте.
— И что здесь происходит?
Услышав этот голос, Евдокия едва не разрыдалась от облегчения.
— Себастьян! — а вот Богуслава не обрадовалась совершенно. — Что ты здесь делаешь?
— Могу спросить тебя о том же.
Как он вошел?
Не через парадную дверь точно… через кухню? Ей тоже надо было выбираться тою дорогой, глядишь, обошлось бы без сердечных встреч.
— Мы пытаемся ей помочь.
— Не слушай! Они хотят меня увезти! В монастырь!
— Дуся, спокойно, — Себастьян, который вдруг оказался рядом — как замечательно, что в проклятом этом доме хоть кто‑то оказался рядом — заставил опустить руку. И револьвер изъял. — Какой монастырь? Извини, но ты по размеру бюста в монахини не подходишь.
И ей бы рассмеяться, только смеха нет, клекот в горле странный, который того и гляди выльется слезьми да истерикой.
— Богуслава, ядовитый мой цветочек. Что за бредни?
— Твой брат ушел…
— В монастырь?
— И как ты догадался?!
— Думал много. Долго. Тщательно. Значит, Лихо скоропостижно сбег в монастырь, но там ему не понравилось, вот и прислал добрых сестер за женой…
Себастьян шагнул вперед, и Евдокия молча отступила.
— В принципе, довольно логично… будь у меня такая жена, я бы ее тоже в монастырь забрал. Вдвоем там как‑то веселей. Но знаешь, что меня смущает?
— Что?
— Я, конечно, невесть какой специалист, но казалось, что монастыри все ж для семейной жизни плохо подходят.
— Все веселишься…
— Будут похороны — всплакну. А так, отчего ж не повеселиться?
За широкими плечами его было спокойно.
Безопасно.
И Евдокия обеими руками вцепилась в сумку, приказывая себе не расслабляться. Себастьяну она верила, но он один, а монахинь три… и Богуслава… и конечно, глупо думать, что Себастьян с монахинями драться станет, только не оставляло Евдокию ощущение, что не все так просто.
— А вы, любезные сестры, чем порадуете?
— Себастьян! — голос Богуславы резанул по ушам.
— Не кричи, дорогая, — ненаследный князь сунул палец в ухо. — Аж зазвенело… этак и оглохнуть недолго.
— Ты вмешиваешься не в свое дело!
— Почему?
— Это… это касается только семьи.
Богуслава попятилась к двери. Она просто так уйдет? Возьмет и…
— Дорогая, ты ничего не забыла? Я часть этой семьи… и все, что с нею происходит, меня касается. Поэтому будь любезна, ответь на вопрос… пока я спрашиваю, а не познаньская полиция. И вам, сестры, рекомендовал бы подумать…
— Она же больна!
— Дуся, ты больна?
— Здорова, — мрачно буркнула Евдокия, которая и вправду ощутила себя на редкость здоровой.
— Видишь, она с тобой не согласна.
— Да неужели? Посмотри на нее!
Себастьян обернулся, окинул Евдокию насмешливым взглядом и ручку поцеловал.
— Ты прелестна, даже растрепанная.
— Она сошла с ума! Богов всех ради, Себастьян! Ты не мог этого не заметить… нет, ты мог не заметить… эти ее перепады настроения… приступы ярости. Она едва меня не убила!
— Жаль, что не убила, — спокойно ответил Себастьян. — Глядишь, многие бы наши проблемы и разрешились бы… правда, пришлось бы с судом чего‑нибудь думать. Да, незадача…
— Ей нужна помощь… а при монастыре хорошая лечебница…
С каждым словом она отступала на шаг.
— Богуслава, ты куда бежишь?
— Я?
— Стоять!
Монахини вдруг подхватили юбки и опрометью бросились к двери.
— Стоять, кому сказал!
Не остановились.
— Вот же, — стрелять ненаследный князь не стал, только головой покачал. — Эк у тебя тут весело!
— Да уж, — Евдокия прижала руки к пылающим щекам. — Здесь… здесь не стоит оставаться… а ты…
— Не побегу ли за монашками? И как ты себе представляешь?
Евдокия честно попыталась представить Себастьяна, несколько взъерошенного, растерявшего обычный свой лоск, несущимся за почтенными сестрами с ее револьвером в руке.
Пожалуй, люди не поймут — с.
— Их найти несложно. Если и вправду монашки…
— Думаешь…
— Здесь мне сложно думать, Дуся. Поэтому давай, собирай там, чего тебе нужно, и поедем.
— А Богуслава…
— Поедем, — настойчиво повторил Себастьян. — К моему другу… ну, не совсем другу, но он точно не откажет. А заодно, может, объяснит, что произошло… здесь мне действительно тяжело находиться.
— Только, — Евдокии было несколько стыдно. — Тут люди…
— Сообщу. Выведут.
— И наверх… ты не мог бы… — она указала на лестницу. — Когда кто‑то рядом, то легче…
Он ничего не стал говорить, но руку предложил. И поднялся.
В гардеробную Евдокии первым вошел, окинул взглядом, хмыкнул и, посторонившись, сказал:
— Надеюсь, это добро ты с собой не потащишь?
Платья.
Утренние и дневные. Для прогулок. Для визитов. Для верховой езды… бальные и коктейльные… подходящие для чаепития. И те, в которых не стыдно появиться за ужином, пусть бы ужин этот проходит исключительно в кругу семьи, но дворецкий не поймет, если Евдокия нарушит древний распорядок, спустившись к столу в дневном наряде.
— Не потащу, — она вдруг встрепенулась, вспомнив. — Вот. Она сказала, что это Лихо написал… но я не верю. Бумага наша. Почерк — его…
— Похоже, что почерк его, — Себастьян бумагу принял осторожно. — Но я тебе скажу, в Познаньске довольно умельцев, которые на раз любой почерк изобразят…
Евдокия собиралась быстро.
Белье. И на смену. Простое. Без кружев и вышивок. Чулки.
Платье серое, шерстяное.
И то, которое на ней, сойдет… в саквояж много не вместится… деньги. Надобно будет в банк заехать, снять еще пару тысяч, пригодятся.
— Чушь собачья, — прокомментировал Себастьян, но письмо сложил, сунул в карман. — Это не он писал… но если пропал… не надо было отпускать вас.
— Он… жив?
— Перстень?
Держался.
Темный. Тяжелый. И Евдокии подумалось, что зря она злилась на то, что перстень этот порой мешал. Как бы она была, не зная наверняка.
— Вот видишь! — нарочито бодро произнес Себастьян. — Живой. Значит, осталось мелочь. Найти и торжественно вернуть в лоно семьи…
Наверное, так.
Надо верить.
Если очень сильно верить, то сбудется.
А Евдокия будет верить от всего сердца, потому что иначе нельзя. Не отпустит она. Не позволит спрятаться от себя ни в монастыре, ни у Хельма за пазухой… отправится по следу.
Найдет.
И устроит скандал. Обыкновенный пошлый скандал с битьем посуды, слезами и обвинениями… потому что ушел тихо.
Исчез.
Бросил.
И чтобы не разреветься прямо здесь — да что с ней происходит? — Евдокия решительно подняла саквояж. Себастьян наблюдал за ней. Сам неподвижный, что кошак, который за мышью следит, только кончик хвоста подергивается вправо — влево.
— Что не так?
— Все не так, Дуся. Но разберемся… только не суйся никуда в одиночку, ладно?
Поверила.
И прогоняя призраки собственных недавних страхов, ворчливо поинтересовалась:
— Я бы и не сунулась. Но я, между прочим, трижды в управление звонила! И хозяйке твоей… и вообще… где ты был?
— У вдовы одной… — взгляд ненаследного князя слегка затуманился, а на губах появилась такая довольная улыбка, что всякие сомнения о том, был ли визит к оной вдове удачен, исчезли.
— И чем же вы занимались?
— Размышляли о высоком… Дуся, не ревнуй, тебе не идет.
— Я не ревную… я сочувствую.
— Кому?
— Вдове!
Он забрал саквояж и руку предложил.
— У женщины траур… а тут ты объявился…
— И весь траур испоганил…
Евдокия говорила. Глупости какие‑то говорила, лишь бы не слушать вязкую тишину дома, лишь бы не думать о том, что Лихо, ее Лихо, исчез.
Жив, конечно.
Но исчез… а на ступеньках ждал подарок: широкая серебристая полоса.
— Это еще ничего не значит, — сказал Себастьян, подняв ее.
А Евдокия не поверила. Не смогла.
Глава 16. В которой выясняют отношения, ломают носы и пытаются добиться справедливости
Евстафий Елисеевич пил чай.
По давней привычке, появившейся в незапамятные еще времена, когда жив был его папенька и немка Капитолина Арнольдовна с ея сплетнями, чаевничать он садился в половине третьего. И о том знали все, от почтеннейшей дамы — секретаря, которая растапливала тольский самовар сосновыми шишками — ими Евстафию Елисеевичу, зная об этакой воеводиной слабости, кланялись купцы, до самого распоследнего курсанта. И не было во всем управлении человека, столь душевно черствого, каковой бы в силу оной черствости осмелился бы прервать сей ритуал чаепития.
За чаем и думалось легче, и заботы отступали, и язва, давняя подруга, стихала, принимая подношеньице не то пряничком, не то пирожком, главное, чтоб с вареньицем малиновым, аль сливовым, аль еще каким… о полуденном чае Евстафий Елисеевич мечтал целый день, несколько стесняясь этаких мыслей своих — на рабочем‑то месте в его представлениях следовало думать исключительно о работе, но в кои‑то веки не думалось.
Вот чай — дело иное.
На вишневых‑то веточках… со смородиновым листом пахучим. С чабрецом, который он самолично, не брезгуя делом столь низким, собирал да сушил, да растирал едва ли не в порошок…
…уж лучше о чае, чем о недовольстве генерал — губернатора.
Вызывал, батюшка.
Говорил сухо, слова цедил да глядел поверх головы, отчего Евстафий Елисеевич себя сразу ощущал дюже виновным, хотя при всем том не раскаивался нисколечки. Закон… оно верно, что на страже закона стоит, да только где это видано, чтобы закон вовсе без совести был?
Нехорошо вышло.
И намекнули, что засиделся уж Евстафий Елисеевич на месте воеводином… оно конечно, в прошлым‑то годе отличился, да только одними былыми заслугами жив не будешь.
Как есть, спровадят в отставку.
Почетную.
Выдадут орден за безупречную службу, а к нему сабельку с гравировкою, аль кисет, аль часы… мало ли штуковин бессмысленных в городских лавках имеется? Подыщут… и придется идти…
А и уйдет!
Мысль сия, почти крамольная, причиняла боль.
Куда уйдет? Всю жизнь ведь на службе‑то… сначала с папенькой, пусть будут милостивы Боги к душе его, после курсы… и вновь служба. Год за годом… и теперь‑то странно, что есть иная жизнь.
Какая?
Какая‑нибудь…
— Кроликов разводить стану, — сказал Евстафий Елисеевич государю, который глядел сочувственно, стало быть, понимал, сколь важное решение принял для себя познаньский воевода. — Шайранское породы… ох, видел я такого на рынке. Не кролик — монстра… или собак, ежели по — благородному…
Вздохнул.
На часах была четверть третьего, и значит, поставлен уже самовар, дымит, пыхтит, нагревая в утробе своей да ключевую воду.
…Дануточка только обрадуется… сама частенько про отставку заговаривала, про годы немалые, про то, что в поместьице, государем дарованное, наведаться след. Порядок навести. Домом заняться. Угодьями… что негоже Евстафию Елисеевичу в его‑то чинах и денно, и нощно на работе пропадать. И надо бы ему пример с иных брать, с тех людишек, которые в присутствие лишь отметится и ходят, а он все…
Неправильно живет.
И душою болеет.
И язвою. Ожила, зашевелилась, проклятущая…
— Угомонись ужо, — велел ей Евстафий Елисеевич. — Сейчас поедим… а с делом этим, глядишь, и разберемся Вотановой милостью.
Сказал и поверил себе вдруг: разберется. Сколько было этаких дел сложных, с первого‑то взгляда и вовсе непонятных, безнадежных порою, ан нет, в каждом разбирался, разбирал, разматывал по ниточке клубки чужих преступлений.
И тут справится.
Глядишь, и не подведет ненаследный князь… в то, что убивал братец его, Евстафий Елисеевич не верил, а вот в то, что смерти случившиеся выгодно приписать Лихославу Вевельскому…
Он вновь вздохнул.
Нет, чем так, то лучше почетная отставка… или не почетная. С позором‑то уволить, небось, не должны… не за что… и пенсию сохранят… и наступит спокойная мирная жизнь, как у многих. Только от мысли об этакой мирной жизни Евстафия Елисеевича кривить начинало.
Чай он по той же привычке заваривал сам. Заварку отмерял серебряною ложечкой, единственным наследством, от папеньки доставшимся, заливал кипятком, мурлыча под нос песенку, благо, к этому моменту кабинет Евстафия Елисеевича пустел: и у секретаря имелись свои полуденные дела.
Он же накрывал чашку матерчатою грелкой, шитой в виде курицы — сама Дануточка изволила рукодельничать, давненько, правда, еще в девичестве, и за годы курица поистрепалась, утратила где‑то бисерный глаз, но осталась дорога Евстафию Елисеевичу и такою, одноглазой.
В ожидании, когда чай дойдет, познаньский воевода раскалывал белую сахарную голову — не понимал он нынешней моды на рафинад аль сыпучий сахар — раскладывал пряники с печеньем, извлекал из футляра серебряное ситечко…
Он с наслаждением вдыхал первый, самый ароматный пар.
И осторожно поддерживая старый же чайник, лил чай на ситечко, глядел, как расползается темная, густая с виду жидкость, по сетке.
К этому моменту он обычно успокаивался, выбрасывая из головы лишние мысли.
Не сегодня.
Шорох за спиной заставил Евстафия Елисеевича обернуться с неподобающей его годам и комплекции поспешностью. И фарфоровый пузатый чайник не упустил случая выскользнуть из рук.
— Вот…
Евстафий Елисеевич зажмурился, представив, как разлетится он на бело — голубые осколки, плещет кипятком на паркет…
— Извините, — раздался тихий голос. — Я не хотел вас напугать.
Глаза Евстафий Елисеевич открыл и нахмурился: мало того, что в кабинете посторонний, так этот посторонний имеет наглость думать, будто бы напугал познаньского воеводу. А тот, чай, не барышня трепетная…
Посторонний смиренно стоял, протягивая целый чайник, который как‑то умудрялся держать одною рукой. А ведь чайник‑то нелегкий, небось… гость же на силача нисколько не похожий.
Невысокий.
Субтильный, и субтильности этой не способен скрыть костюмчик, прикупленный в модной лавке. Евстафий Елисеевич отметил, что костюмчик этот приобретен недавно, ткань не успела еще примяться по фигуре, сделаться удобною.
И пусть качества хорошего, но не наилучшего.
А гостю в его наряде неудобно. И штиблеты никак жмут, белые, с черными носами, каковые вошли в моду нынешним летом, и Дануточка, поддавшись всеобщему безумию, прикупила ажно две пары. Настаивает, чтобы носил их Евстафий Елисеевич, а он не может, зело узкие оне. Пока до управы доберешься, всю ногу смозолят… он‑то из дому выходит в штиблетах, за этим делом Дануточка самолично глядит, прислуге не доверяя, а в управлении переобувается в старые, растоптанные башмаки.
— Ты кто? — поневоле в душе познаньского воеводы шевельнулось сочувствие к сей жертве обувной промышленности.
— Гавриил, — ответил он и чайничек на поднос аккуратненько поставил. — Можно Гаврей. Гавриком только не надобно.
— Почему?
— Не люблю.
Он был серьезен.
И молод. Сколько? С лица лет двадцать — двадцать пять. А по глазам если, то и вовсе дите дитем… аль притворяется? Евстафий Елисеевич, осознавши, что испить чаю ныне не выйдет — все ж таки гость наглостью своею заслуживал внимания.
А ежели он не случайно тут?
Нет, естественно не случайно, поелику дверь‑то заперта… но за какою надобностью явился? Уж не за той ли, которая разом перечеркнет все жизненные планы Евстафия Елисеевича, будь оне касаются кроликов редкой породы аль неторопливого сельского бытия…
Его и прежде‑то пытались убить, и в бытность его актором, и когда он, повзрослевший, заматеревший, обзавевшийся парой — тройкой шрамов да медалькою, начал карьеру…
Был и безумец — анархист с бомбою…
…и просто душегуб, ошалевший со страху.
Был отравитель, который решил, что ежели избавит Познаньск от полицейского гнету, то наступит время всеобщей благодати.
В Евстафия Елисеевича стреляли.
И пыряли ножом.
И проклинали… и чего только не творили, однако же как‑то вот обходилось, ежели дожил божьею милостью до сих преклонных лет.
— Гавриил, значит… — он решил, что ежели новый гость из этих, из душегубов, то все одно негоже подавать вид, что боится его познаньский воевода. Таки из жизни надобно уходить с достоинством и, желательно, как можно позже.
А Евстафий Елисеевич еще поборется.
— И чего тебе надобно, Гавриил?
— Поговорить.
Он потянул носом и сказал:
— Вы бы чаек пили, а то ж стынет.
Это Евстафий Елисеевич сам понимал, да только вот не мог он пить полуденный чай в компании. Сразу начинал думать о том, что не солидное это, переливать его из чашки в блюдце, перебирать куски желтоватого тростникового сахару, от которого пальцы становились липкими.
Он пальцы облизывал и запивал все чайком.
Пряники крошил, подбирая крошки с подноса. В общем, вел себя вовсе не так, как надлежало вести Познаньскому воеводе.
— Обойдусь, — мрачно заметил Евстафий Елисеевич.
— Извините, — гость смутился и покраснел, особенно оттопыренные его уши, которые сделались вовсе пурпурными, яркими. — Я не хотел вам помешать, просто… я пытался записаться, а сказали, что только через месяц примете. А месяц — это долго. И не пустили.
Гавриил переминался с ноги на ногу и морщился.
— Ботинки жмут, — пожаловался он.
— Сочувствую, — вполне искренне ответил Евстафий Елисеевич.
— Вы не будете против, если я разуюсь?
Познаньский воевода лишь головой покачал: естественно, не будет. Безумцам вовсе перечить не следовало.
— Спасибо, — выдохнул гость с немалым облегчением. И ботинки стянул, оставшись в ярко — красных носках. — А то мне сказали, что ныне тут все такие носят. Я ж выделяться не хотел… понимаете, они на самом деле очень умные.
— Кто?
— Волкодлаки.
Евстафий Елисеевич важно кивнул, на всякий случай соглашаясь и с этим престранным утверждением.
— Они сразу почуют, если вдруг что не так… и сбегут. Сбежит. Я думаю, что он тут один.
— Волкодлак?
— Да.
Евстафий Елисеевич подавил тяжкий вздох: время от времени объявлялись в Управлении особо сознательные граждане, которые во что бы то ни стало желали собственнолично поучаствовать в наведении порядку на познаньских улицах. Обыкновенно граждане сии точно знали, как наводить этот самый порядок, жаждали немедленных реформ, подробный план которых носили с собою…
Избавиться от них было непросто, потому как, получив отказ, граждане принимались гневаться и писать пространные кляузы, обвиняя познаньского воеводу в черствости, узколобости и иных всевозможных грехах…
— Волкодлак — это очень интересно, — миролюбиво произнес Евстафий Елисеевич. — О волкодлаках надобно говорить не тут. Пройдемте.
Он гостеприимно распахнул перед Гавриилом двери в свой кабинет и вздох подавил: нынешний непростой день следовало признать окончательно неудавшимся.
Гость же, оглядевшись, — особо впечатлил его грозный государь, взиравший строго, аккурат как наставник сиротского приюта, в котором Гавриил провел пять лет своей жизни. Он поежился, представив, как рисованный государь поднимет рисованную же руку, погрозит сухим пальцем и скажет:
— Вновь вы, сударь, порядок нарушаете. Подите‑ка сюда.
И розги достанет.
Розги в Гаврииловом воображении вовсе не были рисованными, оттого и повел он плечами, воспоминания отгоняя. И еще потому как костюмчик оказался тесен.
— Присаживайтесь, — меж тем велел познаньский воевода, который выглядел вовсе не так, как Гавриилу представлялось.
Он‑то думал, что Евстафий Елисеевич, о котором в Управлении говорили неохотно, осторожненько и с оглядкою, будто бы подозревая, что подслушает, неуемный, что он собою грозен, велик и силен. Или же, напротив, как тот Гавриилов наставник, сухощав, худ и холоден.
Но нет, Евстафий Елисеевич был невысок, полноват и походил вовсе не на грозного воеводу, а на какого‑нибудь купчишку средней руки, не больно удачливого, но и не сказать, чтоб вовсе невезучего. И оттого растерялся Гавриил.
В креслице присел, отметив, что жесткое оно, пусть и обтянуто хорошею телячьей кожей, да под нею — ни пружин, ни волоса конского, но одно честное дерево. Блестят на коже серебристые шляпки гвоздей, и мнится вновь, что ежели вздумается Гавриилу солгать, то извлечет Евстафий Елисеевич из стола своего солидного гвозди иные…
Нет, пытки ныне запрещены, но ведь не зря шепчутся люди, что, дескать, не всегда оный запрет так уж блюдут… а подвалы в Управлении глубокие.
— Слушаю вас, милейший, — ласковым голосочком произнес Евстафий Елисеевич. И в глаза уставился. А собственные его были прозрачными, холодными и до того внимательными, что Гавриила разом в жар кинуло. В душе же возникло противоестественное желание покаяться во всех грехах.
— Я… я издалека приехал, — начал Гавриил и пальчиком гвоздик сковырнуть попытался. Всегда‑то, когда он нервничал, руки его обретали собственную жизнь.
Норовили оторвать что.
Исцарапать.
Или же вытащить ни в чем неповинный гвоздь.
— А тут у вас волкодлак.
— Есть такое дело, — согласился Евстафий Елисеевич и повернул бюст государя, точно призывая оного стать свидетелем.
Гавриил сглотнул: солгать, глядя в бронзовые очи короля, он точно не сумеет.
— Волкодлак… и в парке вот… я в парке ночью гулял… а он выть начал… это неправда, что они на луну воют. Чего им до луны‑то? Нет, они воют, когда на охоту выходят… ну или после… этот уже поохотился… и я подумал, что смогу… ну… поймать его…
— За хвост?
— Почему за хвост? — удивился Гавриил. — Нет, за хвост волкодлака ловить неможно. Он же ж обернется и руку отгрызет…
— Логично. Значит, не за хвост?
— Ну… у меня свои методы имеются… особые…
— Замечательно, — Евстафий Елисеевич произнес это таким тоном, что стало очевидно: ничего‑то замечательного он не видит. — Молодой человек… вы хотите прожить долгую и интересную жизнь?
— Хочу.
Кто ж не хочет‑то?
Познаньский воевода вздохнул и пробежался пальцами по подбородкам, точно проверяя, все ли на месте.
— Тогда позвольте дать вам совет. Не гоняйтесь за волкодлаками… не надо их ловить ни за хвост, ни за яйца, ни за иные выступающие органы.
— Он же уйдет!
— От нас еще никто не уходил.
— Вы не понимаете! — Гавриил сдавил шляпку гвоздя, который сидел прочно и явно не желал сдаваться. — Он ведь… он тут не просто так появился! Город — не лучшее место… для волкодлака тут шумно очень! Знаете, какой у них слух? Они зимою мышкуют… молодые особенно, которым все одно, кого гонять… так вот, он способный мышь под тремя аршинами снега услышать… и учуять… а тут у вас грохот. Кони. Повозки. Люди. И воняет — страсть! Для волкодлака в Познаньске жить — это мука смертная!
Евстафий Елисеевич склонил голову набок, разглядывая нежданного гостя с новым интересом. Ишь как распереживался… покраснел ажно… и стул ковыряет, благо, стул энтот крепкий, не одного посетителя вынес, и этого, глядишь, переживет.
Одно любопытно: откудова мальцу про волкодлачьи повадки столько известно.
— Он сюда не сам попал! И если его не отпустят, то… на будущую луну он устроит такую охоту, о которой долго говорить станут. — Гавриил вытащил‑таки гвоздик и, повертев в пальцах, положил на стол. — Извините.
— Ничего. Ты продолжай, продолжай. Значится, надобно из приезжих искать?
Гавриил кивнул, уточнив.
— Или из тех, кто в городе редко объявляется.
— И думаешь, не сам он…
— Он не гнал ее… последнюю, которая в парке… быстро убил… а если матерый, то не отказал бы себе в удовольствии поохотиться. Они любят играть. Чем старше, тем дольше игра… порой позволяют вовсе уйти. На милю или на две. И когда уже дом виден, тогда и убивают… это молодые нетерпеливые. Но молодой ни за что не ушел бы от тела. Да и выл бы иначе.
— Интересно. Значит, матерый, но не играл.
Гавриил кивнул.
— Я знаю, где он живет… правда, они все не подходят, или наоборот, подходят. Но я точно знаю. Волкодлак живет в пансионате!
— Чудесно, — Евстафий Елисеевич сцепил руки под подбородками. — А нумер не назовете?
— Нет.
Гость его, похоже, совсем уж поник.
— Я там живу…
Евстафий Елисеевич мысленно застонал: он‑то уж понадеялся, что сей человек все же из редкого числа здравомыслящих, уж больно складно говорил он о волкодлачьих привычках. Ан нет… ошибся.
— И соседи кажутся вам подозрительными? — осведомился познаньский воевода, а гость, обрадованный, что его поняли, закивал.
— Понимаете… пан Зусек, он очень тощий и приехал недавно с женой.
— Красивой?
— Очень!
Паренек вновь вспыхнул.
Что ж, чужая красивая жена — веский повод для подозрений.
— Он книгу написал…
— Экий гад, — Евстафиий Елисеевич подался вперед, налегая животом на стол. — Я вот тоже людям, которые книги пишут, не доверяю.
— Отчего?
— Так, как знать, чего они там напишут.
Гавриил подумал и согласился, что сие — аргумент.
— Вот! Я бы их сразу на каторгу… всяк пользы больше было бы. И лес сберегли б.
— Вы… издеваетесь?
— Нет, как можно? Я свидетеля оправшиваю… значит, этот пан Зусек вам подозрителен.
Гавриил кивнул. И вот как вышло так? Ведь сказал‑то чистую правду, а прозвучала, как больная фантазия.
— Кто еще вам подозрителен?
— Панна Гурова. У нее шпицы. Померанские. Шесть штук. Такие… очень подозрительные… волкодлаков‑то псы боятся, а эти — нет. Смотрели на меня своими глазенками… будто стеклянными…
Гавриил подавил вздох. Вновь все звучало на редкость безумно.
— Еще панна Акулина… она прежде в операх выступала. И кричит громко… снасильничать меня хотела.
— Но вы не дались? — уточнил познаньский воевода, с трудом скрывая улыбку.
— Не дался.
— Правильно. Если каждой бабе давать себя снасильничать, то что это будет? Полный беспредел.
— Вы все‑таки издеваетесь.
— Разве что самую малость.
Гавриил насупился.
Он привык, что к нему не относились серьезно, полагая, что он или молод, или слаб, но все одно было обидно. Он же не просто так два часа в управлении провел, дожидаясь, когда степенная дама покинет приемную. Он желал быть выслушанным… услышанным.
Евстафий Елисеевич слушал превнимательно, но легче от того не становилось.
— Еще там есть пан Жигимонт. Занятуйчик. Он прежде палачом был королевским, а теперь вот в отставке… и кружево плетет.
Он замолчав, воззрившись на воеводу светлыми печальными очами.
— И придумывает, как и кого казнить надобно.
— Профессиональная деформация.
Гавриил пощупал шею. Может, конечно, оно и так, и безобиден пан Жигимонт, да только мало приятности в том, что рано утречком тебя извещают, что с превеликим удовольствием четвертовали б… а еще и рассказывают, как именно четвертовать бы стали, подробно так, со знанием дела.
У Гавриила, может, от этого рассказу аппетит пропал.
У него, может, воображение живое.
— Итак, — Евстафий Елисеевич руки расцепил и оперся на стол. — Давайте подытожим. Вы поселились в пансионе, где обретают весьма подозрительные личности. Так?
— Так, — согласился Гавриил.
— Один пан пишет книги и имеет красивую жену. Другой вяжет кружево…
— И людей казнит. То есть казнил. А теперь думает, как бы казнил, — Гавриил несколько запутался, но Евстафий Елисеевич махнул рукой, дескать, это не столь уж важно, казнил, казнит или казнил бы, ежели б ему волю дали.
— Хорошо… еще одна панна шпицев разводит, другая — насильничать пытается… обвинение выдвигать будете?
Представив реакцию панны Акулины на обвинение и то, что последует, Гавриил отчаянно замотал головой: нет уж, он с людьми не воюет.
Ему бы волкодлака поймать.
— Хорошо. Все ж таки шуму наделали бы… но поймите, Гавриил, — Евстафий Елисеевич поднялся. Он двигался неспешно, однако эта неспешность могла бы обмануть лишь человека несведущего, Гавриил же, исподволь наблюдая за каждым движением познаньского воеводы, отмечая и плавность их, и точность. — Все люди в той или иной степени странны… кто‑то вот жуков мертвых собирает… кто‑то карточки с… всякие карточки. Крючком вот вяжет… и я всецело понимаю ваши опасения, а также желание избавиться от этаких соседей.
Уголок рта Евстафия Елисеевича дернулся. Вспомнилась и казенная квартирка, насквозь пропахшая солеными огурцами, и сосед, имевший престранную привычку расставлять ботинки вдоль стены, при том, что ботинки он брал и свои, и Евстафия Елисеевича, путая меж собой, порой связывая шнурками. Сосед утверждал, что это — верный способ защититься от злой волшбы. И не помогали ни уверения, что казенная квартира и без того зачарована на славу, ни уговоры, ни просьбы… к концу года Евстафий Елисеевич соседа возненавидел, не зная, что тому жить осталось недолго…
…а сменил его любитель декламаций. И ладно бы что приличное декламировал, так нет же… уголовный кодекс…
— Многие люди желают избавиться от своих соседей, — вполне искренне произнес Евстафий Елисеевич, втайне радуясь, что в новой своей жизни он избавлен от необходимости сосуществовать с неудобными людьми. — Но это не значит, что человек, который вам не нравится, в чем‑то повинен… что он одержимый… аль волкодлак… или еще кто.
Он говорил с Гавриилом мягко, сочувственно даже, отчего становилось понятно, что не поверил познаньский воевода ни единому слову.
— Смените пансион. И газет читайте поменьше, — завершил речь Евстафий Елисеевич и выразительно на дверь покосился. Однако гость намеку не понял, выпрямился в кресле, вздернул остренький подбородок, и заявил:
— Волкодлак живет в этом пансионе! Я выследил его… в ту ночь!
— Как?
— По запаху, — Гавриил шмыгнул носом, который вдруг зачесался неимоверно. — Я его духами облил… случайно… особыми… и потом по запаху шел. Пришел и вот…
— Спасибо. Мы обязательно проверим.
Евстафий Елисеевич и вправду взял на заметку и пансион этот, который знал в силу многочисленных жалоб, происходивших от его владельца, и жильцов его. Мало ли… стоял пансион у парка, и пан Вильчевский, любивший кляузы едва ли не больше денег, пускал жить всех, кто мог за проживание и потенциальный ущерб заплатить. Документов не спрашивал.
И жильцов в околотке регистрировать не спешил.
Последнее происходило отнюдь не из желания нарушить закон, но едино из жадности: за регистрацию надлежало уплатит десять медней, а расстаться с монеткою, хоть бы и самой малой, было выше душевных сил пана Вильчевского. Нет, в пансион Евстафий Елисеевич кого‑нибудь да пошлет… послал бы Себастьяна, да о нем пока лучше забыть.
— Вы мне не поверили, — гость шмыгнул носом и, достав из рукава платок с черной траурною каймой, высморкался. — А я знаю, что говорю! Даже мне тут сложно… вон, насморк мучит. И шкура вся чешется, потому как жарко, душно и воняет все… а волкодлак и вовсе голову потеряет… звериная сущность его при малой луне отступает, но не уходит вовсе. Ей тут плохо. Дурно. И человеку будет нехорошо. А когда наступит новое полнолуние.
Гость сжал платок в руке.
— Вы не представляете, на что способен разъяренный волкодлак!
— А вы представляете? — Евстафий Елисеевич склонил голову набок.
А и верно сказал, жарко и душно, и в сюртуке этом, из шерсти сшитом по особому крою — портного Дануточка отыскала, сказав, что неможно барону в обыкновенных лавках одеваться — Евстафий Елисеевич прел, покрывался испариною, а к вечеру и чесаться начинал, будто бы лишайный.
— Да.
— И откуда, позвольте узнать?
Гость заерзал, но признался:
— Я на них охочусь. С детства.
Как по мнению познаньского воеводы, детство гостя было еще с ним, но Евстафий Елисеевич промолчал, ожидая продолжения:
— Я… я вообще за всякою нежитью… нечистью… мавки там… игоши… — он сунул руку в подмышку и поскреб. — И волкодлаки.
— Охотник за нежитью, значит? — уточнил Евстафий Елисеевич. И Гавриил важно кивнул. — А отчего ж ты, охотник, квелый‑то такой?
Нежити на один зуб.
И верно, сей вопрос задавали Гавриилу не единожды, оттого он густо покраснел и признался:
— Болел я в детстве часто…
Гривна — мера веса, 0,41 кг.
Глава 17. О сложностях родственных взаимоотношений
Появлению Себастьяна дорогой братец вовсе не обрадовался.
Вскочил.
Кинул картишки, правда, предусмотрительно рубашками вверх да перчатками белыми прикрыл, чтоб, значит, не возникло у кого неправильных желаний. Оно и верно, нечего добрых людей вводить во искушение.
— Тебе чего? — недружелюбно поинтересовался Велеслав, одним глазом пытаясь за партнерами по игре следить, а другим — за братцем, выглядевшим на редкость недружелюбно.
— Поговорить, — осклабился братец.
И партнеры посмурнели, верно, осознав, что сему разговору предстоит быть долгим, нудным и оттого не скоро вернется Велеслав к игре.
— Занят я, — сделал он вялую попытку отбиться от назойливого родственничка, но братец вцепился в локоть, когти выпустил, которые рукав пробили.
А китель‑то, чай, не казенный.
Шит по особой мерки, из аглицкого дорого сукна, в лазоревый цвет окрашенного…
— Ничего. Подождут… хотя…
Темные глаза Себастьяна задержались на пане Узьмунчике, появившемся в клубе третьего дня. Был он невысок, румян и простоват с виду, чем сразу снискал расположение Велеслава: видно было, что пан сей — есть глубочайший провинциал, которому в приличных клабах бывать не доводилось. Вот он и стеснялся, краснел, заикался.
Проигрывал, правда, по мелочи, но ведь вечер только — только начался.
Велеслав весьма себе рассчитывал и на вечер, и на пана Узьмунчика с его кожаным пухлым портмоне, где пряталась новенькая чековая книжка.
Да и наличные имелись.
— Ба! — воскликнул Себастьян, и пан Узьмунчик покраснел густо, ровнехонько, даже очочки его потешные кругленькие и те будто бы порозовели стыдливо. — Кого я вижу! А мне тут сказали, что ты, Валет, завязал…
— Так я ж… — неожиданно хриплым баском ответил пан Узьмунчик. — Я ж пока вот… в гости зашел.
— И вышел бы. Ты, Валет, аккуратней был бы… господа офицеры — это тебе не купцы. Напорешься. Так мало, что сам помрешь дурною смертью, так еще и статистику управлению попортишь. И мне потом возись с твоим убийством, гадай, кого ж ты так прокатил‑то…
Пан Узьмунчик поднялся, оставив на столе банк, где уже лежал десяток злотней, не считая прочей мелочи.
— Я… пожалуй… пойду.
— Иди — иди, — благосклонно разрешил Себастьян. — И свечку поставь за свое чудесное спасение.
— Чудесное? — пан Узьмунчик отряхнулся совершенно по — собачьи, и из фигуры его вдруг исчезла и прежняя нескладность, и суетливость, и неуловимый провинциальный флер.
— Так разве ж я не чудо?
Братец когти убрал, но Велеслав мрачно отметил, что дыры на ткани останутся, и вовсе рукав ныне выглядит подранным, а значится, чинить придется.
Деньги просить.
У дорогой жены, которую он, Велеслав, честно говоря, побаивается. И оттого тянет сделать что‑либо этакое, чего людям высокого звания делать никак неможно.
К примеру ударить.
Но сразу от мыслей этаких делалось неудобственно, да и страшновато: а ну как она, колдовка, пусть бы и утверждали иное, но Велеславу лучше знать, догадается? Прочтет? И сама уже ударом на удар ответит… и донес бы, как есть донес, куда следует, но…
Нельзя.
Не время.
Она‑то думает, что умна, да только все бабы — дуры, это каждому ведомо. Пускай спровадит Лихослава, небось, колдовка с волкодлаком завсегда договорятся, пускай управится с купчихою этой, которая на Велеслава смела глядеть свысока да попрекать деньгами, не прямо, нет, но взглядом одним.
— Осторожней, братец. Гляди, с кем играть садишься, — Себастьян подранный рукав погладил, — Этак не то, что без порток останешься, но и без совести… хотя о чем это я? Избытком совести ты у нас никогда не страдал…
Велеслав оторвал взгляд от банка, который ушлый крупье сгребал, дескать, раз прервана игра этаким бесчестным способом, то и банк оный принадлежит клабу, а никак иначе.
— Чего?
— Того, Велеславушка. Валет это. Известный катала. Ищет таких вот, как ты, глупых и фанфаронистых, готовых провинциального сиротинушку раздеть — разуть…
Себастьян погрозил пальцем.
И вновь коготь выпустил, черный, острый. И коготь этот вдруг уперся в Велеславов нос, напоминая о давнем неприятном происшествии, когда оный нос обрел некую кривизну. Велеслав выдавал ее за тяжкое последствие боевых ран… бабам нравилась.
Дуры. Точно дуры.
Жаль, что братец не таков… чего явился?
А понятно, чего.
— Ничего не знаю, — поспешил откреститься Велеслав, оглядываясь.
— Плохо, братец. Я бы даже сказал, неосмотрительно.
А ведь случись беда, не помогут. И крупье отвернется: не впервой ему сие делать, не мешаясь меж благородными господами, буде им приспичило выяснить, чья шпага длинней. И дружки — приятели, собутыльники дорогие, в стороночке останутся. Скажут, мол, семейное дело… частное.
— Идем, — Себастьян хвостом смахнул перчатки. — Побеседуем… приватно.
Вот уж чего Велеславу совершенно не хотелось, так это приватной беседы с дорогим братцем. Но ведь не отстанет же ж… прицепился, что репейник к заднице.
— В нашем клабе есть удобные кабинеты, — поспешил заверить распорядитель, объявившийся словно из‑под земли. И поклонился этак, угодничая.
В клабе распорядителя недолюбливали, почитая человечком ничтожным, суетливым безмерно да напрочь лишенным всяческого понимания об истинной сути веселья. Однако при всем том умудрялся он не допускать сурьезного ущербу, какой порой случался при предыдущем распорядителе.
Нонешний обладал воистину удивительным чутьем на неприятности, умудряясь всякий раз появляться именно там, где назревал очередной скандал. И время‑то подгадывал хитро, так, что и имущество спасал, и сам бит не был, хотя многие при виде сухопарой этой фигуры, согнутой в вечном поклоне, испытывали почти непреодолимое желание отвесить распорядителю вескую затрещину.
— Кабинеты — это чудесно, — во все клыки улыбнулся Себастьян. — Кабинет нам подойдет, правда, Велечка?
Велеслав поморщился: этак, снисходительно, его именовала лишь старая нянька, на которую никакой управы не было…
Распорядитель вел, скользкий, точно угорь, и такой же лоснящийся, будто воском натертый от самой макушки до пяточек.
На них глядели.
Шептались.
И верно, пойдут слухи… нет, в клабе знали, что братец Велеславов в полициях служит, да только знание сие было абстрактным. Ныне же он, ненаследный князь и старший актор, самолично заявился смущать покой честных офицеров.
Каждый, небось, припомнил, какие за ним грешки числятся… кто‑то подворовывал втихую, кто‑то бутозерствовал по пьяни, были пьяные драки и разговоры, казалось, в кругу своих, надежных людей. Ан нет… Велеслав спиной ощущал настороженные взгляды сослуживцев.
Расскажет братцу про тот анекдотец о короле?
Аль сплетню, что будто бы Ее Величество… обсуждение принцессиных ножек, буде там было что обсуждать… а то случались и вовсе крамольные беседы, за которые не то, что выговора — обвинение получить можно…
— Зачем ты сюда заявился? — зашипел Велеслав, когда прикрылась беззвучна дверь.
Кабинеты при клабе имелись.
Самые, что ни на есть, приватные. И Себастьян, оглядываясь с любопытством, кажется, начинал понимать, о какой приватности речь шла.
Стены комнатушки, не сказать, чтобы большой, были оклеены красными обоями. Из мебели тут имелась круглая кровать, выставленная в центре комнаты, да столик, на котором таял в серебряном ведерке лед, охлаждая бутыль с шампанским.
Стояло блюдо с оранжерейными персиками да клубникой.
И кальян.
Имелись тут иные малые радости, но вспоминать о них было не время.
— Соскучился, — Себастьян, вывернув шею, разглядывал зеркальный потолок. — Экие вы тут затейники, однако…
В потолке отражалась и кровать, и столик, и картины, препошлейшего, надо сказать, содержания. Прежде‑то Велеслав не особо на них внимание обращал, висят и висят, а вот сейчас вдруг просто‑таки воспылал интересом к искусству.
— Начинаю думать, что некая часть жизни проходит мимо меня, — Себастьян попрыгал на кровати. — Может, и мне в клаб вступить?
— Рекомендации нужны.
— Неужто не замолвишь словечко за родного‑то братца?
Он похлопал по атласному покрывалу, ярко — красному, отороченному черным кружевом. Местным девицам, которые, в отличие от паскуднейшего братца характером обладали легким, веселым, оное сочетание было весьма по вкусу.
И еще колготки сеточкой.
— Садись, — почти дружелюбно предложил братец. — И вправду побеседуем, что ли…
— Да я лучше постою.
И поближе к двери.
Не то, чтобы Велеслав бежать вздумал, да и куда ему бежать‑то, скорее уж всем нутром своим осознавал явственную необходимость в пространстве для маневру.
К счастью, братец не настаивал, он упал на кровать, широко раскинув руки, и воззрился в собственное зеркальное отражение.
— Все ж таки странные вы люди…
— Чем?
— Да вот… просто представил… тебя и девицу какую‑нибудь… такую, знаешь ли, — он очертил фигуру гипотетической девицы, и Велеслав нехотя согласился, что та вполне в его вкусе.
Вот нравились ему бабы округлые, мягкие.
Себастьян же ткнул пальцем в зеркало.
— Она‑то, может, еще и ничего… девиц зеркала любят, а ты… красный, потный. Глаза выпученные. Пыхтишь…
— Я… не пыхтю… не пыхаю… не пыхчу.
— Не важно. Главное, что зрелище‑то потешное донельзя… а лет этак через пять… ну или через десять, когда постареешь, то и вовсе смех смехом. Ляжки трясутся белые. Живот обвис. Задница в прыщах, а шея в складках…
— Ты… — Велеславу захотелось дать брату в морду.
Вот просто взять и… и желание это, возникавшее едва ли не при каждой встрече, к счастью, случались они редко, было вполне себе закономерно. Однако Велеслав потрогал занывшую переносицу — никак предрекала она новые беды — и с сожалением отодвинул мысль о душевном мордобое.
Не поймут — с.
— Чего я? — удивился Себастьян. — Я‑то тут никаким боком. Во — первых, зеркалами не балуюсь. А во — вторых, веду активный образ жизни. Ты же, братец, дело другое…
Велеслав скрестил руки на груди: так‑то оно верней.
А то мало ли…
— Сиднем сидишь, пьешь безмерно, загулы устраиваешь. Нехорошо. Задумайся о здоровьице.
— Задумаюсь, — пообещал Велеслав.
— И правильно… глядишь, и думать понравится.
— Тебе чего надо?!
Ведь не на зеркала же поглядеть он явился в самом‑то деле! Экая невидаль, зеркало… и комнаты, подобные нынешней, небось, в каждом втором клабе имеются… и вновь темнит братец, другого ему надобно.
— Если про Лихо спросить, то я знать не знаю, где он… в монастырь ушел, — Велеслав сказал, чувствуя, как краснеют уши. В зеркале сие было особенно заметно, и главное, что он, как ни силится, не способен глаз от зеркала отвесть.
…а задница у него вовсе не прыщавая.
И живот не висит.
Да и шея без складок, а что ляжки белые, так оно и понятно, какими им еще быть, ежели ходит Велеслав в одежде? Небось, руки — шея загорают, а ляжкам тут сложней.
— В монастырь… — задумчиво протянул Себастьян. — И ты не знаешь в какой?
— Понятия не имею.
— А ведь удачно получилось, да? Он в монастырь… ты в князья… а Богуслава княгиней станет. Хорошая из нее княгиня выйдет, верно?
— Всяк лучше, чем из той… — Велеслав скривился и рукою махнул: тоже братец услужил… в клабе месяц шуточки ходили про невесту эту его… и не только шуточки, слушок один пополз, нехороший… а когда Велеслав сказал, по — родственному, упредить братца желая, тот разозлился.
До желтых волчьих глаз.
До клыков.
Нелюдь, как есть нелюдь… Велеслав‑то ничего дурного не желал, едино, упредить об опасности да сберечь честь родовую. За что бить‑то было?
И не извинился после.
— Экий ты… политически негибкий, — покачал головою Себастьян. — В нынешнем‑то мире, если хочешь знать, взят курс на демократизацию общества. И на борьбу со стереотипами.
И вновь палец поднял.
Правда, на сей раз без когтя, но с намеком.
— Скажи еще, что она тебе нравится…
— Почему нет? — Себастьян скатился с кровати, поднялся, медленно, плавно, и эти, напрочь нечеловеческие, текучие какие‑то движения заставили Велеслава попятится к двери. — Нравится.
— Раз нравится, то и женись.
— Может, и женюсь, — согласился Себастьян. Он наступал, неспешно, заставляя Велеслава вжиматься, правда, уже не в дверь — в красно — золотую стену. И затылком чувствовал княжич Вевельский узоры на обоях, а еще — острый край картины. — Раз уж Лихо в монастыре сгинул… нет, я, конечно, попробую его вернуть, но если вдруг не выйдет…
Черные у Себастьяна глаза.
Страшные.
Разве у человека бывают такие? И в горле пересохло, а сердце забилось быстро — быстро, и коленки вдруг затряслись. Велеслав не трус, конечно, не трус. Пускай на войне и не бывал, но доводилось дуэлировать… и кровь лил… и ранен был…
…и не причинит ему вреда родной братец.
Коготь уперся в шею, аккурат у натянутой, что струна, жилки.
— Сердечко пошаливает, — с укоризной произнес братец и клыки облизал. Выразительно так, отчего сердце упомянутое споткнулось, едва вовсе не стало. — Ну что ты, дорогой… выдумал себе страхов… разве ж я могу родного брата тронуть?
— Н — нет? — с надеждою произнес Велеслав.
— Конечно, нет. Я ж не изверг какой…
И коготь от горла убрал.
— Вот только, дорогой мой, хочу, чтобы ты понял… если вдруг с Лихо и вправду беда приключится… в монастыре ли, аль еще в каком интересном месте, куда вы его загнали, я костьми лягу, но сделаю все, чтобы вернуть себе право на наследство. Думаю, у меня получится.
— Ты же… ты же не хотел!
— И не хочу. Мне эта головная боль с титулом ни к чему… но видишь ли, я ж тварь такая… злопамятная, мстительная…
Знает.
Если не знает, то догадывается.
Но о чем?
— Я… я и вправду… я ничего ему не делал!
— Коня за что убил.
— Это не я! — убедительно солгал Велеслав. Во всяком случае, ему казалось, что убедительно, но растреклятое зеркало — сегодня же надо будет сказать распорядителю, пусть поснимает оные зеркала к Хельмовой матери — отразило его, дрожащего, бледного.
— Не умеешь врать, не берись, — Себастьян щелкнул по носу. — Что в выпивку подлил?
— Опий! Клянусь! Обыкновенный опий! Безвредный! Его и детям дают, чтоб спали лучше… я и влил‑то немного… чтоб голова закружилась.
— И как?
— Закружилась, — признался Велеслав. Идея, прежде самому ему представлявшаяся в высшей степени удачною, ныне казалась глупой.
— А ты на свежий воздух вывел?
Велеслав кивнул.
— Добрый какой! От это я бы сказал, по — братски! — Себастьян хлопнул по плечу, и вроде ж так легонько хлопнул, а колени Велеславовы подкосились самым позорным образом, и сам он по стеночке сполз.
— Я… я просто хотел… мы с отцом разговаривали…
— Надо же, он и говорить способный?
— Неправильно это, чтобы Лихо наследовал! Не по — человечески!
— Вот оно как даже…
— Он ведь волкодлак! А где это видано, чтобы волкодлак титул получил… и место в Совете… и вообще!
— Вообще — это да, — Себастьян присел рядышком и вполне серьезно так произнес: — Вот «вообще» волкодлакам отдавать никак неможно!
Глумится.
А ведь дело‑то серьезное! И Лихо сам должен был бы понимать… отказаться… его папенька просил, только вот Лихо к просьбе отнесся безо всякого понимания. Оно и ясно, нелюдь же ж. А и был бы человеком, тоже не отдал бы…
— Вдвоем придумали?
— Вдвоем. Папенька сказал, что он у нас совестливый очень… коняку увидит, решит, будто бы задрал… спужается. Сегодня коняку, а завтра, глядишь, и человека какого… и в газетах про волкодлака писали… нет, папенька не собирался его выдавать!
— Да ты что…
— Чтоб мне сдохнуть! — не очень убедительно поклялся Велеслав.
— Не хотелось бы тебя разочаровать, но рано или поздно это случится… — Себастьян похлопал брата по плечу. — Поэтому не могу сказать, что твоя клятва меня впечатлила… да и зная папеньку… ладно, сдавать не собирались. Рассчитывали в монастырь спровадить, верно? Кто должен был шум поднять?
— Я.
Велеслав ударил себя кулаком в грудь.
— Я раскаиваюсь!
— Что‑то слабо верится… ладно, план идиотский, так и у вас мозгов немного… но расскажи‑ка мне, братец, лучше о женушке твоей ненаглядной.
— Чего рассказать?
— Всего рассказать, — Себастьянов хвост хлопнул по мягкому ковру. — А то, знаешь, в последние дни, куда ни сунешься, всюду она… прям‑таки вездесущая.
Велеслав закусил губу: всего рассказывать было нельзя.
Рано.
И пускай бы ушел Лихо — Велеслав старательно твердил про себя, что как есть, в монастырь, ушел, куда ж еще ему податься — но купчиха осталась.
Себастьян опять же.
С него станется угрозу исполнить, написать кляузу… а королевич‑то, как поговаривают, братцу благоволит… нет, нельзя ему пока перечить.
— Она… она хорошая женщина. Набожная, — он говорил осторожно, еще и оттого, что знал: не удастся утаить от Богуславы эту беседу. И ошибись Велеслав, разозлится женушка его, отцовскою милостью навязанная.
— Набожная, значит…
— Каждый день в храме бывает. И благотворительностью ведает. Сиротам там вспомоществление оказывает…
— Просто святая.
— Почти, — сказал Велеслав, изо всех стараясь не покраснеть. Он и на брата смотреть опасался, устремив взгляд на картину, благо, была она большой, затейливой, с нимфами, сатирами и прочими мифическими личностями, занимавшимися делами куда более приятными, нежели нынешние Велеславовы. — Она… она радеет о семье.
— Того и гляди, совсем зарадеется.
Себастьян поднялся.
— Жаль. Знаешь, братец, я‑то понадеялся, что, может, чудо случится…
— Какое?
— Рождения совести в отдельно взятом организме.
Велеслав промолчал.
Совесть?
С совестью он сам разберется. После. И в конце‑то концов, он же ничего не делал… да, та задумка была нехорошей… шутка дурного пошибу.
Именно, что шутка.
Не более.
А остальное — это так… отмолится… и ставши князем, Велеслав самолично позаботится, чтоб братцу красивый памятник поставили.
Или еще чего придумает.
— Но видно зря надеялся, — Себастьян смотрел сверху вниз и было во взгляде его что‑то этакое, заставившее Велеслава вновь покраснеть. — Твое дело, конечно, только… знаешь, даже если меня не станет, то князем тебе не быть.
Кулаки стиснул.
Бить будет?
— А тебе, дорогой братец, советую все ж подумать хоть раз в жизни. Ей титул нужен, а не ты… и потому в живых тебя она точно не оставит. Наверное, в чем‑то это и справедливо.
Вышли вдвоем. И Себастьян, переступивши порог, преобразился. Улыбкой сверкнул. За руку схватил. И тряс ее, тряс… а после сказал да громко так, чтоб все слышали:
— Спасибо! Спасибо, братец! Ты очень нам помог.
Сверкнул черным глазом хитро и добавил:
— Родина тебя не забудет!
И сгинул.
А Велеслав остался. Один на один с приятелями, которые смотрели мрачно, со смыслом.
И подумалось: теперь точно будут бить. Абы не до смерти.
Глава 18. Все еще о родственниках старых и новых
Себастьян был в ярости. И лохматая караковая лошаденка, чуя эту ярость, без кнута извозчичьего резво перебирала коротенькими ногами, всхрапывала, вскидывала голову, жалуясь толстым познаньским голубям на судьбу свою, на жару, мошкару и хозяина, который намедни вновь перебрал сивухи, а ныне дремал на козлах, только и способный, что поводья из рук не выпустить.
Голуби кланялись, спеша убраться из‑под копыт, ворковали, успокаивая: не все так уж плохо.
Может, и не все.
Но лошаденка косила лиловым глазом на человека, который в коляске сидел прямо, и только хвост — эка невидаль! — подергивался… и внушал ей этот хвост превеликое подозрение.
— Тут останови, — тихо произнес человек, и лошаденка встала, а извозчик, очнувшись лишь затем, чтоб руку протянуть — в нее упала пара монет, сипло произнес:
— Благодарствую, господине… благодарствую…
Монеты были серебряными, и значит, вновь загуляет, отмечая этакую нежданную удачу. Глядишь, с нее и лошаденке перепадет овсу торба да хорошего сена, мягкого, клеверного… за это она готова была простить человеку многое.
Вот только он уже скрылся в парадной.
Дом нынешний был выстроен лет этак десять тому. О семи этажах, мраморной лестнице да выводке химер, что водились под самою крышей и ныне выползли, расправили куцые крылья, греясь на жарком летнем солнце, был он роскошен.
Себастьян походя отметил и роскошный алый палас с зеленою каймой, и кадки с пальмами, и клетки с канарейками, и лоснящегося, чем‑то неуловимо схожего с толстым зеркальным карпом, швейцара. Оный, завидев гостя, поспешил навстречу.
— Пан Себастьян! Безмерно рады вашему визиту… — швейцар угодливо кланялся, однако взгляд его оставался цепким, холодным. От взгляда этого не укрылся ни некоторый беспорядок в одежде ненаследного князя, ни то, что пребывает Себастьян не в самом лучшем расположении духа. — Позвольте доложить?
— Нет.
— Простите, но без докладу никак не можно — с! Правила!
Швейцар продолжал кланяться, что цианьский болванчик, и вился вокруг, к счастью, за рукава не хватал. При доме пан Грубер состоял с самого первого дня, до того служивши распорядителем в клабе, о былых временах вспоминал с превеликой неохотой, хотя и оделили они его не только сединою, но и бесценным опытом, что позволял управляться и с прислугою, и с капризными жильцами, и с этакими вот неуступчивыми гостями.
Пан Грубер был неизменно вежлив, почтителен, порой чрезмерно, но при том — удивительно неуступчив. И Себастьян, осознав, что к белой лестнице, украшенной парочкою пальм и статуей, его не пустят, остановился.
— По служебной надобности…
— С судейским предписанием? — осведомился пан Грубер и лорнет из кармашка извлек. — Позволите взглянуть?
— Нет.
— Пан Себастьян, — швейцар сбросил маску угодливости. — Не знаю, что произошло, но всяко вам сочувствую… однако прошу понять меня верно. Я поставлен тут следить за тем, чтобы жильцам нашим не чинили пустого беспокойства… чтобы блюсти их интересы… но и с полицией мне ссориться резону нет…
Он говорил тихо, проникновенно, и ярость отступала.
В конце концов, не виновен этот человек в том, что родной Себастьянов братец оказался изрядною сволочью… в батюшку пошел, не иначе… и злость надобно вымещать на тех, кто и вправду виновен.
— Вы ведь к панне Богуславе…
— Дома?
— А как же… как заявились с вечера, так более не выходили… обычно‑то иначе, или до театру, или на вечер какой. Медикуса велели звать — с. Мигрень у них.
— А вы все знаете?
— Работа такая — с… и хоть я не имею права рассказывать о жильцах, но, ежели, кто из родственников озаботится хрупким здоровьем…
— Считайте, что я озаботился, — оскалился Себастьян. — Очень озаботился. И стою тут, с ног до головы озабоченный.
И злотень протянул, который пан Грубер принял с достоинством. Нет, он не вымогал деньги, благо, постояльцы и гости их были людьми опытными, с пониманием неких древних традиций, каковые велели людей любезных благодарить. Однако нынешнюю беседу швейцар завел вовсе не из‑за злотня, но из‑за самой жилицы, пусть себе дамы состоятельной и пригожей, но беспокойной и весьма. И в последние дни, беспокойство, ею чинимое, стало ощущаться не только швейцаром.
Горничные жаловались.
И не только они…
Сам дом, который пан Грубер уже наловчился слышать, порой догадываясь о потребностях того прежде, чем сам он подаст явный знак, относился к жиличке из третьей квартиры с преогромной неприязнью. И чувство это пан Грубер, старавшийся со всеми постояльцами, пусть бы и весьма капризными, а порой и вовсе невыносимыми, быть одинаково любезным, разделял вполне.
Было в панне Богуславе нечто этакое… недоброе, заставлявшее отступать, отводить взгляд, хотя ж бы на панночку ее возраста и достоинств, казалось бы, только и глазеть.
Но этого пан Грубер вслух не скажет.
Опытен слишком.
Осторожен.
И ежели о чем и заговорит, то исключительно о фактах.
— Медикус частенько к ней заходит… мигрени — с… бедняжечке б здоровье поправить — с… на море — с.
— Разве что на Северном, — задумчиво произнес Себастьян. — Частенько, значит… а что прописал‑то? Не знаете, случайно?
Естественно, пан Грубер знал.
Рецепт медикус оставлял горничной, а та, подчиняясь негласным традициям, докладывала пану Груберу и о рецепте, и о том, что лекарство панна Богуслава потребляет втрое против прописанного.
Оно, конечно, какой спрос с барышни, да вот… мелочишка к мелочишке, глядишь, и соберется чего важного.
— Валиум — с… и радиоактивную воду.
— Даже так?
— Давече доставили кувшин — с из особое глины. Говорят, зело пользительная вещица. С ночи воду наливаешь, а утречком она уже и готова, с радиацией — с… два стакана в день и проживешь до двухсот лет безо всяких ведьмаков!
Честно говоря, швейцар и сам подумывал над тем, чтобы приобресть себе подобный кувшин. Стоил он двести злотней, зато в рекламной прокламации, которую оставили вместе с десятком флакончиков уже заряженной воды, очень уж убедительно расписывалось и про эксперименты, и про ученых, и про мыша, что живет уже пятый десяток лет… мышь был на снимке, седой, толстый и важный. Он ныне снился пану Груберу по ночам, шевелил усами и хихикал, что, дескать, жадность до добра не доводит. И он, мыш, пана Грубера переживет, на радиоактивной‑то воде.
Была, конечно, подлая мыслишка пользоваться тем, что стоял в комнате панны Богуславы, да только не привычен был Грубер постояльцев обворовывать, хоть бы и на воду…
— Валиум — с потребляет с вином. Красное. Крепленое. Три бокала ежедневно… к вину берет — с сыр. Завтракать не завтракает, полдничает скудно, зато на ужин берет — с стейк с кровью. Барышни‑то все больше рыбку жалуют — с… семгу у нас на диво до чего готовят… или вот перепелов. А панна Богуслава уж третий месяц кряду все стейки и стейки… как ей не приелось‑то?
— Всенепременно спрошу, — пообещал Себастьян, которого этакие кулинарные пристрастия дорогой родственницы несколько удивили.
— Значит, докладывать? — со вздохом поинтересовался пан Грубер.
— Если без доклада никак…
Никак.
— И зарегистрировать вас надобно… правила — с, — он развел руками, извиняясь еще и за этакое неудобство. Но веско добавил: — Правила, они для всех.
Себастьян мог бы поспорить с этим утверждением, но не стал.
Успеется.
И пан Грубер, мысленно перекрестившись — все ж таки надеялся он, что нынешний день минет без скандалу, каковой дому был вовсе ненадобен — снял телефонный рожок.
— Панна Богуслава готова принять вас, — сказал он… и обнаружил, что гость уже исчез.
Нетерпеливый какой.
Богуслава встречала в неглиже.
Черный халат из цианьского шелка. Рыжие волосы россыпью по плечам. Кожа бледная, болезненно — бледная. И губы Богуславины — вишня давленая.
Она их прикусывает, то верхнюю, то нижнюю.
Дышит глубоко, часто, будто после бега. И пахнет от нее… тягучий сладкий аромат, от которого голова кружится.
— И что ты встал? — Богуслава полулежала, выставив точеную ножку. — Входи.
Повторять приглашение не пришлось.
Себастьян вошел.
И дверь притворил, на всякий случай.
— Ты одна?
— А что, разве похоже, чтобы я была не одна? — она запрокинула голову и провела пальцем по шее.
Тонкой такой шее.
Перечеркнутой алой ленточкой.
И бантик сбоку.
Крошечный бантик с розовой жемчужиной, которую так и тянет потрогать.
— Не боишься, — поинтересовался Себастьян.
Богуслава рассмеялась.
— Тебя?
— Меня.
Комната в темноте.
И пара свечей в канделябре — диво в доме, где стоят новейшие лампы — не справляются с темнотой. Эти свечи не для того поставлены.
Оставлены.
Они нужны, чтобы отсветы огня легли на кожу, согрели ее, такую нежную…
— С чего мне тебя бояться?
Богуслава облизывает губы, и тянется, томно, по — кошачьи…
— Разве ты обидишь женщину?
— А ты женщина?
— Разве нет?
Столик.
Статуэтки. Множество самых разных, поставленных в попытке придать этому месту хоть какое‑то подобие жизни. Но статуэтки чужды Богуславе.
И разновеликие подушки, что лежат на ковре. Путаются под ногами. А одна, жесткая, золотом шитая, и вовсе в руках оказывается, Себастьян же не помнит, как…
— Колдовка…
— Неправда.
— Колдовка, — Себастьян стискивает подушку, и тонкие нити рвутся под его пальцами. — Я пока не доказал… но докажу, непременно.
— Какой ты злой…
Она качнула ножкой, и полы халатика разъехались.
Немного.
— Какой есть.
Подушка в руках.
На лицо если… и придавить, чтоб не дергалась, ведь будет выворачиваться… и змеи хотят жить, только она — хуже змеи. Те хоть не трогают, если их не тревожить.
— Страстный…
— Лихо где?
Глаза огромные, черные из‑за расплывшихся зрачков. И губу закусила… так закусила, что губа эта лопнула… и на ней темною ягодиной вспухла капля крови.
— Откуда ж мне знать… — она слизнула кровь и зажмурилась от удовольствия. — Или, может, я знала… но забыла… с женщинами случается забывать… ты же понимашь, Себастьянушка, что память наша хрупка…
Вялые белые руки касаются шеи, и как дотянулась только.
— Но я постараюсь вспомнить… ради тебя… — она говорит все тише и тише, отчего приходится наклоняться, к самым губам этим, на которых вновь кровь, и Богуслава облизывает ее жадно, бусину за бусиной, только крови слишком много.
Или напротив, мало? Недостаточно, чтобы напоить досыта.
От нее пахнет цианьской опиумной, и отнюдь не той, которая прячется за вывескою приличного клаба. Нет, в той все почти прилично, и даже шлюхи похожи на дам.
А эта… эта припортовая, грязная, приютившаяся не то в развалинах грязного дома, не то вовсе в древних катакомбах. Здесь крыс больше, чем людей, но люди, пребывая в мире грез, не видят их.
Они в раю.
Грязном.
Провонявшем испражнениями и мочой. Темном до того, что, выбираясь на поверхность, они слепнут от солнечного света и спешат вернуться. И готовы платить за возвращение всем, хотя на деле нет у них ничего…
От нее воняло прогорклым жиром, которым цианьские блудливые девки, узкоглазые и притворно — покорные, смазывали желтую свою кожу для блеска. От нее несло кислотой блевотины и почти приличным среди иных запахов, кладбищенским духом.
— Попроси, Себастьян, — Богуслава почти коснулась губами губ, изогнулась, сбросила шелковую кожу халатика, но странное дело, и нагота ее не вызывала чувств иных, помимо омерзения. — Хорошенько попроси и, глядишь, я вспомню… постараюсь вспомнить…
Ее влажноватая ладонь прижалась к Себастьяновой щеке, и он отшатнулся.
— Что же ты так, Себастьянушка?
След остался.
Нет, в темном зеркале, перекошенном, будто бы поставленном исключительно ради того, чтобы поиздеваться над гостем, щека была чиста. Но Себастьян чувствовал грязь.
И вытер ее рукавом.
— Не нравлюсь?
То же зеркало, в тяжелой золоченой раме, роскошное и перечеркнутое шрамом — трещиной, отражало и ее, но почти совершенством.
Зеркала всегда любили колдовок.
— Я или все женщины? — она запрокинула руки за голову, выгнулась, не спуская внимательного шального взгляда.
— Ты.
— Жаль… а мне показалось, мы могли бы договориться…
— И часто ты так… договариваешься?
— Случается, — она не стеснялась своей наготы, напротив, казалось, гордилась ею.
Рисовалась.
— Велеслав знает?
— Возможно… а может, и нет… какая разница? Мы ведь не о нем говорим… о тебе…
Она повернулась на бок, и рыжие пряди, тугие, точно залитые воском, скользнули по груди.
— Не замерзнешь?
— А ты согрей.
— Воздержусь.
— Из любви к брату? — Богуслава села и, поддев ножкой халатик, отбросила его.
— Из любви к себе…
— Будь добр, подай.
— Сама возьми.
Рассмеялась, и вновь губы облизала.
— Значит, ты за Лихославом явился… с чего ты взял, что я знаю, где он? Хотя… — она рассмеялась и дернула себя за прядку. — Знаю… в монастыре. Ты же читал то письмецо.
— Подделка.
Ножка поднялась, потянулась, пытаясь добраться до Себастьяна, и он сделал шаг назад, что весьма развеселило Богуславу.
— Надо же, какой ты трепетный… а мне‑то казалось, Сёбушка, что ты своего не упустишь.
— Своего — не упущу.
Поднялась.
— Гру — у–бый… пришел… оскорбляет… — она поднялась. — И зачем я тебя вообще впустила? Наверное, из жалости… ты такой… неприкаянный, Себастьян. Вечно играешь, притворяешься кем‑то… я ведь понимаю, каково это. Сложно… если долго притворятся, то можно и себя потерять. Ты не потерял?
Она подходила на цыпочках, и запах — уже не опиума, но белых болотных лилий, запретной волшбы и пролитой крови, становился все более явным, плотным.
— Скажи, Себастьян… кто ты на самом‑то деле?
Богуслава стала близко.
И руки положила на плечи, еще немного — обнимет, вопьется красными, измазанными не помадой, но кровью, губами, присосется и не отпустит, пока не высосет жизнь до капли.
— Тот, кто шею тебе свернет.
А шея белая.
Тонкая.
Такая, которую легко сломать.
И пальцы стискивают ее, когти смыкаются под копною рыжих волос. Медленно, осторожно передавливая гортань. Только Богуслава не боится, она улыбается счастливо, и безумна в этом счастьи.
— Ты заигралась, Славушка… — искушение огромно.
Сдавить посильней.
И держать.
Не отпускать, пока в этом совершенном еще теле остается хоть капля жизни.
Нельзя.
И рука разжимается, а Себастьян тянется к губам, касается осторожно, сдерживая тошноту. Не поцелуй. Прикосновение, которое длится чересчур уж долго.
— Какой ты непостоянный, — Богуслава разочарованно кривится. — И неопределенный… убивал бы, раз пришел…
— Если бы это было так просто.
— А ты проверь, — она наклоняет голову и гладит свою шею, на которой явственно проступают лиловые отметины Себастьяновых пальцев. — Чего тебе стоит?
Многого, как подозревал Себастьян.
— Извини. Заболтался.
Он повернулся к Богуславе спиной.
— И про братца своего не спросишь?
— Ты же не помнишь.
— Но я могу…
— Ничего ты не можешь, — Себастьян достал из кармана платок и аккуратно промокнул губы. — Я хотя бы выбираю, кем мне быть. А ты… ты как была марионеткой, так и осталась. До свиданья, куколка.
В спину полетела подушка, к счастью, мягкая.
— Стой!
Себастьян подушку отбросил пинком.
— Марионетка?! Я хотя бы человек… а твой братец — волкодлак! И станет им! Зверем! А ты будешь следующий, Себастьян! Слышишь?
Дверь он прикрыл осторожно, и поморщился, когда изнутри что‑то ударило. Ваза? Канделябр? Главное, чтобы пожару не устроила… надо будет предупредить швейцара.
Себастьян убрал платок в карман.
Капля крови?
И по капле можно сказать многое… глядишь, Аврелию Яковлевичу и хватит.
По ступенькам он сбегал быстро, насвистывая развеселую песенку и стараясь не думать о том, что возможно уже опоздал.
Спустя полчаса панна Богуслава громко и безутешно рыдала на груди полицейского, который от этакой чести и вовсе растерялся. Он и прежде‑то плачущих панночек не умел утешать, а нынешняя, мало того, что была урожденною княжною, так еще и прекрасною. И горькие слезы не лишили ее и толики красоты.
— Ах, это было ужасно… — она вскидывала очи, темно — зеленые, колдовские, и очередной важный вопрос застревал в горле, а руки полицейского, обыкновенные такие руки, которым случалось держать вещи куда более грубые, нежели трепетная княжна, немели.
— Успокойтесь, — лепетал полицейский, в тайне надеясь, что на этот вызов — отправили его, решив, будто бы блажит княжна, что с дамочками благородными случается частенько — приедет еще кто‑нибудь, чином повыше и нервами покрепше. — Успокойтесь, пожалуйста…
Княжна разразилась новым потоком слез и, видно, в поисках защиты, приникла к изрядно промоченному уже мундиру.
Она дрожала.
Трепетала.
Что лист на ветру, и с каждою секундой положеньице становилось все более неудобственным. Вспомнилось вдруг, что у княжны этой и супруг имеется, пусть бы ныне отсутствующий, но как знать, сколько сие отсутствие продлится?
Супругам свойственно объявляться в моменты самые неподходящие.
И этот навряд ли станет исключением.
Нет, никаких таких действий супротив чести и достоинства потерпевшей полицейский предпринимать не собирался, однако же будет ли оный супруг разбираться?
Аль просто голову снесет?
Нехорошо…
— И что здесь происходит? — Евстафий Елисеевич появился в квартире не иначе, как молитвами да милостью богов.
— Ужасное! — всхлипнула княжна, выпустив полицейского, который с немалым облегчением отстранился от панночки.
Правда, оная тотчас решила сомлеть.
Пришлось ловить.
Укладывать на диванчик. Медикуса звать, высокого и моложавого, с журчащим голосом, от которого и самого полицейского в сон потянуло. Оттого и обрадовался он неимоверно, когда познаньский воевода, наблюдавший за княжною с престранным выражением лица, велел:
— Свободен. Хотя нет… иди, опроси швейцара.
— Да что он может знать?! — со сдавленным стоном произнесла княжна и вновь очи закатила.
Полицейский поспешно ретировался. Что там швейцар знает, а чего нет — дело третье, главное, что ни рыдать, ни за руки хватать, ни тем паче обмороки устраивать он не станет.
— Вы тоже можете быть свободны, — Евстафию Елисеевичу медикус не понравился.
Уж больно лощеный.
Из тех, которые обретаются при ось таких нервических дамочках, кормясь с их нервозности.
— Я не могу оставить мою пациентку! — патетично воскликнул медикус, оправдывая самые мрачные предчувствия.
И княжна тоненько всхлипнула.
— После всего, что довелось ей пережить…
Евстафий Елисеевич с трудом сдержался, чтобы не выругаться. Он мог бы сказать, что дражайшая панна переживала и не такое… и что все ее переживания нынешние — суть актерство среднее руки, веры которому у познаньского воеводы ни на грош.
— Ах, идите… идите… — она вяло взмахнула ручкой. — Я справлюсь… я буду сильной…
— И примете лекарство.
— И приму лекарство.
— И все же, панна Богуслава, вам следует себя поберечь…
— Непременно… — кажется, он с суматошною этой заботой, исключительно показною, злил и саму пациентку, оттого и поблескивали зеленые ее глаза недобро, вовсе даже не от слез поблескивали.
— Значит, — Евстафий Елисеевич дождался, когда закроется дверь, — вы, панна Богуслава, утверждаете, будто бы мой старший актор напал на вас?
— Утверждаю, — спокойным голосом произнесла потерпевшая. — Напал. Душил. Пытался снасильничать…
— Но не сумел?
Заломленные ручки.
Дрожащие ресницы… и одета‑то так, что каждому остолопу ясно, что панночка сия есть жертва… платьице светленькое, простенькое, с кружевным воротничком. Ключицы остренькие, шея светленькая.
Волосы в косу растрепанную собраны и рыжий завиток этак романтишно к шейке льнет.
А на шейке той — синюшные пятна от пальцев, которые панночка вроде бы как платочком шелковым прикрывает, да только прикрывает неловко весьма, и платочек съезжает, пятна проглядывают…
— Моя честь, — степенно ответила панна Богуслава и покраснеть изволила, — осталась со мною.
— Рад за вас.
— Вы… вы мне не верите!
— Ну что вы, как можно? Я лишь пытаюсь выяснить, как все было. Значит, Себастьян явился сюда. И вы позволили ему подняться?
— Д — да… он ведь родственник… я не ждала… подобного не ждала… у нас, конечно, сложились непростые отношения…
— Интересно, с чего бы?
— Он ревновал, — панна Богуслава произнесла это, вновь платочек на шее поправляя, отчего синяки стали видны еще более отчетливо. — Он ухаживал за мной… думал сделать предложение, но я выбрала Велеслава. И Себастьян разозлился… я не предполагала даже, что он настолько разозлился. Знаете, он ведь был нетрезв и… и кажется, совершенно не в себе!
Пальчики задрожали и платочек соскользнул с белой шеи.
— Простите… — Богуслава вспыхнула и неловко попыталась накрыть синяки.
— Это вас…
— Мне так стыдно… ведь могут подумать, что я дала повод…
— А вы не давали?
Не верил ей Евстафий Елисеевич. Ни единому ее слову, да что там, слова, не верил он и слезам хрустальным, и вздохам этим, и дрожащему голоску… а особенно — глазам, в которых нет — нет да проскальзывало что‑то этакое, колдовское.
— Конечно, нет! — оскорбленно воскликнула княжна. — Вы… вы мне не верите!
Прозорлива.
И зла, пусть бы злость свою скрывает, но дернулась верхняя губка, а прехорошенькое личико исказила гримаса… презрения?
— Да как вы смеете? — Богуслава поднялась и гордо вздернула подбородок. — Вы… кто вы такой?
— Мне казалось, я представлялся, — Евстафий Елисеевич остался сидеть, пусть бы и было сие вящим нарушением этикету. Познаньский воевода поерзал, устраиваясь в креслице поудобней, откинулся, благо, спинка была мягкою, позволявшей принять позу ленивую, каковая плеснула маслица в огонь княжьего гнева. Он закинул ногу за ногу, пусть и далось это нелегко — может, и права Дануточка со своими диетами? Штаны вон натянулися, задрались, да так, что видны не только белые в полоску носки — под новомодные ботинки иные носить не полагалося — но и подвязки с квадратными пуговицами. Руки Евстафий Елисеевич сцепил на животе, который выпятился, натянул пиджачишко.
— Вы… вы ничтожество, — Богуслав побелела. — Вы… все знают, что вы своим местом обязаны исключительно протекции князей Вевельских…
Это Евстафию Елисеевичу слышать уже доводилось. Но мешать панночке он не стал, пускай говорит, пускай выговорит все, что на душеньке ее накипело, глядишь, и обмолвится о чем, и вправду полезном.
— Вы использовали связи Себастьяна! И покрывали его… взаимовыгодное сотрудничество, верно? — она, позабыв о том, что еще недавно лежала вовсе без сил, металась по комнате, и в зеркале отражалась скособоченная черная тень, на которую Евстафий Елисеевич старался не глядеть.
Прямо.
А вот на лакированный столик, гладкий, блестящий, так пялился неотрывно…
— Он ведь не первый раз подобное сотворяет? — княжеская ручка метнулась к шее, а на столике тень кувыркнулась, перерождаясь, не то в птицу, не то вовсе в тварь престранную, черную, косматую. — Не в первый… он и прежде с женщинами поступал низко… с простыми женщинами, за которых некому заступиться!
— Осторожней, панна Богуслава, — Евстафий Елисеевич потрогал костяную пуговицу. — Такими обвинениями нельзя кидаться вот так… я ж и за клевету вас привлечь способный.
— За клевету?! И в чем клевета? В этом? — она дернула воротничок платьица, обнажая не только шею, но и плечо, на котором алели длинные царапины. — Он меня искромсал! А вы… вы собираетесь выставить все так, будто бы я сама виновата…
— Как знать…
Царапины были свежими… и выглядели впечатляюще. На первый взгляд.
— Позволите?
Не без труда Евстафий Елисеевич поднялся. Сердце ухнуло, голова кругом пошла… он так и замер, вцепившись в кресло, пытаясь справиться со внезапною слабостью.
— Вам дурно? — с раздражением поинтересовалась княжна.
— Пройдет, — Евстафий Елисеевич привычно отмахнулся от дурноты. — Медикус твердит, будто бы все из‑за…
Он хлопнул себя по животу.
— Дескать, надобно худеть и есть овсянку. В ней пользы много… а я, панна Богуслава, овсянку так от души ненавижу…
Головокружение прошло.
И Евстафий Елисеевич который уж раз дал себе зарок: сядет он на диету. И от пирогов откажется, ото всех, даже тех, с кислою капустой и белыми грибами… будет есть, что овсянку, что спаржу, что иные невозможные вещи, от которых на душе становится грустно, зато телу великая польза.
— Двигаться больше надо, — княжна скривилась, больше не было злости, но лишь легкое презрение, каковое зачастую испытывают люди худые по отношению к толстым, не способным управиться с низменными своими страстями. — А есть — меньше.
— Ваша правда, панна Богуслава… ваша правда… и все ж… вам надобно освидетельствование пройти… у полицейского медикуса, чтобы все было зафиксировано. По протоколу. Разумеете?
Она позволила прикоснуться к плечику, но с отвращением своим не сумела справиться.
Неприятно.
И Евстафий Елисеевич, прикоснувшись к коже ее, по — змеиному холодной и сухой, вдруг увидел себя словно бы со стороны: нелепый толстяк, слишком старый, слишком глупый, чтобы представлять хоть какую‑то угрозу.
— Ай, какая незадача, панна Богуслава… болит?
— А вы как думаете?
Она дернула платье, прикрывая раны.
Уродливые, но не глубокие… не настолько глубокие, чтобы на совершенной этой коже остались шрамы. Узкие.
Слишком узкие для мужской руки.
— Простите, панна Богуслава, — Евстафий Елисеевич вытер лоб. — Сами понимаете… Себастьян ведь из наших… и знаем мы его давненько… ничего… этакого за ним не водилось прежде. Тут я могу поклясться да… да хоть на Вотановом камне.
Она всхлипнула, вспомнив, верно, что является жертвою.
— Говорите, не в себе был?
— Бешеный! Совсем бешеный! Глаза черные… я умоляла оставить его… а он… клыки… крылья…
— Совсем страх потерял, — покачал головою Евстафий Елисеевич. — На людях крылья выпускать.
— И… и потом душить начал…
Странно, что не додушил.
Упущеньице однако. Вяло подумалось, что, хоть бы и наделал труп панны Богуславы шуму, однако же вреда от него было б куда как меньше…
— А потом перестал?
— Душить? — уточнила панна Богуслава, явно разрываясь между желанием закатить скандал, поелику злил ее познаньский воевода, что медлительностью своею, что непередаваемо провинциальным, каким‑то убогим видом своим.
— Душить.
— Душить перестал, — она потрогала шею.
— А что не перестал? — тут же уточнил Евстафий Елисеевич и, вытащив из кармана замусоленную книжицу, попросил. — У вас тут карандашика не найдется?
Карандашик нашелся и, чиркнув по заляпанному листочку, был отправлен за ухо.
— Все перестал… — Богуслава вновь прикусила губу. — Отбросил меня и… и сказал, что я все равно стану его! Представляете?
— Нет, — Евстафий Елисеевич был в высшей степени искренен, предполагая, что старший актор его, пусть и порой ведший себя вовсе не так, как надлежит вести старшему актору, князю и лицу познаньской полиции, все ж оставался в своем уме. А ума оного хватало, чтобы сообразить, сколь многими бедами чреват этакий романчик в театральном духе.
— И я не представляю, — панна Богуслава без сил опустилась на козетку. — Как мне теперь жить?
— С чувством выполненного долга.
И Евстафий Елисеевич, видя, что слова сии рискуют быть понятыми превратно, пояснил:
— Вы же исполните свой долг перед обществом? Заявите в полицию…
Панна Богуслава нерешительно кивнула.
— И освидетельствование пройдете…
— А это обязательно?
Евстафий Елисеевич нахмурился и, вытащив карандашик, вновь черканул на бумажке. Отчего‑то на людей, с работой в полиции не знакомых, вид полицейского, который что‑то этакое, в высшей степени загадочное, помечает, производил неизгладимое впечатление. И панна Богуслава глядела, что на карандаш, что на воеводины толстые пальцы, весьма ловко с карандашом управлявшиеся, внимательно, приоткрыв ротик.
— Обязательно, — спустя минуту соизволил ответить Евстафий Елисеевич. И ткнув карандашом в потолок, добавил с видом важным: — Протокол!
— Но…
— Без протоколу заявление не примут.
И карандаш он вновь за ухо отправил, а блокнотик — в карман.
— А если вам, панна Богуслава, вздумается искать справедливости в другом месте… скажем, передать сию душещипательную историю «Охальнику» или какой иной газетенке, которая горазда на вымыслы…
Он сделал паузу, глядя прямо в зеленые глаза панны Богуславы.
И взгляд она не отвела, усмехнулась этак, недобро:
— Скажете, не буду иметь права?
— Будете. Да только познаньская полиция в свою очередь будет иметь право и газетенку прикрыть… до выяснения обстоятельств, спасибо новому закону… и вам встречное обвинение выдвинуть.
— Мне?!
Сколько праведного возмущения.
И гнева.
— Да что вы себе позволяете?!
— Я позволяю себе предупредить вас, что, ежели будет доказан факт клеветы, то вы, панна Богуслава, рискуете предстать перед королевским судом. А он, в свете недавних событий, к клеветникам весьма строг… а потому, повторю, действуйте по протоколу.
— Я княжна!
— Рад за вас.
— Я… я не обязана! Ваши протоколы… вы все заодно! Вы… вы… вы куда?
— В Управление, — Евстафий Елисеевич поклонился. — Вы уж простите старика, у вас тут весьма себе… любопытственно, но работа… работа…
— К — какая?
— Всякая. Рутинная. Воры там. Душегубцы… мошенники всякие… развелось в последнее время, прям спасу нет. Так вы, панна Богуслава, сами к нам заглянете, аль прислать кого? Для протоколу?
Ответа Евстафий Елисеевич не дождался.
И выйдя за дверь, дверь прикрыл.
— Звать как? — поманил он давешнего полицейского.
— Андрейкой, — пробасил тот, отчаянно робея перед этаким высоким начальством.
— Слушай меня, Андрейка. Стой тут. И никого не пускай.
— Никого? — в голосе несчастного послышалась обреченность, вновь он подумал о муже, который, явившись домой, навряд ли обрадуется, что его в собственную квартиру, за которую он по пятьсот злотней в месяц платит, не пущают.
— Никого.
— И княжича?
— Особенно княжича, — Евстафий Елисееви ободряюще похлопал Андрейку по плечу, для чего пришлось встать на цыпочки, ибо боги наделили Андрейку немалым ростом да и силушки, судя по виду, не пожалели. — Не переживай. У него, сколь знаю, иные заботы. До завтрешнего дня не явится. А тебе часик — другой перетерпеть. Я смену пришлю. И Старика. Пускай эту красавицу под протокол опросит.
— А если, — Андрейка покосился на дверь. — Если она… ну того…
— Пускай попробует, — Евстафий Елисеевич нехорошо усмехнулся. — Старик будет рад…
В этом познаньский воевода нисколько не сомневался.
Глава 19. Где речь идет о женщинах, мужчинах и варварах
Курсы свои пан Зусек проводил в гостинице «Познаньска роза», каковая была не то, чтобы вовсе дорогой — до того же Метрополя, на который Гавриил глядел издали, исключительно любопытства ради, ей было далеко, однако же выглядела она много пристойней пансиона.
— Билет покупать будете? — осведомилась полная дама с вытравленными до синевы волосами, из которых торчали яркие фазаньи перышки. Облачена дама была в парчовый балахон темно — винного колеру, перетянутый под грудью золотым шнуром.
— Меня пан Зусек пригласил.
Гавриил вытягивал шею, силясь разглядеть хоть что‑то, помимо двери в залу. К слову, дверь была вида превнушительного, убранная ко всему театральною портьерой.
— Без билету неможно, — отозвалась дама, подвигая очочки к переносице. — Пять злотней за разовый. Двадцать — за абонементу…
Пять злотней у Гавриила имелись, и даже двадцать, и куда больше двадцати, однако же провинциальный пан, которым он ныне являлся, не мог вот так запросто расстаться с этакою непомерною суммой. Костюмчик его и то обошелся в семь… так‑то костюмчик, хотя ж и неудобственный, зато из хорошего сукна скроенный.
Он прошелся по холлу гостиницы, будто бы в раздумьях, подступился к двери, запертой и перетянутой витым шелковым шнуром.
Вздохнул.
Потыкал пальцем в мохнатые стволы пальм, пощупал плотные накрахмаленные листья их. Подивился на лепнину и позолоту… дама, сперва следившая за перемещениями Гавриила зорко — верно, подозревала в нем непристойное желание задарма проникнуть в святая святых гостиницы — вскоре интерес утратила. Гостиница заполнялась людьми.
К столику подходили мужчины.
Высокие и низкие. Толстые и худые. Одетые солидно, и кое‑как… были и студентики, что выкладывали на столике дамы целые башни из медней, изредка разбавляя их серебром. Были и те, кто, не глядя кидал горсти золота…
Со всеми панна билетер держалась одинаково. Она окидывала посетителя придирчивым взглядом, поправляла очочки и широкой ладонью накрывала монеты.
Пересчитывала их старательно, иные не стеснялась пробовать на зуб, после чего монеты отправлялись в ящик кассового аппарата. Дама с силой дергала за ручку, и аппарат вздрагивал. Проворачивался моток синей ленты, на который с глухим звуком падала печать, щелкали ножницы, и вожделенный билет передавался клиенту.
— Дайте билетик, — решился Гавриил и протянул монеты.
Кусочек влажноватой синей бумаги с плохо пропечатанным нумером, Гавриил сжал в кулаке. Но ничего‑то, ни озарений, ни предчувствий, вожделенный билетик не вызвал.
В залу стали пускать в четверть пополудни.
Входили молча, старательно не глядя друг на друга и изо всех сил делая вид, будто бы оказались в сем месте исключительно случайным образом.
Рассаживались по местам.
И Гавриил оказался зажат между полным одышливым господином в сером сюртуке и узколицым субьектом вида преподозрительного.
— Жуть, — сказал субьект, мазнув взглядом по Гавриилу. — Деньгу дерут бесстыдно.
Он стащил мятый котелок и, поплевав на ладонь, пригладил рыжеватые волосы.
— Не хотите, не платите, — господин поерзал в кресле, чересчур тесном для его габаритов. — А меблю могли б и получше поставить.
— Не нравится, идите в «Метрополь».
— Пойду, милейший, уж не сумлевайтесь, — господин вытащил из внутреннего кармана пакет из промасленной бумаги и платок. Платок он расстелил на коленях, а уж потом и пакет развернул.
Запахло колбасой.
Вяленой. Чесночной.
Она лежала рядом, тоненькая, нарезанная полупрозрачными ломтиками. И господин неспешно обирал темные зерна горчицы, белые квадраты чеснока.
— Не могу я науку постигать без еды, — пояснил он беззлобно. И из другого карману извлек пакет с хлебом. Черным. Свежим.
Субьект нервически вздохнул и заерзал.
— Много жрать вредно!
— Так то много… — возразил господин, выкладывая на куске хлеба узор из колбасных ломтиков. — Я ж в меру…
И пальцы облизал.
— Ваша мера треснет скоро, — субьект, перегнувшись через Гавриила, ткнул пальцем в объемный живот господина.
— А вам что за беда?
От дальнейшего спора Гавриила уберег протяжный сиплый звук, который заставил субьекта вернуться на место, а господина — сунуть хлеб с колбасою в рот. Жевал он поспешно, стараясь не косить глазом на соседа, который смотрел уже не на господина — на сцену, сокрытую алым бархатным занавесом.
Первым поднялся антрепренёр в черном фраке.
Усевшись за рояль, надо сказать, инструмент показался Гавриилу донельзя солидным, куда солидней антрепренера, он заиграл веселенькую мелодию.
Вновь засипел рожок.
Дрогнул занавес.
А господин, дожевав хлеб, прошептал:
— Чичас начнут — с…
Субьект сполз ниже, так, что над креслом виднелась лишь лысоватая его макушка. Он смотрел на сцену жадно и, пусть бы ничего не происходило, шевелил губами, не то спрашивая, не то возражая.
На третий раз рожок сипел очень уж долго, так, что у Гавриила в ушах зазвенело. Занавес заело, что, однако, не испортило торжественности момента, тем паче, что толстенький служитель, вынырнувший из бархатных складок, скоренько устранил проблему.
— Эк они… — пробормотал субьект, подавшись вперед. — Помпезненько…
Пред публикой предстали развалины.
Следовало сказать, что развалины сии были не просто так, обыкновенными, навроде замшелого склада аль сгнившего сарая, но очень даже возвышенными, высокохудожественного исполнения.
Низко нависало темное небо с дюжиной крупных блискучих звезд. Покачивался полумесяц на тонкой лесочке, а из самой пышной тучи выглядывало острие желтой молнии.
— Они в прошлым годе греческую трагедию ставили, — поделился господин, вытирая пальцы о спинку сиденья, не своего, естественно, но того, которое виднелось перед ним. — Красиво вышло. Правда, в конце умерли все…
— Трагедия же ж, — возразил субъект.
— Так‑то оно так, но все одно печально было…
Виднелись руины белоснежного храма, намалеванного на простынях. И сквознячок сии простыни тревожил, отчего руины приходили в волнение.
Живописно лежали картонные колонны.
И на выбеленных ступенях, которые будто бы к храму вели, стоял человек в позе горделивой. Гавриил сперва и не узнал в нем своего знакомца.
— Братья! — произнес он, и голос наполнил залу. — К вам обращаюсь!
Стоял он боком, отставив мосластую голую ногу.
— К вам взываю, желая одного — поделиться!
Сегодня, верно, нарочно для лекции — с, пан Зусек сменил скучный черный костюм свой на иное облачение: алую римскую тогу. На голове его возлежал венец из лавровых листьев. И тень профиля, горбоносого, сухого, чудилась Гавриилу знакомой.
После он вспомнил, что видел подобный горбоносый профиль в учебнике гиштории…
— Избавьтесь от оков, братья! — пан Зусек повернулся к залу и простер тощие руки. — Отриньте все, что знали до того момента…
Говорил он красиво, правда, не совсем понятно. И субьект пренеприятным шепоточком произнес:
— Ежели все отринуть, то чего останется?
— Это образно! — ответил господин.
— Забудьте… оглянитесь…
Люди в зале послушно завертели головами, оглядываясь.
— Кого вы видите? Я скажу вам! Вы видите собратьев своих по несчастью! Тех, кому тесно в оковах общества! Тех, кто в тайне ли, явно ли, но мечтает о личном своем счастье… тех, кто страдал, как вы… как я…
Он прижал руки к сердцу и заодно уж поправил складки на плече. Тогда была театральною, взятою на прокат, шилась она на Цезаря, каковой портному представлялся личностью великой не только в душевном плане.
— И что было причиной наших страданий?!
Антрепренер оставил в покое рояль и повернулся к залу, с трудом подавив зевок. Сию пламенную речь он слышал не в первый раз, полагал, что и не в последний, оттого и было ему тоскливо.
— Женщины! — воскликнул пан Зусек, вновь простирая руку над залом. Второю же он придерживал тогу, что подло норовила сползти. А это было никак невозможно, ибо нельзя удерживать воистину горделивый и сильный образ, оставшись в сатиновых подштанниках.
Он ныне клял свою стыдливость, не позволившую подштанники снять, а тако же криворукость прислуги, которая пропалила собственную, пана Зусека, тогу, поставив его тем самым в почти безвыходное положение. Без тоги речь не шла.
— О! Женщины! Коварство — ваше имя! Лживые подлые создания… с младенческих лет они порабощают наш разум… лишают воли…
— Эк поет — с, — восхитился субъект.
— Они заставляют нас забывать о том, кто мы. Кто мы?
Ответом пану Зусеку было молчание.
— Мужчины! — воскликнул он. — Ну же! Не бойтесь…
Он тряскою рысцой, придерживая тогу, спустился со сцены, схватил за руку парня из первого ряда.
— Кто ты?
— М — мужчина… — слегка заикаясь, ответил тот.
— Громче!
— Мужчина!
— Мужик! — рявкнул пан Зусек. — Ты не просто мужчина! Ты — мужик.
— Я мужик, — паренек густо покраснел, но решил не спорить.
— Самец!
— Самец…
— Варвар!
— В — вар… вар…
Пан Зусек выпустил жертву, которая бессильно плюхнулась в кресло и подняла тощенькую папочку, не то в попытке спрятаться от собратьев по несчастью, не то защищаясь от пана Зусека. Тот же, тыча пальцем в дебеловатого приказчика, который и в зале не снял картуз, верно, стесняясь лысины, повторял.
— Ты мужик! Он мужик! Слышите?
Приказчик меленько кивал, и щеки его полыхали багрянцем.
— Нет! — неистовствовал пан Зусек. — Скажи им всем! Скажи, чтобы услышали! Чтобы поверили!
Гавриил приказчику не поверил, но старания бедолаги оценил. Пан Зусек же, поднимаясь по лесничке, рыскал взором.
— Гавриил! — воскликнул он. — Ты! Я верю в тебя! Спускайся! И я открою в тебе внутренние силы!
— А чего это он? — влез субъект и руку Гавриилову перехватил, когда тот собирался встать. — Сговорились, небось.
— Ложь! — пан Зусек махнул рукой, позабывши про тогу, и та едва не слетела, но была вовремя подхвачена. — Спускайтесь сами, если хотите. Я раскрою ваш потенциал!
— А и хочу! — субъект поспешно вскочил и, указав на толстяка, велел. — Пускай он тоже…
— Не пойду, — господин вцепился в ручки кресла и так, что они затрещали.
— Почему? — нехорошо прищурился пан Зусек, который испытывал несказанный прилив вдохновения и желал немедля, сей же час, изменить чью‑либо жизнь.
— Больно будет.
— Не будет, — отмахнулся пан Зусек. — И вообще, вы только представьте, какие перед вами откроются перспективы…
— К — какие?
— Замечательные. Встать!
И толстяк подчинился.
Он был по натуре человеком мягким, не привычным к крику, а оттого робел, что перед паном Зусеком, каковой виделся ему личностью грозной, авторитарной, что перед супругой, но пуще всего — пред тещею своей, Аглаей Венедиктовной.
— Идите туда, — пан Зусек указал на сцену.
— А может…
— Иди, — субъект выбрался в проход, не отказав себе в удовольствии потоптаться по Гаврииловым ботинкам, к которым он и сам успел проникнуться тихой, но лютой ненавистью.
— И ты, Гавриил, — милостиво велел пан Зусек. — Взойди к вершинам осознания…
— Куда?
— Туда!
Антрепренер, очнувшись от дремы, заиграл превеселенький марш, на который зал отозвался жиденькими овациями. Кому аплодировали — антрепренеру, Гавриилу со товарищами, пану Зусеку ли, ныне как никогда еще походившему на Цезаря. Правда, навряд ли Цезарь носил лакированные ботинки вкупе с белыми носками, но кого и когда волновали подобные мелочи?
Пан Зусек на овации отвечал благосклонными кивками, от которых лавровый венец, исполненный из самого настоящего лавра, а после покрытый золотой краской — и дешево, и правдоподобно — съезжал к левому уху. И к тому моменту, когда пан Зусек вновь взошел на сцену, Цезарь в его исполнении приобрел вид лихой, слегка разбойничий.
— Вы все, пришедшие сюда, дабы изменить свою жизнь… к вам обращаюсь, братья! — пан Зусек венок поправил, дав себе зарок, что на следующее выступление — а пока проводились они ежедневно, принося неплохой доход — воспользуется жениными шпильками. — Слушайте же! Внемлите! Отриньте оковы ложного стыда и страха! Поднимитесь с колен! Вы… каждый из вас в этой жизни сталкивался с женщиной! С первых мгновений жизни они порабощают нас, лишая воли и разума…
— А то, — произнес субъект в стороночку, — вот как сейчас помню. Родился, я значит… открываю глаза и вижу…
Он сделал театральную паузу.
— Кого? — не выдержал господин, который на сцене, в окружении колонн и рисованных развалин чувствовал себя крайне неудобственно.
— Женщину… мамку мою, значится… лежит вся такая… смотрит… думает, как волю поработить.
— И как?
— Сиськой, — субъект ткнул пальцем в картонную колонну, которая этакого обращения не выдержала и хрустнула, к счастью, ни хруста, ни дыры аккуратненькой никто не заметили. Субъект же, тяжко вздохнув, продолжил:
— От с той поры и повелось. Куда не сунешься, там женщина…
— Лежит? — уточнил Гавриил, которому было тяжеловато слушать одновременно и субъекта, и пана Зусека, вещавшего о том, как женщины хитры.
— Ну почему лежит? Иногда сидит… а порой, скажу больше, стоит или вот ходит. Но порабощает однозначно, — субъект покачал головой и, поплевав на ладонь, пригладил реденькие рыжеватые волосы.
— Чем?
— Сиськой же! Как увижу, так сразу лишаюсь и воли, и разума, — на Гавриила поглядели с упреком, мол, как можно этакие глупые вопросы задавать. — Если хотите знать, молодой человек, то сиськи правят миром…
Возразить было сложно, и Гавриил промолчал.
— И вы все, а иные — не единожды оказывались беспомощны пред ними… они, в коварстве своем, называя себя слабыми, слабостью этой пользуются беззастенчиво.
— А у меня жена, — пожаловался господин, переминаясь с ноги на ногу.
— Сочувствую, — субъект повел плечами, будто бы дрянной его пиджачишко вдруг стал ему тесен. — Я бы сказал даже, соболезную.
— Спасибо.
— И сколько раз случалось вам с замиранием сердца, со страхом, ждать ответа? Сколько раз вы изводили себя тщетной надеждой, что однажды она, та, которая запала вам в душу, взглянет на вас с интересом? Или же вовсе одарит вас благосклонностью.
Господин вздохнул.
Субъект, казалось бы, утративший всякий интерес к беседе, озирался. Гавриил слушал.
— Я же скажу вам так! — пан Зусек в приливе вдохновения, источником которого была не только уверенность в собственной правоте, но тако же неплохой коньяк, купленный исключительно для успокоения нервов, простер руки над залом. — Не стоит ждать милости от женщины! Надо пойти и взять ее!
— Ежели просто пойти и взять, — под нос произнес субъект, — то это статья будет… от десяти лет каторги до пожизненного…
Господин крякнул, видать, впечатлился.
Пан Зусек смолк, и антрепренер торопливо забренчал на рояле мелодию, под которую в иных пьесах помирали героини. Мелодия сия долженствовала звучать грозно, тревожно и одновременно с трепетом, однако рояль после многих недель труда оказался не способен воспроизвести ея с должным пафосом. Он тренькал, поскрипывал, а порой и вовсе издавал звуки престранные, заставлявшие антрепренера сбиваться и замолкать.
— Вот! — за свою карьеру пану Зусеку случалось выступать в местах, куда менее годных для великого действа, каковым являлась его лекция. Потому и к расстроенному роялю, и к дырявой короне, и к венку, что упрямо съезжал с макушки, он относился с философским спокойствием. Куда сильней его волновали люди, что стояли на сцене. — Вот те, кто ныне преобразится. Вы!
Начал он с толстяка, который был красен и несчастен, он тер лоб и щеки мятым платком, пыхтел и щупал пуговицы на жилете.
— Скажите им, — пан Зусек провел рукой, охватывая зал. — Скажите, что вы мужчина!
— Я… мужчина, — без особой уверенности в голосе повторил толстяк. — Мужчина я… в метрике так записано.
Голос его сделался вдруг тоненьким, а рояль, измученный мелодией, неожиданно рявкнул, заставив толстяка отступиться от края сцены.
— Мужчина… но поглядите, до чего вы себя довели! — пан Зусек безжалостно ткнул пальцами в живот. Пальцы были жесткими, а живот — так напротив. — Где ваша гордость? Где ваша стать?
— Где‑то там… — прокомментировал субъект, разглядывая пана Зусека с немалым интересом. Особенно субъекта заинтересовал венок, который сидел набекрень, прикрывая левое ухо. Над правым же торчала обскубанная лавровая веточка.
— В каждом из нас, — пан Зусек сменил тон, — живет варвар! Первобытный. Дикий. Яростный. Он желает одного: сразиться и победить! Ясно?
Толстяк помотал головой.
— Варвар не преклоняется пред женщиной! Он ее завоевывает! И не цветочками — стишатами, но лишь аурой грубой силы… своего превосходства. Ты женат?
Толстяк кивнул.
— Женат. Жена тебя не уважает?
Вздохнул тяжко.
— Небось, говорит, что ты не мужчина… что она растратила на тебя лучшие годы своей жизни, — теперь голос пана Зусека звучал едко. И от каждого слова толстяк вздрагивал. — Она смеется над тобой. Унижает! А еще…
Он наклонился ближе, заставив толстяка попятится.
— Еще у нее есть мама!
Пан Зусек резко отвернулся.
— О да… мать жены… дражайшая теща… существо, сотворенное самим Хельмом, чтобы отравить всякую радость, которую только можно получить от брака. Она или живет с вами, или незримо присутствует в вашей жизни! Она везде! Ее портретами полнится ваш дом. Ее письма жена хранит в вашем секретере! А ныне… ныне теща может звонить! И вы, всего‑то сняв трубку, услышите ее голос столь же явно, как если бы она сама явилась пред вами… как знать, быть может, недалеко то время, когда наука пронзит пространство и сделает возможным мгновенное перемещение. И тогда… тогда, даже живя в другом городе, вы не спасетесь от тещи…
По залу прокатился тяжкий вздох, а антрепренер заиграл что‑то в высшей степени печальное, верно, воображением он обладал живым, богатым.
— Но пришла пора положить конец диктатуре тещ! — тяжкая ладонь легла на плечо толстяка. А пан Зусек из складок тоги вытащил часы. Часы сии были весьма обыкновенными и куда более подходили к ботинкам, нежели к тоге и венку. — Сегодня. Сейчас ты станешь другим человеком. Ты явишься домой. И заглянешь в ее глаза. Ты скажешь ей, чтобы убиралась из твоего дома! Из твоей жизни!
Часы повисли на серебряной цепочке.
— Смотри! Внимательно смотри и слушай мой голос… считай со мной… десять…
— Д — десять…
— Девять… твое тело становится легким…
Гавриил отвел взгляд.
Гипноз.
И всего‑то? Нет, Гавриил знал, что загипнотизировать человека не так‑то и просто, что надобен талант и умение немалое, но… он ждал чего‑то иного.
Чего?
— Экий хитрец, — ткнул субъект острым локтем. — Поглянь только, чего творит!
Толстяк стоял, широко расставив ноги, плечи опустив. Руки его безвольно повисли, и в левой потной ладони поблескивала перламутром оторванная пуговица.
— Его разум спит, — сказал пан Зусек залу. — Сознательное уступает дорогу бессознательному!
Взмах руки.
И венок из золоченых лавровых листьев‑таки не удержался на макушке, упал. Поднимать его пан Зусек воздержался, раздраженно подпихнул ногой за ближайшую колонну, чтоб лавр глаза не мозолил.
— Ты… ты забудешь свой страх.
— Я забуду свой страх.
— Интересная метода, — субъект поскреб ноготком крашеную простынь. — Слышал я, что от собак так заговаривают… но чтоб от тещи… с другой стороны, если подумать, то против тещи все средства хороши.
Гавриил кивнул.
Просто так, для поддержания беседы.
У него тещи не было.
— Сегодня ты вернешься домой… — пан Зусек говорил низким хриплым голосом, от которого у Гавриила по шкуре бежали муражки.
А может, не от голоса, но от зловещего дребезжания роялю.
Или просто, сами по себе.
В груди крепло недоброе предчувствие.
— Вернусь…
— И смело посмотришь в их глаза. Прямо в глаза. Слышишь меня?
Голос пана Зусека толстяк слышал будто бы издали. И голос этот был подобен грому, а еще прекрасен, как храм Вотана перед праздниками.
Толстяк был готов сделать все, лишь бы голос этот не замолкал. А он замолкать и не думал, говорил и говорил, описывая новую чудесную жизнь, избавленному от диктата женщины. И мрачный образ Аглаи Венедиктовны блек, таял, пока не истаял вовсе, выпуская из грудей нечто этакое, чему названия толстяк не имел. Ему враз захотелось совершить подвиг, перекроить мир или, хотя бы, доесть колбаску, честно уворовонную на кухне собственного дома.
— Иди и будь свободен! — велел голос, и толстяк очнулся.
— Ты свободен! — повторил ему пан Зусек и по плечу хлопнул. — Повтори.
— Я свободен! — с хмельным восторгом отозвался толстяк.
— Ты мужик?!
— Я мужик! — обрело название то, что теснилось в груди. Оно было столь огромным, что было ему тесно даже в груди столь объемной. И от избытка чувств толстяк ударил себя по оной груди кулаком.
Внутрях загудело.
— Ты скажешь им?
— Скажу! — он обернулся к залу и вцепился в штруксовый свой жилет, поднесенный дражайшею тещенькой, небось, исключительно из зловредности, ибо был мал и тесен, а потому нехорошо сдавливал не только грудь, но и живот. — Я им скажу!
Штрукс затрещал. Посыпались круглые пуговки.
— Я все им скажу!
Зал взвыл, надо полагать, всецело одобряя этакое смертоубийственное с точки зрения многих, намерение. Пан Зусек, хлопнув смельчака по плечу, на что тот отозвался сдавленным рыком, велел:
— Не медли. Иди… и скажи!
От толстяка несло зверем, и кончик Гавриилова носа непроизвольно дернулся, что привлекло внимание субъекта, которого чудесная метаморфоза, случившаяся прямо на глазах, нисколько не заинтересовала.
…тем же вечером пан Бельчуковский, слывший меж соседей человеком на редкость благодушным, неконфликтным, устроил первый в своей жизни семейный скандал. До того дня он почитал за лучшее соглашаться и с супругою, дамой, в противовес пану Бельчуковскому, весьма нервической и, что хуже, громогласной.
Сим вечером панна Бельчуковская изволила пребывать в расстройстве, вызванном лучшею подругой, вернее новым ея манто из щипаной норки, каковым подруга просто‑таки непристойно хвасталась, потому как иначе объяснить факт, что надела она его в червеньскую жару… у панны Бельчуковской тоже манто имелось, и даже три, однако ни одного нового, тем паче, из щипаной норки.
И данное обстоятельство смущало трепетную душу ея.
Ко всему дорогая матушка авторитарно заявила, что отсутствие манто из щипаной норки, лучше всяких слов показывает, что панна Бельчуковская в свое время сделала крайне неудачный жизненный выбор. Говорила матушка о том, полулежа на гобеленовом диванчике, обложенная кружевными подушечками и вооруженная, что веером, что нюхательными солями, что справочником «Дамского недуга», где подробно расписывались симптомы всяческих недугов, в которых матушка находила немалое утешение… в общем, супруга панна Бельчуковская встретила обильными слезами и не менее обильными упреками, средь которых нашлось место и упоминанию о загубленной своей молодости.
Вместо того чтобы, как то бывало обыкновенно, смутиться, растеряться и вымаливать прощение — в этом действе пан Бельчуковский за десять лет совместного бытия преуспел весьма — он вдруг покраснел до того, что панна Бельчуковская испугалась: не случилось бы с супругом удару.
— Молчать! — рявкнул он да так, что люстра, посеребренная, с подвесами «под хрусталь», покачнулась и эти самые подвесы, стоившие панне Бельчуковской двухнедельной истерики, задребезжали.
— Ты тоже молчи! — велел пан Бельчуковский теще, которая неосторожно выглянула, удивленная криком. — Р — развели тут!
— Что, дорогой? — признаться, панна Бельчуковская испытала столь огромное удивление, что даже образ злосчастного манто поблек.
— Бар — р–рдак развели! — пан Бельчуковский обвел квартирку нехорошим взглядом.
И глаза покраснели, выпучились.
На висках сосуды вздулись.
— Полы не метены! Пыль… — мазнул пальцами по комоду и пальцы эти в лицо супруге ткнул. — Не вытерта! Ужин… подавай!
— Да в своем ли ты уме… — начала было Аглая Венедиктовна, но была остановлена ударом кулака по стене:
— Молчать!
Этот вечер к преогромному удовольствию пана Бельчуковского закончился в тишине и покое… панна Бельчуковская, пораженная этакой эскападой дражайшего супруга была тиха и задумчива, а единственный раз, когда она в тщетное попытке вернуть утраченную власть заголосила, бунт был подавлен одним словом:
— Разведусь, — бросил пан Бельчуковский, поддевая на вилку скользкую шляпку гриба.
Гриб он закусил кислой капусткой.
Опрокинул рюмочку травяного настою, потребление которого до сего вечера было под запретом, ибо и супруга, и ея матушка полагали, что алкоголь дурно влияет на слабый мужской мозг…
— Я… я… — глядя, как исчезают один за другим, что грибочки, что капусточка, что иные, неполезные для хрупкого здоровья пана Бельчуковского, продукты, панна Бельчуковская всхлипнула, не то от жалости к мужу, у которого к утру, как пить дать, случатся желудочные рези, не то от жалости к себе, оставшейся без манто…
— Тише, — шикнула матушка. — А то и вправду разведется… блажь‑то, она пройдет… пройдет блажь.
Блажь длилась две недели, за которые в жизни пана Бельчуковского многое переменилось. И это были самые счастливые недели на его памяти…
Гавриил, проводив взглядом толстяка, который тряскою рысцой бежал к выходу из залы, подумал, что все ныне идет не по плану. Правда, плана как такового у него не было, но… вот если бы был, то не было бы в этом плане места ни сцене этой, ни раздавленному венку, ни субъекту, что сунул руки в карманы и, покачиваясь, переваливаясь с пятки на носок, бормотал:
— Эк оно… разбудили мужика… берегись, кто может.
Пан Зусек, донельзя довольный произведенным эффектом, повернулся к субъекту.
— А вы?
— Что я? — субъект передернул плечами и попятился. — Я ж ничего… стою… смотрю… душевно радуюсь за собрата.
Субъект повернулся к залу и потряс кулаком:
— Даешь свободу!
Зал отозвался восторженным ревом.
— Долой брачные оковы!
— Долой!
Кажется, кто‑то вскочил.
— Вот, — из кармана субъекта появилось золотое кольцо. — Вот он! Символ порабощения!
— Что вы творите? — прошипел пан Зусек, вцепившись в рукав субъекта.
— А что я творю? — он держал кольцо высоко и сам притоптывал, точно намереваясь пуститься в пляс. — Мне кажется, я действую в рамках вашего творческого замысла.
И вывернувшись из захвата пана Зусека, он подпрыгнул.
— Долой!
Золотое — или все же золоченое? — кольцо блеснуло и, звякнув — звук вышел очень уж громким — покатилось по сцене.
— Долой! — завизжал кто‑то в зале. И кажется, особы особо впечатлительные последовали примеру.
— И да наступят счастливые времена безбрачия! — субъект ловко скакал по сцене, умудряясь всякий раз избежать настойчивых, наверняка дружеских, объятий пана Зусека. — И да будут изгнаны тещи из дома вашего! Ибо сказано в Вотановой книге…
Субьект ловко, по — козлиному, перескочил через колонну, чтобы оказаться в руках молчаливого парня, служившего при гостинице и лакеем, и охраной, и при случае, театральным рабочим.
— Свободу! — дернулся было субъект, но как‑то сразу сник.
— Убери! — прошипел пан Зусек и, для полноты внушения, сунул субъекту под нос кулак. — Чтоб я его не видел!
— Беззаконие… полное беззаконие… — субъект обвис в руках охраны. — Я на вас жалобу подам!
— Неприятная личность, — произнес пан Зусек, пригладив волосы. Именно теперь он вдруг остро осознал, что вид имеет преглупейший. Мало того, что образ Цезаря самым печальным образом был лишен лаврового венка, так и злосчастная пурпурная тога преподлейше съехала, обнажив узкое плечо с синей полустертою татуировкой.
Гавриил шею вытянул, силясь разглядеть, да только пан Зусек торопливо тогу дернул, складки мятые расправил.
— Прошу прощения, братья мои, — он поклонился.
И все ж на плече его изображен был зверь.
Волк?
Рысь?
Иной какой зверь о четырех лапах… нет, сие лишь малая странность, но странность к странности, глядишь, и сыщется правильный ответ.
— Средь нас встречаются люди, разумом скорбные… — в голосе его звучала хорошо отрепетированная печаль. — Их следует пожалеть, ибо обделены они милостью богов.
Пан Зусек осенил себя крестом.
— Пусть человек этот идет с миром. Мы же… мы же продолжим то, ради чего собрались. Гавриил, подойди сюда.
Подходить к краю сцены Гавриилу совершенно не хотелось, он оглянулся, но за спиной колыхалась простынь с развалинами, белели картонные колонны и хмуро, с подозрением взирал пан Зусек, верно, ждал подвоха. Отказаться? Сосед этакого позору не простит.
И хорошо, ежели просто обидой все обойдется.
А коль и вправду волкодлак?
Нет, нельзя отступаться… сблизиться надобно, сдружиться… Гавриил помнит, как наставники рассказывали, что дружба — это дар божий…
И Гавриил решительно шагнул к краю.
Зажмурился.
— Не бойся, — на плечо легла горячая ладонь. — Открой глаза.
Гавриил, подавив тяжкий вздох, подчинился.
Зал был темен.
Многолюден.
И все, собравшиеся в нем — смешно думать, что еще недавно Гавриилу мнилось, будто бы людей немного — глядели на него. Он вдруг почувствовал, как нехорошо слабеют колени, сердце сбоит, чего отродясь не случалось, а по спине катится пот.
— Смотри на них, мальчик мой, — голос пана Зусека звучал громко. — Смотри… все эти люди — твои друзья.
Друзей у Гавриила никогда‑то не было. Еще в приюте он много страдал по‑за своего нелюдимого характеру, неспособности сблизиться с кем‑либо.
За характер его не любили.
За слабость видимую пытались бить. Гавриил давал сдачи, отчего его не любили пуще прежнего…
— Откройся им! — продолжал пан Зусек, к счастью не убирая руки, потому как, ежели бы отнял ее, Гавриил вовсе потерялся бы, один перед тысячеглазым Аргусом залы. — Скажи им…
— Что сказать? — просипел Гавриил.
— Правду!
Вот так сразу говорить правду Гавриил настроен не был.
— А может…
— Нет! — пан Зусек руку убрал. — Ты должен перешагнуть через это! Измениться… смотри…
И перед глазами Гавриила закачался кругляш золотых часов.
— Смотри… считай…
Гавриил хотел сказать, что гипноз на него не действует, впрочем, как и волшба, однако застеснялся и послушно досчитал до десяти.
— Ты слышишь меня?
— Слышу, — отозвался Гавриил, стараясь вести себя, как полагается приличному подопытному. Благо, опыт подобный у него имелся, да и надежда, что ничего‑то сверхъестественного пан Зусек не потребует.
— Ты откроешься нам?
— Откроюсь.
— Ты расскажешь нам о своем страхе?
— Расскажу, — Гавриилу было неудобственно, поскольку страх его имел природу весьма специфическую, и пусть те же наставники убеждали, будто бы нет в том стыда, но…
— Скажи же… — взвыл пан Зусек над самым ухом, и Гавриилу стоило немалого труда остаться на месте. — Скажи, кого ты боишься?!
И Гавриил, подавив очередной вздох — не стоило сюда приходить — признался:
— Скоморох.
— Кого? — пан Зусек явно был не готов услышать этакое признание.
— Скоморох, — послушно повторил Гавриил. — Боюсь. Очень. У них… эти… колпаки с бубенцами… и рожи размалеванные… жуть.
— Скоморох… ты боишься скоморох?!
— Очень, — Гавриил потупился и, спохватившись, признался. — А гипноз на меня вовсе не действует…
Под ногой пана Зусека печально захрустели остатки лавра…
Глава 20. О разуме и женском упрямстве, которое всяко разума сильней
Себастьян растирал в пальцах золоченый лавровый лист и выглядел всецело сосредоточенным на этом, по сути, бесполезном занятии. Он вздыхал, подносил пальцы к носу, нюхал лаврово — золотую пыль… вновь вздыхал.
Евдокия молчала.
И молчание это давалось нелегко.
— Скажи уже, — Себастьян вытер руки о занавеску. — Что? Они пыльные. Будет повод постирать. А ты, Дуся, скоро лопнешь от злости.
— Это не злость… это… это беспокойство! Я не понимаю!
— Случается.
— Ты просто сидишь и… Лихо пропал, а ты… ты единственный, кто… кто хоть что‑то можешь сделать!
Она металась по гостиной, весьма, следовало сказать, роскошной гостиной, не способная справиться с собой. И в зеркалах ловила свое отражение — растрепанной, краснолицей женщины с безумными глазами.
— Но не делаешь ничего!
— Дусенька, — Себастьян забросил ноги на низенький столик, сделанный лет этак триста тому, и сохранившийся в прекрасном состоянии. К подобному Евдокия примерялась на аукционе, да так и не решилась, потому что просили за столик полторы тысячи злотней… непомерно! — Отрада глаз моих…
Евдокия запустила в него подушкой, но Себастьян уклонился.
— Скажи мне, что должен я сделать?
— Найти Лихо.
— Я ищу, — Себастьян пошевелил пальцами.
Был он бессовестно бос, и ко всему вельветовые домашние штаны закатал до колен, оттого и вид приобрел в высшей степени бездельный.
— Здесь?!
— А где?
— Его здесь нет, — силы вдруг иссякли и Евдокия упала, не на столик, на разлапистое креслице, прикрытое кружевною накидкой. От накидки пахло ванилью и еще корицею, и запахи эти представлялись странными, несоответствующими месту.
В доме ведьмаков должно было пахнуть иначе.
К примеру, как в аптекарской лавке… или же на кладбище… или в аптекарской лавке, которая расположена при кладбище, хотя, если подумать, то зачем она там?
— Я знаю.
— Тогда почему…
— Евдокия, — он поднялся, запахнул полы цветастого домашнего халата, в котором расхаживал, чувствуя себя в чужом доме свободно, будто бы был сей дом его собственным, — послушай меня, пожалуйста. Я понимаю, насколько это тяжело — сидеть и ждать. И тоже беспокоюсь за брата.
Поверить?
Он больше не улыбается. И выглядит серьезным, а еще усталым… где он был? Не скажет, и спрашивать бессмысленно, отшутится только.
— Лихо сильный…
— Успокаиваешь?
Нельзя ее успокаивать, иначе она расплачется, а это… это глупо плакать без повода! Нет, повод, конечно, есть и очень веский, однако же слезы Евдокиины ничем‑то не помогут.
— Успокаиваю, — согласился Себастьян. — А еще пытаюсь объяснить. Ты же выслушаешь?
Будто бы у нее имеется выбор.
Выслушает.
Она сделает, что угодно, если это поможет… только чем помогает ее, Евдокиино, сидение в чужом доме? Второй день, а она… они…
…второй день.
И теперь Евдокия чувствует время остро. То, как уходит оно, минута за минутой. Больше не тянет в сон, напротив, мучит бессонница, от которой не спасает травяной успокаивающий отвар.
У нее не хватает сил даже на любопытство.
Это заговор виноват.
Кто сделал? Для чего?
Ей не сказали. Аврелий Яковлевич отвар вот дал и еще ниточку, на которой сухая щепка болталась, а в ней — будто бы искра серебряная застряла. Стоило надеть, как разом полегчало, будто бы разжалось стальное кольцо в груди.
Поблагодарить бы, да… беспокоить не велено.
Занят хозяин.
И говоря о том, лакей, паренек молодой, очи закатывал, бледнел выразительно. Боялся. И Евдокия, нет, не боялась, скорей опасалась, потому как ведьмаков положено опасаться разумным людям. А она себя разумной мнила до недавнего времени.
Ведьмак многое знает.
И живет давно. И верно, сумел бы объяснить, но… не велено.
В подвалах он. С волосами Евдокии, которые самолично состриг, с платочком, Себастьяном принесенным. И ясно, что на платочек тот он большие надежды возлагал, а как спросила — отшутился.
Мол, всему свое время.
Да только время это вышло почти. Евдокия чувствует. И злится, что на Себастьяна с его тайнами ненужными, что на ведьмака, в подвалах своих запершегося, что на себя саму… на мужа…
Злость эта тоже кажется чужой, и надо ее одолеть, пока она не одолела Евдокию. Тут уж оберег не спасет.
— Мало просто найти Лихослава, — Себастьян сел на пол, подсунув под зад еще одну подушку, которых в доме было множество. — Надобно сделать так, чтобы он вернулся. Я имею в виду не только Познаньск. А для этого я должен понять, кто и что с ним сделал. И как это, сделанное, можно переменить. Понимаешь?
— Я не дура… не совсем дура… я просто нервничаю, — Евдокия потерла глаза.
Сухие, к счастью.
Невыносима была сама мысль о том, что она разревется при нем… вот так, просто по — бабьи, с причитаниями и подвываниями, со слезами, которые градом из глаз сыплются, и с соплями, с носом распухшим красным…
— Ты умница.
— Льстишь?
— И это тоже, — Себастьян улыбнулся, и эта улыбка была вполне искренней. — Извини, если я… она права в том, что когда часто меняешь лица, легко потерять свое. Я привык быть шутом. И порой за собой не замечаю, когда это не уместно.
— Прости, — Евдокия обняла себя. — Он ведь… там… к ней отправился… к… хозяйке?
Это слово далось с трудом.
— К ней.
— Она…
— Колдовка. Просто колдовка. Сильная, это верно, но не всесильная. А раз так, то и ее можно переиграть.
— Опять утешаешь…
— Не без того, — он улыбнулся еще шире. — А на деле… мой братец, конечно, парень видный, но не настолько, чтоб ради него этакие игры затевать. Значит, все сложней, много сложней… смотри, волкодлак, который в Познаньске объявился… сваха эта… и сводня, которая… у нее в списке Лихо значится, но это ж ерунда… я братца знаю, как облупленного. Он в жизни не стал бы связываться с… не стал бы…
Себастьян замолчал и молчал несколько минут, которые показались Евдокии вечностью.
— Разве что… — черные глаза потемнели. — Разве что пытался кого‑то вытащить… выкупить… ну конечно!
Он вскочил, едва не запутавшись в полах халата, который стал вдруг мешать. И Себастьян содрал его, скомкал, отправив в пустой камин.
— Нужен список… дело или семейное, или приятели… Дуся, вспоминай, в последние дни не появлялся ли кто из старых друзей?
— Нет.
— Ты уверена?
Евдокия закусила губу. Как все было? Странно. Вроде бы и по прежнему, жизнь кое‑как наладилась, а она, Евдокия, увязла меж модных лавок, салонов, магазина и старого поместья, куда Лихослав наведывался частенько…
Приемы.
Визиты к его отцу, которые давались тяжело.
Ее собственные страхи и сомнения, которые теперь казались нелепыми… сколько же она времени потратила на них? Сколько всего упустила?
— Я… я не уверена, — вынуждена была признать Евдокия. — В последние месяцы мы… мы были вместе, но…
— Порознь, — догадался Себастьян.
— Да.
— Он ни о чем таком не упоминал?
— Нет… он… он несколько раз оставался на ночь в клубе… и я… я…
— Решила, что это из‑за тебя?
— Да.
— А поговорить…
Евдокия отвернулась.
— Мне было… страшно.
— Почему?
Как ему объяснить? Она и себе‑то не может. Страх? Быть брошенной? Или нет, не брошенной, Лихослав слишком порядочен, чтобы избавиться от надоевшей жены. Скорее уж оказаться ненужной.
Подведшей.
Ошибкой, которую уже не исправить.
— Ладно, опустим этот душещипательный момент, — Себастьян кончиком хвоста поскреб ступню. — Итак, мой дорогой братец, похоже, ввязался в авантюру… или его ввязали в авантюру, что куда верней.
Себастьян прикрыл глаза, вид у него сделался донельзя довольным.
— И ведь промолчал, когда я спрашивал… солгал, паскудина этакая, чтоб ему икалось… ничего, найду — выскажусь…
— Если найдешь.
— Найду. Запомни, Дуся, — Себастьян ткнул пальцем в нос. — От меня еще никто не уходил!
Прозвучало в высшей степени самонадеянно, но Евдокии очень хотелось поверить.
— Итак… допустим… допустим, к Лихо обратился некто с некой просьбой весьма деликатного характера… и не просто деликатной, но… клятва! Именно!
Себастьян кружил по комнате, сцепив руки за спиной.
— Клятва объясняет, почему он не сказал мне… или тебе… но первому попавшемуся человеку клясться кровью не станешь. Следовательно, что? Следовательно, человек этот был Лихо хорошо знаком. Настолько хорошо, что просьба подозрения не вызвала…
Себастьян резко остановился перед зеркалом, окинул себя придирчивым взглядом, пригладил волосы, шею вытянул, разглядывая что‑то, Евдокии невидимое.
— Хорош, безусловно, хорош, — пробормотал он. — Итак… в Познаньске Лихо всего год. И настолько дорогих сердцу приятелей у него здесь не завелось. Значит, это человек из прошлого… и вновь сие привязывает нас к Серым землям.
— Надо ехать.
— Надо, — согласился Себастьян. — И я поеду…
— Мы.
— Я.
— Мы, — Евдокия шмыгнула носом. — Если ты думаешь, что я останусь в Познаньске…
— Думаю, — Себастьян таки нашел в себе силы повернуться к зеркалу спиной, хотя со спины он был не менее хорош. — Более того, я надеюсь, Дуся, что в тебе есть хоть капля благоразумия.
— Нету.
— Дуся!
— Послушай, — принятое решение согревало душу. — Ты можешь, конечно, уехать один. Оставить меня здесь… и я сделаю вид, что останусь. На время. Но лишь подвернется возможность, и я отправлюсь за своим мужем.
— А может, в монастырь пока… — Себастьян склонил голову набок. — Там тихо. Спокойно. Безопасно.
— Только попробуй.
Евдокия не сомневалась, что с дорогого родственничка станется попробовать, но сдаваться она не была намерена. Хватит. И без того она ждала… слишком долго ждала.
Неоправданно долго.
— Сядь, — приказал Себастьян. — И послушай. Там не место для женщины. Там не место для людей вообще… Серые земли — это…
— Знаю. Лихо рассказывал.
— Мало рассказывал. Дуся…
— Нет, — она покачала головой. — Я сказала и… и поеду или с тобой. Или без тебя.
У нее, в конце концов, револьвер имеется. И людей Евдокия наймет, из вольных охотников, благо, денег у нее хватит…
— Вот я знал! — Себастьян поднял палец. — Знал, что от женщин одни проблемы… от родной жены и на каторге не спрячешься! Отправится следом и непременно всю каторгу испоганит…
Евдокия подняла подушку.
— Сдаюсь! — он подушку отнял и зашвырнул в тот же камин. — Порой мне начинает казаться, Дуся, что ты меня недолюбливаешь…
— Неправда!
— Вот и я так думаю… ведь если разобраться, с чего бы тебе меня недолюбливать? Я же кругом прекрасный…
— Особенно в профиль, — пробормотала Евдокия.
Себастьян величественно кивнул: его профиль ему очень даже нравился, впрочем, как и анфас, и все прочие ракурсы.
— Вот… а ты подушкой. Дуся, нельзя так с людьми! Люди ведь и оскорбится способны до глубины их души… в глубинах же души человеческой порой такое дерьмо зреет… — он менялся слишком быстро, чтобы Евдокия могла уследить за этими переменами, не говоря уже о том, чтобы привыкнуть к ним. — Отправляемся в понедельник.
— Почему? — Евдокия готова была отправиться немедля.
— Потому что поезд отходит в понедельник. В семнадцать часов пятнадцать минут. Восточный вокзал… третий вагон.
— Можно нанять…
— Можно, Дуся, и нанять, и купить, и целый полк отправить, да только этакие маневры нам скорей во вред. Нет… нам надобен именно этот поезд, который в семнадцать часов пятнадцать минут. С Восточного вокзалу… третий вагон… и еще, Дусенька, ты же понимаешь, что мы не на вакации отправляемся? И не на променад по королевским садам?
— Понимаю.
— Вот и ладненько, — Себастьян улыбнулся, обнажив длинные клыки, и лицо его потекло, теряя черты, проглянуло за ним, человеческим, нечто такое, заставившее Евдокию отпрянуть. — И потому ты будешь меня слушаться. Будешь ведь?
Будет.
Во всяком случае постарается.
— Умница моя, — Себастьян по — собачьи отряхнулся, и лицо его стало прежним. — И почему я нисколько в тебе не сомневался?
— До понедельника еще два дня…
Целых два дня.
Евдокия с ума сойдет от ожидания.
— Всего два дня, — возразил Себастьян. — А сделать нужно многое… и Дусенька, раз уж мы решили работать вместе, то будет у меня к тебе просьба одна… заглянуть в монастырь.
— Что?!
— Не волнуйся. С благою целью. Ты же запомнила тех добрых сестер, которые так желали с тобою… скажем так, породниться?
— Да, но…
— Дуся, — Себастьян взял за руку и наклонился, заглянул в глаза, — понимаю твои опасения, но поверь мне на слово, ныне не темные века… нет, будь ты особой королевской крови, которая чего‑то там измыслила недоброго, то века значения не имели, но ты у нас, к счастью, честная купчиха… поэтому просто поверь, что не принято в нынешние просвещенные времена постригать людей в монахи без горячего на то их желания.
Евдокия поверила.
Почти.
Сия гостья явилась заполночь.
Вошла она с черного ходу, что было несвойственно особе ее положения и родовитости, однако же характер, урожденная осторожность были сильней шляхетской гордости.
— Доброй ночи, панна Мазена, — Себастьян поприветствовал гостью поклоном. — Не могу сказать, что рад вас видеть…
— Ночи и вам, — усмехнулась она. — Радость мне не надобна. Хватит и приватное беседы.
— Надеюсь, вы не собираетесь вручить мне… некий приказ?
— Помилуйте, приказы пусть разносят адъютанты… у моего дражайшего супруга их трое. Не буду же я перебивать у бедолаг работу?
Темный, простой ткани плащ соскользнул с плеч панны Радомил — а Себастьян не сомневался, что, сменивши фамилию, любезнейшая Мазена не сменила сути своей. Но плащ принял, и простую полумаску, и с вежливым поклоном руку предложил.
— Панна желает чаю?
— Панна не отказалась бы и от коньяку…
Темная гостиная, пятерка свечей в серебряном канделябре, пустой камин за цветастою ширмой. Гардины, которые панна задернула самолично… следят ли за ней?
Несомненно, следят.
Генерал — губернатор, поговаривают, супругу уважает… а еще побаивается, поскольку человек он в высшей степени разумный, а разумным людям свойственно испытывать определенные опасения, ежели в ближайшем их окружении находится человек, сведущий в ядах.
Во всяком случае, коньяк Себастьян разливал сам.
— Все еще обижаетесь на меня? — поинтересовалась Мазена, принимая бокал. В темном платье, пожалуй, чересчур уж строгом, лишенном всяких украшений, она выглядела старше, нежели год тому.
И жестче.
— Мне представляется, причины на то есть…
— Есть, — Мазена не спешила сесть, оглядывалась с немалым любопытством. — В этой комнате прежде не бывала… Аврелий Яковлевич не любит гостей, но тот обряд…
— Обряд?
— Свадебный.
— Мне казалось, свадебные обряды проводят в храмах.
— И в храме был, конечно… вы же присутствовали.
— Пришлось. По долгу службы.
— Конечно, — она держала коньячный бокал в ладонях, подносила к носу, вдыхала аромат напитка. — Но храма недостаточно… иные браки по сути своей являются сделкой. А нет сделок более прочных, нежели заключенные на крови. Вам ли не знать, сколь прочен этот поводок.
Полуулыбка.
И тоска в темных глазах, но взгляд Мазена не отводит.
Значит, клятва на крови… и верно, странно было бы думать, что генерал — губернатор согласился бы на меньшее. Он желает союза, но не верит союзнику. Что потребовал взамен?
Верность?
Не ту, супружескую, которая нужна многим. Себастьян подозревал, что этакой верности генерал — губернатору будет мало… да и Мазена достаточно разумна, чтобы не угодить в скандал. Значит, речь о другой… верности короне?
Пожалуй.
— Вы здесь…
— Потому, что мне кажется, что вы способны меня понять… видите ли, мой дед… многие полагают его человеком специфического толка… неуживчивым. Злопамятным. Жестоким до крайности. И это правда.
Себастьян кивнул. Со стариком Радомилом он был знаком, не сказать, чтобы знакомство сие было давним и доставлявшим удовольствие, но… Радомилы замолвили слово за Лихослава.
Честью поручились.
— Однако он справедлив. Это первое. А второе — он не забывает долгов. Всех долгов, — подчеркнула Мазена.
— И чего он хочет?
Значит, явилась она сюда не по приказу супруга. Радомилы… во зло или благо?
Мазена молчит.
— Прекратите, — Себастьян демонстративно сел первым, и хвост на колено закинул. Бокал поднял, глядя, как искажается в коньячно — хрустальной линзе комната и сама Мазена. — Вы ведь пришли сюда напомнить, что я должен Радомилам. Должен. И не отступлюсь от этого. Потому прекратите играть. Я уже устал от всех этих… недомолвок, гишторий, из пальца высосанных. Скажите прямо, что вам от меня надо.
— Скажу. Вы слишком эмоциональны.
— Это врожденное.
— Врожденные недостатки исправляются.
— Вас, вижу, в свое время хорошо исправляли.
Она вздрогнула и коньяк выпила, не по — дамски, одним глотком, занюхала платочком и усмехнулась:
— А еще вы частенько говорите то, о чем следовало бы промолчать. Вы не игрок.
— Почему же. Но предпочитаю другие игры…
— Прямо… Радомилы вам не враги.
— Но и не друзья.
— Почему? — Мазена поставила бокал на столик и все же присела. — Все зависит от вас и только от вас… но у меня и вправду не так много времени, чтобы тратить его попусту. Мы с вами на одной стороне. Радомилы поручились за вашего брата.
— И я им за это благодарен.
— Хорошо. Чужая благодарность никогда не бывает лишней, — она отвернулась. Взрослая маленькая женщина, которая слишком рано заглянула на изнанку власти. И видать не зря шепчутся, что каменный венец Радомилов со смертью старика к ней отойдет. Удержит ли?
Удержит.
— Если вашего брата обвинят… вернее, его уже обвиняют, но пока все это, — Мазена взмахнула рукой. — Голословно. Но как только у обвинения появятся доказательства… хоть какие‑то доказательства, найдутся те, кто вспомнит Радомилам их неосторожность. Это огорчает дедушку.
— Мне жаль.
— Жалости мало, Себастьян. Найдите вашего брата.
— Его нет в городе.
— Знаю.
— Откуда?
Мазена коснулась виска.
— Когда все это началось, дедушка решил, что… за Лихославом стоит приглядывать.
— Вы за ним следили?!
— Только не говорите, что вас это возмущает.
Себастьян возмущаться не собирался. Напротив… если Радомилы следили, а Лихо не убивал… нет, он не убивал, потому что не был убийцей, но теперь появится свидетель, который…
— Ваш брат и вправду покинул город. Более того, не совсем в… человеческом обличье… более того, у дедушки имеются основания полагать, что вскоре его обвинят еще в одном убийстве. Поэтому важно, чтобы ваш брат вернулся и лично ответил на эти обвинения.
Она не спешила заговаривать вновь, разглядывая холеные свои руки.
Случалось ли ей убивать?
Помимо тех конфет, которые не идут из головы… ведь и вправду, был бы человеком… интересно, цветы на могилу прислала бы? Прислала… хоронили бы с помпой, старший актор сложил голову на государевой службе… и не прислать букет было бы моветонно.
— Мне кажется, вы снова думаете не о том…
— Лихо не убивал, — Себастьян пригубил коньяк, который показался не в меру горьким. — Есть ваш свидетель. Есть показания Аврелия Яковлевича…
— Который тоже заинтересован в том, чтобы вашего брата оправдали. Как и вы. Правда, интересно выходит? Убери одну фигуру, и еще минимум три исчезнут с доски. Хороший ход…и вам, быть может, будет печально слышать сие, но ваш брат в этой игре — пешка.
— Как и я.
— Что вы, вы себя, Себастьян, недооцениваете. Вы никак не пешка. Конь, а быть может, и ферзь…
— Ферзем скорее ваш дед является.
— Он будет рад услышать, — Мазена склонила голову. Пустой жест показной благодарности. — А теперь, пожалуйста, послушайте. Я рассчитываю, что вашей благодарности Радомилам хватит, чтобы… не распространяться о том, что вы сейчас услышите.
Она поднялась.
Обошла комнату кругом, остановилась у столика.
Сняла сумочку, в которых дамы веера носят, только в этой лежали куда более полезные вещи.
Платок, завязанный на три узла. И клубок черных спутанных волос, сперва показавшихся Себастьяну конскими.
— Не стоит прикасаться, — Мазена остановила его руку. — Чревато.
Пятерка ржавых, уродливого вида гвоздей. И золотая сеточка, которую Мазена поднесла к свече. Сеточка вспыхнула белым пламенем, поднялась к потолку, развернулась…
— Это сделает нашу беседу еще более приватной, — очаровательно улыбнулась Мазена.
Пламя свечей изменило цвет на темно — зеленый.
Запахло болотом.
И холодно стало, при том, что холод этот был неправильным, будто бы кто‑то незримый встал за спиной, и стоял, и дышал в затылок.
Себастьян обернулся.
— Привычка нужна, — Мазена разложила гвозди на столе. И платочек расправила.
— Я уж как‑нибудь…
— Руку.
Себастьян руки убрал за спину, отступил бы, но то, что стояло за его спиной, беззвучно рыкнуло, и ноги заледенели.
— Бросьте, Себастьян. Если бы я желала от вас избавиться, поверьте, вы были бы мертвы. Моему супругу достаточно отдать соответствующий приказ.
И на шее затянулась петля кровной клятвы.
— Или мне, — добавила Мазена, глядя в глаза. — Но предпочитаю иметь вас союзником. Поэтому не капризничайте, дайте руку…
Себастьян руку протянул, надеясь, что та не будет позорно дрожать.
Темный волос обвил мизинец. А Мазена, не дрогнув, царапнула ладонь гвоздем.
— То что сказано, сказано здесь и для двоих, — темная капля крови упала на волос, который ожил и сжался. В какой‑то момент показалось, что сейчас Себастьян останется без пальца, но нет, мизинец уцелел, только волос остался под кожей.
— То есть, если мне вздумается… поделиться информацией…
— Вы заболеете, — Мазена раскрыла ладонь.
Белая кожа.
Тонкая.
Истончившаяся даже, и под нею плывут, извиваются тончайшие волосы. Смотреть на это отвратительно до тошноты.
— У Радомилов множество тайн…
— И похоже, их они даже себе доверить не способны.
— Доверие… слишком дорого, чтобы тратить его вот так, — Мазена провела ладонью над пламенем, и оно, коснувшись нежной ее кожи, едва не погасло. — Но вас не это должно заботить. Некогда мой прапрадед был отлучен от двора и сослан на границу. Шла война… та самая, что породила Серые земли. В хрониках рода остались его воспоминания. А тако же документы, которые подтверждают права Радомилов на некоторые земли. Серые земли появились не в один день. Поначалу это был старый храм… после — деревенька у храма… две деревеньки и городок… зараза расползалась, люди бежали.
— А ваш предок совершал сделки.
— Он вовремя понял, что Серые земли — это не только безусловное зло…
— И стал торговать?
— Стал перекупщиком. Всегда находились люди, которые золото ценили больше, чем собственную жизнь. А еще свято верили в удачу.
Пламя соскальзывало с ладоней Мазены. Волосы под кожей ее исчезли, но Себастьян чувствовал их присутствие, как чувствовал незримую удавку на мизинце.
— Радомилам принадлежит две трети пустоши. И всего, что на этой пустоши существует. Мы содержим приграничные крепости. Приглядываем за купцами и не только… вы не представляете, сколько людей желают поживиться за счет казны, отправив на границу негодный товар… легко ведь списать, что на пожары, что на нечисть… в прошлым году вот нашелся умелец, пытавшийся убедить, будто бы навьи волк сожрали обоз с зерном… — Мазена фыркнула. — Он сидит. Во многом благодаря Радомилам на границе порядок.
— Какие вершины гражданской сознательности.
— Отнюдь. Мы вкладываемся в свой бизнес. Мы способствуем возвышению нужных людей. Убираем тех, кто не нужен или даже опасен.
— А взамен?
— Контролируем рынок. В крепостях… во всей округе работают наши перекупщики, которые назначают наши цены…
— И если кто‑то вздумает их перебить…
— Ему объяснят правила. Не смотрите с такой укоризной, Себастьян. Радомилы заботятся о тех, кто служит им. Отчасти потому я вам и рассказываю об… этой части семейного дела.
— Несказанно польщен этаким доверием, — Себастьян поскреб мизинец, и хоть бы черный волос исчез, но ненаследный князь не мог отделаться от препоганейшего ощущения, что внутри него поселилась некая, несомненно, в высшей степени зловредная тварь.
— За последний год погибли семеро перекупщиков. И если один — новичок, то остальные шестеро — люди опытные, не один год на границе проведшие. А в Познаньске появились товары… скажем так, неучтенные. Нас это не может не волновать.
— Доходы падают.
— И это тоже. Однако взгляните на проблему шире… — она позволила пламени осесть на ладони. — Радомилы века посвятили изучению Серых земель и того, что они дают. Эликсир здоровья, зелье вечной молодости…
— Вечной молодости не бывает.
— Но название звучит, согласитесь… мы научились использовать то, что все полагали бесполезным, если не сказать хуже, опасным. Мы аккуратно дотошно исследовали все, от игошиных игл до обыкновенной травы… хотя на Серых землях нет ничего обыкновенного… мы знаем много. И несоизмеримо мало. Но знание позволяет нам… скажем так, контролировать не только цены. Те же «бурштыновы слезы» можно получать куда более простым способом, нежели принято… и представьте, что этот способ станет известен. Что сам яд появится по эту сторону границы. Что стоить будет он не тысячи злотней, но, скажем, десятки… не такая и великая сумма для того, кто желает избавиться, скажем, от надоевшей тещи… или богатого дядюшки. Жены. Мужа…
Себастьян представил.
Он никогда не испытывал особых иллюзий по поводу человеческого благородства.
— Яд, который обычному человеку не обнаружить… если, конечно, у него нет средств на создание королевского оберега… а этот яд — один из многих… представьте, что в Познаньске появятся торговцы мхом… или порошком из него. Если смешать пыльцу с опием, то получится замечательное средство, которое подарит чудесные видения… а тот, кто попробовал его единожды, захочет попробовать вновь и вновь. И желание это будет столь сильным, что человек сделает все, лишь бы исполнить его… предать, убить… представьте, что здесь, не только ведьмаки, но обыкновенные горожане, смогут купить маровый туман или темный безымянник, который пробуждает скрытые силы… отомстить обидчику долгою болезнью. Бросить конкуренту камень — манок, что привлечет мелкую нечисть. Спалить склад или дом того, кто ненавистен… всего‑то и надо, что перо золотого петушка… не такая уж и великая редкость. А если кто, по случайности, по незнанию, выпустит Моровую деву? Что тогда?
Себастьян представил, во что превращается Познаньск. И стало вдруг невыносимо жаль, что себя, что Евстафия Елисеевича, которому придется и дневать, и ночевать в Управлении, пытаясь хоть как‑то, хоть что‑то переменить.
— Радомилы знают, что такое ответственность.
— Я рад за них, — голос предательски дрогнул.
— Не верите? Что ж… нельзя быть богатым в разоренной стране. Вернее, можно, но богатство это будет недолгим. Радомилы — древний род… столь же древний, что и королевский. Мы помним обо всех, кто был до нас. И заботимся о тех, кто еще будет.
Она верила в каждое, произнесенное ею слово, и наверное, стоило бы порадоваться, да только не выходило, потому как уверенность ее в правоте Радомилов была… страшна.
Ради этой самой правоты Мазена сама и солжет, и убьет.
И предаст.
И за Моровою девой дело не станет, если будет сие в интересах ее рода, столь же древнего, сколь и королевский.
— Боитесь? — она смотрела с холодным интересом. — В страхе вашем нет стыдного. И пожалуй, вы правы, что ради спасения рода я не только на замужество соглашусь… но если вам станет легче, то… у моего супруга есть свои тайны, как и у короля… как и у всех, кто хоть что‑то из себя представляет.
— Отрадно знать, что я ничего из себя не представляю, — пробормотал Себастьян.
— Вам лишь кажется. Князья Вевельские — древний род…
— Не столь древний, как Радомилы. Но чего вы ждете от меня? Полагаете, что я в одиночку сумею остановить эту… интервенцию, скажем так?
— С интервенцией здесь уже разбираются наши люди, — Мазена вытерла пылающую ладонь о платье. — Я надеюсь, что вы сумеете установить источник… и преподнести ему наш небольшой подарок.
— Это какой?
Подарки от Радомилов ныне представлялись Себастьяну преподозрительнейшими.
— Тот, который вы уже носите…
— Так это…
— Не для того, чтобы заставить вас молчать, — она умела улыбаться искренне, вот только от этой улыбки Себастьяна передернуло. — Помилуйте, я верю в вашу разумность, во — первых, а во — вторых, если вы решите вдруг эту веру поколебать, то… найдутся куда более простые и верные меры, чем волосяник.
Тварь все‑таки была живой.
— Найдите колдовку. Избавьтесь от нее.
— Ради Радомилов, — Себастьян потер палец.
— Ради вашего брата, если хотите получить его обратно… или вы полагаете, что она просто так его отпустит?
Себастьян не был настолько наивен. Говоря по правде, он старательно не думал о том, что произойдет после встречи с колдовкой, поскольку более — менее здравых идей по ее устранению не имел.
До сего момента.
— Достаточно прикосновения, желательно, к коже… на худой конец, к тонкой ткани.
— И что будет?
— Вы и вправду хотите знать? — Мазена склонила голову.
Себастьян не хотел, здраво предположив, что знание сие не добавит ему спокойствия. Однако незнание было куда худшим вариантом.
— Волос проникнет в кровь. Разделится… и снова разделится… и будет делиться, прорастая в тело. Не стоит трогать, — Мазена перехватила руку. — И не думайте, что если отрежете мизинец, то избавитесь от волоса.
— Не думал даже, — покривил душой Себастьян, который аккурат и обдумывал, что ему дороже, мизинец или здоровье, так сказать, в целом. — Но вы не думали, что помимо колдовки, до которой еще добраться надобно, на пути моем встретятся иные люди… не знаю, как вам, но мне в целом претит мысль, что ваш чудесный волос прорастет…
— Не прорастет, — оборвала Мазена. — Чтобы что‑то случилось, вы должны четко и ясно произнести кодовую фразу.
Она протянула сложенную вчетверо бумажку.
— Надеюсь, у вас хватит ума запомнить…
— Уж постараюсь. Произнести, значит?
— Четко и ясно. Впрочем, проблем с дикцией у вас не наблюдалось…
Фраза была нелепой.
Пять слов, которые в сумме своей напрочь лишены смысла, и пожалуй, если и существовала вероятность, что кто‑то произнесет эту фразу вслух, то была она почти ничтожна.
— Замечательно, — Мазена завернула остатки волосяного клубка в платок. — Я знала, что мы с вами найдем общий язык.
Бумажка вспыхнула.
Зато из широкого рукава появился тонкий свиток.
— Это вам. Своего рода доверенность.
Все одно Себастьян к свитку прикасаться не спешил. Мало ли, чего от этакой доверенности ожидать можно.
— Не волнуйтесь. Всего — навсего кожа. Навьего волка. Не горит. Не тонет. Не рвется. Потерять сию грамоту тоже сложно, — свиток развернулся. — Положите ладонь.
Кожа была теплой, шероховатой.
— Замечательно, теперь воспользоваться этой доверенностью никто, помимо вас, не сможет.
— Чудесно.
— Вам пригодится, — Мазена ловко свернула свиток, перехватив его кожаной петелькой. — На Серых землях имя и доверенность нашего рода многое значат… значили, во всяком случае. Вам понадобится проводник. Лучше, из вольных охотников… пожалуй, советовала бы найти Шамана, да от него давненько не было вестей.
Исчез платок. И ржавые гвозди, которые стали, пожалуй, еще более ржавыми.
Свечи мигнули, и пламя сменило цвет.
— Что ж, пожалуй, была рада с вами повидаться, — совершенный реверанс, и светская фраза.
— Погодите. Ваш супруг…
— Я не делаю ничего, что может навредить ему или королевскому роду…
Конечно, Радомилы, заключая договор, не могли не оставить для себя лазейки.
— Мы многим рискуем, — маска — домину скрыла лицо Мазены, голос и тот стал словно бы ниже, глуше. Наверняка, сия маска была непростой. — Но мы надеемся, что вы оправдаете наше доверие.
— Постараюсь.
— Конечно, постараетесь, — плащ изменил фигуру.
Женщина, стоявшая перед Себастьяном, никак не могла быть супругой генерал — губернатора.
Ниже.
Явно толще. И появилось в облике ее нечто такое, донельзя простецкое… за кого ее примут на улице? Состоятельную купчиху? Или обыкновенную горожанку, которая спешит по собственным делам… или вовсе не заметят, скользнут взглядом да забудут, подчиняясь древней волшбе, творить которую способен не только ведьмак…
— Вы ведь любите своего брата, — сказала Мазена, набросив на голову широкий капюшон. — И признаюсь, что я вам завидую.
— Чему?
— Тому, что вы еще способны любить.
Глава 21. О монастырях и монахинях
В домике пахло кровью.
Мерзкий запашок, который заставил Аврелия Яковлевича кривиться и прижимать к носу надушенный платочек.
Не помогало.
И платочек отправился в карман, Аврелий же Яковлевич прислонил тросточку к стене, снял пальтецо, которое вручил ближайшему полицейскому, благо, был тот хоть и бледен, но на ногах держался.
— Вот оно как…
Ступал он по черной засохшей корке, прислушиваясь к дому.
Гнев.
И клубок застарелых обид, точно пьявок в банке… пьявки тоже имелись, что сушеные, частью растертые, что живые, толстые. Последние извивались в склянках, точно ласкаясь друг к другу. И полицейский, взгляд которого упал на банку, сглотнул. Побледнел.
— Иди, — махнул Аврелий Яковлевич.
И закрыл глаза.
Пустота.
Боль чужая… удивление… но обиды… обиды не исчезли, они сидели в стене, что казалась сплошною… казалась… пальцы Аврелия Яковлевича медленно двинулись вдоль гладкое доски, и та щелкнула, отошла в сторону.
Тайник.
Простенький, из тех, которые сооружает местечковый столяр за двойную, а то и тройную цену. И берет не столько за работу, сколько за ненадежную гарантию собственного молчания.
В тайнике сидели волосяные куколки.
— А это еще что за дрянь? — Евстафий Елисеевич, который, хоть и не ушел, но держался в стороночке, тихо, с пониманием, подался вперед. — Извини.
Он смутился, потому как прежде не имел обыкновения вмешиваться в чужую работу.
— Ничего, — Аврелий Яковлевич потыкал в ближайшую куколку пальцем. — Это подменышы. Старая волшба, я уж думал, что этаких мастериц и не осталось.
Куколки были простыми.
Тельце — палка с поперечиной — руками, обмотанное суровой нитью. Платьице из лоскута шитое. Голова — шар с бусинами — глазами, да волосы конские. У кого светлые, у кого темные. В косу ли заплетенные, прямые, курчавые…
— Прядильщица, значится, — Аврелий Яковлевич куколку взял бережно, потому как умел чужую работу по достоинству оценить. И даже жаль стало, что убиенная почила, прервав и эту нить. Пусть бы волшба ее была дурного свойства, но… утраченное знание печалило. — Видишь.
Он протянул куколку воеводе, и тому пришлось войти. Ступал Евстафий Елисеевич по стеночке, стараясь не задеть темные кровавые пятна, и пусть бы отсняли все в избушке, да опыт подсказывал, что порою этого мало.
Нельзя тревожить подобные места.
— Это не только конский волос, — куколку в руки взять Аврелий Яковлевич не позволил. — Она делается на человека. И хоть проста, да должна быть подобна на хозяйку. Потому и разные они. Высокие. Низкие. Толстые. Худые… и глаза подбираются по цвету. А в конский волос и собственные, жертвы, могут впрясть… платье — из старой одежды шьют, непременно, чтоб ношеной.
Куколка лежала тихо, безмолвно.
— И что потом?
— А потом… всякое… можно и оберег сотворить, к примеру, взять с человека живого болезнь да перевести на куколку. Говорят, находились умелицы, которые так и родильную горячку отводили, и лихоманку… да и мало ли что. А можно и наоборот. Вот возьмешь иглу, воткнешь в голову, и будет человек мучится, страдать… или в сердце… или в печень. Ежели в огонь кинуть, то сгорит и хозяйка. Утопить — утонет…
— Она…
— Не лечила, — Аврелий Яковлевич поставила куколку на место. — Однако ж не убивала. Куколки целые… думаю, ей просто нравилось соседей мучить.
— И что теперь?
— Надобно их отпустить. Займусь, но после… а тут… — он огляделся.
Простой домишко, небогатый.
А ведь толковая прядильщица могла иметь приличный доход, да видно деньги вовсе были ей безынтересны. Вспомнилось лицо покойницы, пожелтевшее, оплывшее, будто бы вылепленное из дрянного воску. И перекошенное гримасой страха, лицо это было уродливо, сохранило черты брезгливого недовольства, что жизнью, что всеми, кто в этакой жизни встречается.
И все ж жаль…
— Убил тот же? — тихо поинтересовался Евстафий Елисеевич, которого сия история волновала исключительно в одном разрезе.
— А то… думаю, тот же… отчет к вечеру напишу…
Познаньский воевода кивнул и вздохнул, отмахнулся от особо жирной наглой мухи, которая вилась над лысиною, да тихо произнес:
— Когда ж это все закончится…
Скоро.
Она не любит долго ждать.
Но Аврелий Яковлевич, вернувши куколку на место, промолчал. Он вышел из избушки и рванул платок, который поутру завязывал тщательно, новомодным узким узлом.
Дышать стало легче.
Он и дышал, городским терпким духом, в котором мешались, что ароматы зацветающих лип, что сладковатые дымы местной пекарни, теплота камня и железа…
— Дяденька, дяденька, — дернули за рукав, сбивая с некой, несомненно, важной мысли.
Аврелий Яковлевич обернулся к мальчишке.
Обыкновенный. Из небогатых, однако же не совсем и оборванец. Щуплый. Долговязый. С хитроватыми глазами да ломаным носом. Из местных, слободских, наверняка. И нос сломал в уличной драке, что вспыхивают штоденно.
— Дяденька, а вы ведьмаком будете? — поинтересовался мальчишка.
— Я буду.
Аврелий Яковлевич оценил и драные ботинки его, подвязанные к ноге веревочками, чтоб не спадали. Наверняка, в носки паренек напихал газет иль ветоши. Штаны пузырились, а клетчатый пиджак с латкой на груди был столь велик, что полы его свисали ниже колен.
— А точно ведьмак?
— Тебя проклясть?
Паренек скрутил кукиш.
— Не, дяденька. Не проклясть. С вас два медня.
— Это за что?
— А она сказала, что дадитя…
Аврелий Яковлевич кинул сребень, который паренек подхватил на лету, куснул и торопливо сунул за щеку. Так оно верней.
— Спасибо, дяденька. Вот. Вам передать велено.
Он сунул букетик потрепанных маргариток, взглядом мазнул куда‑то влево — Аврелий Яковлевич тоже глянул, но ничегошеньки не заприметил — и зашептал:
— А ежели вам в охотку дознаться, кто старуху заприбивши, то сыщите Васятку кривоглазого… он тою ночью туточки был.
Мальчишка отпрянул, попытался, однако Аврелий Яковлевич был быстрей.
— Цветы откуда.
— Дамочка дала.
— Какая?
— Красивая, страсть, — паренек обвис и захныкал: — Дядечка ведьмак, отпуститя… вот вам крест, ничегошеньки не ведаю…
— Опиши.
— Не ученый я писать… мамка померла, папка пьеть… сестрички малые на руках… плачут, хлебушка просют…
— Не лги, — Аврелий Яковлевич сунул маргаритки в карман и отвесил пареньку затрещину. — Живы у тебя и отец, и мать. А сестер и вовсе нет. Брат старший.
Парень насупился.
— Рассказывай.
— Так а чего сказывать? Сижу я, значится… с ящиком своим спозаранку так и вышел, а Микифка, который сапожник, нажрался. Скот скотом. И начал орать, что, я, де, своею рожею клиента пугаю. Я‑то не пугаю. Я‑то сапоги чищу! И любые так отчистить могу, что солнышко в них, як в луже будеть… ну я и пошел, с Микифкой‑то чего лаяться? Он же ж здоровый, падлюка. Такой дасть разок, так весь дух и вышибеть. Присел у ворот, а люди ходют — ходют, спешают все. И никому‑то сапогов чистить не надобно. Обидно.
От обиды и жизненной несправедливости он и носом шмыгнул прежалостливо. Но Аврелий Яковлевич, будучи человеком не столько черствым, сколько имевшим немалый опыт общения с дворовым пацаньем, не расчувствовался.
И вновь тряхнул.
— А вы, дядечка ведьмак, и вправду зачаровать любого — любого способный? А дайте мне амулету, чтоб из Микифки жабу сотворить? Ото потеха будет!
— Я из тебя сейчас жабу сотворю.
— А у вас на то ордеру нету. Без ордеру людей в жабов превращать неможно!
— Экий ты у нас правосознательный, — восхитился Аврелий Яковлевич. — А сам‑то что?
— Так Микифка — он же ж не человек. Гном. А папка кажеть, что от гномов все беды. Понаехали тут…
Вторая затрещина, отвешенная вразумления ради, вернула паренька к исходной теме.
— Сижу… горюю… а тут панночка одна подплывает… из чистеньких, небось, благороженная…
— Благородная.
— Агась, я так и кажу! У нее на роже написано, что из этих, которые там живуть… и говорит, мол, хочешь деньгу заработать? А я что? Кто ж не хочет? Я ведь не запросто так… я учиться пойду в университету. И законы все выучу.
— Похвально.
— А то… выучу и найду такой, чтоб всю нелюдь из городу выслать, — с немалой гордостью в голосе паренек завершил рассказ о нехитрой своей мечте. — Она мне злотень кинула. Сказала. Купишь, мол, маргаритков белых… пойдешь от сюда и отдашь ведьмаку, который с бородою…
Паренек засопел.
— И испросишь с него за то деньгу, — добавил он решительно.
— Врешь, — Аврелий Яковлевич жертву отпускать не велел.
— Вот те крест, дяденька ведьмак! — паренек широко, истово перекрестился, сразу стало понятно, что этак клясться ему не впервой.
— Какая она была?
— Красивая.
— Высокая? Низкая? Волос светлый или темный? Лицо округлое? Квадратное? Глаза?
— Да не глядел я! Нормальная была! Ежели б кривая или косая, я б запомнил. А туточки… Волос вроде темный… а может и нет… и не знаю! — он завыл, задергался.
— Тихо, — прикрикнул Аврелий Яковлевич, уже понимая, что большего не добьется. — Теперь про приятеля своего рассказывай.
— Так… побьет же…
— Ничего. Тебе не впервой. Откуда ты знаешь, что он чего‑то там видел?
Паренек всхлипнул и, завидев кого‑то, завертелся, норовя выскользнуть из пиджака.
— Дяденька! Дяденька! Пожалейтя! Не допуститя полицейского произволу… схватили на улице… без ордеру… держать, допросу ведуть… а я, за между прочим, дите горькое… от мамки с папкой в первый раз ушел…
Голос его громкий, визгливый, разносился по улице.
— Цыц, — прикрикнул Аврелий Яковлевич. — Вот, Евстафий Елисеевич, свидетеля вам нашел. Утверждает, что будто бы видел, что ночью творилось…
— Так не я! — взвыл паренек. — Не я видел! Васятка… его черед был!
— Для чего?
Свидетель Евстафию Елисеевичу доверия не внушал, ибо был тощ и плутоват, что кот бродячий. И актерствовать пытался, а значится, соврет — недорого возьмет.
— Тут же ж колдовка жила… всамделишняя! Мы и ходили… кто не ссыт, тот ходил в окна заглядывать… ночью‑то… я вот глядел, но давно ужо… а Васятке третьего дня приспичило… ну как, приспичило, проигрался он на желание. А все знали, что Васятка только на словах храбрый, а сам — ссыкло знатное. Вот ему и поставили, чтоб он, значится, сюда пошел и всю ночь колдовку сторожил.
Паренек успокоился.
— А Миха с Шустрым ужо за Васяткой глядели, чтоб он не мухлевал. Будет знать, как языком чесать… думает, что, ежель у него тятька лавочник, то и гоголем ходить можно… тьфу…
— Стоп, — Евстафий Елисеевич подал знак, и Старик свидетеля поставил. — Значит, твой Васятка следил за домом?
— Пацаны казали, что шел, трясся, что хвост заячий… к окнам самым и забрался… после, значится, в окно заглянул и брыкнулся, как девка… — паренек мазнул ладонью по носу и с сожалением добавил. — От я бы все увидел… а это… они казали, что как Васька брыкнулся, так из дома волкодлак вышел. Здоровущий! Косматый весь… в кровище… и с хвостом… ну, потянул носом, но видать решил, что Васятка дохлый, потому и жрать не стал. А тот обмочился! Ну, пацаны сказали, что обмочился.
Паренек сплюнул меж дыру в зубах.
— Они и сами попряталися, небось…
— Что дальше было? — почему‑то Аврелий Яковлевич был уверен, что на этом история ночного похождения не завершена.
— Ну… они забоялися выходить, а то вдруг тварюка туточки где схоронилась? А после‑то к дому дамочка пришла.
— Какая?
— А я почем ведаю? Васятка божится, что красивая… он ее через окошко углядел… ну, как очухался. Ну, значится, она приехала… а после мужик на коне прискакал. Злой, как… ну и в дом… и Васятко говорил, будто бы он на эту дамочку кричал, она ж смеялася только… потом с шеи чегой‑то сдернула и мужик в волка обратился. Здоровущего такого… вот.
Паренек вздохнул и с немалым сожалением добавил:
— Меня тятька запер… я б вам все красивей рассказал, когда б сам… а он… эх…
Аврелий Яковлевич только хмыкнул.
Вот оно как складывается…
Удачно.
Подозрительно удачно.
Кому и когда впервые пришла мысль о том, что служение богам требует отказа от мира, Евдокия не знала. Ей самой сия мысль казалась донельзя нелепою, и в том же виделась крамола, пусть людям неявная, однако тем, кто стоит выше людей, незримым и вездесущим, очевидная. И Евдокии было стыдно и за мысли, и за неумение переменить их, а значится, и себя, и стыдом движимая, она опустила в жертвенную чашу пару злостней.
Пускай.
Глядишь, и вправду на доброе дело пойдут.
Молчаливая монахиня в белой схиме одобрительно качнула головой, и осенив себя крестом, поклонилась Иржене — Милосердной.
Икона была старой, потускневшей от возраста. Лак пошел трещинами, и казалось, что сам пресветлый Ирженин лик прорезали морщины.
— Меня ждут, — Евдокия отвела взгляд, уж больно яркими были глаза рисованной богини. Виделся в них упрек.
Пускай.
Есть люди, которым близок сей путь? Евдокия не понимает их, но им самим она со своей страстью к мирскому, тоже непонятна. Однако это же не повод для вражды?
Обитель сестер — милосердниц располагалась в старинном особняке, более похожем на крепость… Крепостью он и был, выстроенный в незапамятные времена, когда сам Познаньск был махоньким городишкой на берегу Вислянки. Крепостью и остался, пусть бы и давно уже вошел, и в границы Познаньску, и в самое его сердце.
От тех давних времен остались темные стены, сложенные из речного камня, украшенные камнем же, но разноцветным, грубо обтесанным, уложенным крестами да кругами. И стены эти были толсты, надежны. Выдержали они и войны, и бури, и даже Великий пал, изничтоживший некогда половину города, правда, поговаривали, что пошло сие Познаньску исключительно на пользу…
Стены дышали сыростью.
И сквозь толстый слой штукатурки, через тонкие покровы гобеленов, естественно, с сюжетами весьма душеспасительными, чувствовалась древность дома, усталость его. И смиренная готовность и далее служить своим обитательницам.
Беззвучно ступала сестра, будто бы и не человек, но тень белая.
И тени же встречая, раскланивалась.
Евдокии будто бы и не видели, она сама вдруг испытала престранное чувство собственного небытия, когда, кажется, еще немного, и сотрется она, купеческая дочь, из мирской жизни, истает призраком, дабы воплотиться в одну из этих вот теней.
Страшно стало.
А ну как обманул драгоценный родственник… и сердце замершее было, заколотилось, затрепыхалось… сбежать?
Куда бежать?
Евдокия вдруг осознала, что не помнит обратной дороги, а дом, древний дом, лишь посмеется. Он ведь жил в те времена, когда монахинями становились не только по собственному почину…
Провожатая же остановилась перед полукруглою дверцей.
Ручка клепаная. Замок древний, с зубчиком. Евдокия подобные в избах видела. Надобно надавить на язычок, поддевая засов, и тогда откроется… но дозволено ли ей будет открыть?
Переступить порог…
— Прошу, — прошелестела монахиня. — Вас ждут.
И Евдокия решилась.
В конце концов, револьвер с нею…
Мать — настоятельница была невысока и округла, чего не способны были скрыть просторные белые одежды. На груди ее возлежал стальной крест, заключенный в круг, символ единства и родства, а заодно уж обета бедности, каковой давали монахини.
— Добрый день, — Евдокия присела в реверансе. — Безмерно рада, что у вас нашлось для меня время…
— Матушка Анатолия, — подсказала настоятельница и крест протянула.
А не так уж он и прост.
Стальной? Пожалуй. Но вот каменьями украшен крупными, красными, и навряд ли, из стекла дутыми. Скорее уж похожи они на рубины, правда, не граненые, а шлифованные, что удивительно…
— В вас много мирского, — покачала головой матушка Анатолия, и Евдокия опомнилась: крест следовало бы поцеловать, а не разглядывать.
— Извините.
— Ничего… присаживайтесь. Чаю? Сестра Августа сама чаи составляет… удивительно вкусные…
— Пожалуй.
Матушка потянулась к колокольчику. А Евдокия огляделась, с удивлением отметив, что комната, в которой ее принимали, донельзя похожа на собственный, Евдокиин, кабинет.
Проста.
Светла.
Удобна. И стол новый, с множеством ящичков… знакомое клеймо на бронзовой табличке, а значится, минимум два ящичка потайных, а если по специальному заказу изготовленный, то и поболе… секретер в углу… картоньер. И столик с десятком чернильниц. Бархатная лента с перьями разной толщины. Бумага нарезанная… но больше всего поразил Евдокию телефонный аппарат, скромненько в углу притаившийся.
— Мы стараемся идти в ногу со временем, — с усмешкой произнесла матушка Анатолия, которая втайне мнила себя женщиною прогрессивной, отчего и страдала, поелику орден ее вовсе не испытывал любви ни к прогрессу, ни к самой матушке Анатолии. И если бы не родственные ея связи, весьма и весьма полезные, ибо только наивный человек полагает, что дела мирские со светскими столь уж разнятся, выжили б ее из Познаньску…
— Удивлена, — призналась Евдокия.
Чай подали быстро, все ж таки, невзирая на некие внутренние разногласия, каковые имелись в любом ордене, матушка Анатолия умудрялась управлять собственною небольшой общиной жестко.
Ее опасались.
И все же любили, поелику была она женщиной, пусть и строгой, но справедливой.
— Что ж, скажу, что сие взаимно, — матушка Анатолия приняла чашку с изображением святой Анатолии, своей покровительницы. — Ваше письмо… несколько меня удивило.
— Только удивило?
— Возмутило.
Евдокии досталась чашка со святою Евдокией, которая глядела строго, с укоризной. Святая была полновата, круглолица и неуловимо напоминала матушку — настоятельницу, правда, у святой доказательством ея святости имелся нимб, а у матушки — только клобук скучного мышиного цвета.
— Вам нравится чашка? — поинтересовалась матушка Анатолия, которая не спешила заговаривать о деле, но разглядывала девицу, пытаясь понять, что же ей понадобилось.
Нет, цель свою девица изложила подробно, но…
Жаловаться будет?
Нехорошо, если так… жалобы матушке Анатолии во вред пойдут… небось, вражини ее, что метят на теплое местечко в Познаньской общине, только и ждут повода, чтобы выступить единым фронтом… разведут разговоры, что, дескать, со своею неуемною страстью к реформированию, матушка Анатолия рушит основы… а те основы сами вот — вот рухнут.
И все, кто брюзжит, уразуметь не способны, что минули времена, когда орден был богат… это вон, золотокольцые с каждою послушницей сотни тысяч злотней получают. А к молчаливым сестром кто идет? Вот то‑то и оно… и хорошо, что идут еще… и прихожане норовят отблагодарить словом добрым, не думая, что одним им сыт не будешь.
Нет, иначе надобно дела вести… и матушка Анатолия точно знает, как.
— Хороша, — осторожно заметила Евдокия, пусть чашка сия была обыкновенна. Пусть фарфор, но не высшего качества.
— Святая Евдокия… ручная роспись… наши ученицы старались… рисуют по трафаретам. Весьма богоугодное занятие.
И доходное, поелику расписанные святыми чашки уходили с немалой прибылью, каковая и являлась лучшим аргументам во внутриепархиальных прениях.
— Любопытно.
Евдокия идею оценила.
— И дорого берете?
— Полтора сребня.
Чашка стоила от силы треть названной матушкою суммы… а ведь орден королевской милостью от налогов избавлен… и за аренду, небось, платить нужды нет, ежели лавочку при храме открыть… а посадить в нее монашку почтенного возрасту, которая с иною работой уже сил не имеет управиться…
— Мы о благе ордена радеем, — матушке Анатолии мысли гостьи были понятны, более того, сии мысли она сама не единожды облекала в слова, составляя очередной прожект. К сожалению, резоны матушки Анатолии, как и прожекты ее, оставались непонятны для епархиальных властей.
— Весьма похвально… о развитии думали?
Матушка Анатолия кивнула.
Думала.
Как не думать. И в мыслях ее дело за расписными чашками не стало… трафаретные святые, признаться, выходили какими‑то донельзя однообразными. Но ежели мастеров нанимать, то оно дорого станет… разве что делать другую линию, из дорогого фарфору…
В прожектах матушки Анатолии были и такие, и целые наборы посуды, расписанные сценами из жития святых… и детская посуда, и вдовьи наборы, весьма строгих узоров… и не только посуда.
Скажем, самовары.
Аль сумочки и шляпки по храмовой моде. Иль веера вот… небось, в храм‑то с веерами в птицах да каменьях являться неможно, а вот со святою так очень даже благочестиво выйдет…
— И реклама, — произнесли женщины, переглянувшись.
Оно верно, в нынешнем мире без рекламы никак неможно.
— Газету мыслим выпускать, — поделилась матушка Анатолия, которая прониклась к купчихе почти симпатией: все ж редко ей случалось отыскать благодарную слушательницу. — Орденский вестник… бесплатно…
— Медень, — у Евдокии на сей счет имелось свое мнение. — Сумма невеликая, однако ж люди не склонны ценить то, что бесплатно получают. А ежели с цветной печатью, скажем, праздничные номера, то и два… главное, чтоб вести не только орденскими были. Это мало кому интересно, уж извините.
— Верно… думаю, молитвы на всякие случаи жизни… благочестивые советы о домоводстве… воспитании детей… семейной жизни. Еще рецепты из святых книг.
— А в святых книгах рецепты есть?
— В святых книгах есть все! — и матушка пригубила чай. — Но вы правы… орденская кухня — звучит более… сообразно нынешней политике.
Сия политика у матушки немало крови попила.
— Тогда уж староорденская… скажем, тайные рецепты монастырской кухни… два медня. И десять за выпуск… а за рекламу — отдельно брать станете. Несомненно, станете… интересный прожект. Многообещающий…
— Увы, не все это разумеют, — матушка Анатолия тяжко вздохнула. — У меня довольно… тех, кто, скажем так, не желает мне добра… и сделает многое, чтобы остановить…
— Насколько многое?
Евдокия чай попробовала: травяной, сладковатый, он был хорош.
Мята?
Определенно. Еще чабрец. И нечто кроме, незнакомое, оставляющее горьковатое послевкусие… а запах — шоколада.
Главное, чтоб отравы не подлили.
— Полагаю, происшествие, о котором вы мне написали… к моему величайшему прискорбию, вынуждена признать, что не имею представления, кто сыграл с вами сию злую шутку.
— Смешно мне не было.
— Как и мне не было бы смешно, когда сия история выплыла бы на свет божий, — матушка Анатолия благочестиво перекрестилась.
Евдокия молчала.
Разглядывала чашку, саму матушку, которая тоже не спешила заговаривать, явно раздумывая о высоком, но навряд ли — божественном.
— В наши просвещенные времена… — матушка Анатолия частенько начинала речи с этих слов, а потому ныне они сами вольно слетели с языка. — Недопустима сама мысль о том… чтобы неволить кого бы то ни было к служению… да, мы не отрицаем, что в истории нашего ордена… не только нашего ордена!
Сделав сие, несомненно, важное замечание, матушка Анатолия отставила кружечку и святую свою покровительницу повернула к Евдокии.
— В истории всех орденов имеются темные страницы. Люди слабы. И только Боги безгрешны… однако политика принуждения осталась в прошлом. Двери наши открыты для страждущих, мы рады пополнить ряды сестер, буде таково желание…
Желания пополнять ряды Евдокия не изъявила, напротив, заерзала в жестком кресле и в ридикюльчик вцепилась.
— Но коль желания нет… — матушка развела руками. — Случившееся с вами бросает тень не только на меня, но и на весь орден молчаливых сестер…
О себе, положа руку на сердце, матушка беспокоилась куда сильней. Что орден? Он существовал не один век, и еще столько же протянет, в отличие от самой матушки, каковая, помимо греха гордыни и честолюбия страдала тако же язвой, подагрой и иными, не самыми приятными заболеваниями, каковые могли бы послужить вескою причиной отставки.
— Я уверена, — куда жестче произнесла она, потому как призрак отдаленного тихого монастыря вдруг сделался явен, осязаем. — Что произошедшее с вами не имеет к нашему ордену отношения. Кто‑то… богохульно использовал одеяния… их продают вольно…
Мысль показалась на диво логичной.
Спасительной даже.
Матушка Анатолия ведь не может нести ответственность за то, что кто‑то принарядился монахиней ордена… монахинями.
— Что ж, — Евдокия погладила ридикюль. — Я уверена, мы можем точно это установить.
— Как?
— Я запомнила лица тех монахинь… и если вы позволите…
Позволять не хотелось, потому как, вдруг да и опознает кого… и скандалу учинит, замять который будет куда сложней, нежели нынешний.
Евдокия, по поджатым губам, которые стали узенькими, бледненькими, догадалась, что матушка Анатолия вовсе не расположена к процедуре опознания, и потому тихо произнесла:
— Вы же не хотите, чтобы сия история выплыла?
— Если вы собираетесь судиться… — по мнению матушки Анатолии судиться с орденом было не только грешно, но и бесперспективно, поелику орденские законники не зря хлеб ели.
— Ну что вы… как можно судится… я лишь расскажу свою историю… — из ридикюля Евдокия вытащила не пистолет, но шелковый платочек, которым промокнула несуществующую слезинку. — Во предупреждение… а то кто знает? Вдруг эти разбойники… разбойницы, — поправилась она, — возжелают еще кого умыкнуть? Мой гражданский долг состоит в том, чтобы упредить невинных дев, которые могут стать жертвами…
Платочек коснулся другой щеки. А святая Анатолия посмурнела, нимб и тот будто бы поблек.
— Вы только представьте, матушка Анатолия, — Евдокия подалась вперед. — А если они, прикрываясь вашим орденом, учинят еще какое непотребство?
Матушка Анатолия представила, благо, воображением обладала живым, как по мнению епархиального начальства, чересчур уж живым и оному начальству причиняющим одни неудобства. Представила она не столько те самые, существующие исключительно в теории, непотребства — матушка Анатолия пребывала в уверенности, что случившееся с купчихой есть результат ее собственных проблем — сколько величину скандала.
Смежив очи, матушка Анатолия явственно узрела заголовки газет.
И услышала тихий, преисполненный ложного сочувствия голос старшего жреца… конечно, тот не станет упрекать явно, но сошлет… и думать нечего, сошлет. А мастерскую с кружками иль закроет, иль собственному ордену передаст.
Невзирая на высокую духовность, старший жрец не был чужд мирского.
— И чего же вы хотите?
— Убедиться, что среди ваших сестер тех женщин нет, — жестко произнесла Евдокия. — А если вдруг… если вдруг они есть, то я хочу расспросить их.
Евдокия встала.
— Мне не нужны ни скандалы, ни компенсация, которую я, как вы понимаете, могла бы стребовать. Я лишь хочу узнать, кто заставил их поступить подобным образом… быть может, ваших сестер околдовали? Или подкупили… обманули… мне нужна правда и только.
Матушка Анатолия вздохнула: к искателям правды она относилась с превеликим сочувствием, поелику немалый жизненный опыт ее свидетельствовал, что не всякая правда — во благо.
— Хорошо.
Матушка Анатолия тоже поднялась и поманила за собой.
— В нашей общине двадцать две сестры и семеро послушниц. Есть еще ученицы, но они совсем молоденькие девочки… мы привечаем сирот… у нас не приют, скорее уж классы с проживанием. Мы даем крови и еду, учим их…
Невзирая на возраст, матушка Анатолия двигалась легко, порывисто.
— Те женщины… были в возрасте.
— Значит, не послушницы и точно не ученицы… — матушка Анатолия вывела через другую дверь, и Евдокия оказалась в узеньком, как боком пройти, коридорчике, который вывел к лестнице. Крутые ступеньки вились, поднимая к вершине единственной башни.
— Здесь, — матушка Анатолия сняла связку ключей и, не глядя, отыскала нужный, — комнаты нашей памяти… некогда тут была дозорная башня. Дважды молчаливые сестры упреждали город о набегах… семь раз держали осаду… единожды сдались… и вот имена тех, кто своей жизнью купил иные.
Она поклонилась простой каменной таблице с десятком имен.
И Евдокия почтительно склонила голову, пусть и вера ее была странна, отлична от той, которую полагали истинной, но перед этими женщинами, о которых она до нынешнего дня и не слышала, Евдокия чувствовала себя обязанной.
— С того и пошел обычай… имена сестер вносились в списки…
Комнат было несколько.
И стены первой были сплошь выложены мрамором. А на мраморе — вытесаны имена, множество имен, да и те не мирские.
— Конечно, мы и книги ведем… в книгах можно прочесть о деяниях каждой… случается, что родственники просят выписки для семейных архивов.
В следующей комнате мрамор сменился гранитом, а рядом с именами появились кресты. Большие и маленькие, простенькие, железные, порою тронутые ржавчиной, и серебряные, потемневшие от времени. Редко — золотые аль медные, покрытые патиной.
— Это лет триста как стали делать. Нательный крест… прежде‑то его ученицам передавали, а теперь вот сюда…
Имен множество.
И Евдокии меж них неудобно, будто бы самим своим нежеланием вступить в орден, она предала всех этих женщин.
— А здесь уже наш век… поглядите.
Имена.
И снимки. Иные старые, поблекшие, которые делали еще на первых фотографических пластинах. А вот и поновей, желто — бурые…
— Вам сюда. При вступлении в орден делают снимок каждой сестры. И сюда отправляют копию, — матушка Анатолия коснулась своего, на котором она была много моложе, ярче. И сама себе казалась наивною… вспыхнуло острое сожаление: а что было бы, поддайся она на батюшкины уговоры?
Нашла бы иного мужа?
Несомненно. Глядишь, и детей бы народила, зарастила душевную рану…
И тут же стало стыдно: есть у нее дети, великое множество, что сестер, что послушниц, что учениц, которым она, матушка Анатолия, надобна куда как больше, нежели кровным своим родичам. В том ее путь.
В том ее счастье.
— Смотрите… вот все сестры, — она отступила, позволяя Евдокии подойти ближе, нисколько не сомневаясь, что та не отыщет никого знакомого.
— Вот, — Евдокия коснулась не снимка, но выбитого в камне имени. — Сестра Салофия…
Взгляд ее скользнул ниже.
— И сестра Ольва…
— Вы уверены?
Евдокия кивнула. Она уверена. Пусть женщины на снимках были моложе, но… сложно ошибиться. У сестры Салофии очень запоминающееся лицо, квадратное, с грубыми чертами, с глазами навыкате, с крупным, кривоватым носом, на котором ко всему метка родимого пятна.
— Быть того не может, — матушка Анатолия подошла ближе.
— Ко мне приходили именно они.
Евдокия не собиралась устраивать скандал.
Не то место.
И не тот человек ее слушает, да и не привыкла Евдокия скандалами проблемы решать.
Матушка Анатолия подошла к стене и, взяв Евдокию за руку, заставила коснуться холодного камня.
— Две даты, — пояснила она. — Видите? Первая — пострига… вторая…
— Смерти.
— Именно. И теперь вы понимаете, что ни сестра Салофия, ни сестра Ольва не могли быть виновны в том… в том происшествии, — матушка все ж запнулась.
— Но я уверена…
Дата пострига.
Дата смерти. И десяти лет не прошло… это ведь рано…
— Они служили здесь?
— Не служили, — матушка Анатолий позволила себе улыбку, печальную, преисполненную снисхождения ко всему мирскому с его с понятиями. — Несли послушание. И да, в Познаньске… в лечебнице…
— И умерли в один день.
Не было в том ничего романтичного, скорее страшное, потому как на снимке сестра Ольва была молода. Улыбалась. И наверняка собиралась прожить долгую и благочестивую жизнь, а тут… умерла.
В Познаньске.
— От чего? — спросила Евдокия.
— Черная горячка, — после минутного размышления матушка — настоятельница сочла возможным ответить и на этот вопрос.
— Черная горячка сейчас?!
Матушка Анатолия вздохнула.
— Сейчас. И в Познаньске… и понимаю ваше удивление, однако… средь бедняков встречается и черная горячка, и красносыпка, и холера… я уж не говорю про такие обыкновенные болезни, как тиф или дифтерия. Века ныне просвещенные, да только свет этот не до всех кварталов доходит.
— Мне жаль.
— Сестры умирают часто, но… они знают, на что идут. Наш орден издревле посвящал себя служению не только богам, но и людям… и те чашки, многие смеются, говорят, что я ударилась в грех стяжательства, однако… мы строим лечебницу, чтобы люди, неимущие люди, которые оставлены наедине со своими бедами, могли прийти и получить помощь. А на такое жертвуют куда менее охотно, нежели на новые храмы… на храме таблички с именами жертвователей смотрятся куда как лучше, нежели на больницах для нищих…
Матушка Анатолия перекрестилась.
— Мне жаль ваших сестер, — упрямо повторила Евдокия, — но я уверена, что ко мне приходили они… и черная горячка — это далеко не дифтерия. Не бывает она на пустом месте.
Она еще раз провела пальцам по датам.
— Умерли недавно… и похоронены?
— Нет.
Матушке Анатолии нынешний разговор был весьма не по нраву, как и упрямство гостьи, для которой, кажется, не было ничего святого.
Однако скандал грозился выйти знатным… и была бы гостья простого роду, матушка Анатолия свернула бы сию, неудобственную беседу, воспользовавшись правом своим выставить излишне любопытную особу за дверь… но ведь купчиха, первой гильдии… и княжна ко всему, что вовсе немыслимо. В ее, матушки Анатолии, голове не укладывается этакое соседство.
В ее‑то памяти было либо так, либо этак, а чтобы все сразу…
— Я лишь пытаюсь разобраться, — тихо произнесла Евдокия. — И мне не хочется… чтобы в этом деле разбиралась полиция.
Полиции матушка Анатолия не особо опасалась, а вот иных знакомых, каковые у девицы этой, глядящей прямо, строго, наверняка множество, опасалась и весьма.
— Сестер хоронят в исконной обители, — ответила она, осенив себя крестом, скорее уж по привычке, нежели и вправду надеясь, что боги силою своей прекратят дознание. — Где бы ни умерли они, тела стараются доставлять в Лядовицкую обитель. И там уже сестры находят свой покой.
— А до того?
— Лежат на леднике, — поморщившись, добавила матушка Анатолия. Ее вовсе не радовала этакая необходимость. Ледник в старом здании был узким, неудобным, и его с трудом хватало на продукты, а тут тела… и пришлось продукты переносить к вящему неудовольствию сестры — хозяйки, особы крайне скверного норову, но весьма ответственной.
Матушка Анатолия понимала ее возмущение: молоко вне ледника кисло, сыры плесневели, а рыба быстро тухла. Сии непредвиденные убытки ударяли по орденскому кошельку, который и без того был скорее наполовину пуст, нежели наполовину полон.
— Могу я…
— Для вас ничего святого нет!
— Есть, — возразила Евдокия. — Но я имею право знать… да и вы, думаю, не откажетесь. И если случится, что я ошибаюсь, то… полагаю, орденская казна не откажется от скромного пожертвования?
— Насколько скромного?
— Десять тысяч злотней.
— Пятнадцать.
— Матушка Анатолия!
— Исключительно на благие дела, — матушка вновь перекрестилась и, подняв тяжеленный крест, доставшийся ей вместе с обителью, поцеловала красные камни.
— Недешевы ныне благие дела, — богохульно заметила купчиха и не покраснела. — Но пускай будет пятнадцать… и право на скидку, если вдруг у меня появится желание разместить рекламу в вашей газете.
Матушка Анатолия задумалась. С одной стороны газеты еще не было, с другой…
— Вы же понимаете, что не всякий товар…
— Конечно понимаю, — величественно кивнула Евдокия. — Не стоит беспокоится, матушка Анатолия. Наши товары никоим образом не оскорбят чувств верующих…
Пришлось спускаться. Лестница все вилась и вилась, и с каждым ее витком крепло ощущение, что она, Евдокия, вот — вот доберется до центру земли или, что гораздо хуже, до Хельмовых владений.
Матушка Анатолия ступала бодро, рясу подняла, чтобы не измазать — мели здесь редко, то ли и вправду старый дом был слишком велик, чтобы прибираться в каждом уголке его, то ли, что куда более вероятно, Евдокию вели одной из тайных троп, знать о которых обыкновенным монахиням было не положено. Пахло пылью, плесенью и камнем.
Отсветы лампы ложились на древние стены, выхватывая куски то гранита, неровные, мясо — красные, и тогда Евдокии мерещилось, что находится она внутри диковинного зверя, то полуистлевшие деревянные балки, то крюки, в которых некогда крепили факелы.
И становилось не по себе от мысли, что лампа матушки Анатолии погаснет.
Темнота кралась по следу.
Евдокия чувствовала ее, недобрую, непростившую своего проигрыша.
— Порой это место наводит жуть, — призналась матушка Анатолия. Получив чек на пятнадцать тысяч злотней — самой Евдокии предстояло еще смириться с этакой потерей — она подобрела. — Сестры не любят спускаться… некогда подземелья использовались…
Она вздохнула, осознав, что сказала больше, нежели следовало:
— Колдовок тут держали. Ведьмаков. Дознания вели…
Дубовая дверь издала протяжный звук, и темнота сзади рассмеялась: ты же этого ждала, Евдокия? Страха… вот и есть.
Вновь коридор, на сей раз — меж тех самых камер. Темные двери с узкими оконцами. И мерещится, что не просто так сюда Евдокию привели… если запереть, то никто не узнает, куда она делать.
Чушь.
Себастьян знает.
И если Евдокия не вернется, искать будет… будто у него иных забот нет!
— Камеры пусты, — сказала матушка Анатолия и толкнула ближайшую дверь. — Гляньте сами.
Евдокия, переступив через собственный страх, заглянула. И вправду, нет ни узников, распятых на стене, ни безумцев, из которых собираются демонов изгонять… зато есть гора репы.
— Тут прохладненько. Хорошо репу хранить. И картоплю. Там вон, — матушка указала на следующую дверь. — Морковочка. Круглый год лежит, от урожая до урожая, и как новенькая.
Все же была она женщиною хозяйственной, чем немало гордилась.
— Уже недолго.
Она сама спешила, поскольку неприятно было оставаться внизу, чудились то стоны, то крики, то безумный смех. Нет, матушка Анатолия не верила в глупые россказни про призраков и невинные души… и крест, который сжимала в руке, давал смелости.
Просто… не любила она подземелий и все тут.
И оказавшись перед ледником — вспомнилось, что некогда здесь была допросная — она с облегчением посторонилась.
— Можете взять еще одну лампу, — матушка указала на полированную полочку, которую повесили по просьбе сестры — хозяйки. На полочке теснилось с полдюжины ламп, смазанных, заправленных хорошим маслом. Использовали их трижды в год, когда сестра — хозяйка проводила переучет запасов, а заодно уж и уборку.
— Спасибо.
Евдокия от предложения не отказалась.
Две лампы — лучше, чем одна.
Она открыла дверь сама и тут же отшатнулась от густого лилейного запаха. Ощутила его и матушка Анатолия.
— Что здесь… — она решительно шагнула к двери, оттеснив Евдокию. — Иржена милосердная…
Нет, обе покойницы были на месте, что, конечно, несказанно матушку Анатолию обрадовало, поскольку о смертях этих она уже и докладную записку составила, и распоряжения соответствующие, и оплатила доставку в Лядовицы… но вот вид, в котором пребывали сестры, донельзя ее поразил.
— Теперь вы мне верите? — тихо спросила Евдокия.
Женщины были мертвы.
И лежали на узких лавках, вытянув ноги, сложив руки на животе. Облик весьма благочинный, но вот… матушка Анатолия распрекрасно помнила, что сестер поместили в ледник нагими. Она присутствовала и при омовении, самолично читала молитвы, прося Иржену даровать мученицам легкое посмертие. Она и провожала их вниз, и укрывала саванами, здраво рассудив, что уже в Лядовицах покойниц переоденут сообразно обычаю.
Ныне же обе были облачены в обычные свои одежды.
И обуты.
И выглядели вовсе спящими. Даже характерные лиловые пятна на лицах исчезли. Того и гляди, дрогнут ресницы, и сестра Ольва рассмеется, скажет:
— Неужто вы, матушка, поверили, что мы и вправду померли? Ерунда какая… это шутка была!
Она любила шутить, и смеялась легко, порой не к месту, раздражая иных непоседливостью своей, легкостью нрава, вовсе неподходящей для скромной монахини… а сестра Салофия была серьезною, неторопливой. Уж она‑то не стала бы шутить.
И матушка Анатолия затворила дверь.
Накинула засов, а после и тоненькую петлю, из волос сплетенную.
— Что ж… дочь моя, — она глянула на купчиху ласково, и от этого взгляда Евдокия попятилась. — Теперь вы своими глазами убедились, что…
— Бросьте, — Евдокия позволила себе перебить матушку Анатолию. — Не говорите, что они мертвы. Не живы, это точно, но… нежить — дело полиции.
— Ордена.
— Полиции.
Матушка покачала головой:
— Орден разберется… орден знает, что делать.
И пусть бы новость сия не относилась к тем, которые называют благими, однако же при всем своем прогрессивном мышлении, матушка Анатолия была далека от мысли, что подобные новости следует выносить за пределы ордена. Ныне она кляла себя за слабость, податливость… самой следовало бы спуститься в ледник, убедиться воочию, что сестры… а теперь‑то как быть?
Нет, матушка Анатолия знала, что, поднявшись в свой кабинет, ныне видевшийся ей уютной пристанью, она снимет трубку и наберет номер, каковой следовало набирать в случаях, подобных нынешнему. И кратко изложит суть проблемы. А после созовет всех сестер в трапезной.
Для молитвы.
И там будет держать столько, сколько понадобится братьям из ордена Вотановой длани, дабы окончательно упокоить несчастных… а заодно уж проверить, нет ли на ком из сестер следа запрещенное волшбы. Матушка истово надеялась, что нет.
Вот только как быть с этой девицей, которая не станет молчать.
Запереть? Нет, не до скончания ее века человеческого, как то сделали бы лет триста тому, но до выяснения обстоятельств престранного этого дела. Матушка не сомневалась, что имеет оно к Евдокии самое непосредственное отношение.
И мысли ее были столь явны, что Евдокия сочла нужным предупредить:
— Меня будут искать. И найдут здесь. А когда найдут… будьте уверены, я устрою такой скандал, что…
— Прекратите, — матушка отмахнулась. — Я просто пытаюсь найти вариант, который устроит нас обеих… полиция здесь мне не нужна.
— Но если они…
— Орден сумеет справиться сам. Орден всегда справлялся сам с… подобными проблемами. Уж поверьте, никто не пострадает.
Евдокия кивнула и тихо спросила:
— Где они работали, когда… заболели?
Почему‑то сейчас, в подземелье ей было страшно говорить о болезни вслух, будто бы тьма, с интересом наблюдавшая за женщинами, только и ждала повода, чтобы навалиться душною периной, задавить, стереть саму память о неосторожных этих людях.
— Сальволецкий приют, — матушка Анатолия тоже ощутила неладное и крест свой сдавила, так, что острые края его впились в ладонь, пропороли.
Запахло кровью резко и сильно.
— Ох ты ж… — матушка Анатолия охнула не то от боли, не то от ужаса, потому как стена тьмы покачнулась, выпятилась множеством кривых лиц, будто бы те, что находились по иную сторону мира, вдруг обрели силы вырваться.
Она прижала руку ко рту, торопливо слизывая капли, страшась, что хоть одна из них упадет на землю, ибо этой малости хватит, чтобы стены не стало.
Призраки кричали.
Беззвучно, но от этого крика Евдокия цепенела.
Хотелось упасть на колени, распластаться на грязных камнях, закрыв уши, лишь бы не слышать, не видеть, не быть…
— Прочь, — жестко произнесла матушка, опомнившись. — Вы все, подите прочь!
Она высоко подняла крест, который вспыхнул темным пламенем.
Алым.
— Я… силой, данною мне… отпускаю вас… — каждое слово давалось матушке с трудом. И она покачнулась, упала бы, когда б не Евдокия, подставившая плечо. — Во имя Иржены милосердной… и именем же ее… покойтесь с миром.
Она подняла руку, и сложила пальцы в знаке благословения, хотя Евдокия не представляла себе, как можно благословит то, что металось по другую сторону мира.
Оно исходило бессильной яростью.
И распадалось на множество теней, донельзя похожих одна на другую, облаченных в обрывки тумана, будто бы савана. Тени тянули руки, плакали навзрыдно, умоляя об одном — поделиться теплом.
Хотя бы немного…
И память забрать. Боль. Страх.
Запах костра и пепел, которому в подземельях храмовых не место, но он все одно сыпался с низкого потолка, истаивая прежде, чем коснуться кожи.
Загудело, заплясало призрачное пламя, лизнуло каменные своды, на миг озарив их яркою вспышкой. Евдокия закрыла глаза, она почти потерялась в этой огненной метели.
Не сходя с места.
Не открыв рта. Она лишилась голоса, к счастью, поскольку иначе закричала бы от ужаса. А матушка Анатолия стояла, вцепившись в Евдокиину руку, и шептала слова молитвы.
С каждым голос ее звучал все громче, пока не заглушил призрачные стоны. И пламя утихло, легло на пол, а после в полу и исчезло, растворилось, оставив лишь леденящий ужас.
Матушка Анатолия дрожащею рукой сотворила Вотанов крест. Правда, крестить было некого, но… так легче.
— Идите с миром, — повторила она, покачнулась и не устояла. Евдокия помогла ей опуститься на пол, и сама села, не думая уже ни о том, что пол этот грязен, ни о том, что холоден.
Все стало как прежде.
Коридор.
Дверь в ледник. Засов вот искривился, разломился пополам, пусть и был сделан из отменного железа, а волосяная петля осталась неподвижной, удержав то, что теперь скреблось, скулило.
Не выберется.
Евдокии хотелось бы верить, что оно не выберется. А если вдруг, то она вспомнила о ридикюле, о пистолете…
— Бедные, — матушка Анатолия рукавом белого одеяния отерла кровь. — И после смерти покоя им нет.
И подняла руку, чтобы дверь перекрестить, да опустила.
— Вы их…
— Отпустила.
Стальной крест остыл.
И камни на нем выглядели обыкновенно, так, как и положено камням, пусть чистой воды, но не самой лучшей огранки.
— Думаю, что отпустила, — матушка Анатолия гладила крест, и камни отзывались на ее прикосновение. — Здесь проводили не одну службу… каждый год поминальную, а они вот все никак…
— Колдовки?
— И колдовки тоже… говорят, что в иные времена у каждого почти человека особый дар имелся. А потому любую и обвинить можно было.
Она вздохнула тяжко.
Поднялась.
— Орден был бы благодарен за понимание.
Евдокия кивнула. Спорить сил не осталось.
— Сальволецкий приют, — повторила она, словно опасаясь забыть столь важную информацию. — Сальволецкий приют панны Богуславы… она приходила с…
Осеклась.
А вдруг ошибка? Вдруг все иначе, и это сестры, точнее та, которая призвала Лихо, та, которая силой воли своей подняла монахинь, наделив их подобием жизни, вдруг именно она пришла и за Богуславой.
— Орден, — губы матушки Анатолии тронула слабая улыбка. — Разберется.
Богуслава злилась.
Злость была красной. И сладкой.
Злость требовала выхода.
И Богуслава искренне пыталась смирить ее, но…
— Не стоит, — сказало отражение в перевернутом зеркале. — Стоит ли отказывать себе в мелочах?
— Меня могут раскрыть.
— Тебя уже раскрыли, — отражение повело плечиком. Оно было столь прекрасно, что Богуслава замерла, любуясь им.
Собой?
Конечно, собой…
— О чем ты думала, заявляя на Себастьяна?
— Он мне мешает, — Богуслава провела пальцем по шее, такой белой, такой нежной. — Пусть его арестуют.
— Ты и вправду на это надеешься? Дурочка.
Волосы рыжие.
Зеленые глаза.
Яркие до невозможности, и Богуслава смотрится в них, смотрится, пока не остается ничего, кроме этих глаз.
— Они должны! — возражает она себе же и смеется, потому что со стороны этот спор выглядит преглупо. Но квартира ее пуста.
— Себастьян — его любимчик.
О ком она?
Ах, о том смешном толстяке… он глуп. Некрасив. Наверное, глупость ему можно простить, но не то, как выглядит он. Жалкий, жалкий человечек… такие не должны жить.
И собственная мысль донельзя порадовала Богуславу: конечно, как она сразу‑то не поняла? Все ее беды… да что ее? Все беды мира исключительно от некрасивых людей.
Зачем они живут?
— Познаньский воевода прекрасно знает, что Себастьян не способен на все то, в чем ты его обвинила, — отражение злилось, но Богуслава простила ему злость. Себе она готова была простить почти все. — Но теперь у него появились вопросы. И отнюдь не к Себастьяну. Думаешь, полицейский у твоей двери просто так поселился? Из большой к тебе любви?
Почему нет?
Богуслава красива, она только сейчас это осознала. А красота стоит и любви, и преданности… но полицейский тоже нехорош. Огромный, неповоротливый, что медведь, простоватый.
Места в мире занимает много, а толку‑то с него?
— Он тебя сторожит, — отражение улыбалось, и Богуслава улыбалась ему в ответ. — И ждет появления ведьмака.
— И что?
— А то, дорогая, что с ведьмаком тебе встречаться не с руки…
— Я уже встречалась. Раньше.
— Раньше, — согласилось отражение. — До того, как ты стала такой…
— Какой?
Отражение не ответила, но Богуславе ответ был не нужен. Конечно, она изменилась. Стала невероятно притягательной, и ведьмак поймет это.
Обвинит… в чем обвинит?
В чем‑нибудь. Красивым людям всегда завидуют…
— Прежде и вовсе на костер бы отправили, — заметило отражение и вздохнуло тяжко — тяжко.
Костер?
Богуслава не хотела, чтобы ее отправили на костер.
— Ты должна мне помочь!
— Я помогаю.
— Как?
— Разве ты не красива?
— Красива, — подумав, согласилась Богуслава.
— Пользуйся этим.
Правда, как именно следовало воспользоваться красотой, отражение не объяснило, оно вдруг сделалось блеклым, будто бы выцветшим. А по темной поверхности зеркала пошли трещины.
Они множились и множились, пока все стекло не осыпалось крупным жирным пеплом.
Мерзость какая!
И Богуслава, подняв юбки, отступила.
Ей нельзя испачкаться. Она слишком красива… правильно, слишком красива, чтобы умереть на костре. Но с ведьмаком ей не справится… или все же… ведьмака можно обмануть.
Уйти.
И сказать всем, что она, Богуслава, вернется всенепременно.
Именно так.
Пусть ждут. Она рассмеялась, счастливая от того, что так замечательно все придумала, и закружилась по комнате. Остановилась, вспомнив, что надобно спешить.
Огляделась.
Подхватила нож для бумаг, красивый, с рукоятью из слоновой кости, с острейшим клинком, в котором, почти как в зеркале, отражались зеленые глаза Богуславы.
— Извините, — она выглянула за дверь. — Можно вас… на минуточку?
Полицейский оглянулся, убеждаясь, что обращаются именно к нему.
— Мне… мне очень нужна ваша помощь, — Богуслава смотрела снизу вверх и столько было в глазах ее надежды, что Андрейка кивнул. Отчего ж не помочь панночке?
Евстафий Елисеевич, конечно, строго — настрого велел, чтоб Андрейка ни на шаг не отходил от дверей, так ведь для того, чтоб панночка не сбежала. А бежать она не собирается.
Вон, в платьице домашнем.
В туфельках махоньких.
Обиженная, несчастная, точно дитятко… и как на нее‑то можно было подумать дурно? Ошибся познаньский воевода, как пить дать, ошибся… оно‑то, конечно, не Андрейкиного ума дело, старшим на ошибки указывать. Этак и без места остаться недолго.
Но панночку жаль.
И коль в Андрейкиных силах помочь ей, он поможет.
— Вот, — панночка указала пальчиком на диван. — Вы не могли бы его сдвинуть?
— Куда?
Диван был велик, солиден, но так и Андрейка‑то парень видный, он не то, что диван, коня на спор подымал… выиграл тогда полтора злотня.
Глядишь, и панночка за помощь отблагодарит… хотя, что деньги — пустое, лучше пускай глянет ласково, улыбнется, оно и довольно.
Богуслава нахмурилась, задумавшись, куда надобно передвинуть диван, потом вспомнила, что сие — нисколько не важно и, ткнув в угол комнаты, велела:
— Туда. Вы ведь справитесь сами? Вы такой сильный…
Андрейка кивнул.
В горле вдруг пересохло, а сердце забилось быстро — быстро, как не билось уже давно, с самого детства Андрейкиного, когда он на спор меж рельсами лег… дурень был.
И сейчас дурень.
Уйти надобно… уйти и дверь закрыть… но как отказать, когда панночка так смотрит? И губу облизывает… и есть в ней что‑то этакое, опасное…
— Конечне, смогу, — сказал Андрейка и наклонился к дивану, подхватил одной рукой, поднял…
И успел отпрянуть, когда серый клинок резанул по плечу.
— Панна Богуслава!
Она ударила вновь, с непонятной самой себе яростью. Вид крови лишил остатков разума.
Андрейка уворачивался от ударов, но выходило плохо. Панночка была быстрой.
И безумной.
Она смеялась и пританцовывала, и в руки не давалась, только норовила все полоснуть клинком… теснила к двери, и Андрейка пятился, пятился, а когда отступать стало некуда, швырнул в панночку подушку. Та зарычала.
Оскорбилась, наверное. Пусть и безумная, но все ж княжеского роду… а в княжон, небось, подушками кидаться не принято.
— Панна Богуслава, — Андрейка нащупал витую ручку. — А панна Богуслава… успокойтесь уже…
Руки болели, раны, хоть неглубокие, а кровоточили сильно, Андрейке от вида крови, от боли в руках делалось дурно.
А может, от панночки, от которой терпко пахло болотными лилеями.
— Ты некрасивый, — сказала она, замерев в шаге. — Плохо.
— Какой уж есть.
Ручка скользила, и дверь не поддавалась.
— Некрасивый.
Шажок.
— А у вас кровь на щеке, — Андрейка вдруг ясно осознал, что сейчас его убивать будут, что до того моменту та, которую он принимал за панночку, забавлялась.
Теперь же все.
И жалко себя стало до невозможности.
— Кр — р–ровь? — она тронула щеку и улыбнулась. — Кровь красная. Красиво… в тебе много крови… хорошо… здесь будет очень — очень красиво… — доверительно сообщила панночка Богуслава, нож перехватывая.
Андрейка рванул дверь.
Почти успел.
Сперва даже показалось, что успел… он и боли‑то не почувствовал, так, кольнуло что‑то в бок, вроде как холодное… или, напротив, горячее… а потом повело вдруг, как после пьянки… Андрейка на работе не потреблял, не нюхал даже, и потому обиделся от этакой жизненной несправедливости.
Руку протянул, чтобы выдрать то, холодное аль горячее, в боку засевшее.
И дверь поддалась, отворилась беззвучно, позволяя ему упасть.
Не хотел падать.
А не устоял.
И нашарил за пазухой свисток, хватило еще силенок дунуть… разок всего, без особое надежды…
Богуслава поморщилась: звук оглушил.
И заставил отпрянуть от человека, которого ей следовало убить. Он и упал‑то некрасиво, без должного изящества, а потом дверь посмел захлопнуть. Богуслава толкнула ее, но та не поддалась.
Пахло кровью.
И пятна ее рассыпались по ковру… красиво, пожалуй.
Присев, она потрогала ближайшее, понюхала пальцы, удивляясь чудеснейшему аромату. И как прежде она не замечала его? Он лучше всяких иных… Богуслава провела пальцами по щеке. И по второй. И по шее тоже. Тронула запястья. Вздохнула: она искупалась бы целиком…
Чудесная мысль!
Великолепная просто! Богуслава вскочила, озираясь… конечно. Ванна. Ванна, наполненная кровью до самых краев, и она, Богуслава, в ней…
Не здесь.
Противный звук слышали. Явятся. Не поймут. Красивых людей часто не понимают или же понимают превратно. Следовательно, ей нужно уйти… куда?
Куда‑нибудь…
Туда, где Богуславу не найдут… и где есть ванна… и кто‑нибудь, кто отдаст свою кровь, чтобы Богуслава стала еще краше.
Она вышла из квартиры, аккуратно прикрыв дверь. Оглянулась. И направилась к черной лестнице, почти здраво рассудив, что полиция двинется по парадной.
Она никого не встретила на своем пути.
И из дому выбралась незамеченной…
Близился вечер.
И улочка обезлюдела. Жаль. Богуславе нужен был кто‑то живой и с кровью.
Она шла… и шла… и долго шла. И редкие прохожие, встретив женщину в грязном платье спешили убраться с ее пути. Она же спешила, понимая, что вот — вот опоздает… что уже опаздывает… луна вновь наливалась цветом, становясь похожей на крупное белое яблоко.
Когда‑то Богуслава любила подобные.
Раньше.
Она подхватила юбки, которые мешали, и бросилась бегом, на зов луны, на голос той, которая обещала ей долгую жизнь…
…и корону княгини Вевельской…
…корона Богуславе нужна. Она ведь красива, много красивей купчихи.
— Конечно, — согласилась тень, вытягиваясь на дорожке черной змеею. — Совершенно несправедливо…
— Мы ее убьем?
— Нет.
— Выпустим всю кровь, — Богуслава остановилась.
— Выпустим, — тень поднялась. — Непременно выпустим…
Она вдруг поплыла, вновь меняя обличье, становясь плотной, тяжелой. И порыв ветра донес до Богуславы острый звериный запах.
Она очнулась, всего на мгновенье, и успела удивиться тому, что находится не дома, но в лесу… или в парке?
Определенно, в парке.
Вон и фонари загораются. До них недалеко, с десяток шагов, но сделать их не позволят.
— Ты… — Богуслава смотрела в желтые глаза твари, похожие на две луны. — Ты не можешь меня убить! У нас с ней договор! Я нужна…
Тварь оскалилась.
Она скорее походила на человека, нежели на волка, но человека уродливого, с непомерно широкими плечами, с руками длинными, узловатыми, покрытыми короткою бледной шерстью. На короткой шее сидела приплюснутая голова.
И Богуслава не находила в себе сил закричать.
Хотя бы отвести взгляд.
Она смотрела и на черный собачий нос, который подрагивал — тварь чуяла кровь и запах этот манил ее, он и вправду был прекрасен.
Для нежити.
— Прочь, — Богуслава отступила.
Она не умрет.
Невозможно такое, чтобы она умерла… она нужна… княгиня Вевельская… пока еще не княгиня, но ей обещали…
— Прочь…
Тварь покачнулась.
И напала.
Богуслава только и успела — лицо закрыть, почему‑то ей не хотелось, чтобы лицо это изуродовали.
Она ведь прекрасна.
Даже после смерти.
Гавриила разбудила луна.
Он услышал далекий шепот ее, заставивший зажать уши и сползти с кровати.
— Нет, — он сказал это громко, заглушая и луну, и собственную, некстати очнувшуюся память. — Еще слишком рано!
Но луна, крупная, вновь ровная, будто бы и не убывала она вовсе, повисла аккурат напротив окна. И на Гавриила она глядела с насмешкою.
— Я не твой, — он поднялся и пальцы из ушей вытащил. — Слышишь?
Смех за спиной заставил обернуться.
Никого.
Только вздох за левым плечом, только прикосновение к волосам.
— Глупенький…
Ее голос по — прежнему сладок, как в тот день, когда она помогла… но Гавриил отплатил ей за ту помощь, разве нет? Исполнил свою часть сделки.
— Неужели ты думаешь, что все так просто?
Зеркало.
И луна, в нем отраженная… в этом дело! И Гавриил, содрав покрывало, набросил его на зеркало.
Она лишь рассмеялась.
— Ты все равно вернешься, — сказала та, имени которой он не знал.
— Нет.
— Ты и вправду думаешь, что люди тебя примут?
— Да.
Приняли уже. И тогда, в приюте… и после…
— Разве? — она всегда знала чуть больше того, что он желал бы о себе рассказать. Она видела правду, а Гавриил не умел справляться с этой правдой. — Разве в приюте тебе жилось хорошо?
Он не ответил.
— Над тобой смеялись… издевались… дразнили… помнишь, как тебя заперли в подвале? Сколько ты просидел там…
— Это не имеет значения.
— Два дня… а когда тебя нашли, что сделал наставник? Наказал он тех, кто и вправду был виновен?
— Уйди!
— Он велел высечь тебя…
Не ложь. С ложью он справился бы легко, но она всегда говорит лишь правду.
— Они чуяли в тебе чужака… иного… и все еще чуют. Потому и сторонятся. Не верят… — теперь ее присутствие ощущалось явно, и Гавриил вздрогнул, когда она прикоснулась к шее. — Вернись, мальчик. И я сделаю тебя счастливым.
— Как?
— Дам тебе свободу.
— Я уже свободен, — он вывернулся из‑под ее руки, задавив ту свою часть, которая отчаянно желала этой ласки.
— И в чем же твоя свобода? — она не разозлилась.
Всегда спокойна.
Доброжелательна.
— В том ли, что ты служишь этим… ничтожным существам? Мучишь себя, пытаясь уберечь их покой?
— Это мой выбор.
— Глупый выбор. Они того не стоят.
Гавриил стиснул зубы.
— Вернись.
— Нет.
Смех.
Легкий, как весенний ветерок, тот самый ветерок со слабым ароматом первоцветов, который закружил голову, почти лишил памяти.
— Твоя свобода, — Гавриил облизал пересохшие губы. — Это не свобода вовсе…
— Ты будешь волен делать все, что тебе заблагорассудится, — она никогда не отступала просто так, и сейчас не собиралась.
— Что именно? Убивать? Грабить? Насиловать… гнать жертву, пока силы ее не оставят? Забавляться, как…
— Как кто, Гавриил? — ласковый — ласковый шепот. — Как твой отец?
— Он мне не отец…
— В этом твоя беда, ласковый мой мальчик… и в этом твое счастье… ты не хочешь походить на него? Пускай… будь собой…
— Я уже есть, — он все же повернулся к окну и в два шага преодолел расстояние до подоконника. Распахнул створки в безумном порыве, едва не вырвав очередную с корнем. — Я есть! Я существую!
И ответом ему был далекий вой твари, которая вышла на охоту.
Евдокия всю ночь не могла заснуть, стоило смежить веки, как перед глазами вставала зыбкая стена и тени душ за ней.
— Мы есть, — шептали они, протягивая к Евдокии полупрозрачные руки. Во сне теням позволено было преодолеть стену, и Евдокия явно ощущала прикосновения их, липкие, будто бы пальцы эти были обернуты паутиной.
Она отшатывалась.
Просыпалась.
И заставляла себя лечь в чужую постель. Уснуть.
Завтра.
Уже завтра они отправляются в Серые земли. Себастьян купил билеты… и ее рассказ выслушал, не перебивая. Кивнул. Сказал:
— Вот оно как.
И вышел.
Ничего не объяснил, но тогда Евдокия была слишком утомлена, чтобы требовать объяснений. Ей казалось, что там, в орденских подвалах, ее всю выпили до самого донышка.
И в постель она легла сама… и вот теперь маялась — маялась.
— Нет, хватит, — очередное пробуждение, резкое, а потому неприятное, заставило Евдокию сесть. Она провела ладонью по обнаженной своей руке, радуясь хотя бы этому прикосновению.
А рука‑то ледяная.
И кожа гусиная, неровная. И холодно… в червене не бывает так холодно, но поди ж ты… сквозит от окна, не иначе. И Евдокия встала.
Пол стылый.
Поземка на нем… откуда летом поземка? Или же она вновь спит? Если спит, то сон на редкость яркий.
И луна за окном.
Полная луна… как такое возможно, если пошла она на убыль? Евдокия не знает. Она дошла до окна и окно это, закрытое, распахнула, впуская белую дорожку лунного света. Та протянулась через подоконник, сползла по стене, по полу разлилась стылыми лужицами, ледяными будто.
И в зеркале отразилась.
Сама дорожка, а еще женщина в белых одеждах, которая стояла у окна, разглядывая Евдокию. А та в свою очередь глядела на эту женщину.
— Не боишься?
— Боюсь, — призналась Евдокия.
— Тогда зачем ты споришь со мной?
— Я?
— Ты, — женщина была красива той холодной красотой, которая стоит почти на грани с уродством, и Евдокия, разглядывая черты совершенного ее лица, не могла отделаться от ощущения, что лицо это — маска. — Отпусти его.
— Кого?
Сердце оборвалось. Евдокия знает ответ, вот только не желает признавать самой себе.
— Того, кого ты назвала мужем, — женщина смотрела не с гневом, со снисходительностью, которая заставляла Евдокию острей ощутить собственное несовершенство.
— Значит, это ты забрала его.
— Он сам ушел ко мне.
— Разве?
Лунные волосы.
Лунные глаза. И кожа, что мрамор, только не тот, который светится изнутри, будто живой, нет, ее мрамор — камень надгробий, одежды — саван.
И сама она мертва.
— Если он ушел сам, по своей воле, то отчего ты здесь? — Евдокия оперлась на подоконник, преодолевая внезапную слабость.
— Отпусти его.
— Иначе?
— Иначе я убью тебя, — с улыбкой произнесла незнакомка. — Выпью до капли твою жалкую жизнь.
Она сделалась вдруг до того уродливой, что Евдокия отпрянула.
Закричала бы, если б могла.
Не смогла.
К счастью. И когда первый страх схлынул, Евдокия нашла в себе силы улыбнуться:
— Спасибо, — сказала она. — Теперь я знаю, что поступаю правильно.
— Ты…
— Ты не можешь убить меня. Не знаю, почему, но не можешь. Могла бы — убила б. Ты ведь не привыкла разговаривать с такими, как я… с людьми… но ты здесь. Точнее там, за порогом… стоишь, говоришь мне, что мужу своему я не нужна… пусть он сам мне это скажет. Тогда, быть может, я и отступлю.
Она разозлилась.
Не живая, но и не мертвая, пришедшая извне и столь чуждая этому миру, что даже луну ей пришлось принести с собой. И теперь луна эта расползалась, превращаясь в мутное пятно, сквозь которое проступал лик истинного светила.
— Зачем тебе это? — спросила женщина. — Тебе нужен мужчина? Рядом с тобой он есть. Он ждет лишь знака… и нравится тебе. Не отрицай, я вижу. Скажу больше, вы будете счастливы вместе.
Ошибается.
Не будут.
Возможно, могли бы, если бы год тому… если бы тогда все сложилось немного иначе… Евдокия не думала. Не желает думать и не будет.
Она сделала свой выбор и от него не отступит.
— Я люблю Лихослава, — сказала она просто.
Вот только вряд ли ее услышали: истаяла колдовкина желтая луна, исчезла дорожка, и с нею — женщина, столь красивая, что это само по себе было почти уродством.
Ничего, Евдокия скажет потом.
Когда встретится с этой женщиной наяву. Скажет и спросит у Лихо, кого он выбирает… вот только уже сейчас ей страшно представить его ответ.
Аврелий Яковлевич выкладывал на столешнице узор из дареных маргариток. Выкладывал неторопливо, всецело отдавшись сему, несомненно, крайне важному занятию.
— Подарили, — сказал он, отвлекшись на мгновенье.
— Проклятые? — поинтересовался Себастьян.
— Садовые, — Аврелий Яковлевич подвинул мизинчиком бледно — розовую маргаритку к самому краю стола. — Купил билеты?
— Купил.
— Вот и молодец.
Молодцом себя Себастьян не чувствовал, напротив, не отпускала тревога, странное беспокойство, причин для которого у него имелось, конечно, в достатке, но все ж…
— Я ведь должен поехать.
Аврелий Яковлевич глянул искоса, без обычной своей издевки.
— Тебе выбирать.
— Здесь и без меня справятся… Евстафий Елисеевич знает, что делает… и в полиции довольно акторов не хуже… — признание далось Себастьяну с трудом, поелику в глубине души он справедливо считал себя лучшим, а следовательно, остальные, с кем случалось ему работать, именно, что были хуже. — Справятся… конечно, справятся…
Ведьмак не ответил, но широкой ладонью смахнул маргаритки на пол.
— А Лихо один… там… с этой… — Себастьянов хвост нервно мазнул по ковру. — И она его не отпустит, верно?
— Ты можешь остаться.
— Неужели? — Себастьян поднял мятый цветок. — Остаться и сказать себе, что сделал все возможное? Что Лихо изначально был обречен… что он, возможно, уже и не человек вовсе, а значит, все зря…
Аврелий Яковлевич кивнул.
— Вы ведь так не думаете.
— Так ли важно, что думаю я? — он дернул себя за бороду. — Куда важней, Себастьянушка, что думаешь ты…
Ненаследный князь вертел маргаритку.
— Мы можем опоздать. Уже, еще не выехав отсюда, опоздать… или не найти его там… Серые земли огромны. В лучшем случае не найти, а в худшем — попросту сгинуть, потому как колдовка этакой силы сотрет меня на раз. А про Еву и говорить нечего… и получается, что риск глупый. Если мыслить разумно… только… не хочу я мыслить разумно.
Цветочный стебель расползался в руках, и потянуло вдруг гнилью, стоялою затхлой водой.
— А говорили — садовые, обыкновенные, — проворчал Себастьян, вытирая пальцы. — Мы отправимся завтра и, если повезет, то…
Грязь отходила, а вот запах привязался.
— Аврелий Яковлевич… дело, конечно, не мое, но… я понимаю, почему еду я. И Ева тоже. А вот почему вы остаетесь?
— Дела, Себастьянушка, — он поднял маргаритки. — Но не переживай, справитесь…
Себастьян поверил.
Почти.
Он почувствовал, как мир переменился, словно вывернувшись вдруг наизнанку.
Серая.
Лишенная солнца. И он ослеп на мгновенье, а когда вновь прозрел, то серость отступила. Теперь он видел множество цветов.
Красные россыпи прошлогодней клюквы, которую собирал языком, и к языку приклеивались, что нити водянистого мха, что иглы. Желтые клочья веретенника, с запахом едким, раздражающим. Но он не испугался, сунул нос в самое гнездо, рявкнул, подымая прозрачную пыльцу, которая и не пыльца вовсе.
Для него, прошлого, она была опасна.
Прошлого.
Он затряс головой.
Прошлого нет.
Имя вот осталось, держит, не позволяя вовсе сорваться с привязи.
Ева.
За именем он видит женщину, с белым лицом, с мягкими руками, с волосами длинными, что космы старой русалки, которая следила за ним, не смея, впрочем, выбраться на сушу.
Русалка спугнула ту женщину, вернув его на изнанку мира.
Тонкие побеги марьиной суши, что пронизывают моховые поля, прорастая тончайшими прутиками. На вершине каждого вызревают ягоды, уже темно — зеленые, налитые… возьми одну и лишишься разума, памяти… ему нельзя, и так памяти не осталось.
— Здравствуй, — женщина с волосами белыми, с глазами желтыми, как луна, выступила навстречу. — Ты все же пришел. Хороший мальчик.
От нее пахло горечью непролитых слез.
Кровью.
Ложью.
И когда она протянула белые — белые руки, каменные — он помнил, что у живой женщины не может быть таких рук — он зарычал.
— Возьми, — на ее ладони лежала круглая ягода. — И тебе станет легче.
Следом за женщиной на поляну выходили волки.
Они были огромны и страшны, но он знал, что сильней любого из них, как знали и они. И спеша признать его власть, силу, ложились на живот, ползли, оставляя во влажном мху мятые борозды.
— Возьми, — повторила женщина.
Он зарычал.
— Глупец.
Разозлилась. Злость он тоже видел, ярко — красную, как клюква, столь же горькую.
Ягода скатилась.
И в воду упала, заставив престарелую русалку скрыться в омуте.
— Ты все равно забудешь ее… — женщина все еще злилась, хотя и улыбалась старательно, и руку протянула, чтобы погладить.
Клыки клацнули у самых пальцев, белых, как мрамор. И стая, его стая, вскочила, ощерилась на ту, от которой пахло падалью.
— Себя ты уже не помнишь, сказала женщина, отступая.
Она боялась?
Боялась.
И потому лгала.
Он лег у самой воды, вглядываясь в искаженное лицо русалки.
Лихо. Его зовут Лихо. А имя — это уже много.
Достаточно, чтобы выжить.
Белесые губы русалки растянулись в улыбке, она могла бы рассказать многое, про имена, про Серые земли и про ту, что мнила себя их хозяйкой. Но вместо слов она подняла бусину — ягоду и отправила в рот.
Зажмурилась.
Горькая… и почему люди так держатся за свою память? Без нее живется куда как проще…

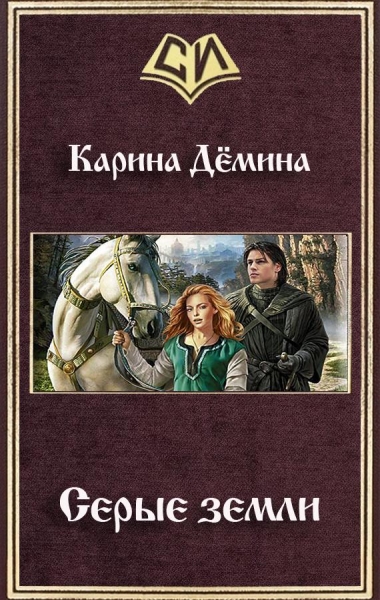
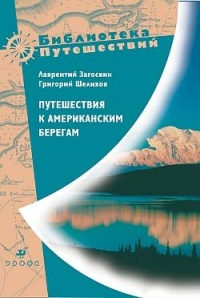

Комментарии к книге «Капкан на волкодлака (СИ)», Екатерина Лесина
Всего 0 комментариев