Вольфганг Бюшер Берлин – Москва. Пешее путешествие
Originally published under the title BERLIN-MOSKAU
© 2003 Rowohlt Verlag GmbH, Reinbeck bei Hamburg
ALL RIGHTS RESERVED
© Издательство, «Европейские издания» 2007.
Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.
© Электронная версия книги подготовлена компанией ЛитРес ()
Посвящается Сюзанне и Анне Делфине
Часть 1. Забыть Берлин
Прощание
Однажды ночью, когда лето было в самом разгаре, я закрыл за собой дверь и отправился в путь: прямо на восток, насколько это было возможно. Ранним утром Берлин был совершенно тих. Я слышал только стук своих подошв по полу, затем по гранитным плитам. Воздух был насыщен сладостью – цвели липы, а Берлин был исполнен бодрости, но меня не слышал. Как всегда он лежал без сна и как всегда пребывал в ожидании, предаваясь путанным исполинским грезам, полыхавшим зарницами поверх нагромождения зданий. Ночью лил дождь, и, когда мимо прошел автобус, его стоп-сигналы прочертили красные линии на мокром асфальте. Движение становилось все более интенсивным, в аллеях кричали птицы, город, поеживаясь спросонья, вскакивал на ноги, скоро служащие сплоченными колоннами устремятся в свои бюро. Ко всему этому я был уже не причастен.
Последние дни пронеслись стремительно, и вот это утро наступило. Перекинуть через плечо самое необходимое, остальное, весь этот успокоительный балласт, – прочь. Закрыть за собой дверь, наутро другую, потом еще одну и еще – и дальше, дальше. Через Одер, Вислу, Неман. Через Березину и Днепр. Идти до самой ночи. До самого утра. До тех пор, пока не дойдешь. Нечто вроде стыда охватило меня из-за грандиозности замысла: сегодня я иду на Москву. Я был рад безмолвию Берлина. Любопытные взгляды я не смог бы вынести.
Сбоку движется нечто. Витрина, в ней отражается человек. Он шагает по темному зеркалу в своих новеньких оливково-зеленых военных брюках, в оливково-зеленой рубашке и добротных сапогах. Все это ему подарено, его поступь подчеркнуто бодра. Когда лето закончится, где я буду, зеркало? Витрина была из старого пузырчатого стекла, она задрожала, будто ветер пронесся над водной гладью, и отражение подернулось психоделической рябью. Отъехал трамвай, последний на долгое время, я прислушался к тому, как он удаляется, к его грохоту и завываниям. Затем он затих и скрылся на западе. Напоследок стало не по себе: комок в горле, промедление перед янтарным светом на полу, мысль о тех, кто остается…
Потом еще был супермаркет на восточной окраине города. Двое мужчин в шортах сидели на скамейке и ждали открытия магазина. Подошел третий. «Я усё пью! – кричал он. – Колу, пиво, шнапс – усё», и толкал перед собой тележку, как престарелая фрау Вайгель 1 на театральных подмостках города, который я теперь покидал. «Вали отсюда!» – завопила парочка на скамейке. Усёкавший парень свалил, затерявшись в наступающем дне, который имел цвет влажной извести и такой же запах. На самом деле последним впечатлением от Берлина стала дохлая мышь. Все ускользнули от ночной бойни, а она осталась лежать, и, хотя она была достаточно упитанная, ни одна кошка ее не съела. Мышь лежала, вытянув все свои четыре ножки, а неподалеку высилась безнадежная коробка детского сада, называвшегося «Сороконожка». И действительно, лихая сороконожка красовалась на его стене. Я прошел мимо издевки и мимо мыши, потуже затянул рюкзак, достиг спасительного последнего поворота – и был таков.
Аллея призраков
За первый день в дороге не произошло ничего особенного, за исключением того, что я шел и шел, и в первой встречной после Берлина деревенской лавке купил себе набор для шитья, который тут же выбросил. Оставил только ножницы: они были очень легкими, а это – самое главное. Ножницы оказались такими миниатюрными, что постоянно соскальзывали с кончиков пальцев, но благодаря некоторому упорству и тренировке мне удалось нарезать пластырь полосками, чтобы заклеить мозоли на правой ступне, пока не было пузырей. Всегда болела правая нога, и никогда – левая, так оставалось до самой Москвы.
День, начавшийся известковой бледностью, стал жарким и душным, я прошел уже деревушку Вердер. На восточном берегу Эльбы имена населенных пунктов, как койки пролетариев в Берлине двадцатых годов, заняты сразу двумя-тремя претендентами 2. Мальхов. Вустров. Глинике. Вердер возник во время Тридцатилетней войны, но пока я через него шел, он притаился и делал вид, будто его здесь нет: дворы были заперты и спрятаны за желтыми кирпичными стенами высотой в человеческий рост, а каменная церковь укрылась под древними каштанами. Я посидел немного в их тени, и Вердер опять остался в одиночестве со своими коммунистическими улочками, названными в честь Карла Маркса и Эрнста Тельмана, со своими трогательными песчаными дорожками, со своей звенящей и жужжащей полуденной тишиной, в которой слышалось нечто гнетущее и демоническое.
Подъехал велосипедист и захотел поболтать. Его путь лежал до Мюнхеберга и обратно. Я пробормотал что-то по поводу более длинной прогулки и расстался с ним. Уже за несколько недель до начала путешествия у меня возникло сильнейшее нежелание подвергаться расспросам. Я хочу это сделать – какие могут быть объяснения? Я быстро шел через тихие деревеньки, по полевым тропам, сторонясь людей и их любопытных взглядов.
Прямой путь на восток теперь представлял собой лишенную тени песчаную дорогу через Красный Торфяник – лощину, кишащую тысячью микроскопических жизней и смертей. Здесь кипела непрерывная работа. В воздухе – вихрь крыльев, а внизу в траве трудилась целая армия миниатюрных тел: прожорливые насекомые в чешуйчатых панцирях, коричневых, черных, сине-зеленых с металлическим отливом. Лощина жужжала и стрекотала, я замер, чтобы не нарушать чистый полуденный шелест шумом своих шагов. Через некоторое время мой слух различил пульсацию, обладавшую ритмичной монотонностью современной танцевальной музыки. Нахлынуло, отхлынуло, взмыло высоко вверх. Торфяник бурлил и танцевал. Звуковые потоки захлестывали меня, волны лощинной музыки слышались отчетливее, я удивился, что никогда прежде не ощущал столь ясно звучание космоса, мне пришло в голову, что Красный Торфяник одновременно посылает сигналы и принимает их как огромная спутниковая антенна, настроенная на внеземные частоты. Мысль об этом не была сверхъестественной для выходца из Берлина. На единственном, возведенном из руин холме 3 этого города до сих пор высились огромные купола установки, во времена холодной войны прослушивавшей Восток как прослушивают ребенка с больными легкими. И всегда в Берлине появлялись безумные пророки, возвещавшие о существовании тайного передатчика, нами управляющего и нас мучающего. Мне вспомнился человек-передатчик, много лет назад бегавший по городу с длинными колыхающимися антеннами на голове. Вот где он мог бы поймать волну – здесь, в Красном Торфянике, он бы исцелился. Я открыл глаза и увидел, как у моих ног маленькая армия больших красных муравьев растаскивает на части бабочку Павлиний глаз. Ее напудренные крылья дрожали, словно она собиралась улететь, но это было лишь следствием того ожесточения, с которым красные палачи рассекали тело, – бабочка была уже мертва.
Я вышел на старую Рейхсштрассе рядом с мотелем «У Ани», и мир снова выглядел привычно, как в телевизоре. Я заказал себе бутерброд с овечьим сыром, много воды, и сбросил рюкзак на стул. Он стал для меня тяжелым, слишком тяжелым, мне необходимо был что-то сделать до перехода через Одер. Мне казалось, что я упаковал лишь самое важное, но теперь я понял, что должен обойтись гораздо меньшим.
Под вечер я добрался до места последнего большого сражения Второй мировой войны – Зееловских высот. За Мюнхехофом, как путевой указатель, лежал пергаментный пузырь высохшей на солнце мертвой лягушки, а перед Янсфельде – лисица с разбитой головой. От рапсовых полей на холмах под Дидерсдорфом несло облако пыльцы, окрасившей меня в желтый цвет, дивизия гигантских красных комбайнов медленно двигалась навстречу грозовому фронту, небо становилось все более черным. Я достиг Зеелова в тот момент, когда разразилась буря, по счастью одним из первых домов на этой стороне города оказалась гостиница.
Пока бушевала гроза, за тремя столиками в ресторане гостиницы трое мужчин коротали три одиноких вечера. Один из них был одет в вельветовую куртку и имел вид английского режиссера, снимающего фильм о жизни животных, он заказывал один чайник чая за другим и сосредоточенно вносил поправки в сценарий, как будто проводил вечер в уединении режиссерской палатки под проливным тропическим дождем. Он был как стоик в южной колонии. Тот, кто выживает. Другой был мужчина со взглядом Лу Рида 4, занесенного сюда по воле случая. Тишина палатки английского режиссера казалась ему невыносимой. Таких людей тропики укрощают, вводят в искушение и в конце концов проглатывают. Сверкающие безумием глаза, скрытые красным стеклами очков, искали товарища по несчастью, чтобы вместе противостоять меланхолии муссона, и стоило зазеваться хотя бы на секунду, как он тут же наладил бы понтонное сообщение между столиками.
Я не стал этого дожидаться. Я взял карманный фонарик и пошел к солдатскому кладбищу. Фонарик мне не понадобился: при полной луне надписи на зееловских камнях были хорошо различимы, они читались как истрепанные карточки из длинного библиотечного ящика какого-нибудь гуманитарного факультета, скажем, в Марбурге. Майер. Конрад. Валентин. Шиллер. Дойч. Зюс. Юнг. Все они были мертвы. Я попытался себе представить, какой могла бы стать эта страна, если бы они все были живыми людьми, а не надписями на камне. Незавершенный труд, несовершенная революция. Немецкий Поуп тоже был здесь, старый, сломанный. Шмелинг. Альберс. Одного звали Гутекунст. Типичное изобретение Мартина Вальзера 5, Леберехт Гутекунст или что-нибудь в этом роде, но размышлять о Германии было не время. Камни уже гудели в унисон и раскачивались, все кладбище насвистывало теперь знакомую мелодию: Where have all the Mayers gone? Где все Майеры теперь, где они остались?6 Все Дойчи. Все Зюсы. Все Юнги. Этим Юнгам, мальчишкам, в 1945-м не исполнилось даже двадцать, это была бойня восемнадцатилетних, только что со школьной скамьи. Большинство из них было зарыто в неглубоких воронках от разрывов мин, произошло так не из-за нацистской озлобленности или пацифистского ужаса, но потому что бойня была беспорядочной, быстрой, жестокой и ничего другого не оставалось. Чаще всего на камнях в Зеелове встречалось имя «Неизвестный».
Я устал, настроение было ужасным. Я все шел и шел, бесконечно перебирая эти имена и эти истории, двигаясь кругами по густо усеянной надписями земле. Я думал о стране, в которой на протяжении нескольких дней или даже недель можно не встретить ни единого человека. Я достал пиво и присел на могилу, на ней значилось «Неизвестный». Какая насмешка. Неизвестного здесь не было ничего. Все было известно, я всегда точно знал, где я шел и где останавливался, а случалось мне чего-либо не знать, как поблизости непременно отыскивался кто-нибудь и все мне растолковывал.
До этого в военном музее Зеелова мне объяснили, что я полдня ходил по Аллее Повешенных и завтра пойду по ней дальше. Весной сорок пятого так называлось все длинное шоссе от Мюнхеберга до Кюстрина на Одере – между нами, вы же понимаете, СС. Да, я, конечно, знал. Необычные плоды висели тогда на деревьях, тень которых меня привлекла. Эсесовцы совершенно обезумели в поисках деликатесов. В то время как справа и слева от военной дороги люди гибли как мухи, и дикий, не вполне безосновательный страх перед русскими принуждал их к самым отчаянным поступкам, эсесовцы, украшавшие таким образом деревья между Одером и Мюнхебергом, похоже, испытывали не столько желание отправиться на фронт, сколько смертельную ярость по отношению к собственному народу. Дезертиров отыскивали быстро и долго с ними не церемонились. Пошел, вверх на грузовик, стой там, под липой, да, вот под этой, эта годится, петля на шею и жми на газ. Следующий. Эсесовцы давали волю той же оскорбленной мстительности, что и помешанный жених из Берлина 7. Когда все уже проиграно, мы хотим еще раз показать невесте, кого она не заслуживает. Кого немецкий народ оказался недостоин. Что мы, извлекшие его из болота германской посредственности, думаем о его предательстве по отношению к фюреру.
Я почувствовал, что кто-то сидит рядом со мной, я не смотрел туда, я и так знал – кто. Как быстро нагнал он меня, уже в первый вечер, и теперь будет сопровождать всегда: его путь стал моим, мой же путь был дорогой Наполеона и группы армий «Центр», которая была и его дорогой. Я шел на Москву, и ко мне привязался земляк-однополчанин, чтобы слегка действовать мне на нервы своими нашептываниями про воронки и про повешенных. Мне оставалось только спросить его имя и выслушать его рассказы, этого требовала историческая вежливость. Я знаю тебя, бормотал я, ты – гимназист из Мюнхена с «Фаустом» в кармане униформы. Я знаю тебя по зееловскому музею, они собирают там подобные случаи в сером покореженном шкафу для документов; после ограбления его стальные дверки скрипят, да-да, здесь имело место настоящее ограбление, – так далеко заходит любовь к немецкой истории. Я знаю о тебе все. Оторванный от Гете и брошенный в апрельскую трясину проваливающегося Восточного фронта, ты должен был удерживать Зееловские высоты, последнюю линию обороны перед Берлином, и вот три часа утра, и девять тысяч русских орудий и минометов начинают грохотать, вырывая тебя из тяжелого сна и вдавливая обратно в твою земляную нору, и сто сорок три русских зенитных прожектора одновременно вспыхивают и ослепляют тебя, и все это происходит 16-го апреля 1945 года. Это будет теплый солнечный весенний день. Иван перепахивает Одербрух8, Фриц стреляет с высот по наступающим, к вечеру многие русские мертвы, а, возможно, и ты, гимназист, ты, ищущий спасения в «Фаусте» часть первая и вторая, пытающийся все это вынести, ты цепляешься за то, что ты, собственно, есть и чем остаешься, а это – школьный Гете, и ты повторяешь по памяти с трясущейся челюстью «Пасхальную прогулку» здесь, в кровавой трясине, а вокруг тебя трещат автоматные очереди, взрываются мины и так далее – я оглянулся, но рядом никого не было. Но я знал, кто это был. Не тот, о ком поведали камни и музей. Некто, совершенно потерянный среди далей, самый потерянный из всех. Ни камня, ни места, ни имени – ничего. Мы не знаем друг друга, он – мой дед. Он не знает, что я существую, я не знаю, как он умер и где лежит, никто этого не знает. Будь спокоен, шептал я, я пройду по тебе так, что ты этого не заметишь. Будь совершенно спокоен, я пройду сквозь тебя, как ветер.
У костра
Передо мной была Польша. Сидя на плотине, я наблюдал, как из двух фабричных труб на том берегу Одера вытекает дым, густой и солидный, будто в старой оптимистической кинохронике, он поднимался все выше и выше, как черное знамя, затем налетел западный ветер и погнал его далеко на восток. Я обернулся в сторону Германии, где солнце на закате еще раз осветило битые кирпичи дома сезонных рабочих, расположенного у основания плотины. Дым, ветер, низкий сгорбившийся старый дом – на мгновение я ощутил запах зимы, ожидавшей меня впереди, далеко-далеко, на других берегах. Взошла африканская луна – огромный апельсин, повисший над Одербрухом. Сразу за садом, окружавшим кирпичный домик, начинались поля. Косули шуршали, подбирая плоды. Отсюда началось наступление на Зееловские высоты, и война так обильно удобрила землю, что охотники за военной амуницией до сих пор копались в поисках касок, оружия и орденов.
Там на высотах жил старый солдат. Сегодня утром я сказал ему, куда направляюсь, и он меня обругал: «Вы гоняетесь за фантазией, молодой человек, вы просто фантазер! Я был летчиком, я перевозил раненых от Ладожского озера в Кенигсберг. Мой «Ю» делал двести километров в час, я летел пять-шесть часов. Лес, лес, ничего, кроме леса, тысячи километров леса, а до Москвы еще вдвое дальше. Чего вы хотите? Ищете работу? Идите ко мне на поле и с моими деньгами летите себе потом в Москву, впрочем, чушь, лучше всего летите-ка вы не в Москву, а на Майорку».
Я позвонил ему из телефонной будки на обочине, не зная точно, чего, собственно, от него хочу. Я ответил, что не полечу на Майорку и не буду работать на его поле, и он продолжил меня ругать: «Зачем вы ищете смерти? Вы не пройдете даже через поляков, они забьют вас насмерть. И дальше – ах, бросьте, пока вы доберетесь до Москвы, вы погибните трижды. Ноги сводит судорогами, это свыше человеческих сил, вы останетесь лежать в уличной яме, никто вас не подберет. Если бы у вас, по крайней мере, был спутник. Да вы сошли с ума!»
Я спрашивал себя, чего мне от него нужно, и отвечал: мне нужен был жест, одно слово, словесный амулет. Что-нибудь, способное меня защитить, что-нибудь, благодаря чему призрак моего деда опознает меня при встрече. Я хотел получить благословение старого солдата. Но он мне его не дал – я повесил трубку, положив конец его проклятиям, и пошел дальше. Возможно, это меня расстроило бы, если не еще один неожиданный телефонный разговор, который меня занимал настолько, что заставил сойти с шоссе и привел через Горгаст сюда, на Одер.
В доме сезонных рабочих, скрытом теперь темнотой, жил один человек, с ним я познакомился больше двадцати лет назад: он был восточным немцем, а я – западным. Мы встретились в Восточном Берлине, на не запомнившемся мне спектакле в театре Брехта. После этого мы потеряли друг друга из виду. Вчера вечером в гостинице, пролистывая брошюру о прусских следах в Одерланде9, я обнаружил его имя и номер телефона. Анонс извещал о его выставке, он был художник. Раньше он жил на самой восточной окраине Восточного Берлина, в маленьком домике, весьма похожем на этот, расположенном в саду, полном складных стульев и незаконченных деревянных скульптур. Только теперь он жил на самом краю Германии, а не Берлина, забраться еще восточнее было просто невозможно. При этом он совсем не был романтиком, скорее ученым естественнонаучного склада. На мой первый вопрос по телефону – что тебя привело сюда? – он ответил, что у каждого своя программа, и, когда обстоятельства благоприятствуют, она выполняется.
Мы сидели на поле, где шелестели косули, он развел костер, который теперь медленно угасал, спустилась ночная прохлада, холодный воздух ластился к нашим голым ногам и нагревался от еще не остывших кирпичных стен, он пах травой, сеном, мусором и прочими земными вещами. Художник говорил о домашних делах, которые нужно было завершить до зимы, о работе в Берлине, о благотворной удаленности от Берлина, и рассказывал о других местных переселенцах; среди них были потомки знати, переехавшие сюда спустя пятьдесят лет после изгнания их семей, они иногда покупали его картины. Все это было необычно и удивительно: у моей игрушечной марклиновской страны10 появились обширные окрестности, снова возникли окраины, полупустые восточные провинции. Берлин находился в двух днях пути от меня, и я ощущал себя погруженным в мир Эрнста Вихерта11, в котором оставивший столицу художник и потомки исчезающего поместного дворянства приглашали друг друга на чай, и я теперь ясно видел, что Вихерт был меланхоличным братом Марка Твена: гекльберрифинново настроение с кошками и тетками, речкой и лунным светом было все-таки по своей сути очень немецким, особенно это чувствовалось здесь, в Остэльбии12. Костер догорел, мы затоптали тлеющие угли, огромный апельсин поднялся выше и превратился во вполне сносную июльскую луну. Это надолго стало моим последним впечатлением от Германии.
На другое утро я произвел инвентаризацию и долго разбирал вещи, пока мой красивый новый рюкзак не опустел. Я оставил его здесь, взял взаймы потертый, старый, наполовину меньше, и сложил в него рубашку, брюки, пару носков (другую рубашку, брюки и пару носков я надел на себя), а также почти ничего не весивший дождевик, шерстяной свитер, который мне пригодится холодной русской осенью, бритвенные принадлежности, тетрадь с записями, карты и спальный мешок. Самое важное было у меня на ногах – сапоги. Этот рюкзак прилегал к спине совсем по-другому. С ним можно было отправляться в путь. Теперь я уже в самом деле был готов: только сейчас, думал я, все начинается всерьез.
Под выцветшим летним небом я шел к границе. На Аллее Повешенных не было теперь ни единого дерева и она называлась улица Дружбы. Она вела прямо к Одеру. Отсутствие тени, жара и прямизна дороги давали заранее почувствовать ожидавшую меня бескрайность Востока. В течение получаса я шел вдоль края одного и того же пшеничного поля, а до этого – между полями подсолнухов. Молодые люди промчались мимо меня в шикарном автомобиле так, словно были в бегах. На кладбище в Китце я лежал под липами и каштанами, наблюдая, как улитка взбирается на могильную плиту Эмиля и Мины Мунк. Жена пережила мужа на двадцать два года.
Никто мной не заинтересовался, когда я переходил Одер. Из-за наводнения течение было быстрым, река несла ветки деревьев, которые она прихватила на своем пути из Силезии. Бурля и клокоча, спешила она между заброшенными, покрытыми паутиной казармами на немецкой стороне и дремлющим под полуденным зноем пограничным пунктом на восточном берегу. Несколько минут на мосту раздавались мои шаги, и вот я уже в Польше. Показалась мощная крепость из красного кирпича, на самой вершине крепостной стены сидел парень и смотрел на поток.
Есть Кюстрин и Кюстрин: нынешний и настоящий. Первый из них – сразу налево, он обозначен дорожными знаками и завешен ценниками, но я проигнорировал шанс запастись освежающими напитками и свернул направо, в заросли. Через несколько шагов я оказался у мощной городской стены, возведенной в том же стиле, что и увиденная с моста крепость. Ацтекское по масштабам сооружение из прусского кирпича. На табличке значилось: заповедник для летучих мышей. Что-то шлепнуло по воде. Рыбак бросил приманку в зеленую от водорослей воду крепостного рва. В стене были ворота, я прошел через них и оказался перед широкой песчаной дорогой. Она вела прямо в центр, и только обочина из больших гранитных плит указывала на то, что эта дорога когда-то была главной улицей исчезнувшего города, а эти неровные плиты служили ее тротуаром. Фазан выпорхнул из высокого кустарника, буйно разросшегося по обеим сторонам улицы. Когда я отодвигал ногой ветви, показывались полуразрушенные фундаменты некогда лучших домов Кюстрина, их обрушившиеся погреба, доверху заполненные запасами земли и мусора. Вымощенная булыжником улочка стороной пробиралась сквозь заросли к большой яркой надписи «Макдональдс», сиявшей в Новом Кюстрине, однако именно здесь, где на высокой мачте развевался польский флаг, раньше стоял замок. Ацтекское настроение сохранялось. Было безветренно. Флаг висел, как увядший цветок агавы на высоком стебле. Это отнюдь не прусские Помпеи, как называли некогда Кюстрин. Не римский день, вырванный по прихоти богов из полнокровной жизни. Скорее доколумбов упадок – заросший, оставленный и забытый плод столетнего равнодушия, а не вулканическая прихоть одного-единственного утра.
Я вошел в призрачное пространство исчезнувшего замка, прошел по его призрачным коридорам, постоял в его призрачных залах – из всего этого здесь сохранился только обгоревший фрагмент дубового паркета. Я подошел к окну, во всяком случае, когда-то здесь была стена, а в стене – окно. Оно выходило во двор замка. Возможно, это было именно то окно, у которого ранним утром появился кронпринц Фридрих13: его заставили, это было частью наказания – стать свидетелем событий, вскоре произошедших внизу. Фридрих в слезах просил фон Катте о прощении, а тот вел себя мужественно перед лицом смерти, – об этом с одобрением сообщает в Берлин его духовник, возмущенный отцом-тираном, который выдумал жуткую сцену в качестве мести, а заодно и воспитательной меры для принца. Фон Катте надеялся остаться в живых. Он до последнего верил, что ему сопутствуют благоприятные знаки; а то, что впоследствии все вышло иначе, вряд ли пошатнуло его мировоззрение. Он отважился не только поддерживать молодого человека, будущего наследника трона, в его личном эскапизме, но и планировал вместе с ним побег в Англию. Он знал, что это преступление. В блеклом утреннем свете 6 ноября 1730 года оказалось, что оно карается смертью. «Je meurs pour vous, mon prince, avec mille de plaisirs. Ради Вас, мой принц, я гибну с великой радостью», – крикнул он вверх, к окну, прежде чем на его голову обрушился меч правосудия.
Гекльберрифинново настроение из сада художника не проходило еще целый день и целую ночь. Шелестели каштаны. Шумели реки. Я лежал на траве. Одер и Варта соединялись как раз под бастионом, у которого я задремал: сон замка захватил и меня. Я проснулся. Парень, которого я заметил в самом начале, все еще сидел на прежнем месте. Загоревшее лицо, разметавшаяся соломенная шевелюра и потрескавшиеся губы придавали ему вид юнги с Миссисипи, которым он очевидно не был, поскольку не собирался заботиться о своем корабле, – он постоянно смотрел через реку на запад, как будто чего-то ждал. Я был бы рад, если бы он ждал где-нибудь еще, ведь ночь была теплой, а место хорошим, у меня не было других планов, и хотелось остаться здесь. Я спустился вниз к круглосуточному бару у границы, чтобы купить воды и шоколада, подождал, пока влюбленные парочки скроются из развалин, забыл о фальшивом юнге и решил быть единственным человеком в Кюстрине.
Я проснулся от сорочьей трескотни и поднимающейся от воды утренней прохлады, вытащил карту Польши, провел прямую длиной в семьсот километров от Кюстрина до Белостока, мысленно прошел севернее Познани к готическому Торуню, перешел Вислу, преодолел путь через Восточную Польшу до белорусской границы, перебрался на другую сторону к Гродно, встал на ноги, потянулся, заметил, что бродяга исчез, обернулся еще раз к Германии, взял рюкзак – и захлопнул за собой эту дверь.
По ту сторону Одера
Воображаемая линия, прочерченная мной на карте, действительно существовала – это была пугающе прямая проселочная дорога, весь смысл существования которой заключался лишь в том, чтобы идти по ней целыми днями; единственным утешением стало то, что автомобильное движение после границы заметно уменьшилось. Запад Польши – бесконечные бранденбургские сосновые леса, смешанные с русскими березами. Отыскать еду или ночлег не составляло труда. Время от времени встречался какой-нибудь городок, какая-нибудь гостиница. На окраине Слоньска, который прежде назывался Зонненбург и был известен своим исправительным домом, кто-то построил гостиницу в виде укрепленного замка с зубчатой стеной и назвал ее в честь польского князя Болеслава Храброго14, за тысячу лет до этого завоевавшего эту землю вплоть до Одера.
От дороги на Сквежину, прежде именовавшуюся Шверин, и дальше на Шамотулы, в памяти осталось лишь несколько пейзажей. Леса и поля. Поля и леса. Где-то в лесу на исходе третьего дня на моей воображаемой линии остановился автомобиль, и я не отказался, когда водитель предложил меня подвезти. Он был специалистом по доильным установкам, и поскольку слышал по радио о расположенном неподалеку лагере бойскаутов, то принял меня за их вожатого.
В лесу под Пневами я переночевал в небольшой гостинице у озера. Ее владелец, бывший судья, оставил службу и открыл летний пансион. Жена судьи была учительницей немецкого, и знакомство с ней имело важные последствия, так как с этого момента без какого-либо участия с моей стороны начала протягиваться достаточно, как впоследствии оказалось, прочная сеть телефонной связи между Вартой и Вислой и даже дальше – когда на следующее утро я отправился в путь, в кармане моей рубашки был спрятан небольшой, мелко исписанный листок с телефонными номерами учительниц немецкого, и, если я иногда прибегал к его помощи, каждый раз выяснялось, что меня уже ждали. Я не мог потеряться: Польша за мной присматривала.
Я уже далеко продвинулся – это верно, – однако я еще не до конца расстался с тем миром, из которого пришел. Каждый проезжавший мимо автомобиль, каждый киоск с батончиками Mars и пакетиками Nescafe был ироничным приветом с родины. До состояния, когда это чувство исчезнет и прекратится постоянный пересчет дней и километров, было еще далеко. Пока не истрепались, не порвались и не стали ненужными пять-шесть карт, мой дух, сновавший туда-сюда между Берлином и проселочной дорогой не нашел успокоения в захватывающей монотонности ходьбы. Эти первые недели странствия были промежуточными, как и сама Польша, которую я решил воспринимать как своего рода наклонную плоскость, откуда я медленно соскальзывал. Так оно и было. На протяжении целой недели я буду еще обращаться к исписанному номерами листку в кармане рубашки, но затем от дружеской помощи следовало отказаться и выскользнуть из ее сетей подобно точке, исчезающей с экрана радаров.
Светлые лесные тропы вели на Остроруг. Неброские браденбургско-русские пейзажи, сопровождавшие меня первые дни за Одером, уступили место мощному дубовому лесу, смешанному с кустарником. Исконная Польша. Пахло грибами, но я их не находил, для них было еще рано, и дикая малина была зеленой. Однажды у дома, стоявшего прямо посреди леса, я встретил человека. Я обратился к нему, указывая прямо перед собой:
– Вилонек?
– Вилонек, так, так!
– Проше?
– Проше, так, так!
– Дзенькуе.
Разговор потребовал всего имевшегося у меня запаса польских слов, примерно так же обстояло с этим дело и дальше.
Вилонек был воплощенной сиестой: безлюдные деревенские улицы и хриплый петушиный крик. За ослепительно белыми деревянными заборами желтым и красным светились крестьянские огороды, за ними притулились кирпичные домики, будто обожженные самим солнцем; стрельчатый свод, из которого выступала Вилонекская Дева, был раскрашен восточной акварелью: светло-желтым, белым и голубым. Моя рубашка насквозь промокла, мой рот пересох, но найти питья не удалось. Мне все время указывали путь на Остроруг, где есть некий rynek, небольшое торговое место, и, в конце концов, – вода и шоколад. Остроружские девицы прогуливались по рынку разодетыми так, словно именно сегодня их ожидал подарок судьбы, но местные принцы пили пиво на скамейке в парке или хватались за стены, неуверенно огибая угол дома на велосипеде.
На улице, ведущей в Шамотулы, меня подобрала учительница немецкого, чье имя значилось на самом верху списка. Жена судьи предупредила ее по телефону, поэтому она ожидала меня на той улице, где я должен был появиться. Это была красивая молодая католичка. На ее руке поблескивало обручальное кольцо, а в кармашке дверцы у пассажирского кресла ее машины лежала Библия. Была пятница, поэтому к обеду в ее доме не подавали мясного. Стол был еловый, как из осеннего каталога «ИКЕА», «ИКЕА» нового времени. Хозяйка предложила мне картофель и цветную капусту. Она помогала вздыхающим малышам разбирать горы капусты на тарелках, и рассказывала мне, что ее отец, как и многие восточные поляки, после войны был переселен из Волковыска. Она отложила в сторону вилку, словно у нее пропал аппетит, и спросила, знаю ли я Волковыск. Этот город теперь находится в Белоруссии. А также заметил ли я, что ее нынешний дом «красный»?
– Красный дом?
– Так называют немецкие постройки: они все из красного кирпича, их легко узнать.
Мой путь лежал через Познанское воеводство, сам город я обходил с севера15, и действительно характерной чертой многих здешних местечек были красные дома кайзеровской эпохи: административные здания, школы, фабрики, крестьянские дворы, вокзалы, а также казармы. До первой мировой войны рейх ускоренными темпами скупал тут земли, строились даже образцовые немецкие поселения. Еще во времена моей юности, много лет спустя после второй мировой войны, познанцами по-прежнему назывались потомки тех, кто переселился сюда до Вильгельма, а затем был вынужден вернуться на прежнюю родину, когда область отошла к Польше по Версальскому договору.
Когда мы сидели в саду, на маленькой машине приехал муж учительницы. Он был в скверном настроении. Пока я под яблоней пил чай с его женой и ел испеченное ею печенье, он выгрузил из багажного отделения какие-то плакаты, затем раздвижной щит с рекламой мороженного, на котором он, очевидно, их развешивал. Настроение хозяйки испортилось. «Политика!» – усмехнулась она, в ее устах это прозвучало как название болезни, требующей незамедлительного врачебного вмешательства. Ее муж был кандидатом от новой консервативной партии. Для предвыборной агитации он ездил в Остроруг, а сейчас вернулся обратно. Она запрокинула голову и рассмеялась в ветви яблони, склоненные над ней, что ей очень шло. Внезапно она посмотрела на меня с раздражением, и я, кажется, понял, о чем она думает. Она сообщила, что не имеет ничего против политических взглядов своего мужа. Она ненавидела коммунизм и благодарила Господа и Папу за крах прежней власти, в юности она с воодушевлением пережила наступление новой эпохи, теперь она была полна планов, – все это она рассказала мне во время короткой поездки. Она специально сбросила скорость и показала мне жалкие здания эпохи коллективизма с их обитателями, не заботившимися о том, чтобы пользоваться свободой и как-нибудь изменить свою жизнь, но мечтавшими как прежде попасть под опеку, «когда все было лучше», и поэтому голосовавшими за партию, которая сулила вновь запереть их в коммунистическом детском саду. Ну и прекрасно! Но теперь она видела, что ее муж раскладывает идиотские предвыборные плакаты в Остроруге, и к тому же она видела меня, который в ее глазах был еще большим бездельником, – и на свободу сразу падала тень. Мрачные мысли пришли ей в голову, подозрение, что свобода в итоге окажется всего лишь мужской уловкой, чтобы избежать преждевременного одомашнивания со стороны женщин.
– Один собирает почтовые марки, – сказала она, – другой странствует, третий занимается политикой. Мой муж историк, вы только на него посмотрите. Эти люди не в состоянии жить без своей политики.
Много раз за время пути меня спрашивали, почему я делаю то, что делаю. Причем всякий раз вопрос адресовался не только мне, он витал в воздухе, он принадлежал улице, он просто существовал. Реальность, через которую шел мой путь, представляла собой сплошной строительный рынок. Огромный рынок плитки, мебели, автомобилей. Вся Польша заново меблировалась, оклеивалась обоями, облицовывалась плиткой, обзаводилась моторами. Эта страна и я двигались в противоположных направлениях, мне хотелось скорее оставить ее позади и как можно быстрее уйти на восток; поляки же шли в другую сторону, они стремились на запад. Поток воздуха, возникавший при встречном движении, задевал меня, он был единственным, что нас объединяло. То, чем я занимался, было здесь неуместно – я чувствовал это. Иным вечером абсурдность того, что я делал, так на меня давила, что я был близок к отчаянию. Мне хотелось отправиться на вокзал и купить билет до Берлина. Единственной причиной того, что я все-таки не отступился, было дальнейшее продвижение. Чем дальше я уходил на восток, тем дальше удалялся вопрос «зачем». Однако все это было мне еще неизвестно, когда кандидат от консервативной партии, наконец, решил со мной познакомиться. Было ясно, что он захочет задать мне этот вопрос. Его жена представила нас, он смерил меня полунастороженным-полунасмешливым взглядом, но не стал присаживаться за столик.
– В Москву, так, так. – Он усмехнулся. – Вам нужно что-то исправить, так?
Он полагал, что речь идет о какой-нибудь паломнической поездке на автобусе, ведь он был католик.
– У нас в Германии есть один святой, который говорил, что усидчивость есть грех против духа святого16.
– И что же с ним стало?
– Сошел с ума.
Учительнице не нравился наш разговор, она спросила мужа, как дела у партии в Остроруге. Он ответил ворчанием.
– Да ладно, скажи. Сколько собрал подписей?
– Нисколько.
Она восторжествовала:
– Нисколько! Ну, что я говорила. У тебя трое детей, слышишь! Что ты носишься со своей политикой?
На это ее муж широко улыбнулся и указал на меня:
– Расскажи об этом ему, ведь он отправляется отсюда в Москву.
– Ах, все вы одинаковы: его Москва, что твоя политика!
Блуждающие звезды
В Шамотулах я всю ночь не мог сомкнуть глаз: гостиница находилась рядом с товарной станцией, металл грохотал по металлу так, будто здесь грузилась половина Восточного блока. Я не выключал телевизор, пока по нему хоть что-то показывали, он был настроен на какой-то польский канал, один-единственный; в фильме много стреляли из автоматов, перевод появлявшихся внизу английских субтитров немного запаздывал, и это усиливало впечатление того, что фильм показывают в учебных целях. Мне пришло в голову, что я гораздо меньше слежу за действием, чем за жестами, словесными оборотами, выражениями. Как один из персонажей хлопнул дверцей машины и, не закрыв ее, ушел прочь. Как он глядел на женщину. Как убивал. Как умирали люди. Я был почти уверен, что смотрел фильм так же, как любой из местных жителей. Как любой из Галиции, Молдавии или с Алтая. Они смотрят транслируемый на всю планету клип, упражняются у себя на родине и делают дешевую копию. Беспомощность окраины мира, ее неуклюжесть, – это жалкие отголоски того, что передает центральная станция. Где же тогда они живут? Что у них есть? О чем они говорят? Что едят? Как держат стакан? Как двигаются? Как стреляют? Как входят в гостиницу?
Я пошел дальше в Оборники. На рынке стояли китчево-зеленые тенты польской пивоварни, ей принадлежал летний бар. Барменш звали Мария и Маддалена, и я был единственным посетителем. Обе девушки были одеты в красные блузки Coca-Cola и были так предупредительны, что при моем появлении немедленно включили итальянскую поп-музыку, а Маддалена исключительно ради меня отправилась купить молока для кофе, который я заказал вместе с плиткой шоколада. Кроме того, у рынка была пиццерия «Аллегро», киоск «Либерти» с мобильными телефонами, киоск с бюстгальтерами, киоск с солнечными очками и магазин газонокосилок.
Я подождал немного в баре, затем из-за угла вынырнула огненно-красная малолитражка, из которой вышла очередная учительница немецкого, значившаяся в моем списке. Бернадетта настояла на том, что посвятит мне день и покажет местность, – так мы и ездили до самого вечера. Она продемонстрировала мне три мечты. Первая мечта была дневная. Бернадетта привезла меня к секретному месту у реки, где она в детстве пряталась, когда хотела побыть одна. Затем мы отправились к священнику из Рожново, который, по ее словам, был образованным человеком. У него были глаза янтарного цвета и очень мало времени, поскольку вот-вот должна была начаться служба. Стоя в полном церковном облачении в дверях своего роскошного священнического дома, он импровизировал вслух о похороненном у местного костела Франтишеке Мицкевиче, брате великого поэта, и польская мечта XIX века о свободе была для него столь насущной, словно речь шла об ужине, который ему приготовит кухарка. Правая рука священника была сжата в кулак, а жестом левой он подчеркивал то, о чем говорил; я заметил, что ногти девяти его пальцев, кроме покалеченного указательного пальца правой руки, были хорошо ухожены. В сумерках Бернадетта привела меня в семью, где меня встретили бигусом и прочими польскими кушаньями, а сын хозяев уступил мне комнату. Он оканчивал школу, упорно тренировался и хотел служить в армии, а затем в спецподразделении – его комната была увешана плакатами, на которых замаскированные и тяжело вооруженные спецназовцы нападали на дом, на поселок, на самолет.
Лето держалось, каждый следующий день был столь же жарким, как и предыдущие, – скоро я буду на Висле. Когда я это понял, меня обуяла дикая радость, впервые я поверил в свое счастье. Нет, ни шагу назад. Вперед! Если только я переберусь через Вислу, все будет в порядке. Лето было не против меня, оно давало мне знак, оно меня принимало.
Я решил сделать передышку перед великим штурмом, и так случилось, что меня пригласили провести выходные в одном крестьянском доме, к востоку от Оборников. Пан Адам, хозяин, тоже был учителем. Он был историком по призванию и крестьянином вследствие женитьбы, к тому же он занимался международными польско-немецкими проектами. Из немецкого он перенял свою присказку: «Immer mit der Ruhe! – Спокойствие, только спокойствие!». За едой он рассказал об аристократических семьях, возвращавшихся из эмиграции, из Лондона или Парижа. Было упомянуто название Обьезеже, эта усадьба была расположен за несколько деревень отсюда, и имя Турно, семья которых жила там из поколения в поколение, а сегодня оказалась рассеянной по всему свету. В Познани, однако, был некий юный Турно, заинтересовавшийся семейной резиденцией. Пан Адам предложил меня с ним познакомить.
Тесть Адама, невысокий жилистый старый крестьянин, не принимавший до сих пор участия в беседе, отложил в сторону нож и вилку и сказал:
– У масона из Хрустово в доме было шесть черепов. Он держал их в той комнате, где играл с друзьями в карты. А когда надвигалась буря, он садился на коня, объезжал кругом свое владение, говорил всякие слова, и буря уходила. Польская горничная пробыла у него три дня, а потом сбежала из этого ужасного дома. Она черепа увидела.
Старик сделал глоток перед тем, как продолжить:
– Масон из Хрустово был немец, он выпивал каждый день много литров шнапса и предупреждал поляков, когда гестапо хотело их забрать. Каждый день в три часа он выпивал пару шнапсов вместе с мельником, тот тоже был немец. Масон из Хрустово стал управляющим в его поместье, но затем хозяин поместья умер, а масон женился на вдове, она была полькой. Когда было время урожая и пришла гроза, он приказал привести коня, объехал вокруг своих полей, и гроза ушла.
Старый крестьянин замолчал так, как после еды отодвигают тарелку. История про масона была рассказана. Больше рассказывать было нечего. Он поднял стакан и сказал по-немецки:
– Prost! На здоровье!
И затем:
– На востоке они тоже это делали.
– Пили шнапс?
– Колдовали. Они выносили мадонну из дома, помещики, там, в Галиции, и ставили ее во дворе, когда приближалась буря. С мадонной это тоже получалось, сосед мне рассказывал, он оттуда, его русские переселили. Война. – И после небольшой паузы. – Война бывает, когда звезды блуждают. Вы об этом слышали?
– Да, вроде.
– Я один раз видел, в юности. Они движутся, кружат. Это значит, что народы будут блуждать. Здесь у нас всегда переселение народов. Первых восточных поляков переселили сюда еще во время войны, в железнодорожных вагонах, а не после нее. Многие теперь здесь живут, многие белорусы. Перед чеченской войной опять кто-то видел, как звезды блуждают, но это говорилось по радио, я не знаю этого человека. И еще одно. Все войны начинаются летом, когда зерно убрано и хлеб заготовлен. Наполеон пришел летом. Гитлер пришел летом. Мой прапрапрадед служил у Наполеона офицером, он был немец. Его звали Хельман. Только русские не такие. Они всегда начинали свое наступление зимой.
Тут пан Адам подкатил свою машину, мы все уселись в нее и отправились в монастырь Любин, потому что был праздник. По пути он показал мне местные усадьбы, и почти каждая из них имела какое-то отношение к еще одному Адаму – Адаму Мицкевичу. В этом замке польский герой некоторое время жил, в том он гостил, в следующем он познакомился с дамой. Что за времена, когда любовь, война, и поэзия поддерживали между собой столь нежные отношения! В небольшом замке Смелув польскому поэту устроили настоящий национальный музей. Горящими глазами его юные соратники взирали сверху вниз на скверно одетых посетителей, безучастно бредущих мимо. Как насмешка висела на стене «Ода к молодости» Мицкевича. «Без душ и без сердец – то сонмища скелетов…»17 Я остановился у небольшой картины, написанной маслом. Бонапарт, крестный отец поляков, летит на санях через русскую границу, вокруг тьма, позади него – заснеженные ели, в небе – черные вороны. Через Вислу, через Неман, через Березину – я стремился туда18.
Польский дзен
Мы пили зеленый чай с Любинским настоятелем. Он добавил в него несколько зерен коричневого риса. Настоятель был одет в черную футболку от Версаче, носил седоватую бородку, как у Версаче, комплекцией напоминал Джанни Версаче и звался так же – Ян. Он был мастером дзен, а Любин – бенедиктинским монастырем. Он показывал мне фотографии. Его учитель. Его ученики. Его братия. Его поездки. Его лучший друг, польский еврей буддийской веры, преподающий в Париже корейское направление дзен-до.
Когда я ему рассказал о своем намерении, он достал новые фотографии. Монах с бородкой, как у Версаче, на фоне Кремля, монах с бородкой, как у Версаче, на Красной площади. И несмотря на то, что он, разумеется, стоял выше всякого национального эгоизма, он все-таки оставался поляком и не смог удержаться, чтобы не указать своему немецкому гостю на одно обстоятельство, которое, по его словам, часто упускают из виду:
– Единственные, кому удалось надолго захватить Москву, были поляки в 1610 году – вы это знали? Наполеону удалось продержаться лишь несколько недель, а Гитлеру, как известно, не удалось вообще.
Он положил на стол еще одно фото. Человек с бородкой, как у Версаче, перед стеной русского монастыря в Загорске, что под Москвой. Он кивком пригласил меня всмотреться внимательнее и заметил с довольным видом:
– Вот, полюбуйтесь! После нашествия поляков стены Загорска сделали выше.
Ему доставило радость снабдить меня в дорогу самыми черными представлениями о русских. Его друзья, начал он невинно, ездили в Москву, чтобы обсудить свой бизнес с русскими партнерами, они сидели в гостиничном номере, все складывалось неплохо, но затем русским что-то не понравилось. Один из них неожиданно выхватил пистолет, снял с предохранителя и продырявил стол, за которым велись переговоры, – после этого его друзья свернули свой русский бизнес. Из нас двоих эта история забавляла одного настоятеля.
Затем он провел меня по монастырскому храму, двести семьдесят лет назад здесь появились вездесущие баварские художники и написали фрески с сюжетами из жизни всех четырех сторон света: индус с ламой, японец с зонтом, африканский лев, священная корова Шивы. Далее путь лежал мимо пятидесяти девяти ангелов, облаченных в прозрачных полиэтилен – собор как раз реставрировался, – а потом наверх по множеству лестниц. Полуприкрытые глаза ренессансной мадонны неотступно следили за мной. Куда ты бежишь, шептала она, всё ведь здесь, все четыре стороны света – только иллюзия.
Зал для медитаций любинских монахов выглядел, как многие другие залы для медитаций. Гладкий дощатый пол, подушечки пастельных оттенков, накидки, фото Далай-Ламы, толкующего перед монахами ордена заповеди святого Бенедикта. Спускаясь обратно, мы прошли мимо мемориальных табличек с именами погибших бенедиктинцев. 1941 год, Вильно. 1942 год, Дахау. И так далее. По необычной традиции настоятель каждый ноябрь посещал Освенцим, где он часами сидел между железнодорожных путей на ледяной земле. На платформе он воздвиг небольшой каменный алтарь и молился за души убитых и убийц. Он делал это с друзьями разных национальностей и религий.
Он снова показывал фотографии, на этот раз черно-белые. Небольшая, закутанная из-за мороза группа на рельсах Освенцима – все это напомнило мне акцию немецких противников захоронения ядерных отходов, и моя реакция была предсказуема. Я ничего не сказал, но подумал, что так нельзя. Это смешно и абсурдно. Затем я взглянул на сидящего рядом монаха в его рубашке от Версаче, с его неумелыми исканиями, и был вынужден задуматься о мерно гудящем механизме немецкой памяти, обладающем истинно немецким качеством, при котором звук от падения одного-единственного незакрученного винтика мог вызвать скандал; я смотрел на монаха, и мне пришло в голову, что один-единственный незакрученный винт имеет большую ценность, чем вся совершенная машина, и один-единственный ищущий более ценен, чем тысяча инженеров памяти. Затем я снова взглянул на его любительские фото и подумал, что то, что делает настоятель в ноябрьский холод в Освенциме, – это ненормально. Мусульманин трубит в еврейский шафар, раввин просит окружающих спеть колыбельную на родном языке, и ясно, что у стоящих там немцев в этот момент перехватывает дыхание. Лишь в самом конце одна немецкая монахиня тибетского вероисповедания все-таки запевает: «Guten Abend, gute Nacht, mit Rosen bedacht, mit Nelken bedeckt, schlupf unter die Deck, morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. – Доброго вечера, доброй ночи, украшенный розами, укрытый гвоздиками, прячься под одеяло: завтра утром, если будет угодно Богу, ты снова проснешься19».
Как смешно. Как ненормально. Как смело. Ищущий всегда выставляет себя посмешищем в глазах всего света. Насмешки бюргеров над мистиками – то же самое, что хихиканье детей, когда взрослые ведут речь о сексе. Захватывает, но пугает.
Настоятель предложил мне немного пожить в монастыре, я поблагодарил и отказался. Вдруг он поднялся, было шесть часов вечера, братья уже пели. Перед тем как исчезнуть, он успел еще прокричать мне свое толкование слова «контемпляция», мистическое созерцание:
– Погрузиться в созерцание – значит, собственно, утонуть.
Любовь польской графини
Пан Адам cдержал слово. Воскресным вечером черный вольво припарковался у ворот парка в Обьезеже, двое высоких мужчин вышли из автомобиля. Младший из них – должно быть, Турно. Он был в темном костюме и с самого начала придал всему происходящему оттенок непринужденности, что свидетельствовало о его космополитизме. Старший этим теплым летним вечером был одет в светлые брюки и рубашку и выглядел настолько по-западному, что я спросил себя, в чем это проявлялось. Вероятно, в естественности аристократа, которому ближе легкая беседа, чем ожесточенный спор, и который предпочитает рассказать анекдот, чем настаивать на своей правоте. Одним словом, он был приятным человеком.
Младший представил мне его как графа Манковского.
– Он продал свою прекрасную квартиру рядом с Пляс Вандом, – сказал Турно по-немецки, – и переехал из Парижа в Познань, он полностью отказался от своего французско-английского образа жизни, чтобы снова быть здесь, на своей родине.
Затем мы бродили по парку и рассуждали о польском германофильстве.
– Эта часть Польши была бы германофильской, – говорил Манковский по-английски, – если бы не политика Бисмарка, направленная на германизацию в то время, когда Познанская область принадлежала кайзеру. А потом, конечно, ужасы СС.
Его друг слушал несколько удивленно, как будто они впервые беседовали об этих вещах. У Турно, по его словам, не было никаких сложностей с тем, чтобы назвать себя другом немцев. В восьмидесятые годы он еще юношей ездил в Германию по приглашению нескольких семей, чтобы изучить на их землях сельское хозяйство и администрирование, ему тогда помогли задержаться на полтора года.
– Я не знаю, почему они это делали. Наши семьи никогда не были знакомы. Однажды сюда приезжал на охоту немец, он и мой отец сразу же нашли общий язык. Кроме того, существовал круг немецких аристократических семей, которые занимались этим. Впрочем, они помогали не только мне, они также достали печатные станки для Солидарности.
Мы подошли к дому, в котором жили предки Турно, он выглядел заброшенным, только с обратной стороны в одном-двух окнах верхнего этажа горел свет. Я спросил Турно, рад ли он вернуться. Он махнул в сторону темных очертаний за изгибом парковой дорожки.
– Там покоятся двадцать пять моих предков.
Это была семейная часовня, в сумерках она была едва различима.
– Мне принадлежат здесь только могилы, они не были разорены, поскольку находятся под церковью.
Он пытался вернуть усадьбу в собственность, но, по его словам, он деловой человек и должен заработать много денег, прежде чем вложить их сюда.
– К имению относилось также много земли, три тысячи гектаров, но она давно уже поделена между другими людьми, пусть она у них остается, это уже история. Нет, я не хочу, чтобы усадьба принадлежала мне. Скорее уж какому-нибудь фонду.
Манковский одобрительно кивнул.
– Даже если эти дома снова принадлежат нам, вы знаете, какие это влечет за собой расходы? Чтобы жить в таком доме, нужно иметь пятнадцать слуг.
– А также большую семью, – сказал Турно, – и окружение. Без соседей, без расположенных вокруг дворянских усадеб и имений, жизнь в этих домах немыслима. Это была система семейных связей, люди навещали друг друга, приглашали в гости, вместе оправлялись на охоту. Все это в прошлом.
– В безвозвратном прошлом.
Ночь целиком завладела парком, дом, о котором мы беседовали, стал почти невидим, и вороны, наконец, договорились, на каком дереве им ночевать. Их пронзительное карканье было для меня еженощной серенадой, так будет впредь: вся земля к востоку от Берлина – воронье царство. Мы сели на скамейку. Никто не собирался уходить.
– Вы в самом деле хотите дойти до России?
– Да, до Москвы.
Манковский взглянул на меня, и в сумерках я не разобрал, был ли услышанный мной смешок, с которым он повторил слово «Москва», уважительным или насмешливым.
– Позвольте мне рассказать вам одну историю, just to entertain you – просто чтобы поразвлечь вас. Но предупреждаю, она правдива. Одно из семейных преданий. Среди моих предков была литовская дворянка, и когда русские оккупировали страну, их военачальник поселился в ее доме. Однажды он приказал повесить простыню в большой комнате и установить проектор, после чего попросил мою родственницу посмотреть вместе с ним кино. Только они вдвоем. Он пообещал, что она не будет скучать: это очень захватывающий фильм. Он сам был режиссером. Тут уж моя родственница догадалась, что после сеанса ее ожидает разговор, от которого многое будет зависеть, возможно, даже ее жизнь. Это был фильм о войне, и речь шла об очень красивой, юной русской партизанке, которая, увы-увы, влюбилась в немецкого офицера. Об этом узнали ее соратники, и было решено, что она умрет. Но, поскольку она была так прекрасна, никто из ее товарищей не хотел сделать роковой выстрел. И они решили столкнуть ее с поезда, когда он будет проезжать по мосту через ущелье, – что и случилось. Этой трагической сценой фильм заканчивался, и русский спросил мою родственницу, понравилось ли ей. Она была хорошо воспитана и крепко держалась за свою жизнь, поэтому ответила, что фильм просто замечательный, и она не могла перевести дух до самой последней секунды. Русский был, похоже, доволен ее ответом, она осмелела и попросила его ответить на свой вопрос.
– Как вы снимали финальную сцену? Актриса так убедительно играет момент своей гибели, как вам это удалось?
Русский был несколько озадачен.
– Играет? Она не играет. В этой последней сцене мы действительно столкнули ее в ущелье.
Сквозь беззвучный смешок, который обычно сопровождает подобные остроты, Манковский сказал:
– They just think different. Они не такие как мы.
Что-то зашелестело, но невозможно было понять, человек или зверь. Затем в свете единственного целого фонаря мы увидели, как через ночной луг что-то крадется. Разговор прервался, это был хороший повод, чтобы разойтись, но, похоже, ни у кого из нас не было желания вставать со скамейки и покидать темный сад с его воспоминаниями.
– Если вам интересно, я расскажу еще одну историю, – начал Манковский, – и тоже правдивую. Эта женщина была действительно незаурядной. Она жила в Винногоре, в усадьбе недалеко отсюда. В начале оккупации она поддерживала дружбу с несколькими немецкими офицерами, которые у нее квартировались; позднее она оставила Польшу, работала переводчицей на вермахт в оккупированной Франции и одновременно, рискуя жизнью, – на польское Сопротивление. При этом она была красивой, в высшей степени красивой женщиной.
– Имение Обьезеже тоже было конфисковано, – прервал его Турно, – Артур Грейзер20 забрал его себе.
Если бы шестьдесят лет назад мы сидели на этой скамейке у ворот, гауляйтер Познани проехал бы всего в нескольких сантиметрах от нас.
– Винногору взял себе фельдмаршал Кейтель21, – произнес Манковский, и в его словах не было уже ни тени шутки. Он говорил с искренностью и серьезностью, не допускавшей сомнений. Он был родственником прекрасной владелицы усадьбы. – Эта женщина не просто выжила, играя рискованную роль двойного агента, но провела невредимыми через войну двух маленьких сыновей и спасла мужа от верной смерти. Моего отца. Да, я говорю о своей матери22, вы не слышали о ней? Недавно ей вручили крест за заслуги перед Германией.
Он мысленно перенесся через Одер и Рейн к самой Луаре, к другой усадьбе, весьма скромной, и к одной пожилой даме, которая там жила. Графиня Манковская никогда больше не бывала на своей родине, которую она вынужденно покинула осенью 1939 года. Да и зачем? Польские коммунисты совершенно не стремились вернуть то, что было отнято нацистами. Еще в августе 1939-го она вела в высшей степени беззаботную жизнь молодой замужней аристократки. Она родилась в восточно-польской глубинке, в древнем дворянском имении в Галиции, напоминавшем скорее крепость, чем усадьбу, поблизости от украинской и румынской границ. Однажды там объявился молодой австриец Руди, унаследовавший соседнее имение, и она влюбилась в него. Оба мечтали о свадьбе. Как-то раз Руди отправился на охоту, а под вечер ей позвонили и сообщили, что он мертв. Застрелен браконьером. Она была безутешна, но, несомненно, ее мать имела право утверждать, что лучшее лекарство от ран любви – это любовь; в какой-то момент была устроена встреча с молодым аристократом, прибывшим с далекого польского запада, немного позже они поженились, и она с ним уехала. Так она появилась в замке Винногора под Познанью.
Что-то назревало тем летом. Несколько месяцев то тут, то там возникали слухи о войне, а в августе все свершилось за считанные часы. 30-го числа – мобилизация поляков, спустя два дня – вход немецких войск. И вот уже отхлынула разгромленная польская армия, деревья в Винногоре еще не пожелтели, а парк, дом и все Познанское воеводство уже принадлежали рейху. Большинство знати из окрестных имений бежало на восток или заграницу, на запад. Юной даме из Винногоры бегство казалось трусостью: повязывание крестьянского платка и переодевание в одежду прислуги, что на ее глазах случалось с некоторыми дамами, она находила смешным. Трусость не для такой, как она: она иначе воспитана. Она выросла в пограничной крепости, рассказы о доблести и мужестве перед лицом смерти обыденны в суровых галицийских семьях. И она знала, на что способна.
– У нее в гардеробе висело длинное до пят платье, которое надевала ее прапрабабушка на коронацию Наполеона.
Это было давным-давно, но красивая женщина есть красивая женщина, а платье есть платье. Наполеоновское пусть остается в шкафу, в конце концов можно найти кое-что и получше. Клементина Манковская сосредоточилась на прическе и макияже, выбрала одно из наиболее эффектных своих платьев, с цветочным узором, и встретила немецкую оккупационную армию на пороге парадного крыльца. Армия явилась к ней в образе семи офицеров, которые вели себя более чем учтиво по отношению к хозяйке и к слугам. Эти семеро не скрывали своего отвращения к Гитлеру и были настолько любезны, что беседовали с хозяйкой дома по-французски, чтобы не компрометировать ее перед слугами. Пусть немецкая гувернантка не могла скрыть своей радости по поводу новой власти в доме, но пока еще длилось хрупкое лето первой оккупации. Все пытались приспособиться к новым условиям. Усадьбу делили почти по-братски. Однако война и победа быстро отодвинулись дальше на восток, и как только семь офицеров были откомандированы, что произошло уже через пару недель, появился управляющий, который должен был подготовить замок для Кейтеля, гувернантка вступила с ним в связь и дала понять своей обворованной госпоже, кто теперь в доме главный. Графине пришлось смириться со своим полным разорением: даже содержимое шкафов пришлось отдать в распоряжение управляющего, который волен был хозяйничать, пока сам фельдмаршал после скорого окончания войны не поселится в Винногоре.
Но пока был сентябрь, и случилось еще кое-что. Один немецкий полковник23 бывал в Винногоре чаще, чем того требовала служебная необходимость. Он не мог вдоволь налюбоваться на эту картину, которая возникла на пути его быстро продвигающейся вперед армии, как медальон на цепочке из беспечных сказочных дней: прекрасная юная всадница, скачущая на своем белом арабском жеребце Дагомане вдоль опушки горящего осенними красками леса. Этот образ воспламенял его тлеющие юношеские мечты, ведь и он сам был всадником душой и телом, и кто знает, как повернулась бы его судьба, если бы не война! Это был действительно памятный медальон, скорее, впрочем, для нее, нежели для него. Ее немецкий офицер отправился дальше на восток, она увиделась с ним еще однажды, в другой раз они разминулись, а после войны она сама уехала далеко из Европы, но чем старше она становилась, тем драгоценнее делался для нее медальон. Всю свою долгую жизнь графиня Манковская хранила воспоминание об этой невозможной любви, снова и снова она извлекала его наружу, рассматривала и отполировывала до блеска. В глубокой старости она решила сесть и все записать. И было не исключено, что даже сейчас, когда ее сын в темном парке рассказывал эту историю незнакомцу, там, в доме на Луаре, ее мысли возвращались к прошлому. Вновь и вновь.
Когда наконец пришло известие от мужа, она обратилась за советом к своим семи немцам. Она ничего не слышала о нем с самого разгрома Польши. Он, конечно, как офицер сражался в поверженной польской армии. А теперь, как она узнала, он лежит тяжело раненный в госпитале где-то в центре страны. Было решено, что она немедленно отправляется в путь, чтобы вытащить его оттуда, и двое из квартировавших у нее немцев, военный врач и капитан, стали ее сопровождать. В результате поисков она нашла мужа, и в этот момент старое отмирает и рождается новое. Юная аристократка превращается в героиню романа, а беззаботная мирная жизнь – в сам военный роман, по страницам которого Клементина Манковская странствует как кочевник жестокого времени, которое никому и ничему не дает остаться собой прежним.
Граф в величайшей опасности. Польской элите не суждено пережить войну. Жена спасает его: у заправочной станции вермахта она подготавливает для бегства машину и бензин. Она находит немецкого фельдфебеля, который дважды в неделю отвозит в комендатуру на подпись прошения об освобождении из плена простых польских солдат. Она очаровывает и подкупает его, заставляя подложить формуляр лейтенанта Манковского в число тех прошений, которые должны были удовлетворить. Она действует хладнокровно, решительно, сознавая власть женщины, желания которой мужчинам трудно не исполнять. Ей везет, невероятно везет.
– Она не только тайно перевезла моего отца домой из госпиталя, но и добилась для него восстановления прав. Она убедила генерала фон Гинанта24, командующего Восточной Польшей, выдать документ, в котором излагался инцидент, приведший к тяжелым ранениями графа Манковского, и вермахту было приказано вплоть до конца войны обращаться с ним как с раненым немецким офицером. Случилось вот что: мой отец был послан с какими-то военными бумагами в один из наших госпиталей, где его ожидали польские офицеры. Он услышал снаружи стон, пошел выяснить, в чем дело, и обнаружил, что пятеро польских солдат бьют прикладами лежащего в крови немецкого офицера. Он вступился и приказал немедленно прекратить. Так не поступают с врагом – значилось в его кодексе чести. Эти пятеро, однако, не подчинились приказу лейтенанта и стали еще ожесточеннее избивать тяжело раненного немца. Отец позвал санитара из ближайшего госпиталя, солдаты объявили его предателем и бросились теперь на него. Их вожак несколько раз выстрелил, отец упал без сознания.
Когда моя мать его разыскала, было неясно, сможет ли он выжить. Он подвергался двойной опасности: его должны были вместе с другими польскими офицерами отправить в Германию, и моя мать перевернула небо и землю, чтобы его не тронули. Ее собственный отец, мой дед из Галиции, при разделе Польши попал в руки советских и был отправлен в Россию. Он оказался в числе четырех тысяч пятисот польских офицеров, которых Сталин приказал уничтожить в Катыни. Охранное письмо генерала некоторое время действовало, о него разбились первые попытки забрать этого невероятным образом освобожденного и живущего в своем доме польского лейтенанта, – осенью все складывалось благополучно. Вплоть до того утра, когда приехали гестаповцы и забрали отца. В это время как раз начались расстрелы. Моя мать послала в город на велосипеде сына нашего повара и тот привез ужасные новости: гестапо приказало возвести на рыночной площади помост, на котором завтра расстреляют пленников. Мать вывела Дагомана из конюшни и поскакала через лес, через небольшой город, к одной из усадеб. Генерал фон Гинант, разумеется, тоже жил в захваченной усадьбе. По счастью, он был дома. Он успокоил мою мать. После чего позвонил своему знакомому, и тот дал указание гестапо перевести графа Манковского в познанскую больницу, находившуюся под опекой немецких монахинь. Невероятно, но отец снова был на свободе. Этой ноябрьской ночью, когда она верхом возвращалась домой, она во второй раз за несколько недель спасла жизнь своему мужу.
Манковский сделал пуазу, мне не было видно его лица. Затем он произнес:
– My mother is that kind of person. Afraid of no one.
Она была такая. Она никого не боялась.
– Спустя три недели снова пришли гестаповцы. На этот раз они дали ему три минуты на сборы. Она показала им письмо генерала. Они его порвали. Мы все теперь были пленными. Отец, мать, мой маленький брат и я. Несколько дней мы провели в лагере. Затем мы ехали в поезде, я помню, что вагон был очень холодным. Мы с братом побежали к дверям, чтобы согреться. Там были немецкие офицеры. Я, конечно, говорил по-немецки, у меня была немецкая гувернантка, я привык отдавать приказы, поэтому я сказал, что хочу пройти. Это услышал один из офицеров. Пустите их, сказал он, они еще дети. Офицеры были с нами очень любезны, дали нам шоколад и другие вещи, – это был вермахт, а не гестапо. Они спросили нас, одни ли мы едем. Нет, с нами мама и папа. Ну, ведите тогда их сюда, был ответ. После дневного переезда через замерзшую страну, поезд внезапно остановился прямо в поле. Нам крикнули:
– Пленные из вагонов.
Пленных должны были увезти. Офицеры сказали нам:
– Вы оставайтесь здесь, поезд едет в Варшаву, там вы незаметно сойдете.
Они спасли нам жизнь.
Оставаться в Польше Манковской было нельзя. После нескольких приключений она с сыновьями попала на остров Нуармутье у атлантического побережья Франции, где нашла себе место переводчицы при местном штабе вермахта. Ее муж в безопасности, где-то на нейтральной территории. Он собирается присоединиться к польской эмигрантской армии. Манковская позволяет абверу завербовать себя, чтобы одновременно добывать информацию для отряда Сопротивления, состоявшего из польских офицеров; отряд посылает ее с поручениями по всей Европе и, что еще более осложняет ситуацию, ведет борьбу с руководителями польской эмиграции в Лондоне, – смертельный исход становится все более вероятным. Между тем Сталин договорился с Гитлером и занял Восточную Польшу. Манковская боится за родителей. Отец исчез, мать скрывается. Графиня добывает себе бумагу от вермахта. Вопреки доводам разума она предпринимает смертельно опасное путешествие через всю Францию, Германию и оккупированную территорию в Галицию. Ей помогают в этом три немецких генерала, среди которых уже повышенный в чине бывший полковник из Винногоры, а теперь – военный комендант в Львове. Вновь вспыхивает это невозможное чувство.
Она находит свою мать, узнает, что их замок разорен, а отец увезен советскими, ей чудом удается избежать нескольких арестов, она возвращается во Францию и в конце концов через Марсель и Португалию перебирается с детьми в Англию, где снова встречается с мужем. Там заканчивается ее военный роман. Своего немецкого полковника она никогда больше не встретит. Возможно, она видела еще раз его фото в газете: после войны он стал известным спортивным наездником. Но даже это маловероятно, ведь в Конго такие газеты достать непросто. Именно туда они с мужем переселились.
Пожалуй, в этом секрет ее везения в роли двойного агента и еще большего везения в роли выжившей: она налаживает дружеские связи. Она никогда не ограничивается только деловыми отношениями. Она проходит через войну с возвышенной наивностью, которую нельзя путать с глупостью или с недостатком благоразумия. Она позволяет себе роскошь личных отношений с людьми и даже с войной. Даже с немцами, которых она защищает в своих воспоминаниях от огульных обвинений со стороны ее собственных друзей-союзников. Даже с поляками, которые отнюдь не всегда относятся к ней дружески. Она рассматривает их всех по отдельности и выше всего ценит то, симпатичен ли ей человек или даже любит ли она его, чем то, какую униформу он носит. Это опасная, но глубоко укоренившаяся роскошь, которая в другие времена и в другом человеке была бы воспринята как проявление сословного высокомерия, но графиня не собирается от нее отказываться. Очевидно, эта роскошь стала ее второй натурой. Но более вероятно, что она тесно срослась с ее первой. И совершенно точно, что это спасло ей жизнь.
Мы молчали. Вторая история, которую граф Манковский предложил пару часов назад, теперь закончилась. Много месяцев спустя в Берлине я перебирал стопку писем: графиня писала их одному немецкому другу, а он их мне показал. «Не разочаровывайтесь слишком, – начинает она письмо, – когда встретите старую, очень старую и немощную женщину. Но настоящее «я» не меняется со временем. Я чувствую себя такой же, как в двадцать и в тридцать лет. Те же глубокие чувства. Платоническая любовь вечна, она не имеет конца. После десяти операций я уже не в состоянии делать те вещи, которые доставляли мне удовольствие. Ухаживать за моими розами. Подолгу читать (очень плохое зрение). Водить машину. Так что же мне остается? Мечтать. О прошлом. О несостоявшемся счастье и невозможной любви».
Оставаться не было больше повода, мы покинули парк. Я спросил Манковского, счастлив ли он.
– О, да, конечно, я счастлив. Я вернулся и больше не хочу уезжать. Здесь все, что мне нужно. Я орнитолог и, кроме того, интересуюсь, как вы заметили, историей. А птиц и истории здесь в избытке.
Бар у Тома – злачное место
Я оставил дом Адама и направился через Жнин на Иновроцлав. На летнем ветру шелестели тополя, многие поля были уже убраны, было самое время для походов на восток, как сказал бы тесть Адама. Это была земля Пястов, первой польской династии. Повсюду были грубо вырезанные из дерева исполинские всадники, подобные тому, мимо которого я как раз проходил, его изношенный щит был раскроен пополам, словно какой-то великан ударом меча рассек его сверху вниз. Польская любовь к рустике. Я сидел за массивным крестьянским столом со свечой в резном подсвечнике, пил польское пиво, ел толстые польские сардельки, а потом уединился в обитой деревом комнате.
Хохензальца – так назывался Иновроцлав в немецкое время – появился за полями под вечер после долгого марша, я вошел в него через парк отдыха, и, казалось, город все еще оставался тихим соляным курортом, о чем свидетельствовало его немецкое название. Единственная гостиница возникла здесь для того, чтобы путешественники не чувствовали себя чужаками. Строгий конструктивизм с буковой отделкой смягчили каплей индивидуальности, украсили изящным шрифтом, добавили щепотку характерности и приправили радушием, будто веточкой петрушки. Эта гостиница могла бы оказаться в любой точке мира, где останавливаются наблюдатели ООН, инспектирующие выборы. Что совершенно не означало, что она была лучшая из встретившихся на моем пути.
Я нашел единственный ресторан со столиками на улице и стал в нем единственным посетителем. Одновременно с едой явились три ребенка-попрошайки: девочка и два мальчика. Все трое были худыми, дикими и невероятно шустрыми. Самым напористым оказался младший, лет девяти, хотя его глаза казались на десять лет старше, а кожа, как у всех уличных детей, была землисто-серой, не темневшей на солнце. Он повис на заборе, набросился на меня, как маленький юркий зверек, мгновенно исчезающий с добычей в кроне дерева, и заговорил на языке, который мне прежде никогда не доводилось слышать, состоявшем из односложных восклицаний: «фик!», «зак!», «ман!» и тому подобных.
Малыш не мог знать, что сидящий за столом человек тоже подчинялся своим животным инстинктам. Я был голоден, мне было не до шуток. Я провел весь день в пути и съел только плитку шоколада, я защищал свою пищу и отгонял вора прочь от тарелки. Ошибкой было то, что я делал это вслух: троица тут же поняла, что имеет дело с иностранцем. Они скрылись за углом и вернулись, вооруженные новыми словами. Младший вопил: «Мани! Мани!» и недвусмысленно потирал большой палец указательным. Когда это не принесло успеха, он вскочил на забор, вытянулся, насколько мог, и накинулся на мою тарелку. Добычи ему досталось совсем немного: ел я быстро.
Я отправился в спортбар на другом конце рыночной площади и взял себе пива. Коротко стриженный толстый парень приставал к визжавшей девице, пытаясь накрыть ее сачком для ловли бабочек. Играла британская поп-музыка, быстро надвигались сумерки, прохожий звал свою собаку: «Дэмон! Дэмон!»
Холодный пот выступил у меня на лбу, когда я заметил, что в бар вошла пухлая девица, сегодня в полдень сидевшая передо мной в деревенском автобусе. Автобус шел в Жнин, – я проехал немного, когда начался дождь, – я запомнил ее, поскольку произошло нечто странное. Девица вдруг оказалась снаружи автобуса, – я увидел, как она шла мимо, – при этом я был абсолютно уверен, что автобус не останавливался. Мне сделалось не по себе. Я оставил свое пиво и отправился в бар «У Тома». Бар «У Тома» в Хохензальце – злачное место, музыка там такая же отвратительная, как и посетители, и еще там дают, не спрашивая, полулитровый жбан пива. Его я тоже оставил на стойке и пошел в бар «2+1». Там было лучше, люди сидели за столиками, покрытыми красными, зелеными и желтыми скатертями, – я выбрал желтую – были даже человеческих размеров бокалы с пивом, и я перестал ощущать себя бродягой.
Быстро придя в себя, я направился в четвертый бар, без названия. Тут снова были пивные жбаны, что меня уже не волновало, поскольку я обнаружил музыкальный автомат. Я перекидал в него всю свою мелочь, выбрал десять раз подряд «Nothing Really Matters»25 и говорил что-то своему жбану и Мадонне: что именно, назавтра я вспомнить не смог. Этот новый день опять был прекрасным, небо – синим и белым, а Иновроцлав – самым расчудесным городком, который только можно себе представить.
Несколько часов спустя я сидел на водосточном люке у обочины и размышлял о том, что иду по кругу. Куявско-Поморское воеводство нисколько не выглядело восточнее страны за Одером с ее бесконечными сосновыми лесами, оно казалось более западным. Более холмистым, опрятным, густонаселенным, менее сельским – идти здесь было гораздо труднее. Мне хватило с лихвой пыли и грязи, летящей в лицо из-под колес грузовиков. Я отыскал на карте дорогу, где, по моему предположению, движения было меньше, и это меня страшно обрадовало, ведь от моих точных карт обычно было мало толку. Польские улицы, как паутина, разбегаются от больших и маленьких центров, у меня ни разу не получилось найти параллельный путь: такого просто не существовало.
Неширокая дорога поворачивала у консервной фабрики «Бондюэль», нанизывала на себя пару деревень и превращалась в дорожку, которая, согласно карте, шла через Быдгощскую пущу к Торуню. Едва я повернул, как рядом притормозил фиат «Бамбино», его водитель спросил, не нужно ли меня подвезти; мне не хотелось видеть озадаченную физиономию и отвечать на вопросы, поэтому я сказал, что мне недалеко, он все понял и уехал. Через час я добрался до деревенской усадьбы Липе. Господский дом выглядел непритязательно, но парк был большим, окруженным высокой стеной; мне пришлось почти всю ее обойти, чтобы отыскать вход. Все были в поле. Я вошел в парк, кинул на траву рюкзак, рубашку и сапоги и растянулся под развесистым буком. Тишину нарушал только гусиный гогот и шум, доносившийся от зернохранилища, надо мной шелестел, заполняя небо, perpetuum mobile веток и листьев. Когда я закрывал глаза, пробивавшиеся сквозь них солнечные лучи набегали на меня красными, карминными, шафрановыми потоками. Кто-то хрипло рассмеялся у меня за спиной и загородил собой солнце.
Я приоткрыл глаз и увидел человека со скошенным набок ртом, он сверлил меня взглядом и протягивал мне руку. Я обернулся, и деревенские дети, которые подползли совсем близко и следили за мной все время, с воплем бросились в кусты. Кривой по-прежнему протягивал мне руку, я пожал ее, он вдруг развернулся с довольным видом и пошел прочь. Это был местный дурачок, стремившийся пожать руку всем в деревне. Я был снова один в траве и под кронами деревьев, но теперь полуденный свет слепил меня, что-то постоянно кусалось и жалилось. Я знал кое-что о парке и доме, который прятался за старыми деревьями, – от мысли о том, что именно здесь все и произошло, мне стало не по себе.
Усадьба принадлежала семье Розенштиль. Первый Розенштиль переселился в Пруссию из Эльзаса. Он преуспевал, но отказался от предложенного ему дворянского звания, ему казалось, что это ни к чему. Лишь его сын принял дворянство, семья получила за свои заслуги владение в Одербрухе, а потом некий король пожаловал другому Розенштилю еще одно имение на востоке Пруссии, в парке которого я и лежал. После первой мировой войны Липе стала польской, и по примеру пруссаков, которые заселяли своими людьми владения в завоеванных землях, поляки теперь выдворяли прусских землевладельцев, в их числе были и Розенштили. По рукам ходили черные списки с именами влиятельных немцев, дошло до кровавых столкновений, – отголоски этого слышны даже сегодня. Возможно, польский национализм развился так радикально, потому что пруссаки немало преуспели в том, чтобы перемешать народы. Польский кучер Розенштилей, во всяком случае, с гордостью носил железный крест, а на полях, через которые я шел, во время ноябрьской революции стреляли друг в друга немецкие спартаковцы и польская кавалерия. Немцы хотели экспортировать на эту землю свою революцию, но сама польская гордость восстала против докатившегося сюда немецкого бунта, поскольку он казался чем-то прусским.
Летом 1939-го последний Розенштиль из Липе уже вырыл себе могилу, у которой его собирались расстрелять26, когда немецкие пикирующие бомбардировщики показались в небе – это было начало польской кампании. На этот раз он был спасен. Но когда война повернула вспять, и Советская Армия несколько лет спустя заняла Липе, ему уже не помогло то, что польские конюхи заступились за него и сказали русским: «Добре пан». Это хороший господин, он многим помог. Советские солдаты его не пощадили. Его сын рассказал мне эту историю, прежде чем я перешел Одер. Он снова живет теперь в первой семейной усадьбе.
После Липе я прошел мимо деревенских домов, по которым было видно, что их жителям живется неплохо. У многих вместо огородов перед домом были разбиты английские газоны, а один даже заменил статую Девы Марии на двух гипсовых греческих богинь, купленных на строительном рынке. Другой поставил перед входом в дом белые средиземноморские колонны.
Я наткнулся на щит с предупреждающей надписью и разобрал два слова: армия и смерть. Всякий, кто идет дальше, вероятно, значилось там, может попасть под обстрел, но это был очень ржавый щит, и я подумал, что его не следует принимать всерьез: всего лишь запретная военная зона, ничего особенного. Я шел вдоль опушки и повсюду натыкался на такой же ржавый щит. О возвращении не могло быть и речи, это значило удлинить свой путь на целых полдня, а сегодня вечером я рассчитывал уже переправиться на восточный берег Вислы и выйти к Торуню именно из Быгдощской пущи. Мне сказали, что той же дорогой шли тевтонские рыцари и видели, как готический шпиль Торуньской башни медленно появляется над пущей.
На протяжении нескольких часов мне никто не встретился, тишина соснового леса нарушалась только криками сарыча или сойки. Мой путь шел сначала по песчаной дорожке, затем – по изъезженной просеке. Идти стало сложнее, это было похоже на бег по дикому песчаному пляжу, но лес того стоил. Он не был сумрачным, он был светлым, просторным и холмистым. Какое-то время я шагал по танковой дороге, сделанной из уложенных в два ряда бетонных плит. Лес поредел, и я в послеполуденный зной вышел в поле. Промежутки между остановками сделались короче, я все время снимал с себя одежду и держал вещи на ветру, слегка пригибавшем высокую траву, доходившую мне до пояса. И хотя было очень жарко, мне пришло в голову развести огонь, чтобы высушить над ним рубашку и брюки, все время прилипавшие к телу, – так бы получилось быстрее, чем на солнце. Я уже собрал хворост, но вовремя одумался и бросил его: ветер превратил бы костер в степной пожар.
Возникло ощущение, что я становлюсь все легче и легче, подобно моему рюкзаку, который перед Одером был снова решительно выпотрошен. Я приближался к состоянию, когда имеет значение лишь одно – идти, и когда вместо обычного «почему?» в висках стучит только «вперед!». Войска в таком состоянии подчиняются приказу. У меня были мои челюсти, которые перемалывали воздух и остатки слюны, и пока они это делали, все было в порядке. Когда я достиг другого края поля, мое нёбо стало картонным, а язык превратился в ластик, фляжка с водой опустела еще перед запретной зоной.
Первое, что я увидел, были люди, которые прогуливались с детьми или выгуливали собак, они во все глаза смотрели на меня, а я во все глаза смотрел на автобус: он подождал на остановке с работающим мотором и тяжело тронулся с места. Я хотел куда-нибудь, где можно вдоволь напиться. Сейчас. Немедленно. Но водитель дал газ и отъехал. Он не мог меня не заметить, я видел, как он следил за мной в большое боковое зеркало. Появилось такси, я махнул рукой, водитель притормозил, окинул меня взглядом, жестом показал, что ему нужны деньги, и умчался прочь. Я выругался, пошел по улице, купил на заправочной станции воды и пока пил, увидел свое отражение в оконном стекле и стал лучше понимать водителей. Я совершенно не выглядел платежеспособным.
Перейдя мост, я едва взглянул на готическую мечту, Торунь, казавшийся большой студенческой пивнушкой, Гейдельбергом на Висле, где большие компании молодых людей в огромных количествах пили пиво в каком-нибудь из многочисленных заведений. Я раздобыл себе комнатушку и разделил ее с железным монстром из тренажерного зала, по давнишнему праву занимавшим половину площади. Я использовал его как сушилку для белья и развесил на нем свои влажные вещи. Я плохо спал и проснулся разбитым. Над моей продавленной кроватью висела странная карта. Польша была крышей мира, плоской крышей. Слева Северогерманская низменность клонилась к Атлантическому океану, справа русские дали опрокидывались в бесконечность. Я повернул голову на бок и начал медленно соскальзывать вниз.
Серьезная граница
Еще неделя и триста километров – и вот я стою перед Наревом и перед выбором. По эту сторону – zajazd, гостиница. Деревянная мебель в стиле рустика, полуопущенные занавески и прочее. В гостинице была свободная комната, а уже надвигались сумерки. По ту сторону лежала дорога на Белосток. Я делал шаг вперед, потом назад, стоял в нерешительности у моста. Притормозила машина. Смахивающий на быка водитель, с кожаным ошейником-галстуком, подал знак, чтобы я садился, ему нравился его круглый бритый затылок, он то и дело поглаживал его рукой, слушая длинную радиопередачу о Берлинской стене. То, что говорилось по-польски, я не понимал, только большие вставки на немецком, – у него все было наоборот. Когда цитировали Кеннеди27, полностью, без сокращений, в миллионный раз прокручивая эту навязчивую берлинскую песенку, у меня вдруг так защемило сердце, словно я отсутствовал годы. Я был рад, что ничего не нужно говорить, водитель тоже молчал. Мы прослушали всю программу: каждый ту ее половину, которую понимал, и после этого также не сказали ни слова. Не зная, куда я направляюсь, он отвез меня в центр Белостока – ему надо было ехать дальше. Пожав руки, мы расстались.
Через границу существовало два пути: на автобусе или на поезде. Пытаться перейти ее пешком было бессмысленно, пограничники меня бы не пропустили. На следующее утро автовокзал Белостока был абсолютно безлюден, в полдень тоже, и, когда я появился на нем в третий раз, там опять никого не было. Это была недавно заасфальтированная площадь с множеством маленьких кассовых будок, в которых в лучшие времена можно было купить билеты на автобусы до Рима или до Билефельда, до Лондона, Неаполя и Касселя, до Барселоны, Гиссена, Байрейта. Все эти направления и еще многие другие значились на огромных щитах, но кроме меня только вороны медленно прогуливались по асфальту туда-сюда, они были меньше, чем в Берлине, и были украшены ожерельем из светло-серых перьев, что выглядело весьма аристократично.
Открылась единственная касса единственной фирмы, продававшей билеты на единственный шедший сегодня в Белоруссию автобус. Раньше, сказал человек в окошке, на автобусы нападали из-за денег, которые везли с собой белорусские «челноки», чтобы закупаться на западе. Теперь мелкие торговцы летают в Стамбул или Афины и запасаются там всем, чем можно: от автомобильного лака до детского пюре. Я спросил его, не получится ли быстрее добраться поездом.
– Садись на автобус. Если не повезет, возня с перестановкой колес на поезде может длиться часами.
Речь шла, конечно, о ширине русских железных дорог. В лесах восточной Польши заканчивались рельсы узких европейских путей, и начиналось более широкое железнодорожное полотно. Символика была очевидна. Он ухмыльнулся.
– Да, они до сих пор переставляют колеса, как при царе. – Он откинулся назад. – Здесь, – сказал он доверительно и с ударением на каждом слове, – именно здесь – граница будущего.
И поскольку я до сих пор ничего не понял, добавил:
– До этого места ЕС, а дальше – восток.
Тут настал мой черед иронизировать. Восток никому не нужен. Его смахивают с плеча, как птичий помет. Униформу «Восток» никто не хотел носить, ее передавали все дальше и дальше – опять-таки на восток. Если бы я спросил в Бранденбурге, где начинается восток, то ответом было бы: конечно там, в Польше. Спросил бы в Польше, ответили бы: восток начинается в Варшаве, ну да, по большому счету, уже Варшава к нему относится. Меня уверяли, что западную и восточную Польшу теперь невозможно серьезно сравнивать, это уже нечто совсем другое, что я, несомненно, увижу это собственными глазами, когда окажусь к востоку от Варшавы. Это другой мир – более провинциальный, бедный, грязный. Одно слово – восток. «Остих», как говорим мы у себя дома, «зоних». К востоку от Варшавы ответ вновь звучал недвусмысленно: просто поезжайте по дороге до Белостока. Все, что слева от нее, – западное, католическое, – значит настоящее, польское. Все, что справа, – православное, белорусское. В таком случае, где же восток? Сразу направо от твоего правого сапога. Там, где начинаются дремучие леса и выцветшие деревянные дома, облупившаяся лазурь луковичных куполов, где на бесконечных проселочных дорогах скорее встретишь не автомобиль, а телегу с характерными маленькими резиновыми колесами, которую рысью везет лошадка под деревянным хомутом. И вот всего минуту назад продавец билетов убедил меня в очередном, четвертом по счету, географическом сдвиге. Но и он окажется не последним. В Белоруссии все начнется сначала. Конечно, скажут там, запад страны, некогда польский, не сравним с ее вечно русским востоком и так далее и тому подобное. Восток постоянно отодвигался все дальше и дальше – от Берлина к Москве. Если говорить точно, он немного не доходил до Москвы, ведь Москва, позвольте заметить, – это снова запад.
Я спросил его, каково идти пешком через Белоруссию.
– Трудно сказать. В лесу ты будешь в безопасности, а в городе – нет.
– А на проселочной дороге?
– Опасно.
– Да кому я нужен?
– Да всем! Преступникам, мафии, каким-нибудь типам. Но, я думаю, ты никого из них не увидишь. Не так-то просто их увидеть, они же не бегают туда-сюда. У тебя нет машины, и с виду по тебе не скажешь, что ты при деньгах, так что ты в безопасности.
Он засмеялся:
– Всё это сказки!
Он напряг весь свой английский и сказал:
– Stories!
Автобус отправлялся в полдень. Я прошелся последний раз по Белостоку, и мне бросилось в глаза, какими пустынными кажутся некоторые пограничные города, – те из них, что расположены на настоящей границе, где что-то действительно прерывается и заканчивается, где ослабевает одно магнитное поле и еще не возникает другое, поэтому ничто не притягивает сюда ни деньги, ни фантазию. Только даль, которая теряется в еще более невероятной дали. Такая земля вызывает лишь два желания: затеряться в ней или покорить ее. Я рассматривал темный солдатский строй на белом снегу, крупнозернистую нереальность военных снимков, погребенных в темных, редко открываемых ящиках, у меня в ушах звучал голос моего первого учителя русского языка, командира вермахта. Он входил в класс и погружался в свои грезы. Присев на парту первого ряда, он закидывал ногу на ногу, – знак того, что урок будет необычным, – так проходил наш короткий курс, всегда после обеда, и эти послеобеденные занятия в опустевшей школе сами по себе были чем-то вроде огромной страны, пустого пространства. И тогда он рассказывал о России. Всегда о деревнях, никогда о городах: о полях, о водке, о сушеной рыбе и крестьянском хлебе, о кружках с молоком и о девушках, их разносивших. Не приходилось сомневаться в том, что он любил эту землю, которую покорил во время страшной войны. Он сидел на парте, устремив взгляд вдаль, поверх наших голов и рассказывал, и рассказывал. Из его уроков я не запомнил ни одного русского слова. Остался лишь образ человека, вспоминавшего лучшую часть своей жизни.
Я услышал цокот копыт, он приблизился, и вот из-за угла показалась польская кавалерия. Национальные флаги, лихие усы, обнаженные клинки. Всадников было немного, всего лишь небольшая группа в традиционной форме, но в глазах у командира пылал такой огонь, что даже гордые полячки не могли устоять: они подбегали ближе, обнимали шею его лошади и фотографировались с ним. Командир выставлял вперед подбородок и выпрямлялся в своем скрипящем седле. Я вспомнил графиню Манковскую. Разве не выказывал своего восхищения перед польской кавалерией один из расквартированных у нее немецких офицеров? Вежливая ложь победителя, кто знает, но тем самым он определенно тронул ее сердце. Не поддающаяся объяснению сентиментальная любовь поляков к своей отважной, но, увы, безнадежно устаревшей кавалерии здесь, на рыночной площади Белостока, проявлялась во всей своей полноте.
Старики в орденах и красно-белых лентах подошли к всадникам и похлопали лошадей по холкам, новобранцы промаршировали по площади, взяли винтовки на караул, а их офицеры обнажили сабли. Между ними затесались упитанные мужчины среднего возраста, которые не принимали участия в битвах прошлого и не обладали природной удалью молодежи, зато отличались усами, как у Леха Валенсы, а иногда униформой городской дружины. Таково было последнее впечатление от мира узких железнодорожных путей, затем штора белорусского автобуса опустилась.
Часть 2. В Белой стране
Контрабандистки
Это был старый, сто раз латаный «Икарус» c грязными коричневыми занавесками. Его выцветший красный кузов, помятый и изношенный за многие лета и зимы, напоминал забытую, заржавевшую от времени эмалированную табличку. Шофер неприветливо поглядывал в салон, его напарник, как только автобус остановился, погрузил свои испачканные маслом руки глубоко в мотор и стал в нем копаться. Пассажиры в странных солнечных очках медленно выходили из автобуса, бродили вокруг как лунатики и молча курили. Автобус возвращался из Варшавы с крупнейшего русского рынка в Польше, багаж у него был соответствующий. Всюду коробки, некоторые разодранные, всюду обувь, размеры от 41 до 46, расцветки green / silver, – я попал на обувной рейс. Я замешкался в нерешительности в проходе, и водитель тут же рявкнул мне в затылок:
– Садитесь! Садитесь! Нечего здесь стоять.
За полчаса до границы началось великое перекладывание вещей. Все места были заняты, я расположился в самом конце салона на пыльном, изношенном запасном колесе. Женщина, сидевшая передо мной, обернулась и спросила, не могу ли я записать в свою таможенную декларацию пару коробок с обувью. В салоне были одни женщины, за исключением меня, водителя, его напарника, одного молодого человека без багажа и моего соседа, бородатого толстяка, нервно дергавшего лямки моего рюкзака. Казалось, они все друг друга знали, паспорта их были похожи на блокноты собирательниц купонов на скидки: штемпель на штемпеле, страница за страницей. При первом паспортном контроле меня проигнорировали, зато во время второго забрали паспорт, благодаря чему я снискал несколько дружелюбных взглядов, улыбку сидевшей передо мной блондинистой контрабандистки и возглас моего нервного соседа: «Компьютер!» Было неясно, кому адресовать его восхищение: мне или техническому оснащению пограничного пункта. «Смотри, они работают на компьютерах!» Или: «Смотри, сейчас они тебя насквозь просветят!»
В автобусе было невыносимо жарко, а нам приходилось ждать. Мы подождали полчаса, затем час, потом еще час и еще. Следом еще один. Мы давно уже вытащили наружу наш багаж и выставили для проверки вдоль автобуса. Гладильные доски. Канистры со средством для мытья посуды. Плюшевые чехлы для автомобильных кресел. А также обувь, расцветки green / silver, торчавшая из бесчисленных коробок. Но проверка не приходила. Проверка была у автобуса, стоявшего перед нами. Такие же базарные ряды из порванных коробок и неупакованных товаров, позади выстроился немой и решительно настроенный ряд их защитниц, тридцать пар глаз наблюдали за таможенником, расхаживавшим туда-сюда и сверявшим то, что он видел, с колонками цифр на покрытых каракулями таможенных декларациях, пачка которых была у него в руке.
По второй полосе мимо нас медленно ехал мицубиси с вунзидельскими28 номерами. Я потерял надежду вырваться из таможенной западни до захода солнца и спросил водителя, у которого были три золотых зуба, не подвезет ли он меня, поскольку здесь дело не продвигается и мне хочется найти другой транспорт. Водитель ответил, что сожалеет. Он перегоняет мицубиси в одно местечко сразу за границей, и бензина у него в баке только, чтобы добраться туда, правда, только туда, поэтому он ничем не может мне помочь.
Некоторое время спустя к посту подкатил огромный черный седан, и его оформили за пару минут. Тонированное стекло немного опустилось, и я увидел внутри красивую молодую женщину, окруженную всеми признаками того, что ей невыносимо скучно. Солнечные очки от Gucci, апельсиновая блузка от Prada, радикально красный шейный платок, удобное кресло; пузырь жевательной резинки лопнул на ее красных губах, когда таможенник у автобуса в третий раз пересчитывал упакованные в целлофан пластиковые стаканчики с нарисованными на них веселыми собачками и сравнивал итоговое число с цифрой на листке, ставшем в его руке влажным от пота, при этом взгляд его клиентки ни на секунду не отрывался от него и от помятой декларации. Таможенник был бледен как смерть. Люди обступили его кольцом – пронзительные взгляды, скрещенные руки, кулаки, упертые в бока. Тихие проклятия, еще одна сигарета, потом другая, и насмешливые лица, когда он в очередной раз в ярости несется на пост и с решительной миной возвращается. Ругательства сделались громче. Крепкий, несколько дней не брившийся парень в бело-синих брюках из парашютного шелка – его волосы с левой стороны стояли дыбом, а с правой были приглажены от долгого сна в автобусе – закричал на какого-то таможенника, тот подлетел к нему и холодно прошипел что-то в лицо, после чего бело-синий присмирел и продолжил разговор в совершенно спокойном и даже извиняющемся тоне.
Это была война нервов, она затягивалась, и мы, которых еще даже не начали проверять, должны были дожидаться ее окончания. Таможенник нещадно придирался к женщинам, а те уже снова никуда не торопились и весьма успешно доводили его до белого каления. Я подошел к молодому человеку, которого заметил еще в автобусе, поскольку он единственный помимо меня ехал с маленьким багажом, то есть путешествовал, а не вез контрабанду. Он тоже никого не знал в автобусе. Он уселся на ограждение и стоически смотрел прямо перед собой сквозь солнечные очки с бронзовым напылением.
– Почему это длится так долго?
Он сделал известный жест – потер указательным пальцем о большой. Деньги. Дань. Бакшиш. Я спросил его по-русски, откуда он.
– Кениггрец29, – ответил он по-немецки. Но кроме этого он знал только чешский и пару английских фраз.
Вдруг несколько человек посмотрели на свои часы и заволновались. Летнее время. Мы забыли про летнее время, ведь у границы происходила еще одна перемена: не только железнодорожные пути становились шире, в Белоруссии было уже на час больше, чем мы думали. Солнце садилось, и я уже представлял себе, как буду безуспешно стучаться в дверь гродненской гостиницы, куда я звонил из Белостока. Я понятия не имел, что делать в подобном случае. У меня не было ни малейшего представления о том, что такое Гродно и какие там обычаи.
Шел четвертый час. Четвертый час сражался таможенник с упорством контрабандисток и с твердолобостью своего незримого начальства, в результате чего движение через границу было парализовано. Если он уступит женщинам, его сживет со свету начальник за то, что снижается такса, принятая на этой таможне. А если он любой ценой будет добиваться требуемого оброка, то он угробит себя сам. Вдруг все пришло в движение. В один миг в автобус были погружены ящики с прозрачным лаком и растительным маслом, запакованные пластиковые стаканчики; таможенник испарился, зато торговки выглядели победительницами, настала наша очередь. Все заняло пять минут. После чего водитель «Икаруса» завел мотор, вывез нас из пограничной западни, и мы помчались к Гродно.
Я помог одной женщине выгрузить ящики, и в благодарность ее муж, пять часов ждавший жену и покупки, предложил меня подвезти.
– А, – кивнул он, когда я ему назвал гостиницу, – Лукашенко.
– Он что там живет?
– Она ему принадлежит.
Это была мрачная постройка, нуждавшаяся в срочном ремонте. У меня сложилось впечатление, что я был единственным постояльцем, но меня здесь ждали, а ничто другое меня не интересовало. Дежурная прервала свой сон и в ответ на мой стук, шаркая ногами, подошла к двери; отыскала в кармане халата записку, где значилось нечто, похожее на мое имя. Она посмотрела на меня, я взглянул на листок, мы улыбнулись друг другу, радуясь, что обошлось без скандала.
Комната была совершенно советской. Никакой отделки, за исключением того, что стены были выкрашены светло-коричневой краской. Некто здесь побывал и проконтролировал, чтобы не осталось ни малейших признаков уюта, красоты и чистоты. Контроль был очень строгим. Одного взгляда на пол было достаточно, чтобы исчезло желание, наконец, снять сапоги и охладить уставшие ноги на каменном полу в ванной. По нему текли струи ржавой воды, душ представлял собой черный резиновый шланг толщиной в стебель сахарного тростника. Я попросил полотенце.
– Полотенца нет.
Я попросил туалетную бумагу, и с этим мне повезло больше. Дежурная была готова со мной поделиться. Она извлекла личный запас из неисчерпаемого кармана халата, оторвала кусок и вручила мне. Мы снова рассмеялись, я растроганно поблагодарил, а она растроганно ответила:
– Bitte sehr! Пожалуйста!
Внезапно я понял, что очень голоден, ведь я ничего не ел с самого утра. Мне снова повезло. Прямо за углом был ресторан, такой же советский, как и гостиница. Пиво на вкус не казалось пивом и выглядело иначе, кетчуп, поданный к шашлыку на краю десертной тарелки, тоже не был похож на кетчуп, в телевизоре появился Ким Чен Ир, однако моя экстравагантная просьба о ноже была удовлетворена. В ресторане было так темно, что мне было трудно рассмотреть свою еду и других посетителей. Но насколько я мог разобрать, вокруг сидели только женщины. Потом по телевизору шел военный фильм. Показали огромную свастику, немецкие офицеры верхом на стульях скакали строем, как в полонезе, по банкетному залу и пели: «Hoch soll er leben, hoch soll er leben, dreimal hoch!»30 Я заказал еще одно пиво, его вкус был уже лучше, расплатился и решил прогуляться в ночи. Я направился к площади Ленина, где действительно стоял Ленин на ухоженном постаменте, затем прошелся по бульвару Дзержинского, где встретил пышных девиц, ходивших под ручку, и много милиции. Было еще тепло, и от Немана поднималось вверх нечто вроде тумана, но пахло дымом. Запах усилился и стал отдавать пожаром. Я вернулся в гостиницу.
Господин Календарь кричит по ночам
Утром я убедился в том, что ухоженным был не только гродненский Ленин, но и сам город. Какую картину я себе рисовал? Бедность. Отсталость. Разруха. Все это действительно было, но обо всем этом прекрасно заботились. Отряды уборщиков ходили по городу с метлами, тряпками и разноцветными ведрами, они подметали и мыли улицы и парки, замазывали ржавчину краской. Много отрядов. Бригады женщин чистили тротуары, бригады мужчин занимались ремонтом, прохаживались кистью по раскрошившимся или проржавевшим местам на государственных зданиях и на советских фонарях. Запах пожара улетучился, небо стало синим, и я не видел причин, способных удержать меня от перехода через эту страну, о которой один знавший ее немецкий историк незадолго до моего путешествия написал мне письмо, очень похожее на предостережение. В письме указывались дороги, населенные пункты и адреса, но все содержавшиеся там советы не действовали дальше границы, которую я вчера пересек.
Я вынул письмо из рюкзака и перечел его, заключительной фразой было: «Если вы на самом деле собираетесь идти по империи Лукашенко, я препоручаю вас Господу Богу и всем святым». А берлинский фотограф, много раз бывавший здесь и давший мне точные карты Белоруссии, которые я взял с собой, наотрез отказался когда-либо еще ступать на эту землю. Он объезжал «его империю» стороной. Еще больше разожгло мое любопытство замечание мюнхенского кинопродюсера, снимавшего здесь ремейк старого военного фильма. Он сказал, что Белая страна по ту сторону границы вообще-то не опасна. Она просто утомлена. Ему не приходилось видеть другой такой, столь же утомленной страны.
Я добрался до Щучина. В одном кафе я заметил щедро накрытый обеденный стол, где были и рюмочки, и огурчики, а поскольку по пути мне постоянно попадались милиционеры, под конец уже через каждые двести метров и обычно в кустах, то у меня возникло некое подозрение. Я слышал, что Лукашенко объезжает эту местность, и спросил хозяйку, не предназначен ли этот стол для президента. Она покачала головой:
– Нет, для охраны.
Оказалось, что президент и вправду прибывает сегодня в Щучин, но за этим столом будет обедать не он, а люди из службы безопасности. «Охрана» – важное слово. Наша встреча не должна была состояться. По крайней мере, не в первый день. Я расплатился и поспешил покинуть Щучин. Передохнул я позже в деревне Галинке, на лугу под деревьями. Еще в восточной Польше я видел русские деревянные дома, а здесь только они и встречались. Издали они выглядели весьма живописно, но вблизи становилось заметно, что яркая краска отслаивается, а старые двери ненадежно держатся на петлях.
Во всяком случае при взгляде с луга, где я расположился, Галинка была красива. Два мужика отдыхали после обеда перед домом, совершенно заросшим бузиной и сиренью. Им так хорошо сиделось на скамейке под сливой, что мне захотелось пойти туда и посидеть вместе с ними. Два парня катались на мопеде по деревенской улице, мопед дымился и подпрыгивал при каждом выхлопе, казалось, он страдает икотой, затем он испустил дух, парни принялись колдовать над ним, привели его в чувство и снова смогли немного проехать. Пока он опять не потерял сознание. У мужика, охранявшего колхозное стадо, сбежала корова, он гонялся за ней и пытался ее вернуть. Лишь окончательно вымазавшись в грязи, он оставил ее в покое.
Я уже долго шел и начал беспокоиться по поводу ночлега. Рассчитывать на гостиницу не приходилось, эта местность была мало заселена: небольшие села, колхозы, деревеньки. Возможно, что-то найдется в местечке Желудок – это был следующий более или менее крупный населенный пункт, но до него еще десять километров, то есть два часа хода, а я шел уже семь часов. Русские дороги похожи на восточные реки: они длинные и широкие. Ничто не заставляет их протискиваться между холмами или петлять через древние города. В жаркий день, подобный этому, один взгляд, устремленный вперед, способен привести в отчаяние. Все время прямо: не видно ни конца ни края. Редкая деревня стояла у главной трассы, обычно к населенным пунктам вели боковые дороги, поэтому я чрезвычайно обрадовался, когда появились Корсаки. Здесь была всего одна улица, идущая от шоссе направо, – два ряда деревянных изб. Перед забором у каждого дома, как во всех русских деревнях, была деревянная скамья.
На первой скамейке левого ряда сидел голый по пояс старик и курил, во дворе дома на правой стороне улицы собака гоняла свинью. Я подсел к старику и предложил ему попить воды из моей фляги. Он сделал глоток и немного погодя кликнул дочь, она вышла в легкой юбке и принесла горсть мелких яблок, которые он мне предложил отведать. Я был голоден и съел их с удовольствием. Настал удачный момент для вопроса, можно ли переночевать в его доме. Он кивнул, да, конечно, и мы поговорили о лошадях. Перед самой деревней я видел всадника на красивой гнедой, и мой новый знакомый с воодушевлением рассказал о том, что и у него есть лошадь. К изгороди подошла его жена, и он доложил ей, кто я такой. Немец, идущий пешком в Москву. Из Берлина. Да, из Берлина. Не отходя от изгороди, она учинила мне допрос.
– А ты куришь?
– Нет.
Ее муж сделал себе самокрутку. Он оторвал кусок газеты, засыпал в него табак, скатал сигаретку, провел по ней языком и сунул в рот.
– А ты хороший человек?
Она мне не доверяла. Допрос ее не удовлетворил. Она была против меня. Ее муж сказал:
– Она не хочет.
– Почему?
– Мне нужно сегодня ночью работать, вот она и не хочет, чтобы чужой был в доме.
– Я могу спать в саду.
– Нет.
Целый час я впустую просидел с ним на скамейке, моя фляга была пуста, солнце садилось. С досадой перекинул я рюкзак через плечо и пошел к соседнему дому. Я звал, стучал и умолял целую деревенскую улицу, а в ответ выслушал десять причин, почему мне нельзя переночевать. В одном случае муж был еще на поле и жена не могла сама ничего решить, в другом – мужик жил один в доме и у него не было жены, в третьем – маленькие дети и не хватало места, в четвертом – места не хватало и без детей. Я предлагал заплатить, предъявлял свой спальный мешок и был готов переночевать на полу либо в саду – ничто не действовало. Было очевидно, что мой друг с первой скамьи будет мирно спать в своей постели и не пойдет никуда работать. Он все еще безмятежно сидел на прежнем месте. Я снова подошел к нему и открыл свой последний козырь: я воззвал к его сострадательной русской душе.
– Я не могу ночевать на улице.
Он только пожал плечами.
Это была моя первая и последняя попытка. В придорожной канаве села Корсаки я похоронил романтическую мечту о том, чтобы стучаться в русские избы и просить о ночлеге: «Только на одну ночь, а утром я уйду». Что делать? Идти дальше, просто идти дальше. В подобных ситуациях я всегда поступал именно так и никогда потом не раскаивался. Ждать здесь было нечего. Удивительно, как путешествие пешком по чужой стране, в одиночку, когда можешь надеяться лишь на себя, пробуждает инстинкты и создает собственные законы. Один из таких законов гласил: не возвращаться. Идти дальше, даже когда не понимаешь – зачем. Ты все поймешь завтра.
Я проходил мимо человека, курившего, сидя на обочине. Он сказал, что не знает, есть ли сейчас в Желудоке гостиница, но раньше она была. Мы вместе наблюдали за тем, как один мужик последними словами ругал свою до смерти уставшую клячу: та не желала больше тащить огромный воз сена, на вершине которого сидела старая баба и причитала тоненьким голоском. Мужик с обочины крикнул:
– Эй! Тут один, ему нужно в Желудок, возьми его с собой.
Расстроенный хозяин телеги только махнул рукой: оставьте меня в покое. Я пошел дальше, туманные сведения, полученные от мужика с обочины, все-таки внушали надежду. Я переживал не из-за гостиничной койки: я мог бы спать под открытым небом, ведь было тепло и дождя не предвиделось. Но я уже десять часов был в пути, десять пыльных часов под палящим солнцем – я мечтал о полной пригоршне воды. Наконец смыть пыль и слой грязи с лица, волос и шеи. Подъехал автобус. Маленький проржавевший советский автобус голубого цвета – какое везение! Остановки иногда попадались на трассе, но автобуса я за весь день ни разу не видел, а теперь он подъехал и даже притормозил. Остановка была в сотне метров передо мной. Я побежал, собрав все силы для рывка, – и успел. Автобус ехал в Желудок.
Я откинулся на сиденье и, переведя дух, заговорил с сидевшей рядом супружеской парой. Мужчина был пьян и с остекленевшим взглядом висел на руке у своей жены, но инстинкт, два часа назад заставивший меня идти дальше, теперь подсказывал, что следует держаться этой парочки. Десять минут спустя автобус остановился на поселковой площади Желудока. Пассажиры разошлись, парочка также намеревалась уйти, но вдруг жена обернулась к мужу и сказала:
– Мы не можем его здесь оставить.
Вдруг я понял, почему в Корсаках ко мне отнеслись так неприветливо. Я всего несколько километров проехал вместе с другими пассажирами в автобусе, но этого оказалось достаточно, чтобы сделать меня частью и проблемой целого коллектива или, по крайней мере, этой супружеской пары, перекинувшейся со мной в пути несколькими фразами. В Корсаках я просто требовал слишком многого. Я пришел ниоткуда и был совершенным чужаком в деревне, где последний чужак, вероятно, появлялся много лет назад, а последний немец, скорее всего, проходил во время войны. Я представил себе, как отреагировали бы жители той деревни, где я провел детство, если бы вдруг пришел русский и на ломаном немецком попросился переночевать.
Парочка стояла в стороне и беседовала, по-видимому, имелось какое-то затруднение, затем муж ушел, а жена осталась. Это был мой шанс, и его нельзя было упустить, поскольку другого не было. Я показал женщине свои домашние фотографии и предложил немного денег. Она позвала мужа:
– Три доллара!
Тут от компании мужчин, распивавших пиво на площади, отделился и подошел ко мне подвыпивший и с первого же взгляда не понравившийся мне деревенский герой в белой рубашке навыпуск. Он протянул мне свою кружку пива:
– Пей!
Я сделал глоток. Мужчина за мной наблюдал. Он внимательно прислушивался к тому, о чем я беседовал с супружеской парой. Он заговорил со мной громко, нарочито коверкая слова, как разговаривают с тупым, не знающим языка иностранцем.
– У меня есть брат. У брата машина. Ты отсюда уехать. Брат отвезет. Ты – в город. Шестьдесят марок.
Сумма была неслыханной для страны, где горячий ужин с салатом, хлебом и парой бутылок пива стоили три марки, а ночь в гостинице – пятнадцать. Я сказал ему это.
Он повторил свои слова. Мне следовало уехать, вот тот человек был его брат, он меня повезет. Это было не предложение, это была депортация.
– Есть паспорт?
– Да, конечно.
– Давай сюда.
Он вел себя, как деревенский шериф, и, кто знает, может, он и на самом деле был кем-то вроде шерифа в своей белой, почти чистой рубашке, во всяком случае, он точно не был простым колхозником, а я стоял один перед ним и его шайкой на пыльной площади, поэтому я показал паспорт. Шайка столпилась вокруг и некоторое время была занята изучением документа. Куда же запропастился мужчина из автобуса? Его жена все еще была здесь, она понимала, что ситуация может легко измениться. Шериф закончил пролистывать страницы с экзотическими визами.
– Немец.
Он оторвал взгляд от паспорта и оглядел меня с ног до головы.
– Ты хоть знаешь, где ты находишься? Нет? Ты на партизанской земле.
Наконец вернулся мужчина из автобуса, как мне показалось, еще более пьяный, чем прежде, но в приподнятом настроении. Он показал мне свой документ, просто чтобы порисоваться. Это был пропуск на военный завод. Теперь все стало ясно. Он хотел мне помочь, но для него было слишком рискованно приютить у себя в доме иностранца, ведь никто не знает, какие хлопоты это за собой повлечет. Но мужчина не хотел упускать доллары, поэтому нашел выход из положения. Он забрал деньги и отвел меня в ветхий деревянный дом на краю своей улицы, здесь жил маленький тощий человек, который вел себя невероятно грубо.
Он не говорил, только лаял и брюзжал, что не было следствием гнева или постигшей его неприятности: он просто был таким.
Он производил впечатление человека, долго не видевшего людей, одичавшего и покинутого. Штаны болтались на нем, когда он вел меня через свою спальню в мою комнату, отделенную лишь клеенчатой занавеской. Предназначавшаяся мне койка была такой же грязной, как и все в этом обветшавшем доме. Света не было. Я попросил воды, чтобы умыться, он кинул мне вонючее вязаное одеяло, которым я должен был укрываться, затем исчез в помещении, служившем прежде кухней: печь представляла собой открытый, закопченный до черноты очаг. Хозяин вернулся вместе с грязным железным ведром, с лаем выгнал меня на улицу и полил мне холодной водой голову и плечи. Это было замечательно. Это было просто замечательно. Я был счастлив.
Затем он потребовал вина. В магазине я купил нам на ужин воды и шоколада, но хозяин посмотрел на все это с отвращением.
– Винка! – закричал он.
Я еще раз отправился в универмаг, государственный магазин, где продавались всяческие товары. Я торопился: в моем рюкзаке была бутылка водки, я припас ее на крайний случай, и хозяин ни в коем случае не должен был ее обнаружить. Его кошка наблюдала за мной, и я заподозрил, что она натаскана на запах водки. По возвращении я под благовидным предлогом заглянул к себе – бутылка была на месте. Зато уже ушел мой друг с военного завода – я был уверен, что он присвоил себе три доллара и ничего не дал маленькому человечку. Тот пил принесенное мной вино, как воду, одним глотком осушая большой стакан. Теперь, когда мы по-дружески сидели перед домом, я спросил его:
– Как жизнь?
Он скорчил гримасу:
– Не спрашивай.
– А где твоя жена?
Снова гримаса.
– Как тебя зовут?
– Календарь.
– Календарь? Такого имени не бывает.
Он рассмеялся коротким гортанным смешком. На его руке я заметил татуировку. Она была очень примитивной. Полукруг, от которого расходятся линии. Должно быть, восходящее солнце, между чернильными лучами стояли кириллические буквы: Сибирь. Я показал на татуировку.
– Ты был там?
Он захрипел и скорчил гримасу.
– Винка!
Я отправился за следующей бутылкой с намереньем на этом остановиться; мой хозяин не казался мне злым, напротив, я считал его даже неплохим человеком, прежде в его жизни было нечто светлое, что он давно уже вымарал в грязи и оглушил своим криком. Но мне не хотелось шума и драки. Я был один, и мне было сказано, где я находился. На партизанской земле.
Лежа на койке, я слушал, как дышит хозяин, и смотрел на звезду, светившуюся в окошке, одну-единственную. Спустя всего полчаса он включил свет, с шумом поднялся, чтобы выкурить сигарету, потом снова погасил свет и на некоторое время затих. Через двадцать минут он опять проснулся, зашумел, закурил, забегал вокруг, запыхтел и забормотал. Так прошла добрая половина ночи, он с хрипом погружался в беспокойный сон, самое большее через полчаса поднимался, снова курил, разговаривал сам с собой и со своим демоном. Я не мог смокнуть глаз. Лишь когда наступила глубокая ночь и стало совсем холодно, я, преодолев отвращение, забрался под свалявшееся и жирное от грязи одеяло, оно было тяжелым и согрело меня, я был ему рад, оно уже не так сильно пахло и стало приятнее на ощупь.
Наконец я задремал. Его крик вонзился в мой сон, как нож. Он кричал невероятно громко и дико, как зверь. Но больше не просыпался. Он был глубоко погружен в свой темный мир, где боролся со злыми духами. Они подступались к нему каждые десять или двадцать минут, тогда он бился в агонии и кричал, кричал о своей жизни. Мне казалось, что это кричала сама земля, поля, степи, кладбища, братские могилы. Он принимал это бремя на себя и как одержимый посланник земли боролся с тамошними демонами. Крик ослабел, и я понял, что этот припадок был последним. Потом он меня позвал:
– Фриц!
Было шесть часов утра, светало, он назвал меня фрицем, как здесь называли всех немцев, и я ответил:
– Я здесь.
Появилась какая-то женщина, она подошла к его постели и ласково поговорила с ним, как с больным ребенком. Я только слышал голос и мельком увидел седые волосы; когда я поднялся, она уже ушла. Она принесла горячие блины, только что испеченные, бесподобно вкусные. Грубость ушла из Календаря, словно после тяжкой битвы наступило умиротворение и просветление. Во время разговора он уже не кричал. Сквозь него нынешнего просвечивало то, чем он был прежде. Он открыл мне свое имя, не менее удивительное, чем фамилия. Чес. Он отвел меня к площади, где собрались другие мужчины, которые в эту раннюю пору уже курили, пили пиво и торговали; оказавшись среди них, он с каждой минутой делался все грубее и громче. Когда я уходил, его голос вновь достиг дневной пронзительности.
Самая сложная страна в мире
В Белице я во второй раз перешел Неман, в этом месте широко разливающийся несколькими бурными рукавами. Наступил безоблачный день, утро было уже жарким, время от времени от главной дороги отделялись боковые, которые вели в колхозы, называвшиеся «Октябрь» или «Восток». Когда-то, когда настоящее еще казалось великим, а будущее светлым, каждый колхоз воздвигал сам себе на центральной трассе грандиозный монумент – какую-нибудь абстрактную зубчатую композицию или название колхоза, выполненное из бетона, либо то и другое сразу. Но этим не ограничивались. Где-нибудь в чистом поле или в лесу ставились другие монументы в виде советского знамени либо стелы с призывами к рабочим и колхозникам: «Слава труду!» Или: «Лес – это жизнь!» Иногда они напоминали о победе в последней войне. Сплошные восклицательные знаки. Если в этой стране и имелся избыток чего-либо, то это были памятники. Память весила тоннами. Нередко подобные слишком большие, слишком громоздкие, слишком зубчатые пропагандистские творения были единственным, что поддерживалось в порядке. В этом ровном и пыльном, то и дело теряющемся в бесконечных далях пространстве память давала о себе знать так надрывно, так тягостно, что возникало опасение, будто она когда-нибудь непоправимо, беспомощно исчезнет в мягкой болотистой почве. Я вдруг ощутил нечто вроде сочувствия к коммунизму.
Он приобретал человеческие черты. Он был стар. У него не было больше сил. Я шел по его разрушенной империи, где цеха продувались ветром, а пустынные залы заросли сорняками. Я встретился с ним на последней стадии его умирания и разглядывал с тем брезгливым любопытством, с каким люди бесцеремонно смотрят на старого кутилу и семейного тирана, ставшего всего лишь тенью своего прежнего неистовства, бунта против бога и мира, прошлого, нынешнего и будущего. Это всего лишь дрожащий от бессилия маленький человечек, яростно пытающийся оседлать огромную женщину и нашептывающий ей непрерывно: я ведь все-таки тебя люблю, я люблю тебя, слушайся меня, я спасу тебя от твоих обманчивых снов. И вот он проповедует, сидя у нее на шее, и разрушает все, к чему прикасается, в конце концов – самого себя. Великанша изнемогает под его властью, он обращается с ней крайне жестоко и почти губит, но однажды становится стар и слаб, она чувствует это, легко скидывает его с себя и растаптывает большими ногами.
Жарким полднем я достиг Новогрудка. Со мной заговорил мужчина в бейсболке Nike и в рубашке с нашивкой US-Army. До этого все мои собеседники интересовались, откуда я. Этот же спросил, куда я направляюсь, а когда я перечислил Минск, Борисов, Оршу, Смоленск, Можайск и наконец Москву, хлопнул меня по плечу:
– Немцы всегда выбирали эту дорогу.
Небольшой город был расположен на одной из немногих белорусских возвышенностей – подниматься было тяжело, пот лил с меня градом. В этот момент единственной моей мечтой было тенистое место, где можно сбросить рюкзак и растянуться на земле. На главной площади, широкой и тихой, стояла старая гостиница «Европа», закрытая еще с войны. Но прямо напротив нее я обнаружил новый частный отель и был готов расцеловать все частное предпринимательство, которое явилось передо мной в образе двух заботливых и дружелюбных старушек. Здесь был душ с горячей водой, исправно работавший, а старушки не убоялись моего дремучего вида, они не кинули в мою сторону ни единого озабоченного взгляда и вели себя так, будто я был совершенно нормальным гостем, припарковавшим у стен отеля перегоняемый в Москву мерседес.
И таким в Новогрудке было все. Несмотря на жару, воздух на возвышенности был душистый и свежий, поэтому я решил остаться здесь на два дня и оправиться от тягот своей первой белорусской недели; здесь я буду находиться высоко над палящим августовским зноем и чадом равнин, здесь буду изъят из евразийской беспредельности. Солнечный свет проник в мою комнату и нагрел половицы того же янтарного оттенка, с которым мне было трудно расстаться в ночь моего ухода из Берлина; постель не была влажной, не пахла чужим потом, ее только что застелили, и, слава Богу, имелась горячая вода. Вместе с пыльной, пропотевшей одеждой с меня спало бремя непрерывной борьбы, необходимость продвигаться вперед, добывать себе каждый стакан солоноватой воды и каждое место для ночлега.
Здесь было зеркало, прекрасное зеркало, которому можно было доверять. Первый раз после Польши я снова увидел себя, свое одичавшее, опаленное солнцем лицо. Оно принадлежало грязному, пахнущему полем и дорогой человеку. Я рассмотрел себя внимательно, затем спустился вниз и пообедал первый раз за три дня.
Мне не приходилось еще бывать в Скандинавии, однако если скандинавский коммунизм существует, то он выглядит как Новогрудок. Дело было не только в здоровом хвойном воздухе. Здесь кругом царила атмосфера ухоженной шведской комнаты, закрытой для всего, что может обеспокоить, и предназначенной лишь для того, чтобы отмечать в ней день рожденья дедушки. Этому соответствовала нежно-красная и игрушечно-синяя расцветка деревянных домов в маленьком, совершенно не городском городишке, трогательная белизна свежевыкрашенных церквей: католической и тут же рядом православной. Всюду красовались взрыхленные цветочные клумбы, ни один пьяный не валялся под елями в парке, вообще еловые деревья, хвоя которых имела только два оттенка, голубой и зеленый, усиливали ощущение северной ауры. Мягким светлым утром здесь можно было купить продукты в магазинчике, со всей серьезностью именовавшемся «Эдельвейс», разумеется, название было написано кириллицей.
Напротив моего чудесного отеля был расположен новогрудский музей, сделав пару шагов через улицу, я вошел внутрь и предстал перед, пожалуй, самой полиглотистой и определенно самой красивой заведующей музеем от Берлина до Москвы. Ее звали Тамара, и я рассказал ей об одном историке из Минска: с ним я собирался встретиться. Тамара засмеялась и сообщила, что этот историк не только отсюда родом, но и прямо сейчас находится в городе. Она позвонила по телефону, и ее сведения оказались верными: Борадин чинил забор в доме своей матери. Скоро появился и сам историк. Он тут же отвел меня на крепостной вал.
– Вы видите вон то дерево?
Я увидел одинокое высокое дерево на пригорке по ту сторону оврага.
– Там была деревня. Ее уже нет. Однажды в эту деревню пришли семеро партизан с двумя телегами, чтобы запастись едой. Было уже поздно, и они заночевали у одного человека, которого знали еще с довоенных лет. Этот человек, чей сын был полицаем, выдал партизан. Полицаи всех расстреляли, кроме одного. Этот спасшийся вернулся назад, чтобы спросить предателя, почему он их выдал. Но тот зарубил его топором. Еврейские партизаны много недель подряд следили за этим домом. Они воспользовались случаем и зарубили насмерть всех членов семьи, за исключением невесток. Только сына-полицая не удалось поймать. Он боялся оставаться в своей деревне после войны и уехал на Украину. Несколько лет назад его нашли мертвым в собственной ванной – он был задушен. Дело так и не было раскрыто.
Несколько следующих часов были наполнены историями, подобным этой. Борадин ходил со мной по Новогрудку и раскрывал передо мной город, как книгу, которую никто не желает ни читать, ни издавать. В жизни все обстояло сходным образом. Борадин написал книгу о партизанах. Он и сам был из них: его методы были поистине партизанскими. Он опрашивал свидетелей, которых еще никто не опрашивал, рылся по окрестным деревням и кладбищам, изучал воспоминания и источники, сравнивал их с официальной Историей и совершал партизанские вылазки против легендарных героев советского эпоса. Большой надежды на победу у него не было.
– Пока высокие должности занимают люди, участвовавшие в исторических событиях на советской стороне, их легенды будут жить по-прежнему.
Потребуется, по его словам, как минимум смена еще одного поколения, чтобы можно было сказать правду.
Правда была такова. В Восточной Польше меня отвели на кладбище одного городка, и я подумал, что передо мной самое запутанное кладбище на свете. Партизаны, польско-сталинские шпионы, красноармейцы, националисты, коммунисты, католики, православные – они сражались друг с другом и убивали друг друга при жизни, а теперь все лежали на одном кладбище, имевшем для каждого безумия, для каждого идеала соответствующий участок земли. Белоруссия была такой же, только еще более сложной. Столь же сложной и ужасной, как история деревенского полицая, найденного мертвым в собственной ванной. Здесь были польские белорусы, столько натерпевшиеся при Сталине, что в начале войны они хотели скорее сражаться заодно с немцами против Советской власти, чем наоборот. А Советы сначала праздновали вместе с немцами раздел Польши, а позднее расстреляли польскую элиту в Катыни. Затем были белорусы, опасавшиеся возврата прежнего польского господства и при немцах успешно стремившиеся к тому, чтобы занять место поляков в роли немецких союзников. Но были и советские русские, ушедшие партизанить в те леса, которые я видел с крепостного вала. Белорусы называли их восточниками, то есть теми, кто родом не отсюда, а оттуда, из России. Из Смоленска или еще восточнее. Восток опять оказывался в другом месте. Поэтому были белорусы, которые убивали немцев, и белорусы, которые убивали партизан. После всего, что стало теперь известно, сложно представить, что люди здесь возлагали надежды на Германию. Но не при немцах ли в Первую мировую войну состоялся на оккупированной земле первый школьный урок на белорусском языке? И ситуация была еще более запутанной: немцы тоже придерживались разных позиций. Что выгоднее: разорить белорусов, выселить и в конце концов истребить или приобрести в них союзников и вассалов? Среди немецких оккупантов находились высокопоставленные офицеры, вплоть до руководства верховного комиссариата, которые подпитывали белорусские надежды, поскольку сами их разделяли.
А между всех этих, уже в высшей степени запутанных фронтовых событий, находились те белорусские евреи, которым удалось спастись в лесах. Советские партизаны относились к ним с подозрением, как к буржуазным элементам, и притесняли их, но, тем не менее, зачастую поручали заниматься снабжением, а при реквизициях в деревнях легко могло получиться так, что вместе с провиантом изымались ценные вещи и золото, что и принесло иным еврейским отрядам сохранившуюся по сей день славу полупартизан-полуразбойников. Источники Борадина были неиссякаемы.
– Командир партизан, его звали Зорин, завел обыкновение раз в месяц жениться. Он приходил в деревню, клал золото на стол и требовал жену.
Борадинские истории преследовали меня. Они давали ответ на то, что я услышал прежде, чем отправиться в путь: на рассказы кинопродюсера об утомленной стране. Это была трагедия еще не пробудившейся, но уже дважды разгромленной страны – попавшей из советского варварства в эсесовский ад. Белорусы – лишь бы подальше от Сталина – были готовы жить при Пилсудском, но он проводил слишком жестокую полонизацию. Они могли бы принять власть немцев, но те уничтожили почти четверть всего населения. Они снова попали под Советскую власть – и получили Чернобыль. На их долю всегда выпадало все самое страшное и в большей мере, чем другим, что на войне, что в мирное время; история представала перед ними лишь в образе жестокого крупье, который втягивает их в злую круговерть несчастий. И так каждый раз.
С наступлением вечера молодые люди и девушки в Новогрудке собирались на темной центральной площади и оставались на ней далеко за полночь, пили пиво из бутылок и шли танцевать в городской клуб, сквозь окна которого вспыхивали лучи стробоскопа – послание из электрической части мира. Умеренное техно – просто сувенир из Берлина. Все-таки не русская попса, летние хиты которой преследовали меня и мешали спать, особенно один. «Я люблю тебя». Эта песня путешествовала вслед за мной и была повсюду, куда я приходил. Сегодня вечером она звучала и в Новогрудке.
Юноши на площади были похожи на своих берлинских сверстников, знакомых мне. Коротко остриженные волосы, угловатые лица со шрамами, возможно, распухшая губа, ссадины, глаза, кажущиеся несоразмерно большими из-за худобы и короткой стрижки. Мысли, отражавшиеся на этих лицах, были о кожаных куртках и колониях для несовершеннолетних. Жестокость и ранимость. Девушки были приторно-сладкими: Lucky Strike в зубах, Coca-Cola в руке, жажда жизни в глазах. Бритоголовое поколение возникает после войны во всех городах: в Сараево и Пномпене, в Кенигсберге, а также везде, где война давно миновала, но еще не закончилась. Это образ времени между радикальным «после» и иллюзорным «перед чем, собственно». В Берлине это было модой, а здесь, напротив, худоба возникала от скудной пищи, рубцы от полевых работ или потасовок, грубость тоже была подлинной.
Молодой парень с двумя бутылками водки в руке вошел в бар, сел за столик с двумя девушками, и попытался поцеловать одну из них. Та воспротивилась, и ее лицо приняло строгое выражение; все это неплохо получается у юных русских девушек, но их высокомерия хватает ненадолго, подружка уже многозначительно улыбалась, и поцелованная девушка, повернувшись к ней, сама рассмеялась. Парни знают эту игру и не придают ей никакого значения. Белорусский вариант народного театра. Я оставил открытыми оба окна, лег на постель и почувствовал, как снова потянуло запахом гари.
Любовь русского партизана
Он сразу сказал, что память его подводит. Кто-то задернул белые бязевые занавески и приглушил резкий полуденный свет в комнате: лишь один тонкий луч проникал внутрь и касался его прекрасных, точеных рук. Странно, он пришел сам, и все-таки это было похоже на допрос, на исповедь. Он сидел прямо, нога на ногу. Если не знать этого человека, невозможно принять его за старика, каким ему полагалось быть по возрасту: он был для этого слишком красив, статен, подтянут, его зеленовато-голубые глаза светились чересчур ясно.
Он прошел примерно тем же путем, что и я, от Германии до Новогрудка, тоже летом, но пятьдесят восемь лет назад, во время войны: он совершил побег. Он никак не мог припомнить, откуда бежал: ни названия населенного пункта, ни даже местности. Было ясно только, что он провел в Германии как военнопленный целых два года. Затем с его губ неохотно слетело слово «Арес». Так назывался город, куда его интернировали. Арес или что-то подобное. Сам он был русский, восточник, его родным городом был Смоленск, он служил в одной из тех дивизий Красной Армии, которая, попав в плотное кольцо окружения, сдалась вермахту еще в самом начале нападения на Советский Союз.
– Мы не могли победить, у нас было слишком мало оружия.
В Аресе, или как бы этот город ни назывался, с ним не сделали ничего плохого. Его вместе с другими военнопленными выводили на поле, где летом они косили и молотили, зимой также приходилось работать, отдыхали только по воскресеньям. Самое главное – еды было вдоволь. За два года никто не умер. Тем не менее, возникла мысль о побеге. С ним было два друга, на которых он мог положиться. Поначалу для него все складывалось удачно. Его назначили главным в своем бараке, где было сорок пять заключенных. Ему повезло даже больше: лагерный шеф-повар, один немецкий ефрейтор, хорошо относился к нему: приглашал к себе и постоянно снабжал едой.
– Мы были друзьями.
Но когда человек из Смоленска заболел тифом, ему открылась другая сторона лагерной жизни. Каждое утро госпиталь для военнопленных, куда его поместили, обходил офицер. Он становился у ног лежавших на полу больных и спрашивал: «Еще жив?» Снаружи была огромная яма, куда оттаскивали тех, кто не открывал глаза или не приподнимал голову, их сбрасывали в кучу закаменевших на морозе тел: зима 41-го года была очень холодной.
Но ему снова повезло: он выжил. Он вернулся в лагерь, где старый друг, повар, помог ему восстановить силы. Немец звал его к себе, наливал супа и позволял брать пищу с собой в барак. Повар благосклонно относился даже к слабостям своих русских. Одному военнопленному, попросившему немного сахара, он дал большой алюминиевый бидон, для которого всем бараком смастерили деревянную крышку; после этого с кухни прислали мешочек сахара и дрожжи, и все делали вид, будто это для пирога. Таким образом, ингредиенты для приготовления самогона были собраны.
Когда из-за какого-то проступка его должны были перевести в другой лагерь, пришло время действовать. В планы посвящены были двенадцать заключенных, но в ночь побега к условленному месту у колючей проволоки пришли лишь трое друзей. Больше месяца они были в пути, передвигались только в темное время суток, от заката до рассвета. Пропитание себе искали на убранных полях. Свое местоположение они представляли весьма смутно. Иногда решались постучаться в какую-нибудь уединенно стоящую польскую избу, и тогда, если им везло, они ели горячую пищу. Всем троим удалось добраться до этой самой местности. Здесь они наладили контакт с партизанами. Он хотел идти дальше через фронт в Смоленск, к своей семье, но замполит отряда приказал ему остаться.
– Мы добыли себе оружие на одном немецком посту у станции Новоельня.
Я спросил, что произошло с часовым.
– Никто добровольно не отдает свое оружие.
Для немцев он был беглым военнопленным. Для белорусов – восточником. Для Советской власти – почти предателем. Он работал на немцев два года – ясно, что по принуждению, но в детали тогда никто не вдавался. К таким, как он, у советских замполитов не было снисхождения. Оказаться в плену – уже было предательством, а дома предателя не ожидает ничего хорошего, тем более, если ему удалось выжить во вражеском лагере, где его к тому же неплохо кормили. Но ведь он не дожидался освобождения сложа руки. Он не был предателем. Рискуя жизнью, он за сорок ночей пешком дошел из Германии почти до самого Минска. Он не был глуп. Он понимал, что его плен – результат тиранической политики Сталина, направленной на уничтожение офицерской элиты, но такие мысли лучше было держать при себе, делу это не помогало. По мнению отца народов Сталина, пленному необходимо было исправить свою ошибку, и он ее исправил, а для того, чтобы окончательно загладить свою вину, ушел в леса, как требовал от него замполит. Его реабилитировали.
Я спросил о том, что с ним было у партизан, и он охотно рассказал. Его отряд был самым быстрым и боеспособным в округе. Изредка здесь появлялись другие группы, но действовали под их началом. Имея в своих рядах не более двухсот человек, отряд контролировал всю железную дорогу между Новогрудком и Неманом до того момента в июне 44-го, когда они ее полностью разрушили.
– Наша война была рельсовой, – сказал он, – приказ Москвы.
Он объяснил, как это происходило. Взрывать пути несложно. Гораздо легче, чем прокладывать. Он был командиром своего взвода. Когда наступала ночь, он раздавал всем по мине – кусок динамита размером с лимон; он сам получал динамит от курьеров с советской стороны фронта. Его взвод шел к железной дороге, там он расставлял своих людей цепью на трехкилометровом участке. Все залегали и с напряжением всматривались в небо. Это было действительно просто: воткнуть запал в динамит, присоединить фитиль, горевший три минуты. У каждого в руке была сигарета. Первый сигнал ракеты – все закуривают. Второй – все бегут к путям и закладывают мину между рельсами. Третий – поджигают фитиль от сигареты и убегают. Три минуты – и три километра железнодорожной линии выведены из строя.
Я спросил, приходилось ли ему вступать в бой.
– Боев было много. Немцы знали, где находится мой отряд и его численность. С ними было все ясно: это была война против немцев. Но приходилось сражаться и с поляками. Были польские соединения, сражавшиеся против немцев, но здесь, на Немане, поляки вступили в бой с партизанами. Мы были вынуждены их ликвидировать. Они были уничтожены.
– В одной деревне партизаны убили немца, за это немцы уничтожили всю деревню. Такое часто происходило. Партизаны поступали так же?
– Конечно.
– Вы с этим сталкивались?
– В одной деревне жила девушка, очень хорошая девушка. Из хорошей семьи, очень образованной. И дом, и все свое хозяйство они содержали в полном порядке. Я удивился, что такая семья живет в отсталой деревне. Она была очень хорошая девушка.
После паузы он добавил:
– Ее убили.
– Немцы.
Он отрицательно покачал головой.
– Партизаны?
Он кивнул. Партизаны узнали, что ее отец часто ездит в Новоельню и доносит на них немцам. После этого всю семью убили.
Я спросил, как звали девушку.
– Валентина.
Я спросил, любил ли он ее.
– Да.
Я спросил, сделал ли это их отряд.
– Да.
– Вы участвовали в этом?
– Нет.
Мы перешли к разговору о послевоенном времени. Он пользовался тогда всеобщим уважением, был героем.
– После войны мы были силой.
И после короткой задумчивой паузы:
– Я был силой.
Вместе с замполитом они вершили судьбу города. Они заботились о снабжении хлебом. Обеспечивали всех продовольствием. Жизнь в Новогрудке налаживалась гораздо быстрее, чем в его родном Смоленске, поэтому он перевез сюда свою изголодавшуюся семью.
– Мы не были богаты, но жилось нам неплохо.
Последние слова он произнес с гордостью. Это была спокойная, лишенная хвастовства гордость ветерана, твердо уверенного в том, что все в своей жизни он сделал правильно и выстоял, когда другие сломались. Чистого перед своей совестью и передающего свой эпос новому поколению. На этом его история подошла к концу.
В наступившем молчании продолжали звучать два слова. Арес и Валентина. Любовь и война. Города Арес не существует. Арес – это амулет. Им закрывают мрачную страницу своих воспоминаний, и через некоторое время человек действительно забывает, где был. Так объяснила мне Тамара, заведующая музеем.
– У всех, вернувшихся из немецкого плена, есть свой Арес. Никто из них не может вспомнить, где был.
Нет места на карте – значит нет плена, а значит нет и предательства. Я понял это, а также то, что ему обязательно было нужно поговорить с каким-нибудь немцем о своем друге, немецком поваре, о котором не должны были узнать ни гестапо, ни тем более замполит. Но зачем Валентина, зачем он о ней рассказал? За Арес было заплачено, за Валентину – нет. Он был уважаемый человек, советский герой. Нет, он не предал Родину, он много раз рисковал своей жизнью, чтобы загладить несуществующую вину. Но свою любовь он предал, когда партизанский закон потребовал принести ее в жертву, и Родина отблагодарила его за это. Возможно, еще полчаса назад никто другой не знал о тайной могиле, скрытой не под березами, а в его сердце. Он поднялся, я тоже. Мы пожали друг другу руки, и он вышел в сияющий летний день.
Пыль дней
На рассвете я покинул Новогрудок и спустился в пекло равнины, с каждым днем становившееся все невыносимее. Говорили, что это лето было самым жарким за сто лет, но пока солнце еще невысоко поднялось над горизонтом и деревья по дороге на Кареличи укрывали меня длинными тенями. В этот ранний час многие уже были в пути, мужчины и женщины двигались мне навстречу, будто в праздник, они шли пешком или ехали на небольших телегах с резиновыми шинами, на которых перевозили все, что угодно. Сено. Молоко. Людей. Я был не отличим от других, только направление моего движения – от города на горе вниз, к Минску, – было обратным. Я шел легко.
Когда закончилась аллея и началась жара, я надел панаму. Это был мой единственный предмет роскоши. Все прочее не должно было обращать на себя внимание. Без панамы мимо шел просто no name, человек без имени, в уже сильно застиранных военных брюках, с грязным рюкзаком и коротко стриженной головой. Вероятно, он несет домой картошку со своей дачи, крольчатину или копченую рыбу с водкой. Такой же русский, как и многие, попадавшиеся мне навстречу. Я сам этого хотел: не привлекать внимания, стать невидимым. Раствориться в самой глубине востока, на самом его дне. Быть здесь и в то же время отсутствовать.
Без моих объяснений никто не догадывался, что загорелый, запыленный, проходящий по деревням путник идет с далекого запада, от самого Берлина в Москву. Но стоило только надеть панаму, все взгляды обращались ко мне. Панама была практичной: она защищала меня не только от солнца, но и от кратковременных дождей. На бесконечных шоссе, по которым я шел, я не снимал ее целыми днями. Среди людей я большей частью держал ее в руке, как и сейчас, когда добрался до центра Кареличей. Я был голоден и хотел пить. У меня были три заветных желания: тень, вода и шоколад.
Местный ресторан назывался «Колос» и действительно выглядел колоссально, но был закрыт. Из универмага меня выгнал запах сушеной рыбы, продававшейся здесь в большом количестве: еще секунду – и меня бы стошнило. Значит, киоск. Снова пришлось переводить дух на улице, мой завтрак состоял из тонкой плитки русского шоколада и бутылки пересоленой русской минералки. Но это была не беда: шоколад был немного горьковатым, но вкусным, имел приятный темный оттенок, скорее всего, он станет также моим обедом и ужином, а, кто знает, возможно, и следующим завтраком; так случалось теперь нередко, а в худшие дни, когда мне не везло, ничего другого съесть не удавалось и дольше.
В полуденный зной продолжать путь было невозможно. Жители Кареличей попрятались по домам, а приезжие отыскивали себе местечко для сна прямо на улице. Один мужик спал под своей телегой, а лошадь паслась рядом. Найти убежище было непросто в этот час, когда теней почти не было, даже колоссальный «Колос» отбрасывал узкую полоску, в которой улеглись пьяные, их оголенные ноги и животы поджаривались на солнце. Кареличи придавили меня. Я сел под одним из немногих деревьев у дороги, на которой только что появился автобус, и над моей утомленной головой нарисовалось облачко, какие обычно рисуют в комиксах, а в нем значилось одно слово: «автобус». Я посмотрел на облачко и понял, что если здесь сегодня проедет еще одна такая же бледно-синяя либо коммунистически-красная штуковина и остановится, я в конце концов буду уже настолько деморализован, что сяду в нее; потом я услышал собственное бормотание: «Кареличи, Кареличи, что же вы наделали?»
Некогда по этой земле прошла дрожь, даже землетрясение. Проблеск воспоминания, что есть ведь в жизни что-то еще, помимо вечного зноя летом и снежной глазури зимой; придорожное село протерло глаза от пыли, сплюнуло водочную слюну сквозь щербину в зубах, и тягостная давящая белорусская даль исторгла из себя «Колос». А также универмаг. И гастроном – еще один магазин. И гостиницу. С тех пор у Кареличей появился центр.
Стоило обнаружить надпись «Гостиница», как появились новые силы, и я отправился на разведку. Дверь гостиницы была нараспашку. В контражурном свете было видно, как по короткому коридору плелся к себе в комнату полуголый мужчина, ремень его брюк свисал вниз. Я вернулся к своему дереву и услышал разговор у лотка с детскими товарами. Шаткий столик принадлежал торговке-челночнице, похожей на тех, что я встретил в приграничном автобусе. Грубые, яркие, дешевые пластиковые сумки, дешевая скакалка с яркими ручками.
Две девочки заинтересовались браслетами. Они перебрали и перемерили все, что было. В результате выбор пал на перламутровый, совершенно такой же, какие продают в магазинах игрушек. Пестрые мелкие купюры, которыми они расплатились и которые торговка рассортировала по цвету в толстом пакете, – игрушечные деньги. Монет в Белоруссии не было.
Пока я сидел, не подошел ни один автобус. Только мое состояние объясняет то, что лишь спустя два часа я догадался расспросить, придет ли он вообще. Мне показали на край села, где находился автовокзал, здесь я мог ждать еще долго. Ирония судьбы. Вокзал был прямо за гостиницей, а я его не заметил, просто не услышал шума автобусов. Зал ожидания, как почти на всех русских автовокзалах, был заполнен тучами мух. Побеленный зал с каменным полом пустует, за исключением часа пик, у стен стоят скамейки, с торцевой стороны есть окошко или даже два, расположенных слишком низко или слишком высоко, так что пассажир, чтобы задать вопрос или купить билет, вынужден либо сгибаться перед кассиром, либо смотреть снизу вверх.
Так было и здесь: окошки были такими высокими, что всем приходилось высказывать свои пожелания, встав на цыпочки, а кассирши вели себя совсем как фигурки из игрушечного барометра31. То левая кассирша появится в своем окошке, то правая, при этом одна выцветшая занавеска отдергивалась в сторону, а другая задергивалась прямо перед носом очередного пассажира. Следующим был я. Кассирша номер один нагрубила мне и велела обратиться в другое окошко. Кассирша номер два также мне нагрубила, приказала сесть и подождать. Я, конечно, понимал, что грубость этих женщин не имела под собой ничего личного, и попытался не придавать этому значения. Я довольно часто замечал, что маску дракона кассирши надевали на себя словно каску или рабочую униформу, и также быстро избавлялись от нее, как только трудовой день заканчивался. Мне казалось, что напористость русских женщин является оборотной стороной ненадежности их мужчин. Она граничит с грубостью, но может мгновенно перейти в чрезвычайную покорность, нежность и заботливость – как это было с новогрудскими девушками на площади ночных свиданий.
Рычание дракона из пещеры номер два, видимо, означало, что все билеты на автобус проданы и нужно думать, что делать дальше. Stand-by, как говорят на западе. Давка усиливалась, мужчина, сидевший по соседству на бетонной скамье, подтвердил, что автобус скоро отходит. Мухи донимали его не меньше, чем меня.
– Спокойно, спокойно, места еще есть, сидите, ждите.
Я не доверял пропаганде. Гипнотическое заклинание – «Спокойно, спокойно» – застряло у меня в ушах, как только я ступил на эту землю; жажда и голод усилились, а почти в каждом автовокзале есть бар. Там сидели трое стариков в больших льняных кепках и разговаривали о войне. Иногда один из них вставал и уходил, не прощаясь, его место занимал кто-нибудь еще, но разговор продолжался, его рефреном было: «Ой-ой-ой».
Я заказал чай и бутерброды. Барменша покачала головой: заказ был неудачен.
– Возьмите воду и слойку с маком.
Дверь зала ожидания распахивалась и захлопывалась, и каждый раз издавала пронзительный звук, как ветряк у станции из фильма «Однажды на диком Западе»32. С точки зрения физики, она вообще не могла закрываться, поскольку возвращавшая ее назад стальная пружина, была оборвана, однако, повинуясь старой привычке, дверь пусть и не запиралась, но все-таки попадала в проем.
С места поднялась старушка, пересекла зал, опираясь на алюминиевую трость, – и каждый ее шаг по каменному полу сопровождался легким стуком – она толкнула дверь и вышла на солнечный свет. Он тут же преобразил ее лицо, стерев с него следы старости и усталости. Она сразу помолодела, алюминиевая трость превратилась в палочку из жидкого серебра, и я понял, что делал Джакометти33 в своей двадцатидвухметровой кузнице Гефеста в Париже. Он переплавлял тела в свет. Дверные петли заскрипели, образ распался в пыль, я опрокинул себе на голову стакан воды и вонзил зубы в маковую слойку.
За полтора дня до Минска я вышел на автомобильную трассу и обнаружил, что она очень удобна для ходьбы. У нее были широкие обочины, выложенные гравием или даже залитые гудроном, и это было еще не все. Тут же сидели местные жители и предлагали лисички, белые грибы, каштаны, неизвестные мне большие красные ягоды, маленькие желтые яблочки, рыбу, копченую и соленую, – словом, все, что только можно было принести из леса и с дачи и выставить в ведерке у дороги или даже просто разложить на старой газете. Каждые несколько километров на обочине сидела женщина, молодая или не очень, нередко повернувшись к трассе спиной, и ждала, когда остановится грузовик или притормозит по дороге домой автомобиль с московскими номерами, и водитель выберет товар.
С облегчением я заметил лошадиные лепешки на полосе обгона и глинистый след от трактора, запросто пересекшего трассу. Нет, у меня здесь не будет проблем, на меня никто не обратит внимания. Люди с полными рюкзаками, шедшие вдоль дороги, были здесь вполне обычным явлением.
Я был голоден и купил рыбу и яблок у одного старика с добрым круглым лицом; я устал и присел рядом с ним. После того, как я поел и мы посидели, рассматривая проезжавшие мимо машины, он обратился ко мне на ломанном немецком:
– Вы знаете город Нойстрелиц34?
Он был командиром Советской Армии и служил в ГДР.
– Я люблю немцев. Мой отец погиб на войне, но я люблю немцев.
Он сказал это без всякой фальши в голосе, ему ничего от меня не было нужно. Он просто был рад снова увидеть немца и поделиться воспоминаниями. Я был настолько тронут, что не смог ничего сказать в ответ. Мы кивнули друг другу, и я пошел дальше.
Минск
Минск вынырнул из долины, схватил меня, водрузил на пьедестал и скомандовал: смотри! Минск представлял собой светло-серый массив зданий, постепенно выраставший над равниной. Это был первый большой город после Берлина. Он напоминал Гродно, но был гораздо более красивым и ухоженным. Это были красота и порядок, как на сцене перед премьерой.
А премьера должна была состояться в самое ближайшее время. Повсюду сновали отряды бутафоров: они наносили последние штрихи, грубыми вениками из прутьев подметали подмостки – центральный проспект шириной в семьдесят метров. Статистки-работницы, широко расставив ноги в резиновых сапогах, копались в цветочных грядках возле цирка – грандиозного, увенчанного куполом пантеона – и выпалывали сорняки. По замыслу режиссера они должны были находиться именно там. Статисты-мусорщики медленным шагом двигались по парку Горького, накалывали брошенные газеты на острые пики и подбирали коричневые пивные бутылки. Вокруг футбольной арены, изящной копии Колизея, режиссер расставил статистов в милицейской форме. Актеры-милиционеры патрулировали также огромную центральную площадь перед Дворцом Республики. Ожидалась классическая пьеса: вся сцена была оформлена барочным золотом и гипсовой белизной. Но спектакль не начинался. Статисты мелькали тут и там, дворцы, широкие проспекты, площади и парки были приведены в готовность, но главные действующие лица не появлялись. Таков был замысел, режиссерская находка: сегодня вечером непременно должны были бы давать что-нибудь чеховское, где в финале старые усадьбы впадают в летаргический сон, а дряхлый слуга закрывает белыми льняными чехлами кресла – символ утраченного времени, так что зритель в возвышенном настроении молча покидает театр и на протяжении целого вечера ощущает себя безоговорочным консерватором.
Минск ткнул меня в ребра и приказал: играй! Но что мне играть? О, как охотно я оказался бы сейчас в большой советской гостинице на проспекте, но, к сожалению, она закрыта. Минск снова нанес удар: играй, наконец! У меня промелькнула подспудная мысль: не я ли главный герой сегодняшней пьесы? Вдруг я здесь для того, чтобы расплачиваться за идеологические грехи молодости. Вечер один на один с коммунизмом, на большой государственной сцене этого политзаповедника. Вспомнился ироничный поляк-католик, немедленно заподозривший в моем походе на Москву паломническую поездку. Минск уже кричал: играй!
Режиссер распорядился подсвечивать карнизы и балконы снизу, из темноты выступили тяжеловесные классицистические пилястры желтых правительственных дворцов, а фасад здания КГБ продемонстрировал мощные бедра своих колонн. И Феликс Дзержинский снова был здесь: поляк, начальник ленинской ЧК, он поджидал напротив в своем маленьком зеленом скверике, – еще бы, ведь он родом из этих мест35. Я сказал, что хочу пива. Белорусское или «Балтика»? – спросил Минск. Пожалуйста, «Балтику», сказал я, это было чуть более дорогое пиво из Санкт-Петербурга. Минск поставил бутылку на один из столиков в бистро на большом проспекте. Могу я называть тебя Минск? – спросил я. Минск кивнул. Мы выпили за здоровье. Так что же мне играть, уточнил я, что у тебя на уме? Сыграть меня, сказал Минск, просто сыграй меня.
Я – князь, шептал я, я – барокко. Я – Лиссабонская Байха36. Я – Мангейм37. Нойстрелиц. Я – город-декорация и город-спектакль, возникший по мановению моей руки. Я – Сталин, я творец Минска, я молод, я – дитя войны, дитя победы. Война – мой отец, мой брат, взгляд в спину. Война опустошила сцену, так тщательно мною подготовленную. Сегодня вечером я выставил напоказ свои лучшие символы победы из гипса: медальон с серпом и молотом, фриз с пятиконечной звездой, я вонзил в небо отважно устремленные ввысь стелы победы. Я – революция.
Я низверг никчемные старые декоративные божества и заменил их живыми богами с кулаками и ружьями, рабочими и солдатами; нелепых героев классической гимназии я изгнал из города и отдал их место героизму советских будней; я выбросил на свалку истории пошлых упитанных ангелочков и воздвиг жниц с пшеничными волосами, такими же белыми как эта страна, и оптимистичных доярок; в моих парках и на моих площадях я водрузил гигантских поэтов. Минск улыбнулся: давай, давай!
Я город без проституции, политики, коммерческой суеты, рекламы, религии. Я город без времени. У меня нет, как вы могли заметить, уважаемая публика, городских часов, лишь в некоторых церквах священники нарочно вывесили обычные часы, но только в католических церквах, у православных нет часов, по которым люди замечают, что становятся ближе к богу. Что они такие же, как я. Меня забавляет, что на моем большом проспекте, чьи дворцы построены немецкими военнопленными, теперь катаются пятисотые мерседесы с черными шторами, а поверх всего этого я растянул красный баннер, один-единственный, при помощи которого нынешний князь призывает свой народ избирать себе президента. Минск покачал головой: на сегодня хватит.
Мимо прошли бритоголовые парни в красных футболках, на которых были изображены серп и молот, черной краской на фоне белого круга. Забавно, подумал я, что цвета и их сочетание являются национал-социалистическими, а сам символ – коммунистическим. Я спросил у Минска, кто это: наци, комсомольцы или поп-группа. Вероятно, поп-группа, ответил Минск и принес нам еще две «Балтики». Красивые стройные девушки прогуливались по широкому тротуару. За соседним столиком напивалось многочисленное семейство – мать свалилась со стула. Было совершенно ясно, что сегодня премьера не состоится.
В Зоне
Я нашел ночлег: квартиру на самом краю города в квартале новостроек для переселенцев из Зоны, расположенной к северу от Чернобыля. Я проник во Дворец Профсоюзов, самый афинский из всех минских дворцов, с тыльной стороны через невзрачную деревянную дверь; ведомый звуками музыки по узкому кривому коридору, я поразился, что изнутри этот пышный храм выглядит, как кукольный театр; пройдя на ощупь дальше по темному коридору, я открыл дверь, отодвинул занавес и оказался в танцевальном зале, откуда и доносилась фортепьянная музыка, но танцмейстер, утомленная необходимостью поддерживать выражение детского задора на лицах своих воспитанников, немедленно меня выгнала; я снова углубился во внутренности храма, пока не достиг двери с надписью «Интернет-клуб». Там я познакомился с Аркадием, который сразу же предложил мне переночевать у него дома на диване. Я ответил, что подумаю.
Направлявшийся туда автобус так долго ехал кварталами панельной застройки, что я начал запоминать ориентиры: вывеска «Поликлиника», «Макдональдс», недостроенный дом, ларек с узбекскими дынями. У «Макдональдса» я брал вещи, у поликлиники пробирался к выходу, у стройки собирался духом, а у ларька выходил из автобуса. Иногда автобус был переполнен или было уже настолько темно, что я терялся и не узнавал знакомые места, тогда приходилось туго.
В доме, где жил Аркадий, все были из Зоны – из треугольника на самом юге Белоруссии между реками Припять и Днепр, к северу от украинского Чернобыля. Я стоял у окна девятого этажа и рассматривал дорожки, протоптанные новыми горожанами по пустырю, где как грибы после дождя выросли их дома. Именно дождь согнал людей со своего места. Дорожки были похожи на лесные тропы, они пересекались, шли от одной высотки к другой, вели к остановкам и киоскам. Когда я выглядывал из окна, я мог рассмотреть просиженную до дыр деревянную лавку внизу у подъезда. Такая же стояла у каждого дома. У всех, кого сюда эвакуировали, была такая же скамейка в деревне далеко на юге, она стояла там у бирюзового дощатого забора, где жители посиживали вечерами, грызли маленькие яблочки и курили самокрутки, но однажды явились призраки: по деревням прошли войска в белых защитных одеждах, приказывая собрать лишь самое необходимое и немедленно уезжать. Минск рос и рос, на нем вырастала одна бетонная шишка за другой, он высасывал яд из этой земли и опустошал ее.
Подошел Аркадий и достал документ размером с пластиковую карту, на фото был он, только на пятнадцать лет моложе, в форме лейтенанта Советской Армии.
– Что это?
– Удостоверение ликвидатора. Я был ликвидатором.
Я задумался об Аркадии. Он был крепкий мужчина, не курил и не пил, рано ложился спать, питался по-вегетариански, слова произносил слишком, на мой взгляд, громко и отчетливо, повторял каждую фразу, ожидая, что я буду переспрашивать. Значит, ликвидатор. Так назывались солдаты и пожарные из белорусских деревень, прибывшие на помощь, когда случилась авария на украинском реакторе и местная пожарная команда разбежалась. Первые два дня Аркадий сопровождал меня повсюду и доходил в своей опеке до того, что я был вынужден протестовать. Его это забавляло, и он с ироничными комментариями отпускал меня, как он выражался, на волю. Вероятно, я казался ему слегка невротичным, и на основе этого он делал свои выводы о людях с запада. Его любимой присказкой было: «Отдыхай! Отдыхай!» Успокойся, расслабься, ляг полежи. На его счет у меня возникла теория: обычная ненадежность русских мужчин, как я полагал, приводит к возникновению людей прямо противоположного типа – гиперответственных. Лейтенантского склада. Таких, как Аркадий. Другую свою присказку он заимствовал из немецкого: «Ар-рбайтен! Ар-рбайтен!»
Как-то утром мы отправились к гаражам и затем поехали в Зону. Добирались несколько часов, в течение которых я только и делал, что спал. Когда я открывал глаза, вокруг ничего не менялось. Перед нами была дорога, прямая, как стрела, слева и справа – сосновые леса. Леса, леса, леса. Для того, чтобы заметить в них нечто пугающее, вероятно, следует пролететь над ними или, по крайней мере, пронестись сквозь них на машине. При ходьбе я слишком сливался с лесом, чтобы это чувствовать. Дело здесь в том, что во время поездки или полета природа воспринимается как немой фильм. Никаких звуков, только картинка. При ходьбе все было иначе. Природа ни на секунду не замолкала, более того, она окружала запахами, а маленькие и большие опасности, подстерегавшие на каждом шагу, принимали вполне конкретную форму: жара, голод, зверь, нежданная встреча.
Сквозь полусон картинки нашего путешествия менялись со скоростью видеоклипа. Мальчик на обочине ремонтирует велосипед. Старуха идет из леса, ее корзина полна грибов. Лесная сторожка в форме гигантского мухомора. Военные памятники в большом количестве: танки на постаментах, поднятые к небу кулаки и автоматы, слово «победа», отлитое из бетона. Один раз я открыл глаза и увидел, как по болоту бродит охотник, в другой – заметил пуделя на балконе, это было в Бобруйске, городе заводов и казарм. Потом опять мелькали козы, деревянные дома, маленькие телеги, застывшие в нерешительности собаки, фольксвагены, прыгающие по тем же разбитым деревенским дорогам, на которых когда-то подпрыгивали и ползали их предшественники – вездеходы вермахта. В Хойниках мы попали на кочки, и целое мгновение мои глаза созерцали советскую Богоматерь: ты умеешь быть повсюду, подумал я и заметил, что она светится белизной, одной рукой сжимая золотой серп Деметры, а другой держа младенца Иисуса. Богиня плодородия, советская версия, пробормотал я, затем меня снова одолела усталость, великое утомление этой страны, а ко всему прочему в салоне звучала индийская музыка, поверх которой плыл женский голос: «Радуга, радуга, всегда только радуга». Это была кассета Аркадия. Я проснулся только к полудню.
Теперь мы ехали по территории, обозначенной в атласе Аркадия особым названием: радиационно-экологический заповедник. Аркадий, ответственный, осторожный Аркадий, вместе с женой вступивший в русско-британско-индийское движение Просветления, слушавший за рулем индийскую поп-музыку, и каждые две недели ездивший в Санкт-Петербург, чтобы повидать своего Учителя, Аркадий надавил на газ и по мере приближения к месту своей прежней службы все прибавлял скорость. Брагин. Зона. Его настроение улучшилось, он начал острить и подсмеиваться над моим желанием попасть сюда. Через пару лет весь местный кошмар превратится в большой эзотерический спектакль и хороший бизнес, а с запада, с безумного, вечно ищущего новых впечатлений запада, будут толпами приезжать люди, чтобы подвергнуться воздействию силового поля реактора.
– Потенция! Подумай только о потенции! Потянутся старички, они будут сидеть на берегу Днепра, точно так же, как раньше сидели в белоснежных шезлонгах на белоснежных террасах в санаториях для легочных больных.
Он выпустил руль, воздел руки и завопил:
– Энергия! Классная энергия, ты чувствуешь ее? Ты чувствуешь Его? Все хотят Его видеть.
Он опустил боковое стекло и указал в сторону:
– Реактор! Реактор! Бог мой, я видел реактор!
Он заревел от радости и хлопнул меня по ноге. Меня тоже охватило некое возбуждение. Мы были в Зоне, а ведь существовало даже не одно, а два прорицания о конце света. Апокалиптическое – из жуткого Откровения Иоанна, и мистическое – из Тарковского. У Иоанна земля становится полем безумной битвы. Тарковского же я слушал однажды пять часов подряд, и не где-нибудь, а в западноберлинском кинотеатре «Filmkunst 66» – в названии не хватало третьей шестерки, чтобы оно превратилось в число апокалиптического зверя. У Тарковского не было Апокалипсиса, а не было его потому, что он уже состоялся, а состоялся он потому, что он и так всегда был здесь. Земля для Тарковского была местом искания и спасения, а Зона – кульминацией, местом самопознания. Что-то подобное имел в виду и Аркадий, и поскольку все мы в какой-то мере приобщаемся к великим идеям посредством телевидения, я не мог полностью отрицать того, что в этих взглядах было нечто стоящее.
У знакомых Аркадия поначалу не было времени, чтобы заняться нами. Анна Петровна, заместитель районного начальника, была на службе, ее дочь работала в брагинском ЗАГСе и должна была зарегистрировать еще одну пару. Она отправила нас скоротать время в краеведческий музей. Им заведовал тихий, серьезный молодой человек с выступающими скулами и глубоко посаженными глазами; он представился почитателем Фридриха Нишце, а на прощание хотел подарить мне изрешеченную пулями каску немецкого пехотинца с настоящим черепом. Заведующего хотелось назвать князем Мышкиным и никак иначе. Все в нем меня трогало, даже движения рук, когда он убирал со лба свои темно-русые волосы, длинные, вопреки тогдашней русской моде. Он был племянником немецкого коммуниста из Михельштадта в Оденвальде38, в тридцатые годы бежавшего в Советский Союз. Здесь Штайнер, так его звали, женился на девушке из Гомеля, и во время войны как советский офицер воевал против своей родины.
Мышкин показал мне постоянную экспозицию своего музея. Чернобыль глазами художников или что-то в этом роде. Он задержался перед изображением красного дьявола, держащего в руках раскрытую Библию на фоне красного апокалиптического неба.
– Вы знаете это место? – спросил он осторожно, словно боялся уличить меня в незнании.
Есть игра слов, на которую русские с их тонким, а порой слишком обостренным чувством апокалиптического указывают ничего не подозревающим иностранцам. Дежа-вю. Некто увидел, что так будет, и записал, а через две тысячи лет все сбылось: «Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезде «полынь»; и третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки».
Откровение, восьмая глава. Речь идет о полыни. Полынью называется горящая звезда, которую узрел Иоанн в своем видении, но самое главное – трава полынь называется по-русски «чернобыль». Прочие детали тоже сходятся. Двойственность света, «века просвещения», огня Прометея – сначала свет, затем смертоносный факел, горящая, низвергающаяся звезда-реактор. Здесь многие от нее погибли, только в Белоруссии десять тысяч пострадавших от облучения. Отравленные грунтовые воды на трети юга страны. Горечь, полынь, и скрытая во всем этом тайна, которая так нравится русским: ведь это объективная игра слов, не придуманная, если такое вообще возможно придумать. Слово предшествовало деянию, а образ – свершению. Откровение Иоанна – виде́ние, Чернобыль – катастрофа, но метафора Полыни связывает их воедино.
Я спросил Мышкина, верны ли слухи, что в Зоне растут огромные растения и грибы. Он рассмеялся. Нет, нет, здесь только весьма расплодились дикие звери: кабаны, лисы, волки. С тех пор, как отсюда ушли люди, популяции диких животных увеличились. Кроме того, неконтролируемая дорога через Зону стала излюбленным маршрутом наркокурьеров из Средней Азии, а где товар идет, там он и задерживается, и в этой малонаселенной и отрезанной от мира лесной стороне есть теперь дети с исколотыми руками. Он вновь отвел меня к экспонатам военного времени, которые, похоже, увлекали его сильнее, чем обвинительный пафос политизированного искусства. Он сам вел раскопки. Он выставил здесь самые интересные вещи, найденные им в земле. Изогнутые авиационные пушки немецких мессершмиттов. Полусгнившие ранцы. Пустые гильзы от снарядов. А также каски – их у него набралась целая коллекция. Он снова показал мне раритет, который хотел подарить: имя убитого стояло на внутренней стороне каски, хорошо читались крупные, темно-синие, словно от фломастера, буквы, выведенные самим неудачливым пехотинцем.
– Я нашел его тут неподалеку. Смотрите, пулевые отверстия везде совпадают.
Он положил череп в шлем, и действительно, все пулевые отверстия в черепе соответствовали отверстиям в каске. Я сказал, что не могу принять этот дар.
– Берите и не волнуйтесь, у меня их много.
Я ответил, что мне не нужен этот мертвый солдат, у меня уже есть один.
Мы поехали в Дублин, последнюю деревню перед Зоной, название которой не имеет никакого отношения к Ирландии, – оно происходит от «дуба». Как во всех русских деревнях главная улица Дублина была не мощеной и не асфальтированной, за нами наблюдали возмущенные гуси, взволнованные куры неслись от нас прочь, а через каждые пять шагов стояли колодцы с деревянными крышками, по одному на каждый дом. Здесь жили друзья Аркадия.
Мы прошли через калитку в высоком тесовом заборе, и все здесь было чудесно. Дом и сад Анны Петровны воплощали русскую мечту о лете. Я стоял в мастерской ее зятя, занимавшегося изготовлением мебели, рам и лестниц, и вдыхал запах свежего дерева и смолы, в детстве я любил их больше всех и много слонялся у столярного цеха неподалеку и у смолокурни. Впереди находился зимний дом, а сад был таким, как положено саду, изобильным. Но самым лучшим был летний дом с его широкими некрашеными половицами и стенами из светлого дерева, большими окнами, выходящими в сад, и монументальным столом. Повсюду были плоды из сада. Сладкие красные помидоры, искривленные и кособокие, земляника, цуккини, открытый мешок с картофелем, здесь была даже разрезанная дыня, так далеко на юг мы забрались, и повсюду – цветы. Я лег на диван и слушал голоса и звуки, доносившиеся из кухни, работало радио, и, честное слово, Ли Хазельвуд и Ненси Синатра пели в этот момент «Summerwine»39.
Солянка была подана на стол, я спросил, из чего она приготовлена. К основным ингредиентам – капусте, подсолнечному маслу, моркови, соли и перцу – Анна Петровна добавляла яблоки, цуккини и грибы. Я спросил ее, правда ли, что в Зоне растут огромные грибы.
– Я один раз нашла, он весил три кило. Но это было еще до аварии на реакторе. С тех пор ничего такого не случалось.
– Но разве грибы, которые вы кладете в солянку, не содержат радиации?
– Знаете, каждый должен сам заботиться о своем здоровье. Мы питаемся только с моего огорода. У главы района маленький ребенок и свой датчик радиации, он часто сюда приходит и производит измерения: показания в моем саду лучше, чем в Минске. Он и сам питается только с моего огорода.
– Но как же грибы?
– А, грибы. Укроп плох, он много впитывает. И молоко плохо, оно также впитывает много радиации. И грибы из леса. Но мы все равно их иногда едим.
Она сказала также, что яблоки все-таки нужно мыть, а также то, что мужикам, которых после аварии посылали в Зону, чтобы вывезти добро и скот, перед каждой вылазкой приходилось пить сто граммов водки, которая, якобы, защищает от облучения, и тогда произошло много несчастных случаев, поскольку мужики в мерах предосторожности выпивали по целой бутылке. Она меня запутала. Порой она объясняла все с научной точки зрения, но тут же начинала рассуждать, как настоящая крестьянка, которая перед лицом новой эпохи и ее новых ужасных болезней прибегает к помощи своих старых домашних рецептов. Я сдался и перестал размышлять об этом. Вид сада, свет в летнем доме, запах еды прогоняли лишние мысли. Ели только мужчины, – женщины готовили, накрывали на стол, ожидали в дверном проеме, следили за тем, чтобы все было нам по вкусу, и радовались, когда мы просили добавки. Все это занимало меня еще и потому, что напоминало о той большой кухне, в которой я первый раз в жизни дотянулся до края стола, о непрерывных готовке и заготовке и о четком разделении мужского и женского труда. Лишь после завершающей перемены блюд женщины присели за стол и тоже поели. При этом не наблюдалось ни малейших признаков униженности или покорности. Каждый делал свое дело, вот и все.
После обеда Анна Петровна отвезла нас в Зону. Недолгая поездка, и мы оказались перед большими ржавыми воротами из колючей проволоки, по обе стороны от которых тянулось ограждение, – это выглядело как советский исправительный лагерь в американском фильме. Открыть ограждение и проникнуть в Зону не составляло никакой проблемы. Мы поехали вглубь, и по мере нашего продвижения я постепенно перестал искать признаки катастрофы. Единственное, что о ней напоминало, пожалуй, – буйный рост травы, диких цветов и кустарников, но и это было совершенно обычно для местности, оставленной людьми. Все заросло. Не было больше ни лугов, ни полей, ни садов, с каждым летом лес отбирал все большую территорию у деревень, куда мы приезжали. Однажды эти деревни с заколоченными в спешке домами совсем исчезнут, но кто знает, может быть, когда-нибудь их хозяева все же вернутся. Ветви деревьев стиснули постройки в объятьях и медленно разрушали их. Провода на столбах, по которым энергия реактора подавалась в деревни, теперь свешивались вниз, как засохшие ветки с мертвых стволов.
Дорога, по которой Анна Петровна ходила в школу, вела теперь в кустарник, футбольное поле, где играли ее братья, уже поглотили заросли. Все вокруг шелестело, в деревне поселились дикие звери, фруктовые деревья гнулись под тяжестью желтых груш и красных яблок, которые никто не собирал. Или почти никто. Порой нам попадались кошка или собака, а теперь еще и вернувшийся в Зону старик, сам похожий на зверя. Он сидел на бревне перед своей избой и делал вид, что мы ему безразличны, но когда я направился к нему, он поднялся и убежал.
В Зоне пасли стада коров и убрали урожай зерновых с полей – жизнь продолжалась. Мы приехали к военной базе, где приземлялся после катастрофы Горбачев; асфальтовая дорога превратилась в крошево. База когда-то была совершенно новой, современной, в ней стояли четырехэтажные дома с сауной и супермаркетом. Но и здесь была та же картина. Мы уже вдоволь насмотрелись на пиршество дикой природы, как будто воспроизводимое в замедленной киносъемке, и поэтому поехали к бывшей деревне Крюки. Анна Петровна сказала, что дождь неравномерно распределил радиоактивность по Зоне: где-то можно зафиксировать очень высокий уровень, а на опушке леса – очень низкий. В Крюках радиация была очень высокой, поэтому с ними должны были сделать то же, что и с реактором, то есть захоронить. Деревня была полностью перепахана и зарыта в землю. Но всего в четырех километрах отсюда мы видели, как крестьянин убирает пшеницу.
Мы съехали с дороги, по кочкам поехали через поле и остановились на высоком берегу реки: внизу виднелись песчаные отмели и цвели кувшинки, неподалеку в поле один-одинешенек пасся конь, а расположенная на другом берегу равнина с роскошным летним лесом была уже Украиной, там где-то должен был стоять Он, и действительно, там виднелось что-то белое, большое, напоминавшее коробку. Аркадий побежал вперед к краю обрыва.
– Он там! Это должен быть Он!
Мы последовали за ним, мы были наэлектризованы и хотели без промедления видеть реактор. Анна Петровна предложила проехать еще немного вдоль берега. Там впереди, мол, открывается лучший вид на реактор. Мы прыгнули в машину и поехали. Беловатый саркофаг был по-прежнему плохо различим, но все верили Аркадию: он должен был знать точно, ведь он – ликвидатор. Аркадий больше не смотрел на реактор. Он пустился в пляс по полю.
– Приезжайте в Зону! Здесь столько леса, столько дичи, столько потенции! Какая энергия! Энергия!
Любовь немецкого гауптмана
Несколько дней я оставался в Минске. Иногда заходил в православные церкви. В них действительно не было часов, зато в каждом католическом храме, который я посещал, на стене висели обычные часы. Я, как и все остальные, покупал в притворе две длинные свечи из медового воска, точно такие же свечи непрестанно зажигали одну от другой внутри церкви, запах воска и меда наполнял сияющее золотое пространство. Вокруг ходили старушки, они убирали догоравшие свечи с большой латунной подставки, протирали ее и чистили, я подозревал, что свечи едва успевали догореть до половины; перед церковью тоже стояли старушки, крестились по-православному, клали земные поклоны перед иконой и протягивали руку для подаяния. Я осознал, что отправляюсь в путь, когда начал подавать милостыню берлинским попрошайкам, – и это была не просто жалость. Скоро я тоже буду лежать на обочине, как и они, умоляя о чем-то незнакомых людей: о стакане воды или крыше над головой – и где-то в глубине души я надеялся, что за то, что я для них делаю, мне когда-нибудь воздастся.
Другой минской константой был ежедневный поход в один из трех «Макдональдсов» – ради туалетов. Здесь они были лучшими в городе – чистый белый фаянс – сравнить можно только с туалетами в Гете-Институте, у которых не было конкуренции: солидный материал, надежное оснащение, прочные держатели для бумаги. Не знаю, какое заимствование из Германии производило большее впечатление: институтская библиотека или туалеты.
Я покинул церковь Петра и Павла, сделал несколько шагов к проспекту Машерова, дом один, корпус два, квартира четырнадцать. Долго медлил, прежде чем позвонить. За дверью меня ожидала история, то есть сама она нечего не ждала: этот пробуждающий воспоминания звонок часто раздавался и раньше. Воспоминание, скрытое за дверью, уже было сюжетом немецкого телевидения, немецких газет и немецкого радио. Помимо древесины воспоминания были единственным пригодным для экспорта сырьем в этой стране, поэтому с запада, где такой материал встречается все реже, сюда на его добычу приезжали репортеры, сценаристы, писатели. Мой палец лег на кнопку звонка, все-таки я дал себя убедить. Восток – это могильник истории, месторождение трагического, материал здесь плотно лежит под слоем дерна, он действительно сырой, необработанный, нешлифованный. Со своей аморальной красотой он скорее похож на причудливые саги, чем на назидательные притчи, пользующиеся популярностью в эпоху нравственного дефицита. Я позвонил.
Пожилая рыжеволосая дама, пригласившая меня войти, как мне показалось, не меньше меня осознавала странность ситуации. Раз в пару месяцев в ее дверь звонил какой-нибудь немецкий специалист по воспоминаниям, и она снабжала его тем, в чем он нуждался. Теперь ей было восемьдесят четыре, и она была последним живым свидетелем безрассудно отважного поступка, совершенного гауптманом Шульцем во имя любви. В двух словах история такова. Этот немецкий офицер так сильно влюбился в немецкую еврейку из гетто, что предал все: политические убеждения, воинский устав, прежнюю жизнь, чтобы спасти свою любимую, а это значило – бежать вместе с ней к партизанам.
Лиза Гуткович не только была свидетелем, но и сама участвовала в подготовке и осуществлении этой впечатляющей авантюры. Она показала мне фото: Шульц непринужденно опирается на край письменного стола, форменная фуражка, худое лицо, не более редкое, чем его фамилия. Его подруга – в свитере, очень стройная, на ней бусы, юбка, у нее длинные темные волосы, ничто в этой фотографии молодой женщины и мужчины не указывает на гетто. Заметна только разница в возрасте. Ей едва восемнадцать, ему – сорок четыре. Но ведь шла война, и было не до мещанских приличий. Неподписанная фотография: визит в родительский дом. Неизвестный офицер со своей невестой. Если бы речь шла об обычной войне, о территориях и власти, о коалициях и сырье, эту фотографию могли сделать в доме фройляйн Ильзы Штайн, в городке Нидда, округ Веттерау, земля Гессен. На самом деле снимок был сделан в Минском гетто, рядом с местом массовых захоронений.
Моя хозяйка вышла в соседнюю комнату и вернулась, держа вешалку с вычищенной формой офицера Советской Армии:
– Это моего второго мужа, он умер.
Ее первый муж был скрипачом в Белорусской филармонии в Минске, сама Лиза Гуткович была дочерью крестьянина-еврея из деревни под Витебском. Когда пришли немцы, у Лизы был маленький сын. Она вместе с мужем тут же попала в гетто, ребенка ей удалось вовремя передать другим людям. Своего мужа она больше никогда не видела и никогда не узнала, где он был расстрелян, ребенок пропал.
Первый массовый расстрел в ноябре 1941 года ей удалось пережить благодаря мужеству и везению. Внезапно эсесовцы с собаками и автоматами начали сгонять людей в одно место. Она рискнула бежать из колонны и смешалась с русскими женщинами на обочине. Ни одна из них ее не выдала. До глубокой ночи она пряталась в каком-то саду. Но она решила, что не может бросить свекровь одну в гетто, и тайно вернулась туда через колючую проволоку, ее снова никто не заметил. Вскоре после этого она попала в рабочую колонну из двухсот женщин, находившуюся под началом гауптмана Вилли Шульца, члена партии национал-социалистов.
Однажды в марте 1942 года колонна возвращалась с работы, ворота гетто оказались перегороженными; ремесленникам приказали остаться снаружи, а прочим идти внутрь. Лиза поняла, что это значит. При регистрации она хладнокровно скрыла, что она инженер. «Интеллигенцию» ликвидировали в первую очередь. Но время показало, что быть никем и ничего не уметь, так же погибельно. Она выдала себя за портниху, это значилось в ее аусвайсе, поэтому ее отогнали в сторону от ворот, подальше от роковой колонны. Случилось то, что она предчувствовала. Большинство женщин погнали сквозь ворота и дальше – к черной могиле, которую и сегодня показывают в Минске. Здесь погибли пять тысяч человек.
Небольшой группе, остававшейся снаружи во время многочасового массового расстрела, было сказано, что им сохраняют жизнь. Но они должны стоять на коленях. Она стояла на коленях, на протяжении четырех часов слышала залпы, и отморозила себе пальцы ног. Затем ворота снова открылись: «Эй вы, внутрь!» На следующий день их снова отправили на работу. Из двухсот женщин в их колонне осталось пять. Пришел Шульц. Он указал на оставшихся и произнес: «Я в этом не виноват». Убитых заменили новые работницы. Прежде были русские еврейки, теперь привезли депортированных из других стран. И тут произошло нечто совершенно невероятное. Шульц остановился около одной из новеньких, очень юной и впечатляюще красивой. Он подал ей руку. Немецкий офицер, член национал-социалистической партии, подал руку еврейке в гетто. Они поговорили по-немецки, он спросил, как ее зовут, и она ему ответила: Ильза Штайн. Да, Штайн. Из Нидды. Да, из-под Франкфурта. После этого он ушел.
Работа была тяжелой. Приходилось выгружать дрова и торф из вагонов для большой котельной здания администрации. «Русские женщины были привычнее к физическому труду, чем иностранки», – Лиза Гуткович рассмеялась. Она воспользовалась этим как предлогом для того, чтобы заговорить с красивой новенькой и показать ей, как правильно держать себя. Они подружились, а Шульц, засматривавшийся на девушку из Гессена, приходил снова, разговаривал с ней, приносил еду из немецкой кухни и в качестве привилегии поручал ей несложную работу в помещении. Он был настолько безрассуден, что сделал совсем юную, неопытную Ильзу бригадиром колонны, но при этом достаточно умен для того, чтобы назначить подругу Лизу ее заместителем. Он вынашивал мысль о побеге, но для этого ему нужен был доверенный человек, опытный, а главное – говорящий по-русски. Ни он, ни Ильза Штайн по-русски не говорили. Одни они не прошли бы и десяти километров. Нейтральной зоны, куда они могли бы бежать, не существовало. Подобная пара не смогла бы найти защиту ни у командования вермахта, ни у гражданского начальства. В тот момент выбор стоял только между территорией СС и территорией партизан.
Он был не единственным немцем в Минске, пытавшимся спасти кого-то из евреев: даже сам генеральный комиссар Вильгельм Кубе иногда, преследуя свои интересы40, делал это, но то, что предстояло влюбленному Шульцу, стоило очень дорого – это была государственная измена. Переход на сторону врага. Ведь он поступал так не из жалости или симпатии, а из любви. Он не просто хотел спасти девушку и отойти в сторону, он хотел связать с ней свою жизнь. «Я люблю Ильзу», – сказал он однажды Лизе Гуткович и посвятил ее в отчаянный план: он собирался просить друга-летчика перебросить обеих женщин через линию фронта. Но летчика откомандировали в другое место. Шульц попытался достать подложные документы. Конечно, говорит Гуткович, за деньги можно было купить бумаги у белорусских полицаев. Но только не для еврейки из гетто. Шульц непременно хотел узнать настоящее положение дел на фронте. Он распорядился, что Лиза должна убирать комнату, в которой стоял приемник. Она ловила московское радио и докладывала ему. Но это длилось недолго. Однажды, именно в тот момент, когда диктор произносил по-русски «Говорит Москва!», в комнату вошел эсесовец. Немец заорал на Лизу: «Кто настроил радио?»
Затем он захотел знать, о чем говорит диктор. «Немцы стоят под Москвой», – ответила Лиза. Эсесовец снова заорал: «Ты врешь, проклятая еврейка!» Она бросилась к Шульцу. «Если на меня донесут, – сказала она ему, – меня убьют сегодня же». Шульц ее успокоил: «Я уже давно знаю, что ты инженер, если бы я сообщил об этом, тебя бы давно убили». «Почему вас, евреев, уничтожают?» – спросил он. «Я не знаю», – ответила Лиза Гуткович.
Шульцу было известно, что она поддерживает контакт с подпольем гетто. И ее связной из подполья знал о планах Шульца. 30 марта 1943 года в восемь часов утра по московскому времени к еврейской бирже труда подъехал закрытый грузовик – водитель из вермахта был подкуплен Шульцем, – в машину забрались двадцать пять человек: двенадцать женщин и тринадцать мужчин, якобы для отправки на работу. Среди других здесь были Ильза Штайн, ее младшая сестра Лизхен и Лиза Гуткович. Тринадцать мужчин были вооружены, у одного из них даже была винтовка. Все оружие достали в гетто, через подполье, которое прикрывало операцию и оказывало поддержку. Через несколько часов они должны были добраться до партизан.
Шульц сел в машину в нескольких километрах от города, грузовик без осложнений проехал немецкий дорожный пост на железнодорожной станции. Проехали вглубь леса более, чем на сорок километров, затем путь преградила река, через которую не было моста. Вода была ледяная, но один молодой человек из сидевших в грузовике, отличный пловец, вызвался переплыть на другой берег и привести помощь. Перепуганный водитель стал кричать, и Шульц хотел его застрелить. Лиза сказала ему, что когда убивают немца, за это выжигают целую деревню. Шульц убрал пистолет. Тут подошла лодка, одна-единственная, и еще прежде, чем они все перебрались на другой берег, явились партизаны, целый отряд. Я перецеловала их всех, вспоминает Гуткович, но партизан интересовали только находившиеся в группе немцы. Шульц вышел к ним с поднятыми руками и сказал по-русски: «Здравствуйте, товарищи!» Затем он обнял Ильзу и произнес: «Любимая, все-таки я тебя спас!» Прискакал верхом партизанский командир. Шульца непрерывно допрашивали. Зачем он это сделал? Он всегда отвечал одинаково: «Я люблю ее больше всего на свете. Я сделал это для нее». По доброй воле. «Мое главное желание – быть с Ильзой. И попасть в Москву. Говорить с людьми. Рассказать им о том, что сделал Гитлер». Шульца с Ильзой, водителя и Лизу Гуткович отправили в штаб:
– В эту ночь они поженились. В партизанском поселке было пять изб, в одной из которых жили семейные пары. Там разместили Шульца и Ильзу. Первый раз они были вместе. Это была свадьба.
Новые допросы, теперь у командира партизанского соединения. Все время повторялся один и тот же вопрос и звучал один и тот же ответ: «Я люблю эту женщину. Ради нее я сделал это. Да, я осознал, что представляет собой национал-социализм». Подруг разлучили.
– Ильза плакала. Она подарила мне на прощанье свои янтарные бусы и платье.
Однажды ночью сбежал водитель, без сапог, и все боялись, что он их выдаст. Но тот далеко не ушел. Он доковылял до одного дома, где горел свет. Его впустили, накормили и дали водки, а сами отослали весточку партизанам.
– Они забрали его. Его ноги были совершенно отморожены. Выяснилось, что он был австрийцем и немного знал русский. Он уверял, что хотел вернуться, чтобы спасти еще больше евреев. Но никто ему не поверил. Его расстреляли.
После войны Лиза Гуткович вернулась в разрушенный Минск и встретила здесь друга своего убитого мужа-скрипача. Он рассказал, что выжить удалось не только ей: «Твои родители в Сибири, и с ними твой сын». Лишь в 1985 году она прочитала в минской газете объявление: «Кому известно что-нибудь о спасении двадцати пяти человек немцем во время войны?» Это была Ильза Штайн. У нее была другая фамилия, и она жила в Ростове-на-Дону.
– Когда она выходила из поезда в Минске, силы ее покинули, и двое молодых людей поддерживали ее.
Шульц оказался в Москве, как и хотел. Вместе с Ильзой. Их перебросили на самолете. Два месяца они жили в предоставленной им квартире и с ним не обращались как с военнопленным. Затем как-то приехала машина, одна из тех самых машин, приезжавших тогда, и больше они уже не виделись. Много позже на ее запрос пришел ответ, что Шульц умер в одном из лагерей для военнопленных от тифа, как всегда писали в таких случаях. Молодой женщине из Нидды, что в Веттерау, предложили переехать в Биробиджан, в Еврейскую автономную республику на Дальнем Востоке. Она так и сделала и устроилась там работать портнихой. После войны она вышла замуж за еврея, офицера Советской Армии, и вместе с ним переехала в Ростов. И однажды, спустя долгие годы после войны, когда на далеком западе президентом стал киноактер, а Советский Союз доживал свои последние дни, она нашла свою младшую сестру – Лизхен из Гессена исполнилось уже пятьдесят лет, у нее было двое детей, и она жила в Астрахани.
У меня оставался еще один вопрос к пожилой даме, которая то и дело поправляла волосы, как будто хотела сказать: «Знай я, что вы зайдете на чай, я быстренько бы сбегала в парикмахерскую».
– Она его любила?
Гуткович ответила, что то же самое она спрашивала у своей подруги, когда они снова встретились спустя сорок два года. И та ответила не раздумывая: «Всегда только его одного».
– Все эти годы?
– Все эти годы.
Сибирский йога
В Минске был еще один человек, с которым мне было любопытно встретиться. Последний. Я хотел увидеть его до того, как пойти дальше. Он должен был вернуться из Крыма, где проводил лето. Назначенный день пришел, и я поехал на метро до станции «Тракторный завод». Это было похоже на аудиенцию. Он сидел на стуле в комнате, полной изображений святых, его длинные локоны, черные с серебром, доставали до плеч, рядом с ним стояла Татьяна, его прекрасная Татьяна. Он был красивым мужчиной, а ее присутствие подчеркивало это, как выгодное освещение. Что еще? Кресло с крестами, угол с фотографиями, на которых были благословившие его монахи и старцы, таинственные мужи с длинными волосами и длинными бородами, снимок его матери. На коврике лежали новенькие, сверкающие хромом гантели. Меня усадили напротив хозяев на низкой тахте, где он снимал пациентам боль. Аудиенция была краткой. Он спросил, кто я и почему путешествую. Затем он объяснил, кто он такой. А затем – как должны жить люди. Здоровая, легкая пища, ежедневные упражнения, молитвы и все такое.
Как и все йоги, он был плохим рассказчиком. Это не их конек. Они забывают детали, имена, время. Он спросил меня озабоченно, не собираюсь ли я писать историческую книгу – в этом случае ему нечего мне сказать. Я его успокоил. Суть моего путешествия не нуждалась в долгих объяснениях. Идти пешком, вот и все. Он знал одного монаха, который тоже шел пешком. Десять тысяч километров. Один старец, седой мудрец, сказал этому человеку: «Ты должен постоянно менять монастырь, постоянно находиться в движении, в этом состоит твое служение богу». Монах повиновался. Он дал обет пройти по России десять тысяч километров. Олег встретил его в монастыре под Псковом, избавил его от болезни ног и других недугов, за что монах подарил Олегу крестик на цепочке, который он сделал своими руками и носил в пути, в каком-то смысле этот крестик хранил теперь и меня. Я хотел узнать больше про этого монаха, но Олег все забыл, он даже не помнил его имени.
Аудиенция подошла к концу. Ему уже не нужно было сидеть на стуле – он вскочил, я тоже встал, он вытянул руки в мою сторону, на правой у него недоставало одного пальца. Остальные девять были заряжены энергией и вздрагивали, когда что-нибудь находили. С их помощью Олег исследовал меня, как лозоходец.
Нос. «Тут пара каналов закрыты».
Плечи. «Болит?»
Живот. «Что-то не так с почками».
Он вышел в другую комнату, вернулся назад с полным подносом и дал мне выпить молока со смесью цветочного и гречишного меда. Один из его пациентов был пасечник, он расплачивался медом.
Когда я встретил Олега во второй раз, я упрашивал его рассказать о своей матери, от которой он научился целительству, а также о его юности и шахтах. Все, что мне удалось узнать, было следующее: до двадцати лет он жил на Дальнем Востоке, рядом с Якутией, от всего долгого детства и юности, проведенных там, в памяти сохранился лишь один образ. Магадан. Магаданские розы. Это единственное место на свете, говорил он, где одновременно можно увидеть лед и цветущие розы. Вспомнилось еще что-то. Дом, в котором он рос. Стены из грубо отесанных бревен, мох в щелях, уединенное место, кругом тайга. Дни, вся зима – вечность при свечах. Дом его матери, об отце он никогда не говорил, но и это воспоминание было смутным. Память тела была лучше. Оно сохраняло повышенную температуру, всегда тридцать семь и два, благодаря которой удавалось выдерживать невероятно суровую якутскую зиму с температурой минус пятьдесят-шестьдесят градусов. Пятьдесят, говорил Олег, было терпимо, но при более низких температурах дышать становилось больно. Когда ему исполнилось двадцать, он отправился к Северному Ледовитому океану, в знаменитые воркутинские шахты, за семнадцать лет он побывал в трех из них. Из этих глубин возникло еще одно воспоминание, такое же короткое, как и остальные. На коленях. Тяжелые работы в шахте большей частью выполнялись на коленях, постоянно случались несчастья: люди погибали или получали серьезные травмы. Уже тогда руки опережали его. Еще прежде чем он это осознал, они чувствовали, какая сила в них скрыта. Когда что-либо случалось, Олег видел, что их прикосновение способно останавливать кровотечение и лечить переломы. В Воркуте он изобрел свой медовый массаж. Водянка колена и отложения солей в суставах были самыми частыми недугами у шахтеров. Он втирал мед и разминал больное место, пока мед не вытягивал соль, белым налетом выступавшую на коже.
Я посмотрел на него. Правильные черты лица, темные глаза, кожа оливкового цвета, единственным недостатком был отсутствующий палец. Он был полностью вырван, с корнем, остался рубец в форме полумесяца. Я спросил его об этом.
– В шахте.
Моя последняя встреча с Олегом состоялась прохладным, дождливым летним днем, когда он забрал меня на своем красном опеле от станции «Тракторный завод», я знал лишь, что мы едем за город, в сауну. Я наблюдал за погодой с беспокойством: лето, очевидно, подходило к концу, мой путь становился более суровым. Когда мы выехали из Минска, навстречу нам попались «краповые береты», названные так по цвету своих головных уборов, их всегда задействовали там, где собиралась оппозиция. Их казармы находились на загородном шоссе. Рассказывали, что у этих привилегированных спецподразделений были широкие полномочия, их всегда прикрывали, независимо от того, что они делали. Ясно, что сегодня они появятся, – это был день президентских выборов. Распространялись слухи, что в случае победы оппозиции президент устроит переворот.
Друг Олега уже прогрел баню, где мы провели весь воскресный выборный день. Завернувшись в белые льняные простыни, мы сидели попеременно в русской парилке и в предбаннике, смотрели телевизор и ели свежие зеленые яблоки с медом. Рядом вновь оказался пасечник, он дал нам целую рамку с сотами, мы вырезали куски, высасывали из них мед и выплевывали комочки воска. Внезапно появился президент. На экране телевизора. Он, как и мы, был в бане, обернутый в белую льняную простынь. Он стоял в своей сауне и говорил, что температура сто двадцать градусов или даже сто тридцать для него самая подходящая. Все схватились за голову: сто двадцать, этого ни один человек не выдержит! В сухой сауне, еще может быть, но точно не в русской парилке.
Олег спросил, готов ли я. Он пошел со мной в парную, велел мне лечь на скамейку и плеснул ковшом воды, смешанной с травами, на раскаленную печь. Вода зашипела, от печи пошли волны жара, Олег направил их в мою сторону, помахивая полотенцем. Как будто ветер из самого пекла пустыни обрушился на меня и прошел насквозь. Мое предположение насчет того, что Олегу шестьдесят лет, не оправдалось: ему исполнилось только пятьдесят, но тело у него было как у тридцатилетнего. Он был весь покрыт татуировками, на груди и животе, руках и спине были какие-то меридианы и йогические символы; это не выглядело примитивно, напротив, казалось, что он с ними родился. Они были под кожей. Как просвечивающие синие артерии. Вода лилась по его лицу, как кровь, влажные пряди волос свешивались вниз; когда он вынырнул надо мной, показалась готическая голова, словно вырезанная из липы и потемневшая. Нет, древнее. Восточнее. Профиль и волосы из обожженной глины, пот блестящий, как глазурь. Он посмотрел на меня и засмеялся. Мои мысли было несложно прочесть: я удивлялся его виду.
– Мы ассирийцы.
Ассирийцы – об этом я мог бы догадаться!
– Моя мать была целительницей и еще врачом. От нее у меня дар целительства и знания по анатомии.
Он сказал, что ассирийцы с давних пор занимались целительством. Мне хотелось услышать больше, но это было все, что он мог рассказать о своем происхождении: целительство, а также то, что его народ был депортирован по приказу Сталина. Мне не нужно было уже его разглядывать: я видел сквозь него. Он словно распахнул закрытое окно. Ассирийцы не были нацией, они были ранней христианской церковью, третьей по численности после Рима и Византии – несторианской. Потерянной, почти исчезнувшей. Во времена расцвета она простирала свое влияние дальше обеих соперниц. Ее центр находился на земле, расположенной между Западной Персией и Сирией, в Верхнем Междуречье, ее католикос пребывал в Багдаде. Ассирийцы были образованными людьми, великими пилигримами и путешественниками, а также врачами. Еще в эпоху поздней Античности, а затем и в Средние века они отправляли миссионеров в глубь Азии, в Индию и гораздо дальше: они даже снискали определенный успех в Китае и Центральной Азии. Однако в отличие от римской и византийской, их вера нигде не стала государственной религией.
Голый человек, взявший в руки зеленый, связанный как веник пучок травы и погрузивший его в воду, был глухим отголоском великой традиции. Он ничего не знал о ней, она его даже не интересовала. Но то, чем обладали его руки, этот неуловимый струящийся дар, было достоянием его народа еще пятнадцать веков назад. До нас дошло саркастическое сетование одного обедневшего исламского врача из Багдада. Он жалуется, что приходится быть несторианцем – носить платье из шелка, как его преуспевающие коллеги, говорить на их диалекте, по которому пациенты узнают хорошего врача. Нужно быть столь же умелым, как они, люди из Гондишапура, – места, где находилась академия несторианских врачей.
Несторианец рядом со мной окунал веник в чан, чтобы тот набрался влаги, и был намного больше озабочен своим сиюминутным делом, чем бременем бытия, которое когда-то привело его народ в Советский Союз. Османская империя пала, а младотурки в своем стремлении осовремениться и стать однородной нацией уничтожали все, что не давало смешать себя с общей массой, но на этом ассирийский апокалипсис не завершился. Многие бежали от турецкого геноцида в Армению и Грузию, где их застала русская революция. Наступила эпоха краткого расцвета, начали печатать ассирийскую литературу, создавались культурные центры, но всему этому Сталин в своей обычной манере положил конец: элита была истреблена, а все прочие депортированы. Так эти ранние христиане с кожей оливкового цвета попали в якутскую глухомань, и поскольку их общность основывалась только на их вере и их древнегреческом воспитании, ассирийцы рассеялись легче, чем прочие депортированные народы, и стали такими же русскими, как Олег. Когда он ушел из угольной шахты на Полярном круге, ему было под сорок, и, когда он приехал в Минск и впервые увидел церковь, разумеется, православную, на него это произвело сильное впечатление. Тысячелетний магнит притянул к себе двухтысячелетнюю душу.
Он уже достаточно долго обмакивал веник из полыни в чан с водой, затем вынул его и начал хлестать меня. Я еще не упоминал о полыни: ее было в избытке на квартире Олега, где она висела, связанная пучками, теперь настало ее время. Он хлестал меня с головы до ног, затем скомандовал лечь на спину, и снова прошелся веником от головы до ступней. Он хлестал сильно, но не больно, только веник растрепался, и через некоторое время я был весь облеплен раскромсанными стеблями и листьями. Полынь на коже, на волосах, между пальцев ног, на зубах, под ногтями, в глазах, в каждой морщине. Остаток воды в чане Олег дал мне выпить. Теперь я насквозь был пропитан полынью.
Гостиница «Беларусь»
От Аркадия я переехал в гостиницу «Беларусь». Бетонная коробка на холме, главенствующем над городом, где было полно русских и западных корреспондентов. Спустя всего день я затосковал о горьком шоколаде и соленой воде, моем обычном дорожном рационе, об уединении моих неуютных пристанищ, когда по вечерам я сидел один в пустой колхозной столовой и передо мной стояла десертная тарелочка с киевской котлетой и картофелем, а неподалеку шумела русская свадьба. Лишь в последний мой вечер в Минске гостиница почти опустела: рой репортеров покинул ее. Я лежал на кровати и слушал дождь, ливший весь день и всю ночь, и думал о пути, который мне предстоял. Сколько дней я находился в Минске? Слишком долго. Я поднялся, надел дождевик и вышел в город.
Дождь лил ручьями, но чем ближе я подходил к проспекту, тем чаще по дороге встречались возбужденно спорящие люди. Развернув дождевик до щиколоток, я набросил капюшон и последовал за толпой. Избирательные участки закрылись, оппозиция собиралась теперь на городских площадях – они все еще верили в победу. Я оглянулся в поисках «краповых беретов», но увидел лишь наблюдателей ЕС и съемочные группы. Подразделение, про которое я точно знал, что оно было в боевой готовности, определенно скрывалось где-то поблизости. Этим вечером я не увидел ни одного наряда милиции, но о ее присутствии можно было догадаться по дрожанию рук и голосов. Пожилые люди, которым нечего было терять, ходили с изготовленными вручную плакатами, как гротескные старики, которые болтают об НЛО и Страшном суде на пешеходных улицах западных городов, но эти держали в руках петиции о своих пропавших сыновьях.
Напряжение передавалось другим. Тяжелее всего приходилось молодому американскому телерепортеру. Он напоминал мне мормона-миссионера из тех, что появлялись в Берлине: темно-синий костюм из супермаркета, полосатый галстук, сильные крестьянские руки и все время с напарником. Но этот стоял один. Он был воплощенным страданием и вызывал у меня жалость. Ему нужно было сказать в камеру два коротких предложения, он делал десять, двадцать дублей, и у него ничего не получалось. Он брал себя в руки, пытался снова, он тренировался. Он делал упражнения для снятия стресса. Руки на затылок, голову назад, сделать наклон, руки в стороны. Он дрожал. Он почти выл от бешенства, страха и стыда. Я отвернулся и пошел дальше.
Незнакомец попросил у меня сигарету и тут же забыл о своей просьбе.
– Что мы за нация?
Смеясь и качая головой, счастливый от несчастья, он показал на свистящую и скандирующую толпу и ответил сам:
– Никакая.
Он подставил лицо струям дождя.
– Из Берлина, так, ясно. Вы, немцы, молодцы. Вы – нация.
Он снова засмеялся своим приподнятым печальным смехом, затем вспомнил о своей просьбе.
– Вы курите?
– Нет.
– Я тоже не курю. Но сегодня хочу курить.
Собрания под дождем всегда безнадежны, а тут еще погасли те немногие источники света, которые принесла с собой оппозиция, – ораторы то и дело срывали голос, а громкоговоритель постоянно ломался. Толпа, закоченев от дождя и напряжения, согревала себя своим собственным криком. «Беларусь – свобода! Беларусь – свобода!» Это помогало, становилось лучше, физически лучше, каждый присоединял свою маленькую личную дрожь и свой маленький презренный страх к огромному хору, слова воспламеняли, возносили, влажные от дождя лица начинали сиять, изумленные мощью своих тысячекратно усиленных голосов: недоверчиво, с надеждой, с радостью.
Началось ликование, послышался смех, некогда запечатленный классиками революционной фотографии, где радость всегда выглядит такой свободной, именно благодаря самой этой только что обретенной свободе.
Дождь прекратился, и я пошел по ночному городу. Я услышал звуки аккордеона. На автобусной остановке сидел человек и играл мелодии неизвестных мне песен, то изумительно нежно, то снова яростно. Вокруг стояли люди и слушали. Под конец он заиграл удивительно тихо и размеренно, мне пришлось протиснуться вперед, чтобы услышать его. В ночном Минске было не так много оживленных мест, сегодня ночью таким местом была эта остановка, много минчан ожидали троллейбус и обсуждали последние события.
Я вернулся в гостиницу. С проститутками здесь все обстояло очень просто. Они сидели группой слева, в сумеречном холле, и едва я поднялся в комнату, как раздался звонок, и какая-то Наташа предложила навестить меня. Она беспокоила меня только потому, что я не обратил внимания на ее написанную от руки и аккуратно при помощи линейки оторванную от клетчатого листа записку, которая лежала на телефонном столике, и не набрал ее номер, а также не позвонил ее подруге Нине из другой записки, написанной таким же детским школьным почерком. Так было всегда, независимо от того, когда я возвращался домой.
Я поднялся на двадцать второй этаж в верхний бар. Здесь три девицы всеми доступными им средствами вербовали клиентов: танцевали перед каждым, оголялись и демонстрировали то, что имели. Но ничто не помогало. Революционные ночи плохо сказываются на бизнесе. Даже залитые дождем. Даже проигранные. Я спустился в нижний бар. Его хозяин вчера вечером ударом кулака уложил на пол одного из посетителей – тот этого заслуживал. Сегодня огромный толстый Михаил проводил здесь вечер со своими нервными друзьями в черных кожаных куртках. Он то и дело окидывал взглядом зал, и только когда он поднялся с места, я увидел, насколько он на самом деле огромен. Богатырь. Он подошел к бару, пожал мне руку, мы посмотрели друг другу в глаза.
– Я сразу все понял.
Он все еще тряс мне руку.
– Я сразу понял, что ты солдат.
Я кивнул, он кивнул в ответ и опять вернулся к друзьям.
Ночь была беспокойной, я слышал шум и ворочался в постели. Это напоминало вечер накануне перехода через Одер и дни, проведенные в Белостоке, только с каждым разом все становилось серьезнее. Утром начиналась последняя треть пути, и то, что лежало по ту сторону Минска, находилось за пределами моего воображения. До сих пор я имел некоторое представление о дороге, и на крайний случай были припасены один-два адреса. Теперь с этим было покончено. Вновь и вновь подолгу звонил телефон, я накрыл голову подушкой, но это было бесполезно, так как вскоре раздался стук в дверь. Наташа была весьма настойчивой.
Дринк водка!
Я пошел дальше. Минск, наконец, остался позади. И наконец, на дорожных указателях появилось слово «Москва» – семьсот километров с небольшим, от одного указателя до другого был день или два пути. Первое время я избегал трассу М1 и шел по старому шоссе через деревни.
Я выглядел теперь совсем как русский. Последнее, что я сделал в Минске, – сходил в парикмахерскую. Мне нравилось это слово – парикмахерская. Из многочисленный заимствований, сделанных русским языком из моего родного, оно было моим самым любимым. Оно умело скрывается и так просто отгадывается. Peru¨ckenmacher – разве можно угадать это немецкое слово, заметив где-нибудь на стене невыносимо длинную надпись на кириллице? Стрелка под вывеской указывала в подворотню, я последовал в заданном направлении и увидел сидящую на стуле рослую блондинку, красившую ногти.
– Постригите, пожалуйста. Как-нибудь по-русски!
Она была очень сосредоточенна и не подняла головы:
– Минуточку.
Мы вместе наблюдали за тем, как ярко-красный лак высыхал на ее длинных ногтях, после чего пошли в небольшой зал парикмахерской. Безо всякого выражения и не переставая ни на секунду жевать жвачку, она показала мне мое место и сделала с моей головой то, что требовалось. После того, как она меня постригла, я ее разочаровал, отказавшись от геля для укладки волос: я уже получил от Олега свое русское помазание и не хотел перебивать парфюмом запах полыни. Парикмахерша так сильно тогда на меня рассердилась, что мне не удалось загладить оскорбление даже с помощью хороших чаевых, но все это было уже в прошлом. Порой в пути я проводил рукой по макушке и начинал смеяться.
После Минска дни стали мягкими, как и положено в конце лета, никогда мое путешествие не казалось мне более приятным. В Смолевичах пахло свежераспиленной древесиной, это была лесная местность, здесь было мало людей и много леса, встретилась лесопилка: показалась на мгновение и снова пропала. Ни остановки в Смолевичах, ни отдыха. Дорога делала большой крюк, огибая поле со стерней, – я пошел напрямик. Стерня стояла насмерть, как вбитые в доску гвозди, когда я по ней шел, она с хрустом взрывалась от злости, что я иду не босиком, она бы с радостью разодрала мои ступни до крови. Но Олег не зря искупал меня в полыни. Ночью после бани мне приснился сон. Я мог летать, это было не так трудно, как кажется, нужно было только сосредоточиться. Я висел в воздухе, а полет осуществлялся посредством равномерных взмахов согнутыми в коленях ногами, технически это напоминало езду на дрезине. Когда я переставал поднимать и опускать ноги, я проваливался вниз. Но если у меня получалось, то я летел.
Если день был благоприятным для меня, он расстилал передо мной ковры, и трава на обочине была только что скошенной. Нынешний день благоволил ко мне, и я шел, словно по мягкому мху. Косари лежали на лугу в сене, они скинули резиновые сапоги и сняли портянки, косы блестели на солнце; когда я проходил мимо, меня провожали усталые взгляды. Один из лежащий приподнялся. Я привык к этому скупому и немому приветствию, предназначенному для чужаков. Ни дружески, ни враждебно. Не смотреть, не спрашивать, идти дальше. «Лес, болота и песок». Это стихотворение я нашел в библиотеке минского Дома литераторов, речь в нем шла о потерянности этой земли, которая лежала передо мной и по которой я теперь шел. Немудреное стихотворение с простой рифмой. Его написал Якуб Колас в 1906 году, белорусский поэт, один из тех, чья статуя стояла в Минском городском парке.
Край наш бедны, край наш родны, Лес, балоты і пясок… Чуць дзе крыху луг прыгодны… Хвойнік, мох ды верасок41.Колас думал о стране, пребывавшей в предреволюционном полусне, но это неважно, ведь так было всегда. «Балоты і пясок» – «Sumpf und Sand», раз и два, три-четыре, я считал шаги до ста, потом снова до ста и снова до ста, пока не складывалась тысяча. Я не доверял километровым отметкам на маленьких синих знаках. Мне казалось, что русские километры, как и русская железнодорожная колея, в полтора раза больше обычных. Я вычислял свою дневную норму и старался понять, насколько больше недель мне потребуется, чтобы дойти до Москвы, если считать в русских километрах. Ничего не сходилось, вычисления были ошибочны, промежуточные цели неверны, мне нужно было забыть о своих планах и готовиться к встрече с русской зимой.
После восьмисот пятидесяти шагов показался очередной знак, а на девятьсот девяностом я прошел мимо него. Не так уж все плохо, подумал я, все в порядке. После того, как это выяснилось, я пошел вперед заметно быстрее, примерно в полтора раза. Но ненадолго. Только я переставал считать шаги – старая песня. Метры были для меня четками, которые я перебирал, и к востоку от Минска я пробормотал немало молитв.
Когда горизонт заалел, а моя тень удлинилась, я вынул из кармана рубашки мини-будильник – наручных часов у меня не было, мне казалось, что так лучше. Я шел уже одиннадцатый час и последнее время – мимо дачных участков. Некоторые дачи были заселены, другие пустовали. Мне приглянулся недостроенный дом недалеко от шоссе, чьи владельцы, судя по всему, отсутствовали, чердак в нем, как обычно, использовался для хранения сена и дров, фронтона у него не было. Мне оставалось только забраться туда – лестница стояла у дома, я поднял бы ее наверх, и у меня было бы прекрасное место для ночевки, недоступное для зверей, людей и дождя, – ничего более заманчивого невозможно было себе представить. К сожалению, соседние дачи были жилыми.
Я подождал, пока не наступит ночь, и хотел было уже лезть наверх, как рядом со мной остановился пежо.
– Садись!
Есть такая порода людей, которых не нужно просить, они сами спешат делать добро. Мой водитель оказался одним из них. Его пежо выглядел как склад лесорубов. Топоры и клинья различных размеров, сияющий ярко-красный термос. Опилки. Запах леса. Водитель сгрузил тяжелую бензопилу с сиденья на пол и сказал мне, что я должен ее хорошо держать: она острая. Я был рад такому повороту событий. Согласно карте я находился недалеко от Жодина, а он как раз туда направлялся. Что-то мне подсказывало, что Жодино – это хорошо. Во всяком случае, оно находилось недалеко, при некоторой самоотверженности я мог бы до него добраться. Лесоруб не торопился меня высаживать. Он был рад показать чужаку свой город: когда еще Жодино удостоится гостей из Берлина!
– Вот магазин. Видишь, а там поликлиника – хорошая, новая. Старая в другом месте. Вот так. Вот ресторан. А там – горсовет. Затем парк. Хороший новый торговый центр. А вот милиция, ха-ха-ха. Ну, да.
Он с воодушевлением повернул в жилые кварталы, проехал через парковки и пешеходные дорожки внутренних двориков.
– Вот проспект. Проспект Пятидесятилетия. А там, параллельно идет проспект Сорокалетия. Так они у нас называются. Смешно, да?
Он указал на статую.
– Вот Ленин.
Он посмотрел на мое лицо и снова засмеялся.
– Вот так у нас. Подожди, я отвезу тебя в гостиницу, ту, что получше. Счастливого пути.
Еще он сказал, что Жодино – молодой город. Это действительно было так. В парке и на бульваре гуляла почти одна только молодежь. Я не стал заходить в ресторан, который он мне рекомендовал, я не сомневался, что найдется что-нибудь получше. Через несколько минут я отыскал подходящее место. Здесь был пол, облицованный плиткой красного, зеленого и кремового оттенков, на стенах грубый советский кафель сочного серого и красного цвета, массивный бар в духе современных интерьеров без отделки, а ко всему этому прилагалась ритмичная русская поп-музыка. Я подумал, что всю эту неотделанную монументальность вместе с мелкой, прагматичной брутальностью, столь любимой в Берлине, без каких-либо изменений следует экспортировать в немецкую столицу, у меня было заготовлено даже название будущего заведения: танцзал-пивбар «Юность». Я положил панаму на стол, из-за тяжелого серо-зеленого занавеса высотой до потолка и шириной во весь зал очень эффектно вышла официантка и задернула его за собой. Обычно я заказывал шашлык или киевскую котлету, в зависимости от того, что значилось в меню, – в этот раз была котлета, а к ней огурцы и помидоры со сметаной, хлеб и пиво.
Группа молодых людей дождалась окончания моего ужина, прервала партию в бильярд и окружила меня, мы поболтали о Жодине и Берлине. Затем я подошел к бару, чего русские никогда не делают, они с большим удовольствием сидят за столиками, и ко мне устремился местный наркодилер.
– Купишь? Десять долларов.
У него был вид настоящего городского парня и брюки известной марки.
– Я бы с удовольствием купил весь этот зал!
Он сочувственно посмотрел на меня и ушел.
В старом советском путеводителе я прочитал следующее высказывание о живописности Жодина: «Красивы также недавно возведенные города. Новополоцк с его химзаводом и электростанцией, а также Жодино с его автомобильным заводом42». Недавно – то есть в 1951 году. Мы с Жодином были ровесниками.
Жодино было светлым пятном социализма – молодого и привлекательного, беспрерывно возводящего величественные электростанции и плотины, беззаботного царства инженеров, которые меняли течение больших рек и строили в голой степи целые города, – то есть современного, если хотите, американского образца. Об этом мечтали Муссолини и футуристы. На Западе такой образ будущего вызывал лишь ностальгию: фильм Эйзенштейна в кинопрограмме, старая кинохроника. Здесь же он еще иногда витал в воздухе, как просветляющий звук орга́на.
На следующее утро я проснулся рано из-за того, что кто-то нервно барабанил в оконное стекло – это был дождь. Теперь по ночам часто шел дождь. Он продолжался, пока я не вышел из Жодина, фабрики которого сопровождали меня до выхода из города. После этого все, как всегда: дорога и лес. Через восемь километров я увидел щит с надписью. Борисовский военный полигон. Теперь я часто слышал сухой треск автоматных очередей, а иногда даже глухие артиллерийские залпы, так продолжалось часами, я привык к этому так же, как и старик, мирно косивший сено у дороги, или женщина, возвращавшаяся с двумя ведрами грибов из леса, где шли маневры. Переход до Борисова снова длился целый день, как и вчера до Жодина, как и за день до этого. Под вечер я достиг цели, и первым моим желанием, как обычно, была чашка горячего чая.
На улице Революции команда тележурналистов отлавливала прохожих. Я спросил, о чем они делают репортаж, о выборах? Нет, о детях. О детях? Да, о том, хорошо ли дети себя ведут, не стали ли они теперь хуже, чем были раньше. Плохие школьники, плохое поведение и так далее. Дети – это всегда удачная тема. Мне подсказали, что напротив есть кафе. Но минуту спустя я был снова у журналистов.
– Кафе закрылось.
– Ну, тогда я тоже не знаю.
– А чем бы здесь заняться вечером?
Я посмотрел на растерянные физиономии, вопрос, кажется, поставил всех в тупик. Я уже хотел пожать плечами и пойти дальше, когда лицо главного прояснилось.
– Дринк водка! – закричал он по-английски. – Пей водку!
Все-таки нашлось еще одно кафе. Потеряв бдительность, я сперва прошел мимо. Жодино приучило тебя, что кафе все время стоят на видном месте и приглашают внутрь, – сказал я себе. Теперь я все чаще вел короткие диалоги сам с собой. Но Жодино – совсем другое дело, исключительный случай, тут нечего и сравнивать, ведь обычно все не так, обычно кафе скрываются. Я так никогда и не понял, почему все заведения от Восточного Берлина до Алма-Аты должны были соблюдать маскировку. Непонятно и странно желание выйти в свет, чтобы приятно провести время где-нибудь в темном подвале, в бункере, в берлоге. В борисовском кафе солнечный свет тоже был изгнан за дверь, об этом позаботились темно-красные занавески.
Когда мои глаза привыкли к полумраку, я различил за соседним столом молодую женщину. Она ела суп, иногда клала ложку на стол, проводила рукой по коротко остриженным светлым волосам и заходилась беззвучным смехом. Она сделала знак, и на моем столе появился мокко. Это от дамы напротив, объяснила официантка небрежным кивком и усмехнулась:
– Пить не обязательно. Пусть просто стоит.
Я сделал небольшой глоток и улыбнулся женщине, та подсела ко мне и заказала еще один мокко для себя. За последний год у нее было трое мужчин. Первый был экспедитором, богатый, но вел себя, как свинья, поэтому от него она сбежала через четыре недели. Второй был добрым, но, к сожалению, бедным, из этого ничего не могло получиться. Третий снова был экспедитором, его грузовики ездили в портовые города между Москвой и Голландией. Он стал брать ее с собой на деловые ужины, и, насколько ей удалось понять, где-то ходило грузовое судно с химиками в трюме – плавучая нарколаборатория. Возможно, они делали взрывчатые вещества, она точно не могла понять. У одного из них была проблема с речью, очень глупое слово, которое он бесконечно повторял, как будто заело пластинку, а иголка перескакивает на прежнее место, это случалось большей частью, когда он волновался и хотел выглядеть особенно сурово и грубо: «Negerpisse. Negerpisse. Negerpisse». Это было отвратительно и смешно одновременно, ей постоянно приходилось сдерживать хохот, но однажды она не смогла сдержаться и прыснула со смеху. Она сняла парик с головы, череп был лысым, поперек него – страшный широкий рубец.
– Видите, что он сделал.
Рубец выглядел, как созданный гримером шрам от удара саблей из фильма про пиратов. Клинок, вероятно, был тупым, иначе бы он раскроил череп. Она снова надела парик, мне захотелось ее немного повеселить, и я неудачно пошутил:
– Парикмахерская, да?
Она взглянула на меня с ненавистью. Она не поняла игры слов, разумеется, нет, ведь она не знала немецкого. Она резко встала и вышла. Официантка убрала чашки со стола и сказала с презрением:
– Актрисы!
Центральная площадь была освещена теплыми красноватыми лучами заходящего солнца, я присел на основание борисовского памятника Ленину – бетонной фигуры цвета танковой брони, с поднятой вверх правой рукой. Точно там, где под Святым Георгием извивался змей, под Лениным развевалось серое советское знамя на древке. На девушках из центрального магазина на углу площади были американские кепи из бордового картона и бордовые фартуки с бежевыми оборками.
Открылись ворота расположенной на площади казармы, из них появились солдаты и военные джипы и заняли посты на площади и на длинной улице Революции, а в укромном месте человек в штатском инструктировал группу милиционеров, внезапно на тротуарах повсюду показались другие люди в штатском с рациями в руках и стали забирать некоторых прохожих в стоявшие наготове милицейские фургоны. Я предпочел отыскать гостиницу и обнаружил ее на другом конце улицы Революции.
Жутко
Снова лило всю ночь, и на этот раз ливень на утро не прекратился. Дождь никогда не имел для меня значения, ни в тропиках, ни даже во время муссона в Гималаях, но почему же так сильно давил на меня этот ливень в Борисове? Я прошел несколько шагов к вокзалу, где надеялся купить в киоске горячий чай. Через привокзальную площадь милиционер тащил пьяного, еле державшегося на ногах, и тот и другой шлепали прямо по лужам и грязи – обоим это было неважно. Внезапно я понял, почему страдаю от борисовского дождя, подобно уличной дворняге: не ощущалось никакого противодействия, никакой красоты – и дождь сделал это очевидным. Старание девушек выглядеть привлекательно заслуживало восхищения, но в такой день, когда все было пронизано и захвачено отчаянием, оно стало безнадежным. Я не мог больше здесь находиться.
Я забрал рюкзак из гостиницы и пошел дальше. Переход через Березину занял у меня не больше минуты. Извивавшаяся по равнине река с ее заросшими берегами и плавучими зелеными островками выглядела совершенно невинно. Дождь перестал, и я смог переодеться с ног до головы прямо на обочине трассы M1, не потревоженный ни одной машиной. Громыхали позади, следовательно, не автомобили. Я оглянулся. Это была гроза. Внизу у подножия холма стояла автобусная остановка, там можно было переждать.
Барабанная дробь дождя обрушилась на крышу, под которой я спрятался, за первой грозой пришла другая и так далее. Между пятой и шестой грозой я пробежал вверх по склону несколько сотен метров в сторону Москвы. Я увидел нечто, напоминавшее мотель, мне хотелось есть, и действительно, там было крошечное кафе с названием «9–3». Под деревянным навесом у входа сидела полуголая женщина с пышными формами и с отсутствующим видом пила апельсиновый сок и воду. Рядом с водителями грузовых автомобилей я часто замечал женщин, причем отнюдь не уродливых. Шоферы либо не хотели оставлять их дома, либо как моряки в эпоху настоящих гаваней имели в каждом городе другую жену. Я спросил полуголую, есть ли какой-нибудь мотель не дальше двадцати километров отсюда. Она посмотрела на меня с некоторым удивлением, но не враждебно и покачала головой с пышными спутанными волосами.
– Ничего.
Но прежде, чем разговор продолжился, нас прервали. Ее муж, или кем бы он ей не доводился, вышел из «9–3», окинул меня взглядом, стащил ее за руку со скамейки, застегнул ее блузку и повел в машину, она вырвалась, чтобы поправить ремешок своих туфель на высоких каблуках, и послала мне при этом воздушный поцелуй. Я думал о том, чтобы здесь остаться, но кафе «9–3» закрывалось на ночь, кроме того, было еще слишком рано, чтобы вычеркивать целый день, значит, – дальше. Через полчаса я добрался по М1 до опушки леса, здесь стояли два парня и два автомобиля, один из которых они пытались завести.
– Хай! В Москву?
– Да.
– Из Германии?
– Да.
Парень расспрашивал меня так, как будто здесь каждое утро, каждый день и каждый вечер проходит какой-нибудь сумасшедший немец, и кивнул головой, прежде чем снова залезть под капот.
Параллельно трассе шла еще одна дорога, и если я хотел найти место для ночлега, я должен был туда добраться, ведь деревни были там. От опушки шла лесная тропа. Я пошел по ней. Прямо в лесу была деревня, по-видимому, оставленная жителями. Я не видел ни одного человека: разбитые окна, сломанные двери, заросшие дорожки между тесно стоящими серыми избами. Покосившиеся от ветра сараи, бесхозный инструмент, полуоткрытые колодцы, заливаемые дождем. Я испугался, увидев лицо человека – неподвижное, в профиль. Мужчина за окном, его лицо находилось так низко, на уровне подоконника, будто нижняя часть тела ушла в землю. Я помахал ему. Дорога там? Туда дальше идти? Он не реагировал. Он даже не повернулся ко мне, и я не был уверен, жив ли он, и жил ли когда-нибудь вообще.
Дважды я сбивался с пути и забредал в болото, дождь полил сильнее. Должна быть еще одна дорога через лес к шоссе, но я не нашел ее и, вернувшись в деревню, зашел в какой-то дом – подождать, пока дождь утихнет. Если этого не произойдет, то придется тебе здесь переночевать, подумал я, но в помещении было полно грязи и обломков и так пахло гнилью, что у меня не возникло даже желания снять рюкзак. Держа его на весу и прислонясь к оконной раме, я некоторое время прислушивался к заглушавшему все шуму дождя, и вдруг заметил кур. Их было немного, они ходили совершенно беззвучно. Хорошая мишень, подумал я, да и сам ты – хорошая, и отступил от окна. Потом я увидел лошадь. Без какой-либо сбруи она стояла прямо посреди того болота, куда я забрел по ошибке, но тогда ее еще не было. В деревне было жутко.
Неожиданно оказалось, что найти правильный путь нетрудно, я вышел на дорогу, а в сумерках добрался до поселка Крупки. К моей неописуемой радости в Крупках была гостиница. Столь непритязательная, что у нее не было даже названия, – просто гостиница на улице Советской. Дежурная встретила меня замечанием, что здесь, к сожалению, недешево, и за все придется платить, но если я непременно хочу истратить такую кучу денег, то, конечно, милости просим. Нет нужды говорить, что оплата равнялась стоимости немецкого билета в кино.
Вечер завершился в местном ресторане, также не имевшем названия, зато здесь на стене висел медный рельеф, изображавший зодиакальный круг, в центре которого было лицо, видимо, Одиссея, но с бородой, завитой, как у ассирийского лучника, а во лбу прямо по центру зияло пулевое отверстие. Я попросил салат, увидев, как его принесли другому посетителю, но официантка, мечтательная овца с длинными молочно-белыми ногами, сказала: «Нет. Я принесу вам свеклу». Я спросил жареный картофель, она подала пюре. Играла песня «Work Your Body», невероятно дешевая компьютерная обработка: «Work, work, work your body». За пожелтевшими шторами день окончательно померк, вошел человек в красном вязаном свитере и сапогах-«дутиках», с белой тростью слепого, у каждого в зале он просил водки, но все его прогоняли. Затем пришел «шериф» с чрезвычайно широкими лампасами на форменных брюках и с кобурой на ремне, а потом появились «авторитеты». Ну, вот теперь все в сборе, сказал я, обращаясь к пюре, теперь можно начинать. Мечтательная официантка хочет отсюда вырваться, она провоцирует иностранца, тот ее увозит, но только после перестрелки с «шерифом», который за ней увивается с тех пор, как ей исполнилось пятнадцать, и которого она ненавидит. В финале псих в «дутиках» спасает обоих. «Авторитеты» были в приподнятом настроении и приказали открыть бар, где были стены, обитые искусственной кожей в красно-черный ромб, и красная подсветка, но в итоге они все-таки решили остаться в зале и заказали много еды и водки, и я услышал свои собственные слова: «Они жрут, как свиньи!» Это я сообщил пюре, которое ответило: «Глянь-ка на старуху!» – я оглянулся и только сейчас заметил, что человек в «дутиках» был не мужчиной, а женщиной, – она прыгала и танцевала под компьютерную музыку, смахивала седые пряди со лба, вскидывала в такт музыке белую трость и кричала: «Вот Буденный! Вот Буденный! Вот, вот, вот Буденный!» Все повскакали с мест, захлопали, закричали и провозгласили тост в честь красного кавалерийского генерала.
Дорога на Москву сияла: на следующее утро мир преобразился. Крупки, я этого раньше не видел, находились у озера. Серебряные нити летали по воздуху, огромные лужи сверкали на солнце. Чудесное утро для похода на Москву. Вчера на М1 я стоял перед синим дорожным знаком: Москва – 598. Впервые я испытал искушение: стоит поймать машину, и еще сегодня ты будешь там, Бог мой, сегодня вечером в Москве!
Вывеска «Сувенир» выглядела так же уместно, как плюшевое кресло в степи. Слово было написано крупными буквами на магазине в Бобрах, перед которым пасся жирный козел.
К счастью, действительность не соответствовала вывеске.
Я обошел козла стороной и с облегчением обнаружил внутри самые обычные вещи – пиво, хлеб, конфеты, конечно, водка – и купил себе, как всегда, воду и шоколад. Дорога до Толочина, согласно карте, предстояла безлюдной и многочасовой. Следующее, что я увидел, было сухое дерево, на котором сидел ворон: он каркнул три раза и улетел.
Я поднялся на холм и заметил пожилую супружескую пару. Набрав грибов, они уселись на траве. Муж дышал, широко раскрыв рот, и, кажется, смотрел на мир только одним глазом, – второй был маленьким, сморщенным и водянистым, как глаз старого слона, я подумал, что, вероятно, скоро он закроет оба глаза. Его бойкая жена полагала так же, по ней это было заметно. Она выказала прямо-таки спортивный интерес и подробно меня обо всем расспросила. Сколько уже дней? Сколько еще? Сколько километров в день?
Крошечное кладбище у дороги я едва заметил, оно находилось в глубине соснового леса, по которому я шел уже несколько часов, не ожидая встретить ничего нового. Дикая земляника, которой здесь было очень много, заполонила собой все, но ее сезон уже прошел. В какой-нибудь обычной христианской стране это было бы старое кладбище для самоубийц, неосвященное место, об этом свидетельствовали полуразрушенные дождем холмики, за которыми никто не ухаживал.
Но здесь была и свежая, украшенная крестом и венками могила. Любимой мамочке – твои сыновья. Вечно любимой – твой муж. Она не могла быть самоубийцей. Это было просто дикое кладбище. Я задумался над тем, кто его мог основать, оно лежало вдали от каких-либо населенных пунктов, да их здесь и не было: в этой стране деревни находятся на расстоянии в тридцать или сорок километров друг от друга, лишь изредка я видел отдельно стоящую хижину или дом. Возможно, жертвы несчастного случая были похоронены прямо на месте происшествия, я встречал подобные могилы у дороги, но могилы здесь были разных лет. Вероятно, это было семейное кладбище практично рассуждающих людей, – ведь к нему можно было легко подъехать в любое время года. Они хоронили покойников прямо у дороги, чему не могли помешать ни снег, ни апрельская распутица. Я съел остатки горького шоколада. Если бы было раннее лето, удалось бы поесть и земляники.
Под вечер меня захотела нанять батраком на свое поле одна крестьянка, толстая и сильная. Дырявые синие спортивные штаны едва не лопались на ее бедрах, а когда она на мгновение приподняла свой туго завязанный платок, чтобы почесать шею, стала видна ее белая кожа. Ей было максимум тридцать. Она задавала обычные вопросы и, пока я отвечал, оценивала меня и думала о своем. Ее поле было совсем рядом, ее родственники перестали копаться в земле и поглядывали на нас. Она что-то крикнула им громким голосом и велела продолжать работу, затем снова обернулась ко мне.
– Чего ты бежишь целый день? Давай, помоги мне копать картошку.
Я ответил, что больше люблю картошку есть. Она показала на свое поле:
– Сначала копать, а потом есть.
Я сказал, что мне нужно найти ночлег, ведь путь предстоит неблизкий. Мы сидели на бревне, и она совсем близко наклонилась ко мне:
– Ты не любишь работать, а?
Она пообещала накормить меня до отвала каким-то особенно вкусным блюдом из картофеля, но сначала я должен был работать в поле. Не это меня пугало, мальчишкой я каждую осень копал картошку, но у меня были подозрения, чем все закончится. Русский муж, вернувшийся поздно домой, легко может неправильно понять ситуацию.
Так вышло, что, испытывая голод и жажду, я дошел до Толочина, где меня подвезли две девушки. Блондинка и брюнетка, они катались по городу просто для своего удовольствия; я спросил, есть ли здесь гостиница, они предложили меня туда отвезти, но настаивали на том, чтобы разговаривать по-английски. Они работали официантками в Ливане. Шесть месяцев в Бейруте, шесть на отдыхе в Толочине, затем снова шесть месяцев в Бейруте, так они жили потому, что каждые полгода истекал срок действия визы. Я спросил, можно ли их пригласить на пиво. Они сожалели, как мне показалось, искренне, что не могут:
– Дети дома ждут.
А меня ожидал местный ресторан. Я был и остался в нем единственным посетителем. Вечернее солнце шелковистыми потоками струилось сквозь тонкие занавески, оливково-охряно-красные керамические люстры в виде горшков напоминали мне маленькие кафе моего родного города в семидесятые годы. Когда наступила темнота и зал почти погрузился в сумрак, включили одну-единственную лампу, ту, что надо мной. После ужина я пошел в соседний бар, где также оказался единственным посетителем. И в то время, как из-за стереосистемы показалась мышь, предварительно удостоверившаяся, что опасность ей не угрожает, и принялась инспектировать полку за спиной барменши, последняя сообщала мне об изумлении персонала по поводу зашедшего в бар иностранца. Здесь каждый вечер так же пусто, как и сейчас. Да, все государственное: ресторан, бар и сама гостиница, в которой я собирался переночевать. Государственной была даже музыка, мне уже знакомая. «Work your body, work, work, work». Я знал наизусть всю кассету, она звучала целый вечер и была слышна отовсюду, а когда заканчивалась, ее ставили снова. Мышь уже добралась до водочной полки – забавный зверек не серого, как обычно, а коричневого цвета, очень умело орудовавший передними лапками, – у нее появилась цель. Барменша наложила себе целое блюдце мороженого из большого пластикового пакета и с наслаждением поедала его ложка за ложкой, а мышь внимательно наблюдала за происходящим, однако и барменша была начеку. Внезапно рука с ложкой устремилась назад – не оборачиваясь, барменша стукнула по полке и засмеялась:
– Опять она, да? Я вижу по вашему лицу. Она приходит каждый вечер.
Мышь испугалась лишь на миг, а у барменши от удара выпала из руки ложка с мороженым. Она не стала ее поднимать. Мышь заняла позицию над ложкой и вылизала ее до блеска. Лишь на следующее утро я увидел табличку у входа в гостиницу: «Кофе – 155 рублей. Душ – 283 рубля. Презерватив – 154 рубля». Из всего этого я нуждался только в одном.
Я вернулся обратно на М1. Мой путь становился все более пустынным. Поле и лес. Лес и поле. Иногда попадался пасшийся скот, и редко – какая-нибудь деревня в уже осеннем поле, несколько серых обветшавших изб вдали. Уже больше часа в моем полном распоряжении находилась вся трасса в направлении Москвы: две полосы плюс обочина – все было недавно заасфальтировано и еще закрыто для проезда, и ни разу ни один дорожный рабочий не обратил на меня ни малейшего внимания, когда я проходил мимо. Я был здесь и в то же время отсутствовал.
Ветер в полях был сильным, столь же сильным, как и у моря.
Он дул с востока, он не хотел меня принимать, мне приходилось сопротивляться и идти наперекор ему, иногда я шел окруженный облаком пыли и всем тем, что ветер поднимал в воздух и гнал перед собой. Куски пластика и обрывки бумаги, камешки и песок, выхлопы грузовика, старая рубашка, огромная мертвая стрекоза. Ветер подхватил стрекозу и волочил ее по асфальту – звук был таким, словно перо шуршало по пергаменту.
Орша стала для меня концом – и под конец я сбежал из Орши. В этом городе на восточной окраине Белоруссии по улицам шаталось больше пьяных, чем во всех других виденных мной городах, гостиница была еще более абсурдной, а военный памятник – еще более исполинским, чем все предыдущие. Но самая печальная вещь на свете – это парк аттракционов под дождем. В Орше был такой. Я присел на ступеньки запертого тира и наблюдал за тем, как медленно вращается карусель. Четырнадцать белых лебедей летели беззвучно по кругу, как в немом фильме, а на их головах – четырнадцать золотых корон. В некоторых лебедях сидели печальные дети, а в одном – печальные влюбленные. Облака неслись с бешеной скоростью, проглянуло солнце и засверкало на золотых коронах. Милиционеры с рациями стояли вокруг карусели и обеспечивали безопасность. Это и было концом. Здесь оказывались тщетными все усилия. Те усилия, что создали дворцы в Минске и пролетарскую живописность Жодина. Единственным, что еще двигалось, были ковры из водорослей на Днепре, к которому людей пригоняли дождь и усталость. Колесо жизни вращалось все медленнее, лишь бы прочь с улицы, в ночь, в следующую маленькую ночь с ее заляпанными жиром стаканами и безрадостными маленькими радостями, чтобы голова лежала в луже на столе, и самое главное, чтобы все занавески были закрыты. Русское пьянство – это как русская жизнь, и нигде русская жизнь не является более русской, чем в провинции, и нигде, мне казалось, не забирался я глубже в провинцию, чем здесь. Я понял русских. Я понял пьяниц и понял чрезмерно ответственного Аркадия. Плыть по течению или стать сильным. Утонуть или сбежать. Немедленно. Здесь нечего было искать. Я отправился на вокзал и сел в первый попавшийся поезд. Он шел в Витебск.
Телевидение в Витебске
Я бродил по городу целый день и теперь сидел в летнем кафе, где меня нагнал мой старый знакомый – запах дыма. Я переночевал у Валерия и Наташи, они ехали со мной в одном вагоне и пригласили к себе, когда мы прибыли в Витебск. Валерий был когда-то моряком, мы выпили немного водки и весь вечер проговорили о Сингапуре, о том, как большие корабли встают на якорь в море, о том, где лучшие китайские рестораны. А потом его жена, не выдержав, рассказала историю. Тетя ее мужа была партизанкой, ей было двадцать лет, во время пыток в гестапо ей выкололи глаза, а потом ее повесили вместе с другими напротив ратуши, которую Валерий и Наташа показали мне утром. Ее мать заставили наблюдать за казнью. Тотчас после этого – другое воспоминание. Дед Наташи оказался в плену в Германии, и один немецкий врач регулярно припрятывал для него еду. Он спас ему жизнь. Одну жизнь отняли, другую сохранили. Наташа сказала, что всюду есть хорошие и плохие люди. Мог ли я что-нибудь добавить? Нет, вряд ли.
Запах пожара поднимался из лощины, начинавшейся прямо у пивной палатки, он быстро сгустился и загнал всех внутрь.
Я пошел посмотреть на его источник и только теперь заметил, насколько глубокой была лощина, но я быстро потерял интерес к дыму и перешел на другую сторону по узкому мостику. Там находилось большое здание, дом культуры, я зашел в него и направился внутрь мимо вахтера. В какой-то момент я обнаружил пустой кафетерий. На барной стойке был телевизор, я расположился перед ним. Показали дымящийся небоскреб, затем возник самолет и полетел в его сторону; я подумал, этого еще не хватало: сначала пожар, потом врезается самолет, вероятно, из-за потери управления; дым валил густыми клубами, затем последовал взрыв, а самолет так и не вылетел с другой стороны. Эту программу показывало русское телевидение, и постепенно я осознал, что происходит нечто исключительное, голос диктора за кадром сообщал о подробностях, которые я не понимал или понимал лишь наполовину, затем повторили ту же сцену, но с другого ракурса, и я наконец догадался, что связь между самолетами и пожаром была отнюдь не случайной.
Я покинул кафетерий. В будке вахтера теперь тоже работал телевизор, русский канал, перед экраном стояли несколько мужчин и смотрели. Странным образом ни одна женщина не задерживалась у телевизора, а мимо проходило много женщин, в доме культуры были всевозможные курсы, балет и тому подобное; женщины то и дело входили и выходили, но ни одна из них не останавливалась перед экраном хотя бы секунд на десять. Тем временем мне стало совершенно ясно, что произошло, и я не понимал, что приводило меня в большее замешательство: само событие или тот факт, что оно транслируется одновременно по всему миру в прямом эфире. То, что человек, уже несколько недель идущий в одиночку на восток, без газет, без телевидения, лишь с верой в то, что он медленно соскальзывает с наезженной колеи мира, включающий, лежа на убогой гостиничной койке, единственный доступный ему канал – белорусское государственное телевидение, где передают вести с полей, – что этот человек вдруг, как по сигналу со спутника, бросается искать ближайший телевизор, чтобы увидеть, как на другой стороне света люди выбрасываются из атакованного террористами небоскреба навстречу собственной гибели. Мои ноги вольны делать, что захотят, но мои глаза все равно были в миллион раз быстрее. И у меня был пульт дистанционного управления.
Часть 3. Русские дали
Через границу сквозь бурю
Я торчал в Лиозно. В трех часах ходьбы отсюда была Россия.
В справочном окошке автобусной станции то и дело мелькала высокая прическа служащей, настойчиво убеждавшей меня сесть на поезд, идущий через границу, но мне этого совершенно не хотелось. Не для того я дошел почти до самой восточной окраины Белоруссии, чтобы последние четырнадцать километров проделать на поезде. Я решительно был настроен достичь русской земли пешком. Я дал себе час сроку: кто знает, может быть, дождь утихнет. Пока же автобусная станция оставалась единственным доступным мне сухим местом в Лиозно.
Ресторан, бистро «Белоруссия», бар – все, как по уговору, закрылись именно теперь, когда я в них нуждался. В садах у деревянных домов цвели красные и желтые астры, а на крышах – фантастические антенны. Бездомный пес ковылял сквозь дождь, двое, мужчина и женщина, толкали по лужам шаткую тележку, нагруженную коробками из-под бананов. Я решил идти. В зале ожидания стало невыносимо: мухи со всего Лиозно толклись здесь в теплом и спертом воздухе, дождь и ветер не желали прекращаться – становилось только хуже.
Около четырех часов я отправился в путь. Автомобильная трасса в Россию шла через поля, вдоль нее не росло ни одного дерева, которое могло бы заслонить от проезжающих грузовиков, окатывавших меня брызгами. Небо выглядело безнадежным. Это была битва. Я шел против бури, снова наступавшей со стороны моего рая, и снова Восток сметал меня ветром.
Как разъяренный казак, он хлестал плетью ливня, пытаясь настоять на своем. Ничего не было видно, и не на что было смотреть; наткнувшись на земляной холм, я попытался укрыться за ним, но буря тотчас отыскала меня и скрутила.
Мой дождевик неплохо держался, я надел под него все, что было, и теперь полупустой рюкзак болтался за спиной. Самое важное в нем – карты и записи, они ни в коем случае не должны были промокнуть. Ощупав второй, повязанный вокруг рюкзака дождевик, я обнаружил, что он закреплен небрежно.
Я огляделся, но не нашел ничего, что могло бы сойти за укрытие. Пришлось снять рюкзак и проверить его прямо на шоссе под дождем. Все оказалось влажным: грязная смена белья, книжечка Чжуан-цзы, фотоаппарат, аптечка, карты. Не пострадал только блокнот в кармане брюк. Я снова надел мокрый рюкзак и натянул поверх него дождевик, на этот раз тщательнее. В какой-то момент на противоположной стороне дороги показался щиток автобусной остановки. Я крикнул ожидавшей там женщине:
– Далеко до границы?
– Семь.
Семь километров – это значит, что мне удалось преодолеть половину, однако какое это имело значение. Настоящим рубежом была сама граница: именно она разделяла мой путь на огромные «До» и «После». Подошел автобус, остановился, очень хотелось в него сесть, но он ехал не в Россию, а обратно в Лиозно. И я остался.
Был уже не ливень – потоп. Причем потоп не местного значения, а всемирный. Мир потемнел, прохудился, в нем не осталось крыш, я был в нем один – надо было лишь идти, вперед и сквозь. Не думать. Идти. Я бормотал слова, проговаривал бессмыслицу, лишь бы она соответствовала шагу и рифмовалась. «Раз-два-три, четыре-пять! Вышел Мао погулять!»43 Получился марш, я запел его полушепотом – и вот грянули литавры, показался бунчук, рифма понесла меня, подчинила своей власти, я твердил ее, пока мне не стало худо, я пытался ее исторгнуть. Я выплевывал ее на каждый шаг, на каждый такт, пока плевков не осталось. Россия выплевывала меня, хватала и рвала в клочья, била в лицо. Огромная, огромная страна – она не хочет, не хочет, не хочет тебя, тебя, немца, тебя, немецкого карлика. Я заметил крошечных лягушек – они тысячами прыгали по дороге и были единственными, кто искренне радовался всемирному потопу.
Через три часа я увидел свет. Должно быть, граница, уже самое время, и пока я себе это говорил, сделалось очевидно, какую чепуху я нес. Что давала граница, да ничего! Ночь накрывала землю. Самое большее еще полчаса – и совсем стемнеет.
Недалеко от пограничного поста располагался последний белорусский бар. Перед ним под неразборчивый аккомпанемент доносившейся изнутри музыки танцевала под дождем женщина.
Я прошел мимо нее, бар представлял собой лачугу, стоявшую прямо на обочине, точнее – в придорожной канаве. Я вошел в небольшое помещение с низким потолком. Никто не обратил на меня внимания. За одним из трех столов играли в карты. Барменша уронила голову на прилавок прямо у радиоприемника, вопившего во всю мощь. Другая женщина пыталась ее растолкать, но та не двигалась. Она была пьяна вдрызг. Рядом с ее головой лежал зачитанный до дыр, обернутый в газету роман. Я подошел ближе и открыл титульную страницу. Роман назывался «Иллюзии». Он действительно так назывался! Танцевавшая снаружи девица подсела ко мне.
– Водки выпьем?
Она промокла до нитки. Все в ней было беспорядочно – волосы, жесты, выражение лица. Я попытался сделать заказ, но тщетно, бар погрузился в состояние распада.
– Станцуем?
Мы вышли и станцевали. Вести ее было невозможно – это она меня вела. Наш танец больше всего напоминал потасовку. Отвлекая плавными движениями, женщина делала выпад: валилась на меня или тащила к себе. Когда я понял, что она танцует сама с собой, я отошел в сторону, она этого даже не заметила, и все стало, как прежде. В дождь перед баром, расположенным в придорожной канаве, под неразборчивый аккомпанемент доносящейся изнутри музыки сама с собой танцевала женщина.
Граница являла собой любопытное зрелище. Прежде всего, она совершенно не была приспособлена для прохода пешего иностранца. Контрольный пост находился в чистом поле. Здесь шоссе слегка расширялось, а в стороне от него стояла пара вагончиков – вот и все. Белорусы от меня вообще ничего не хотели.
Я попросил пограничника поставить мне штамп в паспорт (без него могли возникнуть проблемы при выезде из России), но тот лишь покачал головой: «Штамп нихт». Только водители фур получали штамп в паспорт. Граница, мол, вообще предназначена только для грузового транспорта. Он поглядел на меня с сочувствием:
– Это все для людей в машинах, а вы идите себе!
Я и пошел между фурами к русскому посту. Там мне сказали то же самое, но беседа меня порадовала. Один из пограничников, длинный и худой, предоставил слово низенькому толстяку, в ясном, хорошо снабжаемом кровью лице которого читалось такое присутствие духа, что я невольно задумался, когда в последний раз меня разглядывали с таким бодрым и благожелательно-ироничным видом. Этот пограничник мне сразу понравился. Я был счастлив: невозможно выносить безмерное количество непонимающих, большей частью равнодушных взглядов. Я был счастлив увидеть глаза человека, который плохо разбирал мою речь, но вдруг как-то сразу меня понял. Ему я признался без малейшей иронии, насколько я рад наконец попасть в Россию. Он оказался словоохотлив.
– Небезопасную вещь вы затеяли.
– А что такое?
Он указал на Белоруссию, а потом в сторону России.
– Дорога. Здесь очень опасно.
– Нет, очень спокойно. Белоруссия очень-очень спокойная.
Я осведомился о ближайшем населенном пункте и о том, есть ли гостиница, в которую можно добраться до полуночи.
Он был не в курсе, он приехал издалека. Сообщив это, он осклабился, как кошка.
– Значит, в Москву надумали?
Он желал мне добра. Я был ему симпатичен.
– Ну, давай!
Благословение было получено. Мы пожали руки и расстались друзьями – пусть эта фраза звучит как цитата из Карла Мая44 и кажется преувеличением, но в тот вечер всемирного потопа на русской границе она полностью соответствовала действительности. Всякий человек, когда-либо путешествовавший в подобных обстоятельствах, знает, как одно рукопожатие, одно единственное слово способны поднять настроение упавшему духом, придать ему силы заново проделать весь путь, и даже еще раз, если потребуется. Быстро темнело – меня охватило сомнение, не заночевать ли прямо здесь, на границе. Пограничники, вероятно, согласились бы уступить сухое место в своем вагончике.
Через несколько шагов я увидел дома. На русской стороне границы также было кафе, даже с навесом – первой крышей, попавшейся мне по дороге из Лиозно. Я прошел мимо, предпочтя дождь. Если станет совсем плохо, сказал я себе, ты всегда сможешь вернуться. Но я знал, что не буду этого делать. Дорога вела в гору сквозь чернеющий лес. Я глубоко дышал и не оглядывался по сторонам. Я нисколько не устал. Я только что перешел границу, и ничто теперь не могло меня остановить: ни враждебная страна, ни утомленная страна, ни сомнение, мучившее в Польше. Я – в России! Я – в России! На вершине холма я в конце концов обернулся. Увиденное поразило меня до глубины души. Небо на западе казалось надорванным, во всю ширь горизонта по нему прошла раскаленная прорезь – последний луч солнца пробился в этот момент сквозь тучи. Все преобразилось: насупленная, пустая, сгорбленная земля, весь враждебный мне день. Я замер и был поглощен этой небесной картиной, пока она не померкла. После этого я вновь пошел на восток, и мрачное, прямое как нить шоссе в никуда стало милее всего на свете. Я был полон предчувствием и полон приключением. Полон началом.
Темные облака подтянулись ближе. Небесные шлюзы вновь прорвало. Через час, сражаясь с дождем и ветром, я добрался до колхоза имени Кирова. Магазин находился недалеко от дороги. В такое время он, естественно, был закрыт, но у здания была уютная терраса с невысокой и запираемой на щеколду изгородью, за которой можно было укрыться от посторонних взглядов и от зверей. Это было спасением. Я снял дождевик, расстелил его на полу для просушки, а рюкзак прислонил как подушку к двери. О сне нечего было думать, но причина этого заключалась отнюдь не в жестком настиле или холоде.
Лишь только ноша была сброшена, я почувствовал волчий голод. Порог продуктовой лавки стал пыточным ложем для того, кто весь день, позабыв о пище, маршировал сквозь бурю. Некоторое время я сдерживался, но затем сдался и сел спиной к двери. Я убеждал себя, что мне хорошо, и прислушивался к звукам колхозной ночи. Они казались странными и чужими.
Вот птица вспорхнула. Послышались мужские голоса. Что-то зашуршало по крыше, потом по навесу террасы. Вот прямо надо мной. Затем – тишина. Тьма стала уже непроницаемой. Дождь лил, не переставая, но терраса находилась с подветренной стороны, навес над ней был большим и плотным, здесь, в самом деле, можно было переждать ненастье. Утром продавщица откроет лавку. Она продаст мне хлеба, колбасы, сыра, пирожков, сушеную рыбу. Кто знает, возможно, добрая женщина вскипятит мне и чаю. Пожалуй, здесь должна быть даже столовая, ведь не бывает колхоза без столовой, а этот колхоз был отнюдь не маленький… Так я фантазировал и прогонял голод.
Вдруг что-то проползло. Заскреблось. Ткнулось в дверь. Похоже, собака, если судить по повадкам и силе. До сих пор в своем русском странствии я встречал сплошь пугливых зверей. Обычно хватало намека на устрашающий жест, чтобы от них избавиться. Но этот оказался упорным: он стал ломиться в дверь с таким ожесточением, что та вот-вот должна была поддаться. Мне пришло в голову, что собака, пожалуй, ищет того же, чего и я – еду. Отыскать пищу можно было лишь в магазине, на террасе ничего не было. Похоже, собака знала, что дверь легко открывается. А я-то даже не попытался этого сделать! Но в миг, когда я обернулся, чтобы проверить предположение, дверь распахнулась и нечто метнулось внутрь. Нечто темное и большое с чем-то большим и светлым в зубах. Еду, похоже, прихватили с собой.
Все это время я держал большой палец на кнопке карманного фонарика. Тут я ее нажал. Луч выхватил из тьмы хищника.
В световом круге я увидел окровавленную жертву: ее тонкая шея сбилась на бок, а сквозь ее перья просвечивали глазищи зверя. Менее секунды потребовалось ему, чтобы прыгнуть в луч света, изогнуться, еще находясь в прыжке переменить движение. Все, прочь. На землю медленно спланировало перо. Я бросился к ограждению и посветил зверю вслед, но тщетно. Обследование пола выявило лишь несколько капель крови и перо журавля.
– Эй, кто там? Это кто там еще?
Я навел фонарь на дорожку. Колхозница на велосипеде. Остановилась и поднимает изрядный шум. У меня не было уверенности, что она заметила произошедшее. Все случилось не просто молниеносно, но и бесшумно. Только дверь хлопнула. Женщина думает, что имеет дело со взломщиком. Между тем на соседней лесопилке зажегся свет. До этого в сумерках я заметил двух мужчин. Они, очевидно, находились все это время там. К сожалению, проворством я никак не походил на хищника с добычей в зубах. Крикнув всполошившейся женщине нечто успокоительное, я инстинктивно сделал вид, будто мне необходимо отойти в кустики. Прихватив дождевик и рюкзак, я поспешил на открытую местность. Возвращаться уже не собирался: мосты были сожжены.
Я снова оказался на улице. Вся надежда теперь лишь на то, что колхозники не станут спешить с преследованием. Изредка позади еще мелькали огни фонариков. Когда за спиной что-нибудь сверкало, я на время затаивался. Попытка установить контакт не имела смысла. Живя у самой границы, не станешь миндальничать с бродягой посреди ночи. Я так и не знал, с кем встретился на террасе. Одичавшая собака, лиса, волк? Все произошло слишком быстро, к тому же хищник прикрылся жертвой как маской. Но, должно быть, кто-то из этих трех. На боковой дороге показался русский джип. Он неторопливо двигался мне навстречу. Я бросился к машине. Водитель хотел прибавить газа, но, по счастью, на мне не было дождевика и капюшона. Одна из сидевших на заднем сидении женщин сказала, что я не похож на преступника и меня следует подвезти. Я забросил рюкзак в машину, с опозданием заметив, что повредил астры. Но женщина не рассердилась. Этот случай был для меня ночным подарком, следовало им воспользоваться. Джип направлялся в Рудню – именно так назывался первый после границы населенный пункт, обозначенный на моей карте. Для того, чтобы навести разговор на тему ночлега, я с притворным интересом спросил у женщин, нет ли в Рудне гостиницы. К удивлению, они ответили утвердительно.
Пришлось пережить тридцать неприятных секунд, когда в ответ на мой стук в окно администратор решительно задвинула штору. Я топтался в темноте перед запертой боковой дверью, и мне пришло в голову название книги, увиденной в баре. «Иллюзии». Но в этот миг раздались шаги.
– Мне нужна комната.
– Сто двадцать рублей.
Очередная трудность состояла в том, что у меня не было русских рублей, а белорусские здесь не принимали. Я попытался обменять деньги в местном кафе, оно было еще открыто. Мужчины, расположившиеся во дворе у огня, предложили довольно сложный план, согласно которому сначала нужно было поймать такси, потом все должны были отправиться в один отдаленный дом и там совершить денежные операции. Дело показалось нечистым, кроме того, предложенный курс обмена был смехотворным.
Я еще раз переговорил с администратором, и она все-таки впустила меня, согласившись получить деньги утром. Кровать провисала, одеяло было сырое, из розетки вываливалась проводка. Столешница письменного стола, явно не к месту находившегося в комнате, в нескольких местах была выщерблена. Но все это было не в силах лишить меня счастья. Крыша. Кровать. Место, где можно было высушить мои вещи или на худой конец просто развесить. Но едва это было сделано, как напомнил о себе голод.
У меня имелись еще два доллара, с которыми я отправился в ближайший магазин. На удивление, в нем горел свет. Я уговорил продавщицу обменять мне доллары на рубли, и поспешил с ними обратно к кафе при гостинице, беспокоясь, как бы оно тем временем не закрылось. Здесь я положил добытые рубли на стойку – их оказалось пятьдесят шесть – и купил все имевшиеся в наличии бутерброды, а также бутылку пива. С этим богатством я присоединился к сидевшим у огня русским.
Синий дом
Вместо плотного завтрака я получил хорошую встряску. В гостинице появилась элегантно одетая строгая красавица, поначалу до меня доносился только ее пронзительный голос, звеневший по этажу, как какое-то насекомое, представлявшееся мне крупным, синим с металлическим отливом и с длинным жалом.
В дверь постучала администратор, вошедшая следом фрау Синий Металлик раскрыла передо мной устрашающее красное удостоверение, захлопнула его и забрала меня с собой в горсовет. Ничего похожего на эту даму я не встречал в Белоруссии. Она хотела, чтобы я заплатил пошлину, а я хотел, чтобы мне поставили въездной штемпель, она не хотела его ставить, пока я не заплачу, а я не хотел платить, пока она не поставит штемпель, в результате я захотел платить, но она уже была сыта мной по горло – закрыла папку с бумагами и вышвырнула меня на улицу. Это было впечатляюще.
Впервые я впечатлился еще вчера вечером у костра. Здесь все было быстрее: люди, автомобили, даже речь. Россия была быстрее, чем Белоруссия. Привыкнув к медленной речи за несколько недель пути, я едва понимал, о чем здесь говорят.
Я заметил, как русская скорость подхлестывает меня, избавляя от инертности, охватившей меня в последние недели. Я пошел в банк поменять деньги, и служащая извинялась за то, что мне приходится ждать. Она должна была передать информацию о моей кредитной карте в центральный офис в Смоленске, и, к сожалению, на получение ответа могло уйти много времени: «Система еще достаточно примитивна».
В банке было приятно – я ждал с удовольствием. Наконец, мне выдали деньги, и я уже собрался идти, но тут прибежала администратор гостиницы с моей панамой в руке. Я испугался: я потерял панаму впервые за два месяца пути, – это случилось, когда меня увела красавица с красным удостоверением.
Я поблагодарил даму-администратора, вручил ей остаток своих белорусских денег и направился к «синему дому».
Вчера вечером у костра сообщение о том, откуда я, вызвало бурную реакцию. Как будто своим немецким акцентом я напомнил целой трибуне английских фанатов о мяче на Уэмбли, принесшем им победу над Германией45. Да, они взяли Берлин в апреле 1945-го, и нападающий, забивший решающий мяч, был родом отсюда. Михаил Егоров был одним из двух советских солдат, которые водрузили над рейхстагом красное знамя.
К сожалению, рудненский герой уже умер, сказали мужики, и глаза их, как мне показалось, затуманились. Но жива Тамара, его дочь. Синий дом Егорова невозможно ни с чем спутать, теперь это музей, а ключ от него – у дочери.
Тамара Егорова не сразу открыла дверь: ей нужно сначала вымыть испачканные сливами руки, объяснила она, взглянув на меня по-девичьи задорно, а еще поправить прическу и переодеться. И она появилась в синих дверях в сером костюме директора музея.
Было два синих дома: отца и дочери. Дом отца был более живописным, более русским. Егорова открыла его, мы вошли в просторный деревянный дом, ничего более чеховского я не видел: солнечный свет согревал деревянные половицы, а единственными его обитателями были торжественная тишина и ностальгия. Здесь был красивый, но бесполезный секретер, на нем стояли маленькие латунные танки – Егоров, судя по всему, не был пишущим человеком. Советский телевизор, напоминающий спутник, мягкие игрушки, зеленые бидермайеровские обои, бюст Пушкина, – ну, разумеется, – бюст Пушкина, и часы, остановившиеся на половине восьмого.
И фотографии. Наш герой – бесстрашный молодой человек на рейхстаге. Наш герой – в открытом гробу на лафете. Наш герой с товарищем Хрущевым. С Гагариным, еще одним великим героем Советского Союза, первым человеком в космосе, он тоже был из этой местности, его именем был назван его родной город: Гагарин значился в моем маршруте.
Это было совсем не просто: создать берлинскую икону. Шесть раз приходилось взбираться с флагом на рейхстаг.
Четыре попытки других солдат были неудачными. Но вот Егоров и его друг карабкаются наверх, им это удается. С полностью разрушенного стеклянного купола и крыши рейхстага они спустились с израненными руками, кровоточащими носами и ушами, но они водрузили знамя. Знамя номер пять. Когда позже его спрашивали с глазу на глаз: «Егоров, неужели ты правда был наверху, это, наверное, был какой-нибудь фотомонтаж, мне-то ты можешь спокойно признаться», – он показывал свои стигматы – рубцы на руках от стеклянного купола рейхстага. К сожалению, никто не подумал о том, чтобы поднять наверх и фотографа, а фотография была чрезвычайно важна: товарищ Сталин должен видеть и весь мир должен видеть, кто уничтожил зверя в его логове, а тот, кто знает советские военные памятники, понимает, насколько серьезна эта метафора и сколь часто Советский Генерал в позе Святого Георгия поражает фашистскую гадину. Но как бы ни старался фотограф отыскать наиболее удачные место и ракурс для съемки, ничего не получалось. Знамя номер пять было слишком маленьким для победного фото: рейхстаг выглядел на нем чересчур огромным, а символ победы превращался в вымпел спортивного клуба. Егорову и его другу прошлось еще раз забраться наверх, в этот раз со знаменем большего размера. И лишь теперь икона была создана, лишь теперь победа не вызывала сомнений.
Еще в юности у Егорова была тяга к героическим полотнам. В день своего восемнадцатилетия он примкнул к партизанскому отряду, называвшемуся «Тринадцать», в честь популярного советского довоенного фильма46, где тринадцать коммунистов сражаются с басмачами, киргизскими повстанцами. А после войны он сам стал чем-то вроде киногероя. Два с половиной года продолжалось его турне по огромной стране, во время которого людям демонстрировали солдата, водрузившего прославленное красное знамя на главной вершине далекого Берлина. Затем он возвратился в Рудню, в колхоз, и после партийной учебы стал его председателем.
А в пятьдесят два он разбился на автомобиле.
Его дочь сказала, что дорога в тот день была мокрой, а роковой поворот крутым и что другой машины не было. Он находился один на дороге, и машина вылетела в кювет. Тамара несколько раз вздохнула и некоторое время была печальной. Затем она снова закрыла синий дом. На улице я расспросил о происшествии одного старика, и тот сказал напрямик:
– Да, знал я его, конечно. Конечно, он выпил. И ехал пьяный. Да все пьют. А что?
Ягоды из мертвого леса
Я пошел к Смоленску, но Россия отодвигалась от меня все дальше и дальше, хотя была здесь еще недавно. Еще недавно здесь жили люди – это было заметно. Вон там – дом, а там – разрушенный колхозный хлев, в поле несколько коров, женщина, которая их пасет, неподвижно лежит на пожелтевшей траве. С опозданием на несколько недель, возможно, несколько месяцев я двигался за всепоглощающей волной бегства – «в Москву, в Москву!» – я надеялся, что в Москве я все-таки встречусь с Россией. На прежнем месте оставалась только земля, и она постепенно делалась такой, какой была до появления на ней человека. Болота и заводи, ветер и лес. Я прошел мимо большой заброшенной фабрики, как мне показалось, спешно покинутой, на ее стене из красного кирпича белым были выложены угловатые надписи: «1967» и «КПСС».
Теперь о лесе. Я знал, что меня ожидает в этом лесу, и когда обошел слева один санаторий, то посчитал, что уже добрался до места, ведь Катынь всегда выдавали за санаторий. Но это было не так. Какой-то медик спросил меня, что я здесь ищу. Я ответил.
– Там дальше по шоссе, еще три-четыре километра, там все увидите.
Мне почудилось, что лес по обе стороны дороги постепенно затихает. Был слышен хруст каждой ветки под ногой грибника – разумеется, и в этом лесу собирали грибы. Спустя сорок минут шоссе свернуло к парковке для посетителей, и возникла надпись: «Государственный мемориальный комплекс». Вход представлял собой покрытую дерном земляную насыпь, достаточно монументальную, чтобы в ней поместился музей, и напоминавшую не то кельтские военные сооружения, не то тир. Мне навстречу шла группа ветеранов, как обычно на них были военные ордена, многих сопровождали жены, но их лица казались такими застывшими и печальными, словно они похоронили там, в лесу, собственных сыновей. В каком-то смысле так и было: они только что предали земле свою юность, свою славную победу, свои яркие героические годы – они шли тесной группой, молчали, смотрели в землю или вдаль и спешили добраться до парковки, где их ожидал автобус. Мне было трудно идти сквозь этих стариков, только что утративших свою веру.
Я был зол – трудно сказать на кого. Кому это доставляет радость? Кому нравится видеть их такими, какая от этого польза?
Я вошел в музей, молодая женщина показала мне зернистые фотографии конца тридцатых годов и вышла со мной наружу.
Ее звали Оксана, она здесь работала. Она водила по музею группы посетителей. Я рассказал ей о встретившихся мне стариках.
– Для ветеранов все это очень тяжело, но все равно многие приходят. Все всегда знали об этом, все эти годы. В народе это место называли долиной смерти. Сегодня у людей открываются глаза, и все узнают правду.
Самая большая святыня здесь – высокое надгробие величиной с дом, под которым висит колокол. Его звон раздавался, когда я обходил воздвигнутые над местом массового захоронения четыре стены: будто кафельной плиткой они были облицованы табличками, 4421 табличка, на каждой из которых стояло польское имя. Шиманский, Шимский, Шумановский. Шмид и Шуберт. И доктор медицинских наук Берлинерблау, Леопольд. Родился на третий день после Рождества 1901 года, расстрелян по приказу Сталина сорок лет спустя здесь, в лесу под Катынью, вместе с другими 4420 офицерами и теми, кто еще оставался от польской элиты. Вместе с отцом графини Манковской, которого привезли сюда из его старой галицийской усадьбы.
Раньше комплекс маскировался под санаторий КГБ и даже использовался в этом качестве. Оксана сказала, что здесь отдыхал Гагарин, а также Хрущев и Горбачев. Однажды в музей пришла старая женщина. Она рассказала, что в детстве они тайно лазили через забор, чтобы собирать ягоды, в изобилии росшие вокруг санатория, наедались досыта, но каждый раз после этого их тошнило. Мы покинули мемориальный комплекс, где все было тщательно ухожено, и немного прошли по лесу. Оксана показала мне многочисленные следы, оставленные гробокопателями. Почва в лесу выглядела подозрительно. Я взял ветку и, слегка поворошив с ее помощью мох и верхний слой земли, обнаружил кость, подошву, обшитую по краям, кожаный ремень и почерневшее ребро.
Это был лес, предназначенный для казней. Станция находилась в удобной близости, я все время шел параллельно железнодорожным путям. Тысячи, возможно, десятки тысяч людей были привезены сюда в вагонах, отведены в расположенный через дорогу лес, застрелены и зарыты. Три сотни захоронений, в каждом из которых было от шестидесяти до девяноста тел, обнаружили сотрудники музея. По требованию польских властей, имена расстрелянных поляков были документально установлены. Число жертв среди собственного населения русские оценивали в десять тысяч. Учреждение, ставшее наследником КГБ, опубликовало три тысячи русских имен. Если бы в этом лесу не была расстреляна польская элита и если бы поляки не внесли огромный вклад в строительство этого большого комплекса, Катынь до сегодняшнего дня оставалась бы безымянным мертвым лесом, подобно тем, что находятся рядом с дорогами на выезде из некоторых русских городов. Тот, кто знает о них, живет с этим знанием, а тот, кто не знает, проезжает мимо или идет в лес по грибы и ягоды.
Катынь, если исходить из числа убитых, была поначалу преступлением, совершенным русскими против русских. Лишь когда это стало преступлением против поляков, им вообще заинтересовались. Обнаружили это место наступавшие немцы. Гитлеровские солдаты раскопали сталинскую Катынь в 1943 году – вернее они заставили заниматься этим местное население. Тогда же здесь было расстреляно пятьсот советских военнопленных – они также покоятся в этой земле. В память о погибших русских воздвигнут большой православный крест, и русские свадьбы, по традиции посещающие святые места, приезжают к нему; когда мы шли мимо, невеста возложила к кресту цветы, и семья сделала фотографию молодых. Позднейшая легенда, согласно которой массовое убийство в Катыни совершили именно немцы, была заранее подготовлена сталинскими подчиненными, которые во время расстрелов выдавали патроны немецкого производства. Оксана показала мне один такой. На нем стояло клеймо фирмы Gerka. Калибр 7,65.
Друг Оксаны Андрей был солистом в одной смоленской группе. Она взяла меня с собой в город, и мы пошли на репетицию, но возникли сложности, поскольку репетиции Андреевой группы проходили в военном клубе, и меня нужно было как-то провести через вахту, что оказалось в свою очередь очень просто, так как на вахте стоял знакомый. В темном зале на сцене пел Андрей. «Somebody pours poison into my dream. Кто-то наполняет ядом мой сон». Мне почему-то вспомнился Календарь и его крики в ночи, а также старики-ветераны в солнечном лесу.
– Неправильно, – сказала Оксана, – ты не так понял слова, там говорится: “Somebody put something in my drink. Кто-то подмешал мне что-то в напиток”47. Речь идет о напитке, а не о Сталине.
Оксана предложила поужинать пельменями. Лето было тем временем года, когда они с Андреем могли жить вместе. Дед, как всегда, уезжал на дачу и возвращался только с наступлением осенней непогоды, родители также были в отъезде, поэтому ее обычно тесная квартира была чудесным образом пуста. Мы поели и разговорились. «Ницше», – сказала вдруг Оксана. Ницше и Кьеркегор. Я не мог не рассмеяться: уже долгое время ни от кого я не слышал ничего подобного. Как можно произнести подобное имя на том этапе беседы, когда по берлинским меркам было самое время, поговорив о работе, задать пару личных вопросов! Она назвала это имя так, будто открыла ящик и показала частное, написанное от руки письмо. Я говорю: «Камю». Ты говоришь: «Gucci». А здесь люди до сих пор говорят: «Ницше». Вот и Мышкин в своем музее на краю Чернобыльской зоны тоже упомянул Ницше. Вещи, занимавшие Оксану, сводились к нескольким простым и одновременно запутанным вопросам.
Ты действительно веришь, что люди равны? Но ведь так утверждает ваша демократия. А ты думаешь, у России есть будущее?
До сих пор я отвечал «нет», но теперь сказал «да».
– В самом деле?
Я рассказал ей о своем ощущении возрастающей скорости, пережитом на границе, – она обрадовалась, но истолковала это наблюдение всего лишь как комплимент и не поверила ему.
– Я думаю, что советский менталитет глубоко в нас сидит, даже у моего поколения.
Андрея меньше интересовали основополагающие вопросы, при слове «философия» его лицо скривилось.
– Философия – это беда для русской поп-музыки.
Он пояснил: она всегда была музыкой для посидеть-дома-вместе-с-друзьями-и-послушать-философские-песни. Музыка для слушания. Музыка текстов. Плохая музыка. У каждого русского певца была своя глупая маленькая философия. Андрей не хотел философствовать, поэтому он пел по-английски, потому что все равно, что он поет, если люди просто танцуют. У него была надежда. Мало-помалу Россия перестанет философствовать, погружаться в раздумья и начнет танцевать. Он был хорошим певцом, но быть англоязычным певцом в провинциальном городе вроде Смоленска значило иметь весьма небольшой доход. Пятьдесят долларов на всех четырех членов группы составлял при случае гонорар за концерт в Москве или Санкт-Петербурге, ровно столько же стоили билеты в оба конца. Он был в ловушке, он знал это. В Москву! В Москву! Ему нужно туда.
Наступила ночь, мы сидели у оленя Германа Геринга. Здесь собирались все, кто хотел просто посидеть, поболтать, чего-нибудь выпить и побыть вне дома. Олень был военным трофеем, победители привезли его в Смоленск с какой-то виллы Геринга, и теперь он стоял на окраине парка имени Глинки в центре города; когда становилось темно, у оленя собиралась молодежь, пила пиво из толстых коричневых бутылок и пела русские песни, а в полночь из динамиков, расположенных у памятника Михаила Глинки, раздавалась его «Патриотическая песня», еще недавно бывшая российским гимном. В этот момент я вдруг ощутил себя перемещенным в пастернаковскую эпоху и даже еще немного дальше во времени, в одну из волшебных ночей старого города с идиллических полотен Шпитцвега48. Я жил в двух шагах от парка в роскошной согласно замыслу, но убогой в действительности гостинице послевоенной поры. В фойе был киоск, где продавали воду, пиво и шоколад, которые уже много недель основными блюдами в моем рационе. Каждый раз, когда приходил или уходил постоялец, дощатая дверь громко захлопывалась за ним. Но моя комната была по-настоящему просторной, а окно выходило в ночной парк.
Мне нравилось в Смоленске. И если древний пограничный город создавал у меня ощущение того, что я нахожусь именно в русском, а не в каком-нибудь советском или постсоветском городе, причиной этого были два архитектурных сооружения, которые ни с чем нельзя было спутать. Массивные, хорошо сохранившиеся кирпичные крепостные стены с их башнями и огромный зелено-белый кафедральный собор на холме над Днепром. Его я увидел первым, когда вошел в город с запада, к нему я теперь поднимался. Мне попался на глаза молодой православный священник: люди кланялись и целовали ему руку, он, благословляя, крестил им лбы. Ему было, пожалуй, лет двадцать пять, и он делал все с ремесленническим усердием, заставлявшим то и дело вспыхивать его светлые глаза, а его золотые зубы – у всех русских золотые зубы – сверкали в этот момент сквозь его взъерошенную бороду. Он был высокий худой мужчина, и поэтому его черная до пят ряса имела форму сильно вытянутого треугольника, он выглядел немного готически, а когда двигался и слегка поворачивался, был похож на танцующего дервиша. Его звали отец Владимир, и, сам не знаю как, мы заговорили с ним о чудотворных иконах. Он позвал старца Михаила, у которого была такая икона. Старец Михаил то ли упрямился, то ли стеснялся и не хотел нести свою чудотворную икону, но спустя пару минут он уже стоял перед нами и вынимал ее со всей возможной предосторожностью из платка, в котором она хранилась: она была не больше обычной книги, на ней был изображен святой Николай, сверху слева по ней стекало нечто смолистое и темное, к чему мне не полагалось притрагиваться, но отец Владимир, имевший на это право, прикоснулся кончиком пальца – мне бросились в глаза его узкие жилистые руки – и сотворил крест у меня на лбу. «Миро», – сказал он по-русски. Так называются во всей Восточной церкви смолистые капли, выступающие на чудотворных иконах. Есть много мироточивых икон, но эта местная была «плачущая», а иконы, которые источают слезы, очень редки.
Наверное, у меня был несколько смущенный вид, во всяком случае, отец Владимир взглянул на меня успокаивающе и сказал, что в чудесах нет ничего сложного. Чудо – это не вещь, не краска и не цвет, но сам человек, который верит; а не слышал ли я, кстати, о селе Борис-Глеб49? Я ответил, что нет. Но это село лежит почти на вашем пути в Москву, сказал он и настоятельно посоветовал мне совершить туда паломничество через лес из города Вязьма.
– Борис-Глеб некогда было селом, от которого уже ничего не осталось, это давняя история. Есть только две церкви в лесу, далеко от всякого жилья, только один человек обитает там – игумен Авраамий. И с последнего Поста там все деревья красные. Что-то окрашивает их в красный цвет: яблони, ели и обе церкви в лесу, как будто кто-то их выкрасил краской. А древние, потемневшие за столетия иконы снова светлеют, и все, что находится в их близости, будто обновляется. Когда в июне солнце было жарким, красный цвет сходил с деревьев и капал вниз, как кровь.
Дорога на Вязьму
Тихим жарким воскресеньем я покинул Смоленск. Было еще рано, дверь гостиницы захлопнулась за мной в последний раз, у оленя Геринга уже стояли два старика-сталиниста и раздавали свои сталинистские листовки. Один из них, невысокий, надел все свои ордена и медали, у него была длинная белая борода и хитрые улыбающиеся глаза; он вручил мне пространную резолюцию против бедствий нового времени: она была уже немного потрепанной, так как ее неоднократно складывали, а потом снова разворачивали и разглаживали, подписи под плотно напечатанным текстом едва доходили до середины листа. Мне не хватило смелости оскорбить этого старого маленького человека своим мнением, которое ему наверняка не понравится, и я отговорился тем, что не смогу прочитать резолюцию и газеты и не понимаю его. «Из Берлина, – повторил я несколько раз, – я из Берлина». Он не поверил ни единому слову, засмеялся с иронией, но и с некоторой благодарностью за мою тактичную ложь.
Его товарищ был мне неприятен. Он тоже, естественно, надел все ордена и медали, а кроме того, белую шляпу, какие можно увидеть на фотографиях эпохи первого спутника. Прямой, как палка, как памятник, в одной руке он сжимал древко большого советского флага, а в другой – самодельный плакат, едва ли не выше себя; я попытался представить, как это происходило тогда: как становишься все меньше и меньше под взглядом этого безжалостными лица и с тихим хрустом ломаешься. На плакате было фото Иосифа Виссарионовича и надпись: «Я встаю утром и молюсь, чтобы Сталин был жив, здоров. Только Сталин может спасти мир. Черчилль»50.
Я спустился по Большой Советской к Днепру и по пути разговорился с Биллом и Майклом из Сиэтла. Билл был широкоплечим общительным американцем, выражавшимся очень пространно, его длинноволосый друг Майк весьма смахивал на Нила Янга51. Я спросил, как у них дела в Смоленске.
– Oh, Smolensk is great, Смоленск замечателен, – сказал Билл.
– А чем вы здесь занимаетесь?
– Oh, we just teach the bible, мы просто учим Библии.
Билл уже достаточно долго жил в этой стране. Сначала на Дальнем Востоке, затем пару лет работал в Омске, а теперь он добрался до крайнего русского запада: до Смоленска. Я спросил их о взрывах еще и потому, что накануне вечером встретил человека, пригласившего меня выпить водки и разделить с ним радость по поводу событий 11-го сентября. Он действительно радовался тому, что произошло: то и дело изображал глазами и руками огромный взрыв и выкрикивал «бум-бум!». Мне не понравились ни он, ни его водка, и я ушел. Но миссионер Билл рассказывал о русских только хорошее, их искреннее сочувствие трогало его. Пока мы говорили, подошли несколько жителей Смоленска: вот-вот должно было начаться собрание, Билл и Майк предложили мне присоединиться. Но я не мог: сильнейший магнит тянул меня из города на шоссе. Билл и Майк понимали это, Майк сказал: «God bless you, благослови тебя Бог», а Билл сказал: «Go with care, счастливого пути», и я пошел через Днепр.
Во всяком случае я собирался это сделать. Но тут я увидел автобус, на боку которого было написано: «Оберсбергское бюро путешествий». Само по себе это не казалось чем-то особенным. По дорогам тех стран, через которые я шел, ездило много списанных немецких автобусов, купленных по дешевке или отданных даром, и, разумеется, никто не платил за перекраску, и поэтому встречались самые странные немецкие надписи. Могло случиться и действительно случалось, что у какой-нибудь пыльной остановки в белорусской глубинке притормаживал автобус с надписью «Привет от Лорелеи» или с рекламой вайблинской сберкассы52. Но этот, ехавший по мосту через Днепр, был из города, в котором я девять лет учился в гимназии: в автобусе «Оберсбергского бюро путешествий» я первый раз отправился в школу. Вполне возможно, что многие годы я ездил именно в этом автобусе, сиденья и спинки тогда были еще тоньше и жестче, чем сейчас. Я сидел позади нее и не мог оторвать взгляд от взмывающей вверх линии голого плеча, плавно переходящего в шею; я сидел, вцепившись руками в тонкое жесткое сидение, чтобы не уступить тому, чего требовали нервные окончания всех десяти пальцев, а линия продолжалась до первого пушка, темного и нежного, и затем исчезала в темноте волос.
Я испугался: солнце пекло, и я собрался надеть панаму, а в руке ничего не было. Потерял панаму! Я кинулся обратно, взобрался вверх по берегу, запыхался, вспотел, и вдруг вспомнил. У сталинистов! Я положил ее на скамейку. В тот момент, когда я был на углу парка имени Глинки, я увидел, как одна пожилая женщина засовывает панаму в авоську и поспешно удаляется. Я погнался за ней, настиг и забрал панаму. Женщина отдала ее без разговоров. Веселый сталинист рассмеялся и сказал, что все это время он следил за панамой, но спустя час решил, что она ничья, поэтому его товарищ поступила правильно, взяв ее себе. Теперь уже я испытал неловкость, ведь старик заметил, что я прекрасно понимаю все, что мне говорят, касается ли это панамы или резолюции против бедствий нового времени.
Я снова оказался на берегу Днепра, впервые я не знал, как мне поступить дальше. Путешествие по чужбине обостряет доверие к приметам и заставляет их истолковывать. Все знаки здесь призывали: остановись. Миссионер из Сиэтла встает на моем пути и хочет задержать. Нет, отвечаю я, мне нужно идти дальше. Затем передо мной появляется мой школьный автобус и ввергает меня в воспоминания о моей первой любви. Нет, повторяю я, дальше. И, наконец, меня возвращает панама. Все ясно: идти нельзя, вернуться. Но я еще ни разу не возвращался, к возвращению у меня была глубокая неприязнь, кроме того, сияло солнце и день был прекрасен. Жаркий, но не настолько, чтобы десятичасовой переход оказался непосильным. Подул мягкий ветерок. Ему я не мог противиться, он властно тянул меня за собой. Я искал знак. Я молил о нем. Я не хотел отправляться в путь без благословения, хотя бы такого незначительного, как зеленый сигнал светофора. Мой взгляд блуждал по мосту и замер на деревьях, росших на берегу. Многие ветви, обращенные в сторону дороги, были спилены, а их круглые спилы выкрашены в зеленый цвет. Сотни зеленых светофоров. Я пошел через Днепр.
По карте было видно, что местность уже не будет такой равнинной, а мой путь таким ровным, как прежде. Мне предстояло постоянно взбираться и спускаться, сегодня нужно было преодолеть восемь холмов и восемь рек, лишь затем на моем пути появлялся следующий небольшой поселок, туманный шанс что-нибудь съесть или даже найти место для ночлега. Поселок этот назывался Кардымово.
На первом же косогоре за городом меня обогнал автобус, через грязные окна на меня смотрели пятьдесят глаз, но затем, закашлявшись, мотор заглох, автобус остановился на склоне – теперь я его обогнал. Всем пришлось выйти из него и идти пешком, как и мне. Но больше в мою сторону никто не смотрел. Дорога была зеленой: кусты, деревья, лес. Холмы придавали местности почти центральноевропейский вид. Я дошел до низины, рядом со мной притормозила машина с московскими номерами, водитель спросил, как ему тут лучше проехать. Это были люди ироничного склада, такой интонации мне давно не приходилось слышать. Они приняли меня за бестолкового провинциала. Я их прекрасно понимал. Нередко на мои собственные вопросы о дороге я получал крайне сомнамбулические ответы. Всего четверть часа назад один молодой человек, толкавший тележку по улице, не смог мне ответить, куда ведет шоссе, на котором он жил. Презрительный тон москвичей изменился, когда я вытащил свою карту и показал им, где они находятся. Они посмотрели меня, как в первый раз, и задали привычный вопрос:
– Пешком?
– Да, пешком.
Они не особенно удивились, и вскоре в их словах снова зазвучала привычная ирония:
– В Москву по дороге Наполеона что ли? Счастливо повеселиться!
Они были настоящими столичными жителями, и я чувствовал, как далеко еще до Москвы. Действительно, я шел по старой дороге, за Смоленском она уходила в сторону от главной трассы. Я шел путем Наполеона, сейчас, как и при нем, не было никаких дорожных указателей и на слова местного населения нельзя было полагаться. Я мог надеяться только на карту. Еще семь гор и семь рек до Кардымова.
На второй горе я вытряхивал камни из сапог, для чего мне пришлось сесть на ржавую трубу, перекинутую через канавку; проходивший мимо человек наорал на меня за то, что я уселся на его пути, и ему пришлось из-за этого сделать шаг в сторону. Зато продавщица в киоске, где я покупал еду, оказалась ко мне приветлива.
На берегу третьей реки стоял небесно-голубой «Москвич», радом играл маленький мальчик, звучало радио, а из высокой травы с другой стороны от машины, куда удалились родители, каждые две минуты раздавался голос матери:
– Играй, играй! Иди за машину! Играй!
Четвертый подъем плавно перешел в небольшую возвышенность, на которой горело множество костров. Плотный черный дым стелился по стерне, как по полю битвы Наполеоновской армии. Затем снова спуск. Шоссе в долине казалась дамбой: четвертая река останавливалась у его левой стороны, и открывался пейзаж, напоминавший Новую Англию: небольшое озеро, а на его берегу – начинающий желтеть лес. Синее озеро, зеленые сосны, ярко-красные клены. Потом, чтобы напомнить, где я на самом деле нахожусь, началось бесконечное, почти ровное поле.
Пятая река была болотом, на ее берегах стояло множество серых, высохших деревьев. Я поднялся на шестой холм и попал на другое поле, утыканное столбами, между которых висели спутанные провода. Охотник с ружьем рыскал по высокой желтой траве, как по небольшой саванне. Моя карта больше не соответствовала действительности, я уже давно должен был достичь Курдымова – деревни недалеко от Кардымова.
Когда я, наконец, увидел Курдымово, солнце уже было низко. Через шестую реку вел почти готовый строящийся мост.
Я проигнорировал обход и обновил мост, длинными прыжками по свежему бетону передо мной скакала лягушка. Из всей деревни я запомнил только серого козла, наблюдавшего за мной с крыши собачьей конуры. Где-то послышались стук молотка и крики кур. Я даже не обернулся в ту сторону. Я уже давно погрузился в такое состояние, когда человек и путь меняются ролями. Не я шел, а сам путь нес меня, ничто из происходившего вокруг я больше не замечал. Долго ли я иду? Сколько еще смогу пройти? Скоро ли наступит ночь? Для таких мыслей не было времени: поле заканчивалось, это значило, что теперь снова надо подниматься, а потом спускаться, потом опять вверх и снова вниз.
Седьмая река была Малый Вопец, шириной чуть больше ручья, затем снова вверх и опять вниз – к Большому Вопцу. От него у меня не осталось никаких воспоминаний, я его вообще не заметил, только посчитал: река номер восемь. Очередной подъем был длиннее и круче, чем предыдущие. Моя собственная тень бежала передо мной по асфальту, непомерно длинная: так низко уже было солнце. Оно светило мне в спину, поэтому тень постепенно вытягивалась, становилась длиннее, и вот уже она достигла вершины склона, за которой начиналась еще одна возвышенность, следующее поле; теперь тень простиралась через холм до самого горизонта, она пожирала своей чернотой все, что попадалось на дороге: асфальтовые заплатки, стынущие лужи, трупы маленьких и больших животных, вот уже она вонзилась глубоко в восток, пронзила московскую окружную дорогу. Нет, я уже не двигался, я стоял у хвостового оперения своей летящей вперед тени, у самого заднего ее крыла, и вопрос, я ли ее толкаю перед собой по склону или это она тащит меня за собой, медленно исчезал в лучах заходящего солнца, от которого я уходил. Кто-то оказался быстрее меня: нечто пронеслось мимо с безумным ревом – то был небесно-голубой «Москвич» с третьей реки, – но кто-то был и медленнее меня.
Дело в том, что был еще один путник. Он все время шел передо мной, но я сокращал дистанцию и медленно, но верно нагонял его. На пригорке мы встретились. Он был рядом со мной. Он повернул ко мне свое лицо: пять или шесть зубов, лоб, срезанный темной бейсболкой. И ботинки. У него были красные кожаные ботинки, и я верил, что его сила заключается в них. А мои силы были на исходе. Отдых, хотя бы короткий отдых! У меня его не было с утра, с тех пор, как я покинул Смоленск. Я посчитал. Девять часов. Девять часов нон-стоп. У дороги был штабель бревен. Я прислонился к нему. Затем сполз вниз. Незнакомец покачал головой.
– Рискованно.
– Почему?
– Опоздаешь на поезд в Кардымове.
– Какой поезд? Мне не нужен поезд.
– А мне нужен. Давай! Пошли!
Я рассмотрел его. Я пересчитал его зубы. Два торчали сверху: слева и справа от центра, как у ядовитой змеи. Я оторвался от бревен и пошел с ним.
Когда мы подошли к вокзалу – здесь и вправду был вокзал, – уже смеркалось. Небольшая толпа ожидала поезд, оказалось, что и поезд был настоящий. Но только он отправится без меня – ведь он едет в Смоленск. Я на это не мог пойти. В этот день я сделал столько, сколько и поезд. Я проложил его путь в обратном направлении. Ни за что на свете я не мог этим поступиться. Я понятия не имел, где поесть и переночевать. Но меня бы добила необходимость сесть в этот поезд и ехать вместе с моим беззубым попутчиком обратно в Смоленск, подобно пойманному дезертиру. На лугу рядом с вокзалом я заметил колонку, я скинул рюкзак, стянул с себя рубашку и стал качать, пока не полилась ледяная вода, я сунул под нее голову, вода растеклась по телу. Я обтерся влажной от пота рубашкой.
– Вот свободное место, – сказал беззубый, когда я вернулся на единственную платформу.
Здесь было три скамейки, и кто-то уже поднялся, поскольку скоро должен был прийти поезд.
– Сядь, посиди.
Я уселся и полез в рюкзак, чтобы достать другую рубашку, и когда через пару секунд я снова повернулся к моему попутчику, его уже не было, и я засомневался, был ли он вообще.
Поезд подошел – все в него погрузились – поезд уехал.
В результате короткой прогулки выяснилось, что придется поголодать. На маленьком провинциальном вокзале не было даже киоска, а само Кардымово оказалось маленьким сельским гнездышком, обитатели которого теперь укладывались спать, потому что настала ночь. Я попытался найти в этом положительную сторону. Голод, конечно, силен, но неплохо то, что никому до тебя нет дела, твоя маскировка действует безотказно. Маскировка? Какая еще маскировка? Нет никакой маскировки. Ты уже давно стал тем, кем ты кажешься. Русский бродяга и никто иной, слоняющийся по улицам с неизвестной целью, которая вроде есть, а вроде и нет.
По большому счету Кардымова не существовало. Разве что вокзал, да и то чуть-чуть. Привокзальная площадь была местом сборищ для трех-четырех юных отщепенцев, у них был стильный маленький трактор, на котором они гоняли по площади, пока им не надоело, затем они загнали его в кусты и пошли по домам, в свои низенькие деревянные избы, где уже спали их семьи. В моем распоряжении оставался зал ожидания.
Не будь его, мне пришлось бы прикорнуть у какого-нибудь дома и, прислонившись к стене, попытаться продремать до утра.
Но маленький вокзал не закрывался: ожидали еще один поезд, а поскольку зал ожидания оказался единственным освещенным местом в поселке и в нем было очень душно, то в него слетелись тучи насекомых. Я попытался уснуть на одной из трех скамеек, стоявших на улице, но снаружи заметно похолодало, поэтому я взял свои вещи и все-таки улегся в зале ожидания.
В какой-то момент, уже глубокой ночью, кто-то дернул меня за плечо:
– Поезд!
В полусне я собрал свои вещи, поплелся на платформу и вошел в первый попавшийся вагон – поезд отправился. Я рухнул на деревянную скамейку и снова попытался уснуть. Вдруг послышался дикий гам, приблизился и оказался рядом со мной. Я открыл глаза и увидел цыган. Целый табор, они шли по проходу, словно поезд вдруг переместился в Индию, так мне показалось: группа бродячих поденщиков низшей касты, растянувшаяся длинной цепочкой по пути через Гуджарат53. Среди них было много босоногих детей, очень подвижных, очень худых, с жесткими взглядами, они все высматривали и ощупывали: вещи, тела, багаж – все, что могло пригодиться. Они были собирателями. Каждый ребенок нес связку картонок на руке или на голове, сегодняшнюю добычу, столь небрежно скрепленную, что она в любой момент могла рассыпаться, но, тем не менее, не рассыпалась. Многие мужчины держали на руках малышей. Один молодой цыган с мягкими чертами и темными живыми глазами вполне мог бы исполнять главную роль в индийском фильме.
Но тут возник герой Рама собственной персоной. Он был самым статным из всех и, без сомнения, считался предводителем: в распахнутом желто-черном кафтане при тусклом вагонном свете он казался облаченным в золото, а когда он вызывающе медленно пошел по проходу, словно разыскивая что-то, сидевший впереди милиционер сделался совершенно тих и неприметен. Он не уступал цыгану в телесной силе. Он был светловолосым героем, мечтой советских фильмов и русских женщин. Высокий, бесстрашное открытое лицо, узкие бедра, широкие плечи, форма, летняя рубашка под расстегнутой курткой, небрежный жест, которым он сдвигал фуражку набекрень, так что она едва держалась на самом затылке – одним словом, русский Джеймс Дин54, а зовут его наверняка Саша. До того момента, как появился цыганский барон, он не без успеха флиртовал с двумя девушками, к которым подсел, прервав на некоторое время обход поезда.
Цыгане шли по вагону: дети с их легким картонным грузом, пестро одетые женщины, смуглые мужчины. Они не спешили, шум сопровождал их, как облако жужжащих насекомых, но цыган совершенно не беспокоило то, что они всех будили и всем мешали. Абсолютно чуждое всем, живущее по другим законам племя растянулось по поезду. Лицо вожака потемнело, когда он подошел к милиционеру. Цыган заговорил с ним и сказал что-то, чего я не расслышал, зато увидел, как красивый, бесстрашный русский еще более притих. У него на поясе была кобура, но возразить он не решился и, опустив голову, молча проглотил все оскорбления и угрозы своего противника.
Поезд остановился на перегоне: не было видно ни вокзала, ни деревни, ни фонаря или света вдали – ничего. Здесь вышли цыгане, и больше никто. Сквозь оконное стекло, пыльное, в мутных пятнах от многочисленных прислонявшихся к нему усталых голов, я увидел, кто ими на самом деле предводительствовал. Женщина. Она дирижировала ночным маршем – хаос и пронзительный шум, создаваемые ее людьми, были ей приятны, то и дело она разражалась по этому поводу громким гортанным смехом. Она была уже немолода, но ее блузка была расстегнута, и она с гордостью демонстрировала свою грудь, а когда она властными жестами раздавала приказы, вспыхивали золотые украшения на ее руках и голой коже.
Я больше не заснул, другие пассажиры тоже, и милиционер уже не флиртовал. Он выполз из вагона, как побитая собака. Мне назвали станцию, на которой можно было переночевать, там я и сошел. Я не знал, где нахожусь, просто шел за другими и пришел к двухэтажному дому с множеством подъездов и парой киосков, еще открытых, несмотря на глубокую ночь. На площади стояла машина с распахнутыми настежь дверцами, радио орало песню, преследовавшую меня все лето: «Я люблю тебя». Я купил пива и воды и вскоре нашел нужную дверь в гостиницу. Здесь жили одни кавказцы, занимавшиеся торговлей, которые еще далеко за полночь курили, выпивали и переговаривались. Предназначавшаяся мне комната была отвратительной, но она запиралась, а значит, вполне меня устраивала. Кровать была еще отвратительнее, но все-таки он была настоящей кроватью, поэтому конец этого длинного дня оказался благополучным, правда, ненадолго.
Громкая музыка вырвала меня из глубокого сна. Звучал российский государственный гимн. Совсем рядом. В комнате. Звук шел из небольшой серой пластмассовой коробки. Радио, криво вцепившееся в стену, как дадаистское насекомое с проводами-усиками, спутанными и свисавшими вдоль пожелтевших обоев. Репродуктор – я должен был догадаться! Я должен был отыскать его перед сном! Совсем отключить его было невозможно, но у него имелось нечто вроде регулировочного винта, с помощью которого можно было приглушить звук. Кнопки отключения у советских народных приемников не было, как и колесика настройки: отношения между передатчиком и приемником были просты. Партия всегда была на связи, а массы – в постоянной готовности, на приеме. Такие же коробки висели на бесчисленных стенах, чтобы каждое утро пробуждать массы, мобилизовать их, информировать о том, что они должны знать, а каждый вечер укладывать их спать. Было шесть часов утра.
Место, куда меня занесло, называлось Сафоново и производило впечатление города, хотя и нового, но знавшего лучшие годы. Я не нашел здесь старых построек дореволюционного времени. Сафоново был город шахтеров, основанный при Советской власти, так было написано на памятной доске у Дворца культуры, а этот храм культуры был самым роскошным зданием в Сафонове, намного более красивым, чем горсовет. В этой стране, не способной жить без веры, революция породила религиозный вакуум, который необходимо было заполнить искусственно, с помощью эрзац-заменителя. Сама по себе революция не могла заменить религию, поскольку была слишком безыскусной, безотрадной, задуманной слишком по-протестантски для народа, который никогда не поддавался искушению перенести веру в повседневную жизнь, оберегая ее лазурную высоту, ее золотой блеск и мистический свет. Одни только проповеди и церковные подати, принуждение школы и государства не смогли бы привлечь людей, которые в своих церквах всегда стояли и никогда не сидели на скамьях, как глупые школьники, позволяя поучать себя человеку в черной рясе. Народ, который часами стоял в церкви, крестился, клал поклоны, читал молитвы и пел, представляя собой некое внеисторическое общество, расступавшееся, когда перед выносом Святых Даров распахивались Царские Врата и выходили бородатые священники, держа высоко над собой иконы и хоругви. Такой некогда была Русь, и такой она становилась вновь. Я наблюдал это снова и снова.
Итак, революция использовала нечто почти столь же красивое, не совсем от мира сего, нечто возвышающее. Новые иконы и новые песнопения. Революция сотворила себе культуру. Ей она посвящала великолепные храмы и поклонялась с безумным исступлением. Культура ответила взаимностью, устремилась в сакральный вакуум и заполнила его тысячами дворцов, воздвигнув перед ними колонны, толстые, как семисотлетние дубы. Колонны в Сафонове были особенно толстыми и высокими. Двенадцать сверхмассивных, все еще старательно подновляемых побелкой колонн несли караульную службу перед Дворцом культуры шахтеров, демонстрируя труженикам отблеск того Царства, которое находится по ту сторону их работы и усталости: Седьмой День Творения, за отсутствием других слов именовавшийся Культурой. Прочие атрибуты трансцендентного здесь тоже были представлены. Вечный огонь, воплощение победы над смертью в Великой Войне, заменял алтарь. Памятники героям – иконы с изображениями святых. Военный музей наставлял юношество на путь истинный.
Надо же было такому случиться, чтобы красный цвет, некогда получивший совершенно новый смысл, теперь превратился в цвета Мальборо и Кока-колы. Красные пластиковые стулья, красные фирменные флаги, палатки, сумки, шторы. «Красное» теперь означало «западное». Фасад из хорошо уложенных красных кирпичей выделялся на фоне массы облупившихся бело-серых зданий. Архипелаг Кока-колы в Сафонове был обнесен забором, внутрь попадал лишь тот, кто шел в ногу с новым временем и мог платить по его счетам. Здесь за красными столами сидели новые русские, пили пиво, цивилизованный напиток нового времени, и вкушали яства нового времени: картофель-фри и кур-гриль, которых подавали красивые юные официантки в красно-белой униформе. Изредка, в минуту замешательства, какой-нибудь гость отрывался от еды и качал головой. Как мог он полжизни выносить мрачные общественные столовые с их шаркающими тетками в неряшливых передниках и запахами старого времени?
Старые русские валялись со своими водочными бутылками под кустами в парке за пределами белого забора, либо торчали в окнах своих квартир и наблюдали за городской жизнью, которой не было сейчас и никогда не бывало прежде.
А иногда кто-нибудь опускался на самое дно, и дно следует понимать буквально: дно вонючей канавы, в которой неподвижно валялся мальчишка с виду лет десяти, его ноги были странно вывихнуты, как у жертвы несчастного случая, на лбу синяк. Я недоумевал, жив ли он, но никто им не интересовался, из чего я сделал вывод, что он часто здесь валялся и люди привыкли к этому. И действительно, спустя пару часов он сидел уже в другом месте и механическими движениями безуспешно пытался соскрести грязь с одежды.
Я позволил дню пройти вхолостую: жестокий вчерашний марш и краткий сон сделали свое дело. Я лениво бродил по городу и решил заказать себе в архипелаге Кока-колы пару стаканов пива и полцыпленка, а после ужина хорошо выспаться, обезвредив предварительно дадаистскую коробчонку и отделив себя спальным мешком от недвусмысленных и некоторых двусмысленных пятен, оставленных на моем матрасе предыдущими постояльцами.
В баре архипелага я разговорился с Ниной.
– Сафоново – красивый маленький городок, – сказала она, – жалко только, что у людей больше нет работы, шахту закрыли.
– А как Вязьма?
Подобные вопросы я задавал теперь часто, ведь у меня не было даже того представления о лежавших на моем пути городах, которое можно получить из путеводителя.
– Как Сафоново, – ответила Нина, – только дома выше.
– А Можайск?
– Ну, это уже Москва.
Затем спросила она. Она спросила то же, что спрашивал каждый, замечавший, что я иностранец.
– Ну и как тебе Россия?
– Я люблю Россию.
Это тронуло Нину, но я показался себе подлецом. Зачем ты это сказал? Целый день у меня в голове вертелась только одна мысль: безысходность, сплошная безысходность. Полное отсутствие формы и красоты. Здесь бесконечно больше сил, чем у меня дома, уходит на то, чтобы не плыть по течению. Чтобы не опуститься. Потому что власть разложения и упадка здесь намного сильнее. Я люблю Россию. Я сказал это, чтобы сказать что-нибудь приятное девушке в этом умирающем городе, в котором по ночам мужчины стоят на узких балконах, в одиночку, спиной к своим женам, курят и всматриваются в ночь, предаваясь своим путанным мыслям. Это резало меня по живому, мне было жаль их, мне казалось, что одно-единственное дружеское объятье могло принести им спасение. Я люблю Россию.
На другой день мой взгляд привлекло к себе Семлево, крохотное село в полях. Здесь не было ничего уродливого. Из печных труб поднимались тонкие струйки дыма, старики и старухи заготавливали на огородах запасы на зиму. Я вышел сюда из леса, и мне потребовалось где-то пять минут, чтобы пройти от первого до последнего дома, но я бы с удовольствием шел по селу и дольше.
Затем я шагал по полям, каждые полчаса встречался кто-нибудь, копавший картошку на небольшом участке, – кривые борозды в траве выглядели как следы доисторического поселения. Я был теперь единственным человеком в округе, во всяком случае, так казалось. Трава давно пожухла и пожелтела, но стояла по пояс – я никогда не мог угадать, что под ней, – а в некотором отдалении начинался лес. Однажды где-то прозвучал выстрел. Потом появилась пожилая женщина, она несла ведро красных ягод к шоссе. Солнце в этот полдень казалось уже обессилевшим, на всем лежала осенняя блеклость, постаравшись, можно было даже ощутить легкий аромат зимы. Вскоре я достиг большой дороги, и у нее для меня была новость: «Москва – 248 километров». Целую вечность я простоял у синего указателя. Бог мой, 248 километров, да это ничто! Был конец сентября, и я находился в шести днях пути от Москвы.
Лес чудес
Равнина сменилась возвышенностью, показались золотые купола Вязьмы, и даже если теперь они уже не были золотыми, то в прошлом были такими наверняка. Большую часть дня я шел по М1, и шоссе дало мне понять, что Москва близко. С дивной пустотой дороги было покончено. Я шел сквозь автомобильные выхлопы, теперь это было обычным делом, и по большей части машины были новыми огромными грузовиками, проплывавшими мимо меня с безразличием торговых судов, не причиняя особенного вреда; но, когда начинался подъем и наверх передо мной карабкался старый советский грузовик, я попадал в густые черные облака, удушавшие и отравлявшие. Все мчались в Москву. Или из Москвы на запад: в Берлин, Роттердам или Париж.
У шоссе М1 было много схожего с трансатлантическим перелетом: оно также проходило через транзитное «Ничто». Люди прибывали откуда-то и направлялись куда-то, а в промежутке были воздух и вода, только здесь поверх воды росла полевая трава. Люди ехали несколько часов по прямой и хотели просто поскорее достигнуть цели. Человек, на миг возникающий на обочине и вновь пропадающий в зеркале заднего вида, принадлежал к низшему, неуловимо статичному внешнему миру: неопознаваемый, в любом случае достойный жалости изгой, барахтающийся на краю необозримого пространства, измеряемого лишь временем. В том, что он барахтается, не было, собственно, ничего плохого: при взгляде на него еще ярче ощущались превосходство скорости, великолепие кабины, блеск ее деревянной отделки, мощь двигателей. Легкого прикосновения пальцев к рулевому колесу было достаточно для объездного маневра, улыбка появлялась на лице водителя при мысли о том, что сегодня вечером они отправятся ужинать на Тверской бульвар; я видел, как его спутница кладет свою ладонь на его плечо, – вот уже и она улыбается. Самое забавное, что мне нравился этот взгляд на вещи, как будто я сам сидел в кабине и мчался в Москву или еще куда. Машина за машиной проносились мимо, сметая меня на обочину с трассы, как здесь называли шоссе. Каждые две секунды воздушный поток хлестал меня в лицо пылью, щебнем и все прочим, что ему удавалось подхватить с асфальта.
Шоссе поворачивало на Вязьму, здесь было кафе, где можно было стоя перекусить; я зашел внутрь, жажда и голод стали такими невыносимыми, что я не мог терпеть еще полчаса до города. Официантка решила, что это ограбление – я понял по ее лицу. Я попытался выдавить из себя улыбку и вытащил рублевые бумажки, чтобы ее успокоить, но она с ужасом наблюдала за тем, как я рылся в кармане брюк. Мы стояли друг напротив друга на расстоянии вытянутой руки. Рядом с кассой лежало ее зеркальце с розовой ручкой, я взял его и медленно поднес к своему лицу. Я посмотрел в него и увидел там человека с большой дороги. Женщина не спускала с меня глаз, она смотрела на меня, совершенно окаменев. Мы не сказали друг другу ни слова, я был единственным посетителем. Я положил зеркальце на место, очень осторожно, словно это был пистолет, и спиной попятился к выходу.
Я очень надеялся найти в Вязьме горячую воду. Я сходил с ума от одной мысли о горячем душе, в сафоновской гостинице не было ни горячего, ни холодного душа, лишь тонкая струйка вытекала из прохудившегося крана в мужской умывальной. От Вязьмы я хотел попасть в лес, к тем деревьям, с которых, якобы, стекало вниз что-то красное, как кровь, там точно не будет никакой горячей воды, а моя система «две рубашки, двое брюк» была рассчитана на то, что каждые два дня я стирал одежду. От меня, вероятно, уже пахло, в этом даже не приходилось сомневаться, но русская провинция была не тем местом, где на такие мелочи обращали внимание; женщину в кафе испугал не мой запах, а мое лицо.
Вязьма выглядела как послевоенный город. В подвалах открылись первые магазины, еще такие же временные, как маленькие столики и картонки на земле, с которых женщины продавали тыквы и груши со своего огорода, морщинистые темно-красные помидоры и теплое пиво. Если над дверью был небольшой навес из гофрированного пластика, это значило уже, что здесь – магазин. Девушка из сафоновского бара сказала мне, что в Вязьме дома выше. Действительно, было несколько общественных зданий высотой более двух этажей. Однако самым высоким снесли головы – вяземским церквам, на удивление многочисленным.
В тот же вечер я отправился в монастырь, находившийся сразу за городом, я надеялся узнать там больше о красном лесе и самое главное – о дороге туда. Я перешел речку, давшую имя городу; Вязьма была зеленой от водорослей и бурой от чего-то еще, в лодке сидел рыбак и ловил рыбу. Свежевыкрашенные стены и башни монастыря сияли за деревянными домами и садами. Близлежащие здания образовывали монастырскую стену, они стояли спиной к миру, дверями – к собору. На большом дворе, который они окружали, была церковь, похожая на невысокую белоснежную гору и напомнившая мне индийский храм. Работник, стоя на лесах, белил башню, больше никого не было видно, но из открытого окна доносилось пение – туда, наверх, вела крутая лестница. Просторный монастырский двор был празднично пустынен из-за отсутствия своих обитательниц, ведь насколько мне было известно, до революции это был мужской монастырь, а теперь в нем поселились монахини. Замечательная особенность православного обряда – его роскошная монотонность. Можно появиться в церкви почти в любой момент и так же исчезнуть, уйти. Не дожидаясь, пока служба закончится, – это могло продолжаться часами – я поднялся по лестнице и обратился к первой встречной монахине, она была очень юной, совсем еще девочкой. Она объяснила, что настоятельница будет завтра утром, что настоятельница – образованная женщина, кандидат наук и все-все мне расскажет. Монашка произнесла дословно: «Она тебе все расскажет», – что лишь усилило впечатление детскости.
Я вернулся обратно той же длинной кривой улицей, по которой пришел. Все казалось умиротворенным: красные, синие, зеленые деревянные дома с их сломанными белыми резными украшениями, с их сенями, где хранились соленые огурцы и связки лука, лениво потягивались кошки, а в стеклах пылало вечернее солнце. Здесь Россия была целой и невредимой, здесь Вязьма была такой прекрасной, какой только могла себе пожелать. От реки поднимался туман, окрашенный в розовый цвет заходящим солнцем, розовый покров был бережно наброшен на город, на его многочисленные церкви и соборы, которые почти сплошь были руинами, населенными сороками, голубями, неприкаянными собаками, беспризорными детьми и горькими пьяницами.
Официант ресторана, в котором я опять был единственным посетителем, принес мне пряный серый формовой хлеб, две четвертинки на привычных пестрых блюдечках, – военный паек – неизменный салат из половины помидора и четырех разрезанных пополам долек огурца, приправленных ложкой сметаны, потом подал бутылку пива и соль, а после небольшой паузы – киевскую котлету, наконец чай, затем попытался обсчитать меня на сорок рублей, но я это заметил. Официант был мне невыносим, и лишь поэтому ему пришлось вернуть деньги. Чтобы ему еще досадить, я не спешил уходить. Я позвал его и попросил еще чая. Теперь уже он был на меня зол, и это было прекрасно, потому что я тоже был зол на Вязьму. Этот город некогда был прекрасен, это было еще заметно по развалинам, но сегодня он был уродлив и мертв, а там, где еще подавал признаки жизни, он, как рыбак на местной реке, плыл по течению, прикидываясь бездыханным трупом. Прекрасно, что в гостинице снова не было душа, но дело было не в этом. Скорее уж в том, как неспешно попивала кофе с молоком дежурный администратор, не отвлекаясь на стоявшего перед ней человека, который явно имел намерение снять комнату за приличную плату. Или в тех одетых в рабочие халаты женщинах, которых я попросил постирать мои немногочисленные вещи, – они и так стирали белье для гостиницы, причем за гораздо меньшую сумму, чем я им предлагал, я умолял каждую из них в отдельности, но ни одна не хотела заработать, несмотря на то, что у нее очевидно было на это время. Война, война, проклятая война. Война прошлась по Вязьме, она все еще была здесь, но это была не война с немцами, та уже давно стала историей и мой дед уже давно погиб, это была война русских против самих себя. Мой гнев был глубоким протестантским гневом, на языке вертелось хорошее, крепкое словцо: дрянь.
Бескрайние объемы дряни оставило после себя военное время. Дрянь в домах. Дрянь в государстве. Дрянное питание. Дрянные автомобили. Дрянь атомных отходов. Дрянь на полях и в реках. Дрянь в поведении. Дрянь в разрушенных церквах. Дрянь в душах людей. Официант уставился на меня. Я знал, что на улице было еще светло, но ресторан был затемнен, как при бомбежке, тяжелые шторы были закрыты, хотя он находился посреди площади. Теснота и духота снова были здесь, грубость и униженность в голосе и жестах официанта, но ресторан не был бомбоубежищем, он был мрачным, прижатым к земле жилищем постепенно дичающего старика, никогда не распахивающего окна и уже давно не позволяющего проникнуть внутрь никому и ничему, – все было безнадежным, бесконечно безнадежным. На самом деле мой гнев был великой скорбью. Что вы сделали с вашей страной? С вашими городами? С самими собой, живущими в темноте? Ну, и что ты ругаешься, идиот, над своей чашкой чая? Официант смотрел на меня от барной стойки с такой ненавистью, как будто мои мысли были вывешены на транспаранте, который тащит за собой маленький пропагандистский самолетик через тусклое воздушное пространство ресторана, – и это было правдой, ведь то, о чем я говорил сам с собой, витало в воздухе. Оно выросло из земли и прошло по мне, как по проводнику, вероятно, оно поднялось из этого затхлого коврового покрытия, которое предыдущие посетители усыпали сигаретным пеплом, залили супом, заляпали своими маленькими делишками и пышными тостами, – оно поднималось мне в голову и конденсировалось в отдельные фразы, которые я бормотал про себя и которые понимал обманщик-официант.
Я нащупал путь к выходу на площадь по совершенно темному коридору, деревянная дверь снова громко хлопнула за моей спиной, и в воздухе снова потянуло сильным запахом гари.
Последние лучи заходящего солнца были холодными и красными, как зимой, – впечатление было усилено вереницей сбросивших листву тополей, позади которых находились башни и купола женского монастыря. Дым доносился от горящих куч мусора на другом берегу реки, он придавал закатным лучам оранжевый оттенок, к небосводу был пришпилен острый и неприступно элегантный серп нарождающейся луны. Я сбежал в гостиничный бар, там снова пели «Я люблю тебя».
Эти вечера в маленьких русских городках были одинокими и похожими друг на друга. Поиск ночлега. Драгоценные первые полчаса на совершенно продавленной койке, руки за голову, надо мной на потолке – световые игры подходящего к концу дня. Переодевание в запасную рубашку – она сухая, но нуждается в срочной стирке. Прогулка по улицам, где приезжие разыскивают себе ужин или женщину. Я присаживался где-нибудь в последних лучах солнца, где-нибудь находил себе еду, по большей части в единственном местном ресторане и часто в качестве единственного посетителя. Затем – опять прогулка по уже темному городу и, чтобы не похоронить себя до времени в продавленной койке, – куда-нибудь, туда, где русские пьют водку. После этого я по четвертому разу изучал карты для завтрашнего перехода. И нынешним вечером все будет именно так, и все действительно повторилось.
«Beauty is a dramatic power. Красота – страшная сила» – было написано на новеньких пластиковых пакетах, продававшихся на вяземском рынке, где я побывал на следующее утро. Рыночная площадь уже преодолела этап непостоянства. Здесь были солидные ряды палаток, первые кирпичные магазины, кафе, где торговцы вели разговоры о своем бизнесе на Украине, а вокруг всего этого – внушающий почтение забор. Рынок находился на краю города, как и монастырь. Вокруг него новые русские беспрепятственно понастроили себе виллы с арками, башенками и всем прочим, что воспринималось как новшество и одновременно казалось чем-то старинным и освященным традициями. Это была живая клетка новой Вязьмы, и это выглядело как в древние времена, когда за пределами тесных старых городских стен возникал новый город.
А в центре усеянной строительными площадками новой Вязьмы я наткнулся на одну из старых церквей, заново отреставрированную. Опять Россия пристыдила меня, опять, несмотря ни на что, все каким-то образом налаживалось. Когда я вернулся в гостиницу, раздался стук в дверь. Это была одна из горничных: «Где тут ваши грязные вещи?» Она хотела отнести их в стирку. Еще вечером того же дня вся моя одежда была поглажена, больше не пахла, и я стал новым человеком. Все, как обычно: вечером я проклинал Россию за грубость или непостижимую апатию, а на другой день меня заставляло раскаяться в моих словах чье-нибудь неожиданное участие или гостеприимство незнакомых людей, без которых я никогда не смог бы добраться до Минска, Орши, Витебска, Рудни, Смоленска, Сафонова и Вязьмы, до самой почти Москвы.
Я пошел к монастырю. Настоятельница действительно была на месте, ее звали Ангелина, в ней совершенно отсутствовала показная набожность, она была практичной и быстрой, она в свое время отказалась от советской карьеры, как многие монахи и монахини, и, конечно, стала бы успешной «новой русской», если бы не надела черную рясу и черный клобук. Она рассказала, что монастырю исполнилось четыреста пятьдесят лет, а в Вязьме до революции было двадцать шесть церквей. Я мог сделать отсюда вывод о том, сколько богатых людей некогда жило в городе.
– После войны в городе сохранился один-единственный дом, но церкви немцы не трогали. Это сделал Сталин. После войны он приказал разрушить восемнадцать наших церквей.
Мы сели в машину, настоятельница отвезла меня в город.
– Как мне добраться до Борис-Глеба?
– Во всяком случае, не в одиночку. Вы не сможете найти это место. Нужна машина.
– Вот ваша, например…
– Эта? Да что вы! Там нужен танк.
И я нашел танк. Я предпринимал всевозможные усилия, но все тщетно, наконец я пошел в ближайшую школу, встретился с директором и изложил ей свою проблему. Директор была энергичной женщиной, лишенной предубеждений по отношению к праздно шатающимся иностранцам. Она немного подумала, затем вызвала одну учительницу прямо с урока, ее звали Лена, и мы быстро поняли друг друга; директор дала ей назавтра отгул, и рано утром Лена вместе с водителем Сергеем и его внедорожником ожидала меня у гостиницы.
Это была мистическая поездка: утренний туман покрывал луга и озера и висел над лесами, а Лена, которая вчера произвела на меня совершенно светское впечатление, теперь повязала платок. Она почитала Библию, связалась со многими друзьями по телефону, расспросила о Борис-Глебе, и была охвачена религиозным настроением, по пути лишь усилившимся.
– Мы должны быть очень осторожны, – сказала она мне и Сергею, – ведь это святое место.
Одна из двух тамошних церквей в прошлом году сгорела дотла, и от одного из друзей Лена узнала, что это случилось в священный для сатанистов день и что по дороге туда многие люди начинают ссориться и ругаться нехорошими словами.
– При этом они совершенно не хотели ссориться. Это дьявол их надоумил. Он очень ревниво относится к этому месту, одному из самых святых мест на Руси.
Сергей свернул в сторону от проселка, наша дорога становилась все уже и хуже, он повернул еще пару раз, его машина держалась молодцом, проскальзывая и проскакивая туда, где не было никакого пути, где заканчивались поля и деревни, под конец мы ехали по извилистым, как тропы животных, перекрещивающимся полевым тропам. Я понял, что настоятельница монастыря была права: в одиночку я не добрался бы до Борис-Глеба. Затем мы подъехали к лесу. Сергей остановил машину и сказал:
– Вот Борис-Глеб.
Лена и я прошли немного вглубь леса, вскоре мы увидели старую церковь и тут же рядом новую, деревянную, построенную в точно таком же стиле, что и старая. Нам навстречу вышла женщина лет сорока. Как объяснила Лена, эта женщина живет здесь со своим мужем, они заботятся об игумене. Лена попросила меня сделать остановку в городе, чтобы закупить побольше продуктов для святого отшельника. А теперь она передала многочисленные пластиковые пакеты с покупками его помощнице. Ее звали Люба, ее судьба была похожа на судьбу Ангелины. Она работала экономистом в банке до того, как они с мужем, отказавшись от всего мирского, переселились сюда. К своему разочарованию я узнал, что игумен Авраамий отсутствует. Он заболел и сейчас лечится на юге, его возвращения ожидают со дня на день, но он, похоже, задерживается. Потом Люба показала нам красные деревья.
Их было несколько десятков, и они казались припудренными. Красное вещество крепко держалось на коре и даже на лишайнике, которым были покрыты деревья всевозможных пород: большей частью ели, но также дубы, березы и другие. Все выглядело менее впечатляюще, чем я воображал себе по описаниям. Да, красный цвет бросался в глаза: он был на стволах даже на высоте трех-четырех метров, и действительно, это явление обнаруживалось только вокруг обеих церквей, но если не знать, о чем идет речь, то в это время года можно было подумать, что деревья поражены каким-то недугом. Конечно, зимой, когда вся земля и весь лес были белоснежными, и волки подходили к самым домам и подбирались к могильным плитам на местном кладбище, где покоятся святые люди, жившие здесь до игумена Авраамия, здешние обитатели должны были испытать сильное потрясение, увидев однажды утром, что черные стволы стали красными. Это случилось прошлой зимой, вскоре после русского Рождества. Я потер красную кору: подушечки пальцев покраснели, но тут же приобрели желтоватый оттенок.
Я остался на ночь и не поехал обратно с Леной и Сергеем, понадеявшись как-нибудь отсюда выбраться на другой день. После их отъезда у меня было прекрасное настроение, и я предпринял долгую прогулку в поле и лес, посидел у реки и вернулся, когда уже заходило солнце; я присел на ствол дерева и понаблюдал за кошками, которых здесь было множество: они, все еще продолжая дневные игры, уже готовились выйти на ночную охоту. В воздухе звенели птицы и стрекотали насекомые, неподалеку протекала река, огибавшая две трети красного леса, – село Борис-Глеб было расположено на полуострове.
Игумен посадил на опушке сирень и ели, а также разбил цветочные клумбы. Здесь было несколько хижин, небольшое картофельное поле, теплица, открытая терраса. А еще наполовину построенный деревянный дом в русском духе.
Сначала из бревен делается сруб, который ставят на каменный фундамент, затем прорубают окна и дверь, а затем возводят крышу. Остается только сделать дверку в подпол, такой неглубокий, что в нем в полный рост может стоять только ребенок, – здесь запасают картофель на долгую зиму. И дом почти готов. Здешний дом состоял из двух помещений, одно из них было похоже на сени. Это было новое жилище для отшельника, которое строил Любин муж, ведь старый дом сгорел вместе с церковью.
После ужина Люба показала мне мистические сокровища. Мы пошли в старую церковь. Икона над входом в нее выглядела так, будто реставратор, выполнив свою работу лишь наполовину, сбежал с задатком. Лик на иконе был светлым и свежим, прочее – древним и темным, то же самое было и внутри церкви. Все иконы находились в работе, или, лучше сказать, в состоянии преображения: они светились, но одновременно были погружены в многовековой сон, и при взгляде на это оставалось лишь вместе с Любой верить в божественного реставратора, сотворившего это чудо, сделавшего так, что все старые иконы в Борис-Глебе обновились, вновь засияли яркими красками, либо подозревать грандиозное шарлатанство. Я осматривал эти вещи с верой в то, что Люба верит в свои рассказы. Иными словами, я не верил в то, что она способна, потихоньку подновляя иконы, разыгрывать спектакль передо мной и всеми прочими, кто приходит сюда. Одна из икон так щедро мироточила, будто собиралась растаять. Люба сказала, что именно с этой иконы и началось чудо.
– А у вас на западе есть что-нибудь подобное?
– У протестантов нет, но у католиков есть кровоточащие статуи Девы Марии и святых.
– У нас тоже есть иконы, на которых выступает кровь.
Мы направились к реке, там была лодка, служившая паромом. При помощи перекинутого через воду каната всякий желающий мог переправиться на другой берег. После короткой прогулки по высокой траве, через заросли полыни и огромного чертополоха, через кустарник мы пришли к источнику, над которым была покосившаяся от ветра деревянная крыша.
Мне пришлось скинуть рубашку, и Люба вылила на меня несколько ведер ледяной воды. Источник, разумеется, был святым. Люба посмотрела вокруг:
– Как прекрасна земля и на ней человек!55 Как говорил Есенин. Я всегда вспоминаю о поэте Есенине, когда вижу эту удивительную природу, о несчастном Есенине.
После пожара они с мужем делили дом с игуменом. Это был единственный старый дом на опушке, они сами довольствовались маленькой комнаткой, а большую предоставили игумену. Одеяние священника висело на закрытой двери: белая рубашка и черная ряса. Это выглядело очень изысканно. Люба показала на вазу под иконой:
– Ее цвета со временем совершенно поблекли, ведь она долго стояла на солнце, а теперь, видите, она снова сияет.
Действительно, переходящие друг в друга зеленые и красные узоры огромной стеклянной вазы были свежими и яркими.
– Посмотрите на его одежду. Он ее уже давно носит, а она как новая.
И вправду, ряса игумена была старой, но не заношенной.
– Это действует, даже если просто побывать здесь, люди уносят это с собой. Моя старая одежда в городской квартире теперь как новая. А сейчас приглядитесь внимательнее к иконе.
После молитвы, сопровождавшейся многочисленными поклонами, мы приблизились к иконе, расположенной в углу комнаты. Образ был необычным, я не видел прежде ничего подобного. Христос как Творец мира. Был различим земной шар, а у Него в руке было тонкое длинное перо, но именно там, где перо касалось земного шара, через всю икону проходила трещина: кончик пера разбивал мир надвое, и мир раскалывался, как скорлупа. Перо, собственно, было тайной иконы. Оно выглядело изящным и опасным одновременно, как филигранно отделанное металлическое жало какого-то инопланетного насекомого. Причем Христос не держал его, Он скорее касался пера своей левой рукой и легко направлял его, но оно парило над миром под действием собственной силы, а земной шар был пуст – еще ненаписанная страница, словно Первый день Творения или Последний. Но и это было еще не тем, что имела в виду Люба:
– Видите венец?
Верно, над головой Христа сверкала на темном фоне корона, ее не сразу можно было различить, но стоило приблизиться, как она становилась отчетливо видной, будто сохранившийся фрагмент древней картины, поверх которой была написана новая.
– Венец появился, когда мы на Пасху беседовали за этим столом о пришествии Христа. Посмотрите, это царский венец с крестом. Христос грядет как Царь мира.
Люба продолжала:
– Икона такая же старая, как и дом. Примерно сто пятьдесят лет. Она была совсем темная. Теперь снова проступают краски, посмотрите на свечение красных одежд. И на сияние, исходящее от венца.
Она сказала это без излишнего пыла, скорее с удивлением, как человек, стоящий перед чем-то непостижимым и показывающий это другому, еще не будучи в состоянии сам это понять. Древнее святое место вновь обретало свою силу, и она просто наблюдала за этим. Она жила среди чудес, как иные живут среди мебели и повседневных забот. Как среди ее собственных запасов ягод, консервированных огурцов и квашеной капусты. Затем она сказала, что я могу переночевать здесь: ее муж уехал в город, а она сама, когда случаются гости, ночует в старой церкви. Она зажгла небольшую масляную лампаду под иконой, горевшую всю ночь красным огоньком, велела мне запереть дверь изнутри и открывать только ей, когда она позовет, а больше никому. Из семи кошек игумена, большинство осталось ночевать на улице, только две были дома: белая и черная. Демон и Пантерка.
В эту ночь мне приснились два сна. Над городом взошел лик: одновременно притягивающий и пугающий. Он пожирал все вокруг, и когда он пожрал меня, то я почувствовал свой собственный вкус. Я был солон, как море. Второй сон был о футболе. Я проспал очень долго, много лет, пожалуй, я даже побывал на том свете, но теперь должен был вновь играть. Я был прежде левым крайним нападающим, но теперь все забыл и разучился, а мои старые шиповки давно вышли из моды; раздался свисток к началу матча, я выбежал на поле. Но тут на меня что-то накинулось из ночи. Я подскочил от испуга, оно фыркнуло и разорвало мое одеяло. Демон! Следующие полчаса прошли в тщетных попытках сбросить кота с постели. Я сталкивал его вниз, секундой позже он был снова здесь: это был цепкий русский Демон. Я поднялся и стал рассматривать комнату: предмет за предметом, икону за иконой, скользнув по черно-белым одеждам игумена, мой взгляд обратился к темным очам Спаса. Лампада освещала неясным красным сиянием правильные черты лица, которые я пытался разгадать, и темные очи, но чем ближе я подходил, тем быстрее лик рассеивался, тем загадочнее становился, тем неопределеннее и менее подлежащим определению; темные очи превратились в цветовые пятна, в пару темных ворот, нет, проще, – в занавес из красок: сквозь него проходит тот, кто этого очень хочет, кто на это действительно способен, нет, проще, – тот, кому это воистину дано.
Я взял книгу с полки, затем другую и третью, пока наконец не задержался на книге об Армагеддоне, о конце света, о темных библейских пророчествах. Эта книга не мучилась сомнениями. Она говорила, – и это происходило. Я читал без труда: частью она была написана по-русски, а частью – по-английски. Я удалился в Россию, в лес и в ночь, в самую безлюдную глухомань, в дом отшельника, к которому издалека стекались люди ради одного его слова, ради одного прикосновения его руки, – и нашел темную книгу из Америки. Гог из земли Магог оказался Ираком, а Израиль снова был восстановлен, это было чудо, случившееся спустя два тысячелетия, согласно старому пророчеству, – «and this allows the fullfillment of the remaining prophecies, и это позволяет сбыться оставшимся пророчествам»: Гог из Магога совершит нападение, и в этой последней битве погибнет треть человечества.
Снаружи кто-то был. Кто-то ходил вокруг, остановился под дверью, побежал дальше, удалился и снова приблизился. Волки здесь величиной с овчарку, как говорил Любин муж, но летом они не покидают леса. Только лето уже склонилось к закату, настала осень. Я взял с собой палку и вышел наружу, в волшебную ночь. Я мог не бояться, если бы существовала опасность, это было бы заметно по кошкам, но Демон сосредоточенно играл с моим сапогом. Я закрыл за собой дверь – теперь все было черным. Дом, сад, обе церкви, лес. Мир исчез, ничто не мешало свету звезд. Он лился вниз как нежнейший дождь, он тек по спине, на голову и на плечи. Если бы сейчас наступил конец света, я заключил бы его в объятья. Как брата, как отца, как невесту.
Битва
Где, на какой дороге, в какой из вечеров закончилось лето, я уже не знаю, но в любом случае, моя летняя жизнь осталась позади – путь на Гагарин и дальше на Можайск вел к русской зиме. Дни приходили и исчезали, ничем не отличаясь друг от друга, по большей части я не сворачивал с М1. В руке я теперь держал палку, которую подобрал на дороге, не из страха, просто было приятно иметь при себе оружие, я даже ожидал, что так произойдет. Я только не знал, каким оно будет. Мои мысли опять занимали волки. Порой, когда я часами шел по лесам, когда по обе стороны от трассы были лишь болота, поля и деревья, я разговаривал с волками, но они не собирались показываться и держали меня за дурака. Я приказывал им, наконец, выйти и обнаружить себя.
Уже почти четверть года я был один в пути. С тех пор, как я покинул Минск, у меня случались лишь мимолетные встречи с людьми, за исключением, пожалуй, краткого пребывания в Борис-Глебе. Я обрел ритм, и он оставался неизменным.
Я просыпался, закрывал за собой дверь, целый день шел, пока не темнело, где-нибудь ночевал, снова просыпался и шел дальше. Москва властно притягивала меня к себе. При этом у меня не было ни определенного представления о моей конечной цели, ни образа ожидавшей меня в итоге награды, какой бы она ни была. Москва была магнитом, а я – летевшей к нему металлической пылинкой, вот и все, и этого было достаточно, чтобы разрешить мои сомнения и вопросы. Уже проделанный путь стоил многих усилий, но силы мои он не подорвал. Напротив, с каждым шагом я становился все сильнее, ходьба была чудом, и если она меня изнуряла, если меня хлестал дождь или жгло солнце, – это было прекрасно, поскольку было именно таким, как нужно, и другим быть не могло.
Город Гагарин выглядел космически, но пах вполне по-земному. Я прошел через полузаброшенные деревни, через поля, где пастухи на лошадях объезжали стада в мягком свете осеннего дня. А теперь над площадью в Гагарине висело гигантское красное солнце, окрашивавшее серую улицу в алый цвет; вороны каркали, костры дымили, солнце сияло золотом на всех семи куполах собора, дерганный звук бас-гитары доносился из хип-хоп клуба, а парни в черных куртках стояли вокруг так, словно они лишь исполняли роли парней в черных куртках: так близко была Москва. В апреле 1961 года Юрий Гагарин первым полетел в космос, после чего его родной город, прежде называвшийся Гжатск, был переименован: ему было дано имя прославленного сына и завещано поддержание его культа. Мне было любопытно посмотреть, не сохранилось ли чего, связанного с именем Гагарина, может, его дом, но вскоре я прекратил поиски. Достопримечательностей было слишком много.
На каждом втором, третьем, четвертом доме была табличка с надписью о том, что и здесь некогда бывал Гагарин, здесь он сделал одно, а там – другое. Странно, но гостиница на площади Гагарина в этом городе, где все носило его имя, не называлась «Гагаринской». Она называлась «Восток». Восток! Я открыл деревянную дверь, шагнул внутрь и оказался на востоке56.
На следующее утро по пути в столовую я разговорился с одним москвичом. Он прорычал, что находится здесь в командировке, и предложил выпить пива. Я поблагодарил и спросил про дорогу.
– А я все-таки выпью! – сказал он, взяв бутылку, и насладился небольшой свободой, предоставленной ему по воле начальства. – Прежде трасса от Гагарина до Можайска была известна бандитскими нападениями, но сегодня, – он сделал большой глоток, – сегодня все спокойно.
«Спокойно». Мне нравилось звучание этого русского слова, его призрачная беспечность.
Я был в пути уже несколько часов, как вдруг почувствовал запах копченой рыбы. Двадцать, нет, тридцать палаток выстроились вдоль трассы. М1 превратилась в рыбный ряд, а он в свою очередь перешел в караван-сарай под открытым небом. Легковушки и грузовики останавливались, водители, многие с женами, прогуливались между палатками, выбирая рыбу получше. Люди в промасленных рубашках прикручивали гайки на колесах, которые только что заменили. Я спросил их, есть ли в пределах двадцати километров мотель.
– Нет, нет, – качали они головами, – Можайск. Можайск.
Но Можайск был для меня сегодня слишком далеко, до него еще целый день пути – что делать? Да ничего, просто идти дальше. Через некоторое время вновь показалось нечто, выглядевшее издали как стоянка бедуинов. Затем я увидел фирменные логотипы. Кто-то натянул веревки между деревьями и развесил на них на продажу огромные набивные полотенца со значками Феррари, Кока-колы, Мерседеса, но самого хозяина не было видно. Это было подходящее место для отдыха, но стоило мне усесться между полотенцами, как раздался окрик. Я отодвинул в сторону полотнище и увидел женщину. Тепло укутавшись, она сидела в придорожной канаве и ругала меня. Из-за блокнота в моих руках, она приняла меня за шпиона. Когда я прервал канонаду, чтобы сообщить, что не понимаю ее слов, поскольку недостаточно хорошо знаю русский, она меня передразнила:
– Я тоже плохо знаю русский!
Наша встреча завершилась сердечно. Я показал ей блокнот, и, когда она увидела плотно исписанные на чужом языке страницы, ее морщинистое лицо просияло:
– Писатель!
Мы еще поболтали, затем я пошел дальше.
Спустя пару часов в придорожной дымке показался монумент, постепенно его очертания все отчетливее вырисовывались на опушке леса по правую сторону, с каждой сотней шагов надпись делалась немного разборчивее. Монументальная надпись из бетона. Одно длинное слово. У меня заколотилось сердце: я ожидал этой встречи весь день. Я ускорил шаг. В 15 часов 22 минуты по московскому времени я преодолел мою последнюю границу: границу Московской области. Предпоследнюю, если быть точным, самой последней станет – еще три дня, три дня! – граница города Москвы. Я сел на основание монумента, многие из проезжавших мимо сигналили: они сделали это! Они оставили пустынную землю позади и были счастливы попасть в сферу влияния Москвы. Следующее, что мне попалось по дороге, – заправочная станция; здесь было кафе, а при кафе был туалет, а в туалете – умывальник. Я бросил рюкзак на землю, скинул рубашку, сунул руки под струю воды и вдруг почувствовал, как она теплеет, теплеет… Горячая вода! Меня пробил озноб. В этом придорожном клозете – горячая вода! Первая горячая вода за неделю. Я, как смог, залез с головой под кран и со стонами смыл с себя грязь: с лица, с волос, с шеи.
В кафе отдыхала группа пожилых западных туристов, сразу узнаваемых по сумкам на поясе, по бейсболкам и вечной опасливой отстраненности от происходящего вокруг. Туристы. Американцы. Смешно, но я понял в этот момент, что смотрю на них, как русский. Водитель дал сигнал, автобус был московский, появилась девушка-гид и стала загонять всех в салон. После того, что мне рассказали в дороге, у меня не осталось надежды найти какой-нибудь ночлег до Можайска, поэтому я поинтересовался у туристов, нельзя ли подвезти меня до Можайска, «lift to Mojaisk». Они обратили свои взоры на девушку-гида, но та ответила, что начальник ничего такого не разрешает, после чего все быстро поднялись и поспешили в автобус, бросив меня на трассе. Да, еще они назвали меня героем: «You are a hero!»
Я поступил так, как поступал всегда, когда не имел понятия, что делать. Я пошел дальше. А поскольку уже смеркалось, и мне не хотелось пропустить ничего из того, что все-таки паче чаяния могло встретиться на моем пути, я прибавил шагу. Обескураживающей прямизне трассы я противопоставил свое упрямство.
От монотонности спасает монотонность, это было известно моим ступням, ногам, кулакам и обветренной коже. Время от времени я поглядывал в сторону, надеясь увидеть стог сена, или сарай, или, на крайний случай, какой-нибудь навес, однако не было ни стогов, ни сараев, вообще никакого убежища. Порой, когда совсем угасала надежда и расстояние между километровыми указателями, играя со мной злую шутку, растягивалось все больше и больше, я снова принимался считать шаги. Сотня, другая, еще одна и так далее до тысячи, и опять с начала. Это была простая, но сильная мантра, ее магия по-прежнему действовала. Так я шел дальше, не замечая, что сумерки постепенно переходят в ночь и что ночь уже давно наступила. Последний отблеск дня не исчезал до конца – реликтовый луч, за который я держался, с какого-то момента существовал уже только в моем воображении. Мое спокойствие перед лицом ночи происходило из того, что меня заботили только мчавшиеся навстречу огни, остатки же моего сознания сконцентрировались на ступнях, нащупывавших дорогу, на которую я не должен был упасть.
Я не знаю, насколько долгим был марш и как поздно уже было, циферблат моих часов не имел подсветки, а по километровым столбам невозможно было рассчитать время, потому что я их уже не видел. Что мне оставалось, кроме того, чтобы просто идти вперед, пока не наступит утро или что-нибудь, что сможет его заменить. В какой-то момент я заметил огонек между грузовиками. Я остановился, чтобы рассмотреть его повнимательнее, он тоже застыл на месте. Он не двигался, как другие. Я устремился к нему, приблизился, перешел на другую сторону трассы и вскоре добрался до слабо освещенного мотеля. Я вошел внутрь.
Две женщины за стойкой внимательно осмотрели меня, одна из них курила, а другая указала мне на табличку «Ремонт».
Мотель ремонтировали – это значило, что мне следует идти дальше. Но у меня не было сил. Еще минуту назад я мог бы шагать сквозь ночь до самого утра. Но теперь это было уже невозможно, теперь я уже находился здесь и видел, что здесь были столы, стулья, чай и еда. При тусклом свете в зале ужинали, пили и курили дальнобойщики. Внезапно я ощутил позабытый голод, боль в ногах, стук в висках. Я упал на стул, и ко мне подошла та, что с сигаретой. Я сказал, что ни за что не сдвинусь с места, что я очень устал и должен выспаться. Она посмотрела на меня с интересом, обдала меня запахом «травки», в ее черных глазах светилось ленивое любопытство кошки, еще не решившей, стоит ли добыча затрачиваемых усилий.
– Ремонт, да?
Она кивнула головой, как в замедленной съемке. Я сказал, что мне все равно: я могу спать на стройке, я буду доволен любым уголком, который мне предоставят, кроме того, я могу заплатить. Она повернулась к другой, они обменялись взглядами, которые я не понял, затем она сказала, что мне принесут еду и питье.
Кто-то взвизгнул. Женщина. У худого светловолосого водителя с жадным взглядом было две девицы, он уселся на колени к старшей, что сопровождалось громкими воплями. В дверях показался его напарник и позвал светловолосого, тот бросил женщин и направился к нему, после чего между ними завязался спор. Пять минут спустя оба вновь появились на сцене: блондин ворвался внутрь, схватил смеющуюся визжащую женщину, взвалил ее себе на плечо и устремился с ней к машине. Затем в зал вернулся его приятель и стал приставать к младшей, чтобы она шла с ним, но он был толстым и пьяным, она не желала с ним идти, снова раздались громкие крики. Когда я поел, пришла курившая женщина, принесла ключ, прикрепленный к деревянному шару размером с яблоко.
Поднявшись по лестнице, я оказался в ином мире, где все было красным: стены и полы верхнего этажа были полностью выдержаны в темно-красной гамме. Темно-красные кресла и бархатные кушетки стояли посреди коридора, продолжение которого терялось в полумраке. Женщина прошла вперед и открыла комнату. Внутри было пыльно и душно, здесь стояли две двухъярусные кровати – это была одна из тех комнат, которые сдавались одновременно нескольким постояльцам, так что человек не знал, с кем придется делить ночлег, зато это было дешево. Стены от темных деревянных плинтусов до потолка были оклеены золотыми обоями, все четыре ночных тумбочки были накрыты золотыми салфетками.
Там внизу, в зале, я мог бы спокойно уткнуться головой в стол, прямо рядом с тарелкой, и немедленно погрузиться в глубокий, беспробудный сон, но теперь сна не было ни в одном глазу. Мне вдруг нестерпимо захотелось умыться и осмотреться в странном мотеле, где я, конечно же, был единственным постояльцем. Я дошел до конца коридора, поворачивая ручки, но многочисленные двери оказались запертыми. Насколько велик этаж? Есть ли у невидимого с трассы мотеля еще этажи? Красный этаж и моя золотая комната казались связанными с каким-то давним воспоминанием, и было неясно, шла речь о моем личном переживании или о некоем образе.
Я нашел ванную. Повернул кран до конца, но воды не было. Значит, дальше. Я поднялся по лестнице и попал на чердак, также заканчивавшийся вереницей мансардных комнат. В самой последней из них на веревке было развешено белье. Должно быть, его уже давно выстирали, потому что стоило мне к нему прикоснуться, как истлевшая хлопковая материя развалилась у меня в руках. Я снял белое кухонное полотенце, оно так затвердело, что мне пришлось его разгибать. Я взял его с собой.
На обратном пути я обнаружил работавший кран. Я оторвал кусок полотенца, – другой половиной я наутро почищу сапоги, – разделся и помылся. Поднялся сквозняк, я почувствовал его голой кожей, и дверь захлопнулась. Я быстро оделся и попытался ее открыть, но ничего не вышло. Мне показалось, что я слышу шаги. Я постучал в дверь и крикнул, что мне нужна помощь. Ничего не произошло. У меня был ключ от комнаты. Только теперь я заметил, что деревянный шар, к которому он был прикреплен, представлял собой глобус: нарисованный, но уже полустертый, лишь контуры континентов были еще различимы. Я вставил ключ – он подошел.
Внизу, в зале, не осталось посетителей, за исключением одного мрачного человека, который пил чай. При помощи ножа он чистил маленькое яблоко – неторопливо, без какого-либо выражения, он срезал с него кожуру так, как старики от нечего делать строгают палочку. Я видел его со стороны: его худую бурую спину и камуфляжную куртку. Его чай оставался нетронутым, похоже, он уже давно остыл, и я недоумевал, что в этом человеке меня пугает, ведь его лица я все еще не видел, хотя именно лица внушают страх, а не спины и яблоки. Он не шевелился, ничто вокруг его не занимало. Появилась курившая женщина, она взяла не глядя мою тарелку, прошла совсем рядом с неподвижным посетителем, на мгновенье задержалась, можно было заметить ее движение: она как будто хотела погладить его голову, но, не сделав этого, направилась к стойке. Затем она погасила свет и исчезла.
Зал освещали фары проносившихся мимо грузовиков, после четвертой или пятой вспышки я заметил, что остался в одиночестве. Мне нравилось такое настроение, оно казалось мне бесконечно ценным, я знал, что никогда уже мне не придется пережить ничего подобного. Я продолжал сидеть и пить чай, пока он не остыл. Тут усталость придавила меня, как огромный камень, я нащупал лестницу, прошел по коридору к себе в комнату, и, не раздеваясь и не зажигая света, погрузился в сон, как в морскую пучину.
Камень тянул меня все глубже и глубже – море было бездонным, и вдруг стало ясно, что я не один. Я опустился на дно, перестал бороться и почувствовал, что рядом со мной кто-то есть. Я лежал и ровно дышал, затем резко подскочил, и мы бросились друг на друга. Он схватил меня, мы боролись, повалились на землю, он крепко держал меня и, не давая высвободиться, прижимал к полу; задыхаясь, я пытался вывернуться и в какой-то момент это удалось, я нащупал что-то твердое, наверное, ножку кровати, оперся о нее левой ногой – он развернулся, мы покатились к двери, которая странным образом оказалась открытой. Схватившись, мы оба каждый миг понимали, кто из нас сильнее. Я знал, что это он. Это была борьба, а не драка. Мы уже давно были в коридоре, четыре или пять раз мне удалось освободиться, но каждый раз он снова придавливал меня к полу. Он был сильнее, потому что был невидим и все знал, при этом он совсем не был тяжел, напротив, очень легок, но я не знал ничего. Неужели это должно произойти здесь, пронеслось у меня в голове, и еще – нож. Только бы у него не оказалось ножа. Я высвободил руки и схватил его сзади. Я бросил его изо всех сил на свое колено, желая сломать ему нос, но он поднялся, я ударил его головой, надавил своим черепом на его, но мой противник, которого я схватил за шею, был худым, цепким, сухим, как трут, и не пах ни потом, ни хмелем, ни вообще чем-нибудь. Вдруг все вспомнилось: устремленное на меня оружие моего соперника в тот тихий летний день в моей студенческой комнате, где он стоял всего в шаге от меня. Холодный расчет: что если я сейчас прыгну к закрытой двери, распахну ее, откачусь в сторону, но как прыгнуть так, чтобы он попал только в ногу; и опять с изумлением оглядываясь вокруг, почти смеясь, растягивая паузу: здесь, значит, должно все произойти, так быстро, еще ведь только лето, а у тебя были планы на сегодняшний вечер и на следующие пятьдесят лет, так нельзя ли вернуть все назад на крошечную пару секунд: всю вселенную, вообще это все, но нет, конечно, ничего не получится, значит, это случится здесь, но что они скажут, как они это потом воспримут? Теперь он схватил меня за шею, мне пришлось выпустить его голову, чтобы оторвать от горла костлявые пальцы; короткая передышка, затем новый захват, опять он меня схватил, опять я крутился под ним на полу, в отчаянии ища способ уцепить его за бок, задыхаясь, шипя, ревя, почти изнемогая. Вспыхнула еще одна сцена: мальчик на промерзшей земле, другой – сверху, остальные – вокруг в свитерах и варежках. Идет восьмой раунд: восемь раз я лежал под ним, восемь раз он упирался коленом в мое плечо так, что я ревел от боли, восемь раз он, ухмыляясь, спрашивал, хватит ли мне, и всякий раз я рвался навстречу этой ухмылке, и снова варежки на фоне серого зимнего небосвода вели надо мной отсчет. Но вот, наконец, переломный момент: нет, нет, нет, этому не бывать, так не пройдет, я тебе покажу, в конце концов у него не хватает сил, он чувствует это, убегает, падает на ледяную землю. Я прыгаю на него, вколачиваю ему колено в живот, пригвождаю его руки к обжигающему льду, он сдается. Смеясь.
С облегчением. Под конец, когда мы, с трудом переводя дыхание и уже без рвения, боролись скорее с усталостью, чем друг с другом, он сбежал, я не стал мешать, даже не посмотрел вслед, было уже темно. Больше я ничего не знал. В тот зимний день речь шла о самолюбии маленького мальчика, тем летним днем – о женщине.
А здесь? А здесь? Последнее, что я ощутил, было мягкое прикосновение его руки: он положил ее мне на голову, мне стало спокойно, как будто я боролся именно ради этого, и первое, что я увидел следующим утром, была скрученная спиралью яблочная кожура на полу у соседней кровати. Кто-то спал на ней в эту ночь.
В столовой играл русский шансон, женщин не было больше видно. Юный официант с лицом кадета, прической Цезаря и большими глазами наливал утреннее пиво тучному громогласному мужчине и его собутыльникам. Каждый раз, когда молодой человек что-нибудь подавал на стол, он сгибал левую руку в локте – совершенно напрасный жест в месте, подобном этому. Толстяку нравилось, что его обслуживают, и, конечно, манеры официанта. С величайшим проворством он продемонстрировал свое оружие, висевшее у пояса его лоснящейся формы: повертел охотничьим ножом перед красивым лицом официанта. Глаза молодого человека заблестели, он мечтал стать мужчиной, и сейчас разговаривал с настоящими мужчинами, которые, со своей стороны, были рады найти нового почитателя.
Я вышел в туман. Где-то здесь забуксовало немецкое наступление на Москву, на самых подступах к городу. То и дело встречались памятники. Что-то красное, красный цементный пионерский галстук бетонной девочки, вместе другим бетонным пионером высоко держащей в руках солдатскую каску. Потом из тумана появились пять великанов. Когда я приблизился, то увидел, что они стоят на пьедесталах, как на котурнах, их головы обнажены, руки прижаты к бесформенным серым телам – великаны скорби. Они достоверно исполняли свою роль – скорбь чувствовалась во всем, она капала на меня с неба и с веток деревьев.
На постаменте было написано: «Здесь пали пять командиров».
Восемьдесят дней я шел на восток, до Москвы оставалось два дня пути, но все снова было таким, как в тот первый вечер у зееловских камней. Камни, имена, великаны. Один отсутствовал. Некто совершенно потерянный среди далей, самый потерянный из всех. Ни камня, ни места, ни имени – ничего. Я ощущал безграничную любовь к этой окровавленной тени в лохмотьях и столь же сильную ярость. Что мне до этого? Что мне до войны, которая не оставила мне даже самого убогого бугорка в поле, чтобы сделать шаг в сторону от трассы и побыть минуту рядом с отцом моего отца. Будь спокоен, я пройду по тебе так, что ты этого не заметишь. Будь совершенно спокоен, я пройду сквозь тебя, как ветер. Я почувствовал, как воздух сгустился над моей головой, ощутил легкое прикосновение, почти благословение. Я поклонился великанам, чему-то еще, ему, я оставил его здесь, с ними, попросил их позаботиться о нем, пообещал зажечь свечу в ближайшей церкви и снова вернулся в туман.
Холодает
На опушке я заметил чайную и обрадовался, что можно согреться: туман не рассеивался, было по-прежнему влажно и холодно. На двери была табличка «Открыто». Но только я нажал на кнопку звонка, как прямо перед моим носом табличку перевернули: «Закрыто»! В тот же миг подкатили автомобили, из них вышли мужчины, которых здесь явно ждали: дверь гостеприимно распахнулась им навстречу. Понаблюдав немного за тем, как они стоят внутри и нервно курят, я предпочел пойти дальше, прибавил шаг и через семь часов достиг последнего города перед Москвой – Можайска.
На вокзале было много одетых по-столичному людей, они, наверное, возвращались с дач. Там, где останавливались автобусы на Москву, я увидел парочку хиппи: она – в ожерелье из деревянных пластинок, а он – в сверкающих никелированных очках, оба – в новенькой выглаженной камуфляжной форме и с огромными походными рюкзаками. Я посмотрел на мой уже совершенно грязный маленький рюкзачок и на потерявшие всякий фасон и цвет военные брюки, дрябло и убого болтавшиеся на ногах, – и вид этой парочки привел меня в неописуемый восторг. Вот приоделись! Совсем как я, три месяца назад выглядевший примерно так же, как эти москвичи.
Ничто не задерживало меня в Можайске, вечер еще не наступил, и я не смог бы просидеть остаток дня в маленьком городке: магнит Москвы тянул меня к себе. К несчастью, я не стал возвращаться на трассу, в чем скоро раскаялся, потому что в сумерках меня занесло к какой-то казарме: мне сказали, что здесь сдаются комнаты. Все верно, здесь была даже горячая вода, зато еды не было никакой. Сдавший мне комнату, страдающий одышкой старик, посоветовал пойти в местный магазин; но там мне в нос ударил столь резкий запах рыбы, что я забыл о том, что не ел весь день, и пошел восвояси. Вот тебе наказание за то, что ты удалился от трассы. Она тебя мучила и испытывала – это правда, но в конечном счете, не она ли всегда о тебе заботилась?
Общежитие, занимавшее два этажа, было ужасным. В соседней комнате бушевала безобразная ссора, с грохотом падали предметы, надо мной, по-видимому, заседал всероссийский съезд партии молотобойцев, любителей пива и галдежа, мимо моей не закрывавшейся двери каждые четверть часа проносилась одна и та же цыганка, направляясь в пропахший рыбьим жиром магазин за очередной игрушкой-покемоном. И на все это с небес обрушилась гроза.
Новый день был холодным, как никогда прежде. Я надел на себя все, что у меня было, и рюкзак стал невесомым – именно об этом я тщетно мечтал на протяжении стольких знойных дней этого долгого лета. Я стоял под дождем, передо мной в грязной лужице на красном прилавке остывал жидкий чай, в дополнение к нему рука из киоска выставила блинчики с мясом. Мои пальцы настолько закоченели, что я расплескал чай. Ночью погода переменилась – вслед за летом закончилась и краткая осень. Землю ожидала теперь лишь холодная мрачная зима, и все ощущали это: люди угрюмо брели по слякоти, неохотно встречая предвестия зимы. Все, пора. Пора завершить путь. Пора мне уже дойти.
Я добрался до М1, но и здесь все изменилось. Прежде нередко случалось так, что я целыми днями напрасно ждал, что на горизонте появится мотель или, на крайний случай, какой-нибудь жалкий магазинчик. Теперь было вдоволь заправочных станций и мотелей, а на полках магазинов было почти все, что можно купить у немецкого автобана. Западная еда для кошек. Западная туалетная бумага. Глянцевые журналы, полные сверкающих автомобилей и голых тел. Я больше не мерз, от ходьбы я согрелся, а шел я теперь быстрее, стремясь наконец дойти; зато начала мучить головная боль, все больше и больше становилось куч мусора, многие из них горели, трассу то и дело заволакивал плотный черный дым. Позади меня завыла сирена – черные правительственные автомобили с затемненными стеклами мчались в Москву.
В Кубинке я увидел первый московский порше, а вскоре после этого – первый снег. Я и в правду был совсем близко к цели.
Черная кошка лежала на дороге, будто спала, необычно крупная, как небольшая собака, ее блестящая шерсть была совершенно невредима, только череп раздроблен. Я инстинктивно уклонился от этой близкой смерти: не хотел рисковать встречей с тем, что лишь недавно здесь побывало, – и перешел на другую сторону. Там девушка в летнем платье пыталась остановить проносящиеся мимо машины. Она тоже закоченела и, закутавшись в огромную тяжелую мужскую кожаную куртку, обхватила себя руками. Она отчаянно рыдала. Я спросил:
– Из-за кошки?
Девушка отрицательно мотнула головой.
– Могу ли я помочь?
– Зажигалка есть?
– Промокла.
– А машина?
– Нет.
– А нельзя у тебя переночевать? Только на одну ночь, а утром я уйду.
– Я не здешний и сам ищу, где переночевать.
Сквозь ее слезы прорвалось презрение. Она закричала:
– И чем ты хочешь мне помочь?! Я знаю, кто ты. Ты музыкант. Еще один чертов музыкант!
Теперь я понял, что с ней случилось. Она снова зашлась в истеричных рыданиях, затем сказала вполне серьезно:
– Да, ты можешь кое-что для меня сделать. Спой!
– Но я плохо пою.
– Здесь тебя никто не услышит, здесь только машины.
– Но вы слышите меня.
– Давай, пой!
У меня в голове вертелась только одна мелодия: «Я люблю тебя». Я уже серьезно подумывал, не спеть ли ее, в конце концов, девушка была права: никто меня не услышит. Но тут остановился автомобиль, и девушка уехала.
Хозяйка киоска «47-й километр» – столько мне оставалось до Москвы – сказала, что за лесом расположен дом отдыха Союза писателей. Я немного поблуждал по округе: здесь было полно советских домов отдыха для всяких заслуженных людей, а завтра мне предстоит пройти мимо писательской деревни Переделкино. В конце длинной улицы, где были сплошь живописные сельские дома, я наткнулся на здание, которое искал.
Пока администратор изучала мои документы, на экране телевизора появился российский президент, он как раз был с визитом в Берлине. Ко мне обратился толстый парень:
– Доллары поменяешь?
На следующее утро директор дома отдыха, изысканная пожилая дама, созданная для того, чтобы украшать своим присутствием литературные вечера, но никак не для того, чтобы заниматься бизнесом, почти плакала:
– Эти приезжие!
Она достала платочек.
– У нас такие ужасные постояльцы!
Теперь и на самом деле показались слезы.
– Что за времена!
Эти времена обернулись для меня большой удачей, учитывая, что накануне шел дождь и ударили первые заморозки. Государство выделяло все меньше денег, поэтому директору приходилось сдавать комнаты. Но я, конечно, понимал, что она имеет в виду; она действительно не знала, что делать. Я видел у входа доску с именами писателей. В этом доме останавливались Анна Ахматова, Марина Цветаева – стойкая, неприкаянно кружившая по Европе бедная русская колибри57, и многие другие. Лицо директора прояснилось, когда я назвал эти имена:
– Вы знаете их? Слава Богу! Большинство приезжих не знают ничего, у этих людей нет ни малейшего понятия о том, в каком месте они находятся!
Она яростно взглянула во двор, где мужчины в черных кожаных куртках усаживались в свои новые огромные автомобили, достала небольшой пузырек с лекарством из холодильника, перекрестилась и простилась со мной, как с тайным посланцем Литературы.
Утро было ледяным, но зато небо прояснилось. За полчаса до полудня я в последний раз развернул карту: Москва, город.
В этот момент в меня врезался бампер машины – сзади меня поддел «Москвич», я обернулся и с интересом посмотрел на водителя, но тот, даже не подумав извиниться, хотя бы жестом, просто поехал дальше. Еще неделю назад я бы разозлился, но теперь меня это забавляло. Поднялся сильный ветер и разогнал облака, холод не отпускал, но солнце согревало; потом я увидел самолет, первый за три месяца: это, должно быть, из аэропорта «Внуково». Я, замерев, наблюдал за тем, как лайнер поднимается ввысь, прочерчивая линию на безупречно голубом небосводе, – самую прямую линию из всех тех, что я видел за последние месяцы.
Я оглядел себя, ощупал свое лицо и задумался, пустят ли меня в такой самолет. И как хорошо было бы сидеть в нем на высоте десять тысяч метров над той землей, по которой я теперь шел, и проделать весь обратный путь за какие-то два часа.
Меня уже ничто не могло удержать, земля скользила, отступала и отпускала меня; слева и справа исчезли леса, словно их никогда и не было, поля, хижины, стада, болота, живые и сухие березы, исчезла высокая желтая трава – все ускользнуло. Город, к которому я стремился, был столь огромен, что пройти по нему от края до края я смог бы лишь за три дня; он сдвигал все в сторону от себя и затягивал меня внутрь. За большими заборами виднелись виллы с красными черепичными крышами и идеально белыми стенами. Дикая земля превращалась в ухоженный пейзаж. В него входили целые дачные поселки, например, – Лесной городок. Справа в сверкающей дымке появились белые горы с плоскими вершинами – московские спальные районы. Переделкино, мой потерянный рай, я обошел справа. Я мечтал посетить дом Пастернака, но не увидел даже краешка крыши: зеленый деревянный забор высотой с дом будто ширма закрывал писательскую деревню.
Забор появился и с другой стороны от дороги – привычный вид бесследно исчез. Всюду теснились автомобильные, строительные и мебельные рынки, шиномонтаж, распродажи английских каминов и китайского кафеля, рынки «Все-для-рыбака». Все это перерастало в автосалоны, строительные и мебельные магазины. Справа стоял гигантский синий куб, слева – розовый. Трасса уже давно превратилась в сплошную торговую улицу, в нескончаемый поток товаров. Этот поток уже не умещался в своих берегах: машины выезжали на обочину, прямо на меня, надвигались со всех сторон. У одной из них не было лобового стекла, на зеркале заднего вида висел, раскачиваясь на веревочке, православный крест. Но я не уступал, я был сильнее.
И быстрее! Поток, вместе с которым я плыл, с которым боролся, замедлился и застыл на месте. А я шел вперед! Я шел так быстро, как никогда прежде. Я шел на Москву! В двадцать минут пятого я пролетел мимо щита, на котором было написано: Москва – 2,7 км. Никто, кроме меня, не двигался. Никто! Вы думаете, что самое главное – это вырядиться в черное и жать на газ. Черная рубашка, черные брюки, черный «BMW». Сурово смотреть на пешеходов и не сворачивать. Но я тоже, мой милый, был водителем «BMW». И я смотрю на тебя сурово, и не надейся, что я сверну. Это была уже не ходьба, а плавание в переполненном купальщиками бассейне. Даже не плавание – пахота.
Я оценивал чужую собственность, чужие мечты, попадавшиеся на моем пути, все это немыслимое богатство, между которым приходилось протискиваться, все эти тяжелые черные и серебристые тушки автомобилей, только по одному критерию: насколько они мне мешали. Шум был нестерпимый, но и мой восторг усиливался, он стал превыше всего, он возникал в подошвах моих сапог, в икрах ног и берцовых костях, в огрубевших грязных кончиках пальцев, он растекался по венам и ребрам и, перебродив во мне, опьяненный рвался через глотку наружу.
Потом был еще пешеходный мост, по которому мне пришлось пройти, чтобы попасть на другую сторону трассы. Там, на другой стороне, было нечто похожее на небольшой автомобильный рынок под открытым небом, одно из тех мест, где вам никогда не скажут, чью машину вы, собственно, покупаете. Вокруг стояли кавказцы, перебирая в руках четки и пачки денег. Они весьма удивились, когда странного вида бродяга с горящим взглядом, издав хриплый торжествующий вопль, бросился к дорожному знаку «Москва» и обнял его. Дошел.
Москва!
Первое, что я сделал, – отыскал огромную роскошную ванну и огромную роскошную кровать по соседству. Я поселился в большом номере в гостинице у Красной площади, пил чай на Тверской, любовался газонами с цветочными клумбами, появившимися в Москве этим летом. Потом я отправился в Третьяковскую галерею. Не могу вспомнить случая, чтобы я с такой жадностью всматривался в картины. Словно крестьянин, первый раз оказавшийся во дворце. Крамской – автопортрет в образе молодого денди. Портрет молодой женщины его же работы, белое платье, вспыхивающее на темном фоне58. Стоя у картины, я боковым зрением заметил, как наблюдавшие за мной смотрительницы сбились в стайку.
Когда я вернулся в «Россию», кремлевская звезда уже сияла рубиновым светом над холодным блеклым октябрьским днем. Я позвонил Александру, его телефон мне дали берлинские друзья, тот без долгих разговоров сразу спросил, в чем я нуждаюсь:
– Во-первых, машину с водителем, да? Приличный отель. Кого-нибудь, кто тебе покажет город. Что еще? Больше ничего? Тогда увидимся вечером.
Теперь обо мне заботилась его секретарша. К вечеру человек, добиравшийся до Москвы пешком, превратился в человека, которого у подъезда гостиницы всегда ожидал роскошный автомобиль. Водитель Игорь выходил, любезно распахивал правую заднюю дверцу, а в салоне уже находилась Наталья; пока дверца плавно закрывалась и запах новой кожаной обивки смешивался с ароматом Натальиных духов, не обещавшим ничего, поскольку все и так уже было, Наталья спрашивала:
– Как у Вас дела? Все в порядке? Куда теперь?
Я переехал в другую гостиницу. Здание у Красной площади было переполнено шумными туристическими группами из Ипсвича59, поэтому я перебрался в «Украину», а по пути мы купили мне костюм.
«Украина» была одной из башен, которые Сталин распорядился построить в центре Москвы. Сталинский вариант Лас-Вегаса. Мне хотелось побыть одному, и я отпустил Наталью с водителем. Я лежал, вытянувшись на кровати, передо мной один за другим возникали образы. Я только теперь по-настоящему переживал многое из того, что со мной случилось. Не стану утверждать, что ничего не боюсь, но в пути я действительно не испытывал страха. Зато теперь конвульсии, едва ощутимые и несколько сильных, сотрясали меня. Это было неосознанно, почти на животном уровне. Теплая, красная как смородиновый сок, кровь пульсировала в пальцах, цветные блики вспыхивали на внутренней стороне век; я позволил им играть и сверкать надо мной, пока все не исчезло, медленно угасая с каждым выдохом. Когда я выдохнул все, выдохлось и лето.
В какой-то момент мое внимание привлекла к себе люстра – это был чашеобразный, открытый сверху плафон, и я задумался, почему в нем горит всего одна лампочка. Экономия? Я заметил тень: что-то похожее на коробочку находилось в плафоне и слабо, но отчетливо освещалось единственной лампочкой.
Я подумал, что это следует все-таки проверить, приставить лестницу, подняться наверх и рассмотреть вблизи эту странную коробочку. Я не просто думал, я говорил вслух: я привык разговаривать сам с собой за долгие дни одиночества. Когда я снова оказывался среди людей, мне порой приходилось даже сдерживать себя, но сейчас я был один в комнате, и ничто не мешало мне беседовать с самим собой о висевшей надо мной люстре.
В дверь постучали. Я оделся и открыл. Мужчина в синей униформе с инструментом и стремянкой стоял за порогом.
– Вы ко мне?
– Так у вас же проблемы со светом!
Он усмехнулся, прошел мимо меня, установил лестницу, поднялся по ней, занялся ремонтом, а после того, как он удалился и я снова лег на кровать, странной коробочки в плафоне уже не оказалось. Я рассказал об этом Александру.
– Ну конечно, – ответил он, – они по-прежнему используют старые устройства. Все серьезные вещи я обсуждаю в парке или в лесу.
Постепенно мне стали ясны размеры его богатства. Любимый автомобиль Александра имел номерной знак с правительственным флажком, что позволило нашему водителю на полной скорости мчаться по центральной полосе многорядных московских улиц, когда движение застопорилось. Все машины по обе стороны стояли и должны были смириться со штилем, только мы на всех парусах летели дальше. Я, естественно, был в восторге. Порой мы неслись по центральной полосе просто потому, что нам так хотелось.
Во всех прочих делах шикарная машина также служил пропуском. Мы посещали клубы и светские вечера, и стоило нам куда-нибудь подъехать, как двери тут же распахивались.
Однажды мы отправились в один изысканный старый отель, где должна была состояться встреча с двумя важными господами. Они, как объяснил Александр по мобильному телефону, который протянул мне водитель Игорь, выразили желание со мной познакомиться и даже нашли на это немного свободного времени. Оба были представлены мне только по имени, и эта неформальность намекала на то, что фамилии лучше не упоминать. Разговор пошел о больших деньгах и о большой политике. Один из них, коренастый, наклонившись вперед, начал издалека, подробно обрисовав картину интересов и стратегий великих держав, различные сценарии недалекого будущего, устрашающие и не очень. При этом особая роль отводилась Китаю, Америке, Германии, Ближнему Востоку и, конечно, России. Другой – утонченный человек с азиатскими чертами лица – курил и молчал. Иногда мне казалось, что он за мной наблюдает, но потом снова становилось ясно, что его воображение занимают бесконечно далекие вещи или даже просто кольца дыма, которые он выдыхает в поток света, струящегося из высокого окна. Ораторствовавший мужчина называл себя настоящим русским; когда он на мгновение умолк, я спросил, понимает ли он, что беседует с человеком, который просто дошел пешком до Москвы – и больше ничего. Он махнул рукой и продолжил свою речь. Внезапно он остановился, посмотрел на меня и спросил, верю ли в бога. Мой ответ, похоже, его удовлетворил, во всяком случае, он сказал, что если бы я ответил иначе, он бы немедленно встал и ушел. Должен сказать, что я так до конца и не понял, чего они от меня хотели и что я мог для них сделать. Я понял только одно: я нахожусь в зоне сейсмической активности в момент тектонических сдвигов, здесь все происходит стремительнее, чем где бы то ни было, и почти непредсказуемо.
По дороге в Москву, я, чуть живой от усталости, обошел Переделкино стороной. Но в свой последний московский день я все-таки отправился туда на машине. Дом Пастернака был открыт для посетителей. Здесь были подлинные вещи, книги. Удивительный маленький аппарат эпохи первых советских телевизоров, экран выглядел как гипертрофированная долька шоколада, а перед ним на некотором расстоянии была установлена огромная линза, казалось, что это монокль, сделанный по заказу циклопа. На одной фотографии Пастернак был запечатлен в тот момент, когда пришло известие о присуждении ему Нобелевской премии: он держит небольшой бокал, что-то говорит, смотрит вдаль. Рядом с ним сидит жена его расстрелянного друга, она рада, все за столом рады и счастливы60. Пастернак был смелее, чем большинство современников, и все-таки ему удалось сохранить жизнь. И даже стать обеспеченным и, если угодно, неплохо устроенным писателем.
Я вошел в его кабинет на втором этаже. Здесь стояла «История немецкой литературы», Гейдельберг, 1955-й год, – под конец он читал уже только на немецком и на английском. И стихи. То, в котором он описал собственную смерть61. Еще «Марбург» – там он когда-то учился, совсем в другой жизни. Марбург. Что-то вспыхнуло в моем сознании: я увидел те же остроконечные крыши, сады, террасы, спящие фахверки. Кривые переулки, некогда мне хорошо знакомые, старые профессорские дома на холмах – полная противоположность непомерно широкому евразийскому дивану с его бескрайними равнинами, завитками и кисточками62. Зачем я оказался в этом доме? Чтобы вспомнить, откуда я родом. Комната была волшебно освещена: солнечный свет лился сквозь многочисленные окна, ложился на пол. Янтарный свет на полу.
Я вышел из этой комнаты и из этого дома, закрыл за собой дверь, направился по тропинке через сад, мимо астр и опавшей листвы, к машине. Наталья улыбнулась и спросила:
– Куда теперь?
Благодарности
По пути в Москву я встречал ангелов-хранителей. Имена некоторых упомянуты в этой книге. Мой низкий поклон им за бесценную помощь. Кроме того, я выражаю благодарность Александру Фесту и Гуннару Шмидту за беседы, в ходе который вызревал мой замысел. Кинопродюссеру Джимми Геруму за прекрасный совет. Петеру Эдуарду Майеру (Мюнхен) за превосходные сапоги. Фотографу Детлефу Штайнбергу за отличные карты. Габриеле Кляйнер (Берлин), Хайке Забель (Дрезден), Хельмуту Харнайту, а также историкам Х.-Д. Энцбергу и Рудольфу А. Марку за их советы. Графу Леопольду Роткирху за рассказ о его отце и о Винногоре. Минскому Гете-институту и московскому ПЕН-клубу за их содействие. И, наконец, я благодарю газету «Die Welt» за безграничное терпение, проявленное по отношению ко мне.
Послесловие переводчиков Вольфганг Бюшер. Паломничество в страну Востока
«Однажды ночью, когда лето было в самом разгаре, я закрыл за собой дверь и отправился в путь: прямо на восток, насколько это было возможно». С такой фразы мог бы начаться роман, написанный и сто, и двести, и, с некоторыми стилистическими поправками, пятьсот лет назад. Книга «Берлин – Москва. Пешее путешествие» немецкого журналиста и писателя Вольфганга Бюшера была опубликована в 2003 году, спустя два года после того, как он совершил восьмидесятидвухдневный переход от Берлина до Москвы, преодолев в общей сложности около двух тысяч километров. Вопрос «зачем», чрезвычайно докучавший автору во время его пути, пожалуй, лучше не задавать и сейчас. Коротко на него ответить невозможно, а все ключи к объяснению даны в самой книге. Факт остается фактом. Преуспевающий журналист, вполне устроенный житель благополучной Германии, взрослый семейный человек, вдруг ясно осознал, что усидчивость есть «грех против Духа Святого» и отправился из Берлина в Москву. Пешком. Через Германию, Польшу, Белоруссию и добрую часть России.
Образ Путника в мировой литературе воспет не единожды, только вот примеры на ум приходят все больше исторические: пилигримы, поэты, странствующие дервиши, очарованные странники, бродяги. Люди XXI века не ходят: он летят в самолетах, едут в скоростных поездах и автомобилях, реже – плывут по морю. На своих двоих преодолевают пространство разве что искатели приключений и безнадежные романтики. Редкий тип. Но именно к нему принадлежит Вольфганг Бюшер, не побоявшийся закрыть за собой дверь, переступить порог и стать Путником, человеком, по мнению всех религий, наиболее уязвимым и потому находящимся вне привычных обрядовых рамок и законов.
Когда путешествующий взирает на землю не с высоты 10 000 км и не из окна надежной машины, а лишь с высоты своего роста, не защищенный ничем, кроме подобранной на лесной тропе суковатой палки, тогда и опасности, подстерегающие его в дороге, ничем не отличаются от тех, с которыми сотни и тысячи лет назад сталкивались одинокие путники. Лихие люди, дикие звери и призраки. И того, и другого, и третьего на пути Вольфганга Бюшера было в избытке. Невероятная открытость, а порой и благая наивность избавляли путешественника от многих реальных опасностей – зачастую только потому, что он их не замечал – и более осведомленный в тогдашней провинциальной жизни читатель будет то и дело всплескивать руками, поражаясь везению героя. Другое дело – опасности мнимые, создаваемые воображением, и тут нельзя не подивиться тому, как мало видение современного человека отличается от средневекового или даже доисторического. Глазастая кошка, способная обнаружить в закрытом рюкзаке бутылку водки, невидимый снайпер, притаившийся в заброшенной деревне, серые волки (едва ли не оборотни), вереницей идущие вдоль трассы М1, апокалиптические предсказания и таинственные сновидения, даже невыносимый запах копченой рыбы – все это тревожит, искушает и занимает мысли путника гораздо больше, чем реальные проблемы, с которыми он постоянно сталкивается.
Что касается призраков, то один из них, «совершенно потерянный среди далей, самый потерянный из всех», точно не был опасен, скорее он играл роль заботливого ангела-хранителя. Дед Вольфганга Бюшера, погибший во Вторую мировую, бесследно сгинул где-то среди бесконечных русских полей и лесов: «Ни камня, ни места, ни имени – ничего».
Он сопровождал автора от Зееловских высот до можайской Долины Смерти. И здесь, на самых подступах к Москве, немец Вольфганг Бюшер, попросил пятерых русских солдат, огромные бетонные фигуры которых темнели в тумане, возвышаясь на странных постаментах-котурнах, «позаботиться» о его собственном «мертвом солдате». Ни показного покаяния, ни тем более, кощунства в этой просьбе не было, – лишь стремление обрести мир и покой. Не для себя, для своего убитого деда, поглощенного этой бескрайней и бездонной землей.
Призраки Войны, отнюдь не только родственные и сочувствующие, окружали Вольфганга Бюшера на протяжении всего пути, да и как могло быть иначе, ведь он отправился в поход «на Москву» буквально по следам Наполеона и армий «Центр»! Однако война в его повествовании – всегда лишь фон, на котором ярко высвечиваются судьбы отдельных людей. Авторское отношение к мировой катастрофе выражено в трех вставных новеллах, и все они – о любви. Умение любить и поддерживать дружбу, не взирая на цвет мундира, политические убеждения и вероисповедание, – единственный способ, по мнению автора, сохранить человеческое достоинство в страшные времена. Однако немец, который, шагая по белоруской и русской земле, рассуждает о любви и терпимости и, как нарочно, выбирает примеры, где терпимость и любовь проявляли именно немцы, рискует, в лучшем случае, быть не понятым. Сакраментальная фраза «Ты на партизанской земле!» была адресована Бюшеру в одном белорусском поселке, но на разные лады ее повторяли ему на протяжении почти всего пути. Не забудь, иностранец, немец, по какой земле ты идешь с рюкзаком за плечами и записной книжкой в руке. Но он и не забывал.
Достаточно внимательно прочитать тот пассаж в главе «Польский дзен», где говорится о «мерно гудящем механизме немецкой памяти». За каждым намеком на «эсесовский ад» для немецкого читателя скрыт давно установленный ряд убийственных образов, ужасный смысл которых не подлежит обсуждению, оценке и, тем более, переоценке. Но ритуальный автоматизм немецкого покаяния не удовлетворяет автора, именно поэтому он, когда все устремляется на запад, совершает свое паломничество на восток. В хаосе вселенской катастрофы Вольфганг Бюшер ищет обнадеживающие свидетельства веры и любви, будь это любовь польской графини, немецкого гауптмана или русского партизана.
То, какими Вольфганг Бюшер увидел Польшу, Белоруссию и Россию в 2001 году, вряд ли приведет в восторг жителей этих государств. Взгляд чужака подобен взгляду нежданного гостя, заставшего хозяйку врасплох в неприбранной квартире: и неприятно, и раздражает. Следует отметить, что автор изо всех сил старается сохранить объективность, почти стоически перенося неустроенность провинциального быта: нервные срывы, переходящие в сарказм и патетически-обвинительные восклицания, как и у всякого нормального человека, случались, но кто может его в этом обвинить!
Удивительно другое. То, что человек, воспитанный на немецкой любви к порядку и дисциплине, впадающий в «протестантский гнев» при виде неприбранных улиц и неустроенных людей, серьезно замечающий, что «у всех русских – золотые зубы», то есть до мозга костей западный, прагматичный и очень далекий от реалий тогдашней российской жизни человек, искренне пытается понять суть того, что видит. Беседуя с людьми, посещая не только Чернобыльскую зону и Катынь, но и затерянное среди вяземских лесов святое место, о котором и специалисты-краеведы немного могут рассказать, Вольфганг Бюшер ищет ни много ни мало, как путь к всеобщему спасению, и находит его опять-таки в банальной и вечной истине: мир спасет любовь.
Незамысловатая песенка «Я люблю тебя» из репертуара какой-то поп-группы (ввиду оригинальности текста определить точное авторство не представляется возможным) преследует его на протяжении всей российской дороги. Вначале как навязчивая мелодия, потом как своеобразный рефрен, наконец, как мантра этого дао, пути. «Захватывающая монотонность» пешего путешествия передается и чисто стилистическими методами. Простые предложения, соединенные союзом «и», автор перебирает, как четки, составляя из них огромные периоды, тоже своего рода мантры, чтение которых потребует некоторых душевных усилий. Но читатель будет вознагражден, ибо преодолев вместе с автором все дорожные перипетии, все истинные и мнимые опасности, он ощутит в конце такое же пьянящее и ни с чем не сравнимое чувство: «Дошел!»
Примечания переводчиков
1 Елена Вайгель (1900–1971) – немецкая актриса, жена драматурга Бертольда Брехта, первая исполнительница заглавной роли в его пьесе «Мамаша Кураж и ее дети». В 2000 году как раз отмечалось столетие со дня рождения актрисы.
2 Курт Тухольский в своем эссе 1929 года «Никогда в одиночестве» писал: «Об одной стороне судьбы пролетариев всех стран никогда не упоминают, а именно, о трагедии, состоящей в том, что пролетарий никогда не бывает один. Его жизнь такова: он появляется на свет в больнице в окружении многих стонущих рожениц или в комнате, где его тут же плотно окружает не просто родная семья, но в придачу и те, кому сдается угол на ночлег; так пролетарий взрослеет, и это еще хорошая семья, если каждый имеет собственную кровать; но все, кто так живет, постоянно проживают жизни других и никогда не бывают в одиночестве».
3 «Чертова гора» (нем. Teufelsberg) – холм в западной части немецкой столицы высотой 114,7 м над уровнем моря, возведенный из руин зданий, разрушенных в ходе сражения за Берлин. Во время холодной войны на его вершине американцами была построена прослушивающая станция с характерными куполами.
4 Лу Рид (род. в 1942) – американский рок-музыкант.
5 Мартин Вальзер (род. в 1927) – немецкий писатель.
6 Аллюзия на известную песню Пита Сигера «Where have all the flowers gone?», написанную в 55-м году. Впоследствии ее часто исполняла Марлен Дитрих.
7 Т. е. Гитлер, который формально был женихом Евы Браун, но, по-видимому, считал себя «женихом» Германии.
8 Одербрух – немецкие и польские земли в низовьях Одера.
9 Одерланд – район в федеральной земле Бранденбург.
10 «Марклин» (нем. Märklin) – известный немецкий производитель игрушечных железных дорог.
11 Эрнст Вихерт (1887–1950) – немецкий писатель, сюжет многих его романов развивается в Восточной Пруссии.
12 Остельбия – немецкие земли к востоку от реки Эльбы.
13 Фридрих II (1712–1786) – кронпринц, а впоследствии легендарный король Пруссии, еще при жизни прозванный Великим.
Воспитание, полученное Фридрихом при дворе своего отца, «короля-солдата» Фридриха Вильгельма I, было очень суровым. В 1730-м году юный кронпринц вместе со своим другом лейтенантом Гансом Германом фон Катте (1704–1730) предпринял неудачную попытку бегства в Англию, что по прусским законам приравнивалось к дезертирству. Фон Катте был казнен на глазах у Фридриха, а сам кронпринц в качестве наказания шесть недель провел в кюстринской крепости и затем в течение двух лет был лишен права покидать Кюстрин.
14 Болеслав I Храбрый (967–1025) – польский князь, а впоследствии и король, объединитель польских земель, представитель династии Пястов.
15 Познань – название региона и города в Польше.
16 Автор здесь приводит дословную цитату из книги Фридриха Ницше «Сумерки идолов» (раздел «Изречения и стрелы», афоризм 34). Вопрос о «святости» Ницше традиционен для литературы, посвященной этому философу. Сам он, впрочем, замечал: «Я ужасно боюсь, чтобы меня не объявили когда-нибудь святым». («Ecce Homo», раздел «Почему я являюсь роком», 1, пер. Ю. М. Антоновского).
17 Первая строка из «Оды к молодости» Адама Мицкевича в переводе Андрея Колтоновского.
18 На картине, разумеется, изображено бегство Наполеона из России. Герой же повествования стремится туда, куда в свое время направлялась французская армия, то есть в Москву.
19 Слова народной колыбельной, которые Брамс положил на музыку. Обычно по-русски колыбельную Брамса поют со следующим текстом:
Тихий сумрак ночной Всех зовёт на покой, И тебе спать пора, Мой малыш, до утра.Учитывая контекст, мы сочли необходимым привести дословный перевод немецкого текста.
20 Артур Грейзер (1897–1946) – немецкий наместник и гауляйтер Познани.
21 Вильгельм Кейтель (1882–1946) – начальник штаба Верховного главнокомандования вооруженными силами Германии, фельдмаршал. Подписал акт о капитуляции Германии во Второй мировой войне. Казнен в Нюрнберге как военный преступник.
22 Клементина Манковская (ум. в 2003) – польская графиня, во время Второй мировой войны была одновременно агентом немецкого абвера и польского Сопротивления. Книга ее воспоминаний была опубликована во Франции, Германии и Польше: C. Mankowska. Espionne malgré moi. Editions du Rocher, 1994. Klementyna Mankowska. Odyssee einer Agentin. Dbm Media-Verlag, 1995. Klementyna Mańkowska. Moja misja wojenna. Kopia, 2003.
23 Эдвин фон Роткирх (1888–1980) – немецкий граф, к концу Второй мировой войны – генерал кавалерии.
24 Курт Людвиг фон Гинант (1876–1961) – немецкий барон, генерал кавалерии, командующий частями вермахта на оккупированных польских территориях.
25 Песня из альбома Мадонны «Ray of Light» (1998).
26 Вероятно, подготовка к расстрелу Розенштиля поляками была связана с событиями так называемой Бромбергской резни, произошедшими 3–4 сентября 1939 года.
27 В числе прочего Кеннеди сказал: «Это [Берлинская стена] – очень плохое решение, но оно в тысячу раз лучше, чем война».
28 Вунзидель – город в федеральной земле Бавария (Германия).
29 Кениггрец – город в Чехии.
30 То есть: «Многая лета, многая лета!» Вероятно, речь идет о эпизоде из фильма Жерара Ури «Большая прогулка» (1966), где главные роли исполнили Луи де Фюнес и Бурвиль.
31 Игрушечные барометры (нем. Wetterhäuschen) имеют вид домика с двумя дверными проемами. Главным движущим «механизмом» устройства является натянутый конский волос. Он сокращается или удлиняется при изменении влажности воздуха, вращая платформу с установленными на ней двумя фигурками. В результате погодных изменений в дверях домика появляются поочередно то одна, то другая фигурка.
32 «Однажды на диком западе» (1968) – вестерн Серджо Леоне с Клаудией Кардинале, Генри Фонда и Чарльзом Бронсоном в главных ролях и великолепным саунд-треком Эннио Мориконе. Фильм начинается с эпизода на станции, где под мерный скрип ветряка происходит исполненная драматизма завязка действия. В немецком прокате вестерн шел под названием «Spiel mir das Lied vom Tod» («Спой мне песню смерти»): одним из лейтмотивов картины является роковое соло на гармонике – «песня смерти», исполняемая героем Чарльза Бронсона. Своеобразный лейтмотив есть и в книге «Берлин-Москва» – это популярный русский хит лета 2001 года «Я люблю тебя», две трети пути преследующий путешественника. Отметим, что это все же не «песня смерти», а «песня любви», пусть и со столь оригинальным текстом, что приходится смиренно отказаться от попытки установить автора и исполнителя шлягера.
33 Альберто Джакометти (1901–1966) – швейцарский скульптор, в 1922 году переехавший в Париж.
34 Нойстрелиц – город в Восточной Германии.
35 Дзержиново, родовое имение семьи Дзержинских, родина Ф. Дзержинского, находится в 15 км от поселка Ивенец Воложинского района Минской области.
36 Лиссабонская Байха – центр португальской столицы, разрушенный землетрясением 1755 года.
37 Мангейм – немецкий город в федеральной земле Баден-Вюртемберг, знаменитый своей регулярной («квадратной») планировкой.
38 Оденвальд – горный массив и название местности в федеральной земле Гессен (Германия).
39 Ли Хазельвуд (1929–2007 гг.) – американский певец поп– и кантри-музыки, Нэнси Синатра (род. в 1940 г.), дочь Фрэнка Синатры, американская певица. Песню «Summerwine» («Летнее вино») они исполняли дуэтом.
40 Вильгельм Кубе (1887–1943) – руководитель немецкой оккупационной администрации в Белоруссии, убежденный антисемит и палач гражданского населения. Убит партизанкой Еленой Мазаник. Даже если Кубе и считал необходимым сохранить жизнь кому-то из минских евреев, то руководствовался при этом исключительно собственными интересами в политических интригах среди высшего германского руководства.
41 Из стихотворения «Наш родны край» белорусского поэта Якуба Коласа (1882–1956).
42 В Жодине был построен и до сих пор находится единственный на территории бывшего СССР завод по производству гигантских карьерных самосвалов «БелАЗ».
43 В оригинале автор использует текст детской рождественской песенки: «Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier, dann steht das Christkind vor der Tür», заменяя, довольно неожиданно, das Christkind (Младенца-Христа) на Мао.
44 Карл Май (1842–1912) – немецкий писатель, автор приключенческих романов-вестернов, в том числе знаменитой эпопеи «Виннету».
45 В финале чемпионата мира по футболу 1966 года сборная Англии на своем поле, при неистовой поддержке зрителей на трибунах стадиона «Уэмбли», победила сборную Германии со счетом 4–2. Спорный третий гол, в итоге принесший победу, был забит английским нападающим Джеффом Херстом и засчитан лишь благодаря твердой позиции бокового судьи из СССР Тофика Бахрамова.
46 Фильм Михаила Ромма «Тринадцать» (1936).
47 “Somebody put something in my drink” – песня панк-группы “Ramones” из альбома “Animal Boy” (1986).
48 Карл Шпитцвег (1808–1885) – немецкий художник, рисовавший в стиле бидермайер. Читателю, возможно, покажется не совсем очевидной связь между развлекающейся в ночном парке молодежью и немецким художником, создававшим идиллические картины. Но надо иметь в виду, что, с точки зрения автора, замена водки пивом в качестве основного алкогольного напитка является свидетельством если не прогресса общества, то, по крайней мере, наступления «нормальной» мещанской жизни. Имя Пастернака в этом контексте также должно вызывать ассоциацию с поэтическим восприятием повседневного быта.
49 Село Борис-Глеб расположено в Смоленской области, в 15 км от райцентра Сычевка и в 60 км к северу от города Вязьма. На некоторых картах это место обозначено как Борисоглебское. Там же находятся две церкви, описанные автором в главе «Лес чудес»: Борисоглебская (1771) и Нильская (1897).
50 Цитата из воспоминаний Молотова, собранных в книге Феликса Чуева «Сто сорок бесед с Молотовым», запись от 16.06.1977, где говорится о «банкетах наших небольших с Рузвельтом в Тегеране и Ялте».
51 Нил Янг (род. в 1945) – канадский рок-музыкант.
52 Вайблинг – небольшой населенный пункт в федеральной земле Бавария (Германия).
53 Гуджарат – штат на западе Индии.
54 Джеймс Дин (1931–1955) – американский актер, звезда Голливуда.
55 Цитата из поэмы Сергея Есенина «Анна Снегина» (1925).
56 Таким остроумным способом, по-видимому, завершаются поиски самого-самого «востока»: формально им оказывается именно гостиница «Восток» в городе Гагарине – это последняя остановка путника перед Московской областью, которая уже снова «запад». Для российского читателя, впрочем, ясно, что «Восток» – название космического корабля, доставившего Юрия Гагарина на околоземную орбиту.
57 Возможна аллюзия автора на стихотворение Марины Цветаевой из цикла «Плащ» (1918):
…А Королева-Колибри, Нахмурив бровки, – до зари Беседовала с Калиостро.Королева-Колибри – прозвище французской королевы Марии-Антуанетты (1755–1793).
58 Автор имеет в виду картину И. Н. Крамского «Лунная ночь» (1880).
59 Ипсвич – город в Восточной Англии с населением чуть более 100 тыс. человек.
60 Эта фотография находится в Доме-музее Б.Л. Пастернака в Переделкине. По правую руку от Пастернака сидит Нина Табидзе, жена грузинского поэта Тициана Табидзе, репрессированного в 1937-м году. Слева – Зинаида Николаевна Пастернак, его жена. Нина Табидзе приезжала в Переделкино на именины (24 октября) Зинаиды Николаевны, что случайно совпало с присуждением Пастернаку Нобелевской премии 23 октября 1958 г.
61 Очевидно, речь идет о стихотворении «Август» (1953).
62 В основе сложной ассоциации автора лежит аллюзия на сборник стихотворений «Западно-восточный диван» И. В. Гете и, кроме того, вполне реальный предмет: оттоманка из кабинета Пастернака. По легенде ее подарил таксист, потрясенный аскетизмом обстановки в доме поэта.



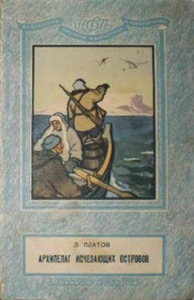

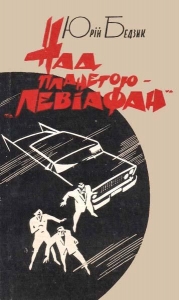
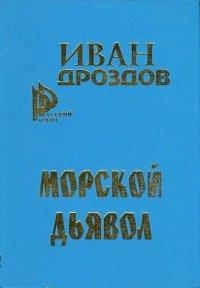

Комментарии к книге «Берлин – Москва. Пешее путешествие», Вольфганг Бюшер
Всего 0 комментариев