Его отец
Памяти тов. Энгеля и всех замученных.
«Гвозди б делать из этих людей.
Крепче б не было в мире гвоздей.»
Тихонов
I
Старик Виль с силой ударил кулаком по столу.
— Вздор! Говорю тебе, вздор. Меня на красивые слова не поймаешь.
Его сын поднялся, резко отодвигая стул, и ответил:
— Когда-нибудь, отец, ты поймешь, что ты не прав.
— Никогда! Поздно мне переучиваться. Я двадцать лет в партии и двадцать лет верен партии.
— А партия?
— Что, партия?
— Партия верна тебе?
— Твоему классу.
— Нашему классу? Верна?
— Партия делает все, что может. Партия действует осторожно. Партия не хочет рисковать жизнью страны.
— Чьей страны?
— Моей страны! Твоей страны тоже.
— Нет, отец, моей страны еще пока нет! Есть мой класс, работающий в стране, принадлежащей другим. Есть мои братья и мои угнетатели. Но моей страны...
— Нет? Ее никогда у тебя не будет. Никогда! Слышишь! Ты и все, которые идут рядом с тобой. Вы безумцы, глупцы, желающие перепрыгнуть через десятилетия. Вы...
— Мы — будущее, отец. Те, с кем ты — прошлое. И знаешь что, отец...
Он шагнул к старику и опустил свою молодую, сильную руку на его плечо.
— Знаешь что, отец, и ты, и тысячи других, таких же, как ты, уйдут от этого прошлого, уйдут и придут к нам. К будущему придут, отец!
Виль как будто впервые увидел своего сына. Он опустил глаза под уверенным взглядом глубоких серых глаз, пронизывавших его насквозь, видевших то, чего старый Виль не хотел показать никому на свете.
Да, он колебался! Он — старый боец партии — он, социал-демократ, знававший лучшие времена партийной жизни, сдавал в своей непоколебимой уверенности. Крепко уложенные в его седой голове тезисы и каноны, вбитые тысячами речей и тысячами резолюций, колебались под напором того страшного, того неумолимо бьющего в глаза, что дает жизнь и что называется — факты.
Но все-таки он верил в партию. Партия выйдет на дорогу. Партия не может не выйти. Партия должна выйти. И он, старый Виль, всегда деливший с ней радости побед и горе поражений, не может оставить ее в тот момент, когда ей особенно нужна поддержка таких крепких, таких настоящих, как он.
С ней, с партией. Вытаскивать ее, помогать ей, но ни в коем случае не толкать ее глубже в пропасть, ни в коем случае не идти к тем безумцам, которые опыт десятилетий ставят ни во что и, отшатываясь от отступающих, впадают в другую крайность, слишком зарываются вперед.
Но все-таки...
— Слушай, отец! Я знаю тебя, и ты поймешь, наконец, ты должен понять, что той партии, к которой ты причисляешь себя, давно уже нет. Партия, это — те, кто идет вперед, кто угадывает еще неясные и неоформленные стремления массы, воплощает их в конкретные лозунги. Раз оставшись позади, партия уже перестает быть партией.
Да, да, это его сын говорит! Его сын! Когда он был молод, у него тоже был такой голос и такие глаза, и такая железная уверенность в правоте своих слов. Да, да. Это его сын!
Он помнит, хорошо помнит тот день и час, когда в первый раз увидел в постели жены маленький красный комочек, отчаянно барахтавшийся и кричавший. У него дух захватило от нахлынувшего чувства, и он едва мог спросить:
— Сын?
— Сын, — ответили ему.
И в эту минуту он поклялся, что все лучшее, все бунтующее, что есть в нем, он без остатка передаст ему, своему сыну.
Он налег на книги. Он хотел, чтобы все знания, все понимание жизни его сын получил от него, от своего товарища и отца по крови и классу. Он радовался, что ребенок рос сильным и крепким, радовался, что мальчик жадно, как губка, впитывал в себя каждое слово, каждую новую мысль. Когда он подрос, Виль брал его с собой на собрания, и восьмилетний мальчик, сидя на плече отца, слушал ораторов, бросавших малопонятные, но как-то инстинктивно запоминавшиеся мысли.
Первый раз они расстались во время войны. Отец взял в руки винтовку, во славу родины ушел на далекий фронт и полные четыре года высидел в окопах под пулями и снарядами. А когда вернулся, то в исхудалом голодном тринадцатилетнем мальчике, едва узнал своего сына — своего Фреда!
И первый раз пошатнулся отец. Первый раз не нашел ответа на вопросы того, кто привык видеть в нем и учителя и друга. Первый раз сомнение в правоте своей и своей партии закралось в истрепанный долгими боями и кровавыми ужасами фронта мозг.
И понял старый Виль, что ничего больше он дать сыну не может, что где-то там, в хаосе битв, он растерял, растрепал, растратил всего себя и самое лучшее что было в нем — веру в партию!
И все чаще и чаще, с каждым годом, вычерчивая резкую грань, вырастала стена непонимания между ним и Фредом. Вначале мальчик, неудовлетворенный тем, что говорил отец, целыми часами сидел где-нибудь в углу, глубоко задумавшись, сам своими силами пытаясь распутать узлы противоречий. Потом он откуда-то принес новые слова и новые понятия. Сперва неуверенно, робко, как бы нащупывая себя, а потом все резче и тверже отстаивал он перед отцом правоту того, что открылось перед его юным умом, что волей к победе переполнило его сердце.
Старик-отец волновался, спорил, не уступал и как-то раз пошел на собрание этих «молокососов», с тайным намерением: выступить и разбить всех, кто будет молоть вздор. И в этот день он впервые увидел сына своего на трибуне, перед толпой таких же молодых, буйных, рвущихся к борьбе, как и сам оратор.
Увидел и почувствовал, что это он сам. Он, старый Виль! Это все лучшее и яркое, что еще есть в нем. Это то, что он передал своему сыну, это то, ради чего он двадцать лет носил в кармане билет партии.
II
Их расстреляли на рассвете. Теплое весеннее солнце робко выглянуло из-за края долины и, едва показав края своего диска, закуталось трауром туч.
Там, где кончаются последние убогие домишки городской окраины, лежали они. Правые руки с выпрямленными пальцами так и застыли в последнем приветственном жесте. Полуоткрытые губы словно еще бросали в утренний туман последний крик.
Солдаты стаскивали сапоги с одеревеневших ноги, тела мотались из стороны в сторону.
На груди одного алел значок КИМ-а, и стекавшая с лица струйка крови алой лентой обходила это препятствие. Их лица, изуродованные ударами прикладов и пулевыми отверстиями, были все-таки прекрасны той красотой молодости, которая не уступает даже смерти.
Никто не знал, в чем их вина. Ни прокурор военно-полевого суда, грозно требовавший смертной казни, ни судья, заранее знавший, какой приговор вынесет он, ни солдаты, послушные команде офицера и спустившие курки двадцати винтовок, чтобы двадцать свинцовых гвоздей вбить в молодые тела.
Там, где организовали они митинг протеста против приговора над своими старшими товарищами коммунистами, там была мирная полоса в мирной стране. Они имели право созвать такой митинг и они созвали его.
Но их схватили, бросили в тюрьму и через день после их ареста объявили район на военном положении. Они не испугались этого. Ну что же? Ведь они-то организовали митинг до военного положения. Не может приказ главнокомандующего войсками округа иметь обратную силу.
Но им доказали, что может. Перед самой смертью своей они лишний раз убедились в том, что там, где дело касается рабочих, для буржуазии всякие средства хороши, и всякие нормы теряют свое значение.
С ними разыграли гнусную комедию суда, перед которым они предстали избитые, окровавленные, измученные голодовкой. Они не могли стоять, и удары прикладов удерживали их от падения на землю. То, что из троих только один был в состоянии отвечать на вопросы и то с трудом, сплевывая кровавую слюну после каждой фразы, ставилось им в вину, как неуважение к судебной власти.
После суда им не дали даже возможности присесть на минутку. Их погнали уколами штыков и совершенно обессиленных подвели к краю вырытой за час до суда ямы.
И только тут, у края этой дыры, ведущей в вечность смерти, силы вернулись к ним. Они стояли, поддерживая друг друга, и вместе с щелканьем затворов сумрак утра прорезали их крики:
— Да здравствует КИМ! Да здравствует Социальная Рево...
Их было трое.
За ними были миллионы.
III
Старый Виль должен был выступать на митинге протеста. Когда он узнал об этом, то с гордостью сказал сыну:
— Ну, вот видишь, Фред, мы протестуем.
— Да?
Фред прищурил глаза.
— Да? А почему вы не протестовали раньше? Во главе округа и города стоят ваши люди. Где были они?
Виль рассердился. На этот раз он хотел верить в искренность своей партии. Ему необходимо было верить!
— Откуда мы могли знать? Все случилось так неожиданно...
— Так неожиданно, что ребята успели пережить в тюрьме семидневную голодовку.
— Но, откуда мы знали?
— Ты не знал этого. И этому я верю, потому что знаю тебя. Ты не знал. Но были люди — твои старые приятели — которые знали это.
— Неправда!
Старый Виль вспомнил свои лучшие времена, когда поднялся на трибуну. Он говорил горячо и убедительно. Он призывал партию снять с себя пятно позорного обвинения. Решительным протестом партия должна доказать, что она ни в чем не виновна перед расстрелянными.
И партия протестовала.
Партия протестовала против того, что такими расстрелами правительство дает в руки врагов орудие пропаганды. Правительство должно быть осторожным, правительство должно думать.
Старому Вилю хотелось более боевого тона. Более резкого протеста. Но его уговорили. Разве он хочет к трем могилам прибавить еще? Надо действовать благоразумно и спокойно.
И старый Виль еще раз поверил партии.
Когда он вернулся домой, то сын, не удержавшись от насмешки,, спросил:
— Протестовали?
Виль запнулся.
— Да,— неуверенно ответил он.
— Знаю. Просили правительство расстреливать осторожнее и вдумчивее. Эх, отец!
И, нахлобучив на брови кепку, он направился к двери.
— Ты куда, Фред?
Фред остановился, потом подошел к отцу и, взяв его руки в свои, сказал:
— Слушай, отец. Если что-нибудь случится, протестуй громче. Протестуй так, как должен протестовать мой отец...
— Фред, что ты...
Шаги Фреда четко разносило эхо пустынной улицы.
IV
Утром известие облетело рабочие кварталы города.
Тела расстрелянных выкопаны комсомольцами и принесены в здание комитета. Похороны состоятся в двенадцать дня.
А в десять утра мрачной угрозой на стенах домов запестрели свежие объявления, напоминавшие о том, что военное положение еще не снято и что всякого рода демонстрации, собрания и митинги, устраиваемые без разрешения командующего войсками округа, будут караться по законам военного времени. К одиннадцати группы рабочих стали стекаться к дому, где помещался комсомол. За пол-квартала их встретили заставы солдат. Дорогу преграждали штыки и суровые окрики:
— Дальше нельзя!
— Назад!
— Назад, вам говорят!
Местами происходили столкновения, но дело счастливо обходилось без стрельбы. К двенадцати положение выяснилось.
Арестовано двадцать человек, один главный зачинщик предан военно-полевому суду.
К часу узнали его имя!
Товарищ Фред!!!
Первое что сделал старик Виль — бросился в комитет партии.
— Товарищи!.. — задыхался он от волнения.
— Да, мы знаем... но...
— Но, что «но», что «но»? Надо действовать! Надо...
— К сожалению, товарищ, округ на военном положении и...
— Товарищи! Надо протестовать!
— Мы уже протестовали.
— Надо требовать! Надо организовать митинги, демонстрации.
— Чтобы расстреляли кого-нибудь из наших?
— Из наших...
Виль оперся о край стола. У него в глазах потемнело.
Из наших?!!
Да, да, теперь он все понял. Его сын и те трое были чужие. Партия, которую он считал партией своего класса, скинула их со счетов. За что? За их молодость? За их увлечения? За их ошибки? Нет, нет!
— Мой сын был прав, — сказал он и, вынув из кармана партийную книжку... бросил ее на стол.
— Возьмите!
— Товарищ Виль!..
— Гражданин секретарь?..
— Вы делаете глупость!
— Я ее исправляю!
Он шел шатаясь, натыкаясь на встречных, не видя никого и ничего.
Он не знал, что для него страшнее. Гибель сына или гибель самого себя. Провал. Тот черный жестокий провал, в котором очутился он — старый Виль.
Из наших!
Да, да. Вчера еще, будучи в рядах тех, кого он сегодня покинул, он позволял правительству расстрелять троих. Сегодня они позволяют расстрелять его сына.
Надо что-то сделать. Надо как-то помочь. Но как? как?
Улицы города кишели полицией и войсками. Ни о каком выступлении не могло быть и речи. Для коммунистов, да! Но не для тех, в чьих руках влияние и места в местном управлении и в правительстве центра. Они, те, с которыми он только-что говорил, могли бы многое сделать. Могли бы, но...
Из наших!
Сегодня расстреляют его сына!
V
Он не мог сказать, почему его потянуло в эту минуту к станку. Он не думал об этом. Он просто пошел туда, где его товарищи в шуме машин и грохоте железа плечо к плечу выковывали свое будущее, свое и своих детей.
Его сосед по станку сочувственно спросил:
— Зачем ты пришел, старина? Тебе трудно будет работать.
— Мне легче с вами.
И как-то странно согнув плечи, он отдался привычным ощущениям работы.
Первый не выдержал Стефан. Он вдруг бросил на пол какой-то инструмент, и его мощный голос прорвался сквозь шум:
— Товарищи! Нельзя так, нельзя!
И словно оборвалось что-то.
Один за другим, сперва медленно и неуверенно как-то, потом все большими и большими группами, останавливались станки. Кое-где приводные ремни еще бежали, жужжа в вышине корпуса, кое-где они уже свисали бессильные и ненужные.
Сталелитейный прекратил работу.
Рабочие высыпали в огромный двор, сжатый гигантскими корпусами. Старый Виль, подхваченный волной, что-то кричал, чего-то требовал. Потом вспомнил. Он — член партии. Он должен помочь в эту минуту. Он должен организовывать, действовать, он...
— Товарищ Виль!
— Господин секретарь?
— Вы делаете глупость.
— Я ее исправляю!
Да, сегодня он порвал с партией. Сегодня он — Виль — без партии, вне партии, не с партией.
Нет, неправда. Он никогда, ни на одну минуту не останется в стороне. Нет, он — старый партийный боец — будет сегодня на партийной баррикаде. Он сейчас докажет им это.
Расталкивая толпу, он протискался к тому углу двора, где с грузовика, превращенного в трибуну, оратор-коммунист говорил с рабочими.
Виль знал этого человека. Он работал в другом цехе, но на собраниях и митингах они не раз скрещивали шпаги.
Коммунист говорил просто и убедительно. Забастовка охватила все предприятия. Мы стоим перед стихийным порывом. Надо его немедленно организовать. Надо не дать совершиться четвертому расстрелу.
После него выступал социал-демократ от комитета. Он чувствовал, что победа на стороне противника, и тщетно искал глазами хоть одно лицо, говорившее о сочувствии его мысли. Он говорил — терпение! На всех лицах было написано — восстание!
И вдруг его взгляд упал на Виля. Виль всегда был их опорой на сталелитейном. Виль пользовался большим весом среди рабочих. Он еще ничего не знал о том, что произошло утром. И он, заканчивая свою речь, сказал:
— Товарищи, если вы не хотите послушать меня, послушайте старого Виля. Старый Виль скажет вам, с кем вы должны идти.
И старый Виль сказал. Окруженный страшной, напряженно взволнованной тишиной, поднялся он на трибуну. Тысячи глаз сосредоточились на нем. Тысячи сердец бились ожиданием.
— Товарищи! — сказал Виль. — Перед вами говорили два оратора. И последним говорил тот, чья партия запачкала свои руки в крови расстрелянных. Будете ли вы раздумывать с кем идти? Будете ли вы колебаться? Я знаю, что вы пойдете с нами...
Социал-демократ выпрямился и хотел что-то крикнуть.
— ...с нами, с коммунистами и...
Старик Виль больше ничего не сказал.
Как пощечина, как удар бича, из толпы прямо ему в лицо кто-то бросил крик:
— Виль! Где ты был, когда расстреливали моего сына?
VI
— Вы хорошо знаете военное дело, товарищ?
— Я был фельдфебелем на фронте. Думаю, что сумею справиться с ротой.
— Хорошо. Тогда слушайте.
Комиссар Главного Штаба рабочих отрядов развернул перед Вилем план. Положение ясно. Противник вышел из города, не приняв боя. Сейчас его силы сосредоточены здесь. Вот видите. Справа от них роща, слева — река, сзади — дорога в ближайший центр. Есть сведения, что помощь к ним вышла. Часов пять-шесть, и они, усилившись, ударят на город. Тогда все пойдет прахом. Надо помешать этому. Рабочие отряды города разделяются на три части. Большая останется в городе, две меньших выступят. Первая двинется в обход рощи, чтобы перерезать дорогу, ударить на войска противника с тыла. Вторая вот по этим тропинкам, продвинется к опушке рощи и там, на фланге противника, будет ждать. Атака должна быть одновременна. Начальство над второй частью поручают ему.
— Мне?!
Старик Виль смотрел радостно и растерянно..
— Да, вам.
— Но я?
— Вы только сегодня пришли к нам? Бросьте Виль! Слишком хорошо мы вас знаем. И так, вы со вторым отрядом проникаете в рощу и оказываетесь-на фланге противника.
— Мы вам даем самых отборных и надежных людей. Мы на вас надеемся.
— Спасибо.
VII
Тот, который так жестоко оскорбил Виля во время митинга, был в его отряде. Виль, зная его еще по фронту, теперь назначил своим заместителем.
Они шли рядом, молча, не глядя друг на друга. Виль прислушивался к звуку чужих шагов и в их ритме слышал:
— ... когда расстреливали моего сына, когда расстреливали моего сына.
Он не мог найти слов для ответа. Чем, чем может он доказать, что это не так. Чем может он убедить остальных, что мысль о сыне была только толчком, тем толчком, который решительно и раз навсегда бросил его к массе. И сейчас, разве не занят он одной, только одной мыслью о данном ему поручении. Правда, сердце сжимается ощущением тяжелой пустоты, невыносимой боли, тоски о сыне. Ведь он человек. Он так любил Фреда!
Это не мешает ему помнить о своем деле. Быть внимательным и настороженным, ловить каждый шум, каждый шорох, следить за тем, чтобы никто не нарушил тишины, той тишины, которая была молчаливым залогом победы. И разве ради сына идет он сейчас. Разве личная месть говорит в нем? Нет, нет! Он идет за класс, ради класса, с классом. Его сосед не прав. И все-таки...
— Виль, где ты был, когда расстреливали моего сына?
Наконец, сквозь чащу деревьев, мелькнули огоньки костров.
Враг близко!
Виль остановил отряд. Тихо но решительно отдавал распоряжения:
— Рассыпаться!
Странно медленно и бесшумно развернулась цепь.
— Три свистка и выстрел. Тогда идите в атаку. Ни звука до тех пор.
Потом к своему заместителю:
— Идем!
Они пошли рядом, осторожно раздвигая ветки и стараясь шуметь как можно меньше. Огни костров придвигались. Четко вырисовывались силуэты солдат.
Наконец, совсем, совсем близко взметнулся язык пламени. И оба разведчика замерли, слившись. с землей. Несколько человек образовали у костра полукруг. В центре этого полукруга, на стуле, сидел толстый офицер, а передним, окровавленный и избитый, стоял... Виль вздрогнул.
...стоял Фред!
Сердце второго билось как молот о наковальню.
— Итак, — говорил толстый офицер, — вы не желаете отвечать на вопрос? Не желаете защищаться? Отлично, вы облегчаете суду дело.
Он встал. Те, кто были вокруг, вытянулись и взяли под козырек.
— На основании закона о военном положении... Как залп винтовок в сознание Виля ударило последнее, холодное слово:
— ...к расстрелу!
Второй схватил его за руку и крепко сжал ее.
— Мы можем спасти Фреда, — прошептал он.
— Как? — Виль повернул голову.
— Отряд!..Атака!.. Дай сигнал!
— Ты с ума сошел!.. Мы погубим дело...
Второй приподнялся и изумленно посмотрел на старика.
— Но...
— Тише, молчи!
Видно было, что те торопились. Фреда отвели чуть-чуть в сторону, поставили к стволу дерева и против него выстроили шесть человек.
— Слушай, — шепнул Виль, — иди к отряду и скажи, что сейчас будет залп, но чтобы они не трогались.
— Виль, ты с ума сошел! Я не.,.
— Иди!.. Я приказываю тебе!..
Второй уполз.
Фред едва держался на ногах. Кровь стекала с его изувеченного лица. Какой-то солдат пинком ноги поддержал его равновесие. Офицер подошел к солдатам и поднял платок.
Виль схватил винтовку, взял офицера на мушку.
Еще секунда!
Офицер взмахнул рукой.
Виль вздрогнул.
Фред что-то крикнул, но его крик слился с залпом. Он медленно, словно нехотя опустился на землю и лежал вздрагивая всем телом, как будто рыдая.
Офицер спрятал платок в карман, повернулся на каблуках и...
Сзади, оттуда, откуда враги ждали подкрепления, свинцовой чертой, преграждая дорогу, лег ружейный залп.
Виль вскочил.
Он три раза свистнул и бросился вперед. Его пуля нашла офицера, его штык докончил его.
Виль открыл глаза и попробовал приподняться. Тот, кого он назначил своим заместителем, наклонился над ним.
— Ты ранен, старина. Но это не опасно. Ты...
И потом.
— Прости меня, Виль, я был неправ.
Москва. Июнь 7-го года.
Рота капитана Святцева
I
Когда за плечами двадцать один год, а на плечах капитанские погоны, то чувствуешь себя здорово хорошо.
Подумайте — только двадцать один год и уже капитан! Не штабс-капитан — нет. Не четыре звездочки на одной полоске, а просто одна полоска без всяких звездочек. Ка-пи-тан! Ка-пи-тан Святцев.
Страшно шикарно. А?
Когда знакомишься с кем-нибудь (кто-нибудь, это — конечно, молодая и интересная женщина) и щелкая шпорами представляешься: капитан Святцев, это звучит как... ну одним словом — шикарно!
А сколько товарищей, одновременно с ним примерявших первые погоны в дортуаре юнкерского училища, так и остались прапорами. А почему? Храбрости не хватило? Нет — были такие молодцы, что просто прелесть! Не в храбрости дело. Ручки пачкать боялись. К солдату подходили как-то виновато, и «ты» у них все равно как «вы» выходило. Ну и застряли.
А он — Святцев—сразу постиг всю несложную механику военного дела: «не рассуждать!» и «в морду!»
«В морду!» у него особенно хорошо выходило. Звонко, хлестко, а главное обидно. Так обидно, что солдаты, которых он бил, долго плакали потом, где-нибудь в темном углу окопа.
Вот за это-то он и носит погоны капитана, так идущие к его молодому, почти безусому лицу.
Капитан 10-го сибирского стрелкового полка Святцев.
А впрочем, виноват. 10-го сибирского стрелкового — это было. А теперь иначе. 2-го сводного добровольческого полка капитан Святцев.
И это еще шикарнее. Добро-воль-ческого! Такой, знаете ли, ореол борца за освобождение поруганной родины, такое гордое сознание своего превосходства над всеми крикунами и писаками, которые прячутся за спиной великой армии добровольцев. Правда, ведь это еще шикарнее?
Полк сформировался недавно. Святцев всего месяц как прибыл из Бессарабии, где он служил переводчиком у какого-то румынского колонеля. Всего месяц. И за этот месяц он успел заслужить такое доверие, такое доверие, что...
Ну, одним словом, вчера сам Гришин-Алмазов — диктатор Одессы позвал к себе молодого капитана и сказал:
— Я имею самые лестные отзывы о вас, капитан.
— Рад слышать, ваше превосходительство, — вытянулся Святцев.
— Да, самые лестные. Мм... так вот. Я могу на вас положиться, я думаю?
— Рад служить, ваше превосходительство.
— Так, так. Ну вот... да... что это я, — генерал много кутил последнее время, и память стала изменять ему. — А вот. Надо поехать с бумагами к его превосходительству генералу Деникину и... Ну, одним словом, серьезное поручение, понимаете. Я позабочусь о том, чтобы вас оставили там и поручили ответственное командование. Да..
— Премного обязан, ваше превосходительство.
— Да. Документы и все поручения получите у моего адъютанта. Помните. Кругом кишат их агенты. При встречах осторожно. Ну, да я полагаю...
Удивительно четко поворачивается этот Святцев. И так ритмично идет. Генерал с удовольствием смотрит ему вслед.
— Одну минутку, капитан!
— Слушаю, ваше превосходительство.
— Вы какое училище окончили?
— Павловское военное, ваше превосходительство.
— Можете идти.
II
Двадцать четыре года это очень немного.
Но когда в них десять лет, целых десять лет напряженной борьбы, трудной и ответственной работы в подполье, под вечной угрозой ареста, ссылки, смерти, может быть, тогда двадцать четыре года — это большая жизнь.
С детства в душных, отравленных пылью свинца комнатах типографии, с детства под непосильной тяжестью работы. Работа с раннего утра до поздней ночи. С детства вокруг брань и побои. С детства зверская нужда, железными пальцами рыданий сдавливающая горло.
И только одно светлое пятно на серых днях его прошлого, один образ, раз навсегда оставшийся в памяти, врезавшийся в нее глубоко, глубоко. Незабываемый образ.
Наборщик Лядов. Высокий худой, с ввалившейся грудью, то и дело разрываемой припадками кашля, с усталыми, глубоко запавшими глазами, и такими ласковыми пальцами покрытых свинцовой пылью рук.
Вспомнишь и так вот и представишь себе его руку на взъерошенных детских волосах и ласковый голос:
— Что, Петька, трудно?
Всегда плакать хотелось и смеяться вместе, когда он говорил так.
Каморку его вспоминаешь, в которую взял он мальчишку, когда отец с перепоя нырнул под какой-то барский автомобиль, и в которой впервые услышал Петька странные и красивые слова о свободе, о борьбе и о том, чему он теперь отдал всего себя — о партии.
Здесь и началось. Вначале, когда к Лядову приходили по вечерам товарищи, Петьку отсылали:
— Пойди-ка, посиди на кухне немного.
Потом отсылать перестали. Потом дали какое-то пустяковое поручение, потом еще и еще, и, наконец, маленький Петька стал товарищем Петром, членом РСДРП и самым ярым, непримиримым большевиком.
Самое тяжелое, пожалуй — это годы военной службы. Досрочный призыв по случаю того, что немцы намяли русской армии шею в Карпатах, и вот товарищ Петр — рядовой учебной команды, потом унтер-офицер на фронте. Хорошо, что недолго — год только. Пришел семнадцатый и разметал старые полки для того, чтобы на их месте строить новые, красные отряды, волею рабочих и крестьян.
И вот сегодня он, Петр, сидит в маленькой комнатке на пятом этаже большого каменного дома и внимательно выслушивает слова боевого приказа.
— Вы ведь знаете английский язык, товарищ?
— Да. Я вместе с Лядовым был три года в Америке.
— Ну так вот. Мы достали вам прекрасные документы. Вы, Джон Хьюг, лейтенант английской службы. До завтрашнего утра у вас есть время изучить свой паспорт и свои удостоверения. Едете с секретным поручением в штаб Добрармии. Определенных заданий не даем. Основное: получить максимум сведений, принести максимум вреда, наладить связь с нашими частями. Сегодня вечером займите номер в самой лучшей гостинице. Пароход отходит завтра утром. Все в порядке. Есть виза—пропуск.
Несколько минут в комнате было тихо. Как-то-не хотелось сразу разорвать напряженное молчание. Потом лейтенант английской службы Джон Хьюг поднялся, пожал руку человека, сидевшего за столом.
— Прощайте, товарищ.
— Прощайте... В коридоре осторожно. Не ударьтесь о шкаф.
III
Пароход переполнен пассажирами. Даже в столовой первого класса заняты все диваны. Двое генералов поместились в каюте капитана. Помощник залучил к себе двух шансонеток, едущих в штаб Добрармии развлекать героев.
Остальные по пять, по шесть жались в маленьких, тесных каютах.
Капитан мечется из стороны в сторону, бранясь и крича изо всех сил своего, простуженного вечными ветрами, горла, стараясь втиснуть всех имеющих билеты.
А тут еще этот англичанин. Непременно один. Секретное поручение. И эта удручающая бумажка с иностранной печатью и подписями каких-то знатных сэров.
— Не могу, не могу, — надрывается капитан.
— Мой ошень важная дел. Мой необходим. Мой ходит жалится консул.
— А черт бы побрал тебя, английская образина. Что с тобой делать?
— Виноват. Имею честь говорить с капитаном парохода?
— А что...
И вдруг капитан умолкает и застывает с открытым ртом. Рядом с англичанином стоит... тьфу ты, черт. Или от шума и возни в глазах двоится. Да ведь это тот же англичанин, только в форме русского офицера. Капитан свирепо трет свои глаза огромными кулаками. Нет, не помогает. Два одинаковых человека, только в разных костюмах. И тот второй, в русской форме, тоже требует отдельной каюты и сует в нос бумаги за подписью самого Гришина-Алмазова.
— Да не могу, господа. Не могу.
И вдруг соображает.
— Слушайте. Вы, сэр, и вы, господин офицер. Оба вы по секретному делу. Я вам дам одну каюту на двоих. Идет?
Офицер и англичанин смотрят друг на друга, потом переводят глаза на свои отражения в большом стенном зеркале, потом опять смотрят друг на друга и удивленно ширят глаза.
— Извините, сэр... сэр...
— Джон Хьюг, сэр.
— Сэр Джон Хьюг. Я поражен. Я...
— Странна... ошен... мой... тоже... как две куска вода.
— Да, да. Как две капли воды. Вот именно.
Капитан облегченно улыбается.
— Ну вот. Сам бог велел вместе. Двойники. Первый раз в жизни вижу такое сходство.
Офицер и англичанин согласны занять одну каюту.
IV
Англичанин говорил мало. Святцев плохо владел английским, и поэтому в каюте долгое время царило тоскливое молчание. Но скоро выяснилось, что если сэр Джон говорит плохо, то понимает русский язык прилично, и Святцев, к числу достоинств которого не принадлежало уменье молчать, принялся хвастаться перед Хьюгом своей блестящей карьерой.
Его молчаливый собеседник слушал внимательно, попыхивая трубкой, и только иногда в серых глазах его вспыхивал огонек презрения, которого впрочем капитан, за дымом крепкого трубочного табака, заметить не мог.
Через пару часов Джон Хьюг знал все о капитане Святцеве. Знал, где он родился, что делал, знал его боевые заслуги, знал, что он едет с важным поручением, что там, на Кавказе, у него нет ни одного знакомого однополчанина и что только благодаря хорошим рекомендациям одесского командования, да личному мужеству, он надеется занять ответственную должность.
Все это узнал англичанин во время длинного рассказа, в который он изредка вставлял свое отрывистое.
— Иес.
За рассказами Святцева незаметно подошел вечер, а скоро и ночь легла мягким и теплым телом на серую грудь моря.
Иллюминаторы вспыхнули кругами огней.
Сильный пароход, слегка покачиваясь, рассекал волны.
Все спали.
V
Часа в три ночи одиноко прозвучал револьверный выстрел.
Кто-то вскочил. Кто-то дико закричал со сна. Засуетились, забегали люди. Раздвигая толпу взволнованных пассажиров, показался капитан. Он направился к каюте, в раскрытой двери которой стоял человек в нижнем белье, державший в руке дымящийся еще «наган».
— Что случилось? Вы?.. — капитан замялся. Он не знал кто стоит перед ним, англичанин, или тот другой — офицер.
— Ничего особенного. Этот англичанин ночью залез в мой карман и хотел вытащить оттуда бумаги. Я застрелил его.
Голос Святцева звучал спокойно, чуть-чуть насмешливо, и большие серые глаза с нескрываемым презрением смотрели на испуганных, сбившихся в кучу людей.
Несколько минут капитан стоял растерянно, не зная что делать. Потом, подумав, сказал:
— Я вынужден вас арестовать, господин офицер. Попрошу в мою каюту.
— Пожалуйста, только, я надеюсь, вы разрешите мне одеться.
Через пять минут капитан Святцев, позванивая шпорами, вошел в каюту капитана и там вручил свой «наган» и свою шашку удивленно смотревшим на него генералам.
А еще через пару минут влетел взволнованный, красный как рак, капитан и бросился прямо к Святцеву:
— Ну, поздравляю вас. Вы молодец. Можете вернуть ему его оружие, господа генералы. Этот англичанин — одним словом вот.
Он развернул на столе маленький кусочек холста, и генералы испуганно пригнулись, следя за страшными словами.
...партбилет... №... (большевиков)... Петр Сергеевич Волин.
Тело Джона Хьюга, он же большевик Волин, без всяких церемоний бросили в море, а капитан Святцев выслушивал генеральские поздравления, подкрепляемые рюмками настоящей николаевской водки.
VI
Бумаги, которые капитан Святцев привез от его превосходительства генерала Гришина-Алмазова его превосходительству генералу Деникину, были содержания крайне неприятного. В них сообщалось, что одесская группа помощи оказать не может, с врагом бороться бессильна, так как пьянство совершенно разложило командный состав, а что касается нижних чинов, то зловредная агитация и т. д.
К этому прилагалось письмо, в котором генерал писал, что податель сего капитан Святцев — счастливое исключение из общей массы, и что он, генерал, горячо рекомендует капитана на ответственную боевую должность.
Деникин знал уже о происшедшем на пароходе, навел соответствующие справки и получил ответ, что никто, ни к кому, никогда, никакого Джона Хьюга не посылал и что этот Хьюг, как и показывают найденные при нем документы, несомненно был большевистским агентом.
Таким образом Святцев сразу попал в герои, и расчувствовавшийся кандидат в монархи предложил ему самому выбрать дело по душе.
Капитан вежливо уклонился, ссылаясь на незнание местных условий, генерал настаивал и, наконец, к общему удовольствию, было решено, что Святцев займется формированием ударной роты на одном из самых ответственных участков фронта.
— Я на вас полагаюсь. Уверен, что в решительную минуту ваша рота окажется достойной своего командира.
— Рад стараться, ваше превосходительство.
— Ну, с богом, — перекрестил его генерал.
VII
Хотя у вновь формировавшейся роты и был, как полагается, номер, но на всем фронте ее называли не иначе как «рота капитана Святцева».
Формирование ее шло не совсем обычным для Добрармии порядком. Прежде всего ни одного офицера. Даже на взводах стояли унтера и ефрейторы. Вначале это вызвало недовольство, но Святцев ездил лично в ставку командующего и там объяснил, что, учитывая опыт Одессы, где части формировались почти исключительно из офицерских чинов, он не хочет применять этого метода здесь. И, кроме того, он головой ручается за свою роту.
Первый же смотр вновь сформированной роты заставил замолчать все злые языки.
Вряд ли была еще одна часть, могущая сравниться с «ротой капитана Святцева». Дивизионный таял от восторга, когда четким шагом прошли перед ним ряды бравых, хорошо одетых солдат. Ни один штык не выпадал из общей линии. Ни одна грудь не заваливала и не выпирала.
Даже труднейшее прохождение развернутым строем «на руку» было проделано так, что комар носа не подточит. И это несмотря на то, что...
Впрочем, дивизионный не очень-то верил этому... Но говорили, упорно говорили, что капитан никогда не бьет своих солдат и даже говорит им — вы.
Правда, насчет последнего никто не мог сказать ничего определенного. На параде сам дивизионный слышал «ты», сопровождаемое самой отборной матерщиной, а насчет первого... да в конце концов в чем дело? Рота образцовая и от командующего есть секретное предписание:
«Оставить капитана Святцева в покое и предоставить ему делать то, что он найдет нужным. Роту беречь. В бой не пускать до моего личного распоряжения. Снабжать в первую голову.»
И в то время, как вся армия ползла и трещала, как гнилое сукно, в то время, как пьянство и разврат подтачивали офицерские полки, в это время рота капитана Святцева крепла и росла в большую мощную боевую единицу.
По размерам она уже давно вышла из рамок роты, и в штабах поговаривали о Святцеве, как о командире батальона, но он прямо заявил, что не желает иметь дело с офицерским штабом батальона, что господа офицеры ему часть испортят, и так как факты говорили в пользу его слов, а положение заставляло ротой дорожить, то все оставалось по-старому.
Сам Святцев не раз просился в дело.
— Молодцев своих показать.
Но всегда в ответ слышал:
— Вы наша надежда. Ждите трудной минуты.
VIII
К счастью Святцева, к счастью, если бы он не был офицером Добрармии, эта трудная минута приближалась с каждым днем.
Красные наступали, развивая безумную скорость. А когда конница Буденного попробовала в двух-трех местах крепость белого фронта, то ясно стало, что дни защитников «Единой неделимой» сочтены.
Все более и более раздраженным становился тон приказов, все более и более безнадёжными выглядели сводки боевых операций.
И однажды, когда удар красных был особенно сокрушителен и отступление белых особенно серьезно, из ставки пришел приказ:
— Бросить в бой роту капитана Святцева.
Святцев так обрадовался, когда узнал о приказе, что дивизионный едва удержал его от преждевременного выступления. Чудак хотел выйти днем и, когда ему приказали ждать вечера, долго ворчал что-то по поводу излишней трусости штабов.
Наконец, пошли. Кутаясь в холодные шинели (полушубков, как ни старался Святцев, выдать не успели), скользя по обледенелой дороге, с трудом держа винтовки коченеющими руками.
Но все-таки, на то это и была рота капитана Святцева, пришли во-время, за полчаса до смены и расположились у штаба полка, стараясь согреться в пляске и борьбе, так как костров, за близостью врага, в эту ночь нельзя было развести.
IX
Когда Святцев вошел в помещение штаба полка, какой-то человек в солдатской шинели кинулся ему навстречу:
— Николай! Слава богу! Ты спасешь меня! Вот счастье!
Святцев на минуту остановился, посмотрел, потом спокойно отодвинул от себя незнакомца и подошел к столу, за которым рассматривая какие-то бумаги, сидели офицеры.
— Что он от меня хочет?
Адъютант объяснил. Человек, назвавший Святцева Николаем, за час до этого перешел к ним со стороны красных. Он сообщил намерения врага насчет дальнейших операций и называет себя бывшим офицером сибирского стрелкового полка. В папахе его были зашиты документы на имя поручика Смирнова. Адъютант подозревает, что сообщенные им сведения ложны и что сам он большевистский шпион.
— Николай, ты подтвердишь, что я поручик Смирнов. Они хотят расстрелять меня, Николай!
Святцев спокойно взглянул в лицо перебежчика.
— Кто вы?
— Боже мой! Я, Смирнов. Поручик Смирнов. Разве ты не узнаешь меня, Николай?
Несколько минут напряженное молчание царило в комнате. Перебежчик с мольбой смотрел на Святцева, от которого зависела его жизнь. Но Святцев, искривив свои красивые губы гримасой презрения, спокойно сказал:
— Да, я Святцев, зовут меня Николай. Да, я служил в сибирском стрелковом полку. Но этого человека я не знаю, никогда его не видел, и где он меня встречал, не понимаю. В полку у нас был поручик Смирнов. Но это не он...
— Николай! Николай!
— Полагаю, что это солдат полка. Но не офицер и не поручик Смирнов во всяком случае.
— Николай. Нико...
Святцев четко повернулся на каблуках и вышел в морозную темь ночи.
Поручика Смирнова расстреляли у старого овина.
X
Сменяться не пришлось.
За десять минут до срока смены прибежал с фронта вестовой и сообщил, что красные неожиданно перешли в наступление и прорвали фронт.
Известие моментально передали в дивизию и оттуда получили короткий приказ:
«Бросьте роту Святцева! Всем оставаться на месте!»
И сейчас же твердым шагом, как на парад, пошли молодцы ударной роты спасать положение.
Командир дивизии не отходил от телефона, каждые пять минут слушая донесения штаба полка.
Он отрывисто сообщал новости окружающим его офицерам.
— Фронт прорван!
— Конница Буденного брошена в прорыв!
— Рота капитана Святцева вышла!
И всем показалось, что они слышат четкий шаг образцовой роты, видят стройную фигуру капитана, отдающего уверенным голосом команду:
— Справа по линии в цепь! Бегом марш!
Стало легче. Свободнее. Адъютант улыбнулся.
— Пропала буденновская конница!
Дальше все шло, как по маслу. Стрельба противника вдруг прекратилась. Конница остановилась, не ударив на роту. Святцев спокойно занял позицию. Противник молчит...
Святцев просит разрешения пойти в атаку.
— Разрешить.
— Рота капитана Святцева вышла в атаку.
— Подтянуть резервы.
— Рота капитана Святцева...
Дивизионный вдруг вскочил и бросил трубку аппарата.
В напряженной тишине звук от падения трубки прозвучал как взрыв бомбы.
Из штаба полка сообщили:
«Рота капитана Святцева окружила штаб, захватила обозы и артиллерию и перешла на сторону красных. Мы отстреливаемся».
XI
В этот же день от фронта, занятого красными войсками, в штаб дивизии летел верховой.
За пазухой его шинели был секретный пакет на имя военкомдива, а в пакете рапорт следующего содержания:
«Доношу, что в пять часов утра рота противника, выкинув белый флаг и захватив обозы и артиллерию своего полка, в полном составе перешла на нашу сторону. Командир роты, капитан Святцев, называет себя членом одесской организации РКП Петром Сергеевичем Волиным. Никаких документов, подтверждающих это заявление, при нем не имеется. Жду ваших распоряжений.
Военком Н-ского кавполка Архангельский.»
Москва. Октябрь 6-го года.
Чек на предъявителя
I
Он повис в воздухе, держась одной рукой за подоконник, а другой за водосточную трубу. Снизу пахнуло жаром разгоряченного за день асфальта и запахом чего-то жареного. Особенно отчетливо и назойливо тревожил сознание именно этот запах. Несколько секунд он все свои мысли сосредоточил на разгадке того, что там жарят:
— Яичницу с колбасой, — решил он, наконец, и, решив, вернул свое сознание к основному.
Он слышал, как там, в комнате, из окна которой он только-что бежал, трещала дверь, поддаваясь ударам плеч и ружейных прикладов. Этот треск торопил ход его мыслей, заставлял быстро и четко принять решение.
Вниз?
Опасно. Они несомненно оцепили дом.
Страшным усилием воли, напрягая впившиеся в подоконник и трубу пальцы, он посмотрел в душный колодезь двора. Там суетливо бегали тени людей.
Вниз нельзя.
Неуверенный в прочности трубы, стал он карабкаться наверх, вздрагивая и останавливаясь каждый раз, когда железо трещало под тяжестью его тела.
Острый край крыши разодрал кожу ладони, и в тот момент, когда усталое тело на половину легло на свежеокрашенные листы, снизу раздался выстрел. Пуля ударилась в стену, и куски кирпича полетели в сторону.
Он не стал ждать второго выстрела. Сильным рывком поднялся он выше и, сгибаясь, как обезьяна, двигающаяся по земле, перебежал по шумящему насту железа к слуховому окну. Скрывшись в это окно, он через секунду долез на противоположную сторону и в том же полусогнутом положении побежал дальше.
Соседний дом был на два этажа ниже, и, спрыгнув, он едва не вывихнул ногу.
Он слышал еще несколько выстрелов, слышал шум и крики и, только миновав пять или шесть крыш, почувствовал себя вне опасности.
Это сознание улыбнулось ему тогда, когда он сидел на плоской крыше семиэтажного дома, выходившего на угол двух улиц.
Перегнувшись через железную решетку, он ориентировался и без труда узнал место.
Шум экипажей, гул толпы и мутные пятна фонарей внизу сулили возможность незаметно скрыться в вечернем движении города.
Стараясь стать как можно более плоским и незаметным, он полез вниз по узкой дрожащей пожарной лестнице.
Четыре этажа он миновал благополучно, но между четвертым и третьим задержался в нерешительности.
Ниже, вплотную к лестнице, подходил небольшой балкон, а на балконе, в изящном кресле, сидел человек, куривший сигару. Лицо человека было обращено прямо в сторону лестницы, и беглец, прижавшийся к ее упругим перекладинам, знал, что еще два шага и — он будет открыт.
Инстинктивным движением поднялся он на одну ступеньку выше, но в это же самое мгновение соседнее с лестницей окно третьего этажа открылось, и женская головка выглянула наружу.
Балкон был ниже и справа. Окно — выше и слева.
Человек на лестнице сжался в крошечный комок, осторожно просунул ноги в промежуток между двумя ступенями и, усевшись более или менее удобно, старался найти выход из своего положения.
Женская головка сверху позвала:
— Дик.
Голос мужчины с балкона ответил:
— Ева.
— Мои ушли, Дик. Мы можем болтать целый час.
— Только час?
— Ты жаден Дик. Час — это очень много.
— Час с тобой — это одна секунда. Но ничего не поделаешь, придется довольствоваться часом.
Человек на лестнице подумал, что час — это целая вечность и что страшно глупо целый час заниматься любовными разговорами.
Человек на балконе вдруг поднялся с кресла.
— Слушай, Ева. Блестящая идея. Что если я поднимусь по лестнице к тебе в окно?
Он сделал шаг вперед и, протянув руку, взялся за перекладину.
Человек на лестнице понял, что не только час, но секунда может равняться вечности.
— Нет, нет, Дик, ко мне нельзя. Соседи дома.
— Я буду тих, как кошка.
— И не будешь целоваться?
— Целоваться? Нет. Целоваться я буду.
— Ну вот видишь. Соседи услышат и... Слушай, Дик. Я спущусь к тебе.
— Ты?
— Ну, конечно. Здесь десять шагов, и ты сможешь помочь мне.
— Что же, пожалуй. У тебя не закружится голова?
— Ты смеешься.
— Лезь.
Женщина встала на подоконник, потом села на него и осторожно поставила ногу, нащупывая перекладину лестницы. Человек на балконе ждал у самого края.
II
Крепкий замок поддался усилиям десятка человеческих тел, и дверь с грохотом распахнулась, опрокидывая баррикаду из тяжелого кресла, мраморного столика и большой картины.
Вооруженные люди с ругательствами перешагнули через препятствие и бросились к окну.
— Ушел.
— Подлый коммунист.
Толстый, перетянутый поясом, как колбаса, полисмен высунулся в окно и крикнул:
— Эй, внизу!
— Есть.
— Куда ушла эта сволочь?
— На крышу. Мы стреляли, но промазали.
— Погоня?
— Послана погоня.
Трое штатских, предоставив полисмену организацию облавы, уделили все свое внимание ящикам письменного стола. Они с ловкостью опытных воров взламывали замки и нетерпеливо рылись в бумагах, газетах и брошюрах.
— Он не успел ничего спрятать.
— Вот письма.
— Шифрованные.
— Разберем.
— Литература выдаст его с головой.
— Это он.
— Никакого сомнения.
В дверях комнаты взволнованная хозяйка, ломая руки и утирая слезы, клялась в своей невиновности. Сыщики накинулись на нее.
— Давно он у вас?
— Неделю, только неделю.
— Как он назвал себя?
— Джо-Джое — приказчик складов Гопкинса.
— У него бывал кто-нибудь?
— Никого. Он уходил в шесть и возвращался в двенадцать.
— Вы его ни в чем не подозревали?
— Ни в чем. Он был вежлив, скромен и заплатил вперед.
— У вас много жильцов, кроме него?
— Пятеро.
— Они дома?
— Да, все кроме одного.
— Кроме кого?
— Кроме бухгалтера Стирена.
— Где живет бухгалтер Стирен?
— В соседней комнате.
— Откройте ее!
— У меня нет ключа.
— Тогда мы взломаем.
— Ломайте.
Дверь комнаты бухгалтера Стирена легко поддалась отмычке.
Сыщики внимательно оглядели аккуратную обстановку, пошарили в шкафу и письменном столе.
В ящиках последнего они наткнулись на странные вещи.
— Похоже, что это отмычки.
— Да, как будто.
— И целый склад патронов.
— Патроны кольтовские.
— Мы останемся здесь и будем ждать бухгалтера. Если вы предупредите его...
Хозяйка запротестовала против этого предложения. Она никого не будет предупреждать. Она...
Ее тирада была прервана шумом входной двери и звуком чьих-то шагов в коридоре.
Бухгалтер Стирен пожилой, франтовато одетый человек, показался на пороге своей комнаты.
Он удивленно взглянул на хозяйку, на сыщиков, на приоткрытые ящики стола и, поняв в чем дело, разразился руганью.
— Вы оба ослы и самые последние идиоты!— крыл он остолбеневших шпиков. — Кто вас просил? Кто вас просил?
— Но позвольте...
— Пойдите вы к дьяволу! Испортить все! Так испортить! Я бы взял его голыми руками. А вы...
— Но мистер Стирен...
— Какой я к черту Стирен. Пусть из вас кто хочет будет Стиреном, а с меня довольно. Довольно с меня работать рядом с официальной полицией. Довольно.
Сыщики начинали кое-что понимать.
— Вы не Генри от Пинкертона?
— Да, я Генри от Пинкертона, жалкие идиоты.
III
Генри от Пинкертона всю свою жизнь мечтал о хорошем деле. Его поистине собачья служба до сих пор сводилась к тому, чтобы организовывать отряды штрейкбрехеров и с их помощью срывать стачки.
Конечно, это было выгодное дело, но у Генри натура была широкая, как клёш английского матроса, и он ждал того дня, когда ему подвернется дельце на несколько десятков, а может быть, и сот тысяч долларов. И день этот настал.
В этот прекрасный день глава предприятия, сам Пинкертон-сын, вызвал его в свой кабинет.
— Есть дело, Генри.
— Да, сэр.
— И посерьезнее, чем ваши штрейкбрехеры.
— Отлично, сэр.
— Думаю поручить его вам. Вы способный парень...
— Очень рад, сэр.
— Дают сто тысяч.
— О, сэр.
— Ваши пятьдесят процентов.
— Спасибо, сэр.
— За инструкциями немедленно отправитесь к мистеру Ллойд.
— К мистеру Ллойд?
— Да, чего вы таращите глаза?
— Я, ничего, сэр... Я...
И Генри с дрожащим сердцем переступил порог роскошного дворца мистера Ллойд, миллиардера, владельца копей на Западе, дорог на Севере, пароходов на Востоке и еще чего-то во всех частях света.
Безобразный, как обезьяна, худощавый, маленький Ллойд быстро и кратко изложил ему суть дела.
— Том Тимбери. Член коммунистического союза молодежи. В прошлом году организовал стачку на моих копях. Едет на конгресс КИМ-а. Это увеличит его популярность. Вернется — масса неприятностей. Убрать.
— Да, сэр.
Генри встал.
— Постойте. Сто тысяч, если просто уберете. Двести — если достанете документы, разоблачающие организацию, работающую в моих копях. Имена, явки и так далее...
— Да, сэр.
— Расходы отдельно. Получите.
Ллойд протянул Генри чек, и Генри едва не упал в обморок, увидя на нем цифру в десять тысяч долларов.
Он работал, как каторжник. Скоро, очень скоро напал он на след Тимбери. Возможность «убрать» представлялась несколько раз, но Генри мечтал о двухстах тысячах и поклялся добыть документы.
Он принял облик бухгалтера, поселился рядом с Томом, следил, ночами не спал и, наконец, узнал, что в ночь перед своим отъездом Том будет иметь у себя в комнате все нужные документы, чтобы привести их в порядок для передачи.
Двести тысяч были в кармане Генри.
И вдруг...
Официальная полиция никогда не поумнеет.
Том был приговорен к месячному аресту за какой-то митинг. Приговор был вынесен с единственной целью помешать его поездке на конгресс. И эти олухи, эти кустари, называющие себя сыщиками, не могли подождать и решили арестовать Тома за три дня до отъезда — тогда, когда никаких важных документов у него быть не могло.
Генри рвал на себе волосы.
— Вы арестовали его?—спросил он сыщиков.
— Нет, он бежал.
— Слава богу.
— Как?
— Слава богу, говорю я. Еще не все потеряно. Он должен уехать через три дня.
— Но он бежал, и мы не можем найти его.
— Вы не можете. Вы не можете. Я найду его. Сто тысяч дьяволов! Я найду!
И, оставив сыщиков переваривать случившееся, Генри от Пинкертона выбежал из квартиры.
IV
В одну короткую секунду, ту секунду, которая нужна была для того, чтобы женщина успела поставить ногу на перекладину лестницы, Том Тимбери успел передумать тысячу вещей.
Билет на пароход, отходящий через три дня у него в кармане. Документы тоже. Все сводится к тому, чтобы успеть взять другой билет на завтрашний пароход другой линии, или, еще лучше, сесть совершенно в другом порту.
Скрип перекладины, на которую ступила нога женщины, вернул его к ощущению действительности. Да. Прежде всего надо сойти с этой проклятой лестницы. Черт возьми. Сейчас она полезет вниз, заденет его, испугается, сорвется и... все пошло прахом.
Ему не удастся убежать. Надо предупредить ее. Но это значит выдать себя. Несомненно его примут за вора.
Нога женщины задержалась, не решаясь ступить ниже.
— Дик,—позвал женский голос.
— Что, дорогая?
— Подожди одну минутку, Дик. Я сниму туфли. У них слишком высокие каблуки.
— Хорошо.
Женщина снова вернулась на подоконник и, наклонившись, стала развязывать шнуровку.
Том Тимбери напряг свои мысли, чтобы использовать новую передышку.
V
Генри от Пинкертона излазил все крыши, все дворы и все заборы соседних домов. Никаких следов. Проклятый парень как будто в воду канул.
Генри от Пинкертона сел на ступеньки какого-то подъезда и принялся составлять план.
У парня билет на пароход, отходящий через три дня из городского порта. Ясно, что за этим пароходом необходимо установить слежку. Но также ясно, что с этим пароходом он не поедет и поэтому нужно начать слежку завтра же. Парень постарается уехать раньше. Возможно еще, что он изберет другой порт. Удобных для него портов, кроме городского, есть еще три. Надо следить за всеми поездами, идущими в эти порты. Один Генри этого сделать не сможет. Придется занять целый штат. Расходы, расходы, расходы.
Нет. Десять тысяч долларов, которые ассигновал ему Ллойд, не так уж много.
Генри встал и отшвырнул в сторону недокуренную папиросу. Так или иначе парень вместе с документами должен быть в его руках.
Документы. Ах, черт возьми. Ведь теперь все дело меняется. Эти олухи полицейские спугнули Тома, и совершенно ясно, что тот не станет возиться с бумагами. Придется отказаться от двухсот тысяч. Но зато сто будут в его руках. Тома Тимбери, он, Генри, уберет и уберет чисто.
Действовать, действовать.
Через пять минут он был в конторе Пинкертона, а еще через пять минут перед ним стояла дюжина отборных агентов с лицами дегенератов, убийц и карманщиков. Он быстро разогнал их во все стороны, пообещав каждому солидную сумму. Пинкертон-сын, слыша его разговоры, спросил:
— Откуда вы наберете столько денег?
— Я полагаю, сэр, что контора...
— Контора поручила дело вам. Придется вам платить из вашей половины.
— Но, сэр...
— Никаких но. Расходы сыщиков нас не касаются.
Генри подумал о чеке на десять тысяч долларов и проворчал про себя:
— Эксплуататоры проклятые. Выжиматели соков.
Если бы он предвидел раньше такой оборот дела, то вместо дюжины шпиков, взял бы шестерых.
За хлопотами, распоряжениями и составлением плана слежки он пробыл в конторе до утра.
На улицу он вышел, когда рассвет уже золотил высокий шпиль собора. Было слегка прохладно, и ночная тишина лежала еще не вспугнутая шумом движения.
Генри всей грудью вдохнул свежий воздух, снял шляпу, поскреб в затылке и подумал:
— Ллойд зарабатывает сто тысяч в минуту. Меня заставляет работать за эти деньги две недели. Черт возьми, — поймал он себя, —кажется, я начинаю бунтовать.
Высоко над городом, треском пропеллера, приветствуя утро, пролетел аэроплан.
Генри поднял голову.
— Высоко. Тысячи полторы метров.
VI
Наконец, туфли были сняты, и женщина снова опустила ногу, нащупывая перекладину.
— Ева, —позвал мужчина.
— Ну?
— Я боюсь за тебя. Право лучше я поднимусь.
— Чего ты боишься?
— У тебя может закружиться голова.
— Скорей у тебя закружится.
— У меня!
— Ну да.
— Дерзкая девчонка. Слыханное ли дело, чтобы у авиатора кружилась голова. Ты...
Мужчина на балконе не успел докончить начатой фразы. Голос, идущий откуда-то из стены дома, перебил его:
— Вы авиатор?
Женщина вскрикнула и крепко ухватилась руками за раму окна.
Мужчина удивленно поднял голову кверху.
— Вы авиатор? — настаивал голос. — Хотите заработать десять тысяч долларов?
— Какой негодяй позволяет себе такие шутки, — вспылил мужчина.
— Никаких шуток, — уверял голос. — Я предлагаю вам десять тысяч долларов.
Мужчина на балконе выхватил револьвер.
— Спускайтесь сюда или я подстрелю вас.
— Вы потеряете десять тысяч.
— Ну?
— Вам не нужны деньги?
— Раз.
— Десять тысяч солидным чеком.
— Два.
— На предъявителя.
Мужчина не успел сказать три, так как заговорила женщина:
— Дик, — сказала она, — имея десять тысяч, ты сможешь жениться на мне.
Мужчина на балконе опустил револьвер.
— Спускайтесь. Я согласен поговорить с вами.
Том Тимбери в два прыжка очутился внизу.
— Мистер Дик, — сказал он. — Вот посмотрите этот чек.
Дик взял чек, покрутил его, посмотрел на свет и, убежденный в подлинности, протянул обратно.
— Что я должен сделать, чтобы получить его?
— Доставить меня на аэроплане в Восточный порт. При этом ни о чем не расспрашивать и ничем не интересоваться.
— Чек хорош?—спросил голос сверху.
— Вполне.
— Я думаю, что тебе следует согласиться, Дик.
— Ваша невеста крайне разумна, — вставил свое слово Том.
Дик протянул руку.
— Чек.
— По прибытии на место.
— Сейчас.
— Нет.
— В таком случае я вас передам властям.
— Потеряете десять тысяч.
— Отниму чек и выгоню.
— Я сделаю заявление об утере чека.
— Убью вас.
— Не советую, — сказал Том и вытянул вперед руку с браунингом, — это вроде лотереи. Кто первый?
— Я уверена, что ты полетишь, Дик,—настаивала женщина из четвертого этажа.
— Я тоже приобретаю некоторую уверенность в этом.
— Согласен.
VII
Генри провел четыре шальных дня. Он метался как угорелый, тормошил своих помощников и только на пятый день, когда радио с парохода «Мария», посланное агентом Пинкертона, сообщило, что Том Тимбери на борту и что убрать его невозможно — Генри успокоился.
Успокоился, если только можно назвать спокойствием то чувство досады, гнева и разочарования, которое охватило его.
Сто тысяч шмыгнули мимо носа.
Мало того. Из десяти тысяч пять уйдет на оплату помощников. Остается пять чистой прибыли. Это конечно не плохо, но пять не сто. Пять в двадцать раз меньше.
Со вздохом полез он в карман и вынул бумажник, чтобы извлечь из него подлежащий реализации чек.
Что за черт. Чека нет в бумажнике.
Генри обшарил все карманы. В карманах ничего, кроме двух стальных наручников.
— Куда он мог деваться. А, стоп! Я, вероятно, оставил его в письменном столе комнаты, из которой я следил за Томом.
Он бросился туда. Комната на имя бухгалтера Стирена оставалась за ним. Он нетерпеливо взбежал по лестнице, не захотев ждать лифта.
Хозяйка приветствовала его и сказала:
— Вам письмо.
Генри сунул конверт в карман и бросился в комнату.
Он перерыл все ящики, все углы и закоулки. Он искал даже под кроватью. Чека не было.
Обескураженный бросился он в кресло и снова стал шарить по карманам. Попавшееся под руку письмо напомнило о себе.
— От кого это может быть? — подумал Генри, вскрывая конверт.
«Уважаемый мистер Стирен!
Оброненный вами чек на десять тысяч за подписью Ллойд нашел я. Я намеревался вернуть его вам, но обстоятельства вынудили меня использовать эту сумму для найма аэроплана. В настоящее время я вне Америки. По моем возвращении убыток будет вам возмещен.
Джо Джое»
Москва. Августа 7-го года.
Борьба за газ
(2-я премия на конкурсе «Смены»)
I
Было это в те дни, когда войска белой армии железным кольцом сжимали молодую Республику Советов.
Трудно приходилось красноармейским отрядам; в жестокой, неравной борьбе пядь за пядью отстаивали они, борясь с противником, за спиной которого стояла финансовая и техническая мощь Запада.
Все мы знаем, что конечной победой красные войска, в значительной степени, помимо своей собственной храбрости, доходившей до героизма, обязаны той помощи, которую оказывали нам западные рабочие. Все мы знаем, что во многих случаях оружие, предназначенное для деникинских и красновских банд, застревало на железных дорогах Германии, а снаряды, направлявшиеся к батареям Колчака, пропускали все сроки в портах Англии и Америки.
Когда-нибудь историк с тщательным вниманием соберет отдельные факты и эпизоды, в которых проявлялась в те дни великая солидарность мирового пролетариата, а пока позвольте мне, не историку, а беллетристу, рассказать один случай.
Профессор Сидней Эшби уже второй месяц напряженно работал в своей лаборатории. Профессор Сидней Эшби пользовался крупной известностью. Профессор Сидней Эшби заслужил кличку, которую дали ему во время войны четырнадцатого года — кличку «Сиднея Душителя».
Химик по специальности, профессор Сидней Эшби все свои познания в избранной им области посвятил изготовлению газов, применявшихся на войне под названием удушливых газов. Название не вполне верное, так как среди этих газов попадались и такие, которые действовали не на дыхательные, а на другие жизненные центры человеческого организма. Я не стану перечислять всех разновидностей этого «культурного» способа борьбы и ограничусь исключительно напоминанием о так называемом горчичном газе, примененном союзниками при ликвидации германского фронта. Этот газ, за короткое время действия, покрывал тело человека сплошными нарывами и, если не убивал, то, во всяком случае, надолго выводил из строя, причиняя страшные мучения.
Мы не смеем утверждать, что «Сидней Душитель» был причастен к этому последнему газу, но десятки других наверняка вышли из его лаборатории. В военных кругах профессор Эшби был своим человеком, и видные военные специалисты возлагали на его работы огромные надежды.
Сам профессор занимался свои делом с увлечением. В противоположность другим ученым, скрывавшим истинную цель своих лабораторных работ и старавшихся представить дело так, как будто их убийственные смеси предназначены в первую голову для саранчи и других вредителей, он прямо и открыто заявлял, что его цель — укрепление силы и мощи Англии. Выдержанный империалист, он научными путями обосновывал необходимость мирового торжества культурной английской нации и гордился тем, что все свои знания отдавал ее завоевательным целям. Совершенно поэтому понятно, что в отношении к большевикам его ненависть не знала границ и что все свои работы он посвятил отысканию средства, которое могло бы сделать непобедимыми армии интервенции и свело бы на нет военную мощь Советской Республики.
Над этим-то средством он и работал уже две недели.
В его обширную, по последнему слову техники оборудованную лабораторию, в течение этих двух недель наведывались руководители внешней политики страны и представители военных кругов, проявляя живейший интерес к ходу профессорских работ, и уезжали оттуда с сияющими лицами. Виденное они хранили в секрете, но по отрывочным сведениям, неведомыми путями проникшими в печать, известна было, что «Сидней Душитель» готовит нечто из ряда вон выходящее.
II
— Они решили организовать все производство при самой лаборатории и уже соорудили там целую пристройку. Джек работал там и говорит, что в этой пристройке устанавливают несколько токарных станков.
— Токарные станки?
— Ну да. Они будут там вытачивать снаряды для этого газа. Говорят, что это что-то необыкновенное по силе и действию.
— Что ж, он мгновенно убивает, что ли?
— Ничего неизвестно, Нед. Когда нужно, они умеют беречь тайны. Но ходят слухи...
— Во всяком случае надо помешать этому.
— Для этого-то я и позвал тебя. Надо помешать.
— Да, но как?
— Дело не сложное. Ты проникнешь в число токарей, которые будут работать на этом заводе.
— Я? А что же я там буду делать?
— Будешь точить эти самые снаряды.
— Буду точить снаряды?
— Ну да. Будешь точить снаряды Но каждый снаряд ты будешь портить. Понял? Какой-нибудь пустяк, какая-нибудь маленькая неточность.
— Соображаю! Но ведь кроме меня будут и другие.
— Вот в том-то и задача. Твое дело попасть на конечный пункт работы... На тот момент процесса, когда снаряд уже готов, и когда...
— Понимаю. Но ведь там будут сотни таких, как я и тысячи снарядов?
— Нет. Там будет пять человек, и вы не сделаете больше сотни снарядов.
— Это почему?
— Потому что дьявольское изобретение этого чертового «Душителя» таково, что одного снаряда хватит на три дня и несколько сот верст. Понял?
III
Сидней Эшби несколько взволновался. Теоретически все было вполне благополучно — практические опыты над животными дали прекрасные результаты. Но он хотел быть совершенно уверенным. Он хотел посмотреть, как его газ будет действовать и на человека.
Полковник Сальс Бюри был в восторге, когда при последнем опыте около тысячи кошек, собак и других зверей, собранных для этой цели в специальное здание, в течение секунды были ослеплены и как сумасшедшие с криками и визгом носились, терзая друг друга. Но ведь это кошки и собаки. А люди?
Провожая полковника, профессор сказал:
— Мой газ будет действовать без промаха. Он невидим. Он не имеет запаха. Ничтожной дозы его достаточно, чтобы в течение минуты отравить воздух на сто верст в окружности и ослепить всех людей, находящихся в этой полосе.
И полковник вполне удовлетворился этим словесным подтверждением блестящего опыта, но самому профессору нужно было больше. Вот уже неделя, как маленький завод, построенный около его лаборатории, работает полным ходом, выпуская все новые и новые снаряды, начиненные слепящим снадобьем, уже близок день, когда первый транспорт этих снарядов отправится на фронт, а у него все еще нет уверенности в могуществе изобретения. А вдруг что-нибудь не так?
Но где найти людей, над которыми можно было произвести необходимые опыты? Профессор намекал полковнику на преступников, на пойманных на фронте большевиков, но полковник испуганно замахал руками:
— Вы плохой политик, господин профессор, — сказал он. — Зачем давать пищу для агитации.
Профессор был несколько обескуражен, но судьба благоприятствовала ему. Несколько дней спустя после его разговора с полковником, он получил известие о смерти своей тетки, причудливой старой девы, которая вместе с кругленькой суммой денег оставила ему в наследство маленького арабчонка, вместе с моськами и кошками, утешавшими ее печальную старость.
Едва этот арабчонок появился в доме профессора, как решение было принято. Чего стесняться? Во-первых, этот черномазый уродец почти-что не человек, а во-вторых, все можно объяснить несчастным случаем. Опыт будет произведен завтра же, когда первая партия снарядов отправится на вокзал, и, в случае неудачи, у профессора хватит времени приостановить отправку.
IV
У сыщика Робби было свое мнение по поводу токаря Неда. И когда последнего назначили сопровождать автомобиль со снарядами, Робби сказал: — этому не бывать. Однако, он не хотел устраивать дело на виду у всех и решил просто в последнюю минуту задержать токаря у станка.
Нед наблюдал за укладкой в автомобиль больших ящиков, на которых было написано: «Осторожно верх».
На двух языках — русском и английском.
Он внимательно проверял перед отправлением упаковку и собственноручно ставил букву «С» на ящиках, подвергнутых проверке. Условились правильность груза подтверждать этой начальной буквой имени профессора.
Когда погрузка была уже закончена, из токарного отделения вышел Робби.
— Пойди-ка на минутку, Нед, — сказал он, — мне надо сказать тебе кое-что.
Нед приказал шоферу подождать и поднялся вслед за Робби на второй этаж, в комнату, где, блестя новенькими частями, стояли тяжелые токарные станки. Около одного из них Робби остановился и, хладнокровно вынув из кармана револьвер, приставил его к лицу Неда.
— Подожди здесь минуту, приятель, — сказал сыщик, и Нед услышал шум отъезжающего автомобиля.
Он сжал кулаки и попробовал рвануться, но, вовремя вспомнив о револьвере, остановился. Его обманули! Этот дьявол с револьвером проникнул в его тайну, и он, Нед, не сумеет помешать отправке груза. Мысли вихрем пронеслись в его мозгу, и, раньше чем сыщик сумел предупредить его движение, он схватил один из стоящих на соседнем станке уже готовых снарядов и с силой швырнул его на пол. Не вполне закрепленная головка снаряда отлетела, стеклянная трубка, проходившая внутри, разбилась, и темная маслянистая жидкость большим пятном расползлась по каменному полу и начала испаряться на глазах перепуганного сыщика. Сам снаряд покатился под станок, и, к великому удивлению ожидавшего выстрела Неда, сыщик Робби отбросил револьвер в сторону и, мгновенно закрыв глаза рукой, нырнул под станок, при чем нырнул не на животе, а на спине.
Нед не дал себе труда разбираться в странном поведении противника и, как молния, выскочил наружу через огромное окно. Прыжок сошел благополучно. Теперь остается догнать автомобиль. Как это сделать?
Сыщик Робби знал, что он делает. Масло, смазывавшее части станка, капало прямо ему на лицо, и, лежа под его струями, он смутно надеялся, что проклятый газ не проникает сквозь масляную оболочку.
Однако, надежды его не оправдались. Вскоре в глазах появилась режущая боль, красные точки мелькали, как в калейдоскопе, а еще немного спустя Робби почувствовал, что он ослеп, и, зажав глаза ладонями рук, с тоскливыми воплями выполз из своего ненадежного убежища.
Он полз, как червяк, стараясь не отрывать рук от невыносимо ноющих глазных впадин, а когда, наконец, скатившись по лестнице, выбрался на свежий воздух и ухватился руками за косяк двери, не решался поднять веки из страха лишний раз убедиться в своей слепоте.
Эта дверь стала для него ориентировочной точкой. Он отлично представлял себе, что прямо перед ним находятся ворота завода и что, выйдя из них, он должен свернуть вправо, чтобы дойти до лаборатории профессора. Однако, он во что бы то ни стало должен был проделать этот путь незамеченным. Вероятно, Нед не один и, может быть, уже сейчас за ним, слепым и беспомощным, как котенок, следят друзья этого проклятого социалиста. Б-р-р! Ему холодно стало при одной мысли об этом.
Он прислушался и несколько удивился той мертвой тишине, которая царило вокруг. По-видимому, ни на дворе ни в мастерских никого не было. Ба! Он даже подпрыгнул от удовольствия. Происшествие отшибло ему память. Ведь уже вечер. Работы кончены и нигде никого нет. Остается только красться по стенке, благополучно миновать сторожа, который тоже может быть из этих, и предупредить профессора.
И сыщик Робби с закрытыми глазами тронулся в путь, показавшийся ему бесконечным.
VI
Очутившись вне завода, Нед сразу оценил положение. Надо нагнать автомобиль. В этом все спасение. Они условились с ребятами из центрального гаража, что весь транспорт будет приведен к ним, и там ящики со снарядами будут заменены другими, ничем не отличающимися по внешнему виду.
План был детально разработан Недом после того, как попытка с порчей снарядов не удалась ввиду тщательной проверки их при окончательной упаковке. Проверяли специалисты, и первый же испорченный Недом стакан был замечен и забракован. Новый план был крайне несложен. У центрального гаража машину от заводского шофера должны были принять шоферы военные, и уже они везли груз дальше — на вокзал. Нед позаботился о том, чтобы оба военных оказались из числа своих, посвященных в историю ребят, и ждали бы в гараже с заранее заготовленным и нагруженным поддельными ящиками автомобилем, точной копией первого. И вот теперь все летит вверх тормашками.
Впрочем! Нед соображал быстро. Автомобилю надо сделать круг почти в две мили, чтобы проехать в город. Между городом и лабораторией находится болото. Через болото есть тропинка. Если хорошо бежать, то можно перерезать путь автомобилю, пока он объезжает болото. А Нед бегает не плохо!
Шофер, бешено гнавший свой ужасный груз по указанному шоссе, не успел опомниться, когда Нед на ходу вскочил на передок и, вырвав руль, повернул автомобиль направо, туда, где высился корпус центрального гаража. Но он помнил приказание ни в коем случае в гараж не заезжать и решил вернуть дерзко захваченное управление машиной. Они боролись не долго. Меньше чем через минуту и шофер и Нед вылетели из машины, и никем не управляемый грузовик полным ходом понесся прямо к дверям гаража.
У самого гаража машина наскочила на какой-то камень, круто повернула в сторону, и крайний ящик вылетел от толчка на землю. Один из рабочих, услыхав шум от его падения, с гаечным ключом в руках подскочил к нему. Он увидел, что автомобиль летит прямо на маленький домик гаражной конторы, и бешено заорал:
— Эй, кто там, несчастье!
И непосредственно за этим предостерегающим криком грузовик врезался в кирпичную стену, пробил ее как яичную скорлупу, и страшный взрыв потряс окрестность.
VII
Профессор Сидней Эшби и не подозревал о тех сценах, которые разыгрались вокруг его снарядов.
Он был занят своим опытом, окончательной проверкой своего газа.
Маленький арабчонок не чувствовал грозившей ему опасности. Он с любопытством следил за тем, как профессор надел себе на глаза странные очки, и спокойно последовал приглашению занять место у стола, на котором горела спиртовка, подогревавшая колбочку с какой-то странной жидкостью. Профессор Сидней, боясь, что мальчик, почувствовав боль, убежит и испортит опыт, встал сзади него, положив руки так, что они образовали нечто вроде барьера, и, бросив в кипящую жидкость желтый порошок, спокойно ожидал результатов.
Робби уже добрался по его расчетам до дома профессора, как вдруг страшный взрыв ударил ему в уши. Он вздрогнул, открыл глаза, и прямо перед ним мелькнуло ярко освещенное крыльцо профессорского дома с маленькой белой собачонкой, сидевшей на пороге раскрытых дверей. Он бросился вперед с радостным криком. Сыщик Робби видел! Сыщик Робби не ослеп!
Не ослеп и арабчонок. Как раз в тот момент, когда взрыв заставил Робби открыть глаза, профессор Сидней сорвал с себя очки и на глазах испуганного арабчонка разбил хрупкую колбу. Газ, прекрасно ослепляющий животных, не действовал на людей.
Москва. Май 7-го года.
Человек без руки
I
Кажется, уже неделю льет этот проклятый дождь! Небо серое, скучное, и облака на нем собрались, по-видимому, всерьез и надолго. Целый день клонит ко сну, работа валится из рук и никакого, ну, никакого настроения. Где уж тут говорить о рассказе, когда просто двух строк из себя выдавить не можешь. Надоел дождь. Ах, как надоел!
И редактор надоел. Каждый день, неотступный и тягучий, как дождь, он пристает со своими напоминаниями. Как будто я без него не знаю, что написать рассказ нужно, потому что... да, потому что жрать человеку надо.
Ну, а если нет темы? Если в голове ни единой мысли, кроме мыслей о солнце, о теплой летней погоде, о береге моря и о мягком, ласковом, как шерсть котенка, песке? Правда, из песка и моря можно кое-что сделать, но редактор капризен и требует во что бы то ни стало московское. Подавай ему московский рассказ и — хоть умри! Московский рассказ! А из чего его делать прикажете? Из хмурого неба, потоков дождя и насупившихся, обмокших до безобразия, домов? Веселенький рассказ будет, что и говорить.
Одним словом — у меня нет рассказа. И пока погода не перестанет идти на поводу людей из Пулковской обсерватории, очевидно, и не будет.
Но редактор! Он врывается в мою крошечную комнату, в которой и без того тесно, приносит свой «стэтсон» и мексиканскую блузу, смеется так, что примус начинает испуганно шипеть и тухнуть, и требует, требует, как будто я ему в самом деле чем-то обязан, рассказа. И непременно хорошего, веселого, и еще непременно московского.
Что касается хорошего, то это, конечно, не трудно. Ну, а насчет московского и веселого, то тут, как говорится — Месс Менд извините. Я, как известно, Москвы избегаю старательно. Неровен час напутаешь что-нибудь, и читатель тебя этак вежливо попросит не завираться. Неприятно!
То ли дело Запад, Европа, Америка — там плети чего хочешь. Заставляй своих героев лазать через стены и трубы, отращивай людям хвосты. Все сойдет, потому далеко очень. Кто проверять станет?
По случаю всего изложенного выше я сбежал вечером из дому и решил до утра пробродить по бульварам, чтобы редактор, который, конечно, не замедлит почтить мою комнату своим визитом, подумал, что я вообще исчез с литературного горизонта.
Погода на мое счастье поправилась. Дождь прошел, здраво рассудив, что ночью ему делать нечего, так как порядочные люди спят и внимания на нет не обращают. Небо прояснилось, и жара стояла такая, что впору голому бегать. На бульварах не было еще никого, за исключением людей, не получивших своевременно десятипроцентной нормы и теперь расположившихся на скамейках, предоставленных в их распоряжение Моссоветом.
Вначале я брел просто так, без всякой определенной цели.и, надо сказать по совести, без всяких мыслей. Потом решил воспользоваться случаем и поискать темы. Искал я ее настолько старательно, что какая-то парочка, очевидно, не понявшая моих истинных намерений, попросила меня проходить своей дорогой и на людей глаз не пялить. Я попробовал разъяснить им в чем дело, но они так прозрачно намекнули на то, что в милиции имеется большой запас всяких тем, что мое благоразумие подсказало мне необходимость ретироваться. Короче говоря, из поисков темы ничего не вышло.
Я уже всякую надежду потерял и направился домой, когда мне преградил дорогу какой-то человек в лохмотьях, с одной только рукой, и попросил помочь пострадавшему. Высыпав ему в единственную его руку всю имевшуюся у меня мелочь, я невольно остановился, пораженный необычайным выражением его глаз. Они были странно жизнерадостны для однорукого калеки, и в глубине их горел огонек неистощимого веселья и жизненной энергии.
— Эге, — подумал я, — вот она — тема!
Калека, заметив мой пристальный взгляд, как-то полуиспуганно, полусконфуженно, взглянул на свое плечо и поторопился свернуть с моей дороги, но я вежливо остановил его.
— Послушайте, товарищ. Не откажите мне в любезности присесть со мной вот на эту скамейку и за соответствующее вознаграждение совершенно правдиво и искренно рассказать, как и где вы потеряли свою правую руку?
Он сразу сообразил в чем дело и предложил:
— Пять рублей за печатный лист.
Это повысило в моих глазах стоимость будущей темы, и я решил, что буду до одурения торговаться с редактором.
— Идет. Как же мы высчитаем листы вашего рассказа?
— По времени. Час — печатный лист.
Я согласился, и мы присели на одну из свободных скамеек. Человек без руки попросил у меня папиросу и, закурив, начал свой рассказ.
II
Жуткая это, товарищ, история. Жуткая и печальная. Потерял я свою руку в прошлом году и потерял ее из-за двух причин. Во-первых, из-за того, что был я паразитом трудящихся масс, а во-вторых, из-за нетвердой валюты.
Я даже подпрыгнул от удовольствия при таком таинственном и многообещающем начале.
— Из-за нетвердой валюты?
— Да, и из-за того, что был паразитом. Однако, вы слушайте и не перебивайте. Память у меня слабеть стала. Сбиться могу.
Я обещал сидеть смирно и молчать. И до самого конца рассказа этого обещания не нарушил.
— Был я до НЭПа, — продолжал мой собеседник, — гражданином, как все. Служил при продовольственном деле и имел возможность не только не голодать, но и на черный день малую толику откладывать. А надо вам сказать, что семья у меня немаленькая — сам пять! Ну вот служил я. Где можно брал, где нельзя тоже. А все с рук сходило, и даже благодарности за честность и хозяйственность имел. Потому, как сметка у меня на этот счет хорошая. На большое не зарился, а все понемногу, по зернышку, так сказать, наклевывал.
Ну и наклевал. Как пришел НЭП и разрешили вольным делом торговлю вести, так я, конечно, от продовольственного дела в сторону и лавочку открыл. Опять-таки не без патента, а все честь честью. Открыл лавочку мясную на Трубном рынке и сразу же в ход пошел. Связи да знакомства помогали. Почитай, все мои начальники да сослуживцы только у меня мясо и брали. И нахвалиться не могли. Опять-таки я им первый сорт всегда продавал. А что погнилее да поплоше случайному покупателю шло. Тут, кстати сказать, и по семейному делу мне облегчение вышло, прежде всего, жена с соседом ушла и буфет напротив моей лавки открыла. Потом двое стариков родителей во-время померли.
Осталось нас двое: я да сын подросток, лет четырнадцати, что ли. Малый учился и по части учения большие надежды подавал.
Одно только очень крепко обидно мне было. Пристал малый к комсомолу к этому и у них там своим человеком заделался. Ну пока я на службе состоял, так оно как будто ничего, даже удобно было, а как по торговле пошел, так словно бы и негоже выходит. Сперва я, однако, ему вида не подавал, пусть думаю, покуражится. А как увидел, что и в самом деле НЭП-то этот всерьез да надолго, так решил, что надо мне его в помощники определить. Позвал раз парня да и сказал ему это. Что ж бы вы думали. Уперся сынок мой. Да мало того что уперся, а еще говорит:
— Я тебя, отец, бросаю. Стыдно мне с тобой жить, потому ты нэпман и паразит.
Хотел я его поразить в щеку за этого самого паразита, да надо вам сказать — сдержался. А вдруг как в суд подаст? От них всего станет. Так и не поразил. А только плюнул да на дверь показал. Скатертью, мол, дорога.
Так парень и ушел, и остался я на своем торговом деле один без помощников, зато и без лишних ртов, так что весь доход только на меня самого шел. Жил я себе ни в чем не отказывая: и по винной и по женской части полное удовольствие имел. И прожил так полтора года, пока эта самая история не случилась.
III
Закупил я партию мяса несвежего. Дело чисто обделал. Где надо — помазал, где нельзя мазать хитростью взял. И пустил это мясо между другим в продажу, так что за фунт хорошего полфунта гнили шло. Первый день все благополучно было и даже ни одного скандала с покупателями я не имел. На второй тоже ничего. Однако, на третий, когда мясо совсем подгнивать стало и мне бы бросить уже, я эту историю продолжать стал. Ну и нарвался.
Кто и как на меня донес сказать не могу. Не иначе супружница моя бывшая, которая напротив, если вы помните, буфет держала. Она ли, не она ли, а только является ко мне комиссия, и что бы вы думали? Секретарем в этой самой комиссии мой сын единородный.
Эх! и вскипело сердце у меня. Я, думаю, тебя пащенка на свои деньги писать, читать учил (хотя надо сознаться за учение ни копейки в те поры не было плочено), я тебя читать, писать учил, а ты со своим ученьем мне же пакость пришел строить. Однако, и виду не подал, что знаком он мне. И он тоже: будто никогда меня и не видел.
— Вы, говорит, такой-то будете?
— Я говорю, такой-то буду, гражданин товарищ. А что вам собственно угодно?
— А известно, говорит, нам, что торгуете вы гнилым мясом. И пришли мы на вас акт составить и вас по закону оштрафовать.
Все у меня внутри вскипело: схватил я кусок свежей телятины, взял нож большой, да давай эту телятину кромсать.
— Это, говорю, гнилое? Это? Это? Это?
Он, однако, спокойно так в лавку проходит и достает самое что ни на есть распрогнилье. Потом на бумагу все записал, расписаться меня заставил и вышел.
Плюнул я ему вслед и слово нехорошее сказал. А он через пять минут обратно да с милиционером, да лавку мою запечатали.
Пришел я домой и чуть не плачу. Очень уж мне было обидно. Потому от собственного сына да такое снести. Печенка лопнуть может. Ну все-таки помыться не забыл, потому по нашему делу руки завсегда в крови запекшись бывают.
Помыв руки, вижу, что на правой руке палец большой, как есть до кости порезан: значит, когда это я в горячах, почитай два фунта телятины искромсал, себя и поранил. Однако, как такое не в первый раз, большого внимания я ране своей не дал, а взял с угла паутину да ею рану и перевязал с чистой тряпочкой. А перевязавши да помолившись, чего надо вам сказать, никогда делать не забываю, спать и лег.
IV
Ну вот. Среди ночи проснулся я от того, что рука моя вся как в огне горела. Встал. Засветил электричество и вижу: вся кисть у меня красная да распухшая. Всю ночь с этим делом промаялся, а утром пошел в амбулаторию, где страховых лечат. Там мне, однако, сказали, так как я есть паразит, то надо мне идти в платное. Пошел.
Осмотрел меня один врач, потом другой. Поговорили друг с другом и объявили, что если я хочу живым быть, то надо мне руку отрезать до локтя. Думал я думал, однако, думать много не пришлось, потому как жить всякому хочется.
— Режьте, говорю, а позвольте, между прочим, узнать, сколько это стоить будет?
— Столько да столько — говорят.
Как назвали они сумму, так мне денег сразу жалко стало.
— Нет, говорю, граждане врачи, никак я руку свою резать не согласен.
— Ну, что ж, отвечают. Наше дело предупредить, ваше — соглашаться или нет. Как хотите.
Пошел я домой и еще день да ночь проканителился. К утру смотрю — дело хуже. Пошел опять к врачам вчерашним.
— Режьте, уж чего там. А сколько, я запамятовал, платить-то надо?
— Столько да столько, говорят, и называют сумму против вчерашней большую.
— Как, говорю, так? Вчера меньше было.
— А так, что деньги очень быстро падают.
Опять стало мне жалко денег. Опять ушел я и опять день да ночь проканителился. На утро, однако, решил совсем согласиться.
Только врачи, как мою руку посмотрели, так заявили, что резать придется выше локтя, и цену против вчерашней уже вдвое назвали.
— Нет, говорю, граждане доктора. Придется, видно, опять подумать.
Ну и думал я до тех пор, пока меня в беспамятстве в больницу не свезли, да по самое плечо руку не вылущили, да не пришлось мне за лечение да за лежание почти весь капитал мой отдать.
А позвольте теперь узнать, сколько времени я говорил?
V
Оказалось, что говорил он ровно полчаса, и, отсчитав ему два с полтиной, я побежал домой и записал вот эту историю.
Но, позвольте, скажет читатель. У этой истории нет конца, нет соли.
Совершенно верно! То же самое и редактор сказал, когда я показал ему мой, вернее не мой, а того самого человека, рассказ.
— Твой рассказ не годится. Поди и переделай его. Какую-нибудь соль. Что-нибудь острее.
Так и сказал.
Нечего делать. Положил я рассказ в портфель и пошел, ругая и Москву, и безрукого мясоторговца, и привередливого редактора. На одной из улиц меня чуть не сшиб автомобиль, на другой — трамвай прогремел перед самым моим носом, а на третьей я наткнулся на сцену, поразившую меня больше трамвая и автомобиля.
Прямо посреди улицы, под конвоем милиционера, шагал мой безрукий собеседник. Обе его руки, и правая и левая, уверенно болтались в такт шагам, и в его глазах сияли прежние жизнерадостность и энергия.
На мгновение я остановился с широко открытым ртом и уставился прямо на него, идущего со своим конвоиром. Он поймал мой взгляд и, узнав меня, добродушно подмигнул, как старому знакомому и сообщнику. Съедаемый любопытством, я по пятам шел за ним и милиционером и вместе с ними вошел в камеру судебного следователя.
Там я около получаса ждал, пока кончился допрос моего вдохновителя, и, едва он вышел из следовательского кабинета, я, предъявив мой корреспондентский билет, ворвался в комнату.
Следователь, совершенно молодой, еще безусый юнец, вежливо и внимательно выслушал мой рассказ и сказал:
— Он вас обманул только на одну десятую. Правда, что он был мясоторговцем. Правда все, что с ним случилось. Только вот кончилось это немного не так. Вышел из больницы он со здоровой рукой, и так как на базаре торговать ему больше не разрешали, то занялся мелочной торговлей в разнос. Патента не выбирал, а для того, чтобы умилостивить покупателей и милицию, притворился инвалидом. На этом он, в конце концов, попался и перешел к профессиональному ниществу. Вот уже третий раз попадается.
Я поблагодарил следователя и собрался уйти, когда вспомнил о самом драматическом и современном всей истории.
— А насчет сына? То что он рассказал, правда? Следователь как-то странно посмотрел на меня и, кусая ногти, ответил:
— Да, правда.
VI
Герой моего рассказа еще сидел в коридоре, когда я вышел из комнаты следователя. Он понял, что я хочу проскользнуть мимо него незамеченным, но все-таки остановил меня и отрывисто, глядя себе под ноги, бросил:
— Сынка-то моего видали? Хорош? Следователь. А?
На этот раз я ему поверил.
Москва. Май 7-го года.


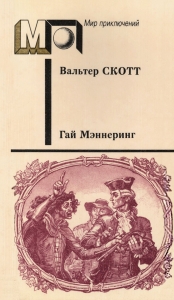
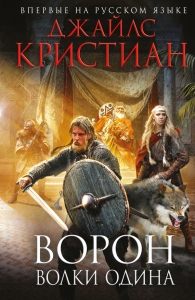
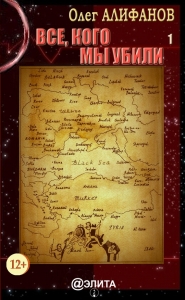



Комментарии к книге «ЕГО ОТЕЦ. Сборник рассказов», Андрей Дмитриевич Иркутов
Всего 0 комментариев