Арон Липовецкий
Перейти реку
Книга стихов
Шрифты предоставлены компанией «ПараТайп»
© Арон Липовецкий, 2018
Свободный стих, которым в основном написана книга, предлагает читателю «взглянуть на мир со всех шести сторон». Попробуйте вдохнуть воздух поэзии и самой реальности под разными ракурсами, «под пристальными взглядами из темной глубины окон».
18+ISBN 978-5-4493-5801-1
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Оглавление
Взгляни на мир со всех шести сторон
Андрей Сергеев
Спасибо, нет
* * *
мой дядюшка лёнчик
свое навыброс дарил мне
учил и наказывал
что задарма — это
дорого гильден
и кранц дружили
со мной оба
цепные гэбные
сексоты не быть мне
карлом брюлло
— вым разделся догола
на границе покинутой
родины где мне
было набраться смелости
кутался флейтой
в бумажки и книжки
оставляя даром
чтобы петь на морозе
Традиция
Социум баранов,
прыгающих через веревочку,
которую давно убрали.
Если бы Шапиро*
Скажем прямо
без аллюзий
и реминисценций:
— Если бы Шапиро
был из России
и писал бы по-русски,
его никто не пустил
бы в Хайдарабад.
А, если бы по ошибке
его включили в делегацию,
как представителя
Урала, Сибири и Дальнего Востока,
одного на сорок
преданных партии поэтов
из Москвы и Ленинграда,
то он читал бы свои переводы
какого-нибудь
нацменовского эпоса,
слепленного по требованиям,
глав- или обллита.
Ему некого было бы
почитать в Хайдарабаде,
чтобы услышать в ответ:
— Разве это стихи?
_____________________________________
*Карл Шапиро (амер. поэт, 1913 — 2000)
«Разве это стихи?»
В Хайдарабаде, городе мраморных зданий,
В мраморном университете
Времен низама, я читал верлибры
Уильяма Карлоса Уильямса, американца.
На что интеллигентные мусульмане
Сказали: «Разве это стихи?
По-вашему, это стихи?»
Я сам писал стихи, что угождали
Культурным мусульманам и индусам
Крепким, добротным пятистопным ямбом
С умеренным количеством инверсий,
Стихи холодные, гладкие, как кубики льда,
С множеством разных аллюзий и реминисценций
Перевод Владимира Британишского
* * *
вольтерово точка
право
у каждого
нынче есть
сморозить
свое мнение
и насмерть
зрения стоять
за него
виртуально
танцуй
себе соло
ни за что
не уступая
ни за что
не отвечая
Из неиз-дававшегося каммингса
ИЗ
НЕИЗ-
ДАВАВШЕГОСЯ
КАММИНГСА
Евгению Пейсаховичу
1
был мне сон,
будто сидим мы
с камми
нгсом
у него в кухне
кухня-то его но точь-в-точь
как моя
и свет только в ней.
а дверь в кухню
(стеклянная)
справа от меня
и эдварду эстлину
из-за буфета
не видна
он мне стихи читает
(я их все переписал)
и вдруг как гаркнет:
— кто это на тебя
из коридора
смотрит?
я стал его успокаивать
но не оглядываюсь
а он опять и опять кричит
я не выдерживаю
и оборачиваюсь на дверь
и мысль у меня сквозь сон:
так вот почему ты
такие стихи пишешь.
с тех пор я иногда резко
оглядываюсь:
нет ли кого?
2
(в большущем доме
большущего города
посредине большущего мира
сидя за маленьким столом
я разрезал маленьким ножом
большущее яблоко
и увидел как маленький червяк
прогрызает в нем свой извилистый путь
) чтобы выжить
3
чтотоизм
все подл (инн) ые
национальные интересы
блюдутся только в Москве
но и у провинции
есть средства воздействия
такие мысли приходят
в очереди
за непотопляемой колбасой
в промежутке
между посещением главка
и правильной клиники
(да. в)
этом мире
можно
(чтотоизм)
енить
4
давай-давай
сашуля
смелей
сначала аккуратно поддень ногтем
потом просунь палец поглубже
и все
дело сделано
еще одна одежка
содрана с луковицы
растолстевшей
за все времена
всех народов
давай-давай
сашуля
не робей
шансы твои все растут
только не подавай виду
когда доберешься
до пустоты
в сердцевине
5
полнокровную жизнь
полную смысла
исполню на площади
в костюме советского инженера
половинкой лица
с похотливо
ползающей улыбкой
завидуя
другой половиной
плохонькому полену
которому выпало
задарма
всей плотью
отплыть по волне
отвалить куда попало
6
) и убеждаешься
под микроскопом
припав всем телом
что у человеков с утра
две руки и две ноги
(осторожно: обнаженка
как сладко тешить себя мыслью
о принадлежности к науке
и
упои
тельно
при
льнуть дабы
бы
ть
неподвижным относительно
предмета наблюдений
улетая вместе
кончили
ты тоже не можешь пошевелиться
ради науки
мы обессилены
и забыли о судьбах
цивилизации
как ты и сказала»
пусть катится
в тар
тар
ар
Ы
7
обгоревшую спичку
брось в урну
если есть
или урони на пол
если невежлив
а нет так засунь
снизу в коробок
если не набито этим
как там его
битком
погоди вот докурю
и все изложу
обгоревшую спичку
можно подбрасывать
и ловить на лету
и она обязательно упадет на пол
так что с самого начала
надо иметь это
как там его
в виду
уже уже начинаю
обгоревшую спичку
можно подержать в зубах
если нечего сказать
а потом бросить на пол
как там его
в сердцах
ты зря убегаешь
я как раз начал
1981 г.
«дождь на краю…»
дождь на краю
земли израиля
шумит монотонно
одинаково всюду
размывает границы
мест и лет
под этот шумок
хокингово
время-подросток
косит и смывает
скошенное
в абсолютную
канализацию
Хлеб
Возле хлебных
нищих больше,
нет их возле ювелирных.
Подаю и подают.
Потому что сдача — мелочь?
Надышавшись ситным духом,
Утонув рукой в ржаном.
Книжный магазин
В «Политической книге»,
куда никто не заходил от нечего делать
даже в зимние холода,
я покупал сочинения с названиями типа
«Израильские агрессоры — угроза миру».
Я не искал среди казенной риторики
живое слово или намек и повод домыслить.
Я находил там фотографии
танка «Меркава» или самолета «Лави».
Этих машин войны можно было
коснуться взглядом,
или провести пальцами
по мелованной бумаге,
или приблизить их к глазам,
чтобы ничего больше не видеть
и раствориться в пространстве снимка.
Коды
эта сенильная старуха
не помнит ветошь
кода входного замка
на слух
дергает и дергает внуков
открыть ей подъезд
написали ей код
на лучшем из мест
на руке на белой полоске
с которой удален
лагерный номер
каждый день
уходит гулять бабушка
много часов не лень
с адресом в кармане
если заблудится
гуляет по городу
ребенок
между бараками
куда захочет
забыть забыть
закодированное
до свистка
со своими
Обожать Уругвай
— Они обожают Уругвай!
Выяснилось, что он давно когда-то
перевез жену и дочерей в Штаты.
Он так о них и сказал:
— Они обожают! Обожают Уругвай!
Вдруг выяснилось, что есть люди,
которые обожают Уругвай.
А я пропустил.
Не подумал о них ни разу в жизни,
не попытался их понять.
И как это я не брал в расчет?
Можно обожать и Уругвай!
Даже не обязательно там родиться.
Вот бы на минуту попробовать
обожать Уругвай.
Как же должна перекоситься психика,
чтобы полюбить Уругвай?
Вот бы такое пережить.
Может это уложится
в моей израильской башке,
пока я стою в пробке на Бейт Дагане:
— Некоторые обожают Уругвай!
Спам
Дениска, с которым мы делили
третье место в стиле баттерфляй,
теперь стал китайцем Деннисом,
расколдовал букву
и пишет из Шанхая
как сильно упали цены
на его сварочные электроды.
Для меня особые скидки.
Шарф голубой
(семейная сага)
Резолюция памяти
На картах Гугла
я нашел спутниковое фото
села, бывшего местечка,
где жила отцовская семья.
Увеличивая зум, можно увидеть
крыши домов, дворы,
огороды, даже заборы.
Но уже нет там того дома,
куда занесли перед смертью
моего деда,
избитого погромщиками.
Гугл еще не умеет
увеличивать резолюцию времени.
Не найти и того плетня,
где «перекликнулось эхо с подпаском»,
у которого присел по нужде
семилетний мальчик.
Не услышать, как у самого его горла
свистнула казацкая сабля.
То ли камень на дороге чуть качнул коня,
то ли пьяный парубок
замешкался с ударом:
— Уу, жидёнок, — дыхнул перегаром.
И мой будущий папа
остался жив.
Гугл еще не умеет передавать
шумы, отголоски, запахи.
Всматриваюсь в село
на месте бывшего штетла,
различаю мельчайшие детали.
Гугл еще не повышает
резолюции памяти.
Пытаюсь угадать,
где был их дом,
в том местечке,
которое спас мой дед
жертвоприношением
самого себя.
Где его старший сын Хаим
набирал воду в реке
выше по течению.
По каким улицам села
развозил ее,
зарабатывал на ужин.
У Гугла нет
спутниковых снимков
причин и следствий.
* * *
Перед прыжком с дерева на балкон
я наконец услышал, что сказал отец:
— Рядом ограбят квартиру
и кто-то укажет на тебя:
— Этот влезал на балкон.
Кому будет дело, что ты потерял ключи?
Откуда папа знал об этом?
Цвела ли черемуха его свиданий
той дождливой ночью,
по которой раскатился воровской свист?
Иду домой по своей улице
под пристальными взглядами
из темной глубины окон.
Отрез черного панбархата
Все-таки Гита сунула его в багаж
и привезла в Израиль.
На кой ляд он был ей здесь?
Было не до него:
новая страна, переезды,
старая мебель,
полузнакомые лица,
полувоенная взвесь новостей.
Ткань слежалась, потеряла вид.
После ее похорон отрез выбросили.
Только смерть разлучила их.
Тогда и припомнили,
что Гита все время
хотела подарить
этот отрез.
Последние раза два
внучке, «гласность — перестройка — ускорение»,
«я так хочу быть с тобой»,
секретарше в кооперативе.
А до этого невестке,
«экономика должна быть экономной»,
«tombe la neige»*,
аспирантке без второго ребенка.
Но сначала дочери Асе, в оттепель,
«на новые земли едемте с нами!»,
«я дежурный по апрелю»,
на поступление в столичный пед.
Подарить она хотела
в особый момент
для такой роскоши.
Но так и не подарила,
не случилось.
И как передалась ей
мамина вера, что вот-вот
и такое снова будут носить.
Январские окна были обметаны снегом,
где-то у соседей
«стаканчики граненые упали со стола».
— Это тебе подарок
на рождение Асечки,
отрез черного панбархата.
Вернешься в Краснодар,
похудеешь, спортсменка моя,
и сошьешь у хорошего портного.
— Спасибо, какой красивый.
Можно, мам, я оставлю его у вас,
истреплется ведь по гарнизонам?
Не хотела расстраивать маму,
промолчала, что на дворе уже 41-й,
«широка страна моя родная,
много в ней лесов, полей и рек»
— Ну, какой панбархат, мам?
А черный панбархат
все играл у нее на руках
все манил переливами,
соблазнял мягким узором,
обещал прильнуть к телу.
— Как ты захочешь, Гиточка.
Такой длинный, на платье в пол.
Никто так и не узнал,
как он, оставленный в Москве,
оберегал тебя
на оккупированном
Северном Кавказе.
Это он касался твоих ног
там, в подвале,
где ты мочилась, стоя,
все полтора года.
Молчи, ни слова об Асечке.
«Мне на полу стаканчиков
Разбитых не собрать,
И некому тоски своей
И горя рассказать.»
_______________________
*tombe la neige –падает снег, франц., из песни Сальваторе Адамо
Лопухи
Мама печет пироги,
Пахнет ванилью и сдобой.
И, примостившись удобней,
Прячу свои синяки.
Возле жестяной духовки
Мама гусиным крылом
Мажет листы и сноровка
Кажется мне колдовством.
Все отчужденно, как будто
Я ни при чем здесь ни капли.
Летом безмолвьем обуто,
Кухня — лишь сцена в спектакле.
В следущем действии топот
Детских сандалий по полу
И по скрипучим ступеням.
Соседский сдержанный шепот:
— Шуму… об эту-то пору, —
И лопухи по коленям.
И доносящийся окрик,
Чуть-чуть истошный, надсадный,
Рассчитан на непослушанье.
Порожек вымытый мокрый,
Ни суеты, ни досады,
Ни цепей обладанья.
По дороге к себе
Вчера моя мама
ставила мне в пример
своего соседа
(тесть устроил ему степень),
который никогда не ругается
со своей женой.
Сегодня моя мама
ставит мне в пример
бывшего мужа моей двоюродной сестры
(отсудил у нее квартиру в Москве),
который никогда не ходит
по дому босым.
Как обычно, моя мама
ставит мне кого-то в пример
(очередной откровенный мальчик),
а я медленно привыкаю к мысли,
что придется тащиться
домой к жене
через весь город
в мокром ботинке.
Знал я одного
Знал я одного старого большевика.
Он понятия не имел о
«Столовой старых большевиков».
— Гегемоны совсем оборзели,
работают только по субботам
за двойную оплату,
— говорил я ему неизвестно зачем.
— Не открывай пасть на рабочий класс!
— срывался он в ответ.
— В деревне народа совсем не осталось,
кто не сбежал, спился или помер,
— продолжал я.
— Опять «голосов» наслушался?
— Нет, были вчера на картошке.
— Не болтай, дурак,
и за меньшее расстреливали!
— он поправлял зубной протез,
слетевший от ярости.
— Да ладно, пап, проскочим,
— отвечал ему я и оставлял
на табуретке сумку с продуктами,
купленными по талонам
для инвалидов войны.
— Я захлопну дверь, не вставай,
— говорил я, уходя.
— Да уж, доверяй таким,
— и ковылял со своей палкой
приобнять меня в дверях.
Моя бабушка
Моя бабушка не пугала
меня своим идишем.
Моя бабушка не впихивала
в меня мерзкую кашу.
Моя бабушка не шептала
родителям, что я курю.
Она не уцелела
Зонт
Знаю я, знаю, сынок.
В этом доме желтеют фотографии
«когда-ты-был-маленьким».
Здесь всегда найдется
«что-нибудь-вкусненькое»
И твои лишние вещи
«могут-иногда-понадобиться».
Ты вылупился из этой скорлупы,
застарела пыль в ее трещинах,
и пересохла плацента.
И лучше отзвякать своим ключом,
когда родителей нет дома,
чтобы без ворчливых назиданий.
Не морочь мне голову,
что «ты-спешил-а-потом-забыл».
Просто верни мне зонт.
На завтра обещают дожди.
Последняя правка
Его сын сразу после похорон
улетел обратно к себе.
Богадельне он ответил по мылу:
— Можете выбросить все это.
Даже не спросил, что осталось:
сгнивший крой на яловые сапоги,
пиджаки с дырками для орденов
распавшейся страны,
нестоптанные выходные туфли,
набор инструментов в шкафу.
Ну и откровенный хлам:
белье, одежда, посуда,
авторучки, письма,
поблекшие фотографии,
полдюжины книг, испорченных
автографами и пометками,
на столе неразборчивая рукопись
воспоминаний,
страниц двести.
Последняя правка
сделана накануне.
Моя тетя
Моя тетя
последние двадцать лет
не читает книг.
Боится умереть,
так и не узнав,
чем все это кончилось.
1981 г.
* * *
Собираясь в кино,
моя прелесть,
все проверь еще раз,
не забудь
взять помаду с расческой,
деньги, ключ от квартиры,
свой платочек,
чтоб вволю поплакать
над доподлинной
дамой с камелиями
и, конечно,
свою неизменную
пару свежих морковок,
пару первых июньских морковок:
погрызть за здоровье
свое и нашей
будущей малышки.
Продавец воздуха
Вместо светской беседы
Непогода наша — хамсин в июле,
залипает плевра на клохтанье фибр.
Но, покуда Арава не распишет пулю,
ты подсел на рифму, упустив верлибр.
И поманит рвануть на дачу к сестрам,
покопаться в сухарнице старожилом,
по Москве за поджаристой коркой черствой,
да хоть в Петербург за рыбьим жиром.
Но очнешься на ощупь в набухшей ночи,
где стрекочет, где учит не обознаться,
где звездою трассирующей пророчит
то ли их калаш, то ли М-16.
* * *
«Но если спросят: „Зуся, почему ты не был Зусей?“, — на это ответа у меня не будет»
Рабби Зуся из Аниполи
Почему здесь? Неужто
от Рейкьявика, кудль его,
и до Окленда, «да и так сойдет»,
не нашлось прохладней места,
просторней места?
Кого ищешь ты
в старом Яффо
среди гаражей
и антикварных лавок,
среди пафосных офисов
по ремонту
выброшенных стиралок?
Неужели мои
тирские полушекели
находят в Америке?
Воистину велики финикийцы,
корабелы и мореходы.
Но зачем ты тащил
из Цинциннати
свой любимый
кадиллак Эльдорадо?
Я нашел бы тебе,
ну да,
здесь не хуже
со всеми лошадями и поршнями.
Когда надоест мне твой квест,
надоест чеканить подлинные
свои финикийские финансы,
я выйду, Шмуэль, навстречу твоей
разболтанной задымленной коробке.
— Кто тут ищет Джонни? — спрошу тебя.
— Сегодня Джонни — это я.
И не спрашивай,
почему, Зуся,
ты не был Джонни?
Что за кардио шумы в моторе, старче?
Что за античный гевалт ты поднял,
Мелк, в нашем Карте?
Сегодня Джонни — это я,
черный эритреец.
Сегодня я помазан быть Джонни,
о котором сказали тебе:
он лучший механик,
он лучший гаражник в Яффо.
Лента новостей
Отчет минфина
о доходах населения,
графики с ростом цен,
предупреждения
о загрязнении моря
или опасных продуктах.
Фото плачущих жен,
избитых мужьями,
разбитый в драке прилавок.
И вдруг перевернет
широкая улыбка,
или спокойное благодушие
молодых счастливых лиц,
в колонках о гибели
на службе или в терактах.
Тель Авив
Не знаю, что пришло тогда тебе в голову,
но искаженное телефонным эхом-криком
оно было выплеснуто мне в уши какой-то фразой
«она никогда не приедет» или «она решила не ехать».
Оглохший, я вышел из пассажа на Дизенгоф,
и вдруг оказалось,
что вечер очень душный
и у меня бездна пустого времени.
Через маленькую вечность
я зацепился за какое-то кафе на Бен Иуде,
где долго катал-во-рту, растирал-пальцами кофе-пиво-салфетки.
Нет бы поразмыслить под левантийскую музыку
с чего бы это (страхи твои? квартира? а, может быть, дети? мама?),
но в мозгу ерничала-звенела комариком другая
совсем-между-нами потеря-нелепица,
«невермор-невермор каркнул ворон за бугор…»
Потом у моря было шумно,
оно трепалось без умолку
во влажной наощупь темноте.
А Тель Авив уже набросил фиолетовые тени
на торопливую застройку прибрежных улиц,
не штукатуренных со времен мандата.
Бросая бананово — лимонные корки и кокакольные банки
в пахучие мусорники умершего на ночь рынка Кармель,
он уходил от быстро остывающего пляжа,
оставляя меня в колючем песке посреди
никогда.
Совсем ночью заскочил Яшка,
у которого я снимал комнату,
пока он приживал санитаром у больного старика.
— Ты знаешь, случилось несчастье, — начал он.
— Неужели еще и твой старикан умер? — удивился я своей трезвой догадке.
— А вот и ошибаешься, он выздоровел и теперь будет обходиться без меня..
Тебе надо бы подыскивать другое жилье.
— … житье-бытье, — отозвалось во мне эхо.
И я уснул
в расчете проснуться утром
в бесследно другом Тель Авиве.
Бэтрей зузот*
Были бы мы иерусалимцы,
поехали бы на Мервое море иль в Эйн-Геди.
Оставляли там на привязи верблюдов,
торговались за козлят и благовонья.
Там неподалеку Авраам-авину**
вытряхнул песок из сандалий
и последние отдал две монеты
за нелепую пещеру у Хеврона.
Но живем-то мы с тобой на краю света
Не в столице, а в унылом захолустье,
катим по шоссе к другому морю,
по долине меж холмов и пригорков,
где Давид одной пращей свалил Гольята.
То-то поднял пыль гигант упавший,
а всего-то хотел сшибить он пару сиклей.
Что ж осталось нам на побережье,
вдалеке от Города Давида?
Катим к морю, пока не село солнце,
там в волнах утопим все печали.
Это, если я найду парковку
хотя бы и бэтрей зузот,
и чтоб не больше четверти часа
было хода до какого-нибудь пляжа.
__________________________________
* бэтрей зузот (арамейский) — за пару монет, фраза из пасхальной песенки.
** авину (иврит) — патриарх, буквально — праотец наш.
Вечеря
В томленых молочных сумерках
я привел своих русских гостей
в прохладное кафе в Эйн Кереме,
что в Иерушалайме у Свет-горы притулился.
Неспроста привел сюда их.
Но не дали мне они и слова вставить,
наперебой рассказывали оба,
как потрясла их «Тайная вечеря» та,
что Леонардо да Винчи написал в Милане.
— Словно волной меня накрыло, дрожь пробила…
— Словно в одном с ними зале оказался…
— Жаль, конечно, что краски осыпались,
но реставрация все-таки была успешной…
И такая фреска потрясает еще больше…
Солнце село и жара спадала,
в небе темном выстроились звезды.
— Как неудобно сидеть здесь,
на этих камнях и подушках…
— Ты, должно быть, над нами посмеялся?
Наверное, лучше прилечь…
— Да, лучше опереться на левый локоть,
быть хозяином на трапезе вечерней…
— На месте, где ты сейчас присела,
сидел, говорят, Шимон Канаит
или Иуда Яковлев, говорят другие.
Но не спросили — кого это помянул я?
А я-то намеренно привел их,
истых новых православных,
к месту тайной вечери.
В то самое место, для ноцрим
бережно воссозданное нами
по всем описаниям подробным.
Но что Иерушалайм им после Милана,
после осыпающейся фрески Леонардо?
Завтра посмеемся мы над вечеринкой
с коллегой, зовут которого Ешуа,
толстым бородатым досом из Бней-Брака,
программистом, который от души
колдует, как Б-г, на своей джаве*.
У этого марвихера семья большая,
надо же и ему иногда посмеяться
над чашкой густого кофе.
_____________________________
*джава — java, язык программирования и кофейная гуща
Дедал
о сколько этих икаров
сгорело на стекле
керосиновой лампы
кармельской фабрики «Слава»
не все даже успели крикнуть:
— я хотя бы пытался!
— это пламя стоит всей жизни!
виноват, конечно, мастер Дедал
он должен был убавить огонь
или повесить табличку «пытаться-не-до-смерти»
или устроить шук* Кармель
чтобы за небольшую плату
каждый воскурил свой фимиам
в своей лампаде или,
плюс пара шекелей**, в своей купине
перед вон тем
крепким стариком Элиягу,
спящим на прилавке
среди своих маслин и фиников.
_________________________________________
Комментарии
Отсылка к эпизоду противостояния пророка Илии (Элиягу)
жрецам Ваала и Ашеры на горе Кармель (район современной Хайфы).
*шук — рынок (иврит), шук Кармель — рынок в Тель-Авиве;
**шекель — название денежной единицы в Израиле в древности и теперь
* * *
«Наш Бог вывел нас из Египта»
Йегуда Галеви, «Кузари»
Ты, что вывел нас из Египта
эту чашу пить, магендовид несть,
не лукавь, не бзди, скажи:
— Б-г-то есть?
Отвечает морзянкой сердца:
— бог весть, бог весть…
* * *
Ире
Двух черных котов
я поставил у дверей дома
но они не стали сидеть
и бегут неторопливо
по зеленой лужайке
пощелкивая синими искрами
сабельно разваливая
тропическое безмолвие
И скоро совсем скоро
два черных кота
прыгнут под ноги тебе
и совьются — заурчат
у рысей — ног твоих
под автобусным сиденьем
И только мягкий профиль твой
будет незыблемо нежно ускользать
среди пылающих за окном
предзакатных картинок
длинной дороги домой.
Обозначение цвета
«У вас… даже в „Песни песней“ — нет, говорят, ни одного слова, означающего цвет»
Зеев Жаботинский, «Обмен комплиментов»
Разве дочери Лавана у колодца
отделяли цвет и запах от слова «овцы»,
от голосов их, от голодной прыти?
Напоить стадо, меняющее окрас после выпаса.
Долина между гор в подшерстке теней,
в подпалине гулкого воздуха.
Разноцветье овец в полдень и на закате,
десятки пар глаз, ищущих и обретших,
камни в оттенках липкого молока из их сосцов.
Отара, густая, как растопленная мякоть фиников,
спускается под свою походную песню
по травянистому склону холма.
— И Рахель пришла напоить овец, —
не жалуйся, на воздержанность слога.
— И отвалил Яаков камень с устья колодца
руками цвета силы и нежной страсти.
* * *
Дождь напоследок
набухли флаги
прибита пыль
но духи пожухших трав
поднимаются
свежестью
от земли
напутствуя озоном
молодую зелень
Незыблемая скала
«Не наполнишь собою дом, не мелькнешь в зеркале»
У.-Ц. Гринберг, перевод А.Л.
встречал эти лица и я, и больше не встречу никого из них.
на светофоре не попросит проехать прямо из правой полосы,
на пикнике не сварит кофе на моем остывающем мангале,
ни в парках, ни в магазинах, ни в банке, ни на пляже…
везде там, где мы будем спокойно беспокоиться за детей,
допоздна работать, планировать отдых, торговаться на рынке,
спешить и опаздывать, выздоравливать и отчаиваться…
под надежным куполом, в тени неодолимой скалы
из резервистов и срочников,
которые и впредь будут накрывать нас крылом своего мужества.
— Эй, дедок, ты где? Это шоссе, это тебе не забор сторожить, —
с ухмылкой отмахивается он, подрезав меня на своем мотоцикле.
Иерусалим в снегу
Машины сползают c холма, подняться мешает занос.
На обочинах мокрые следы от колес
там как раз, где белизна разлита,
прямо по краю накрывшего Город талита.
Видел он, видывал Иерушалаим всякого.
В снегах смирения взгляд проникает за окоем,
руку вижу Эсава, след ее в каждых вратах на нем.
А голос слышу домашний отцовский, Якова.
— Магазины закрыты. Ужинай без меня. Остальное потом.
— вдоль притихшей дороги разноголосица-метроном
и вторящий Якову шепот в мокром снегу из-под шин:
— Изя, послушай, один Он у нас. Один.
* * *
«Название „Тель-Авив“… переводится с иврита как „холм весны“, тель — курган, холм, ави́в — весна, обновление.» Википедия
Весна — это телефон Тель Авива,
Напишешь Tel. и вспомнишь:
твой телефон — весна.
Положись на него, связь надёжна,
перелетный дрон доставит
твою срочную радость.
Тель Авивом веснит во всех
разговорах, текущих без
проводов молоком и мёдом.
Красный светофор
Вечером в шабат,
во время футбола
и молитвы в синагогах
при свете желтых фонарей
под темно-голубым небом
мне была отпущена
долгая минута равнодушия,
которому научил меня
красный светофор
на пустом перекрестке.
* * *
Представляешь,
не было чистого,
и она предложила мне
выпить из ее бокала.
Словно мы оба не ведаем
о магии приворотов.
Сказала бы,
что хочет переспать,
было бы не так грубо.
И я расхохотался
без слов, совсем как ты,
помнишь в метро в Барселоне.
Кичливый кабальеро
тогда затеял с тобой флирт.
А я, стоя у него за спиной,
начал корчить тебе рожи.
И ты рассмеялась
прямо ему в лицо.
Он оскорбился,
полез было в драку.
Но тут влезла наша дочь
и объявила по-русски,
что мы сейчас выходим.
Накануне
«Как собеседника на пир»
Ф.И.Тютчев
Мы возвращались из Берлина
со сложными чувствами в ручной клади.
Рядом со мной сидел молодой турок.
Он летел только до Истанбула,
где у нас была пересадка.
В коротком разговоре я выбирал слова:
— Турков много в Берлине.
В Турции остается пассивное население.
— Он удивился и проговорил что-то вроде:
— Возможно вы правы, — и вдруг:
— Скоро все изменится, —
он резко отвернулся к окну.
Повернулся ко мне и повторил с улыбкой:
— Скоро все изменится!
— Было бы неплохо, — поддержал его я.
Через пару недель после возвращения,
когда мы забыли об отпуске,
в новостях сообщили
о неудавшемся перевороте в Турции
и о волне массовых репрессий.
Удалось ли ему избежать ареста?
Удалось ли сохранить надежду?
Новая тишина
Когда уехали наши соседи,
из газона исчезли игрушки
и лузга от семечек.
Обнажилась тишина,
загроможденная прежде
детским смехом и плачем
и окриками взрослых.
Стало слышно, как барахлит мотор
у развалюхи-фиата из соседнего переулка.
Стали доноситься запахи,
которыми местные коты
пометили окрестные скверики.
Так прошло несколько дней,
и тишина стала наполняться тревогой.
Гул беспокойства нарастал день ото дня.
Когда уже они въедут?
И кто они, эти новые соседи?
Все произошло, когда нас не было дома.
После работы, по шкафу в окне
и велосипеду на площадке
мы увидели, что соседи въехали.
Тишина оставалась прежней по инерции,
кроме разве ставших особенно резкими
хлопков входных дверей.
Наутро мы увидели
соседей у входа в дом на стоянке.
Это были усталые люди
с заостренными чертами лиц.
Пятеро взрослых и ребенок.
Они объяснялись в полной тишине,
порванной в клочья
их обильными жестами
и неприятной мимикой.
Вскоре они разъехались,
забыв в воздухе
сполохи безмолвия.
Неужели теперь всегда будет так тихо, —
крепла робкая надежда
и переходила в ликование,
и оно все разрасталось.
Вечером того же дня мы слушали,
как соседи по одному возвращались домой.
И домашний покой каждый раз
взрывался гулким колотьем в двери,
утомительно долгим,
продолжавшимся до тех пор,
пока маленькая девочка с остатками слуха
не открывала дверь вновь пришедшему.
Идеальное государство
Мой триколор —
серый, рыжий и черный
— цвета дворовых котов.
Истинные хозяева,
идеальное государство —
незаметное и обязательное
для граждан.
Обжитой дом.
Смена частоты
Эмиграция похожа
на смену длины волны
радиоканала
после многолетнего
успешного вещания.
Огромные вложения
в свою рекламу,
коррекция профиля,
потеря спонсоров,
нестыковка трафика,
разлад с окружением,
попытки сохранить
сотрудников
с прежними трюками.
Потоки сожалений,
улыбчивые проклятия,
новая шкура привычки.
Понимание прочитанного
Когда о квартире объявлено:
— 3 комнаты, 4 этаж из 4-х,
отремонтированная, —
то умолчание дополняет
по своим правилам:
старый дом без лифта и парковки.
Но, если после ее осмотра
на улице под мокрым кустом,
в кучке мусора и листьев
поблескивает под звездами
пластиковая бутылка,
можно прожить мгновение
молчаливой безлунной
несказанной ночи
бездомного.
Пена
Пока машина во время мойки
пробирается между щеток,
струй воды и мыла
тебе кажется, что ты
взмываешь или опускаешься
или движешься вспять.
Но ты только что видел,
как машина перед тобой
медленно двигалась вперед.
Вся эта иллюзия длится
не долее пары минут,
как будто ты прочел
небольшое стихотворение.
Хайку
* * *
В прудике рядом с домом
резвится девчушка.
Ей все равно, что она рыбка.
* * *
На закате в конце Ава
нашел синагогу в Мальмё.
По граффити со свастикой.
* * *
Монеткой о камень мостовой
звякнет смс-ка. Подхвачу ее.
Хватит на газировку.
* * *
Мотылек-однодневка в полдень
знает о зиме всего ничего.
Вот бы и мне вспорхнуть над прошлым.
* * *
Потырен мой пушкин,
и все, что в нем было, украли.
Ту сумку свою, в которой держу документы,
кредитки, права и деньги, и деньги, конечно,
зову по старинке — мой пушкин.
Удобно, она же и есть «наше всё».
В каком-то нескладном кафе,
зачем я там был и не вспомнить,
и кто там был с кем непонятно.
На все уговоры сначала ответил отказом,
потом согласился, присел,
ждал чашку душистого чая.
И, надо же, пушкина сперли.
Такую вот каверзу мне
поднафрейдил мой сон.
Я долго не мог отойти,
и как теперь быть мне с правами,
мне ехать же надо работать.
А тут наяву еще это письмо из Канады
в вотсапе: племянник пропал,
но все обошлось, слава Богу,
с ним был уикендный запой.
Нашли его, вроде здоров.
Мой пушкин, мой маленький мальчик,
с которым на речку ходил я купаться,
малыш, в котором души я не чаял,
что стало с тобою, что стало?
Ведь не был ты сроду пропащим,
ты вырос, толковый ты стал реставратор.
Что стало с обоими вами,
мой пушкин, мой мальчик?
Классик
Саше Штейнбергу
Поскальзываясь на утоптанном снегу,
мужичок толкнул дверь в коптёрку
прямо шкаликом в правой руке.
Сбылось твое предсказание:
— Вот он, вот он пошел, пошел за угол,
ко входу в подвал, нашел свой стакан.
Ты не знал? Он прячет стакан за кирпичами.
Солнце сияло весной сквозь запыленное окно,
наши сигареты были только что раскурены,
перестройка развела инфляцию оптимизмом,
выезд в Израиль внезапно стал доступен.
И мы все еще были молоды.
Все это мы еще припомним судьбе сегодня.
Поговорим и о Риме и твоей любимой вилле Адриана,
которому я не могу простить его успехов в Иудее.
А пока мы стоим в 89 году
на третьем этаже филиала института,
в курилке на задней лестнице. Ты отправил статью
и еще не знаешь, что она станет классикой,
не ссылаться на которую будет невежеством.
Раздумывая о метаморфозах судьбы,
я освобождаю указательный палец
и нажимаю на кнопку звонка.
И, когда ты откроешь дверь,
то освободишь и остальные мои пальцы,
сжимающие бутылку.
И мы примемся в Иудее дегустировать коньяк,
заложенный еще рабами Рима.
Уроки забвения
Настоящий друг зарежет тебя спереди
О. Уайльд
Забыты
колоды перфокарт
в огромном портфеле.
Стерты бобины
магнитных лент
Рассказы о гибких дискетах
уже никому
не портят аппетит.
Предан забвению
настоящий друг,
с которым вы ломали
пополам краюху
«машинного времени».
Тогда еще завтра
весело пьянило
обещанием успеха.
И он невзначай
пырнул тебя
спереди.
В ранних сумерках
согревать в ладони рюмку
с выдержанным коньяком.
В «проходящей тени
дней человеческих,
что выросла и увяла»,
повторить урок:
незабвенно
только настоящее.
Звезда
Ночной дождь еще накрапывал поутру,
обычное дело — январь.
Так он и барабанил по стеклам машины
всю дорогу на работу.
Под его синкопы аромат кофе в ноздрях
нашептывал мне подробности
прочитанной за утренней чашкой статейки
о юности авиации.
Про героические очки в пол-лица,
про моду на круглые кожаные шлемы.
Аукался далеким эхом: «он летит, летит»…
И вдруг я увидел маленькую звезду.
Я удивился ее яркому свечению
под плотным слоем зимних облаков.
И уже не мог от нее оторваться,
пока она не приблизилась настолько,
что я разочарованно различил
контуры небольшого самолета.
Он шел прямо на меня, надо мной,
по привычному маршруту
на свою домашнюю посадку.
А звездочка удивления все чего-то царапалась.
Добро бы я увидел
игольчатую изморозь на пальмах
или рыхлый снег на обочине,
когда-то однообразно унылый,
ломко хрустевший под тяжелым ботинком,
надоевший к середине зимы.
Воздух тишрея
На мягком солнце тишрея*,
в Суккот, в середине дня
я увидел на рынке старика,
похожего на Бааль-Шем-Това**.
Проследил за ним и заметил,
что он ходит по рядам
и портит некоторые овощи и фрукты.
В его руке вяли огурцы, петрушка и укроп,
в кожуре помидоров появлялись дырки,
а на боках яблок коричневые пятна.
Догадался я, ничего не сказал,
потому что, кто же видел его
кроме меня?
Уходя с рынка, я обернулся,
рабби Бешта не было,
а зеленщики перекладывали
подпорченные продукты
в коробки на выброс,
для бедных,
остатки на шару.
Вспомнил, кто-то читал мне
со смехом письмо родителей:
— Сними нам квартиру
поближе к рынку,
там все дешевле.
_______________________________
*Тишрей (иврит) — месяц начала года в еврейском календаре, приходится примерно на сентябрь — октябрь.
**Рабби Исраэль Бааль Шем Тов (Обладатель Доброго Имени), коротко Бешт — праведник и целитель, жил в начале 18 века, основал хасидское движение в иудаизме
* * *
В свои 60-плюс
она подводила итоги,
печалилась, что стареет,
жаловалась на усталость.
Было все у нее, как у всех.
Достигнув семидесяти, пережила
смерть единственной дочери.
Вскоре рассталась и с мужем.
Потом прожила еще 20 лет,
в воспоминаниях и болезнях,
нарастающих и беспощадных.
Плюс два переезда.
Теперь и оттуда она бодрит:
— будет хуже, держись.
С другой стороны,
достигнув семидесяти,
увлеклась керамикой,
стала лучшей в районном клубе,
победила в нескольких конкурсах,
что-то купили в коллекции и музеи.
Двадцать лет новой жизни,
о которой и не мечтала.
Теперь и оттуда она бодрит:
— держись, у тебя все впереди.
Памяти Славы Карелина
«Дается истина воистину по капле нам»
Вячеслав Карелин
Мы жили-дружили когда-то в стране,
где успеха желают вполголоса исподтишка.
Тогда уже разрешили нам слушать открыто
юные во весь голосами звонкие,
о том, что любовь купить нельзя
даже на этой желтой субмарине.
Мы перебегали по ней из инженерного корпуса
в первый цех, в столовку
с перловкой лучшей в мире, для «гегемона»,
по первому снегу.
И придерживали тебе двери,
столько, сколько было надо,
чтобы ты дошел на костылях и не поскользнулся.
Ты дошел до своего успеха,
как никто из нас, говоривших вполголоса.
Хотя не было нас, придержать двери,
которые били тебя молча.
Ты получил знаки отличия,
и черта с два ты поверил,
что мы радовались с тобою издалека.
И на это хватало твоей мудрости,
как и тогда, когда вор украл ключи от гаража
из твоей машины. Я еще предложил
разумно, по-еврейски, спилить замок
и поставить новый. Но ты знал больше,
как всегда, и предложил пошарить
в траве вокруг машины.
Там мы и нашли ненужные вору ключи.
Как всегда ты неожиданно прост и точен.
И я понимаю, что где бы то ни было
могу услышать твой окликающий хрипловатый голос:
«- Ты уже по дороге домой. Ждать осталось недолго, да»,
— и на него повернусь,
повернусь, не колеблясь,
привычно повернусь на твою улыбку,
а тебя там не будет.
Французская кухня
Политика всегда дурно пахла.
Наспех подтертые выделения
жадности и пот амбиций
под пудрой и благовониями.
Пипл всегда хавал политику,
не разбираясь во вкусах цинизма.
Сегодня это не каша и не бобы
и даже не заколотый,
как поросенок с кровью,
нашпигованный чесноком.
Блуд и резня навсегда войдут
в национальную историю.
Интриги будут подзабыты.
И напрочь врастет в быт
травой забвения: эта
флорентийка Мария Медичи
заодно приучила французов
мыться и прилично готовить.
Второй фрагмент
Леониду Рабиновичу
Второй фрагмент, опубликованный Бергом,
содержит отрывки отчета,
по-видимому, итальянского еврея
его кастильскому покровителю Хасдаю ибн Нагрела
о своем пребывании в Иудее проездом в Константинополь.
«Раби Меир бен Яаков написал для нашего хозяина Хасдая.
…Отмечают, что в стране этой дети и евреи
отличаются честностью и благовоспитанностью.
Вот какая встреча была у меня в Яффо
с сыном моего давнего компаньона.
Через стеклянную стену кафе
мне было видно, как подъехал этот парень.
Он толкнул дверь в приглушенную прохладу
и впустил внутрь волну зноя, тесноты и криков.
Здесь, между прозрачными ломтиками
соленого лосося, облитого лимоном,
изредка припадая к кальяну,
он рассказывал мне, как по цветy масла,
где-то в автомобильных недрах, определить утаенный пробег.
Эта работа давала ему неплохой заработок
для завершения учебы в университете.
Голос его при этом катился каплей воды по каменистой пустыне.
Недавно он вернулся с резервистской службы.
Он обмолвился с неохотой о потной одежде и
бессонных патрулях в ночной пыли,
о докучливых насекомых и военных опасностях.
После этого он уже ездил в Калифорнию,
встречался с подружкой, проводящей там свой постдокторат.
Подружка брала его на встречи
со своими потенциальными женихами,
которых находила в интернете.
Так она, в поисках «мужского тепла с серьезными намерениями»,
пустилась в сексуальное приключение
с респектабельным хозяином богатой виллы в Геркулануме.
Было невозможно для неискушенной девушки преодолеть соблазн
и не сесть в его длинный красный кадиллак,
блестящий на фоне ночной листвы и звездного неба.
По ее словам, у него в доме были неправдоподобные,
обволакивающие душистые простыни.
— А зачем же ты был ей нужен? — спросил я.
— Да ведь я еще с университета разыгрываю роль ее друга.
Это позволяло ей избегать постельных продолжений
с большинством из новых знакомых.
Надеюсь, мой господин, этот рассказ подтвердит сведения,
что евреи стали смешиваться с другими народами,
а некоторые из них с успехом занялись науками».
Далее идут практические соображения о торговле
и меткие наблюдения о привычках местных жителей.
Вернемся все же к примеру благовоспитанности.
Есть признаки, что он изобилует поздними вставками,
к тому же он никак не объясняет,
что привело молодого человека в Калифорнию.
Возвращаясь из Тель-Авива
Неудачная встреча затянулась до ночи,
подавленный, я запутался в Тель-Авиве,
вдруг оказался на Аяркон вместо Бен-Цви,
удивился и опять свернул не туда,
заблудился около порта,
шарахнулся и заплутал
среди недавно вставших высоток.
Город обступал отчужденно,
не отпускал Аид из своего лабиринта.
Устав, я стал замечать приметы прежнего Тель-Авива,
он проглядывал скелетом
под мускулатурой новой застройки.
Эринии отвели меня на Аялон по старой дружбе.
В дороге я вспомнил, что так же собирал себя на днях,
когда потеряно обнимал тебя.
Пальцы, словно по струнам,
проникли в теплую мякоть времени,
вошли в наши юные объятия,
нащупали твои ребра, оживили шею, затылок.
Пахнули молодо, позвали звонко, безоглядно,
ворохом мелодий подняли меня из руин.
И только подъезжая, я оглянулся:
годы не сделали нас моложе,
как они преобразили Тель-Авив,
который дохнул на меня прохладной ночью.
Утренний хлопок
Дхарма — путь Будды учит
созерцать мгновение
даже при хлопке по плечу
или по более мягкому месту.
Буддист остановил бы ладонь на лету,
медитировал бы над линиями жизни,
и, просветлев, вопросил бы:
— Что такое хлопок одной ладони?
А я подхватываю
твой сияющий взгляд и недовольный голос:
— Отвали и садись завтракать.
— Как же я рад тебе, дорогая.
* * *
Нельзя в одну запрячь телегу
коня и трепетную лань!
Иначе утреннюю негу
и скомканное одеяло
они, как лебедь, рак и щука,
растащат и помнут герань.
Поверь мне, юная подруга,
отстань, красавица, отстань
Хватка
Они обнаружили генетические изменения
у жертв Всесожжения*.
Миллионы стенаний убитых рядом,
что вселяются диббуками
в хромосомы изнуренных тел, в руины душ,
которые выжили.
Они знают, что наследство прорастет генами,
в детском норове и психеях.
Но они не знают, как это рвется наружу,
вывихивая мозги, выплескиваясь яростью.
Анемия милосердия, выстуженные поступки,
вспышки истребительной логики.
Все, на что способна атрофия тепла,
это удерживать в себе сполохи
дымных языков теней.
И, когда ослабевает хватка
за чашкой кофе в обед,
ждите беды,
инфарктов, крахов бирж, пандемий, наводнений
из-за голосов и стонов, названных кем-то диббуками.
Если бы вы знали, каково это,
уговаривать, унимать, увещевать, виснуть на руках,
затыкать потоки бешеных слез.
_______________________________________
*Всесожжение — русский перевод английского слова Holocaust.
Еврейские анекдоты
— Экранизация
— Хаим, закрой дверь в магазин, там холодно.
— А что, если я закрою дверь, там станет теплее?
Съемки начались без шумихи.
Просыпаюсь, привожу себя в порядок,
гримируюсь и выхожу на площадку
под камеры видеонаблюдения.
Они регистрируют действо на сцене
существования с леденящим безразличием:
— балансирование парня на скейтборде
на закате, когда тополиный пух сбился у стены,
— прищуренный взгляд за перекресток
на знакомую фигуру под палящим солнцем,
— тонкий волос, который мешает тебе
прочесть письмо из другой жизни,
— окрик вслед выходящему в снегопад:
— Там холодно, Арон, закрой за собою дверь.
Невидимка Продюсер так и не обнаружился,
но это не мешает нам искать его сценарную идею,
выяснять, откуда взялась эта беспощадная натура,
вспышки открытия и пепел сокрытия,
панорамная ложь и глубокий фокус свидетельства.
Как и все, я жду мучительного продолжения
неизбежных импровизаций
под надзором холодной оптики.
Например, когда я совсем закрою дверь,
там станет теплее?
— Китайский парикмахер
«Еврейской матерью может быть и китайский парикмахер» Из книг о воспитании
Мне не встречался китайский парикмахер,
может у нас в Ришоне их и нет вовсе.
Но я легко представляю себе,
как он кричит в форточку, в темноту улицы:
— Лин-Лин, домой, скорее домой.
И темнота спрашивает его девчачьим голосом:
— Я уже замерзла, папа?
— Нет, — отвечает он, — ты хочешь кушать.
Лин идет домой, продрогшая до костей,
под редкими фонарями в своем далеком городке.
И никогда, ни разу в жизни, ей не придет в голову,
что ее папа — это еврейская мама.
Разве папа научит ее не спрашивать:
«А эти куры у вас свежие?»
Этому научит мама у входа в мясную лавку в конце улицы.
— Думаешь, тебе ответят:
— Чувак, мы неделю играли ими в футбол,
а сегодня помыли и решили продать?
Нет, Лин, продавец не шлимазл:
— Только сегодня завезли, гверет.
Моя мама на заднем дворе
еще ощипывает последнюю курицу
и выбирает пух на подушку
к моей свадьбе.
в музее памяти моей памяти
со своей скорбью среди фотографий
ищешь утешение в тихой картине смерти
не быть истерзанным до болевого шока
не мечтать сдохнуть от унижений
не всхлипывать последним вздохом в ладони мамы
твоему любопытству не погрузиться
не спрячется от памяти тот, который дышит
пеплом вместе с потомками палачей
над чашкой кофе
чашкой с каёмкой позолоты
из наших зубов
* * *
Осенью, конечно,
прозрачной, осипшей,
еще не все листья опали.
Было прохладно и торжественно.
(Ты ведь хоронила мужа, бабушка, ты знаешь)
И наш, израильский премьер-министр
соболезновал среди других
от лица всех евреев,
как и подобает на траурном митинге
в память жертв геноцида немецкого народа.
Говорили, что это чудовищно,
и о вкладе немцев в мировую культуру:
Гумбольдт, Гете, Гаусс, Гайдн…
Потом среди других выступала
пожилая немка из немногих уцелевших
с таким еще простым немецким именем
то ли фрау Грубер, то ли Марта Шильдке.
Она рассказывала,
как в лагере недалеко от Швайнфурта,
их инфицировали
быстродействующим вирусом,
а потом сжигали трупы в напалме.
— Они отбирали только чистых арийцев
до четвертого колена…
Ее мать и сестра умерли,
многократно изнасилованные.
А ее заставили железными крючьями тащить в печь
их изъязвленные тела.
Даже морфий парадной церемонии
не мог унять боль и ужас.
Волны сострадания объяли всю молчаливую толпу
и я был безутешен вместе со всеми.
Слезы и ярость душили меня.
Бабушка Песя, прости мне.
И ты, тетя Рохеле.
Это была минутная слабость, затмение памяти —
то мое безутешное сочувствие.
— Да перестань ты извиняться.
Да мало ли что может привидеться.
Иди, иди, погуляй, а то скоро к столу позовем,
— глуховатые голоса уводят разговор в сторону.
Ну, тогда я побегу за Ароном,
моим старшим двоюродным братом,
мы еще поиграем в казаков — разбойников
там в овраге на окраине Днепропетровска,
где в октябре 41-го все вы были расстреляны,
куда падали, скользя в грязи
и ржавых листьях той осени.
Отнимающий аромат
Результаты будут через 2 недели.
Врач, скучая, повторил, что это не меланома,
он почти уверен. Почти уверен.
— Как ты, па? Лучше? Вот и хорошо.
Это ничего не меняет.
Тебя же, старый пень, держат на фирме
ради устойчивости вычислений.
— Я ухожу, па.
В поисках новых рецептов
этой самой устойчивости
ты натыкаешься в сети на всякий хлам
вроде руководства по изготовлению
атомной бомбы в домашних условиях.
— Куда собралась?
Плимут. Штат Вермонт.
Заброшенный химкомбинат,
третья дыра в заборе, считая от бензоколонки.
Там ты найдешь полно отходов плутония
и совсем без охраны.
— К подруге, в ближнюю «песочницу».
Конечно, если у тебя есть приятель,
который работает на реакторе,
то у тебя полный порядок.
Но и без приятеля не беда.
— Когда ты вернешься?
«Вы получите обогащенный плутоний
с помощью нашего устройства»,
сочиненного из мясорубки, микроволновки
и стиральной машины.
Чертеж и описание прилагаются.
— Поздно, ты меня не жди.
Тебе «не лишне напоминают»,
о необходимости работать в защитном костюме,
перчатках, противогазе и т. д.
«Будьте осторожнее» — звучит,
как голливудское напутствие спасителю мира.
А, впрочем, если тебе далеко ехать и т. д.
Все это проделают для тебя, разумеется, совсем недорого.
Адрес для оплаты прилагается.
— Будь осторожна.
Она останавливается в двери,
поворачивается всей фигуркой,
и с нажимом улыбается:
— Папа! Мне уже 15 лет!
Хлопнувшая дверь обрывает шлейф.
«Такая-живая-и-такая-красивая»
упархивает непонятным обрывком
за ней по лестнице.
И ты балансируешь, хватаясь за воздух,
забывая все имена и названия.
Ты почти продержался,
устойчивость тебе еще понадобится.
И возвращается ветер
И было это осенью,
в лучшее время года для такого.
— Ицхак, — сказал Авраам, —
укрепи эти сучья на ослах
и захвати еду в дорогу.
Пошел дождь, из первых, редкий недолгий.
— Набрось капюшон, Ицик, — сказал он, —
и иди к машине.
Был первый день
и были дороги тесны от автомобилей.
Они ехали в потоке и останавливались
на каждом светофоре.
Через несколько дней пути Авраам сказал:
— Вот это место. Привяжи ослов и развьючь их.
Захвати дрова с собой.
Он поправил армейскую сумку на плече сына,
помог ему надеть винтовку,
которая стянула плечи и грудь.
— Удачи, сынок. Звони.
И было, не мог он оторвать взгляда
от сильной спины сына,
от легких его шагов к воротам базы.
— Сара, не умирай, Сарале.
Ангел успеет.
ветер по морю
ветер по морю гуляет
он свою катрину гонит
безымянную маруху
никаких преград не метит
непутевый и беспутный
бестолково норовистый
вышел в море погулять
в рубашонке красной нагло
на раскатистый рассвет
молчаливый и простой
может быть ему на плаху
как шекспир прямым и грубым
быть сегодня предстоит
или попросту не быть
пенный жребий свой бросает
развеселую катрину
в набежавшую волну
и трепещет и клокочет
и боится угадать
Пророки
Они выцепляют твою переписку из интернета,
телефонные разговоры, письма и просто треп.
Растягивают с весовыми коэффициентами,
просеивают через ячейки кластеров эти вос, по, мин,
отцеживают в статистических фильтрах
скользкие сгустки фонем-лексем.
И так у миллиона человек.
Они продувают визг тормозов на перекрестках,
отмывают скрежет зубов
в паузах между дежурными улыбками.
А потом говорят друг другу:
— Ты видишь, видишь,
пошел явный рост, вот уже на полпроцента.
Четко видно — повышается агрессивность.
Дело-то к войне.
Они говорят то же самое, что Илюша-пророк,
когда мы после обеда попиваем мальт.
Он вытягивает голову,
шерстка на нем вздыбливается,
он принюхивается к миру и пересказывает:
— Стало больше черного перца, молчащих женщин,
недельной щетины и тяжелого вина.
И джахнун сегодня кисловат.
Он бормочет что-то о запахе ожесточения,
испуганный суслик — антеннка в человечьей пустыне,
— И пожрет огонь и камни, и прах, и воду.
Не хочешь — не слушай,
но уже года два совпадает.
И, когда перегретый жлоб в субаре-зубило
со смуглым локтем из окна
влез передо мной из правого ряда
в мой левый поворот,
я только улыбнулся:
у него же повышенная агрессивность,
поди на все полпроцента,
ему же в Реховот нужнее всех.
Пока еще не так все плохо:
ведь никто не вышел из задней машины
и не убил меня за то, что я пропустил субару.
Дом–музей Лопе де Вега
К пятидесяти
Лопе де Вега женился второй раз
и жил в солидном доме,
который его тесть подарил своей дочери.
Он прожил здесь не то чтобы счастливо,
но был плодовит до самой смерти еще 25 лет.
К тому времени он уже вышел из армии,
не будучи серьезно ранен
и, тем более, не потеряв руки.
Он был идальго с доказанной родословной
(без подозрений в еврействе),
поэтому легко стал священником,
поменяв безрассудство на смирение,
и пристойным отцом семейства
без ювенильных страданий о даме сердца.
Похоже, Лопе уже догадывался,
что великие комедии и романы
пишут не в сытых домах, а по тюрьмам и ссылкам.
Вот он и напивался с приятелем солдатом,
вот он и водил в свой дом окрестных потаскушек.
Кровати трех его дочерей от трех матерей
тоже представлены в доме-музее
Лопе Феликса де Вега Карпио
в Мадриде, на улице
Сервантеса.
Еврейский мед
Памяти еврейской общины города Жерона,
которая единодушно отказалась креститься
и была уничтожена соседями-христианами в 1391 г.
О, простодушные гои.
Заводите евреев.
Они вылепят соты и наполнят их медом.
А потом вы справедливо вознегодуете
и избавитесь от них,
почти не замаравшись.
И весь еврейский мед будет ваш.
Вы станете сотни лет
показывать пересохшие соты
их соплеменникам
за небольшую плату.
Тогда на буклетах и сувенирах
не забудьте ненавязчиво пометить
«Сделано в Испании».
Незнакомому русскому туристу
В Ерушалайме, где камни натерты до блеска,
угораздило встретить тебя, нежной жизни довеска.
Вспоминая газировку из немытых стаканов —
«и никто не болел», — как чудо,
ты спросил: — А ты, часом, не из крайот?
Отшутился я, мол, зовут не меня Иуда.
Знаю, знаю тебя, Вертухай Паханов,
На тебе, воре, все само горит, «поёт»,
и нажим и право под ногти, вынесенное оттуда.
Не задам вопроса — брехни не слышать.
«Жена болеет, приехали подлечиться,» —
слышу: стучат офшоры, нам бы с грошиком притулиться.
Затянувшись второй сигаретой, хрипишь,
повторяя заглоченное до кишок:
война-целина-гагарин, стройки-песни на посошок.
Не спеши, не раскуривай третьей, тебе не впрок.
Не успеешь, петух, наконец-то тебя предам я.
Пну харонову лодку в Лету, катись преданьем.
И уйду, смеясь, без права на «до свиданья».
Севильский идиш
Выпросить поездку на конференцию,
запутаться на пересадке в Орли,
оказаться в севильской гостинице
без вещей, застрявших в Париже.
Выдохнуть-вывалиться,
откинуться в дуршлаг наскребаных приключений.
На регистрации, путаясь в языках,
он познакомился с португальцами.
Женщину звали Паола, она была из Порто.
Его, конечно, очень интересовал ее доклад.
— Израиль? У вас, говорят, опасно? —
она не избегала продолжения разговора.
На следующий день, ближе к вечеру,
после короткой прогулки по Алькасару
и прилегающему кварталу Святого Креста,
который оказался бывшим еврейским,
был общий ужин в этно-ресторане
с тушеной ботвой и щербатыми ракушками.
Он, вслед за белобрысым докторантом,
заказал вегетарианское блюдо.
— Из солидарности, — он широко улыбнулся
вскинувшему брови блондину.
— Почему ты не говоришь на идиш?
— Не у кого было учиться после войны.
А что он мог еще объяснить?
Ему шепнули, что докторант — из Германии,
а то он не понял, что был нужен как собеседник.
Блондин затих виновато, как бы в нахлынувшей скорби.
Его печаль затягивалась,
пришлось вмешаться и сделать сброс:
— Take it easy! *
Следуя команде, парень очнулся
и весело предложил выпить за Европу.
— За объединенную Европу! —
вскинул он бокал в конопатой руке.
— … за вторую попытку, — хотел добавить он вслед,
но отвернулся и неожиданно спросил:
— Паола, вы бывали в Севилье?
Тогда, может, завтра покажете мне город?
Увы, завтра был ее доклад.
Они вместе стали вспоминать,
кого надо бы завтра послушать.
Конечно, того бородатого канадца,
Дэвида Раппопорта.
— Это серьезно.
Он подумал, что, наверное,
дед или прадед Раппопорта
перебрались в Канаду из России.
Этот Дэвид, поди, и не знает,
что его корни из Порто.**
Должно быть, тогда они говорили на мозарабском.
— Давай уедем на Мадейру?
— … где соседи сдадут нас через неделю или месяц?
— А на каком языке ты будешь говорить
в Нидерландах с пациентами?
— Мне кажется, ты предлагаешь креститься?
А потом? Что было дальше?
Незащищенность в дороге?
Безъязыкое обживание?
Ночные припадки воспоминаний?
Или все это ему послышалось
в надсадных песнях,
пробитых дробью фламенко,
мелькнуло в заоконной тьме,
проколотой фонарями.
Да ведь и Паола из Порто.
Имя покатилось высокой волной по гортани:
— Па-о-ла, а что за город — Порто? Будьте любезны….
Он улавливал в ее английском знакомые слова,
хмыкал и поддакивал интонации,
отмечая слегка анемичную мимику
и повышенную защищенность
сдержанных вялых жестов…
Вечер заканчивался крупными звездами
в темном медвяном небе
и только саднила какая-то мелочь.
Ах да, зря он так щедро успокоил немца.
Тоже мне мачо.
Ой, менч! Аз ох унд вэй!***
Ай, да брось, принимай это легко.
_____________________________________________________________
* Take it easy — (англ.) успокойся, расслабься, наплюй, буквально: принимай это легко.
** Раппопорт — по одной из версий искаженное рофэ мипорто (иврит), т.е. врач из Порто.
*** Ой, менч! Аз ох унд вэй! — (идиш), вариант перевода: Ой, мужик! Только вздыхать да охать!
Новый век
Раньше кто-то выбегал на перрон и,
тяжело дыша, смотрел вслед уходящему поезду.
И зритель понимал:
он опоздал, а другой скрылся.
Теперь зритель искушен:
вот герой бежит на вокзал
и в следующем кадре уже утро…
А я уже паркуюсь у дома
и вступаю в свой недолгий вечер.
…При этом зрителю уже не хватает
взгляда или робкого поцелуя.
Покажи-покажи ему руки, ноги, губы,
извивы тел, скомканную одежду,
дай оценить гениталии, частоту дыхания…
Иначе не сложится у фильма прокатная судьба.
Совсем затемно я открыл дверь в спальню,
и впустил теплый воздух. Окна сразу запотели,
оберегая нашу стыдливость.
Уборка
Когда в подъезд входила
уборщица Машка-смерть,
мы с пацанами спрыгивали с подоконника
и просачивались из полутемного парадного
во двор, на солнце.
После Машки скупые запахи лестничных пролетов
перебивал настой хлорки и гнилой тряпки,
а с подоконника исчезали последние следы
нашего присутствия, все эти
сломанные на спор спички, рваные карты, окурки…
Те, кто придут сюда
после багроволикой уборщицы,
не заметят отпечатков наших пальцев на перилах,
сотрут подошвами наш генокод в остатках плевков,
не станут разгадывать, как мы провели лето,
по дыму дешевых папирос, въевшемуся в штукатурку.
Даже не посетуют
на нерадивую уборку по-быстрому.
Переход на зимнее время
Последние распродажи остатков сезона, — —
первые дожди после Суккот,
лучшая пара недель
подобрать что-то недорогое
на следующее лето,
которое обязательно придет
даже, если его не ждать.
Сутра в супермаркете
Памяти Аллена Гинзберга
Интеллигентная женщина в возрасте
разглядывает банку рыбных консервов.
Чуть прищурившись, она медлит
на сроке годности и произносит:
— Как быстро бежит время.
Если бы я был
По мотивам Шалома Ханоха
Был бы я мудрым, сказал бы:
— На все воля Б-жья.
Был бы я хитрым,
сказался бы больным.
Был бы я свободным,
написал бы об этом стихи.
Был бы я смелым,
наплевал бы на все.
Но я не тот и не тот,
я радуюсь этим мусорным дням:
— Это еще куда ни шло!
Новое пальто
Бобы
— Возьми горсть бобов и попроси, чтобы призрак точно сказал, сколько бобов у тебя в руке. Он исчезнет навсегда.
Дзенская притча
— Cколько бобов у меня в руке? —
спрашивает сорванец.
— Не шали, садись за стол, — смеется мама.
— Не хочу, там капуста в борще, —
он выскакивает на улицу
с пустыми руками, никаких бобов,
и мама, конечно, не знает зачем.
Людка, Людка, он уже бежит,
он хочет увидеть снова и снова,
как ты проходишь по двору,
снова твоя походка дразнит его.
Слышу голос соседки тебе вослед:
— Вот ведь шалава, вся в мать.
Не исчезайте, призраки мои!
Что нам Гекуба? Что нам бобы?
Трудовой семестр
Племенной жеребец Регол,
стряхнувший свою кликуху
моему приятелю Лехе,
медноволосому слесарю
четвертого разряда.
Детская игрушка Неваляшка,
склеенная по месту имени
с другим моим приятелем
за неустойчивые его ноги,
перебитые в молодости на зоне
железобетонной плитой.
Диковинная наука Математика,
к которой причастен я — студент,
марсианин в кустарном цехе.
Ручная граната Дегтярева 5 модели,
которую пластмассовый Неваляшка
бросает в меня, сидя на Реголе,
через два лета на сборах
в коротких обморочных снах.
И врезавшиеся в память осколки:
гнутые трубы, сверла, заклепки,
фартук в лоснящемся гудроне,
тяжелое от усталости тело,
палящее солнце
и серебряные воскресенья того лета.
Аналог 19 октября
Иногда незабвенно утром
в переполненном автобусе,
под лязганье дверей,
в удушливой волне «Красной Москвы»
мы сталкиваемся плечом к плечу с приятелем:
кто развелся, кто защитился,
обмен квартир, где бывает молоко,
склоки на службе, агатовые запонки,
новые болезни
и восхитительно
бездонный фильм Феллини.
Иногда трогательно днем,
может быть, в обед,
где-нибудь в очереди
другой мой приятель
бережно и напористо
сравнивает нас с тараканами,
которым со всеми их чувствами
все равно погибать
и все равно под чьим тапком.
Иногда устало вечером
я наблюдаю еще одного приятеля,
который стал маленьким начальником
и никак не может решить:
нужно ли ему меняться
в отношении к нам.
Иногда, аналогично 19 октября,
мы собираемся вместе
и, между прочим, вспоминаем
о бывшем сокурснике,
который напросился в дальнюю деревню,
и заключаем пари,
долго ли еще этот дурачок
будет учить там математике.
* * *
Особенно, знаешь ли, осень
со слякотью щедрой
и пакостью серой
мне трудно представить
непризнанной жизнью,
не худшей, чем лето,
зимы не худшей.
Вот разве что чавканье сменит
хрустящая наледь,
да розовый выдох
с погибельной хрупкостью
летних отростков
и первым небрежным
снежком неизбежным.
Тогда я, уставший, избавлюсь
от детских сомнений,
от визгов и страхов щенячьих.
Я стану и строже, и суше,
упрямей и несовратимей,
и стану удачливым
непоправимо.
* * *
Ну и учудили мы с Натальсанной в ту ночь
задали встряску родне.
Всем дали почувствовать
«шкалу истинных ценностей».
Я тогда засиделся допоздна у приятеля,
плюнув на бесполезную затею
дозвониться жене.
Когда далеко заполночь я,
прокуренный и пьяный,
вернулся домой,
жена была близка к истерике.
К тому же она задергала
с помощью телефона
всю родню, больницы, морги и пр.
И тут же принялась снова
названивать всем, извиняясь.
— А в милиции оказывается
первые три дня мужиков не ищут:
мало ли он у какой живет.
— Ты знаешь, я стала вспоминать
лучшие наши минуты и как подумаю,
что ничего больше не будет…
— Постельку что ль?
— Да ну тебя, дурак.
А Натальсанна?
А Натальсанна умерла в тот вечер.
Электромеханик Юзек
Электромеханик Юзек в Москве в СССР,
скрипя больничной койкой, рассказывал мне,
как он накалывал «этих жидяр профессоришек».
Он заменял на каретке, у пиш. машинки в мошонке
исправную зубчатую линейку по 29 коп.
Сначала он ставил испорченную и звал хозяина:
— Таких линеек в продаже нет. Ну, тут у меня одна своя…, —
И трешка, как с куста!
— Я каждый день пил, — наслаждался он моим унынием,
— и не просто пил, я нажирался до усрачки.
Поэтому утром под местным наркозом
я мечтал «нажраться да усрачки»,
пока хирург колотил мне в череп.
До перестройки я пробовал напиться водкой,
потом приличным коньяком,
и отличным коньяком уже в Израиле.
Но у Юзека был какой-то секрет,
а я отключался гораздо раньше.
И только сейчас под блюз твоей болтовни о любви,
я продержался и ввалился в свою мечту.
Это хорошо, «до усрачки»,
это «мы были высоки, простоволосы»,
это «мальчишку шлёпнули в Иркутске»,
где жила Ирка Орлова, жаль мы так и не переспали,
это «нас повесят на рассвете, ну и хрен бы с ним»
в моем заброшенном переводе «Ромео и Джульетты».
это «кладбищенской орхидеи крупней и маренго нет»,
той, которую сразу полюбил, схватил и сломал
наш годовалый внук.
Это залить спьяну керосина в покусанную гноящуюся лапу
дворового Полкана и спасти его от опарышей и смерти.
С такой точкой опоры любой дурак,
свернет не только мир, а и книжный шкаф.
Поутру я, конечно, пойму секрет Юзека.
Но как же он любил свою какую-то жизнь
вместе с диагнозами!
* * *
И не смотреть по сторонам,
на пейзажи за окнами,
тогда получится не расплескать.
Рука подрагивает,
чашка дребезжит на блюдце,
как будто я иду по проходу
плацкартного вагона
поезда Москва — Владивосток.
Один день
Она родилась в Нанси перед первой мировой.
Девочкой она принесла домой щенка,
он был такой подвижный круглобокий.
Ночью щенок заскулил от голода и перебудил всех соседей.
Наутро щенка уже не было.
Родители тоже не знали, куда он исчез.
Вскоре после окончания католической школы,
перед второй мировой, она ушла в монастырь.
Работала в прачечной,
была счастлива, когда появились стиральные машины,
научилась их обслуживать.
Он родился в Харбине, после первой мировой.
Мальчиком нашел клад с истлевшими деньгами.
Он бежал, задыхаясь, домой и боялся, что его остановят.
Об этом написали в местной газете.
Что потом стало с кладом, он не знает.
Родители об этом никогда не вспоминали.
Воевал во вторую мировую.
После войны он осел в Нанкине, выучился на парикмахера.
Был счастлив, когда смог купить кондиционер.
Всегда любил механическую машинку для стрижки.
Они прожили долго, по-своему счастливо
и умерли в один день.
Проба Пирке
«Ma perche tu non sei piu…»
(с итал. «Но почему вы больше не…»)
Из песни А. Челентано
Когда Челентано поет «ма перке»,
я вспоминаю педальный автомобиль,
на котором мне досталось покататься,
пока проверяли на туберкулез наш детсад.
Ах, как я тогда разогнался!
Переросток, коленками в подбородок!
Единственная машина,
уже не новая, но на ходу.
Из последних подарков
кукурузника «нашей детворе»!
И целый час
она была моя!
Сор
«Когда б вы знали…»
А. А. Ахматова
Оттепель,
размолотая колесами снежная корка,
сплюснутые домишки на Лесной,
черные сухие деревья,
трамвайная Изольда,
просоленные ботинки,
липкая прядь волос
и вдруг вертикальное в пищеводе:
«…и верить простодушно».
…жнейшая хозяйственная и полити…
…извините, я занят…
массивная дверь с бронзой
смятые перчатки
длинный узкий коридор, молящий о пулемете
…по протоколу…
полузнакомые лица с позывом поздороваться
…ала звонили по поводу…
порывистая надменная секретарша
…сок едущих завтра на овощебазу…
нервная томящая виза
и пульсирующее
«…и верить простодушно».
Раскованность курилки
сама мудрость с язвою желудка
…откуда-то дует…
легкое дрожание рук
великолепно вспыхнувшая первая спичка
и успокаивающее
«…и верить простодушно».
Теплый влажный пахнущий слюной телефон
…в папке моей на верхнем листочке
исправь последнюю строку.
Должно получиться:
«толкает жить и верить простодушно».
* * *
Я в сотый раз объясняю
моей бывшей учительнице,
что не мог жениться на ее дочери.
Хотя та была вполне ничего себе.
К тому же хозяйка (росла без отца),
к тому же отличница в обеих школах
(обычной и музыкальной),
к тому же хорошо воспитана (как мама).
Но я объясняю в сотый раз,
что мне до смерти осточертел
мой собственный слащавый провинциализм,
что погрязать в нем я не намерен
(эта наивность все еще молода во мне),
что у меня склочный характер
(в 17 я уже об этом знал),
и, вообще, она мне не нравится.
Я в сотый раз объясняю,
а учительница смотрит на меня
чуть печально,
чуть тревожно,
чуть с надеждой:
«Нет-нет, я тебя совсем не виню».
Видно она чувствовала,
что скоро умрет,
и ее дочь останется одна.
Мы пришли от класса
навестить ее во время болезни,
и я поймал на себе ее взгляд.
Будь проклята эта маниакальная идея,
которая временами возвращается ко мне,
выходит из лабиринта на запах
застиранного банного полотенца,
(оно лежало на столике, где я положил яблоки)
вцепляется в волосы
и, например, как сейчас,
постукивает легонько
затылком о кафель в ванной.
Учительницы давно нет,
но я в сотый раз…
Только бы
Только бы не грохнуться в лужу,
затянутую подтаявшим ледком.
Только бы не выпачкать новое пальто
под этим весенним солнцем в начале марта.
Бегу после уроков мимо сияющих рыхлых сугробов.
Мне восемь лет и в новостях больше не говорят о войне.
Бегу из школы счастливый в новом пальто.
Ну и что, что холодно, на мне новое пальто,
именно моё, первое, а не сестрины девчачьи обноски.
И папа перестал перешептываться с дядей Гришей
о Кубе, ракетах и каком-то карибском кризисе.
Я даже вспотел, хорошо, что мама не видит,
глотаю на бегу душистый морозный воздух
под первым припекающем солнцем.
Только не поскользнуться, только бы не упасть,
только бы не испачкать новое пальто.
Окно
Я все еще стою на втором этаже,
очумевший от ужаса,
у открытого окна в комнате моих родителей
(коммуналка №33, ул. Советская, дом 1, Оренбург, РСФСР)
и вижу свою черепашку,
упавшую во двор летного училища,
куда меня не пустит часовой.
Она лежит на спине и не может перевернуться.
О, как отчаянно, изо всех сил, она ворочает лапами.
«Вчера»
Вчера — это мы услышали.
Это все, что мы поняли
в настоящей английской речи.
Мы слышали ее впервые в жизни.
Вчера мы ничего не понимали,
но слышали этого парня Пола
с магнитной пленки,
которую принесла в наш класс
практикантка из педа.
— Английский существует, — сказала она.
— Давайте переведем его вместе! —
и обманула нас, создав иллюзию,
будто мы перевели песню сами.
Там, в иллюзорном мире, было
теплое солнце весны и учительница,
которая может быть веселой и легкой.
Там бьет по ноздрям
острая терпкость «Yesterday»
в красиво распавшейся
на понятные слова
английской речи.
Пашка Маккартни
поет про девочку вчера,
без которой нельзя
ни сегодня, ни завтра, никогда.
Сладкое узнавание настоящего,
его голоса, его руки на плече.
Поэзия существует,
«Я так верю в то, что случилось вчера»
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg
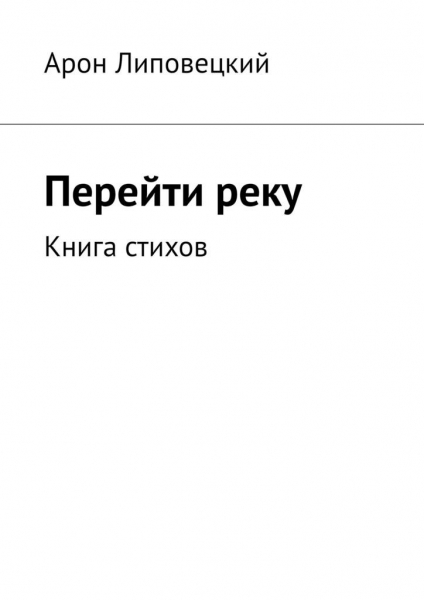



Комментарии к книге «Перейти реку», Арон Липовецкий
Всего 0 комментариев