Опыт о критике
I
Не часто блещет мастерством пиит, Равно и критик, что его хулит; Однако лучше докучать стихом, Чем с толку сбить неправедным судом. Немало многогрешных там и тут, Один скропает — десять оболгут; Разоблачит себя невежда сам, Коль пристрастится к виршам иль к речам. Сужденья наши как часы: чужим Никто не верит — верят лишь своим. Талантом редкий наделен поэт, У критика нередко вкуса нет; А их должно бы небо одарить — Всех, кто рожден судить или творить. Пусть учит тот, кто сам любимец Муз, И тот хулит, чей не испорчен вкус. Не правда ли, влюблен в свой дар пиит? С пристрастием и критик суд творит. Все ж большинство, коль правду говорить, Способно трезво мыслить и судить; В таких умах природный брезжит свет; Чуть контур тронь — означится портрет. Но как неверно взятый колорит В рисунке точном форму исказит, Так псевдообучение весьма Губительно для здравого ума. Тот бродит в лабиринте разных школ, А тот — с большим апломбом, но осел. Они, пытаясь умниками стать, И здравый смысл готовы потерять; Тогда им служит критика щитом, И вот горят, орудуют пером Кто может и не может, пишет всяк, Озлобленный, как евнух или враг. У дурня зуд осмеивать людей, Желает он казаться всех умней; Так Мевий[1] назло Фебу не писал, Как досаждает всем такой нахал. Побыв в поэтах, наши остряки Шли в критики, а вышли в дураки. Иной — и туп, и в судьи не прошел, Ну точно мул — ни лошадь, ни осел. Наш остров полузнаек наплодил Не меньше, чем личинок нильский ил; Не знаю, право, как назвать их род, Ни то ни се, сомнительный народ; Их сосчитать не хватит языков Неутомимых наших остряков. Но вправе имя критика носить, И славу петь, и сам ее вкусить Лишь тот, кто меру сознает всего: Таланта, вкуса, знанья своего, Кому не служит аргументом брань, Кто зрит, где ум, где дурь и где их грань. В Природе должный есть предел всему, Есть мера и пытливому уму. Коль море где-то сушу захлестнет, То где-то встанут острова из вод; Когда же память душу полонит, Для разуменья будет путь закрыт; А жаркие фантазии придут — И памяти виденья пропадут. Лишь часть науки — гения удел; Хоть ум стеснен — искусству где предел? А зачастую нам дана во власть Не часть науки, но лишь части часть. Лишимся мы всего, как короли В погоне за куском чужой земли; В своем бы деле каждый преуспел, Когда бы это дело разумел. Природе следуй; так сужденье строй, Как требует ее извечный строй. Она непогрешима и ясна, Жизнь, мощь, красу придать всему должна, Наш свет, предмет всех помыслов и чувств, Исток, мерило и предел искусств. Искусство обретает всякий раз В Природе матерьял свой без прикрас. И плоть тогда жива и хороша, Когда ей силу придает душа, Ее питает, мускулы крепит; Невидима, но видимо творит. Кто одарен, тот хочет одного: Чтоб все служило гению его; Талант и рассудительность порой Питаются взаимною враждой, А, по идее, жить они должны Согласной жизнью мужа и жены. Не шпорь Пегаса — только направляй; Удерживай уздой, не распаляй; Скакун крылатый словно кровный конь: Замедлишь бег — взыграет, как огонь. Открыты эти правила давно, Не следовать им было бы грешно, Сама Природа в них заключена, Природа, что в систему сведена. Природа как свобода: тот закон Ее стеснил, что ею же рожден. Эллада нам урок преподает: Когда сдержать, когда стремить полет; Нам показала, как ее сыны Добрались до парнасской вышины; Зовет и остальных по их пути Идти, чтобы бессмертье обрести. Примерами титанов рождены Все мудрые заветы старины, Открыло грекам их же мастерство Установленья неба самого. А критик разжигал в поэте пыл, Резонно восторгаться им учил; Служанкой Музы критика была, Ее принаряжала, как могла, Дабы казалась госпожа милей. Теперь иные нравы у людей. Для тех, кого отвергла госпожа, Бывает и служанка хороша; На бардов поднял их же меч зоил[2], Не терпят люди тех, кто их учил. Так, вызубрив прескрипты докторов, Аптекарь роль врача играть готов, Предписывает, лечит — и притом Врача же обзывает дураком. Тот, нахватавшись разной чепухи, Дает рецепты, как слагать стихи; А тот грызет страницы древних книг (Ни моль, ни время так не портят их); Иные, вовсе не вникая в суть, Ученостью стремятся щегольнуть; Другие так сумеют объяснить, Что исчезает всякой мысли нить. Но если кто решил судьею стать, Тот должен древних превосходно знать: Характер, коим обладал поэт, Его труды, их фабулу, сюжет, И понимать, вживаясь в старину, Его эпоху, веру и страну. Кто в этом совершеннейший профан, Тот будет не судья, а критикан. Гомера с наслажденьем изучай, Днем прочитал, а ночью размышляй; Так формируя принципы и вкус, Взойдешь туда, где бьет источник Муз; И стих сопоставляя со стихом, Вергилия возьми проводником. Когда Марон с подъемом молодым[3] Задумал труд — бессмертный, как и Рим, Казалось — кто и что ему закон, Лишь из Природы жаждал черпать он; Но, в дело вникнув, прочим не в пример, Открыл: Природа — это сам Гомер. И дерзкий план теперь уже забыт, Теперь канон строку его стесни, Как если выверял бы Стагирит[4]. Каноны древних принимай в расчет, Кто верен им — Природе верен тот. Но даже точных предписаний свод Предусмотреть не может всех красот, Нередко счастье помогает тут, Венчающее хлопотливый труд. Поэзия как музыка; она Невыразимой прелести полна, Здесь не научит метод никакой, Все мастерской решается рукой. Где в правилах означился пробел (Все правила имеют свой предел), Там допустимо вольностью блистать, И вольность может предписаньем стать. Стремясь дорогу ближнюю найти, Пегас свернет с обычного пути И, преступив известного черту, Неведомую сыщет красоту; Еще умом ее мы не поймем, А уж во власть ей сердце отдаем. Природа так же действует на нас: Когда привык уже к равнинам глаз, Глубины бездн или громады гор Неудержимо привлекают взор. Так вдохновенно согрешит талант, Что возмутится разве лишь педант. Да, нарушали древние канон (И короли обходят свой закон), Но, современник, ты остерегись! А посягнув, смотри — не оступись; Пусть в этом будет крайняя нужда, И прецеденты припаси тогда. Иначе честь и имя отдадут Немилосердной критике на суд. Такую вольность мастера сочтет Иной, у древних даже, за просчет; Но посмотри все в целом и поймешь, Что вовсе то не промах и не ложь. Ужасно искажаются черты, Когда вблизи картину смотришь ты, Но издали она являет вид, Который красотой тебя пленит. Умелый вождь, полки бросая в бой, Не поведет их строем за собой, По обстановке будет поступать, Скрывать всю силу, даже отступать. Такой прием отнюдь не ложный шаг, Не поступает мастер как простак. Не вянут лавры древних. Их алтарь Недостижим для скверны, как и встарь; Его не одолели до сих пор Ни пламена, ни зависти напор; Ему ни разрушения войны, Ни паутина века не страшны. Смотри: любой ученый муж кадит! Внимай: на всех наречьях гимн звучит! И каждый пусть своею похвалой Пополнит этот общий хор людской. Так торжествуйте, барды! Ваш удел — Стяжать бессмертье славой ваших дел! Ее лишь приумножили века — Так, с гор стекая, ширится река; И нации, которые грядут, С восторгом имя ваше назовут, И мир уж аплодирует тому, Что только предстоит открыть ему! О, если вдохновил бы Эмпирей Последнего из ваших сыновей (На слабых крыльях вслед вам он парит, Горит, читая, но, дрожа, творит), Тогда глупца он поучить бы мог Тому, что пустомелям невдомек: Пленяться выдающимся умом И быть не столь уверенным в своем!II
Ничто не в силах так нас ослепить, Так часто в заблуждение вводить И с толку сбить совсем в конце концов, Как спесь — беда обычная глупцов. Безлюдно там, где правят ум и честь, Но в царстве спеси подданных не счесть. Как газом наполняются тела У тех, чья плоть бескровна и дрябла, Так полон спеси человек пустой, Тот, кто всегда доволен сам собой. Когда рассеет разум эту тьму, Свет истины откроется ему. Своих пороков мы не сознаем, Лишь от других о них мы узнаем. И полузнайство ложь в себе таит; Струею упивайся пиерид[5]: Один глоток пьянит рассудок твой, Пьешь много — снова с трезвой головой. Воспламеняет нас искусства свет, Нас обольщает Муза с юных лет, Когда мы можем воспринять легко Лишь близкое, не видя далеко; И лишь поздней, не сразу и не вдруг Поймем, как бесконечен мир наук! Так, покоряя Альпы, мы идем Нелегким и обманчивым путем: Преодолев долины и леса, Мы думаем, что вторглись в небеса, Что более не встретятся снега, Что первые вершины, облака Последними являются — и вдруг Громады Альп опять встают вокруг, И поражают наш усталый взор Все новые холмы и цепи гор! Творение оценит верно тот, Кто замысел писателя поймет. Все в целом зри; выискивать грехи Не стоит, если хороши стихи, Передают они Природы суть, И восхищеньем пламенеет грудь; Дарованных нам гением услад Ужели слаще критиканства яд? Но песни бесталанного певца Не могут волновать ничьи сердца; Их приглушенный и холодный тон Наводит скуку и ввергает в сон. Пленит в искусстве и в Природе нас Отнюдь не частность — не губа иль глаз; Мы постигаем красоту вещей В гармонии, в единстве их частей. Великолепный храм когда мы зрим (То чудо мира и твое, о Рим[6]), Он не отдельной частью нас дивит, Он в целом весь являет дивный вид; Не ширина, длина иль высота — Чарует всей постройки красота. Скажи, какой непогрешим поэт? Таких не будет, не было и нет. В творение свое любой пиит Не больше, чем задумал, воплотит; Уменье есть и средства хороши — Ему рукоплещи от всей души; За мелкие просчеты не ругай, Ошибкой меньшей — больших избегай. Гнушайся правил, что дает педант; На мелочь не разменивай талант; Тем, кто всецело в мелочи залез, Деревья загораживают лес; О принципах шумят, а пустяки Их привлекают — ну и чудаки! Припомните, как рыцарь Дон Кихот Со встречным бардом разговор ведет (Сейчас бы разве только Деннис мог Вести такой серьезный диалог); Их вывод — олух тот и пустозвон, Кому сам Аристотель не закон. Был счастлив бард: на знатока напал; И рыцарю он пьесу передал, Дабы единства, образы, сюжет[7] — Все просмотрев, тот дельный дал совет. Все было так, как требовал канон, Был только бой из пьесы исключен. "Нет боя?!" — рыцарь в ярости вопит; — Его не допустил бы Стагирит. "О небо! Кони, рыцари нужны, И бой они изобразить должны". — Но где подмостки, чтоб вместили рать? "Постройте; в поле можете играть". Когда придирчив критик, а не строг, Весьма пытлив, однако не глубок И более капризен, чем умен, — Довольно бестолково судит он; И главное в искусстве проглядит Из-за того, что слишком мелочит. Прельстителен для критиков иных Замысловатый и мишурный стих; Поэт — по их понятьям — это тот, Кто ослепляет множеством острот. Плохой художник, пишущий портрет, Орудует совсем как сей поэт; Не зная, как натуру передать, Он златом, перлом тщится прикрывать Все прелести нагого естества, Скрывая недостаток мастерства. Природе истинный талант найдет Наряд такой, который ей идет, И то, о чем лишь думает другой, В творенье воплотит своей рукой; Тот образ покоряет сразу нас, Что представляет правду без прикрас. Как делает огни заметней тьма, Так скромность оттеняет блеск ума. Обилье крови гибельно для тел, И остроумью тоже есть предел. Иному дела нет до смысла книг, Такого восхищает лишь язык; Расхваливает книжки этот фат, Как дамы кавалеров, — за наряд; Он упоен: о, как роскошна речь! А остальным способен пренебречь. Слова как листья; где обилье слов, Там зрелых мыслей не найдешь плодов. Витийство, будто преломленный свет, Все в радужный окрашивает цвет; Все в равной мере ярко, все горит, А лик Природы совершенно скрыт. Но верный слог, как солнца ясный свет, Сумеет просветлить любой предмет, Отделать и позолотить его, Не исказив при этом ничего. Слова — лишь платье мысли; право, ей Тем более подходят, чем скромней. Как царский пурпур не к лицу шуту, Так слог не скроет мысли пустоту; И как имеешь много платьев ты: Для дома, бала, верховой езды, Так стили различаются, затем Что нужен разный стиль для разных тем. Дабы лавровый заслужить венок, Иные воскрешают древний слог; Старинный слог, а смысл по сути нов — Что толку от подобных пустяков? Лишь неуча он удивить бы мог, И только усмехается знаток. Мечтая, как Фунгосо, лишь о том[8], Чтоб только не ударить в грязь лицом, Тем хвастаются щеголи пера, Что дворянин носил еще вчера. Тот глуп, кто лучше дела не нашел, Чем наряжаться в дедовский камзол. Для слов ли, мод ли — правило одно: Старье или новинка — все чудно; Новинки восхвалять остерегись, А за старье подавно не держись. Но чаще песни хвалят иль хулят За строй созвучий, музыкальный лад; Дарует Муза тысячу красот, А слышат только, как она поет; И как иные, приходя в собор, Не Слову внемлют, слушают лишь хор, Так дурачки стремятся на Парнас, Чтоб там ласкал их слух прекрасный глас. Иной настолько педантично строг, Что требует лишь равносложных строк, Хотя известно: зачастую глух К открытым гласным наш английский слух[9]; Не велика и помощь слов вставных; Затертые слова вползают в стих, Уныл их монотонный перезвон, И строй привычных рифм рождает он; Слова "Зефир прохладою дышал" Родят строку "он листьями шуршал", А если "заиграл, журча, ручей", Наверняка последует "Морфей". Так за куплетом тянется куплет, Поется песня, в коей мысли нет, Свой долгий слог влачит едва-едва Александрийская нескладная строфа. Пусть, если хочет, носится такой С размеренной и вялою строкой; Но ты цени те песни высоко, Что раздаются звонко и легко: И Денема раскаты слышны в них, И сладостный уоллеровский стих. Изящный слог и меткие слова Не плод удачи — дело мастерства, В движеньях тоже грациозен тот, Кто знает менуэт или гавот. Но важен для стиха не только слог, Звук должен быть созвучен смыслу строк: Струя ручья прозрачна и тиха — Спокойно и течение стиха; Вздымаясь, волны бьют о берега — Взревет и стих, как бурная река; Аякс изнемогает под скалой[10] — Слова с трудом ворочают строкой; Летит Камилла вдоль полей и нив[11] — И зазвучал уже другой мотив. Какая в песнях Тимофея власть: То разжигает, то смиряет страсть! И сын Амона[12] чувствует в крови То славы пыл, то сладкий зов любви; То яростью горят его глаза, То затуманит зрение слеза. И перс, и грек, и властелин племен — Всяк дивной силой музыки пленен! Как прежде потрясал всех Тимофей, Так ныне Драйден жжет сердца людей. Остерегайся крайностей; они В себе таят опасности одни. Те — рады крохам, этим — все подай, В подобные ошибки не впадай. Пустяк, насмешка разозлит весьма Того, в ком спеси больше, чем ума; Башка такого как больной живот: Его от всякой острой пищи рвет. Но и любой удачный оборот Пускай тебя в восторг не приведет; Что скромно одобряют мудрецы, Тем шумно восхищаются глупцы; Впрямь чувство меры изменяет им, Все, как в тумане, кажется большим. Один — чужих, другой — своих хулит; Тот — только древних, этот — новых чтит[13]. Они способны признавать талант Лишь избранных, как праведность — сектант; Послушать их, так божья благодать Лишь им любезных может осенять. Но это солнце свет свой всюду льет, От южных и до северных широт, Льет ныне, как и в давние года, И будет согревать людей всегда. У всех бывал упадок и подъем, И ясный день сменялся мрачным днем; Но стар иль нов талант — им дорожи, Цени лишь правду и чурайся лжи. Иным самим подумать недосуг, Им важно то, что говорят вокруг; Они в своих суждениях — рабы Избитых мнений суетной толпы. Иной творит над именем свой суд И разбирает личность, а не труд. Но хуже всех — бесстыдные дельцы, Тупые и надменные льстецы, Те лизоблюды, что нелепый суд К ушам владыки своего несут. Не жалок разве был бы мадригал, Когда б его бедняк рифмач слагал? Но если то хозяина строка — Как остроумна! Как она тонка! Все совершенно в опусе его, И в каждом слове видно мастерство! Так, подражая, неуч вздор несет. Иной ученый муж не меньше лжет; Кичась оригинальностью своей, Он чернь клянет и судит в пику ей, Хотя толпа иной раз и права; Поистине дурная голова! Иной все хвалит, что вчера бранил; Он, видишь ли, умнее стал, чем был; Ему бы быть немного поскромней — Нет, завтра станет он еще умней. Он с Музой как с любовницей живет: То носит на руках, а то побьет; Нетвердый ум, мятущийся всегда, И суд его — не суд, а чехарда. Мы так умны, что собственных отцов Сегодня принимаем за глупцов; А наших сыновей наступит час — Что думать им прикажете о нас? Когда-то наш прекрасный Альбион Схоластами был густо населен; Влиятельным считался тот из них, Кто больше всех цитировал из книг; Все обсуждалось: вера и Завет, Шел спор о том, в чем, право, смысла нет. А ныне лишь в Дак-Лейне[14] сыщем мы Адептов этих Скота и Фомы[15], Средь хлама в Лету канувших годин И столь родных их сердцу паутин. Меняла даже вера свой костюм; Не платит разве моде дань и ум? Иной, желая умником прослыть, Согласен все приличья преступить И славу тем снискать себе готов, Что вызывает смех у дураков. Иной же мнит, что всех достиг вершин, И мерит всех людей на свой аршин; Такой, свои достоинства любя, В лице другого хвалит лишь себя. Вражда умов сопутствует всегда Раздорам в государстве; в том беда, Что распри партий и борьба идей Удваивают ненависть людей. Как Драйдена неистово бранят, Как атакуют — пастор, критик, фат! Но здравый смысл, конечно, верх возьмет, Пройдет пора злословии и острот, И неминуем воздаянья час. Приди он вновь, чтоб радовать наш глаз, Найдутся Блэкмор, Мильбурн и средь нас[16]; И если б кто Гомера воскресил, Из мертвых вновь поднялся бы Зоил. Но зависть, словно тень, лишь оттенит Величье тех, кого она чернит. И Солнце тоже застилает мгла, Сгустившаяся от его тепла, И гаснет в тьме его слепящий луч; Но вот светило вырвется из туч — Еще прекрасней ясный лик его — И снова дня наступит торжество. Восславь же первым славные дела; Нужна ли тех, кто медлит, похвала? Стихи живут недолго в наши дни, Пусть будут своевременны они. Тем лучшим временам пришел конец, Когда века переживал мудрец; Посмертной славы нет, увы, давно, Лет шестьдесят — вот все, что нам дано; Язык отцов для нас уж устарел, И Драйдена ждет Чосера удел[17]. Так, если мысль у мастера ясна И кисть его искусна и точна — Прекрасный новый мир творят мазки, И ждет Природа лишь его руки; Передает все краски сочный цвет И мягко сочетает тень и свет; Когда же образ, сотворенный им, Пред взорами предстал совсем живым Подводят краски, их недолог век, И нет шедевра — выцвел и поблек! Но зависть побороть не в силах тот, Кто больше обещает, чем дает. Бахвалится юнец своим умом — А где его тщеславие потом? Так радостно раскрывшийся бутон На смерть весною ранней обречен. В чем состоит злосчастного вина? Бедняга, как неверная жена, Тревогой платит за восторг стократ, Чем больше даст, тем большего хотят; Он всем не в состоянье угодить, Иным же только может досадить; И честь свою ему не отстоять; Невеж способен он лишь испугать, Кто ж поумнее, те его бегут, Его честит дурак и губит плут. Невежество всегда являлось злом, Как бы не стало знание врагом! Встарь награждался лучший изо всех, Тех славили, кто с ним делил успех; Хоть получал триумф лишь генерал, Но он солдат венками поощрял. А ныне кто Парнас ни покорит, Столкнуть с него другого норовит; Признанья жаждут множество писак, Казаться хочет умником дурак; И с грустью вижу я, глядя вокруг: Плохой поэт всегда неважный друг. Как низко смертных заставляет пасть, Как мучает святая к славе страсть! Так жаждать славы! В кой же это век Был так унижен словом человек? А надо ум с добром бы совмещать, Грешить как люди и как Бог прощать. Но даже дух возвышенный порой Снедаем недовольством и хандрой; Так пусть же гнев он изольет на зло, Что вред неизмеримый принесло, Хоть и опасно делать это в век, Когда за смелость платит человек. Нельзя простить бесстыдство никому — Ни дурню, ни блестящему уму; Не может циник вдохновенным быть, Как неспособен евнух полюбить. В дни праздности, богатства и утех Сорняк произрастает без помех: Король в одной любви преуспевал[18], Страной не правил и не воевал; Писали фарсы пэры, между тем Их содержанки заправляли всем; У остряка был даже пенсион, А юный лорд куда как был умен; Когда же двор комедию смотрел, Как трепетал прекрасный пол, как млел! И, право, маски не было такой, Дабы ушла нетронутой домой; И скромный веер больше никогда Уж не скрывал девичьего стыда. Нам принесла потом чужая власть Социнианства мерзкую напасть[19]; Пришел безбожных пасторов черед, Желающих исправить свой народ И лучший путь к спасенью преподать; Свои права отныне обсуждать Всяк подданный небес свободно мог, Чтоб самодержцем не казался Бог. Но мог ли быть от проповедей прок, Когда плоды их пожинал порок? Подумать только, что вещали нам Титаны мысли, вызов небесам Так оголтело смевшие бросать! И богохульством полнилась печать. Ведите с ними, критики, бои! Мечите стрелы, молнии свои! Нельзя вину тех извергов прощать, Кто любит непристойностью прельщать; Тот всюду зрит разврат, кто в нем погряз, Как желтым видит все желтушный глаз.III
Будь верен, критик, этике судьи, Дабы задачи выполнить свои. Ум, вкус и знанья пользу принесут, Когда правдив и откровенен суд; Те, кто способен разделить твой взгляд, И твоего участия хотят. Молчи, раз усомнился в чем-нибудь, А если судишь — тверд, но скромен будь. Кичливые хлыщи — мы знаем их — Упорны в заблуждениях своих; Но ты умей увидеть свой просчет И каждый день веди ошибкам счет. Не всякий правильный совет хорош, Правдивых слов милей иная ложь. Учись людей учить — не поучать, Буди умы, чтоб к знанью приобщать; Когда искусен справедливый суд, Твои слова одобрят и поймут. И не скупись на дружеский совет, Ведь, право, худшей скаредности нет. Тщеславья ради веру не теряй; Из вежливости ложь не одобряй; Не бойся мудрым преподать урок, Хвалы достойный примет и упрек. Но кто свободен в критике у нас? Ведь Апий багровеет всякий раз[20], Выходит из себя от ваших слов И взглядом всех испепелить готов, Как лютый деспот, чудище на вид, Что с гобелена старого глядит. Страшись судить почтенного глупца, Чье право быть тупицей до конца, Угодливого барда, если он За пустозвонство в званье возведен. Пускай сатирик истины твердит, А тот, кто книги посвящает, — льстит, Не больше верят в искренность его, Чем в одаренность или мастерство. Не будь судьей нелепости любой, Пускай глупец любуется собой: Как ни ругай — ну разве он поймет, Что сам он не поэт, а виршеплет? Жужжащие в дремоте дурачки, Они кружат лениво, как волчки, Споткнувшись, снова тащатся вперед — Так, сбившись, кляча исправляет ход. Какие толпы этих наглецов, Внимая лишь созвучиям слогов, Все продолжают сочинять стихи И напрягают скудные мозги, Чтоб каплю смысла выдавить из них! О рифмоплеты, вам ли делать стих! Да, ныне барды наглые пошли; Есть критики, что впрямь с ума сошли. Дурак набитый, уйму разных книг Он проглотил, но ни в одну не вник, Себе лишь внемлет, ведь его язык Его же уши поучать привык. Все он читал, — все, что читал, громил, Ни Драйдена, ни Дарфи[21] не забыл. Об авторах плетет он всякий вздор: Тот, мол, купил стихи, а этот — вор, "Лечебницу" и ту писал не Гарт[22]. Ему приятель — каждый новый бард, Чьи промахи готов он выявлять; Поэтам бы успеть их исправлять! Неудержим хлыщей таких напор, Не защищен от них не только двор Собора Павла, но и сам собор[23]: У алтаря найдут и даже тут Своею болтовней вас изведут. Всегда туда кидается дурак, Где ангел не решится сделать шаг. Серьезные не судят столь легко, В сужденьях не заходят далеко, С опаской молвят, лишь бы без греха; Но шумным ливнем хлынет чепуха — Все напрямик, все в лоб, ни вспять, ни вбок, Ну впрямь ревущий бешеный поток. Но где тот муж, кто может дать совет И, сам уча, ценить ученья свет? Кто злобы и пристрастия лишен, Ни слепо прав, ни тупо убежден, Воспитан, а не только просвещен, И хоть воспитан, откровенен он? Кто друга пожурит за ложный шаг, Врага похвалит, коль достоин враг — Отважности и честности союз? Кто с широтою сочетает вкус И знает не одну лишь мудрость книг, Но глубоко людскую жизнь постиг, Душою щедр, надменности лишен, И если хвалит, есть на то резон? Такими были критики; таким Рукоплескали Греция и Рим. О, это были славные века! Покинул первым Стагирит брега; Исследовать глубины он поплыл, Он правил верно, многое открыл, Ведь над отважным парусом всегда Светила Меонийская звезда[24]. Поэты, дикой вольности сыны, Неистово в свободу влюблены; Отныне волю их связал закон, И убедились все, что нужен он; Властителю Природы должно знать, Как гений свой разумно обуздать. Гораций нас чарует колдовской Изысканно-небрежною строкой И незаметно вовлекает в круг Своих понятий, словно близкий друг. Он так же смело мыслил, как творил, Он пылко пел, но сдержанно судил, И то, чем всех пленил искусный стих, Запечатлел он в правилах своих. Успели наши критики в ином: Бесстрастно пишут, судят же с огнем. Теряет в их цитатах больше Флакк[25], Чем в переводах продувных писак. Изящно Дионисий[26], например, Толкует то, что говорил Гомер; Он много новых прелестей извлек Из бесподобных знаменитых строк. Шутник Петроний[27] — сколько у него Фантазии, какое мастерство! Нас покоряет смелой остротой, Ученостью и светской простотой. В труде Квинтилиана целый свод[28] Предельно ясных правил и метод; Таким бывает оружейный склад: Все вычищено, выстроено в ряд, Все под рукой — не просто тешит глаз, Готово в бой, как только дан приказ. Все девять Муз в тебя вдохнули пыл, Лонгин[29]! и критик их благословил. Судья, был строг твой ревностный надзор И беспристрастен страстный приговор; И в высь зовя, ты в собственном труде Был сам всегда на должной высоте. Так критики наследовали трон, Так своеволье заменил закон. Подобно Риму знания росли В державе покорителей земли; И щедро расцвели искусства там, Где довелось летать ее орлам[30]; Враг Латия принес погибель им, И вместе пали — знания и Рим. Жестокость к суеверью привела, Под гнетом стыли души и тела; Считалось: лучше верить, чем понять, А быть глупцом — и вовсе благодать; Второй потоп, казалось, наступил, И дело готов[31] инок довершил. Эразм[32] (священства слава и позор!), Чье имя оскорбляют до сих пор, В свой дикий век на варварство восстал, И был повержен им святой вандал. Дни Льва златые! Снова праздник Муз[33], И ожил лавр, и пробудился вкус! И гений Рима, этот исполин, Пыль отряхнув, поднялся из руин. Затем искусства-сестры расцвели; Жизнь — скалы, форму — камни обрели; Стал благозвучней храм, чем был досель; Пел Вида и творил сам Рафаэль. Бессмертный Вида[34], над твоим челом Поэта лавр овит судьи плющом; Тебя Кремона будет вечно чтить И может славу с Мантуей[35] делить! Но вскоре, нечестивцами гоним, Весь цвет искусств покинул вечный Рим[36]; И север стал обителью для Муз, Но в критике всех превзошел француз: В стране служак, где чтут закон зело, По праву Флакка правит Буало. А бравый бритт, да разве примет он Чужое — и культуру, и закон? Кичась свободным разумом своим, Презрел он то, что нам оставил Рим. Но кое-кто все ж был (хвала судьбе!), Кто больше знал, чем позволял себе, Кто жаждал дело древних отстоять, Умы законам подчинить опять. Известна Муза[37], чей девиз гласит: "Природы чудо создает пиит". Был славный, благородный Роскоммон[38], Он так же был сердечен, как учен; Он мудрость древних глубоко постиг, Всех знал заслуги, лишь не знал своих. И был Уолш[39] — давно ль! — судья, поэт, Кто точно знал, что — хорошо, что — нет; Кто слабости прощал, как добрый друг, Но был ревнитель истинных заслуг. Какое сердце! Что за голова! Прими же, друг, признания слова От Музы, продолжающей скорбеть; Ее, младую, научил ты петь, Отверз ей выси и подсек крыло (Тебя уж нет, и время то ушло). Подняться ль ей? — Она уже не та, Отяжелила крылья суета; Желает разве неучам — прозреть, Ученым — в знаньях больше преуспеть; Не жаждет славы и презрит хулу; Бесстрашно судит, рада петь хвалу; Равно не любит льстить и обижать; Не без греха, но лучше ей не стать.КОММЕНТАРИИ
Рукопись "Опыта о критике" датирована 1709 г. В доработанном и несколько сокращенном виде поэма была опубликована анонимно в мае 1711 г. В этом произведении Поуп продолжил жанровую традицию "Послания к Пизонам" Горация, "Искусства поэзии" Виды и "Поэтического искусства" Буало. Опираясь на идеи и положения этих своих предшественников, Поуп создал оригинальную дидактическую поэму, одновременно интеллектуальную и поэтически темпераментную. Поэма не только излагает общие принципы классицистской эстетики и собственные теоретические взгляды поэта, но и являет собой зеркало литературных прегрешений времени и состояния английской литературной критики. Публикация "Опыта о критике" сразу же вызвала полемику. Влиятельный критик и драматург Деннис выступил с "Критическим и сатирическим размышлением по поводу недавней Рапсодии, названной "Опытом о критике", обвинив автора в непоследовательности и неопределенности позиции и осудив его как якобита и католика. Но Поупа поддержал в одном из декабрьских номеров журнала "Спектейтор" известный литератор Аддисон, назвав поэму "шедевром в своем роде". Это на некоторое время сблизило поэта с Аддисоном, и в течение 1712–1713 гг. он сотрудничал в его журналах "Спектейтор" и "Гардиан". В последующие годы "Опыт о критике" с небольшими изменениями в тексте неоднократно переиздавался, последний раз при жизни автора в феврале 1744 г. В начале XIX в. он был переведен на русский язык поэтом-архаистом С. Шихматовым.
А. Субботин
Примечания
1
Мевий был бездарным поэтом, современником Вергилия и его критиком.
(обратно)2
Зоил — греческий ритор III в. до н. Был известен своей мелочной и злобной критикой поэм Гомера. Его имя еще в античности стало нарицательным для всякого придирчивого, недоброжелательного хулителя-критика.
(обратно)3
Когда Марон с подъемом молодым… — Здесь и в нижеследующих строках говорится о работе римского поэта Публия Вергилия Марона над "Энеидой".
(обратно)4
Стагиритом (по месту его рождения — Стагире) называют древнегреческого философа Аристотеля.
(обратно)5
Пиеридами именовались Музы, так как одним из местопребываний Муз считались горные источники Пиерии (близ Олимпа).
(обратно)6
По-видимому, имеется в виду собор св. Петра в Риме, но, возможно, Пантеон.
(обратно)7
Имеется в виду классицистское требование единства времени, места и действия.
(обратно)8
Мечтая, как Фунгосо, лишь о том… — Упоминается персонаж пьесы "Всяк без своих причуд" английского драматурга Бена Джонсона (1573–1637). Фунгосо, чтобы походить на придворного, постоянно тратился на богатые одежды, но никогда не поспевал за быстро меняющимися модами.
(обратно)9
Поуп указывает на неприемлемость для фонетического строя английского языка, имеющего много слов, оканчивающихся непроизносимыми гласными, системы силлабического стихосложения.
(обратно)10
Согласно мифу, Посейдон обрушил в море скалу, на которой древнегреческий герой Малый Аякс спасался после кораблекрушения.
(обратно)11
Образ девы-воительницы Камиллы взят из "Энеиды" Вергилия (VII, 803–817).
(обратно)12
Когда Александр Македонский посетил храм древнеегипетского бога Амона, жрецы провозгласили его сыном этого божества. Строки о воздействии на Александра Македонского его любимого музыканта Тимофея написаны под влиянием оды Драйдена "Пир Александра, или Сила музыки" (1697).
(обратно)13
Имеется в виду "спор о древних и новых": спор о превосходстве новой науки и литературы над античной. Этот спор разгорелся в конце 80-х годов XVII в. во Франции (между Перро и Буало), а в 90-х годах был продолжен и в Англии.
(обратно)14
Дак-Лейн — место в Лондоне, где продавались старые, подержанные книги.
(обратно)15
В конце XIII в. в европейской философии начался длительный спор между приверженцами взглядов Фомы Аквинского и Дунса Скота.
(обратно)16
Ричард Блэкмор (1655–1729), придворный врач и поэт, нападал на Драйдена в своей "Сатире против ума" (1700). Люк Мильбурн резко критиковал переводы Драйдена из Вергилия.
(обратно)17
В XVII–XVIII вв. язык Джеффри Чосера (1340–1400) был уже малопонятным для англичан. Поуп, как и Драйден, переводил его "Кентерберийские рассказы" на язык своих современников.
(обратно)18
Имеется в виду английский король Карл II (1660–1685).
(обратно)19
В результате "славной революции" 1688 г. английскую корону получил Вильгельм Оранский, протестант по вероисповеданию. Социнианство — рационалистическое направление в протестантизме, которое отрицало догмат св. Троицы, божественность Христа и призывало подвергнуть Священное писание "суду разума"; возникло в XVI в., его основателями были итальянские религиозные реформаторы Лелий Социн и Фауст Социн.
(обратно)20
Имеется в виду английский драматург и критик Джон Деннис (1657–1734), автор трагедии "Апий и Виргиния".
(обратно)21
Том Дарфи (1653–1723) — английский поэт, прозаик и драматург.
(обратно)22
Сэмюэль Гарт в поэме "Лечебница" (1699) изобразил вражду между Коллегией врачей и Обществом аптекарей.
(обратно)23
Площадь в Лондоне, на которой стоит собор св. Павла, в те времена была излюбленным местом прогулок праздношатающейся публики.
(обратно)24
Меонией иногда именовали (по названию одной из ее областей) Лидию, два города которой — Смирна и Колофон — оспаривали право считаться родиной Гомера. Отсюда "меонийская" в смысле "гомеровская".
(обратно)25
Полное имя Горация — Квинт Гораций Флакк.
(обратно)26
Имеется в виду греческий историк, писатель и критик I в. до н. э. Дионисий Галикарнасский.
(обратно)27
Римский писатель I в. Петроний Арбитр известен как автор дошедшего до нас в отрывках романа "Сатуры" ("Сатирикон").
(обратно)28
Имеется в виду трактат "Образование оратора" римского ритора Марка Фабия Квинтилиана (35–95).
(обратно)29
Греческого ритора III в. Лонгина долгое время ошибочно считали автором эстетического трактата "О возвышенном".
(обратно)30
Серебряные орлы были штандартами римских легионов.
(обратно)31
В 410 г. германские племена готов во главе со своим вождем Аларихом осадили и взяли Рим. Это событие фактически ознаменовало падение Римской империи.
(обратно)32
Имеется в виду голландский гуманист Дезидерий Эразм Роттердамский (1469–1536). Своими литературными и богословскими произведениями Эразм Роттердамский фактически подготавливал Реформацию, положившую конец исключительному господству в Европе католической церкви, и вместе с тем не принял Реформацию и выступил против ее главного идеолога Лютера.
(обратно)33
В годы понтификата папы Льва X (1513–1521 гг.) происходил необычайный расцвет итальянского искусства и литературы. В это время творили Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Корреджо, Тициан, Ариосто.
(обратно)34
Марко Джироламо Вида (1485–1566), уроженец Кремоны, писал эпические, лирические и дидактические поэмы. Поуп считал его превосходным латинским поэтом.
(обратно)35
Близ Мантуи родился великий римский поэт Публий Вергилий Марон.
(обратно)36
Финалом итальянских войн, которые вели Франция, Испания и Германия, было взятие и разграбление Рима ландскнехтами императора Карла V в 1527 г. Солдаты, среди которых было много лютеран, резали жителей и святотатствовали. Эти войны нанесли непоправимый урон экономике и культуре итальянских государств.
(обратно)37
Имеется в виду Джон Шеффилд, герцог Бекингем (1648–1721), о котором Драйден в поэме "Авессалом и Ахитофель" писал: "Друг Музы, сам — Муза". В следующей строке цитируется его "Опыт о поэзии" (I, 725).
(обратно)38
Уэнтворт Диллон, четвертый граф Роскоммон (1633–1685), был английским критиком, автором дидактической поэмы "Опыт о переводном стихе" (1684) и переводчиком на английский "Послания к Пизонам" Горация (1680).
(обратно)39
Поуп говорит о своем наставнике и близком друге, английском поэте и критике Уильяме Уолше (1663–1708).
(обратно)
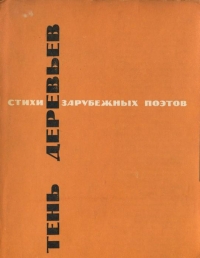

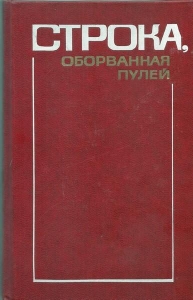


Комментарии к книге «Опыт о критике», Александр Поуп
Всего 0 комментариев